Владимир Околотин ВОЛЬТА
История должна показывать не пепел прошлого, а его огонь.
Жан ЖоресПролог. ЛЕГЕНДЫ
В его честь электрическое напряжение, вольтаж, измеряется в вольтах. Многие умеют пользоваться вольтметрами, вольтаметрами, каждый слышал о вольтовом столбе, вольтовой дуге и вольтовой батарее. Но как Вольте удалось сделать так много?
Легенды о Вольте появились еще при его жизни. Особенно широко прижилась версия «Вольта-ученый». Первую биографию тридцатидевятилетнего ученого издал его друг и сосед Джовьо. По молодости друзья перестарались: они нарисовали словами честный портрет симпатичного ученого, вгрызающегося то в одну, то в другую науку. Увы, это плоское изображение слишком статично, ибо за внешним ученическим контуром не видно движущих импульсов, без которых даже активное перемещение выглядит бессмысленным.
Вторую легенду лет через двадцать после первой запустил в мир старый друг Вольты, иезуит Гаттони. По этой версии, все научные достижения ученого оказались промежуточными итогами на длинном пути поисков бога. Вольта представал отрешенным подвижником, неистово верящим в католического господа, однако не допущенным бесчестными интригами к своей вдохновенной миссии.
На самом деле ни о какой вере не могло быть речи. Чтобы жить в согласии с миром, приходилось соблюдать декорум. Однако, если судить по тысячам первичных и вторичных источников, оставшихся после Вольты, его вполне можно назвать атеистом.
Третьей легенды при жизни Вольты еще не было. Араго уже начал в Париже писать биографии великих естествоиспытателей, Вольта надеялся попасть в этот список (и его ожидания оправдались), но что мог сказать француз, тогда еще мальчишка по сравнению с седовласым метром. Ведь способный француз-ученый даже не был в Италии, не говорил по-итальянски, не знал коллег Вольты по итальянским университетам.
Араго видел Вольту мимоходом, в чрезвычайных обстоятельствах и судил об одном из персонажей своей серии по чужим отзывам, хотя они были современника. Как и следовало ожидать, Вольта оказался благополучным академиком, приличным человеком и баловнем судьбы, удивительно похожим на столь же достойных профессоров.
Самая расхожая версия изображает Вольту изобретателем рядом с его якобы главным детищем — вольтовым столбом. И жизнь ученого соответственно делится на три четких этапа: до столба, во время его создания и после столба.
Но ведь столб — изобретение для Вольты совершенно побочное. Ученый занялся им из чисто научного интереса, увлеченный открытием болонца Гальвани. Популяризирую великое достижение ученого из соседнего города, Вольта совершенно бескорыстно начал разбираться в причинах «электрических» конвульсий препарированных лягушачьих телец и, к своему глубокому изумлению, увидел, что мнение Гальвани, специалиста-медика, но совсем не физика, совершенно ошибочно.
Всю жизнь Вольту волновали и даже мучили совершенно другие вопросы, но добросовестный ученый не мог не пролить свет там, где он был нужен. Вот почему столб — всего лишь плод научной добросовестности Вольты. Кстати, вольтов столб принес Вольте не только славу, но и неприятности. Пришлось перенести немало нападок, вызванных нелепым стечением обстоятельств. Мало того, Вольта упустил свои находки, он не довел до конца своих исследований.
Но самая, пожалуй, убедительная версия изображает Вольту человеком, мужественно несущим крест, выпавший на его долю. Даже не один, а целых семь, которые он был обязан нести по жизни ради предков и потомков, ради своих близких и ради людей вообще, всех в целом.
Если распутать все хитросплетения биографии Вольты, то возникнет еще одна волнующая легенда под названием «драма Вольты». Обреченный в детстве на гибель, он выжил и прожил долго. Человек знатного происхождения, он всю жизнь трудился, чтобы прокормить себя и своих близких. Самоучка без диплома, он ухитрился стать и почти сорок лет проработал одним из ведущих профессоров старинного европейского университета, Его поддерживали и поощряли иностранцы, а соотечественники, хотя далеко не все, преследовали.
Человек страстный и увлекающийся, он был вынужден в корне переделать свой характер, успешно демонстрируя невозмутимость и объективность. Прирожденный семьянин, человек ласковый и заботливый, которого любили коллеги, начальство и женщины, человек от природы и по воспитанию верный и работящий, он смог жениться только в сорок пять лет от роду, когда у других уже завелись внуки.
Но, может быть, самой большой правды о себе Вольта так никому и не сказал, потому что она была видна каждому. По никто еще не решился назвать Вольту «огнепоклонником», хотя вся его жизнь отдана пяти природным огням: небесным (северным сияниям и сполохам), атмосферным (молниям и зарницам), бьющим из земли (горючим болотным газам) и бушующим под землей (вулканическим). Он был неравнодушен к горению, но самым главным для Вольты был огонь электрический, который, по мнению ученого, царил во всех, без исключения, природных явлениях.
Вольта не обольщался, ибо познать про все огни все он, конечно, не смог. «Ars longa, vita brevis est!» — «Постигать искусство долго, а жизнь коротка». Все же кое-что ему удалось, и кто сможет, пусть сделает больше.
На веку Вольты обновлялись химия и медицина, бушевала Великая французская революция, цеховые подмастерья превращались в промышленных рабочих, становление североамериканских штатов шло параллельно феномену Наполеона, вознесенного гребнем революционной войны и низринутого в зените своего самовлюбленного деспотизма.
В этой жизни были радостные дни и месяцы, но отчего же в его речах слышится плохо скрываемое раздражение и даже нетерпимость? Почему в его голосе нет покоя и благодушия? Куда он летел, чего жаждал?
Или еще загадка: отчего Вольта отошел от активной деятельности в самом расцвете сил, в пятдесят пять лет, только взойдя на самую вершину успеха?
Вопросы встают один за другим: как ему удавалось безошибочно выбирать самую нужную, самую перспективную тематику исследований? Что подхлестывало и вдохновляло Вольту, долгие годы работавшего без перерыва? Как ему удавалось отстраняться от тревожных политических перипетий и общественных катаклизмов? Наконец, в чем разгадка еще одного секрета Вольты: почему он, патриот свободолюбивой Италии, безоговорочно принял Наполеона, армии которого оккупировали Апеннинский полуостров?
С учетом сложного исторического фона жизнь Вольты смотрится как драма. Кто же он, кого поочередно называли: дон, декурион, синьор, профессор, гражданин, граф, сенатор? Чего он хотел, чем вдохновлялся? Чему Вольта может научить нас, людей, живущих на два с половиной столетия позднее?
Глава первая (1745–1757). БЕСПРИЗОРНОЕ ДИТЯ ЛЮБВИ
Красавец Филиппа Вольта жертвует карьерой иезуита, похитив из монастыря 19-летнюю послушницу, дочь графа Инзаги. Четвертого сына Алессандро родители отдают кормилице, забывают в деревне почти на три года, а потом предоставляют самому себе. После смерти отца неразвитого, но способного семилетнего мальчика воспитывает дядя. Окунувшись в книги, Алессандро изнуряет себя занятиями.
Страна, разорванная на части.
Подмостками нашего драматического представления оказалась Западная Европа. Географическими очертаниями она удивительно похожа на согнувшегося человека, который будто выдирается из Евразийского материка. Этот силуэт с португальской тапочкой на испанской голове уткнулся носом в Гибралтар, на спине — Франция, а изящный сапожок Италии уложен непосредственно на воды Средиземного моря.
Довольно скоро после развала Римской империи Северную Италию, плодородную и густонаселенную низменность, со многими реками и озерами, захватило германское племя лангобардов, длинноволосых. Они дали области свое имя и царили в Ломбардии два века. Только в 774 году их разбили войска Карла Великого, после чего бывшие властители смешались с местным населением. Лангобарды принесли с собой ересь ариан, согласно которой Христа вроде бы никогда не существовало, а непознаваемый бог был один и не делился на троицу. Еще в IV веке папа запретил эту ересь, но она не исчезла вместе с лангобардами, а продолжала тлеть.
С одной стороны, немецкая кровь и тайная непокорность папе, с другой — до Ватикана подать рукой, так что волны истинной веры шквалами прокатывались по Ломбардии и Пьемонту, отражаясь от протестантской Швейцарии, окопавшейся на альпийских вершинах.
Города Ломбардской лиги рано разбогатели, превратившись в республики, а вместе с независимостью, опиравшейся на деньги, расцвели культура и наука. Там еще в XIII веке открылись университеты, обосновались гуманисты Возрождения. Самым крупным торговым и культурным городом Италии всегда был Милан, а Камо, расположенный от него в сорока километрах, превратился для горожан в альпийское дачное место, в источник шелка, цветов, вина и молока. Даже брынза получила название по здешней местности Бринца, где жмут пастухи — любители этого острого сорта сыра.
Но зачем нам вспоминать о далеких временах? Затем, что вихри людских миграций принесли в Италию старших Вольта, которые ассимилировались, но не совсем, ибо души их остались там, откуда они отправились в путь. Прибыли они, по-видимому, с Пиренейского полуострова, захватив в дорогу горячий прав, нетерпимость и религиозный фанатизм. Вот почему к Вольтам относились, как к незванным пришельцам, которые навязались потомкам латинян на голову, но упорно не хотели кончать, как все им подобные, то есть раствориться в местном субстрате. Что стоило изменить фамилию на Вольтини, Вольтелли или Вольтачини, но они не пожелали. А времена менялись, наконец-то стала единой Испания, с немалым запозданием тем же курсом пошла и Италия.
Герой нашего рассказа Вольта родился, жил и умер в Комо, чудесном маленьком городке в предгорье Альп. На западном склоне гор разместилось самое большое европейское озеро, Женевское, а комовское, одно из южных, претендует на огромную глубину, до полукилометра. Здесь роскошные леса, теплый воздух, цветущие луга, на севере сверкающие пики гор.
При разделе империи Карла Пятого в 1555 году герцогство Милан (и Комо вместе с ним) отошло испанцам, а при следующем переделе карты, в 1714 году, подпало под власть Австрии. Поразительно: чуть ли не лучшее по климату и плодородию место Италии почти никогда не принадлежало жителям полуострова!
Вот в сколь сложной политико-национальной атмосфере существовала семья Вольта, в которой было суждено появиться на свет маленькому Алессандро. Итало-германская национальная основа, полтора века испанского господства (со всеми вытекающими отсюда последствиями) и уже тридцать лет австрийской власти (тоже не бесследно прошедший).
Опять-таки: рядом на севере реформаторы из Швейцарии, близко на западе граница с французскими вольнодумцами, на юге рукой подать до Ватикана, с северо-востока приходит австро-немецкое рассудочное влияние, причем сама Австрийская империя еле сдерживает славянское давление с востока и турецкое — с юга.
Вполне уместно считать, что маленький Вольта вынырнул для жизни из бешено кипящего котла политических, национальных, религиозных и мировоззренческих страстей. Совершенно естественно, что все эти водовороты властными течениями тащили за собой щепки человеческих судеб, но Вольте повезло: его спас комовский закуток, где можно было отсидеться в любой шторм натурального или искусственного происхождения.
Комично, недоразумение с актом о рождении никак. Не могло повлиять на жизнь Вольты, разве только биографам немного попортило нервы из-за разногласий в бумагах. Сам же Алессандро и в зрелом возрасте имел беспечную манеру.
Счастье отступников.
Дело в том, что за дюжину лет до рождения Алессандро случилось немыслимое событие: дон иезуит добровольно снял фиолетовые чулки! Их тогда носили избранные, монсиньоры — высшие сановники и солидные ученые. У Филиппо они были в награду за особые невидимые заслуги перед церковью. Только держал он их в сундуке, поскольку величие его было тайным, ибо сражался он на тайном фронте, так как был заслуженным иезуитом.
Постороннему с первого взгляда отец младенца Алессандро казался человеком простым и веселым, а временами даже легкомысленным. А на самом деле Филиппо был настолько силен духом, крепок характером и себе на уме, что ничуть не страшился наживать себе врагов, если такова была цена за принятие и осуществление куда более ценных решений.
Было их четыре брата, родившихся у почтенного Джиовани, или же по-латыни — Иоаннеса. Тот в 1770 году женился на некой Анне Стампа, потом еще раз, на другой комовской красавице — Александре, которой он — почти старик — заморочил голову словами и делами. И к двум взрослым сыновьям Александру и Баптисте добавились Филипп и Антониус.
Поначалу было задумано, что первый сын станет мужем государственным, а второй — клерикальным. Однако сразу же превратить первенца в Александра Великого не удалось, а потому комовский стратег временно отступил. Вот почему третьего сына, самого желанного, повторно осчастливленный Иоаннес, который смолоду забил себе голову древними греками, назвал Филиппом по образу и подобию знаменитого македонского царя. Тому удалось-таки открыть своей сухопутной стране выход к морю после страшного разгрома, устроенного афинянам при Херонее.
Вот и Филиппо, сынок комовского книгочея и политика, должен был вывести фамилию в свет из Комо, ибо уж шесть поколений Вольтов сиднем сидели в этой глухомани, от чего мохом обросли. И еще должен был сынок по примеру тезки объявить войну «Персии» и родить «Александра Великого». Только вместо Персии подразумевались язычники, куда худшие, реформаторы церкви, протестанты и богоотступники.
И сына своего Иоаннес предназначал для «крестового похода». Отец мечтал о «подвигах», вроде тех, какими прославился великий инквизитор Торквемада, сжегший восемь тысяч затаившихся дьяволов и ведьм в человечьем обличье. Поскольку же инквизиция с тех времен ослабевала день за дном, было разумнее сориентировать Филиппа в новое, но не менее благородное воинство под команду тайного преемника святого Лойолы.
Мракобес Иоаннес добился-таки своего и искалечил жизнь и сыну, и внуку: Филипп стал иезуитом, Филипп родил Александра, а Александр стал великим, хоть и совсем по-иному, чем его македонский тезка.
Итак, было их четыре брата. Старший и младший служили церкви прямо, реализуя великие замыслы папаши, урожденный вторым не очень удался и кое-как перебивался в том же городе, а вот третий, Филиппо, заряженный, словно пушка, тщеславием и самопожертвованием ради великой идеи, устремился в далекий полет, как и планировалось. Он безошибочно приземлился в самом горячем месте, став отборным иезуитом и, тем самым, лучшим из лучших в религиозной гвардии.
Верой и правдой прослужил он в своем уникальном ведомстве одиннадцать лет, а это был срок нешуточный, ибо там механизм выслуги был отработан лучше некуда. Поначалу и Филиппо надменно отвечал робко спрашивавшим, кто ж такие иезуиты, исторической фразой tales quales, что означало «мы такие, как есть» или «сам видишь». Но со временем солдат тайного фронта остыл, загрустил и даже начал страдать, вспоминая о печальных плодах былой своей нетерпимости. А потом и вовсе неожиданно сплоховал самым роковым образом, видать, душа устала быть твердой. И конь о четырех ногах спотыкается, что уж говорить о добром молодце, но приключился с ним конфуз отменный, хотя никто об этом ни знать, ни предвидеть заранее был не в состоянии, даже сам Филиппо.
Как-то, посещая по делам один из ломбардских монастырей, несчастный заметил послушницу удивительной красоты. Маддалене было под двадцать (1714 г. рождения), светилась она ангельской чистотой, обещаниями неземного блаженства. Филиппо был сражен. Отдышавшись и сообразив, что обречен, тридцатилетний инспектор пошел навстречу неминуемой погибели, однако жертвовать собой и звездой своей души у него желания не было. Собрав все силы, он тщательно продумал, как устроить дело, чтоб победить, не сгинув бесследно.
Страсть затенила все барьеры. Он выкрал ее, бежал и тайно обвенчался. У них было два пути: погибнуть или выжить. Они хотели жить.
Второй шаг легче, надо предстать перед отцом. Графу Джузеппе Инзаги деваться было некуда. Он уже оплакал дочь, похоронившую себя заживо, а тут появился шанс. Можно было совершить то же менее болезненно, но он неплохо знал опрометчивую дочь, все же эти двое могли выплыть, хотя испить чашу придется до дна.
Как ни крути, они были отступниками и дезертирами. Она изменила богу, отказавшись от духовного ради плотского. Он предал там, где предательство исключено, а в таких случаях даже собирать религиозный трибунал было бы пустой проформой. Вот почему третий шаг, который надлежало сделать счастливому бедняге, был смертельно опасным.
«Compagnia di Gesu».[1]
Говорят, что Игнаций Лойола щедро потратил годы молодости на любовные утехи и военные упражнения, но потом, призадумавшись, обратился к богоугодным делам и тем спас свою душу. Из-под его заблудшей руки вылилась удивительная книга под названием «Духовные упражнения», и радостно пораженные проповедники всей душой вняли строкам, посвященным воззваниям во славу божьей матери. Не задержалась и награда: автора возвели в звание «рыцаря Иисуса Христа и девы Марии».
Но Игнаций и на том не успокоился. Собравшиеся во главе с ним в Риме десять его сторонников в 1538 году провозгласили актуальнейшую программу духовного совершенствования человечества, которая состояла всего из трех, но решающих видов деятельности: надобности в наставлении детей, обращении неверующих в лоно матери-церкви и защите веры от еретиков. Надо признать, что все эти три заповеди силами подвижников начали претворяться в жизнь чуть ли не образцово.
Папа Павел III вначале никак не мог решиться на поддержку энтузиастов, но года через два все же принял иезуитов под свое крыло, официально утвердив «Компанию Иисуса». И другой папа, Бенедикт XIV, тоже опасался «святых бойцов» из-за их крайностей, ибо они не стеснялись сами устраивать чудеса, открыто провозглашали проституцию богоугодным делом, сознательно лгали, притворялись, умалчивали, бесхитростно полагая народ скотом, который слопает все, что ни предложи.
Однако надобность в защитниках была столь остра, что иезуиты добились права исполнять функции религиозной гвардии, тем более что к обычным монашеским обетам послушания, целомудрия и нестяжательства они охотно добавили четвертый принцип — принцип безусловной верности папе. Это и была та уловка, на которую папа клюнул; в полном соответствии с уставом общества он стал выполнять в нем небольшие, но ответственные формальности, тем самым объявив себя иезуитом номер один.
Вот почему за первые двести лет существования союза папы наградили иезуитов множеством привилегий посредством издания сотен «апостольских посланий», из которых лишь малая часть была открыта для всех. Орден престола мгновенно вырос с шести десятков до многих тысяч.
По святой престол нуждался в воителях числом поболее, за ценой же можно было не стоять. И без того не было счета околоцерковным орденам, призванным пропагандировать веру, насильно вбивая ее в дурные головы и разжигая экзальтацию впечатлительных то ласками, то сказками. Бенедиктинцы, госпитальеры и тамплиеры, картезианцы и бернардинцы, францисканцы и «псы Господа» — доминиканцы.[2]
Структура ордена казалась неуязвимой, ибо не было средств противостоять тайному расползанию церковной опухоли. «Компания» отличалась изрядной эффективностью. Чтобы перестроить мир по своим действенным рецептам, следовало для примера создать экспериментальную страну. Испытательным полигоном стал Парагвай, подчиненный испанский короне.
Ко времени инцидента с Филиппе Вольтой парагвайский «святой мир» еще держался, образцово и с триумфом отпраздновал свое стодвацатипятилетие. Но все же после первой трети XVIII века хулители веры уже распоясались. Орден трещал по швам, новых членов набирать становилось все труднее, все нерешительнее шел навстречу папа, маринуя самые неотложные инициативы. Даже с такими проверенными ветеранами, как Вольта, начались нелады. Проницательные лидеры видели, что с корабля начинают убегать крысы, но старые решительные методы экзекуций уже не проходили, ибо рыбе не пристало рубить себе голову, когда она начала тухнуть.
Филиппо не мог добровольно выйти из братства, ибо устав запрещал. Можно было только быть изгнанным по велению генерала с репрессалиями, чтоб отбить охоту ослушания у новеньких. Само изгнание оформлялось по всей форме.
Много позже экзекуции жена дразнила мужа то «счастливчиком», то «котищем», то «тоненьким», ибо эти слова были созвучны с именем Филиппо. Но тогда «счастливчик» уповал на чудо, ибо был вынужден подать постыдный рапорт, предстать перед прокурорски настроенным собранием коллег и ждать причитающуюся ему полную меру.
По всей видимости, перспективный иезуит не бросил дела на самотек: он упал в ноги начальству и заверил, что всей душой за святое дело, но женщина подкосила. «Кто не с нами, тот против нас», но сомнений в бойцовских качествах жертвы не было, а поскользнуться никому не заказано. В черный список заносить фамилию Вольта не стали, но из белого вычеркнули. «За» было два довода: «честь» дочка графа все равно потеряла, а ссориться с влиятельными людьми было невыгодно. Словом, разрешение на тихую официальную свадьбу не замедлило. К тому же ослушник обязался пребывать в, своего рода, кабале, чтобы долг перед «братьями» выплатить если не самому, то детям. Так и был обречен Алессандро на служение ордену еще за десять лет до своего появления на свет, во искупление родительских ошибок. Впрочем, кто же может избежать платы по отцовским векселям?
После свадьбы с перерывом в два-три года начали появляться лучшие в мире цветы, ради которых Филиппе хотел жить и жить: сначала Иозеф, потом Иоанн, Луиджи, Алессандро, Клара, Марианна и Цецилия.
Первого сына супруги Вольта назвали в честь Филиппова дяди, второго по его отцу, еще двоих в честь братьев. Умысел тут был простой и временем проверенный: чтоб закрепили тезки друг друга перед богом и людьми, чтоб помогали друг другу и чтоб труднее было их из жизни вытолкнуть. С дочками вышло похуже: первая получила имя по отцовой тетке и прожила благополучно, выйдя замуж за графа, и еще двоих наградили святыми именами, что, однако, не принесло им долголетия — обе, в монахини отданные, протянули недолго.
А в 1745 году Маддалене шел тридцать первый год, на ее руках лежал чудо-крошка Сандрино, а за юбку цеплялся бутуз четырех лет и еще трех месяцев пяти дней, о чем мать помнила всегда, ибо жила только детишками. Имя у бутуза было латинизированное, Алоиз, но в обиходе звали просто Луиджи. Как и задумано было, станет Луиджи доброй опекой младшему на многие годы. А еще двум старшим отец приглядывал будущее, хоть рисовалось оно тускловато.
Холостяком Филиппо отличался смелостью и решительностью, а в ответе за семью стушевался. То ли прежние хозяева его припугнули, то ли слово им дал, то ли просто сам надломился из-за пережитого, только всех семерых пожертвовал он богу. Тем самым корень их рода оказался обреченным на вымирание, ибо церковным людям брак заказан. Непонятно, кто это выдумал, только «лучшие из лучших» покидали мир, не оставив потомства, будто без боя отдавали врагам-еретикам свои святые позиции. Все же двое из семи из тупика вывернулись, но тогда об этом и предполагать не приходилось.
Но при всем при этом клеймо отверженных смыть было непросто, хотя бы и не видимое неопытным глазом. Чтобы бедой не заразиться, люди по возможности избегали опасную семью, кроме самых умных. И то радость, что с дураками мало общались.
Люди, конечно, знали, что хозяин был одним из тех, кого весь мир ненавидел за елейные речи, фарисейские ужимки и лютые поступки. Конечно, о разжаловании из иезуитов весть разнеслась далеко, но у такого тертого пройдохи старые связи вряд ли оборвались. Знакомые старались держаться от семьи Вольты как можно дальше, к тому же никому из людей не по нраву отклонения от нормально существующего порядка, даже если речь шла о нормах изуверских и всеми отвергаемых.
Вот почему вся жизнь ломбардских «ангелочков» уходила на молчаливое оправдание. Они кротко и беспрестанно демонстрировали чрезвычайно высокую мораль, но и это не всегда помогало: на детей все же пала, да и не могла не пасть, черная тень родительского греха. Даже в конце века, когда для сближения выпал весьма удобный повод, братья Маддалены так и не пожелали знаться с ее детьми. Графская семья Инзаги вычеркнула имя грешницы из сердец и из памяти, ибо такой грех ее был из числа вечных.
И угодил малыш Сандрино[3] в самое пекло. Что там ошибка в метриках — сам воздух вокруг настоялся застарелыми религиозными страстями. Их невидимый и телесно неощутимый накал стал причиной реального ущерба, нанесенного маленькому Вольте…
Маленький дикарь.
Малыша отдали к «балье» (кормилице) в деревню Брунате. Чудесные рощи, свежий воздух, с утеса, который взметнулся высоко над озером, видны далекие дивные ландшафты. Дороги непроезжие, а из Комо всего с час идти по уединенной дорожке. Место райское, кормилица здоровая и чистоплотная. Чего еще надо?
Малыш, становился длинноногим, глаза карие, живой, добрый и чуткий. Собой хорош, «Quel parde, tal figlio» — «Каков отец, таков и сын». Сандрино рос на глазах крестьян, людей незлых, но занятых. Мальчик то засмеется, то над чем-то задумается.
Но Лизавете Педралио особо цацкаться с чужим было некогда: накормит, выставит люльку в сад, при случае сменит пеленки, а там за своих, да и хозяйство кому ж вести? Слов нет, дитя любви казалось на диво славным. В голове бальи иногда появлялись туманные ощущения на тему о пестуемом младенце, но ее дело кормить, а не погремушками трясти.
Когда через тридцать (!) месяцев счастливые родители явились за дитяткой, он оказался крепким и шустрым. Даже ходил, но не говорил. Только малыш не горевал. Несмышленыш. Это его и спасло. Потому что и дома ни у кого до него времени не было.
Первое слово мальчик произнес как-то за обеденным столом, когда ему дали вареное яйцо, и слово это оказалось «чиара», «яичный белок». Слово «мама» он выговорил года в четыре, а нормально начал говорить только к семи годам.
Окружающие считали Сандро дебилом, хотя родителей не огорчали из вежливости, Если в те годы кому сказать, что перед ними будущий великий ученый, рассмеялись бы в лицо. А малыш учился читать по книге уже умершего Дефо про Робинзона и Пятницу.
Собой мальчик был хорош. Как губка, впитывал он пищу, запахи, звуки, волны тепла и света, улавливая, сортируя и раскладывая информацию по невидимым полочкам в голове.
Все же Сандро недополучил слишком многого. Этот лишенец с хорошей наследственностью одичал почти как Маугли в лесу. Жить надо было в обществе, но общество не дало мальчику тех сведений, которые необходимы, и в то время, когда нужно.
Мальчика предоставили самому себе и улице. Всегда в компании сорванцов. Из семейного дома в Кампоре на близко расположенную дачу, к дяде в Граведону. Или на соседние усадьбы, на виллы благородных Рейна, Рива, Джовьо, Цигалини, Мугаска. В конце концов, все эти семейства породнились, образовав комовский клан, похожий на сросшиеся деревья.
Нечего и говорить, что поля, леса и горы исхожены вдоль и поперек. Хорошо плавал, закален и неприхотлив. Но слова «культура» и «цивилизация» говорили о чем-то чужом. Всю жизнь Вольта будет компенсировать недостаток сведений о большом мире, лететь, как бабочка на огонь, и обжигать крылья. Недоумевать, когда встретит грязь за чистой оболочкой. Удивляться двуличию. Поражаться суете на пустом месте. В обществе есть свои правила, уловки, хитрости. Простофиля Вольта не научился им с детства. Это и был самый большой его недостаток.
Зато на всю жизнь он сохранил любовь к воздуху, полям и ходьбе. Лучше простых макарон для него пищи не было. Однако медицина и врачи оставались не для него. Даже через много лет в его доме самые веселые шутки и самые ядовитые насмешки звучали по поводу ошибок медиков.
И жену, Терезу Перегрини, он заразил скепсисом. Когда она выздоровела после тяжелейшей болезни, домашний врач с гордостью за пациентку и себя демонстрировал всем и каждому прописанный набор облаток и склянок с лекарствами, которые, как было принято, сохранялись навсегда. И что же? Ни один пузырек даже не был раскупорен!
Перелом и пробуждение.
В 1752 году, прожив чуть меньше пятидесяти лет, умер отец — Филиппе Мария Вольта. Все знавшие его в голос твердили: он был слишком щедр, он растранжирил свою часть наследства, он не оставил бедной жене ничего ценного, кроме семерых детей от семнадцати до года!
Маддалена знала его куда лучше, хотела рыдать, но сил не было. Ей всего тридцать восемь, надо чем-то жить и кормить своих цыплят. На семейном совете Вольта решили, чтобы вдова с тремя маленькими дочками и младшим сыном Алессандро переехала из Кампоры в Комо, к соборному канонику Александру, брату Филиппе и дяде Сандрино.
Троих старших мальчиков принял дядя Антониус, архидьякон. Когда пришел час выбирать жизненный путь, вся троица прислушалась к неумолчным доводам тетки и пошла служить в церковь. Довольно быстро двое вошли в соборный совет, их жизнь вполне устоялась, и они здравствовали многие годы. А еще один стал проповедником.
Дядя Александр вплотную взялся за семилетнего Сандрино: много латыни, история, арифметика. Из дома никуда, всегда на глазах, на смену счастливому бездумному существованию пришел культ духовного развития. Заучивались и доводились до автоматизма правила поведения за столом, в семье, с чужими. Манеры. Умение думать, ярко выражать мысли и скрывать свои чувства.
Плоды воспитания не заставили себя ждать. К удивлению родных, мальчик будто переродился: в нем проснулось остроумие, он блестяще импровизировал, отлично понимал абстрактные мысли и сущность научных работ. Временами Сандро буквально взрывался эмоциями, талантливо подражал другим, умело акцентируя то смешное, то глубокомысленное. Даже мать качала головой: так мало им занимался отец и так много дал своему отроку заочно.
Оба Александра, старый и малый, симпатизировали друг другу, и дядя поклялся прочно поставить племянника на ноги. Видно было, что Сандро тяготеет к литературе и наукам, а потому в доме книги стали появляться еще чаще, чем раньше. Тут мальчику отказа не было.
Когда ум просыпается, человек из мира ощущений попадает совсем в другой мир, мир мыслей, невидимый, но не менее реальный, к тому же куда более глубокий и многомерный. Так и Алессандро вроде бы в доме, на глазах, но душа парит где-то далеко.
Бесследно не проходит ничто, и Сандро вспомнил (а что еще ему вспоминать?), как муж кормилицы строил красивые домики из стеклянных трубочек. Мальчик снова проторил дорожку к Брунате и ходил туда часто, помогая сооружать термометры и барометры, которыми умелый бальо подрабатывал, выполняя заказы любителей. А мальчик работал руками, а потом наполнял голову сказочно интересными фактами об умельцах, придумавших такие чудеса.
Мальчик размечтался пойти по стопам Торричелли и Паскаля, но все же раздумал. Оба ученых, как сговорившись, умерли в 39 лет от роду! А потом (Сандро похолодел от ужаса, прочитав другие книги) умер от чумы Рафаэле Маджотти, тоже занявшийся барометрами, и его труп сожгли вместе с бумагами. И Вольта расхотел заниматься механикой.
Мастер из Брунате сам делал шкалу, гнул и крепил детали, размечал реперные точки, гравировал надписи и символы. Ртуть он получал из Тосканы, трубки — из Венеции.
А Вольта помогал, о чем позднее никогда не жалел. Голова может не понять и забыть, а руки помнят вечно, если научатся. И еще шестьдесят лет (так уж сложится его жизнь) Вольта будет работать с барометрами и думать о них. В конце концов, он узнает о них абсолютно все, что можно.
Кратценштейн.
Об этом немце Вольта услышал еще мальчиком, в год трагедии с Рихманом (1752). Их пути не пересеклись, но шли параллельно полвека. Обоих коснулись, но в разной степени, могучие потоки науки того времени: миграция ученых Европы в Россию и животное электричество. Старший был своего рода предтечей.
Кратценштейн (1723–1795) в гренадеры не годился — ростом мал (164 см), в пасторы тоже (нос длинноват, горяч немного), беден (шестой ребенок в семье). Предан богу, для того и назвали Кристианом Готлибом.[4] Он должен был стать тружеником.
Зато крепок — из рода каменотесов. Отец Томас подался в учителя, попал в бакалавры, жил в Вернигероде на земле князей Штольбергов. И Кристиан тяготел к наукам. Пытлив, почтителен, больше слушал других, чем себя, а с такими установками в жизни не пробиться. Оттого нуждался в руководстве.
С отличием закончив школу, 19-летний юноша переехал в Галле, небольшой, но славный саксонский городишко. 11 церквей, лучший для тех лет германский университет, ботанический сад, книжный пресс. На медицинском факультете тогда преподавали известные ученые Вольф и Юнкер.
Профессора верили в преформизм, они заразили юного студента желанием выявить у человека такие же способности регенерации органов, как у гидр.
Но сначала Кратценштейн получил медаль (1744) от Академии Бордо, объяснив подъем водяных паров в более легком воздухе за счет сферической формы пузырьков (диаметром 1/12 волоса) с очень тонкой стенкой (1/40 волоса) и пустотой внутри. Именно так полагали знаменитые Мушенбрек, Вольф и его непосредственный наставник профессор Крюгер, а Кратценштейн с любовью развивал идеи авторитетов. Кстати, для равновесия истин вторую медаль мудрые бордосцы дали за труд обратного содержания (теплый воздух тянет вверх прилипший пар).
Профессор Гофман поразил студента трактатом «Власть дьявола над организмами, обнаруженная методами физики». Крюгер прославился нестандартными тезисами о способности животных к суждениям, но не к мышлению. А Кратценштейн надумал действовать непосредственно на жизненную силу, «аниму», чтобы ускорить ее проход по телесным полостям и каналам. В 1744–1745 годах, вооружившись теориями о сущности жизни и электричества, машинами трения и лейденскими банками, он взялся напрямую лечить людей, что и было первым шагом электротерапии. «Полнокровие есть мать большинства болезней» — так учил еще Шталь. Чтобы сжечь лишек, рассуждал Кратценштейн, можно потеть, но это хлопотно, или пускать кровь, но это ужасно. Лучше бы заряжать людей электричеством.
И точно. У заряженных людей пульс учащался, кровь по жилам бежала быстрее, человек даже уставал, будто хорошо потрудился. У пациентов проходила бессонница, разжижалась кровь, улучшалось настроение и возрастала активность. Уверенно излечивались истерии, подагры, застои крови. У одной женщины электризация за четверть часа сняла контрактуру мизинца. Массаж же занял бы не менее полугода.
Этот мизинец и открыл Кратценштейну двери в историю науки. Электрический бум захватил многих, врачи получили панацею в руки, казалось, до воскрешения мертвых оставался почти шаг. Попозже к этому приложат руки Гальвани и Вольта, а пока сам великий Галлер «оживлял» трупы собак, ударяя разрядами, как дрессировщик кнутом. Галлер встречался с Кратценштейном, но контакт не удался, их теоретические предпосылки разнились, они разошлись полюбовно.
После избрания в Академию Леопольдина-Цезарина способного двадцатипятилетнего ученого пригласили в Россию. С этого началась сложная жизнь, богатая и радостями и огорчениями. Кратценштейна вербовал лейпцигский астроном Гейнзиус, назвавшийся внештатным профессором и штатным помощником первого астронома Императорской Академии наук в Санкт-Петербурге.
Летом 1748 года новичок уже в Петербурге. По условиям контракта за подписью президента академии графа Кирилла Разумовского механикусу физико-математического класса и члену-корреспонденту дали 600 рублей в год, комнаты, дрова и свечи, на переезд 200, а служить не менее как пять лет, и честно. Академическая канцелярия руками ее правителя Шумахера добавила к содержанию еще 10 процентов, но чтоб присягнул. Отчего ж нет, можно! И небезвыгодно, тем более что природным адъюнктам давали по 360. Правда, иноземным профессорам платили 1200.
Жизнь была сытой, но нервной; в академии не затихала борьба русской и немецкой партий. Но Кратценштейн слов не любил, он занялся службой.
В 1750 году академия позволила Кратценштейну заняться хронометрами, к теории обязательно практикой, и чтоб недороги были.
Электричества Кратценштейн не трогал, хотя его патрон Рихман им занимался вовсю. В 1752 году он сделал «громовую машину», когда начался ажиотаж с громоотводами — «Санкт-Петербургские ведомости» напечатали про изобретение Франклина. Рихман и Ломоносов тотчас приступили к опытам, стоившим жизни первому из них. «Прибывший медицины и философии доктор X. Г. Кратценштейн, — так вспоминал Ломоносов трагический день, — растер тело ученого унгарской водкой, отворил кровь, дул ему в рот, зажав ноздри, чтоб тем дыхание привести в движение. Вздохнув, признал смерть». Картина мертвого Рихмана ужасала: беднягу уложило на месте страшной силой, от линейки с нитяным отвесом молния ударила в лоб, разряд вышел через пальцы ног, башмак изодран, даже не прожжен.
После гибели Рихмана Кратценштейн заскучал по дому. Близких душевных людей у него в России не было. А сблизиться с Ломоносовым он не смог.
Ломоносов критиковал Кратценштейна за поддержку Ньютоновых идей о спектре, добавляя, что все же не враг сему ученому, хоть и думает по-иному. Тут подвернулась вскоре научная поездка на север к земле Архангелов, в Лапландию, через Норвегию (там 20 миль до Дании) с возвратом по Балтике. Контракт истекал, нового не надо, вояж не удался, и осенью 1753 года Кратценштейн уже профессор экспериментальной физики университета в Копенгагене. Здесь он и скончается, но не скоро, через целых 42 года. Главным памятником Кратценштейну навсегда остались его опыты с лечением посредством электричества. И еще то, что знакомство с его трактатами стало первой ступенькой на пути становления Вольты-электрика. Впрочем, до этого оставалось еще много времени.
Ствол, который пророс сквозь века.
Пришел час, когда мальчика познакомили с главным делом фамилии. Речь шла о генеалогическом древе рода Вольта.
Корнями своими оно уходило в легенды. В миланском крае (стране Ларио) когда-то жили лары, добрые души предков, а ларвам, душам злым, насылавшим страшные сны, болезни и сумасшествие, сюда входа не было. Так что местность считалась целебной.
Может быть, поэтому согласно преданию здесь в глубокой древности обосновалось чудовище Болтам, оно пугало земледельцев диким ревом. Из пасти вылетали все сжигавшие молнии. До сих пор ломбардцы шутят, что раскаленные предки завещали им хороший цвет лица и великого электрика Вольту!
Немного определеннее можно было говорить о Катарине Вольта, которая в начале XV века правила Кипром и считалась невестой Джакомо Лузиньяна, одного из правителей республики Венеции. Еще полоса безвестности — и вот семейная нить выныривала из людского месива в 1500 году, когда некий Занино Вольтус, разбогатевший торговец из Венеции, присмотрел себе деревушку под названием Ловено в ломбардском приходе Менаджио.
Родоначальника фамилии даже в официальных бумагах звали «плебей-меняла». Меняла — это даже почетно, поскольку банкиры, финансовые посредники и кассодержатели цементировали буйную ватагу купцов и матросов, кормивших Венецию. В слове «плебей» еще не заключалось того унизительного оттенка, который пришел со временем. В Венеции, как и в Древнем Риме, так величали пришельцев, поселившихся в городе позже аборигенов-«патрициев». Новички уступали старожилам в богатстве, а потому считались сортом пониже. Занино наверняка был ловкачом, ибо в те бурные годы сгинуть было легче легкого, а он даже всплыл в бурном человеческом море, закаленный венецианскими торговыми «штормами».
Перенос главных торговых путей в Атлантику доставил много хлопот предприимчивым людям, но они выжили, ибо нашли не менее прибыльное дело, чем прежняя посредническая торговля товарами Востока. Оружие, шелк, стекло — вот чем вторично прославилась Венеция. Одной из главных ценностей стал производимый бисер.
Венецианский капитал рос, несмотря ни на что, а предприимчивые Вольтусы не спали на ходу. В Нюрнберге открылся склад бисера. Во владения Венеции влились Равенна, Падуя, Верона и Брешия. А там рукой подать до Милана, причем одно время даже бюджет Ломбардии и Венеции был общим. Совершенно естественно, что богатые люди смотрели на миланские края как на дачные местности, удаленные от горячих торговых сражений. Так Вольтус осел в Ловено, поселив там своих домочадцев.
Только начавшись, род едва не угас, ибо у Занино родился лишь один сын по имени Мартинус, в зрелом возрасте получивший прозвище Порядочный. У того сыновей стало четверо, но нам интересен лишь один из них, благородный Иоаннес, которому судьба отвела роль прапрапрадеда нашего Вольты. Он женился на Доротее де Кампакис из Комо, которая принесла пятерых отпрысков, причем самый счастливый жребий выпал дочке Марте: ей достался в мужья сам Порта из Неаполя!
Брат Марты, благородный и великолепный Мартинус, знаменит лишь тем, что женился на комовской патрицианке Лукреции Паравичини, которая завещала единственному сыну Занино наследственное и полученное в приданое имение.
У Занино-второго родились трое, причем Иозефу пришлось надеяться только на себя, ибо его брат Гаспар сразу отказался участвовать в «крысиных бегах», а сестра, донна Маргарита, ушла в чужую семью, как и положено женщине. Иозеф-прадед перебрался в Комо, здесь удачно торговал, прослыв человеком прозорливым и мудрым. Его избрали декурионом, и он передал наследникам как звание, так и недвижимость, прикупленную в Понзате: большой новый дом и еще дом поменьше в деревушке Кампаро близ Камнаго, где родился и жил великий правнук.
Иозеф женился на Камилле де Куртис, и она принесла мужу благородного Иоаннеса и донну Клару. Иоаннес, о котором речь уже была, оказался дедом прославившегося Сандрино. Добавим только, что 19 сентября 1691 года магистрат города присвоил этому напористому гражданину титул нобиля, то есть человека благородного, признанного отныне патрицием, а потому имевшего право вывесить герб семьи на воротах своей усадьбы.
Деда малыш не застал в живых, но дяди и старшие братья считали долгом просвещать смышленого малыша. Перебирая старые пергаменты, Сандро видел, что попал на девятый этаж семейного древа, причем этаж самый людный, ибо мать родила семерых. Трижды могло надломиться генеалогическое древо, когда без подстраховки держалось на одной мужской веточке, а теперь злосчастная судьба вновь готовила удар. Только Александр мог продолжить род, ибо трое старших лишились этой чести как служители бога. Таков был второй тяжкий крест, наследие его отца.
Еще один старый фамильный дом.
Если из Милана выехать на север, то через час хорошая дорога приведет в Монцу, где можно посидеть в остерии, еще через два часа покажется южный торец Комо. Триста лет назад в городке набиралось не больше трехсот домов, дом семьи Вольта считался одним из лучших.
Каменное двухэтажное палаццо с претенциозным названием Порта-Нуове («Новые Ворота») размещалось почти при въезде в город слева. Здание в полсотню окон изгибалось буквой П, перекладиной этой архитектурной извилины служил нарядный красный фасад, который гордо смотрел на городской собор, высившийся напротив в ста метрах на открытом месте.
Две ножки дома замыкались солидной оградой, за которой виднелся небольшой сад с немногими хозяйственными постройками. Если выйти со двора, то, миновав два соседних дома, можно увидеть в глубине квартала скромную церквушку Санто-Донино, где младенца крестили.
Северный торец города упирается в озеро Лаго ди Комо, а на полпути к нему, примерно через восемь домов, на глубинной улочке высится школа, где Вольта будет преподавать. Рядом церковь, где служили иезуиты.
Старый дом ненамного пережил своего владельца. Еще до Вольты эта постройка простояла два с лишним века, и за ветхостью ее снесли, назвав улицу именем ученого и присвоив дому-преемнику номер 10.
Город и озеро смыкались на площади, которая сейчас носит имя Кавура, хотя при Вольте религиозные горожане не потерпели бы такой профанации: ведь генерал был сардинцем и, хотя прославился в битвах за объединение Италии, закрывал монастыри! Впрочем, это имя появилось лишь через век.
Улицу окаймляли добротные пятиэтажные дома, а в мощеную площадь полукругом врезался заливчик, отделенный от озера двумя нарядными беседками, между которыми свободно проплывали по две барки рядом. По широкой ленте набережной гуляли толпами, с нее легко впрыгивали в лодку или поднимались по съемным мосткам, закинутым на борт суденышка. Уровень гранитной дорожки без парапета чуть превышал зеркало воды, а потому причалы не требовались, а уличные мальчишки ныряли в воду, обрызгивая приличных горожан. При сильных ветрах площадь чуть заливало, ибо вода переплескивалась через бортик, но непогода шалила нечасто и мало кого пугала.
Удобный маленький портик для прогулочных и транспортных лодок трудился круглосуточно, поэтому здесь всегда можно было найти кусок хлеба, сыр, лук и вино. Во многие пригородные местечки добирались и завозили продукты только по воде, поэтому лодочники считались особой влиятельной кастой городских тружеников.
Еще интереснее проходили воскресные шествия на заутреню. Двигаясь в толпе хорошо одетых горожан, Сандро видел на портале перед фронтоном собора две неумело вырубленные скульптуры. Народ особенно гордился их почтенным возрастом: многовековые пыль и грязь настолько впитались в грубый камень, что серая короста без лишних слов свидетельствовала как о древности собора, так и города, такой собор имеющего.
Фигуры изображали двух Плиниев, дядю и племянника, которых считали уроженцами Комо, хотя и веронцы высказывали подобные притязания. Великого Кая Секунда Старшего издавна называли «славой древней Этрурии», «vetus fama Etruriae est». Особенно впечатлял трагический финал: он задохнулся в дыму Везувия при извержении 79 года.
По поводу того, зачем Плиний попал в опасное место, мнения расходились. Словно копируя монахов из ордена кордильеров, прославившихся долгой сварой по поводу того, узкий или широкий капюшон следует им носить, комонцы тоже раскололись на дне партии. Одни, «тупые», полагали причиной бесплодную любознательность ученого, зато другие, «острые», утверждали, что сенатор, флотоводец и вельможа погиб на боевом посту, руководя спасением горожан из гибнущих Помпеи и Геркуланума.
Как во всяком приличном доме, в Порта-Нуове нашлась Плиниева «Естественная история», хотя и не все 37 томов. Мальчик, жадно учившийся латыни, просматривал фолианты до тех пор, пока не понял главного: в них речь шла про камни, травы и животных, мерцание звезд на небесах.
Очень уж актуального там вроде бы не было, но читались старые полусказки-полубыли с интересом: как Ромул пользовался молоком на жертвоприношениях, как Ганнибал отпаивал вином утомленных лошадей, как вкусен сильфиум, уступавший лишь трюфелям и шампиньонам. Этим древним растением, кстати, лечили почти все хвори (облысение, геморрой, судороги, желтуху, язвы и насморк), в чем, слава богу, Сандро еще не нуждался.
У Плиния маленького Вольту привлекали вовсе не медицинские советы, не рассуждения о былых событиях и не описания растений. В этой писанине мальчик искал и не находил ощутимой основы. Конечно, энциклопедия по своей сути есть сборник разных сведений, но мозг тонул в частностях, не находя главного стержня, на котором держатся детали. Мальчик не хотел лгать себе и друзьям, что прочел Плиния, ибо прочесть означало понять, но осознать, гранями какого общего служат многочисленные отдельности, он не мог.
Но ведь была же какая-то основа, еще таинственная для разума, или вся эта куча фактов была хаосом? Мальчик еще не знал, но чувствовал, что факты пропитывались духом времени, за сведениями высится идеология века, культ разума и знаний, цементирующих разное воедино.
Помочь могло только образование, о котором вздыхали взрослые. Помочь могли только вопросы, книги и размышления, к которым пристрастился ребенок.
Вообще-то никто из родных не умывал руки, воспитанием Сандро занимались все кому не лень. Воспитательным «генералом» оказался дядя. Мальчика никогда не звали «маммоло», маменькиным сынком, но Маддалена многому научила сына, и, прежде всего, умению чувствовать мелодию и ритм, понимать благозвучие рифмы.
В 1760 году, с десятилетним опозданием, Сандро услышал о смерти удивительного музыканта по имени Бах. Его хоралы и псалмы, полифония и контрапункты завораживали, растроганные прихожане плакали и задумывались о вечности. Даже божественный римлянин Джованни Палестрина временами казался послабее холодновато-рассудочного Иоганна Себастьяна, мелодии которого пришли с австрийскими завоевателями.
Немного мешала «всеядность» мальчика. Ему нравилось все, что касалось духа: и бессодержательные, но звучные формы, и глубокие, но невыразительно сформулированные идеи. Он словно застрял, не в силах отказаться от одного богатства ради другого, между точным естественнонаучным и куда более расплывчатым гуманитарным восприятием окружающего.
Когда Александру исполнилось десять лет, в доме появился том Дидро, того самого, что учился в школе иезуитов, а потом стал атеистом. Он вслух называл себя галликанцем, сторонником королей, которым церковь может помогать, но не властвовать. Ибо внутри государства не может быть другого государства.
Семья Вольта верно служила церкви, а потому здесь весьма одобряли строгие меры французов, которые, несмотря на врожденное легкомыслие, все же упекли в 1749 году богохульника в Венсенский замок. Хотя и ненадолго, потому что покровители хлопотали за Дидро, но порицание святых отцов в пасквиле «Письма для слепых» было отмщено.
Уж четыре года, как Дидро с друзьями выпустили в свет первый том энциклопедии, труда хоть и прелюбопытнейшего, но насквозь пропитанного бунтарским духом. Ни ортодоксии, ни скепсиса, — так хотели авторы — чтоб не утратить позитивного курса, но как возмущало доктринеров неприятие шаблонов!
Само собой, что мальчик проштудировал, хотя и не сразу, и первый, и все 35 томов «Толкового словаря наук, искусств и ремесел, составленного обществом писателей, отредактированного и опубликованного г-ном Дидро, членом Прусской академии наук и искусств, а в математической части — г-ном Д'Аламбером, членом Парижской и Прусской академий наук и Лондонского Королевского общества».
Тома появлялись один за другим в течение тридцати лет. Вольта вырос вместе с энциклопедией, он был ее ровесником. Ведь как раз в 1745 году Ле Бретон задумал выпускать «Всеобщий словарь ремесел и наук»! А потом Вольта и французский словарь зрели и, наконец, начали себя являть миру, хоть и в разной форме.
Почему же состоялась энциклопедическая «авантюра»? Помогло бессилие власти, недостаток запретов или активность бунтарей? Нет, вся Европа жаждала продолжения энциклопедического спектакля: одни свистели, другие кричали «браво», но всем было интересно. Потому что верхи зарвались в своей безнаказанности, потому что общество задыхалось, потому что французские дела превратились в нескончаемую цепь скандалов.
«Надо изменить способ мышления нации, — взывал к читателям Дидро. — Этот труд, несомненно, произведет в умах революцию, и я надеюсь, что тиранам, угнетателям, фанатикам и вообще людям нетерпимым от этого не поздоровится».
Вот почему чисто справочное издание, которое планировалась как светское дополнение к иезуитскому «Словарю Троицы», которое задумывалось заурядной, чуть расширенной копией английского словаря Чемберса, вдруг выросло в Книгу Откровений. Оракулы указывали исход, он мало кому нравился, но свет знаний успокаивал, ибо опасности стали видны.
…Нет, в Комо было куда спокойнее. Здесь царило если не единомыслие, то все же единство поведения. Кто ж будет возражать против того, чтоб шелковичные черви множились, а виноградные лозы впитывали соки? Ведь шелком и вином жил не только город, вся провинция, а слова, бумажные рассуждения — чисто французское бесплодное занятие.
Кто бы мог подумать, что эта говорильня определит жизнь мира на века вперед? Что французское словоизвержение необратимо деформирует старый мир? Невидимая машина разрушения уже начала работать, часовой механизм запустили, и он начал отстукивать мгновения, оставшиеся до взрыва. Исторические потрясения казались неизбежными.
А Вольта будто жил на пороховой бочке, он сроднился с неведомо откуда прилетевшими предреволюционными ветрами, он готовился взлететь вместе с ними, раз уж нельзя было миновать приключений. Вот только крылья еще не отросли. Да и планировать по ветру было недосуг, у мальчика уже намечался собственный маршрут. Буря может помешать полету, но если появляется цель, ее нужно достигнуть.
Наука, усвоенная с молоком кормилицы.
Мальчик заметно взрослел. Казалось, что события ускорялись, темп жизни вырос, но всего лишь вырастала сфера его интересов. Была простая, реальная, единая природа и Сандро внутри. А теперь пространство расширилось и расщепилось на оболочки, одна в другой: он сам, родные, комовцы, Италия, чужестранцы… Веселое сегодня расслоилось еще на вчера и завтра. И во всех зонах что-то происходило.
Первого ноября 1755 года погибли, не успев осознать случившегося, 60 тысяч лиссабонцев. «Спешите созерцать ужасные руины, обломки, горький прах, виденья злой кончины, истерзанных детей и женщин без числа, разбитым мрамором сраженные тела, — дрожащим голосом читала мать, а Сандро плакал и вновь вслушивался во французские рифмы Вольтера и их перевод. — Посмеете ль сказать, скорбя о жертвах сами: их смерть предрешена грехами? Грудных детей в чем грех и в чем вина, коль на груди родной им смерть предрешена?»
И мальчик поклялся разгадать тайну землетрясений, чтоб отвращать их внезапные гибельные удары. Уличный мальчишка много раз видел, как сила торжествует над слабостью. Остановить зло могла только другая, встречная сила, которую рождало сострадание. И на этот раз слепой Природе могли противостоять только Знание и Умение.
В том же году умер великий философ Франции Монтескье. Увидев некрологи в газетах, Алессандро повнимательнее просмотрел «Персидские письма», где власть милостивого монарха объявлялась той же тиранией, но подслащенной лестью сочинителей. Мальчик даже засмеялся: ведь кнут создан, чтоб подгонять, вот и владыка не может быть добрым.
В другой книге причинами величия римлян гасконский граф видел гражданские добродетели и любовь к свободе, утрата которых привела к упадку империи. Еще интереснее показались мысли о влиянии климата на жизнь людей; энциклопедисты их критиковали, но до чего интересно смотрелась географическая карта через очки Монтескье!
Скудость Аттики греки компенсировали развитием духа — да здравствует нищета! Изобилие природы развратило персов и только тираны могли принудить их к работе в краях, где персики и орехи сыплются с деревьев. Идеи о нирване порождены расслабляющим действием индийской жары, лучше умереть заживо. Чтоб выжить, северянам приходится жить активно, а демократия нужна не для подгонки, а справедливого деления.
После Монтескье в руках подростка появился Кант с его теорией неба, но книгу пришлось отложить на лучшие времена. Много времени ушло на Монтеверди, уж сто лет как почившего, однако его мастерские инструментовки и смелые сочетания звуков привлекали в оперу многих любителей. Ведь Пери и Каччини с их песнями и речитативами совсем устарели, а Рамо и Моцарт еще не обновили репертуара театров. Но, помимо событий в мире культуры, на глазах сперва ребенка, затем подростка совершалось еще много иных.
В 1740 году скончался австрийский император Карл VI, за неимением сына оставивший необъятные земли дочери Марии-Терезии, во владениях которой родился Алессандро Вольта. А прусский король Фридрих II, увидев слабину, начал отвоевывать у императрицы Силезию, что ему удалось.
Но сражения запылали еще ярче, ибо, оспаривая австрийское наследство, Пруссия, Франция, Испания, Швеция, княжества Италии и Германии в течение 1741–1748 годов отняли у Марии-Терезии не только Силезию, но кое-что на Апеннинах, несмотря на помощь, оказанную австрийцам со стороны Англии, Голландии и России. Даже титул императора австрийской королеве пришлось отдать мужу Францу I Стефану, до того сидевшему герцогом в Лотарингии, а затем поменявшему ее на Тоскану и, к тому же, помогавшему жене править Австрией.
В 1744 году грянула вторая силезская война, однако прусский король отбился от разъяренной австриячки. Эта попытка реванша лопнула через год, как раз когда родился Вольта и когда Франца увенчали короной. А Ломбардия вместе с Миланом и Комо так и осталась за Австрией.
Когда Вольте исполнилось десять лет, страна отпраздновала радостное событие. Сияли фейерверки, гремели барабаны, парады и балы отмечали появление на свет королевской дочки Марии-Антуанетты, трагического конца которой не мог провидеть еще никто. А в 1756 году началась уже третья война за Силезию, которую упрямая королева хотела вернуть в австрийское лоно. Она-то и получила название Семилетней.
Горожане взволнованно зажужжали, обсуждая беспокоящую новость, австрийские власти заработали более четко, оперативно и жестко. Задвигались войска, скупалось продовольствие, портные, сапожники и оружейники получили выгодные заказы.
Из родных в армии никто не служил: туда брали по найму или вербовкой. Для подростка Вольты война стала фоном тревожным, но неопасным.
Жизнь Алессандро-подростка в доме у дяди почти не затрагивалась военными страстями королей, тасующих географические карты. И либеральные реформы, которые во множестве затевались сорокалетней Марией-Терезией, доходили из Вены, сильно ослабнув по дороге: немножко выросли права крестьян, чуть уменьшилась власть дворян и церковников.
Куда сильнее менялся дух времени. Зазвучали красивые слова: «век Просвещения» и «просвещенный абсолютизм». Стали модными мысли французских энциклопедистов, голосам Дидро и Вольтера благосклонно внимали монархи Пруссии, Австрии и России, короли согласились осветить невежественные массы факелом образования, называемого панацеей от всех бед. Больше средств отпускалось на школы и университеты, началось паломничество «передовых» людей в лаборатории и на лекции. К счастью, Вольта попал в попутный поток, его тяга к знаниям становилась не просто личной прихотью, она отвечала общественным запросам, государство простирало крылья над любознательными.
Еще с большим усердием продолжал занятия юный Вольта. На этот раз он посещал бальо в Брунате ради термометров.
А в 1757 году умер легендарный Реомюр. Он тоже родился в феврале и тоже в маленьком городке. Учился математике, физике и юриспруденции, что почти совпадало. В двадцать пять избран в Парижскую академию наук, что не худо бы повторить. Умер от инсульта, ибо чрезвычайно много думал, а можно было бы избежать нарушения мозгового кровообращения щадящим режимом.
Этот плодовитый ученый-мастер издал подробнейшую опись умений и ремесел, тем самым инициировав энциклопедистов к повороту от чистого познания к прикладному характеру их словаря! Удивительно сходились концы разных дел, мальчика Вольту поразили инженерные возможности ученого. Вот кто, Реомюр, станет для него эталоном, высшей меркой и целью стремлений!
Все бы хорошо, но темп образования оказался велик. Латынь, история, приборы, физика, немножко музыки — клавикорды сестер, клавесин матери, чуть-чуть географических карт, там библия, здесь натурфилософия, изредка миланская опера, почитать о растениях, послушать о политике. Одни стоят на выгодности профессии юриста, другие толкают в медицину, третьи видят его физиком, четвертые — епископом.
А ему хотелось понять, что такое жизнь и смерть, в чем наше предназначение. Нельзя ли остановить ножницы Антропос, той самой парки, которая перерезает нити жизни, начатые на небесах ее подругами — богинями Клото и Лахесис?
Когда мозг перегружен, недалеко до беды. Совсем не случайно через полгода после того, как ему стукнуло двенадцать, на пути Алессандро встала Смерть.
Глава вторая (1757–1769). ПЕСНЬ О НАУКЕ
Во второй дюжине лет полностью сформировались тело, характер, ум и убеждения Алессандро. Как раз в те юные годы он задумался над тайной жизни и смерти, разочаровался в религии, узнал о своем слабом здоровье, научился писать стихи. Дядя запретил ему вступить в орден иезуитов, а сам юноша не захотел приобрести гуманитарную профессию. Научный подвиг астронома Галлея, разгадавшего тайну «вифлеемской звезды», обратил Вольту к физике. Сначала в письмах к парижскому аббату Полле он попытался объяснить электрические явления ньютоновской теорией тяготения, но по совету туринского падре Беккариа сменил теоретические умствования на практические изыскания. Вольта не был вундеркиндом, зато стал изобретательным электриком экспериментатором.
«Родился вторично!»
В 12 лет от роду из Сандрино фонтаном била энергия: крайне быстр, не ленив, всегда весел. По натуре дети чаще всего деятельны, их обычно останавливают, а не тормошат. Как шутил еще Гораций, «безумством было б подгонять прутом ручей весенний, вода журчит без умолку, подвижна словно дети».
Игры с водой как раз и были любимой игрой подростка. Как-то, выясняя, почему вдоль русла ручья впадины сменяются мелями, он прорыл экспериментальную канаву около городской больницы и с гордостью разъяснил прохожим, как размывается грунт на входе его маленького канала.
В другой раз он взялся разгадать «тайну золотого блеска» в ключе около местечка Монтеверди. Сквозь струи воды в хорошую погоду прорывалось сияние, но внезапно оно гасло, чтоб вновь появиться. Крестьяне уверяли, что так блестит золото. Мальчик взялся за дело и выявил блестки. Ими оказались кусочки желтой слюды в песке на отмелях, чешуйки блестели в лучах солнца при переменах освещения и режима течения.
Тут и случилась беда. Перебираясь в воде между ямами и отмелями, мальчик сорвался и утонул. Из бывших на берегу, плавать никто не умел. К счастью, крестьянин согласился открыть запруду и спустить воду из уважения к родителям и за вознаграждение.
Утопшего вытащили из ила, откачали, родные бранили и целовали его, «ведь он дважды родился». «Я хотел проверить, насколько парализует риск потери жизни» — этими словами сын озадачил мать не на шутку.
И действительно, для Вольты житейский инцидент всего лишь отражал факт существования бесконечно занимательной проблемы: что есть смерть? Новое бытие или ничто? Опрометчивый опыт не принес никакой новой информации о жизни там, кроме той, что жизнь эта прекращается.
Но никто не мог сказать о смерти ничего вразумительного. Как же так, жить на краю бездны, неминуемо поглощающей каждого, и даже не пытаться что-то узнать о ней? Вся религия построена на загробной жизни: боге и дьяволе, ангелах и душах, аде, рае, воскресении. Увы, в летальном состоянии маленький экспериментатор вылета души из тела не зафиксировал.
Еще много раз в жизни Вольта будет возвращаться к той же проблеме и подвергать ее научному анализу. А через тридцать лет он скажет, вспоминая детские годы: «…уже первые опыты поставили под сомнение, а потом и разрушили ортодоксию церкви».
В школе иезуитов.
В 1757 году спасся от покушения французский король и родичи Вольты, отведя всевышнему роль спасителя как сына, так и короля, задумались о духовном воспитании мальчика.
Мир был спокоен, но через год затишье сменилось страстями, ибо вновь загремела Семилетняя война, убили короля Португалии. А Вольта уже сидел в школе и внимал учителям. И до того он слышал про Коперника и Кампанеллу, про их прегрешения перед богом. Звучали имена Бруно, Бэкона и Гассенди, одновременно выходили труды Галилея и Декарта, потом люди услышали о Гоббсе, Лейбнице, Бейле и Беркли, относительно недавно появились книги Вико, Вольтера, Ламетри, Дидро и Канта. В те годы в Италии не существовало книжных магазинов и общественных библиотек, домашним книгохранилищем мало кто мог похвастаться. А Вольта мог, книги в доме были, но домашние комментировали прочитанное односторонне и неглубоко.
Юный ученик за годы учебы наслушался всякого: о 14 апостольских посланиях святого Павла; о «молчальниках» из ордена траппистов, которые не желали портить словами божественных откровений; о либертинцах, освящающих распутство ссылками на божественную доброту и вседозволенность; про почитаемых отцов церкви Амвросия Миланского, Иеронима и Августина Блаженного; про капуцинов, завлекающих Азию в католическое лоно; про верный способ испортить демократию, слегка и вроде бы невинно перегнув палку за счет передачи власти черни, а уж охлократия неминуемо и мгновенно переродится в кровавую деспотию. Да, управление толпой было делом «пастухов», существовала своя теория «поводырей», полная уловок, хитростей и простых правил прополки стада, выработки у него привычек, страха и благодарности. Вот в Падуе уж два века славился ботанический сад, известный особой планировкой и растениями; разве сад человеческий нельзя было вырастить по своему вкусу?
В школе иезуитов Вольта оказался не случайно. Сеть таких школ настолько разветвленно опутала Европу, что избежать ее было мудрено. Улавливалось все более-менее годное. Галилея, к примеру, выучил аббат Риччи, Вольтера — свободолюбивый де Шатонеф. В католических странах и наука была католической, а иезуиты курировали образование.
Комовский колледж считался не из сильных, но других не было, только начинали подымать голову светские учителя, нарушая церковную монополию. А иные из педагогов Вольты даже славились. Так, генуэзцу падре Синьоретти, маэстро риторики, который любил себя называть «детским профессором элоквенции», Вольта обязан расцвету поэтических способностей.
Иезуиты славно бились на фронте образования: всегда в курсе научных новинок, и учили неплохо, разве только со спецификой. Конечно, они вели себя нетерпимо, по мнению иноверцев, ибо всеми силами защищали статус-кво, правящую религию и ее испано-иезуитские центры активности. У кого сила, тому незачем думать о морали, пусть слабые апеллируют к нравственности и болтают об этических нормах. Однако именно тут и скрывалась слабость иезуитской науки: призванная править, она нуждалась в стабилизации мыслей и мнений, но стоячие вода и наука протухают. В политике закрепить власть имущих еще можно, отвлекая недовольных тем-сем, но в науке? Науку делают только недовольные.
Чтоб замазать самоуспокоенность, иезуиты-ученые взялись упирать на эмпирику. Сначала опыт, ибо так сделал бог, спорить нелепо. Потом из частностей отбор характерных качеств, наконец, их обобщение. Вроде бы неплохо, ибо наблюдать, перенимать и развивать полезно, но незаметно для себя армии стали маршировать все по тем же старым дорогам. Куда ж девались торящие новые пути? Вы сами устранили первопроходцев, слышалось из углов. Но еще не время, отбивались церковники, осмыслить бы уже известное. Так скудело новое: издавна, от перипатетиков и сенсуалистов перешли к иезуитам методы абсолютизации свойств, даже анимизм и антропоморфизм.
Вольта учился у иезуитов три года. За это время случились четыре крупных события, связанных с небом, с древностью, с людьми и религией. В конце концов, наш герой сошел с религиозных рельсов окончательно.
Небесные потрясения.
В 1758 году мир ахнул: вновь взошла «вифлеемская звезда», якобы воссиявшая над яслями Христа. С тех пор она появлялась каждое столетие то раз, то два, но сейчас небесную гостью ждали. Пьедестал незнания исчез, «звезда» оказалась заурядной кометой с периодом в 70 лет с небольшим, что предсказал Галлей.
Появление хвостатых и волосатых небесных странниц всегда поражало воображение. Вся история мира переплеталась с небесными символами гнева или милости господней. Их сравнивали с кинжалами небесных воинов, с изрыгающими пламя драконами или с факелами, сжигающими жилища грешников, метлами ведьм, копьями, мечами или прутьями, предвещающими кровь, мор и страхи господни.
За год до появления Вольты тоже появлялась комета. Ярче Венеры, хвост в полнеба и, конечно, как знамение важных событий, о которых предрекали многие звездочеты, в том числе Гейнзиус в своем «Описании в начале 1744 года явившейся кометы». И точно, через Курляндию как раз мчалась в возке из Ангальтского дома (владеющего всего одним городком Цербст в Померании) принцесса София Августа Фредерика, которую вызвала в Россию императрица Елизавета, чтоб женить на сыне рано умершей сестры Анны. Внук Петра Великого по имени Карл Петр Ульрих из Голштинии уже прибыл к тетке и уже провозглашен наследником престола. Софию же прочил в жены Петру сам Фридрих II, денег не жалел, и конкуренток удалось обойти с запасом.
А София примчалась, скромная и почтительная, пришлась ко двору. Обходительная и политичная, она с реверансами говорила приятное. Деликатно предвидя запланированные события, приняла православие, нарекли ее Екатериной, а через год обвенчали. Только в 1762 году взойдет над Россией ее царская звезда, но разве не предвещала комета о неизбежном грядущем? Одна — о переезде — на Восток, теперешняя — о скором воцарении. А Вольта, теми же кометами обласканный, тоже был обращен лицом к российским просторам, но устоял, не поддался смутным многозначительным намекам, не захотел плыть по сомнительным подсказкам. Но всю жизнь чуть ли не на каждом шагу встречали его вести «оттуда», куда его намечали сами звезды.
А что ж комета, просиявшая подростку Вольте? Она пришла и ушла как по расписанию, и мирские страсти поднялись и улеглись. Все забылось, а Вольта остался перед обломками религии и в восхищении перед Галилеем. Какое счастье встретить и юности четкий, ясный мир знания, при сиянии которого туманная вера блекнет и тушуется! Вот почему половина дел, которыми занимался Галлей, стала желанной и Вольте тоже.
А после Галлея мальчик «увидел» Ньютона, автора великого закона тяготения. Этот серьезный британец писал только на латыни, а мысли излагал скучно, перемежая геометрическими схемами. Но как велики были эти мысли, как мечталось пойти вслед за Ньютоном! Впрочем, вслух об этом говорить было бы рискованно, хотя мать все же поняла бы, что дерзость сына небезосновательна. Но самому что ж бояться смелых подражаний?
И Вольта взахлеб слушал, читал, думал про Ньютона, который как раз в те годы становился знаменитым. Этот человек всего добился сам, хотя детство его не баловало. Удивительное дело, Ньютон жил почти год в год с Вольтой, только на век раньше. Во многом они действительно стали двойниками, оба пережили казни королей, оба видели реставрацию (только Вольта в соседней стране). Оба родились в провинции, молодыми сами делали приборы, пока не имели состояний, то лично зарабатывали на жизнь наукой и преподаванием. Оба кончили жизни членами Лондонского Королевского общества, только один президентом, а второй почетным иностранцем. Оба вели себя сдержанно, нервно, склонялись к компромиссам там, где не затрагивались их принципы. В старости один стал дворянином, а второй — графом. Оба жили долго.
После Ньютона Вольта прочитал про Кеплера. До чего хорошо смотрелась идея о влиянии неба на погоду! Как у Галлея, непонятная роль бога здесь сменялась совершенно ясными физическими связями.
Насколько же велик ученый Кеплер! Он разгадал небесные законы, влиянье божества магнитом заменив. Но, повертев магнитами в руках, я уподоблюсь богу в поднебесье… — примерно так мог думать мальчик. Примерно так могли складываться в его голове строчки будущей поэмы во славу науки.
Как жаль, что мыслители перестали описывать Природу величественными, вдохновенными стихами, столь соответствующими предмету поэм! Уж нет Гомера, Гесиода, Ксенофана, Парменида, Эмпедокла, Лукреция с их ритмичными напевами, в которых поражает и форма, и содержание. Где ж вы, их современные последователи? Но нет, еще не вернулся золотой век, где торжествует разум, а не грубая сила. Впрочем, научные трактаты перестали писать стихами, прервалась эстафета ученых-поэтов, но еще прочнее кажутся узы чисто научной преемственности.
«Кто ж я?»
Второе событие школьного периода жизни Вольты началось со старинных семейных пергаментов. Еще в XV веке основатель фамилии Вольтус из Ловено обзавелся гербом: на двух колоннах закреплена арка. Что ж намеревался сказать своим потомкам основатель династии?
Описания смысла, вложенного в простое изображение, не существовало. Но и без того понятно, что в первую очередь герб иллюстрировал имя, ибо «вольта» испокон века означало «поворот», «свод», «замок свода». Так оно и выглядело на рисунке: обтесанные на клин камни, дуги распирали свод собственным весом, а замком назывался верхний камень, раздвигавший полудуги и равноудаленный от пят, то есть ног, арки, которая, кстати, называлась римской, ибо имела полуциркулярную, полукруглую форму в отличие от арок арабских и немецких в мавританском или готическом стилях соответственно. На схеме виделся даже архивольт — наличник, окаймляющий арку.
Вот так Вольтус! Он явно виделся себе сверхчеловеком, избранным и вдохновленным свыше. Ибо и второй смысл герба казался очевидным: все Вольта должны были видеться себе и другим надежным звеном религиозного моста, перекинутого из свято верящей Испании в слабеющую духом Италию как раз в те десятилетия, когда на повестке дня буднично стоял острый вопрос: устоит католичество или сдастся реформаторам?
В XVII веке появился новый вариант герба, когда «божественный Заминус», праправнук основателя, тоже «божественного Заминуса из Ловено», в 1614 году приобрел имение Паравичини. Та же арка на гребне несколько усложнилась: под ней появился лебедь, что говорило о близости воды, верности, благородстве и красоте, а вся картинка спряталась в яйцеобразный овал с намеком на брак, многодетность, мир и покой.
Гербовая арка уподобилась воротам в новую жизнь, а потому и комовский дом получил название «Порта-Нуове», то есть «новые врата». При желании можно было трактовать это название усадьбы как очаг новой духовной цивилизации, высадившейся как бы на развалинах святого Рима, совращенного светскими соблазнами. Ведь даже Португалия в свое время кому-то казалась «входом в Галлию» с Пиренейского полуострова.
Еще про один смысл фамилии Вольта школьнику постоянно напоминала сама жизнь.
У слова «вольта» особо популярно значение «поворот». Вот почему реки Верхняя или Нижняя Вольта в Африке непременно извилисты. Вот почему псевдоним Вольтер, под которым нам известен могучий мыслитель Аруэ, избран им специально для того, чтобы усмехнуться над своей изворотливостью и борьбе с церковью и абсолютизмом.
Нелишне упомянуть, что Вольтер был старше Вольты на 49 лет, а они дышали одним воздухом как раз треть века, 33 года. И это не фигуральное выражение, они действительно жили по соседству, старший — на западном, младший — на южном склоне Альп, как раз в центре Западной Европы.
История с созвучием имен Вольтера и Вольты даже исторически поучительна. Окончит ее сам Наполеон в конце XVIII века, а начало положил Вольтер веком раньше. Дело в том, что у Вольты имя было, так сказать, естественным, а у Вольтера — искусственным, чтобы соответствовать если не характеру, то поведению.
До тех пор Вольта познавал себя, так сказать, «исторически» (вернее, «генеалогически») и «семантически», но тут и школа внесла свою общеобразовательную лепту, познакомив подростков с «Характерами». Автор этой книги, Теофраст, писал ее для немногих, чтоб не метать бисер перед злонамеренными и злоязычными, но за давностью времени (прошло уж более двух тысяч лет!) его намерения забылись. В византийские времена, к примеру, книжечка древнего грека славилась как чуть ли не самый популярный школьный учебник.
Причиной этого признания являлось столь яркое и краткое описание тридцати типов наиболее часто встречавшихся характеров (с античных пор они изменились несущественно, а специфика изложения лишь усиливала очарование текста), что знакомство с ними считалось обязательным в тех программах человековедения, преподавание которых, конечно, под более строгими названиями входило в обязанности начальной школы.
Вот почему лет за триста-пятьсот до Вольты дети средневековья на уроках копировали свитки с древним текстом, а с копий в конце XV века книгу издал Пико делла Мирандола. Тот самый Пико — богач, полиглот, оригинал, знаток античности, христианства и магии, познавшим «все реальное и мистическое о небе, боге и человеке», но не доживший даже до возраста Христа, чем вроде бы и подтвердил скепсис папы, подозрения своего покровителя Лоренцо Великолепного и нападки инквизиторов, которые дружно сходились в том, что «столь великая глубина знаний в столь раннем возрасте не может появиться иначе как с помощью договора с дьяволом».
В 1527 году ту же книгу переиздал немецкий ученый Пиркхеймер, через четыре года появился перевод на латинский Полиццано, через полтора века Лабрюйер издал французский вариант под новым названием «Характеры или нравы», и популярность этой новинки на время затмила не только рыцарские, но и любовные романы.
Что же нового узнал Вольта? Он получил сразу три группы полезнейших сведений: про легендарного Теофраста, о целях жизни, как их понимали древние греки, и о своих чертах характера, которые удалось выискать в книге-руководстве.
Второй большой урок все той же маленькой книжечки — в чем цель жизни? Дамон сказал — она есть благопристойность, Демокрит — хорошее настроение, покой и веселость, Протагор — благоразумие, а Сократ — удовлетворение всех желаний. Но не будешь же грабить, чтоб удовлетворить свое желание? Опять-таки все эти советы, как прожить и как вести, не давали ответа на главный вопрос — зачем мы? Ну, хорошо, прожил благопристойно, а в старости задумался: для чего жил? Нет, смысл жизни виделся в том, чтобы оставить после себя что-то ценное: детей, посаженные деревья, а еще важнее — новые мысли. А зачем дети, деревья и мысли — на это у греков ответа вроде бы не отыскалось, ибо, по Платону и Аристотелю, высшее благо лежало за пределами бытия, а потому и сказать о нем было нечего, кроме того, что оно «едино, совершенно и самодостаточно».
Допустим все же, что стремиться надо к совершенству и красоте, не понимая, зачем это нужно. Красив же тот, кто смел, дисциплинирован, умен и мудр. Антики учили, что «арэтэ» — совершенство, — вот что выделяло героя из толпы. Пусть знатный жертвует собою на войне, щедр в мире и не трудится за плату. Натура человека видна по внешности, осанке и манере говорить. Зло ж, как понятно, есть болезнь души, а потому лечиться надо злому, он непременно должен вылечить недуг, чтоб смрадом жизнь другим не портить людям.
Но как узнать себя? Теофраст полагал, что верное представление о себе и других можно составить, подобрав типичные проявления характера. Да, к слову, он и тут оставался ботаником, только классифицировал уже не растения, а живые тела. Впрочем, так ли велика разница? Среди текучих характерных черт есть постоянные, учил философ, — «клеймо природы, в живом процарапанное». Природа ж человека неизменна, хоть нравом может быть немного смягчена. Ведь и нарцисс останется нарциссом, расти он на сухой полянке, на берегу реки или на клумбе.
Теперь дело было за малым: примерить на себя те тридцать характеров, которые так умело выписал Теофраст. Вольте впору оказались шесть: ворчлив без повода (у Теофраста: «Подарок? Не нужен мне такой! Нашел я денег! Но, увы, их слишком мало»); недоверчив («Все лгут! Всех надо проверять!»), крохобор («мелочен, записывает расходы, желает подешевле товары и услуги»); угодлив («к власти льнет, за собой следит, не спорит, стремится делать приятное»); тщеславен («жаждет почета, демонстрирует награды, носит дорогие одежды, долги стремится отдавать новыми монетами, перед гостями убирает дом лучше, чем без них»); ироничен («притворяется в сторону умаления, скрывает заботы и знания, в долг не дает, коль ждут, то ахает»).
Слов нет, жестокий перечень. Впрочем, характер не выбирают, он вместе с телом достается в подарок. А Вольта никак не отождествлял себя с подобными типами, хоть видел их вокруг предостаточно. Люди вокруг виделись иллюстрациями к книге, как будто попал на сцену в театр Теофраста.
Воскресения не будет.
Жизнь быстро катилась как бы сама собой, но среди бытовых и школьных неотложных дел перед мальчиком одна за другой появились и потом маячили до последнего дня семь забот, семь крестов, семь грузов, которые надо было нести и нести. Вот они: отдать папашин долг иезуитам; продлить род Вольта; научиться управлять погодой или хотя бы заранее узнавать о грядущих землетрясениях; понять сущность жизни — разгадать тайны электричества и превратить этот великолепный физический феномен в послушное орудие; покорить вечное движение и научиться измерять то, что еще неизмеримо. Конечно, на решение всех этих проблем одной жизни недостаточно. Чтоб справиться со столь многими и сложными задачами, одна за другой встававшими перед Вольтой и настоятельно требовавшими решения, можно было рассчитывать только на самого себя, для чего надлежало предельно упорядочить распорядок своей жизни и работать без устали. При этом надлежало опираться на знания многих мыслителей, еще здравствующих и уже ушедших.
А как загадочно назначение человека: зачем мы? ради чего живем? можно ль прожить свой век просто так, поел-попил-поспал-погулял-поболтал, или непременно надо внести свой вклад в то, что называют поступательным ходом цивилизации? Увы, никаких указаний свыше не было видно, каждый приспосабливался по своему разумению: одни надрывались, загоняя себя в гроб трудом невмоготу сами или с помощью других, другие, насупясь, яро гребли под себя и семью, третьи молились на поговорку «день прошел — слава богу».
Гипотез о смысле жизни хватало: самая массовая утверждала, что нами с небес руководит бог и, позволяя немножко свободы поведения, жестко контролирует, фиксируя итоги, но не вмешиваясь в дела человеческие. Самые знатоки из верующих добавляли чуть-чуть перцу, кивая на библию: бог, мол, внутри нас. Надо было жить по священным заветам, но ведь не всякий так делал! Другие, из богохульных, болтали, что человек есть лишь ходячий домик, в котором ездят и которым управляют невидимые нам существа. Если так, ловко ж они устроились загребать жар нашими руками! Мы-то мним о самостоятельности, а нас просто поощряют изнутри делать то, а не это, создавая «чувство удовольствия». Фантазер Гаттони, друг и сосед Вольты, называл этих наездников частичками бога, который использует людей как грядки, чтоб на этом огороде выращивать мысли, а уж ими-то и питается верховный разум. С овец — шерсть, с людей — мысли, которые невидимы и куда-то уносятся. Не надо писать книг, не надо никому ничего рассказывать, чуть подумаешь, а мысль уже уносится вдаль и улавливается кем надо. Чует же мать беду с сыном издалека. А коли так, то наука — дело богоугодное, так что твори, Вольта, во славу творца нашего!
Те, кому не нравилось быть марионетками в чьих-то руках, разрабатывали атеистические теории. Живые конструкции саморазвивались, самостоятельно двигались, самоусовершенствовались. Питаясь из двух кормушек энергией и информацией, люди ни от кого не зависели, они сформировались в ходе естественного процесса усложнения из первичных атомов, ибо те были наделены силами. «Мы и есть боги!» — гордо провозглашали материалисты!
И с моралью тут отлично сходились концы с концами. Верующие страшились грешить из-за будущего посмертного наказания со стороны всеведущего создателя, сознательные атеисты вели себя этично ради других людей — спутников в бренной юдоли жизни, ибо только так можно было уменьшить страдания. Оставалась только досадная щель для аморальных атеистов: коль понять, что нет недремлющего контролирующего ока, можно было вести себя безнаказанно, так как некому было осудить и покарать. Так вот она, функция государства, сами люди с его помощью должны обезопасить себя от выродков!
Оставался разве открытым вопрос о грядущем судном дне и всеобщем воскресении. Уж больно много людей успело пожить на земном шаре (к концу XIII века — миллиард, XX — три, в конце XXI — до двенадцати!), причем каждые 20–30 лет появлялось новое поколение.
И так шло, по библии, в течение всех 6 тысяч лет со дня сотворения Адама (с 40-го века до н. э.), а в XX веке любознательные потомки высчитают, что люди появились на планете в миллиард раз раньше, так что срок их присутствия в мире удлинился на 35 миллионов столетий!
Новых цифр Вольта, конечно, не знал, но и старых было достаточно, чтоб поупражняться в скепсисе и прозаическом мастерстве. В те времена считались модными эпистолярные размышления типа «Персидских писем» Монтескье, «Писем к провинциалу» Паскаля, «Писем к одной немецкой принцессе» Эйлера. Вот и Вольта начал литературную деятельность «Письмами к падре NN»: печатать их он не решился из-за опасности антирелигиозной темы, но рукопись сохранилась до наших дней. Вот она…
«…Уважаемый метр! В последний раз мы беседовали относительно идеи месье Бонне насчет появления живых тел. И мы пришли к заключению, что система взглядов этого ученого в целом построена весьма изобретательно, однако все же нетерпима в одном отношении, когда автор говорит об эволюции. Тут нам автор изрекает, что дело, мол, вполне ясное: мы постоянно возрождаемся из тех же тел, той же плоти, той же крови, так что могила становится источником жизни.
Все это как-то связано с существованием мирового эфира, но полную картину рисовать здесь не место. Но как же все-таки появились грубые реальные телесные плоти? Чтобы не слишком долго отягощать себя размышлениями, я предусмотрел для этого случая одно вполне вероятное сообщение, которое все же учел сам любезный месье Бонне, допустив возможность полного возрождения и отказавшись от привилегии разрешить погибать безвозвратно даже примитивным тельцам, так что именно этого мнения мы и будем придерживаться в дальнейшем.
Сейчас же приходится воскликнуть: нет, мы не есть копии предков, а наши потомки вовсе не обязаны копировать нас. И препятствие это непреодолимо. Члены некоторых народностей, например, только выглядят подобными антропофагам,[5] но у них со смертью дела плохи; даже если допустить, что каждый из них и вправду антропофаг, то при малом числе умирающих своею смертью и с учетом нарождающихся младенцев народу в племени будет все больше и больше, а тогда откуда же возьмется для их создания могильный прах?
Эту трудность научной системы преодолеть невозможно, хотя я размышлял на эту тему тысячи раз, перечитал множество книг типа «Аналитических опытов» или «Теодицея», однако все тщетно. Приходится принять, что идея о простом воскрешении несостоятельна. И можно не сомневаться, что к такому же выводу независимо от меня придут все, кто руководствуется идеями Бонне и Лейбница, поскольку каждая из этих систем лишь дополняет и развивает другую. На эту тему можно рассуждать долго, и у меня немало мыслей и аргументов, однако хотелось бы все же узнать Ваше мнение…»
Здесь уместно прервать Вольту ради краткой справки. По Бонне (1720–1793), бессмертные души людей и животных покидают тела и после их гибели ждут воскресения, чтобы получить новые и лучшие оболочки. По Лейбницу (1646–1716), духовные атомы, монады, могут существовать сами по себе, но по мере своего совершенствования обретают способность порождать и возбуждать ощущения у животных или разум у людей. Что касается зародышей живых организмов, то они существуют якобы вечно, развертываясь и свертываясь в начале и конце жизни, так что жизнь сама по себе неуничтожима и присутствует во всем, везде и всегда, лишь облекаясь во временные материальные формы. В «Новом опыте о человеческом разуме» (1705) Лейбниц пишет о познании, а в «Теодицее» (1710), или «Богооправдании», о несовершенстве сотворенного мира. Избежать неидеальности при сотворении невозможно, поскольку исходные вещи конечны, но степени совершенства, а потому и построенная из них композиция даже теоретически не может быть идеальной.
А Вольта продолжал: «…Итак, воскрешение. Чтобы создать, надо разрушить. Другой правды нет, кроме этой. Ведь нужна субстанция для новых творений, нужен старый прах, старый навоз и все прочие старые выделения. Ведь всякое животное непременно обязано дублировать предыдущее. Мы согласны с тем, что вещества в природе не прибавляется и не убавляется, его количество совершенно не меняется во времени. Но если так, то невозможно никакое развитие! Из тысячи людей непременно получится точно такая же тысяча. Меньше-то может быть, ибо некоторая часть может лежать демонтированной, ожидая реконструкции или сборки в будущем, но больше?
Конечно, возможно, что в максимуме природа в силах создать, например, миллиард людей, из которых в настоящее время живет пусть миллион, а все другие неживущие своими частями образуют почву, деревья, воду и животных. Но почему задано точное число именно людей, а не, скажем, слонов?
Гораздо разумнее полагать, что существуют общие первичные элементы, а уж они-то суммируются в ту или иную конструкцию: в червя, гору или рыбу. Тогда всё вокруг нас есть сложные комбинации, и каждая конструкция может стать частью другой. И нет неодолимого барьера между чем бы то ни было, и живое с неживым родственно. Различие только в структуре целого, и в количестве первичных элементов, и в их взаимном расположении.
Чем же тогда отличаются материи неодушевленная и способная к произрастанию? И в дереве, и в животном циркулирует сложное в сложном, и они погибают и восстанавливаются в тысячах разных фасонов. Видимая оболочка постоянно самозаменяется, старея и возрождаясь, хотя, в целом, кажется, что плоть остается будто бы неизменной. В одном и том же тюльпане одна и та же порция той же материи, протекающей насквозь, и в орле, яблоке, гусенице, собаке или человеке?
Всё так, однако, этого мало. Ведь был же когда-то первый день творения, когда можно было увидеть на той же земле тех же животных, те же травы и растения, которые так же питались и успешно воспроизводились? Но нет, от этой химерической бессмысленной идеи лучше сразу отказаться, чем после того, как будет подсчитано ужасающее количество субстанции, нужной для первосоздания. Я пытался провести такие расчеты, но даже примерные оценки сделать трудно.
С учетом постоянно повторяемых актов создания получается что-то совершенно немыслимое. Пусть, мир живет 60 столетий и будет существовать далее. Еще надо бы не упустить того времени до акта творения, когда еще не было света. Опять же надо дать время на рост человека, на увеличение размеров тела от младенческих до нормальных размеров. Кроме того, следовало бы добавить нужного времени для созревания пищи, растений и скота. Сколько ж это будет из расчета на миллиард человеческих тел? Тут непременно надо бы учесть, что какая-то часть населения погибает, не успев вступить в цикл воспроизводства…
Но будьте снисходительны. Ведь если быть последовательным, то придется принять во внимание, что кто-то располнеет, а кто-то от горя или бедности станет полегче. И что же, в день воскрешения абсолютно всех-всех начнется такое, какого еще не видывали: кто-то воскреснет, если его тело не очень разложилось, другим же придется лепить себя по частям, рыская туда-сюда за необходимым материалом?
Жаждущие воскреснуть всю природу раздерут на клочки, лишь-бы дополнить свое тело до нормы. Но что есть норма? Ведь пока мы были живы, наши размеры менялись, но какой же из дней принять за основной? Да, в Судный День подымется такая драка, что если воскресшие сами не пораздавят друг друга из-за безумно большого количества, то на каждого достанется ничтожно мало вещества! Тут уж получатся не привычные нам люди, а скорее лилипуты, а вернее, даже огрызки от кукол размером с руку…»
Нужны ли тут комментарии? В этом письме Вольты есть всё: знания древних и современных ему философов, сарказмы Рабле и Вольтера, воспитываемая классиками логика мышления и легкость пера. Пожалуй, Вольта правильно сделал, что пошел в науку: он все же «пишущий ученый», а не «прозаик, интересующийся наукой».
И еще один вывод. Если судить по одному только «Письму к падре NN», то не остается никаких сомнений в неверие Вольты в священные религиозные догмы! «И этот скептицизм еще в юношах?!» — воскликнул бы сторонник церкви. А ведь Вольта вышел из семьи священнослужителей, и он, и его отец были любимцами иезуитов, гвардейцев папского престола! Вот каков он, законченный безбожник, а всех святош обвел вокруг пальца! И так будет всю жизнь: он не станет, как Вольтер, наслаждаться прямыми битвами за правду, но заведет дружбу со всеми свободомыслящими людьми. Но сам-то Вольта не будет афишировать своего безбожия, в противном случае вся жизнь ушла бы на махание шпагами, а Вольте непременно надо было довести до конца семь своих дел, важность которых была ничуть не меньше. На фронте свободомыслия бойцов хватало, а на том участке, где придется сражаться Вольте, солдатов было маловато…
И падре Бонези удалился…
Свое шестнадцатилетие (1761) Вольта встретил в атмосфере благостной, другого слова не подберешь. Учение шло хорошо, дома спокойно, разве только с трамонтаной прилетало неосознанное беспокойство, но уж такова специфика этого альпийского ветра. Да еще в Лионе вот уж три года как печаталось второе издание нашумевшей французской «Энциклопедии», сильно тонизировавшей умы. Конечно, недалеко от Ломбардии на севере громыхала война, причем дела пруссаков обстояли неважно.
Увы, и в этой войне победитель определился не на поле боя. В январе 1762 года умерла русская императрица Елизавета, а ее наследник Петр II немедля вернул Пруссии свободу. Фридриха он обожествлял, перед его портретом стоял на коленях, умолял о праве назваться братом, двум спускаемым на воду кораблям присвоил «великие» имена: «Король Фридрих» и «Принц Жорж» (в честь своего дяди, голштинского герцога), приказал перерисовать на протестантский манер иконы в российских православных церквах.
Европа внимала с изумлением (и Вольта вместе с другими). Сюрприз за сюрпризом: сумбурный конец Семилетней войны, через два года Франция лишается Индии и Канады, еще через два года (1765) Харгривс изобретает прялку «Дженни», а с нее идет текстильная революция. За отказ платить гербовые налоги англичане устраивают бостонцам кровавую бойню. Медленно, но верно в мире нарастало по всем статьям напряжение.
Но в комовском захолустье можно было делать все, что хочешь: одни дремали, другие самосовершенствовались. У Вольты почти весь 1761 год прошел под знаками религии. Сначала расцвет отношений с падре Бонези, потом крещендо[6] (за июль — сентябрь — 38 писем, по два-три в неделю!) и, наконец, бурный финал с истериками, воплями и обличениями. Не со стороны падре, это у юноши сдали нервы, ибо лопнули его планы, кстати, весьма опрометчивые, так что, в конце концов, это фиаско оказалось для Вольты чрезвычайно благотворным, хотя поначалу достаточно досадным.
Началось все с того, что Вольте было интересно практически все, особенно касающееся высокого круга вопросов «мир — человек — разум». Совсем не удивительно, что Джироламо Бонези мог принять любознательность школьника за увлечение делами того ордена, который ведал данной школой. Падре начал приглашать к себе Алессандро с другом Джулио Чезаре Гаттони, всего на год более старшим, чтобы угощать их кофе, кормить искусно выпеченными пирожками, потчевать шоколадом, а на этом «сладком» фоне, что и было сущностью встреч, заводить глубокомысленные разговоры о смысле жизни, устройстве бытия и назначении человека.
Алессандро относился к жизни с высокой ответственностью, он мечтал не проплыть по ней равнодушным пассажиром, а создать нечто возвышенное, достойное тех великих мечтаний и надежд, которыми полнились его разум и сердце. А тут вдруг нашелся старший товарищ, более опытный советник, понимавший с полуслова, идущий тем же курсом к тем же заоблачным вершинам!
В письмах Бонези называл Вольту братом во Христе, объяснял нужду в прощении грехов, уповал на божеское милосердие, рассказывал про индульгенции и папские буллы. Здесь было о чем поговорить: история религиозных дел длинна и поучительна, полна крови и «чудес», многозначительных намеков и прямых предсказаний. Речь заходила и про отца Вольты: «Он был отпущен, ибо признан достойным при опутавших его заботах». И он, Алессандро, если хочет сменить исповедника, то с какой целью? Ведь важно, не кто именно воспримет слова твоего откровения, а кому они предназначены. Почему бы не поговорить с матерью (она была чрезвычайно набожна)? Не лучше ли принять диктуемое старшими братьями, чем разжигать свои малообоснованные метания?
Прямо скажем, что ловец душ Бонези почти преуспел: мальчик основательно завяз в клейких нитях словесной паутины, искусно сотканной и умело преподнесенной. Если б кто-то мудрый со стороны помог Вольте в те трудные годы, когда он находился на распутье! И, о чудо, нежданно-негаданно помощь явилась, решительная и заинтересованная! В игру вступили… кто бы вы думали? Родственники! Вот парадокс, сами священнослужители, они приложили нечеловеческие усилия, чтоб удержать мальчика от вступления в свое религиозное сообщество!
Как же они мотивировали свои действия в столь абсурдной ситуации? Вот, к примеру, что писал из Болоньи старший брат Джузеппе (22 июля 1761 года), облекая свои предостережения в шутливую форму: «Ото всей души приветствую твое решение вступить в «Компанию Иисуса»! Это так непросто, ибо не до каждого доходит голос Господа. Но почему б тебе не выбрать какой-нибудь монашеский орден: капуцинов в туфлях на деревянных подошвах, францисканцев или других? Зачем бросаться на первое же предложение, опрометчиво посчитав свой выбор безошибочным?
Призвание — дело серьезное. А что у иезуитов? Разве что хором поют, но и мы не отстаем (брат — августинец). Зато мы неплохо углубились в свои орденские глубины, а они знают обо всем, но поверхностно.
Будь добр, черкни пару слов о твоих планах служения Всевышнему, останется между нами. Я-то желаю на завтрак иметь чашечку какао с сухариками в кафе рядом и, чтоб здоровье не страдало, побродить в охотку и вкусно поесть, а дома бочонок ликера. А уж там, подзаправившись, можно задать перцу черту, раз уж моя душа жаждет послужить Стоящему над всеми нами».
Можно представить, как кипел негодованием Вольта, читая столь циничные строки. Брат относился к святой службе как к выгодному ремеслу, но он-то, Вольта, истово верил в свое достойное предназначение. Как не любить своего братишку, весельчака и балагура, но тут он что-то перегибает палку, демонстрируя легкомыслие. Но Вольту не собьешь со своего конька, хоть и молод, но человек серьезный.
К тому же Бонези всегда рядом. Спокойно и настойчиво внушал он день за днем, что мы, простые итальянцы, всегда были гвельфами, то есть молились богу и поддерживали пап. Только захватчики или властители не стыдились быть гибеллинами, ибо светское им было дороже духовного. Они-то стояли за императоров. В этой то тихой, то бурной борьбе чуть ли не все зависело от нас, избранных и призванных самим небом. Мы всегда готовы к святому подвигу. Не какие-то лаццарони, бродяги, поведут народ за собой, скорее такие, как Савонарола неистовый. Впрочем, нет, пожалуй, как Ориген Александрийский, оскопивший себя для противостояния греховной плоти. Конечно, Савонарола мог проповедовать, но слабость веры сбила его на роковой путь борьбы с папами, за что он и поплатился жизнью. А вот Ориген был не простым монахом, а лидером, ведущим всех за собой. Ориген полагал христианство завершением античной философии, он смело вещал о множественности миров, воспевал астрономию и геометрию, читал ученикам поэмы.
Такие люди Вольте импонировали. В конце концов, этого плодовитого и просвещенного проповедника собратья все же обвинили в ереси, ибо он полагал троицу неравной, якобы «сын ниже отца»; он осмеливался говорить о знании как припоминании известного ранее, неправомерно возвеличивая бренный дух до высот, ему заказанных. Но стоило ли всерьез упоминать о столь легкой крамоле столь великой личности? И Вольта внимал: Наука и Дух — вот что его влекло, манило, притягивало. Стихи, вдохновение, понимание, страстность — ради этого хотелось жить…
Беседы и письма Бонези завораживали, но о них прознал дядя. По известным причинам он не мог не вмешаться, жестко и непреклонно он запретил Алессандро даже думать про орден. Юноша прореагировал болезненно, на время исчез из дому, прячась то у друга семьи падре августинца Магги, то у друга Гаттони. Однако мать Гаттони дружила с Вольта, Магги не решался конфликтовать с коллегами по столь малому поводу, а Бонези испугался скандала («решительно, но без огласки» — так гласили инструкции ордена), тайно встретился с Алессандро и убедил его вернуться домой, ибо «служить Господу можно везде, исполняя любое дело».
Бонези пришлось перевестись в другую коллегию, он уехал. А Вольта перенервничал, слег, перенес легкий инсульт. У него появилось время подумать над своей будущностью, а врачи предписали вести непременно спокойный образ жизни, впредь не перегружать психики отрицательными эмоциями, ибо в противном случае грозила «анафема святого Игнасио», что означало паралич. Срываться с цепи смертельно опасно — это Вольта понял навсегда; сдержанность, самоограничение, не взвинчивать себя, а успокаивать, помнить о слабом здоровье — таковыми стали непреложные правила поведения Вольты.
Из школы иезуитов мальчика перевели сначала в семинарию Бенци, потом в семинарию Санта-Катарина. Там серьезно изучали философию, но еще интереснее была физика, занятия которой приносили радость и спокойствие. Знать бы заранее, как забурлит позже этот тихий поток! К 18 годам бодрый юноша уже свободно владел французским и латынью, достаточно глубокими и прочными стали его знания по науке и искусству. Он проработал немало книг: и ученых трактатов (Мушенбрека, Герике, Нолле), и художественных творений (Мольера, Расина) — их страницы испещрены пометками юноши. Но до конца жизни Вольта уже не изменял физике, хотя ее содержание во времени менялось. Вольта старался не оглядываться на нерадостные странички своей биографии, словно боясь повторить ошибку Орфея, который себе на несчастье спугнул, обернувшись, тень любимой Эвридики на выходе из царства мертвых.
Избегай огорчений, избегай горестных воспоминаний — вторили врачи. Только вперед, к вершинам, без оглядки. А то будет как с женой Лота, которая при гибели Содома обернулась и окаменела от увиденного.
Можно считать, что у иезуитов Вольта получил классическое образование. Вольте повезло: ему удалось сойти с пути, который был предначертан человеку провинциальной закваски с правомерными претензиями на чин унтера. Однако житейские коридоры, до того служившие исправно, на этот раз вывели человека не туда, куда обычно, и этому искривлению курса видятся три взаимосвязанные причины.
Во-первых, историческое время иезуитов кончалось, в их адрес все чаще звучало «ambasso igesuitu» («долой иезуитов»), все меньше скрывалась брань, заслуженная многолетними делами инквизиции, уничтожением соперников, разглашением тайны исповеди. Во-вторых, юноша не мог не отдать дани критическим веяниям и настроениям, которым общество тех лет обязано энциклопедистам. Начиная с Бейля, Мелье и Руссо, продолжая призывы Дидро и Д'Аламбера, многие мыслители тех времен расшатывали идейные устои абсолютизма, феодализма и клерикализма.
Третьей же причиной измены Вольты институту церкви видится появление на смену старым богам богов новых — техники и науки. Зрели и появлялись расхожие идеи о приходе царства Знания, точного суждения и магматического доказательства. Молодой восторженный Вольта не миновал нигилистического водопада века, он всей душой бросился от архаичного некритичного верования к столь новому наукократическому культу, в силу чего и выбрал на будущее дорогу научную вообще и связанную с малоизвестной чудодейственной силой по имени «электричество» в частности.
Не стать ли поэтом?
Годы шли, но будущее Дело Всей Жизни никак не вырисовывалось. В монахи попасть не удалось, в математики не годился, в астрономы не хотел. Быть может, заняться поэзией, благо французский освоил еще в 13 лет, к 19 изучил латынь, к тому же склонность к плетению рифм налицо?
В 1762 году из Франции изгнали иезуитов, так почему бы не позволить себе немножко подшутить над религией? Вот, к примеру, как у Вольты получилась стихотворная сценка, в которой хорошенькая барышня решила примерить монашеские одежды:
Крошка знатная Анжела Хохотала, расшалилась. Порезвиться захотела — Словно в ящик нарядилась! И ужасно удивилась — Поплелась, как ревматичка, — К этому ль стремилась птичка?В годы юношества Вольты как раз вернулась мода на «бернеско» — особый пародийный жанр, начатый флорентийцем Берни еще в годы Возрождения, Вместо ходульного героизма рыцарей столь же возвышенно пелось про самое обыденное, причем следовало доводить дело до полного абсурда. Чем более противоречиво и нелепо, тем лучше! Подобные героико-комические сатиры позволяли высмеивать ханжей, тиранов, пап, завоевателей и всяких сиятельных дураков. Похоже, что поэтической дерзости Берни научился у Вийона, а потом сам открыл дорогу Беранже и Бернсу. Заочно, конечно!
Берни предпочитал писать терцинами, как Данте, но не это было обязательным. Главное, чтобы сохранялся насмешливый дух, когда сочетаются серьезное с легкомысленным. Не так ли строятся браки? Среди поэтических сонетов, загадок и шарад Вольты можно, к примеру, привести четверостишие о некой пастушке Кристине, которую сдуру занесло в чужую страну:
…По веткам первый луч скользит и скачет. Росинки пробуждаются от снов. На берегу ручья печально плачет Возлюбленная нимф и пастухов.Слов нет, Вольта-юноша перекладывает в строчки сахара, к тому же, явно склонен к сантиментам. Чуть глубокомысленнее оказалась маленькая поэма на французском языке, в которой Алессандро уподобил себя поруганному кусту роз, а родного дядю, запретившего пойти в иезуиты, отважно отождествил с себялюбцем, который кичится своей непрошеной благотворительностью:
Едва лишь розы нежно зацвели, Под солнцем лепестки бутонов раскрывая, Пастух вбежал как вихрь, едва взглянул, хватая, Из почвы вырвал куст и с ним исчез вдали. На клумбу в сад теперь цветок посажен, Здесь вдоволь влаги и уход налажен, Но ветви смяты, корень оборвался, И куст засох. Позер перестарался!Истинной пробой пера кажется композиции из 800 строк на латыни о временах года, которую Вольта произнес без единой ошибки, к радости родных и маэстро риторики, на первом же подходящем сборе в школе. Потом восемнадцатилетний юноша составил поэму на французском, в честь модного во Франции ученого-аббата по имени Нолле. Эти вирши для завоевания благосклонности адресата автор приложил к первому же письму на его имя.
Годом позже появилось лучшее Вольтово творение — латинская поэма в 492 строки гекзаметром. Экзальтированно и вдохновенно молодой поэт воспевал научные открытия Мушенбрека, Симмера, Нолле и Пристли в сфере электричества, потом переключился на рассказы о мануфактурах, минералах, огнях святого Эльма. Вот, к примеру, как звучал Вольтов стихотворный репортаж из мастерской стеклодела:
Вот замедляет вращенье керамика, амфорой ставши, И раскаленный сосуд остывает, тепло источая. Пламя погасло, гудеть перестал ослепительный факел. Кончился обжиг громоздкой, но вечно прекрасной посуды. Мысленным взором вглядись и увидишь, как в этом пылающем слитке Соки набухли из глины под твердым блестящим покровом; Словно враги налетели на пару возлюбленных нежных — Он заслонил ее грудью. Ужасны атаки, но тщетны.Так и брел Алессандро по стихотворной тропе под рукоплескания родных и знакомых, в новые мизансцены он входил спиной вперед, ноги шли по ходу времени, а голова оставалась в прошедшем. Слава богу, что не опрокинулся затылком на вновь проложенные мостовые, а о стихотворных перлах говорить не приходится. И то хорошо, что владел французским, латинским и итальянским достаточно уверенно, чтоб подбирать рифму без ущерба для смысла.
Вольту вдохновляли совсем свежие латинские поэмы хорвата Стойковича (1714–1800) о Декарте (1744) и Ньютоне («Стая», 1755), причем на второе произведение посчитал нужным сразу откликнуться латинскими же комментариями сам Боскович (1711–1787).
Этот физик еще застал в живых Ньютона (1643–1727), понял и начал пропагандировать учение о тяготении одним из первых. Какой парадокс! Мир услышал о великом Ньютоне из уст непримиримых антагонистов — отъявленного вольнодумца Вольтера и ревностного католика Босковича. Поистине в чем-то крайности сходятся.
Босковичу было что сказать о природе, но религиозная нетерпимость как его, так и его противников стала причиной недоиспользования талантов великого славянина.
Платить по религиозно-моральным векселям иезуиты станут позже, а пока, в 1760 году, преподававшего поблизости от Вольты Босковича осеняла научно-теологическая слава, а под влиянием внешних потоков информации и внутренних мотивов Вольте до зарезу требовалось узнать о Ньютоне абсолютно все, в чем и помогала историческая книга Босковича. Сведений о великом британце было еще немного, ибо звезда Ньютона ярко возгорится на научном небосклоне лет через 10–20, однако Вольта полусознательно-полуинтуитивно чувствовал, что напал на верный след. Потому что между тяготением и электричеством юному комовцу вдруг привиделось много общего. Эту жилу Вольта и бросился раскапывать.
До чего все же удивительна жизнь! Вот прозвучали имена Босковича, Лаграшка, Кондорсе, Фридриха — и все они чуть позже встретятся с Вольтой лицом к лицу, будут говорить с ним, обмениваться бумагами и письмами. Кто ж мог в семье Вольта мечтать о подобных встречах заранее?
Ранние приключения электричества.
В XX веке электромагнетизм девятым валом обрушится на естествознание, технику и медицину, а в годы Вольты эта наука еще лежала в пеленках. В истории электричества только начинался всего лишь третий этап развития.
Начало этапа первого, созерцательного, можно отнести к VI веку до н. э., когда легендарный купец Фалес (624–547) узнал, что к янтарному веретену пряхи льнут соломинки и пылинки. Столь осмысленное притяжение явно вызывалось чем-то из янтаря исходящим, что было естественно назвать душой. Строго говоря, вряд ли первым европейским электриком следует считать именно Фалеса, ибо он всего лишь выполнил функции «живого архива», передатчика знаний от предков к потомкам.
«Все полно демонов, — вещал Фалес, — надо всем царит необходимость», и вот железо потянулось к магниту водяными истечениями. Да, согласился Гилберт (1600), да, подтвердил Гегель (1800 г.: «Понятие души у Фалеса более приемлемо, чем сила, ибо сила как бы со стороны, а душа есть движение себя, одно и то же вместе с материей»).
Живым мостиком связал Фалес знания древних с новой наукой, и немного добавили потомки к древним кладам. Лишь через три века Теофраст приписал «янтарную душу» еще одному камню, линкуриону, и на этом первый этап учения об электричестве завершился.
Собственно, самого слова «электричество» еще не знали. Янтарь казался каменной разновидностью магнетита, довольно редкого минерала. По Аристотелю, Фалес говорил, что «магнетит имеет душу, ибо притягивает железо». Александр Афродисийский пояснял: «Эмпадокл говорит, что железо стремится к магниту вследствие истечений от них обоих…», а Платон как бы устами Сократа учил Иону распознавать «божественную силу… как в том камне, который Эврипид назвал магнезийским, а большинство называет гераклейским».
Вот и янтарь награждался душой магнитоподобной. Древние знали, что угорь может поразить солдата через копье, опущенное в воду (Плиний), что этот удар лечит от подагры (Диоскорид, Скрибоний), но никому и в голову не приходило, что янтарь и угорь порождают одно и то же. Электричество испокон веку жило рядом с человеком, сам человек и весь мир были полны электричеством, но кто ж мог знать об этом? Хваленые огненные стрелы Зевса — молнии, полыхающие на мачтах кораблей и пиках солдат огни святого Эльма, лучи света, да и все магнитное — всего лишь электричество, хотя и проявляющее себя в разных формах.
На первом этапе познания электричества оно еще покоилось в магнитном лоне, но вот полусонная регистрация случайно увиденного сменилась целенаправленной охотой. Электричество проклюнулось из недр магнитных, и родам помогал врач Гильберт, фигура легендарная, современник Галилея и Бэкона. Этап Фалеса уступил место этапу Гильберта, начавшемуся за два века до Вольты с некоего Фракасторо, поэта и философа. В своей книге «О симпатии и антипатии вещей» итальянский монах описал придуманный им приборчик — компас, но не с железной, а с серебряной стрелкой, которая неизменно поворачивалась к натертому янтарю, причем любым концом, бывшим к камню поближе.
С огромным успехом применил Фракасторов «почти компас» к «почти магнитным камням» Гильберт, медик английской королевы, ибо янтарные свойства обнаружились еще у десятков веществ, таких, как алмаз, берилл, сургуч, сапфир, стекло и сера, но жемчуг, мрамор, кость, металлы, как их ни три и как ни нагревай, не удалось наполнить силой притяжения.
Но дело даже не в раздутии списка. Янтарь был странным, но подобием магнита, теперь он стал главой у новых тел, которым дал особое название. По-гречески янтарь зовется «электрон», и тот же Гильберт отыскал четыре различия между магнитами и «электронами».
Но вот и парадокс истории: Фалес и Гильберт достигли столь многого, что становление ими электрических наук затмилось прочим. Их электрическое новаторство словно утонуло в волнах более эффектных открытий. Ведь Гильберт основал науку о магнетизме Земли, серьезно продвинул вперед знания о тяжести и огне. Оп намагнитил железный шар, и тот вел себя как глобус, как магнитная планета. Разве не гениально подобие маленькой и гигантской сфер, реализованное на практике?
…Электрический этап Гильберта продолжался еще чуть больше века, и его участниками стали Кабео, Доджби, Герике, Бойль, Ньютон и его лаборант Хоксби. Они освоили метод Гильберта, узнали чуть больше, осмыслили кое-какие частности. Но что же нового внесли в науку эти люди? Электрическое действие передается не только через воздух, но и пустоту (Бойль). Электризация не утяжеляет тела (Доджби). Трение стекла о ладонь «создает электрический пар, который, выскакивая из стекла, ударяет о палец столь сильно, что чувствуется удар» (Ньютон). Из заряженных тел выходят истечения (Хоксби).
Вот тут-то, на богатом опытном фундаменте, и начался третий этап познания электричества, когда электростатика (учение о неподвижных зарядах и их действиях) в основном завершилась, на что ушел еще один век. Как раз в это время родился Вольта, волею судьбы узнавший главных участников этого спектакля и сам активно присоединившийся к поискам электрических феноменов. Тогда 15-летний подросток еще не мог знать, что через сорок лет завершится тритий этап электрических наук, причем последний могучий аккорд, заодно открывающий новый путь в будущее, извлечет он сам.
К тому времени знания об электричестве настолько возросли, что можно было специализироваться во многих направлениях. Англичанин Грей, например, научился передавать электричество по бечевкам и металлическим нитям, изолируя их от опор шелком или волосом. Потом прославился француз Дюфе. Он все делал блестяще: до своей кончины в возрасте 41 года он успел позаведовать Ботаническим садом академии, который перешел к Бюффону в образцовом состоянии. Дюфе опроверг опытами убеждения многих, что электризация предмета зависит от его цвета. По примеру Грея он научился так электризовать людей, что из одежды сыпались искры, волосы вставали дыбом, а из пальца, приближаемого к носу, выскакивал столь мощный разряд, что присутствовавший при опыте аббат Нолле не на шутку перепугался. У Дюфе дети сидели на качелях и сыпали зерна голубям, а вместе с ними из рук лился искрящийся поток электричества. Даже Бозе, сам очарованный электрическими опытами, разразился упреком-двустишием: «Разрешено ль тебе, безумец, рисковать и с электричеством людей связать?»
Вечную славу Дюфе принесло открытие двух родов электричества — «стеклянного» и «смоляного». И до того о них знали, но впервые во всей своей обнаженности прозвучала простая истина: разнородные заряды притягиваются, однородные — отталкиваются. В нехитром этом факте кроются поразительные сюрпризы: «смоляной» заряд отгоняет такой же, стало быть, от одного к другому передается импульс, точь-в-точь как с брошенным камнем. Зато «стеклянный» заряд не оттолкнется от «смоляного», а притянется к нему! Камни-то из «смоляного» продолжают лететь, но теперь они уже не бьют, а притягивают? Множество чудес, на осознание которых понадобилось немало времени, завещал потомкам Дюфе.
Еще одно незаурядное свойство электричества Дюфе повторно открыл после Герике. К заряженному предмету нейтральные тела льнут, но, коснувшись, отлетают прочь. Сегодня мы объясняем явление двумя процессами: внутри тела заряды разделяются так, чтобы одноименные с предметом были подальше, а после касания предмет делится с телом своим зарядом. Во времена Вольты эти простые механизмы еще не были известны, их еще предстояло выяснить.
В те годы новые электрические сведения осмысливались, появлялись новые термины и новые инструменты. На смену стеклянным шарам пришли палочки, за ними диски, а натирали их уже не тканью, а кожаными подушечками. В университетах, дворцах и балаганах появился мощный конденсатор, изобретенный «на ощупь», без какого-либо понимания сути дела, и Нолле назвал его лейденской банкой по месту изобретения (впрочем, сначала банку, запасавшую электричество, придумали в Берлине).
В итальянских гостиных вошел в моду пикантный номер «дамы и чичисбеи». В полумраке появляется «ночная дива», она движется вдоль стены, волосы и платье чуть светятся, ибо она касается рукой провода. Вот появляется матрос-турок в шароварах и феске, он тоже светится ожиданием, однако его провод заряжен другим электричеством. Вот пара сблизилась, их одежды с хлопаньем рвутся друг к другу, разряд, и сценка гаснет под ахи зрителей.
Тогда же сам собой родился миф о чудо-лечении. Изобретатели лейденской банки Клейст и Мушунбрек первыми испытали удары зарядов, первый не захотел повторить ощущение даже за персидский престол, второй согласился страдать ради науки, а Нолле — тот даже попробовал убивать зарядами птичек. Поскольку в малых дозах и яд лечебен, за лейденские банки взялись медики. В 1744 году уже знакомый нам Кратценштейн из Галле разрядом излечил паралич пальца, потом Жильбер вдохнул жизнь в руку столяра, онемевшую от удара молотка. Публика застонала от ожиданий, все хотели бессмертия, на худой конец продления жизни.
Электрический бум пьянил, мир окрасился яркими красками и наполнился мажорными звуками. Вольта хотел, но не мог заняться всем сразу, однако про электротерапию он вскоре вспомнит, пытаясь замерить силу электрических ударов не телом, а неодушевленными предметами. Впрочем, кроме научных бурь, век просвещения добавлял вихри общежитейские. Свободомыслие, прожекты, либертинаж[7] — в молодости так кружится голова.
Загромыхали громы (то электрические, то политические) в заокеанской английской колонии, когда сначала Франклин потряс мир изобретением громоотвода, а потом колонисты вмешались в высшие материи, оспаривая божественное право короля стричь своих овец. Америка была так далеко, что смелые поселенцы возмутились запретами на производство железа, потом тканей и, наконец, на переселение на пустующие западные территории.
Эти волнения доходили до Комо слабыми газетными отголосками, а чуткий Вольта внимал им, хотя хорошо устроенная, прочная, но не очень богатая жизнь семьи текла своим чередом. К 18 годам юноша уже поучился в гимназии, что чувствовалось окружающими по высокой компетенции, манере говорить, изящному слогу и работоспособности, сменявшейся задумчивостью. Одним из плодов стала латинская рукопись с длинным названием «Трактат о чрезвычайно бурных ураганах, ночном мраке, светящихся кончиках алебард — Случай, записанный автором «Прекрасного африканца».
Юноша решился посвятить поэму знаменитости Парижа, аббату Нолле, доверенному лицу самого короля, великому демонстратору публичных электрических опытов, о которых говорила вся Европа: то содрогание разрядом цепи из 180 монахов, то убиение воробьев, то фейерверк искр из причесок и кринолинов придворных дам. Посылая поэму, Вольта приложил к ней свои рассуждения о лейденских банках, о необходимости разгадки свойств еще таинственной мерцающей электрической субстанции. «Что касается поэмы, — продолжал юноша свое письмо, — мне хотелось бы дополнить ее фактами из бумаг Цезаря и Тита Ливия, ибо они наблюдали свечения огней святого Эльма, про электрическую природу которых стало известно совсем недавно. Мне бы хотелось прочитать что-то новое об электрической основе разных небесных явлений, а кроме того, у меня есть некоторые соображения о сущности Смерти».
Трудно представить себе вельможу, который принял бы всерьез строки, продиктованные экзальтацией и свидетельствующие о намерениях, но не результатах. Вот почему пролетели четыре года, и Вольта еще писал в Париж через туринца-физика Беккариа, но хроники донесли до нас только письмо от Нолле, датированное уже 18 сентября 1767 года. «Будьте для меня, — писал парижанин, — пересылочной базой для книг на почтовом пути между Францией и Италией. На этот раз о том, что такое Смерть, не будем. На подобные темы не повредит поболтать потом, когда дела пойдут похуже. Пока же, слава богу, я еще здоров и совсем не дряхл, хотя и не так молод, как хотелось бы. Про Аврору, то есть утреннюю зарю, неплохо написал месье Раймонди, и притом достаточно сжато, чего Вы и желаете».
Эту книгу Вольта постарался достать, а заодно брошюру Мерана об истории изучения и физике северных сияний (Париж, 1733), где причиной явления называлось проникновение солнечной атмосферы в среды, окружающие земной шар. Того же мнения о северном сиянии, хвостах комет и зодиакальном свете держался Эйлер в трудах Берлинской академии (1746), но кое-кто из ученых уже начал догадываться о связи сияний с магнетизмом Земли.
Но пока следовало довести до конца переписку с Нолле, и Вольта решил открыть сокровенное: о возможной связи электричества и гравитации. Юноша еще не мог знать, что даже по форме законы Ньютона и Кулона тождественны, но он чувствовал, надеялся, предвидел и угадал: «Многого я еще недоделал, — писал Вольта о тождестве казавшихся разными явлений, — мне надо бы подумать про магниты». Циничный аббат отозвался. «Хорошо, любопытно, — одобрил он соображения мальчика, — но могут быть трудности с описанием явлений. Рекомендую работать и желаю успеха».
Намерения Вольты не удались, но насколько ж они смелы. Ведь гравитационное притяжение двух электронов в той же мере слабее их электрического расталкивания, как песчинка легче тысячи Солнц! Поистине Вольта безошибочно повернулся лицом к Главной Силе природы, руководствуясь лишь здоровой интуицией: магнитные силы, работающие в электрических моторах сегодня, много меньше электрических.
Вольта успешно вписался в поток искателей истины, он смело взялся за Ньютонову физику применительно к электрическим телам. Но он был так неопытен, еще так мало знал алчущий знаний юноша, удаленный от центров науки и мыслящих кругов! От замаха до удара далеко. Но и к Нолле (1700–1770) Вольта обратился не совсем по адресу и совсем не в то время. Во-первых, парижанин был всего лишь практиком, которому были никак не по зубам мировоззренческие проблемы. Во-вторых, как ученый Нолле как раз переживал личную драму. До 30-летнего возраста аббат был поглощен религиозными делами, затем выдвинулся чуть ли не в лидеры европейской науки и с 30 до 50 лет процветал, а оставшиеся ему 20 лет жизни залечивал раны, нанесенные его самолюбию светскими учеными, в первую очередь Франклином.
В науку Нолле буквально влетел вместе с духом свободомыслия как раз в тот год, когда секретарь Парижской академии Фонтенель так умно высмеял хрустальные небесные сферы в «Разговорах о множестве миров», которые якобы велись им с некой любознательной маркизой, причем ту же литературную форму не менее удачно повторно использовал через 30 лет Эйлер в «Письмах к одной немецкой принцессе», но уже не только о сферах, а о всех физических вопросах разом. Что касается Нолле, то он заявил о себе весьма весомыми сообщениями.
Особо эффектными показались светской публике опыты академика с электричеством. Нолле публично убил разрядом воробья; все желающие смогли понюхать «особенный запах» электричества (озон). У Нолле электричество стекало с заостренных поверхностей быстрее, чем с плоских. Всхожесть наэлектризованных семян горчицы увеличилась, а подсоединенные к электрической машине собаки мгновенно взмокали от пота. Нолле был всегда первым, даже в Венецию коренастый крепыш примчал мигом, услышав, что Пивати умудрился распылить душистое вещество из наглухо закупоренного сосуда, соединенного с кондуктором электромашины трения, однако сообщение не подтвердилось.
И тут привычный взлет сменился стремительным падением. Аббат принципиально ограничивал себя констатацией фактов, их опытной добычей и простейшим истолкованием. Никаких гипотез человеку предвидеть не дано, ибо божественное много выше людского разума! Вот типичное рассуждение Нолле: «Материя бесконечно делима только в мыслях, но не фактически, а потому и первое утверждение под вопросом».
С Нолле ситуация была тягостной. Франклин взялся за электричество позднее, только в 1746 году он перекупил у прогоревшего доктора Спэнса электрический кабинет, чтоб заняться любопытными опытами. Нолле уж ходил в «звездах», а тут какой-то самоучка из колонистов, 15-й ребенок из бедной семьи, в серии писем к Коллинзу в Лондон спокойно рассказал про электричество столь много «нового», что Европа переметнулась на его сторону! С острия электричество стекает легко, но ведь Нолле давно говорил про это! В опытах Франклина электричество текло по проволоке, воде, воздуху, но французы узнали об этом много раньше!
Причины коварной измены публики былому кумиру заключались в опале иезуитов и еще в том, что американских колонистов можно было освободить из-под власти извечных конкурентов-англичан. Даже король изменил своему верному академику, не желая натолкнуться на оппозицию среди придворных. Франклин легко подарил миру великую мысль о тождестве молнии и электрического разряда, предложив свести заряд из туч на землю по железному шесту. Напрасно Нолле издавал книги о вреде упрощения небесных тонкостей. «Вряд ли верно думать, — писал он, — что электричество бежит, как вода в трубе, а через острие выходит предпочтительнее. Наэлектризованное тело повсюду щетинится вытекающими лучами, и если его уподобить трубке, то вся она будет изрешечена маленькими дырочками».
Нолле протестовал. С тучами надо быть осторожнее, поучал он, публично обличая Франклина в новом двухтомнике «Письма об электричестве» (Париж, 1753). Заряд содержится вовсе не в стекле лейденской банки, совершенно справедливо предвидел Нолле, но эти тонкости могли подождать. Когда из банки сливается вода, заряд ее должен ослабнуть, но и это верное соображение было мелочью, к тому же спорной без тщательного эксперимента. В металлах электричеству удобнее, чем в воздухе, а потому оно не стремится покинуть своего убежища без принуждения — и эта разумная мысль требовала уточнения. Разве не трагедия, когда ты прав, но бесплоден, а другой не прав, но популярен и плодовит?
А невидимые словесные бои продолжались. Зачем сводить электричество на землю, взывали приверженцы Нолле, ведь удары молний убийственны?! Они рекомендовали отгонять электричество вместе с тучами! Но чем? — спрашивали франклинисты. Колокольным звоном? Однако он на тучи не действует; наоборот, высокие шпили словно притягивали молнии, которые изнуряли свои силы на церковных строениях, испепеляя звонарей и оплавляя колокола. Пальба из орудий? Еще Рихман успел проверить бесполезность сотрясений воздуха пушечными выстрелами. Молитвами? По католическому ритуалу колокола вот уж в продолжение тысячи лет освящали, надеясь на отгон туч ветром и отвращение огня небесного от заговоренных церквей. При вводе в строй храмов священники продолжали молиться, а молнии продолжали крушить колокольни, унося жизни служек.
Не могут ли помочь костры? Этим методом Вольта займется, когда будет постарше. Метод предков окажется хорош, но как угадать, где и когда разводить пламя, да и легко ль это сделать под дождем и ветром? Нет, совет Франклина был прост и легко выполним: коль отогнать молнию нечем, пусть она бьет в металлический шест, уходя по нему в землю. Да, страшный удар небес пройдет рядом с человеком, рядом, напугав, но не убив! Разве только повредив плохо устроенное заземление?
А надо ли заземлять шест? — полагал Вильсон из Лондона. Пусть он зарядится тучей, и одноименное электричество шеста оттолкнет тучу. Английского короля Георга III уверили в действенности именно таких незаземленных громоотводов с круглыми наконечниками, и он обязал своего лейб-медика, президента Королевского общества сэра Джона Прингла принять необходимые меры. «И по своему долгу, и по своим склонностям, — ответил дерзкий, — я по мере сил всегда буду исполнять желания его величества, но я не в состоянии ни изменить законов природы, ни изменить действия их сил». Понятно, что король пожелал почтить одного из американских бунтовщиков. Боль от недавней потери колонии была еще так свежа, но ученые лорды честно делали свое дело. В итоге Франклин получил золотую медаль Копли, взамен научив Прингла лечить электричеством паралитиков.
А Нолле? Все против него: колонисты, двор, английские агенты при французском дворе. Но он ожесточился, стоял насмерть, пытаясь отогнать нечестивцев от небесных чертогов. Против ученых разгорелась маленькая «контрреформация», и в 1769 году под ее ударами даже блистательный Бюффон по требованию богословов Сорбонны публично отрекся от идей, высказанных в томе 5 его «Естественной истории» относительно возникновения Земли и ее обитателей, поскольку эти идеи противоречили закону Моисея.
Упорство Нолле критиковалось многими. Из той же самой сутаны глядел уже не объективный ученый, а привередливый поп. Вот американец Колден публично подтвердил правоту Франклина. Его физические доводы не совсем справедливы, но свое дело сделали. Вот туринец Беккариа взял Франклинову сторону, укоряя француза за нетерпимость и слабость доводов, позже Кантон и Болтон в Англии признали правоту «посла колоний в метрополии». Партия Нолле — Франклин шла к концу, игра была сделана.
Свою драму Нолле не выставлял напоказ, только некоторые осколки от нее разлетались по городам и весям. Вольта был далек от тех мест, где гремели неслышные выстрелы и лились невидимые реки научной крови, до Вольты долетали слабые отзвуки сражений, по-молодости казавшиеся юноше безобидным звяканьем великаньих доспехов. Конечно, чуткое подсознание Вольты уж взвесило, что почем, и, быть может, уже продиктовало ему тот слабый заискивающий звук, который вкрадется в гордый, уверенный тон его письма. «Я позволю себе сослаться, — писал Вольта аббату, — на опубликованные Вами работы, из которых следует поразительное заключение: причины и феномены электризации тел логически проистекают из закона тяготения Ньютона. По этой причине, что естественно, изучение электрических явлений весьма затруднено. И все же, как я заметил, другие физики уже пытаются идти по пути этой аналогии, и тем самым они в состоянии обратить на свою пользу те идеи, которые заслуженно составляют вашу славу и честь».
Вольта уже мысленно вписался в научный поток, он жил наукой и ее страстями, он жаждал думать и познавать еще неведомое. Нет, ни в какие драки ему ввязываться не с руки, он будет сотрудничать со всяким, кто идет в ту же сторону, ибо «Nam sine doctrina vita est quasi mortis imago» («Без науки жизнь смерти подобна»). И все же отчего Вольта выбрал именно этот путь, а не другой? Ведь в юности так много светляков, что истину они туманят ложным светом…
Хватит думать, пора работать!
До наших дней в центре города все еще высится древняя крепостная стена, окруженная старыми вербами и кипарисами, среди которых уютно разместились обычные четырехэтажные жилые дома. Эта стена высотой метров в десять сохранилась в Комо еще с античных времен, когда она считалась фортификационным сооружением. Но уж давно на ней не стояли лучники, арбалетчики или дозорные, и потому в глухой башне Сан-Пьетро подростки Вольта и Гаттони облюбовали себе несколько камер, устроив в них маленький лабораторный зал, где они и поставили первые опыты по физике.
Там было много чего: падающие и скатывающиеся шарики, струйки воды, бьющие вверх и в стороны, тазики с лодочками и звучащие рупоры. Конечно, не было никаких приборов, только шелковые ленточки, куски смолы и серы, стеклянные банки, деревянные брусочки, листы жести и железные проволоки.
Любительские эксперименты Вольты небыстро, но все же двигались вперед: он умел доводить любое дело до конца. Главной помехой было здоровье, ибо «дьявол продолжал вредить, Волнами накатывало плохое самочувствие, болели зубы, кружилась голова, мучила бессонница. В чем только душа держалась» (Гаттони).
Все же жизнь дана, чтобы жить, и Вольта ею пользовался щедро, хотя и с оглядкой. Когда ему исполнилось 20 лет, родственники в голос заявили, что шалопайничать хватит, хватит играть в бирюльки, хватит фантазировать и бредить с этим цыпленком Гаттони. Положение семьи таково, что пора работать и зарабатывать. Дядя по матери, Стампа, обычно оформлял свои решения письменно, и тут поступили так же. После многих попыток родился неофициальный семейный документ с доводами о необходимости попасть в какую-либо коллегию специалистов, например, стать доктором юриспруденции, как было принято во многих благородных семействах. Свободные денечки кончились. В дом зачастили маэстро, учившие грамматике, философии, архитектуре, среди них были люди разные, от светил до проходимцев. Уже придумали вывеску нотариуса (так хотел дядя) под именем «Карло Порта», уже изготовили печатку, однако, поразмыслив, одумались. Какой там нотариус в захолустном Комо?
Потом решились повесить на улицах и на рынке вывески с изображением умного молодого человека: он держит в руках маленькую лейденскую банку, из нее бьют искры, а чудак рядом приседает со страху. Этот дурацкий рекламный проект появился после прочтения какой-то бульварной газетки из Милана: некий ученый со смешным именем Кавалло («жеребец») приматывал поясом себе на живот лейденскую банку, а от нее тонкий проводок подсоединялся к металлическому кошельку, лежащему в небрежно оттопыренном кармане. Изображая пьяницу, весельчак брел на рынок, а там первый же воришка-простак вместо добычи получал такой электрический удар, что толпа давилась от хохота.
Но тут проявил характер Алессандро. Он решительно отказался становиться банкиром, нотариусом, врачом, демонстратором чудес. Среди семейных фантасмагорий юноша остановился на науке. Ведь еще Платон делил философию на диалектику (теорию познания), физику (учение о природе) и этику (законы поведения). Выбор Вольты пал на физику.
Конечно, и после Платона было к кому прислушаться. Аристотель, к примеру, толковал о науках теоретических, в том число метафизике, математике и физике, науках практических (этике, политике, экономике) и науках технических, то есть строительстве, изготовлении мельниц и одежды. Здесь выбор оказался сложнее: хотелось совместить физику с техникой, тем более что прошли времена, когда физика была чистой теорией, и уже родилась физика экспериментальная.
Опять же почти современник Френсис Бэкон классифицировал науки совсем по-другому: к наукам памяти он относил историю, к наукам разума — философию и естествознание, к наукам воображения — поэзию и другие искусства. Тут буквально напрашивался новый, еще никому не известный симбиоз естествознания и поэзии. Впрочем, уже были Фалес, Эмпедокл и Лукреций, но идти за этими безбожниками себе дороже.
В конце концов, порешили на физике. Но тут вмешалась мать и со смехом прочитала кое-что, прямо относящееся к делу, из «Мещанина во дворянстве» Мольера: «Журден: А физика — это насчет чего? Учитель философии: Физика изучает законы внешнего мира и свойства тел, толкует о природе стихий, о признаках металлов, минералов, камней, растений, животных и объясняет причины всевозможных атмосферных явлений, как-то: радуги, блуждающих огней, комет, зарниц, грома, молнии, дождя, снега, града, ветров и вихрей. Журден: Слишком много трескотни, слишком много всего наворочено».
Ничего смешного, восстал Вольта, хоть пьеса написана ровно 90 лет назад, но и сегодня все эти темы исключительно актуальны. А Мольер, то есть Жан Батист Поклен, — молодец и умница! Сын обойщика, но не зря учился в Клермонтском коллеже и Орлеанском университете. В его словах нет никакого юмора, все здесь — чистая правда. Так что и самому Мольеру, и аранжировщику композитору Люлли совсем не стыдно было играть, когда они выходили актерами на сцену в столь умной пьесе перед самим королем! Здесь не физика смешна, а невежа Журден!
А пока суд да дело, юноша взялся за охоту, чтоб кормить себя дичью. В компании с молодыми людьми: Джовьо, Рейна, Цигалипи, Рива, Мугаска и Ровелли — он бродил по лесам, карабкался по холмам, а временами изображал на чьей-нибудь вилле заседания «Академии канапе», где давал волю языку и мечтам о науке. Тем более что к услугам компании всегда была роскошная библиотека графа Джовьо.
И все же беззаботная юность кончалась. Со всех сторон света приходили вести о замечательных научных открытиях. Вот, к примеру, поток новостей из далекого северного Петербурга: российского ученого Ломоносова в 1760 году избрали в Шведскую академию и заодно в свою собственную Академию художеств. А через год весь ученый мир с интересом наблюдал за прохождением Венеры по краю Солнца (конечно, в проекции для глядящих с Земли!), и снова всех удивил Ломоносов: он заметил на краю планеты «пупырь, в коем рефрагировали солнечные лучи», что прямо свидетельствовало о воздушной атмосфере Венеры!
В 1702 году снова масса новостей: в России умерла Елизавета, воцарился Петр III, которого сразу сменила жена, назвавшись Екатериной II. Но это невероятно далеко, а вот событие поближе: из-за плохих ассоциаций австрийские власти не поощряли, но и не очень препятствовали празднованию шестисотлетия давней миланской трагедии. Во второй итальянской войне Фридрих Барбаросса срыл город до основания, а после устранения его с лица земли засыпал землю солью, чтоб перестала рожать. То ли соль удобрила землю, то ли гнев захватчиков оказался слаб для итальянцев, но ничего, люди заполонили разоренное место, и зелень разрослась снова.
В следующем году окончилась наконец Семилетняя война. Франция лишилась Канады. Английский король пытался сдержать экспансию своих колонистов в Америке, запретив им селиться за Аллеганскими горами, а через год обложил гербовым сбором все колониальные операции. Пришли вести из Франции: не дожив до сорока трех лет, скончалась маркиза де Помпадур, а опечаленному Людовику XV придется мыкаться без своей спутницы еще лет десять. Тогда же в «Ученых Флорентийских ведомостях» промелькнуло сообщение об избрании все того же Ломоносова в Болонскую академию за прекрасное мозаичное панно о Полтавской битве (март 1764 г.), но уже через год пришлось отправлять из Каррары мраморное надгробие рано усопшему северянину.
В том же 1765 году смерть посетила австрийский правящий дом, тем самым затронув покоренную Ломбардию и ее жителей: скончался Франц I Стефан, соправитель Марии-Терезии и германо-римский император. Отца сменил сын Иосиф II, а мать еще полтора десятка лет продолжала владычествовать, оглядываясь на свою тезку Марию-Терезию из прошлого века, французскую королеву, дочь испанского короля Филиппа IV. Давняя Мария-Терезия славилась своим Аахенским договором от 1668 года, когда Нидерланды официально отошли к Испании, и законом о престолонаследии, как раз спровоцировавшим теперешнюю войну за австрийское наследство.
В 1766 году новые потрясающие известия. Швед Боргман издал книгу про геологические функции моря, волны которого медленно, но неотвратимо сформировали облик планеты своими напластованиями. Понятно, что автор и его последователи сразу получили прозвище «нептунистов». И на суше бушевали страсти: Франция категорически отказалась впредь величать Екатерину II императорским величеством, ибо этот титул оказался нужен в Париже. Еще интереснее звучало сенсационное сообщение: в Англии сэр Кавендиш якобы открыл флогистон, мифическое горючее вещество. Ученый собрал «горючий воздух», выделившийся из металлов, залитых кислотой, поджег его, и тот замечательно сгорел. Через 20 лет Лавуазье назовет этот газ гидрогеном, то есть воду рождающим (водородом).
Но какое странное повторение одних и тех же имен: еще Гильберт сиживал в кабачке «У хэмпширского двухголового барана» вместе с легендарными «пиратами ее величества» Френсисом Дрейком и Томасом Кавендишем.
И вот теперь Генри из той же династии беспокойных лордов-искателей: нелюдим, результатов своих трудов не печатал, экономил каждую минуту, отдавая команды прислуге с помощью знаков, чтоб не мешать процессу своего мышления.
В 1768 году Вольта много поработал и головой, и руками. Вдвоем с Гаттони они изучали теоретические трактаты, ладили приборчики и ставили опыты. Сенсацией года среди жителей Комо стал первый в городе громоотвод, который друзья смонтировали на шпиле башенки родного дома Порто-Нуове. Вот так Вольта, судачили соседки, такое видим в первый раз! (Quel tale Volta, per la volta).[8]
В плохую погоду под действием полученного шестом электрического заряда начинал звонить колокольчик, приделанный к громоотводу по способу, указанному Франклином. Инструмент с трезвоном назвали «метеорологической гармоникой», ведь на нем наигрывало само небо. А Вольта еще больше заболел желанием получать информацию о погоде, научив природу говорить понятным для себя языком. На звон выходили жители соседних домов, с удивлением слушали сигнал, а друзья с башни смотрели и радовались вниманию, которым пользовалось их изобретение.
Что касается Джулио Чезаре Гаттони, то он телом не вышел: мал, куриная грудь, глазки совиные. Он боготворил своего длинноногого друга-красавца, служил ему Санчо Пансой, во всем помогая, прислуживая и ссужая деньгами. Этот странный человек обожал антиков, со своими щеголял красноречием, с посторонними замыкался, хотел быть со всеми внимательным, но легко раздражался, крайне тщеславен и обычно вздорен. Всегда у него куча идей, говорлив, перевозбужден. По темпераменту холерик, несамокритичен. На фоне этого бурного потока активности, спонтанно включавшегося и внезапно замолкавшего, Вольте пришлось научиться умению выуживать рыбу в бурных мутных водах.
А Гаттони Вольтой восторгался, ведь «он даже дьявола не боится и будто заранее знает, что и когда делать». В одной своей мемории про возвратный огонь, написанной много позже, Гаттони больше писал про друга, чем про электричество, про «брата, имя которого простирается над миром. Вольте нет равных, — восторженно славословил друг, — а в его семье просто не поняли, что у них родился гений такого же калибра, что Нолле, Франклин, Прингл или Магеллан» (речь шла о физике из Англии, а не о знаменитом португальце, три века назад первым проплывшем вокруг земного шара).
Крестьяне были уверены в необыкновенности Вольты. Тут не без колдовства, шептались они, только стоит парню открыть одну из своих заумных книг, как со страниц выскакивает сам черт и дает команды, а Сандро приходится их выполнять. Этому дуэту никто не может помешать. Взгляните, как сосредоточен этот любимец судьбы при работе, ему приходится платить дорогой ценой, он даже забывает про друга-мецената рядом.
Между делами Вольта еще раз написал в Париж, но Нолле не ответил. Это письмо стало последним, аббату оставалось жить чуть больше года. Не ответил и Гесснер из Дрездена, но по другой причине.
Дело в том, что, восхитившись латинской поэмой Гесснера «Смерть Абеля», Вольта рискнул написать автору, не будучи ему представлен. «Я мог бы перевести ваш шедевр с латыни на немецкий, — писал юноша, — если вы согласитесь и пришлете экземпляр. Я еще не Милтон,[9] и восхищаться собой мне рано, но я бы смог сделать перевод на французский, а потом и на итальянский. Если вас не пугает, что я пишу вам из глуши, то дело только за присылкой книги. Пока мы говорим о немецком переводе».
Гесснер не ответил. Поэт не нуждался в помощниках, к тому же непрошеных: он издал поэму еще в 1758 году, на французский ее уже перевел Губер, а на итальянский — аббат Перини. Вольта опоздал, что неудивительно. Удивительно, что он не захотел с этим смириться. Вот гримасы истории: Гесснеру мы обязаны тем, что Вольта стал физиком, а не литератором-переводчиком.
Как раз тогда близилась к завершению первая эпистолярная диссертация Вольты «О притягательной силе электрического огня и феноменах, ею вызванных», адресованная патрицию Беккариа, профессору математики в Королевском университете Турина. Типографы комовского епископата уже набирали текст, под общий переплет попала и диссертация, и переписка с падре. На обложке красовалось латинское название труда, а рядом с ним веточка мимозы с двумя цветочками (символ природы и ученичества), тетрадь и медицинская трубка (символ учености).
Еще чуть-чуть забот, и 18 апреля 1769 года можно будет ехать в Турин. Там мимо палаццо Реале и церкви Сан-Фелипе Нери к университету. Здесь встреча со спокойным человеком в сутане, с белым воротничком, всегда приветливым и умиротворенным. А вечером вокруг палаццо Мадама к оживленной площади, в театр Альфьери. Уж оперу-то Вольта заслужил. Оставалось каких-нибудь два месяца и ученый свет увидит его первую научную работу. А пока впереди день рождения! Подумать только, прожил 24 года, и хоть что-то ощутимое подержать в руках. Университета не кончал, никаких дипломов о получении специальности, даже содержат пока что родные.
Конечно, он вырос и сформировался. Многое знал и немало умеет. И все же серьезно Вольта припозднился с началом самостоятельной жизни. Успеет ли теперь? Неужели время утеряно безвозвратно?
Глава третья (1769–1781). ПРЫЖОК ИЗ КОМО
Кончилось время брать, пришло время отдавать. Вот Вольта издал первые научные труды во славу столь модного тогда электричества, и граф Фирмиан великодушно уступил способному новичку заведование физическим кабинетом в школе Комо. Вот Вольта изобрел электрофор, и ученые Европы дружно продублировали новый источник электричества. Вот появляются газовые приборы (лампа, зажигалка, аркебуза) — так Вольта сообщил миру первый импульс в сторону будущей газификации. Вот Вольта изумительно разобрался в процессах сообщения заряда разным предметам, последовало предложение создать первую линию электропередачи, заработала «громоносная машина». По трудам и вознаграждения: командирован в Швейцарию, избран в научные общества Цюриха, Мантуи, Лондона, появилось множество коллег и знакомых. «В университет Павии назначен новый профессор, этот Вольта един в трех лицах: умело учит молодежь естественным наукам, большой дока по электричеству, а его работы по газам замечательны» (Розье).
Признан великим туринцем!
Если бы мысли об «электрическом огне» сами могли светиться, то историки увидели бы, как в Англии продолжал в начале XVIII века сиять Гильбертов огонек, — это Хоксби научился электризовать стеклянные шары, натирая их тряпками. Потом и сам Ньютон заразился интересом к удивительным электрическим танцам бумажек и загадочному свечению кошек, поглаживаемых в темноте.
Потом пламя электрических знаний переметнулось во Францию: Дезагюлье, Дюфе, Нолле в первую треть века получили и осмыслили много нового. Вот Винклер, Планта, Ингенгоуз и Рамсден к середине века превратили натираемые шары в надежно работающие дисковые машины трения, а лейденская банка Клейста и Мушенбрека еще больше закрепила славу обстоятельного практицизма германских инженеров. Потом электрическую эстафету подхватили россияне (Рихман, Ломоносов), американцы (Франклин), итальянцы (Беккариа).
Сейчас о пьемонтце Беккариа мало кто слышал, а тогда, в середине XVIII века, он был научной звездой, притягивавшей к себе лучших из лучших. Начал он с геодезии и математики, в 32 года (1748) стал профессором физики в Туринском университете, а через пять лет выпустил в свет лучшую для того времени книгу об электричестве, упрочившую его высокое реноме. Скромный Беккариа был отрешен и важен, на плохоньком прижизненном портретике выглядел озабоченно, думал о чем-то то ли земном, то ли небесном, придерживая рукой дисковую машинку трения и лейденскую банку.
Славный Беккариа был на диво плодовит, его находки многочисленны и по форме просты. Про геодезию и гидравлику говорить здесь не место, но вот… Отчего-то нынче бытует мнение, что о законах электрических цепей узнали только после открытия тока. Ничего подобного, Беккариа прекрасно обошелся искрой! «Металлы, — писал туринец, — все же оказывают некоторое сопротивление, пропорциональное длине пути, который пробегает в них искра» (1753). Разве не видится здесь будущий закон Ома, потом уж подготовленный опытами Кантона, Дэви и Кавендиша, но начатый Беккариа?
Или еще. Он смог восстановить искрой металлические «земли»: сурики, свинцовые белила, цинковую золу (1758). Граф Милле подтвердил — да, Каде и Бриссон заявили — нет! Это, мол, провода плавятся. Через 30 лет Ван Марум снова сказал «да»: если сурик набить в полость проводящей трубки, то сторонним каплям металла взяться неоткуда! Потом уж, в следующем веке, при появлении вольтова столба споры стихнут, но за полвека и про Беккариа забудут!
Совсем уж сенсация! Еще Франклин намагничивал иголки и перемагничивал магниты разрядами банки. Повторив опыты, Беккариа прямо заявил, к восторгу соплеменников и чужеземцев (Пристли, например), что магнетизм порождается электричеством (1758)!
Кроме того, Беккариа опытами доказал, что облака заряжаются чаще положительно, реже отрицательно. Вслед за Стекли и Бином заявил: потенциалы земли и атмосферы выравниваются землетрясениями. Раньше Эпинуса показал, что емкость конденсатора растет, но по-разному, если между обкладками вложить сургуч, серу или смолу. Полый и сплошной кубики притягиваются одинаково, учил профессор, стало быть, электричество на поверхности (1753).
Последнюю идею Беккариа умело воплотил в жизнь, построив «электрический колодец», из полости которого нельзя было зачерпнуть ни капли электричества. Мало того, наэлектризованный пробник целиком отдавал заряд, случайно коснувшись стенки в полости. Любопытно, что через 70 лет колодец Беккариа вырастет в цилиндр Фарадея, где англичанин мог безопасно сидеть, хотя с наружных стенок наряженной клетки сыпались искры. А еще через 96 лет колодец-цилиндр станет огромным шаром высоковольтного генератора Ван-де-Граафа.
Естественно, что Вольта всей душой стремился в Турин к столь ученому мужу. А тот, ко всему прочему, был человеком сострадательным, полагавшим всепрощение стержнем веры. Потому, став профессором, он взял в обучение 12-летнего мальчика, француза Лагранжа, которого опекал еще в школе Пия. Родился мальчик в Турине, где осели его богатые родители, но они тут же разорились, и падре Беккариа распростер над способным французо-итальянцем свою благодать. Шутка ли, в 17 лет юноша уже преподавал математику в туринской артиллерийской школе, а в 30 лет Д'Аламбер уже рекомендовал Лагранжа, члена Берлинской академии, в ее президенты!
Заманчиво было бы повторить тот же путь, а для этого надлежало всего лишь попасть в ученики Беккариа! В своих способностях Вольта не сомневался, отца не было, мать-графиня небогата, чего ж еще? К тому же люди снова заговорили о падре Беккариа и его младшем брате Чезаре, который публично призвал мир к милосердию. Не судите, да судимы не будете! Не казните виновных, ибо не вами дана жизнь! Не конфискуйте имущества, ибо одна рука отстаивает справедливость, другая ж плодит нищету и озлобление! Лучше предупредить вину словом и делом, чем, упустив события, карать за них, ибо себя караете за попустительство и бесконтрольность!
О долге пастырей светских и духовных, об овцах заблудших страстно и вдохновенно вещал Чезаре Беккариа в «Преступлении и наказании». Над книгой лились слезы раскаяния, души очищались участием, сердца людей воистину содрогнулись, и труд туринского юриста краеугольным камнем лег в основы уголовной юриспруденции во многих странах. Даже далекая Россия, столь склонная к самобичеванию, испытала непереносимый приступ сострадания. Разве не в Турине надо искать истоки романа Достоевского под тем же названием, что и труд младшего Беккариа? Берешь в руки роман: ба! Да ведь Сонечка Мармеладова и есть словно родная сестра братьям-итальянцам с их кротостью, только век спустя!
К нему, к падре Джованни Беккариа, указывал перст растроганных и умиленных комовских родичей Вольты. Там, в Турине, найдет наше возлюбленное чадо руководство в электрических и духовных занятиях разом! Первое письмо желаемому руководителю юноша послал еще в 1763 году, подробно изложив свои мысли о различиях между электризацией смолы и стекла. Нам-то известно, что знак заряда во многом зависит от натирающего предмета, но обычно смола захватывает, а стекло отпускает часть электронов (минус и плюс соответственно). Тогда микромеханика зарядки была неизвестна, мысль блуждала около скрытой правды, то оступаясь, то опираясь на немногие известные факты.
А через год последовало новое письмо с извинениями за назойливость и объемистость пересылаемого меморандума. Падре ответил («Не ограничивайтесь предположениями, нельзя миновать экспериментального поиска»), дополнив советы просьбой: «Шлите копии работ, если придется печататься». Юноша возликовал, его компетенцию признал сам великий Беккариа! Надо было готовить публикацию, а пока в Турин пошло письмо с описанием опыта по электризации шелка. «Надеюсь применить шелковый цилиндр в электрической машине», — писал юный физик (2 апреля 1765 г.).
С тех пор Вольта и Беккариа обменивались письмами нечасто, но регулярно. Первый искал консультаций, рассказывал о канониках Вольта, братьях и дядях, фамилии которых были известны в церковных кругах; благодарил за разъяснения и доброжелательность. Второй слал копии статей, советовал поставить по ним опыты, излагал свои суждения о физике электричества. А в итоге в свет вышла первая научная работа Вольты. И не просто публикация, а диссертация в письмах.
Предметом размышлений стали не совсем новые, но еще загадочные факты. Еще Грей и Франклин говорили про электрические атмосферы, одеялами окутывающие заряженные тела, так что подносимый предмет, погружаясь в эту невидимую оболочку, якобы воспринимал ее состояние. Казалось, что опыты Кантона подтверждали подобные взгляды, но оказалось все наоборот — Вильке перевернул до того ясную картину вверх ногами. В электрической атмосфере тело получало другой заряд!
Теперь в игру по угадыванию истины включился Эпинус, старший друг Вильке, тоже сын пастора, тоже учившийся в Ростоке и Берлине, где они вместе делали опыты, тоже ставший академиком, но не в Стокгольме, а в Петербурге. В солидном труде «Теории электричества и магнетизма, основанные на опытах» (175У) Эпинус отринул гипотезу об атмосферах и примитивном зачерпывании из них предметами, будто половниками. Нет, сказал физик-мыслитель, в предмете два скомпенсированных заряда: одноименный убегает, разноименный притягивается и остается!
Электростатической индукцией занимались и в Италии. Чинья, например, заряжал шелковую ленту, подносил к ней свинцовую пластину, из нее пальцем извлекал искру, а заряд другого знака оставался (1766). Многократно повторяя ту же операцию, можно было зарядить лейденскую банку!
Опыты родственника отвлекли Беккариа от гидравлики-геодезии, он «вспомнил» свои электрические экзерсисы, но на этот раз оплошал, уйдя от привычного надежного эксперимента в зыбкую теорию и опрометчиво выдвинув странный тезис о «местоохранном электричестве». Мы-то знаем, что при касании двух тел с разными зарядами следует разрядка и при размыкании тел они остаются нейтральными. Беккариа же утверждал, что при разъеме тел их электризация восстанавливается!
Смешно, но он был абсолютно прав. Его тела были обмазаны смолой, при касании тел электроизолированные заряды слиться не могли, а поля пластин исчезали, вновь разделяясь при разъеме тел. Достаточно, впрочем, чтобы только одна пластина не теряла электричества, на другую набегал заряд со стороны!
Эта простая картинка событий тогда еще не совсем была ясна, но Вольта твердо знал, что при касании разнозаряженных пластин электричество фактически исчезает, хотя и может навестись вновь только благодаря индукции. Тут-то он и восстал: «Местоохранному электричеству» нет места!» — отважно исправил юноша метра. Да, у Вольты были регистраторы заряда, он был отлично подкован чтением книг Эпинуса — Вильке. А Беккариа что-то замешкался, он не заметил, что пластины (или одна) не разряжались, но, теряя уверенность, цеплялся за свою теорию «постоянного самовосстановления электричества». Но и у Вольты ошибок не было, так что со стороны объективного туринца поддержка была гарантирована.
Диссертация Вольты состоялась. Мудрый Беккариа переключился на проводимость металлов, на экранирующие качества своего колодца, охраняющего полость от электричества снаружи. Мало ль дел у экспериментирующего профессора? Контакт с Вольтой расстроился, тот получил нужное, только через пять лет он снова написал Первому Учителю, ибо «этап Беккариа в биографии Вольты» кончился, как иногда пишут биографы.
Теперь-то, изрядно отстранившись от тех событий во времени и в пространстве, понимаешь, что это была игра льва с львенком. Старый рычал спокойно, молодой взвизгивал от нетерпения. Беккариа в частном хотел опереться на общее — ведь ничто в мире не пропадает, в том числе и электричество, лишь группируясь по-новому. Философски старик был прав, но он не нашел простых слов для описания простого эффекта. В общем плане, говоря про исчезновение, юноша заблуждался, но в мире царствует тактика, а не стратегия, Вольту понимали все, Беккариа мало кто. Два поколения — два разных мира со своими ценностями, со своими словами. Как чужеземцы, они толкуют о своем, не понимая друг друга. Как глухие, они тянут свои арии, не слыша друг друга. Все же, что ни говори, львенок кусался неплохо, у него выросли острые зубы, как же доброму пьемонтцу не поддержать задиристого, но быстро матереющего молодого ломбардского зверя, который так и рвался в бой?
Неистовый Лазарь.
Ближайшие семь лет (1769–1775) пролетели под знаками старой дружбы, новой науки и поисков службы. Давнее знакомство с графом Джовьо выдержало проверку временем, в октябре 1771 года завязалось многозначительное общение с юной донной Терезой Чичери ди Кастильоне, которой нравилось почтительное обращение «мадам».
А еще был нужен новый метр, и Вольта точно орел вглядывался в возможных кандидатов, пока не упал камнем на «гиганта», как он его однажды назвал, — Лазаро Спалланцани. Притом же и дорога к нему недальняя: не Пьемонт, даже не соседняя Ломбардия, а совсем уж близкая Павия с ее университетом.
Недостатков у Спалланцани хватало: горячность, репутация чудака. Еще хуже был позорный разгром, учиненный аббату эпигенетиком Вольфом дюжину лет назад. Но в том ли дело? Имя Спалланцани известно каждому, известность — сила, она-то и нужна молодому искателю.
Подумав, Вольта все же обратился к «бешеному Лазарю», выбора не было. «Разрешите посвятить Вам свой научный труд «О новой простейшей электрической машине, удобной для проведения опытов»?» — попросил молодой человек, и Спалланцани милостиво согласился, хотя в электрических машинах не понимал ничего. Но кто их тогда понимал?
Аббату льстило, что молодой, гордый и грамотный гнет перед ним выю, а Вольте того и надо. Сначала он презентует павийцу несколько экземпляров еще первой работы (вот, мол, какой высокий класс!), потом посвящает новую диссертацию (со всем почтением!), а потом приносит в дар ту самую машинку, о которой шла речь.
В этой рукописной диссертации уже нет голых умозрений, только факты. Как влияет на электризацию сферы ее обмазка глиной, смолой или лаком? Зависят ли электрические качества палки от нагрева, окраски, упругости? Какое электричество лучше: полученное трением, ударом, сжатием или надпиливанием? Много позже Фарадей продолжит эту работу и повторит выводы Вольты: (все они одинаковы!). Наконец, гвоздь диссертации — дисковая машинка трения, хитрость которой в ее полной древесности! Стойки, диск, ручки — все древесное, обточенное, промасленное, отшлифованное и отлакированное, даже в масле пропаренное, ничего, кроме древесины! «Надо ж, — ахали люди ученые и неученые, — искры из дерева! Неужто в дереве скрыт электрический огонь?» — «Подождите, у меня и вода загорится», — ронял довольный самоучка, даже не подозревая, насколько скоро его пророчество сбудется.
О Вольте заговорили не только соседи и родные. А тот упорно, но ненавязчиво гнул свою линию: вот к Спалланцани уходит письмо с восторгами относительно великолепной «Истории электричества» Пристли, которую хорошо б перевести; через год следует почтительная просьба проконсультировать, как отрастают оторванные члены у земной саламандры. Тут-то Спалланцани знает, что ему кое-чего известно, и готов поделиться: они ж едят друг друга, эти ночные водно-лесные каннибалы! А собака, ненароком укусив саламандру, гибнет от белого подкожного яда с запахом муската!
«Любитель-зоолог» Вольта непринужденно разыгрывает свою партию. Как бы только ускорить бег событий, очень уж мал темп? И вот в Англию уходит письмо: итальянец рассказывает Пристли, как выжимать электричество из дерева, как наделить этериэлектрики (диэлектрики) свойствами идиоэлектриков (металлов). Пристли из Лидса благодарит, расспрашивает про детали опыта и конструкции. Вольта в ответ делится своими мыслями о смоле и стекле, дающих то одно, то другое электричество.
А Пристли делится новинками по «воздухам», ибо во многом пневматика вот-вот разродится удивительными открытиями. Но это ж чудесно, радуется Вольта, сфера занятий расширится, вырастут возможности, скорей бы только вероятное превратилось в действительное! Уж двадцать восемь, а жизнь лишь тлеет, но что-то близко, но что-то зреет. Между тем в 1773 году созрел окончательный запрет ордена Иисуса папой Климентом IV.
Надо было этого ждать. Началось с Франции, нынче вольнодумцы пробрались в Ватикан. Привычный мир рушился, надо было опираться на что-то другое. Но на что, на государство? День и ночь Вольту гложет отсутствие службы. Он пишет в Милан аббату Фризи, дарит ему все, чем богат, — свои диссертации. Тот вежливо благодарит и только. В голову Вольты приходит умная мысль поклониться барону Спергесу, и тот — слава богу! — реагирует благожелательно. «Почему бы Вам — знатоку электрических наук — не обратиться в Павию к графу Фирмиану», — ненавязчиво советует барон из Вены.
Как и с Беккариа, «флирт» со Спалланцани тоже сошел на нет. Публикация есть, чего еще надо? В ученики к вздорному профессору идти нереально: характером тот неустойчив, всю душу вымотает, к тому ж науки о живом примитивны, не то, что физика. Этот аббат так и норовит подавить тех, кого может, конкурентов, начинающих ученых, чуть завидит слабость — сразу топчет, теша свою наполненную желчью душу.
Конечно, к этому самодуру есть свой ход: кланяться, но внезапно грубо и резко дать отпор. Тот от резкой смены ритма как бы цепенеет, бери его голыми руками. Так что сосуществовать с ним можно, через пять лет Вольта даже в Швейцарию с ним соберется. А научные интересы впредь у них никогда не пересекутся, так что причин к склокам вроде бы быть не должно.
Начало службы.
До тех пор Вольта только приближался к подножию той жизненной горы, которую предстояло одолеть. Само восхождение началось, когда ему было под тридцать. Молод, честолюбив, энергичен — вот и удалось одним рывком найти службу, изобрести электрофор и построить кучу безделушек на болотном газе. Даже не скажешь, что главнее, все три дела подпирали друг друга, как камни в фамильной арке-символе.
После первых двух диссертаций Вольта на время затих, но до чего ж усердно он работал в те годы! Может быть, больше всего сил съела у него химия. Вольта бросился в нее не только ради любознательности: электричество стало приедаться, казалось, много ль в нем осталось неизвестного, а химия поднималась как на дрожжах, появлялся серьезный шанс «испечь» что-нибудь удивительное. Во всяком случае, Гаттони был уверен в скором взлете друга, он даже начал комплектовать «Вольтиану» (!), без устали толкуя о великом предназначении (полушутка, но почему б нет?).
Наладилась переписка с Пристли, письма из Англии щекотали тщеславие, держали Вольту в курсе дел и явно стимулировали, подстегивали, мешали разнеживаться в блаженном климате. Ведь если трезво взглянуть, он был никто, но с амбициями! А Пристли успел кое-чего добиться, но ведь он и старше на 12 лет. Смышленый учитель знал семь языков (вот полиглот!), немудрено, что он взялся за родную речь, написал по грамматике учебник, пришедшийся всем по нраву. В этой книге он не постеснялся мимоходом (хоть вдвое был моложе!) укорить самого Юнга за дурной стиль и философ мудро исправил огрехи лингвистики в своих историях Англии, религии и морали.
Заслужив имя писателя для молодежи, Пристли получил предложение от Ватсона, Прайса и Франклина (тот уж много лет жил в Лондоне как представитель своего штата) поработать над историей электричества. Новая книга опять пошла на «ура», ее Вольта и расхваливал перед Спалланцани, а потом и перед самим Пристли.
Теперь Пристли снова прославился. Одно время он жил около пивоварни, и ему страстно захотелось узнать, что за газы рождаются при брожении пива. Когда загадка отгадалась, газ этот назвали «крепким воздухом» (углекислый газ), а вода, им насыщенная и получившая имя сельтерской (1772), якобы излечивала от цинги, а потому вошла в моду как вкусная и лечебная заодно. Потом Пристли выделил «соляно-кислый воздух» (хлористый водород), «воздух щелочной» (аммиак) и «воздух дефлогированный», который, как писал сам первооткрыватель, «оказался настолько чистым и настолько свободным от флогистона, что в сравнении с ним обычный воздух казался испорченным». Через много лет Лавуазье назовет этот газ кислородом, а тогда, в 1776 году, взволнованный президент Королевского общества Бэнкс вручит Пристли большую золотую медаль: «Отныне мы знаем, что все растения от дуба до былинки вносят свою лепту в производство чистого воздуха, столь нужного всему животному миру».
А пока Пристли возбуждал Вольту письмами. Писал же он чудесно, думал просто и отчетливо. «Успехами в химии и оригинальности мышления, — говорил он сам, — я обязан невежеству в этой науке». Даже недоброжелатели — а их число возрастало вместе с известностью — признавали его высокую ученость и полемический талант, но, как через сто лет скажет Джонсон, «его труды в высшей степени способны потрясти, однако не создают ничего нового». Сказано слишком сильно, но «талант к спорам» оказался у Пристли даже сильнее «таланта рудокопа».
Как тут Вольте было не заняться химией? Досадно: только распознал электричество, опять в подмастерья, зато теперь-то Вольта знал, что не хуже других. Но приходилось засесть за книги Бехера, Шталя, Жоффруа, Блэка, Кавендиша, да и самого Пристли.
Если взглянуть на химию XVIII века глазами 30-летнего дилетанта, то в этой науке виделись шесть стадий развития, а тогда как раз шла седьмая. Все древние, в том числе Аристотель и Гален, чисто умозрительно выделяли четыре первичных элемента, слагавших любое тело. Потом алхимики научились работать с тиглем и ретортой, но только в XV веке в высшей стадии Ренессанса (Чинквечементо[10]) возникла школа трех начал (соли, серы и меркурия, то есть ртути), освоившая методы разделения и соединения веществ, так называемое спагирическое искусство. Конечно, итоги столь долгих поисков казались ничтожными, уж очень робко топтались химики у истоков материи, не умея вскрыть двери внутрь вещества, проникнуть в его толщи, хотя, что ни говори, всегда хватало амбиций и мудрых разговоров.
Истинная химия началась, пожалуй, с Сильвия в XVI веке. Он сумел нейтрализовать щелочь кислотой, два острых вещества становились безвредными. Позже француз Лемери так и учил: «Щелочи есть тела, которые шипят от прикосновения к кислотам». Потом уж Маскье добавит: «Щелочи и кислоты отнимают друг у друга характерные качества». Много ль тут смысла, ехидно смеялись умники, вторя вопрошавшему в «Скептическом химике» великому Бойлю, но для начала истинной науки было все же достаточно; классификация — первый путеводитель к пониманию и покорению.
Вот химики ухватились за ключ, заговорив о предпочтительном сродстве веществ (1718, Жоффруа), а Бергман издал знаменитое сочинение «Об избирательном притяжении» (1775). Пользуясь перечнем веществ, выстроенных по ранжиру активности, удавалось заранее предсказать, пойдет ли реакция и как шустро. Это ль не успех?
Базой для практиков неплохо служила флогистонная теория, выдуманная страстным Бохером (1625–1682) и сварливым Шталем (1660–1734). Мы-то знаем, что окисление есть присоединение кислорода, но гениальные баварец и пруссак начали с обратного: при горении от тел якобы отлетает нечто под названием флогистон. Выяснить, отлетает или подлетает, помогли бы весы, но все было не до них, слова, да еще вымолвленные с нажимом и с жестом, всегда действовали на психику сильнее цифр. Впрочем, и без весов проблем хватало: флогистон отождествлялся с горой, уголь якобы возмещал при горении убыток флогистона, к туманному пониманию сути дела добавлялась мистика алхимических методов. Вот и блуждали тысячи умов в химических лабиринтах, откуда время от времени совершенно загадочно вылетали какие-то вещества, шкварки или мутные взвеси, и приходилось гадать, что же сработало на этот раз: молитва, созвездие, добавка соды или крошки истолченной сухой печени змеи?
Истинно новую главу под названием «химия пневматическая» начал шотландец Блэк. Еще юношей, 26 лет от роду, он защитил диссертацию с важной новинкой о смягчении щелочей «крепким воздухом» и до седых волос продолжал углублять свою идею, но уже в чине профессора в родном Эдинбурге.
А химия газов бурно прогрессировала. Год в год с открытием Блэка построил пневматическую ванну Кавендиш. У него газы хранились под слоем воды. Он же доказал, что «фиксированный воздух» в 9 раз легче воздуха обычного. Вот тут-то и подоспел Пристли со своими новыми сортами воздуха: селитренным, дефлогированным и прочими.
Все эти премудрости Вольте пришлось изучать обстоятельно. Оставалось еще узнать про два факта, он полагал — химия познана. Лавуазье сжигал металлы, и их вес возрастал ровно настолько, насколько уменьшался вес воздуха (1774). Подобный опыт на полвека раньше провел Ломоносов, но замалчивать достижения «азиатских варваров» уже давно стало нормой для западноевропейских мудрецов. Годом позже тот же Лавуазье доказал, что «постоянный газ» состоит из угля и дефлогированного воздуха, ибо землистая ртуть при нагреве давала чистый воздух, зато в присутствии угля уже воздух постоянный, отчего его и назвали углекислым газом.
Так и сошлись в противостоянии две теории: старая, Шталева, с отлетающим флогистоном при сгорании тел и новая, с присоединяющимся кислородом. Пока Вольта блуждал в терминологическом лесу, он познал еще одну сложность, уже национальную. За старый флогистон стояла Англия, за новую пневматику — Франция. С обеих сторон Ла-Манша узнавалось много нового. Англичане начали, французы продолжили, вновь прославились англичане, но параллельно чисто научному потоку бушевал поток амбиций. Вот почему Лавуазье посчитал нужным оставить секретарю Парижской академии памятную записку: «Сейчас идет научное соревнование между Францией и Англией, это состязание стимулирует проведение новых опытов, но иногда приводит ученых той или иной науки к спору о приоритете с истинным автором открытия» (1772). А что ж Вольта? Словно сознательно, он затушевывал националистические страсти, переписываясь то с Лондоном, то с Парижем и делясь новостями с научными «врагами» во славу скорейшего торжества истины.
…Однако химия химией, но и без нее новостей хватало. В мае 1774 года от оспы умер Людовик XV. «После нас хоть эпидемия!» — рискованно шутили циники. Король-жуир оставил своему внуку, 23-летнему толстяку Людовику XVI, Францию обнищавшую, со многими миллиардами государственного долга. «Долой налоги!» — кричали толпы истощенных бедняков-фермеров. В Семилетней войне Франция потеряла колонии, страна бурлила недовольными и прожектерами.
И вот грянуло страшное наводнение. Умер великий Кенэ, провозвестник политэкономии: только земледелец производит материальные ценности, учил он, а промышленник и торговец бесплодны, ибо меняют только форму продукта, но никак не содержание! А новые власти призвали на службу Тюрго, ученика Кенэ, назначив его генеральным контролером и уповая на физиократов как на спасителей государства. «Физио» означало «природа», от того же греческого слова получили название физика, физиология, физиотерапия. Вольта тоже вроде бы приобщался к великому племени обновленцев, ибо служил Природе.
Тюрго шел дальше Кенэ, он учитывал любой капитал, даже вложенный в промышленность, ибо тот тоже давал прибыль. Вольта читал книгу Тюрго «Размышления о создании и распределении богатств», доводы автора звучали убедительно, но и Кенэ рассуждал не менее здраво. Вольта в захолустье читал, а Тюрго уже действовал: сняты ограничения с торговли хлебом, дорожные пошлины стали брать деньгами, а не натурой, закрылись ремесленные цехи, душившие конкурентов монопольными ухватками. Одни перестали жаловаться, другие зароптали, но все надеялись на лучшее.
Бурлила Польша, два года назад разделенная между Пруссией, Австрией и Россией. В нее тайно хлынули запрещенные иезуиты. Куда ж им было деваться? В этой сугубо католической стране даже письменность была в основном латинской, хотя простолюдины хранили верность своему языку. Пригрели иезуитов и в России, только что победоносно завершившей войну с турками.
Как грибы множились тайные общества, зрели заговоры, шептались обыватели. Из Баварии приполз слух про иллюминатов, «просветленных». На словах они боролись за нравственность и просвещение, а посвященные знали главное: монархии следовало заменить республиками, а христианство — деизмом. По примеру масонов новые подпольщики привлекали в свои ряды людей могущественных, а неофитов подвергали мрачным торжественным испытаниям; по примеру иезуитов новые радикалы делали ставку на субординацию, военную дисциплину и взаимные доносы.
А 1774 год приносил все новые впечатления. То парижане триумфально встретили Глюкову оперу-балет «Ифигения в Авлиде», написанную в духе милых старых Люлли и Рамо и трогавшую зрителей добротой Артемиды, которая сжалилась над любимой дочкой царя, простив Агамемнона за убийство священной лани. Боги милостивы, цари прощены! — нехитрые трюизмы помогали жить без грусти. То улицы ломбардских городов заполнились шествиями в честь тысячелетия славной победы Карла Великого над лангобардами, а австрийцы не стали реагировать на двусмысленность своего статуса оккупантов, ожидающих разгрома.
Сбитый с толку множеством событий, которые аналитический ум безуспешно пытался выстроить, сгруппировать, прояснить, Вольта махнул рукой и отступил от всегдашнего правила обдумывать все досконально, прежде чем совершать действия. В сентябре он пишет графу Фирмиану с просьбой дать место в школе, в октябре еще раз, и — о чудо! — приказом от 22 октября граф назначает Вольту регентом (заместителем директора)! Впрочем, чуда нет, иезуиты в силе, за Вольту замолвили словечко, к тому ж надо благодарить члена церковного совета Перегрини и венского министра барона Спергеса, еще не забывшего о переписке четырехлетней давности (вот время летит!). Сработала и диссертация на имя Спалланцани, как-никак школа Комо подопечна Павийскому университету!
Условия работы регентом оказались тяжкими. Должность без жалованья, школа старая, милостиво разрешено думать об электричестве, но как это делать? Отступать некуда, Вольта бросается в работу и перво-наперво подает ведомству просвещения докладную записку об улучшении преподавания в школе. Суть документа проста. Ситуация драматична, объективно существует неотложная необходимость срочно провести коренные реформы в методах обучения подрастающего поколения естественным наукам, ибо содержание преподаваемых предметов катастрофически устарело по сравнению с невероятными успехами наук, представителем и полномочным послом которых выступает пишущий сей рапорт. Сейчас в школе преподают грамматику, историю, риторику, философию, теологию, мораль, каноническое и гражданское право, однако все это надо ревизовать, усилить преподавательский состав, непременно привлечь иезуитов (они опытны, грамотны, бескорыстны!), обновить оборудование.
С новым, 1775 годом приходят тридцатилетие и надежды на лучшее будущее. Вольта бомбардирует начальство всевозможными меморандумами и петициями, пишет в Милан Фирмиану, Кривелли, падре Кампи, Ландриани, Пеллегрини, канонику Фромонду, секретарю Фризи, профессорам Барлетти и Одескалько, рассуждая о науках, ходатайствуя о партах, досках, приборах, учебниках. 23 марта Фирмиан получает новый обстоятельный документ «О методе обучения в младших, средних и старших классах школы».
Уж на что граф опытен в людях, да и истоки активности здесь очевидны, но все же Фирмиан потрясен: вот это фонтаны энергии и знаний! Молодой регент, взяли чуть ли не из жалости, а строчит грамотно и страстно о культуре воспитания детей, о необходимости тщательно отбирать предметы, ввести практическую арифметику (да! для рынка, да! для расплаты с извозчиками), да как же можно без латыни, без навыков изящной болонской письменности, без чтения Боккаччо, Расина, Юнга? «Браво, браво! — восторгается Фирмиан. — Какая эрудиция! Такие люди властям империи необходимы!»
Вечный родник электричества.
В мире кипела жизнь, ключом били страсти. Наконец-то грянула новая, тоже на семь лет, война, на этот раз за независимость североамериканских колоний Англии. Американцы осмелели, в проекте конституции даже Ирландию включили в свой состав, а Франция, двадцать лет ждавшая реванша, поддержала бунтовщиков.
А ценители прекрасного щебетали о Давиде, восходящей звезде живописи. Он только что приехал в Италию — ученик изысканного Буше, брат которого ведает королевским имуществом, а у того друг маркиз де Мариньи, а у того жена держит прославленный салон, куда частенько ездила сама мадам де Помпадур, а сам Давид уже получил премию своей академии за «Бой Марса с Венерой», еще написал «Смерть Сенеки», а за «Антиоха, сына Селевка» послан на стажировку к ним в Италию. Здесь все, кто был в Париже, хвалят портрет герцогини Полиньяк его кисти, а она подруга новой королевы Марии-Антуанетты, а сестра Мария-Каролина как раз замужем за неаполитанским королем Фердинандом IV, к нему на охоту пригласили Давида, он написал чудесный пейзаж с графом Потоцким, гарцующим на могучем скакуне.
Люди серьёзные говорили о победителе турок русском генерале Кутузове, которому в бою пуля вышибла левый глаз, что не помешало ему посетить Англию, Францию, Голландию. Теперь он у нас в Италии, а потом поедет в Берлин, Лейден и Вену с щекотливыми дипломатическими поручениями. Людей науки взволновала иная новость: запрет на вечные двигатели. Парижские академики только что обнародовали свой отказ даже думать про подобные химеры, так что нетерпимость ученых оказалась ничуть не меньше нетерпимости инквизиторов, разговор окончен, осталось только сжигать ослушников, разве мир не есть самый настоящий вечный механизм? О поразительной новости так и этак судачили и в салонах, и в тратториях.
Как бы в противовес прибыла из Англии хорошая весть из области механики. У мрачного торговца свечами в Глазго работал сын плотника, Джемс Уатт. Поначалу он чинил спинеты и клавикорды,[11] потом ушел в университет ремонтировать физические приборы и машины. Этого самого Уатта обуяла мечта заполнить фабрики железными рабочими, которых можно кормить дешевым углем. И точно, ремонтируя паровую машинку давней системы Ньюкомена, механик улучшил ее, заставив отработанный пар конденсироваться не в рабочем цилиндре, а вне его и отбирая силу со штока не при одном, а двух ходах туда-сюда. Ради прибылей Уатта взялся финансировать врач Ребук, но испугался неудач и продал свою долю Болтону, а у того дело пошло: наконец-то с хорошо выточенным цилиндром и пригнанным поршнем паровик неплохо заработал.
Самым важным для Вольты событием 1775 года оказалось создание электрофора. Положение молодого регента было неустойчивым, до зарезу надо было прославиться чем-то вещественным, на бумажных прожектах долго не продержишься. Еще 3 июня Вольта вымученно писал Ландриани, чем различаются негодный и неполезный воздухи (через год речь пойдет об отличиях годного и полезного), а 12-го числа к Пристли ушли бумаги, оказавшиеся историческими. «Я изобрел electroforo perpetuo, вечный электроносец», — гордо писал Вольта, словно подняв эстафету поруганного вечного двигателя в пику зазнавшимся парижским академикам.
Что ж такое электрофор? Железное блюдечко, на нем смоляная пластинка, сверху вторая лепешка из железа с деревянной ручкой и в придачу маленькая лейденская баночка — пузырек, обложенный фольгой, и с проволочкой, торчащей через пробку. О чем же писал Вольта, тянувшийся к знаменитостям, как бабочка к свету? Он с восторгом обнаружил аналогию между вечными двигателями, механическим и электрическим. Надо всего лишь похлестать кошачьей шкуркой смоляной диск (это раз), затем наложить на отрицательно наэлектризованную смолу металлический диск (это два). Металлический диск наэлектризуется по влиянию — «плюс» у смолы, «минус» с другой стороны, теперь касаемся пальцем и уводим минус в землю (это три), и затем поднимаем железный кружок за изоляционную ручку и снимаем с него электрический остаток, то есть плюсы (это четыре). Полученные заряды можно использовать в своих целях: извлечь искру в темноте, переправить в лейденскую банку.
До сих пор по той же четырехзвенной технологии работают многие электростатические машины — от школьных приборов до индустриальных гигантов. Вольта прекрасно понимал фундаментальность сделанного, уж он-то отчетливо сознавал, насколько прост, а потому жизнен предложенный им метод электризации. Повторяя ту же процедуру несчетное число раз, можно было питать электричеством любого желающего.
Узнав про «электроносец», Пристли взволновался. «Электрический флюид присутствует и действует везде, он играет главную роль в грандиознейших и интереснейших сценах природы», — писал он, выспрашивая детали опыта и срочно строя такой же приборчик. И тому были основания: методика Вольты живет уж два века и будет жить всегда, однако, увы, до сих пор электротехники не хотят понять, что поток электричества даже из одного электрона безумно велик, оттого и неиссякаемы электрические потоки, исторгаемые наэлектризованными телами. Акцент проблемы переместился совсем в другую сторону: из слабенького электричества не может вытекать столько сил, заявили одни, никаких вечных источников нет и быть не может, заявили другие, еще не остывшие от закрытия perpetuum mobile. Конечно, в электрофоре Вольты всю необходимую работу выполняет рука, но за этой прагматической сентенцией упустили из виду безграничность электрических резервуаров. За электрофорной дверцей обнажились бездонные закрома электричества, откуда неистово хлещет чудесная субстанция, однако, будто страшась заглянуть в бесконечные внутренние дали материи, ученые сделали вид, что деловито подсчитывают свои трудозатраты.
Слов нет, нелегко относить кувшин от родника, но еще важнее использовать всю энергию потока. С водой и ветром справились мельницы, но и в XX веке электричество еще не считается источником энергии!
Вольта лучше, чем кто-либо другой, понимал, что обнажились зияющие электрические недра, но в силах ли был он переучивать всех, бороться за просвещение всего научного мира? Он сказал, а его и слушать не хотели. И Вольта мудро совладал с зудом поучений, не желая превращать себя в жертву своих научных амбиций. «Вам всего лишь нужен хороший источник электричества? — спросил он. — Так вот он, берите». И все взяли, электрофор оказался нужен всем!
Если хочешь известности, надо рекламировать свои находки, а потому 13 июня ушло письмо к Камни с описанием электрофора и метода работы с ним, потом ту же информацию получили Барлетти и Коупер. А в Париже между тем Бомарше выпустил в свет «Севильского цирюльника». Есть там и такой диалог: «Розина: Всегда браните вы наш бедный век… Бартоло: Прошу простить за дерзость. Но что он дал нам, чтоб хвалить его? Лишь глупости всякого рода: свободу мыслить, тяготенье, электричество, веротерпимость, хину, «Энциклопедию» и театральные драмы?» Ах вы мотыльки, думал Вольта, живете на краю электрических пропастей, и до того вам хорошо, что даже не замечаете, хоть из любопытства взгляните за дверь — электрофор!
Однако приходилось ковать железо, пока горячо, из регентов подаваться в учителя. В итоге больших трудов 12 августа появляется документ с латинским текстом, подписанный Барлетти и Марцари: «Заключение о претензии Вольты на занятие кафедры экспериментальной физики в Комо. Алессандро Вольта, комовский патриций, издал эпистолярную диссертацию (первую, к «чужаку» — туринцу, даже во внимание не приняли!) с серьезной разработкой темы и освоил многие физические коллоквиумы, внеся в их трактовку много оригинальных достижений. Нами проверено и рекомендуется…». В декабре Вольте положили оклад — 800 лир в год.
Отчего горит вода?
Слухи про электрофор разлетелись мгновенно. Конечно, профессору Барлетти рассказано про новинку чуть ли не первому — он так помог рекомендацией. Теперь письмо за письмом канонику Фромонду, уж год идет переписка с Ландриани, в апреле обратился сам Магеллан из Лондона. Летом Вольта обменялся письмами с Клинкошем: тот из Праги восторженно отозвался об электрофоре графу Кинскому в Вену, и Вольта, узнав о такой любезности, посчитал приятным долгом списаться и поблагодарить.
Как по мановению волшебной палочки исчезли нелады со школой. Давно ль Вольта отсылал прошение в Вену: «Ваше высочество! Ваш покорный слуга Алессандро Вольта, регент публичной школы в Комо, просит назначить его учителем в любую государственную гимназию, лишь бы там платили ежемесячное жалованье в соответствии с занимаемой должностью». И что же? Отчаянный вопль о нужде породил великодушный отклик: «…входя в положение просителя, удостоить отказом из-за внештатности его службы, однако ввести в штат при появлении возможности в соответствии с просьбой».
Но теперь-то все разом изменилось! Уже в августе Фирмиан запросил отчета (ага, дошли новости!), а 26 октября Вольта в дополнение к регентству получил пост профессора экспериментальной физики с окладом 2000 лир в год! Теперь его прокламации уже не сотрясали воздух впустую: посыпались деньги на приборы (300 лир), книги (700 лир), за лекцию (еще 200). Можно было поднажать, чтоб планы по школе не канули в воды Стикса, и появился очередной программный документ о неотложных нуждах школы.
Нужны лабораторные машины хотя бы на 150 цехинов,[12] оборудование для классов, помещение для библиотеки и книги. На них вся надежда. В список вошли «Доклады» Парижской академии, сочинения Бюффона, Ньютона, Декарта, Мальбранша, Локка и еще множества других, в числе которых Франклин, Кондильяк, Бонне, Родине, Пристли, Беккариа, Мопертюи, Галлер, Гейлс, Реди, Малышги, Вильснери, Дезагюлье, Сиго, Нолле, Боме. Кого и чего только нет в этом триумфальном списке победителя! Книги по химии, «Физический журнал» Розье, «История математики» Монтюкла, «Астрономия» Лаланда, Трамбле, Делюк, Соссюр, Сито де ля Фонд о кабинетах физики, женевцы отдельным списком, Фризи, Боскович, Беккариа, Лекат «О разуме», Скарелли, «Физика деревьев» Гамеля, Жакур, Д'Аламбер, Дидро, Жерди. Впервые Вольта подписался уверенно и размашисто: «Профессор экспериментальной физики, регент».
Вот что значит мнение общества, даже эрцгерцог Фердинанд и принц Карло ди Лорена поздравили через Фирмиана (у них по инстанциям!) «с полезнейшим открытием, делающим честь родине и Италии — матери всех наук и искусств». Лестно!
Все бы хорошо, но волновали газеты. Во Франции выжили с места Тюрго, пришлось подать в отставку, а его реформы последовали за ним. Континентальный конгресс по докладу графа Вежена, министра иностранных дел, порешил дать свободу 13 колониям. Ветер свободы явно дул из Америки, даже Франклин примчался оттуда в Париж, Какие контрасты; то жар, то холод, а Парижский парламент[13] у них уж пять лет не функционирует.
В бушующем море пустые барки бросает как щепки, зато полная загрузка спасает судно, не давая разбиться оскалы. От беспокоящих вестей одно спасение — работа! На этот раз Вольта спрятался в химию, благо с электричеством полный порядок.
Летом, отталкиваясь шестом на лодке на соседнем озере Лаго ди Маджори, Вольта заметил, как с потревоженного дна всплывают пузыри. Еще год назад, когда началась переписка с падре Камни, тот упоминал про гниение органики, так что горючие газы надо искать не только под землей, но и в навозе, иле, болотах. Так и есть! Вольта не поленился собрать газ в банку. Горел он отлично. В ноябре на имя Камни уже готовы три письма-статьи «о воспламеняющемся воздухе, рожденном болотами», а в декабре — четвертое. Когда года через два письма о горючем болотном газе вышли из печати, даже Вольта залюбовался картинками на обложках: в письме первом — мужчина из лодки собирает газ банкой, а на берегу зажигает его, во втором — три человека тычут шестами в болотистую землю и подносят лучины с огнем, в четвертом — молния бьет в болото, «вода» вспыхивает, а газ в банке поджигается электрической искрой!
Год завершался чудесно. В декабре Шнитц и Тарджони известили Вольту об избрании в научное общество Цюриха. Теперь можно публиковаться в их журналах. Как-то Вольта зашел вечером в собор, услышав неурочный благовест, словно отмечали именно его успехи. Оказалось, что празднуют акафисты особые, ровно 1150 лет пролетело с тех пор, как отбили Константинополь от неверных (арабов), и за то особо торжественно возносят хвалу божьей матери.
Пришли в голову мысли о матушке, но не божьей, а собственной. «Совсем уж старушка, — думал сын, — шестьдесят два стукнуло, а мне ровно половина. В этом возрасте я как раз у нее появился, да совсем не первый, сам же до сих пор бездетен. Отстаю от нее, впрочем, от кого ж я только не отстаю?»
Хроника 1777 года: битва за Швейцарию и победа!
Январь: Еще три письма к Камни. В них обо всем, больше всего о болотном газе, но заодно о вулканах, землетрясениях и северных сияниях, не спровоцированы ли все эти природные катаклизмы именно газами, вытекающими из земли то бурно, то едва-едва, то со взрывами, то тихо сгорающими в небесах?
Впервые послано письмо маркизу Кастелли с копией собственного труда, потом переписка с Барлетти о газе и об электрической рыбе гимнотусе, уж не трением ли о воду она электризуется? Не забыть бы послать Фирмиану «Тезисы по аэрологии», пусть привыкает начальник к необходимости изучать погоду научными методами.
Февраль: Ну нет, никакой работы, этот месяц личный, от всего надо отрешиться, есть о чем подумать, вспомнить, запланировать.
Март: Тарджони из Флоренции пишет про то, про се, но самое интересное — про огни Пьетра-Малы. Вот бы взглянуть, как горит днем и ночью, словно Вельзевул дышит из земли! Конечно, немало дел с Фирмианом, то о школьных занятиях, то о преподавателях, ведь люди решают всё. Милый Тарджони, надежный друг, сообщает об избрании в Академию наук и изящных искусств Мантуи! Это за электрофор, за старое, а вот к Ландриани в Лондон уходит сенсационная новость про электрофлого-пневмопистоль. Он уже готов: ствол длиной с руку, электрофор дает искру, флогистон вспыхивает, пневма болотная сгорает, пуля летит!
Апрель: Занятия по расписанию. Сверх них письмо к Розье опять про газ. Тарджони с Мошетти делятся впечатлениями про умные насыщенные письма Вольты, читать их — такое удовольствие! Теперь к принцу Карлоди Морена: сделал электрофор, открыл болотный газ, изучил электрические явления, а потому хорошо бы съездить за рубеж, надо ж посетить коллег в Цюрихе. Теперь дружеская раскованная записка к Ландриани. Письмо-статья к маркизу Кастелли «О конструкции пистоля и мушкета на болотном газе»: можно сделать три модификации, в каждой деталей по двадцать, ко всем нужен бачок с «двумя частями металлического горючего газа (водорода) и одной частью дефлогированного воздуха (кислорода)». Ай да Вольта, он же воду советует синтезировать, для тех лет просто гениально!
Кастелли из Милана поощряет, а к Барлетти уходит критика в адрес Фонтаны: «Про воздух нитрогенный сам Пристли думает иначе, он мне писал лично! А мой пневмопистоль можно поставить в Милане, на деревянные столбы натянуть железные провода, на их концы в Комо разряжается лейденская банка, от электрофора заряженная, электричество бежит вдоль линии, пистоль в Милане стреляет, извещая о заранее обговоренном событии».
Вот так, буднично, 18 апреля 1777 года впервые в истории прозвучала мысль об устройстве линии электропередачи. Какой примитив этот болотно-электрический телеграф, но такие игрушки появились в базарных балаганах. Скучающие обыватели за малую плату уже электризовались, для поправки здоровья и щекотания нервов, теперь можно было послать свой «гнев» куда угодно, будто сам Зевс-громовержец!
Май: Еще письмо к Кастелли: хорошо взрывается смесь газа с воздухом, а искра — от электрофора. После стрельбы остаются нагар и испорченный воздух, его состав можно определить «ясноизмерителем», по-гречески «эвдиометром». Толстостенная стеклянная трубка запаяна, сверху вдеты две платиновые проволочки. Спирт, газ, свечи давно умеют поджигать искрами, но то на воздухе, а тут все газы сохраняются.
И вновь как-то буднично родился важный прибор: через три года Кавендиш впервые (про Вольту как-то забыли!) получит в нем воду, через десятки лет Гумбольдт и Гей-Люссак заявят: строгие испытания известных приборов подобного типа показали, что Вольтова конструкция безусловно превосходит качеством любую другую!
Справедливости ради надо сказать, что истинно «первооткрывателей», наверное, не бывает, бац — и что-то совсем невиданное! Идею эвдиометра Вольта подсмотрел у Беккариа. Еще в 1753 году тот подавал искру в П-образную трубку с вином, а жидкость качалась меж коленами от «электрического пара». Нет, поправил через восемь лет Киннерслей, от нагрева бегущим электричеством. А Вольта догадался запаять объем наглухо — просто, но эффектно!
Всю жизнь Вольта будет заниматься эвдиометрами, но, чтобы покончить с их «секретами», достаточно привести несколько слов из статьи Вольты под тем же названием, которая появится через дюжину лет в «Справочнике по химии» Маскье: «Одни уверяли, что при помощи так называемых эвдиометров они могли бы узнавать всякие недостатки и качества воздуха, различать все вредные виды воздуха и т. д., между тем как все сводится к возможности измерять этими приборами только одно из качеств, которыми обладает атмосферный воздух, — насколько он способен поддерживать дыхание, или, что точнее, измерять количество находящегося в нем чистого жизненно необходимого воздуха».
Но эти слова напишет человек умудренный, много узнавший, а тогда, на много лет раньше, дымка незнания придавала прибору немыслимые возможности, сулила чудесные откровения. И Вольта, тоже полный надежд, пытался на них опереться для осуществления маленькой хитрости: он просил графа Батьяна содействовать ему в задуманной поездке на рубеж, но тот уклонился: за копию научного труда спасибо, но с поездками сейчас сложно.
Июнь: Но Вольту так просто с курса не собьешь. Пользуясь поводом рассказать про газ, он соблазняет Спалланцани Швейцарией: вот бы поехать вместе. Тот бурчит что-то, но видно, что заинтересовался, а боец он отменный. Фирмиан тоже поддался уговорам: он шлет князю Каунитцу Ритбергу бумаги Вольты про газ, пистоль, мушкет, мотивируя нужду в научной поездке. Неплохо, отозвался обязательный царедворец, но все же надо двигаться по инстанциям. Вольта послушно «двинулся», срочно отослав влиятельному Спергесу свой новый трактат про пневмоаркебузу. «Вот это да! — заахали вельможи-министры. — С этим чудо-оружием всех одолеем!»
Июль: После мастерски проведенной аркебузно-мушкетно-пистольной операции поездка сама упала в руки спелым яблоком. Фирмиан сообщает о разрешении Каунитца, выдает 50 цехинов. Вольта вызывает в Комо к 20 августа Ландриани и доктора Москатти: «Будем делать дефлогированный воздух, но не задерживайтесь, в сентябре уезжаю». Спергес прислал разъяснения: можно ехать в города Швейцарии, даже в Вену, но Берлина избегайте, а Фирмиан заодно пусть шлет и Москатти, разрешение оформлено.
Август пролетел в хлопотах — надо ж подготовиться изрядно.
Сентябрь начался с письма к Пристли: что такое эвдиометр, как очищать болотный газ, зачем искра и что получат медики от этого прибора. 3 сентября из Комо трогается коляска с чемоданами и узлами. Поездка началась. Лугано, гора Женевьевы, Беллинцоно, Кресьяно, Осорно, Джерниго, Файто, Дежо, Даццо, Пьотто, Эйроло. Везде записи о давлении, температуре, погоде. Из рук не выпускал барометра и эвдиометра, даже у приюта капуцинов, на перевале Сен-Готард, в долине Расса, у россыпей кварца, кальция, гранитов и полевых шпатов.
А 12 сентября — Цюрих. Там доклад, опыты с электрофором, пистолем, эвдиометром. «Сколько ж тут ученых!» — восторгается Джовьо, он поехал за свой счет, а зрители поддакивают: «Сколько ж чудесного привез этот итальянец!» В конце месяца Вольта двинулся на запад. Из Базеля он пишет Чичори, из Страсбурга — брату.
Октябрь: В поездке Вольта увидел многих: «историка Альп» Соссюра из Женевы (он призывал пробить тоннель сквозь Альпы, но церковь возражала, «храня гор покой»), издателя Гесснера в Цюрихе (давно ль набивался к нему в переводчики?), библиотекаря Сенебье (должность для самых достойных!), Трамбле, Бонне.
23 октября Вольту принял Вольтер. Еще в 1758 году тот перебрался из Пруссии в Женеву, заодно прикупив усадьбы в Лозанне, Турне и Ферне (на биржевые спекуляции Вольтер был великим мастером). «Фернейский старец» уж давно окутался легендами, как Монблан облаками. Принимал он далеко не всех, но Вольта удостоился этой чести. Вольтер сидел с ногами в кресле, оттуда летели остроты и сверкали взгляды. Обсудили всю итальянскую литературу, всех живописцев, поэтов, ваятелей. Когда уезжал, в глаза бросились буквы на фасаде: «Deo erexit Voltaire. MDCCLI» («Бог вдохновил Вольтера, 1751»).
Потом Лозанна, Турин. Оттуда Вольта шлет рапорт Фирмиану: «Что за чудо здесь физические приборы! Кабинет физики — не чета комовскому!»
Ноябрь — декабрь: Конец года занят отзвуками поездки. С Ландирани в голос пропели дифирамбы приборам французских и швейцарских мастеров. Фирмиан поездку одобрил, рад полезным контактам Вольты с Галлером и Соссюром, сразу дал санкцию на покупку нужных машин. А еще попросил выступить перед прихожанами церкви Иисуса с моралью для юношества (за 200 лир). Потом непременно пришлось писать к Сенебье в Женеву о микроскопических частичках, чем эвдиометр Вольты отличается от коммерческих конструкций, об электрофоре, ртути и воде.
С Джовьо решили судьбу купленных книг, Мугаска принес благодарности за письма с дороги, потом отрапортовал в цензуру, особо отметив отеческие заботы Фирмиана (чинопочитание для австрийцев первое дело). Теперь пора отослать благодарность за радушную встречу в Цюрихе и черкнуть пару слов коллеге Виттенбаху в Берн. В ответ — бумага с черной каймой: умер Галлер!
Новость оглушила. Великий Галлер! О боже! Думалось, ведь еще в силе, всего шестьдесят девять, и, вдруг, уже нет! Впрочем, говорили, что он болен…
Счастливому сыну бернского патриция все давалось легко: древние и новые языки, поэмы, медицина (любимый ученик Бургаве!), ботаника, математика у Бернулли в Базеле, путешествия. Специально для своего любимца бернцы построили анатомический театр, придали библиотеку. Он изумлял Европу своей ученостью, но для врача оказался слишком впечатлителен. Тут еще нелепо погибла жена, бежал с горя в Геттинген, развил там бурную деятельность, издал «Описание швейцарских растений», «Элементы физиологии», «О лживости человеческих добродетелей», «Анатомические рисунки» и прочее.
На него сыпались ордена и звания, короли звали в гости. Великолепный Галлер не боялся обличать антицерковника Вольтера и «аморального» Линнея с его пестиками-тычинками. Завистники у него были, они и разболтали, что свою подагру врач лечил опием, страшась тяжких болей, хотя вслух кричал, что эту дрянь надо запретить. Смени лекарства, умолял друг. «Уж 23 часа с половиной!» — острил Геллер печально. И вот 12 декабря его не стало, доза опия оказалась чрезмерной, 11 детей, 20 внуков и тысячи почитателей остались без своего кумира!
Событие печальное, но Вольта был заряжен радостями поездки. Он видел лучших, его приняли как равного, у него отросли крылья удачи!
С той поездкой связана еще одна история. Возвращаясь через Эмил-Бел, Вольта прихватил клубни картошки, с чего началось разведение этого растения в Северной Италии, спасшего народ от недоедания, ибо внезапные грозы, столь характерные для предальпийской Ломбардии, нередко выбивали всю растительность под корень, но уж никак не подземные ростки. Уже после смерти Вольты его родственник Рейна извлек из архива бумаги, свидетельствовавшие об аграрно-просветительской популяризации картофеля великим ученым.
Конечно, не все в этой истории безукоризненно. На кряжах Гарца, к примеру, картофель сажали с 1746 года, даже ведьмы у Гёте и Гейне пекли его на склонах колдовского Брокена, а оттуда он давно спустился на юг в сторону Швейцарии. Но не оттуда клубни переселились в Италию. Еще в 1590 году путешественники любовались «земляными яблоками» в знаменитом Ботаническом саду Падуи, где видеть их могли еще Тарталья, Порта и даже профессор математики тамошнего университета Галилей! Так что привоз картофеля из Швейцарии в Ломбардию еще раз подтверждает печальную истину, что память человеческая порою чрезмерно коротка.
Стремительная карьера.
1778 год начался с посмертных забот о Галлере. Горестная переписка с Виттенбахом и Шнитцем, и вот образ знаменитого бернца ушел в прошлое: он, блестящий, видел все, судил обо всем, занимался всем, не то, что мы, знатоки черных нор, кротами буравящие темные ходы.
Однако одной утраты оказалось мало. Ушли еще два великих человека. Демоны смерти почти враз искоренили три могучих дуба, росших на швейцарской почве. «После моего визита, — содрогался Вольта, — словно мор промчался, теперь можно бахвалиться, что я видел их одним из последних».
30 мая остановилось сердце Вольтера. В начале года, не спрашивая разрешения у властей, «патриарх свободы» примчался в Париж, которого не видел тридцать лет. Встречен был с восторгом: аплодисменты, визиты, толпы кричащих славу, театры, заседания академии, так что выслать вольнодумца не решились даже в Версале. В возбуждении завершает «еретик» трагедию «Ирина», ее сразу ставят, он берется составить толковый словарь. Но темп непосилен, жизнь прервалась. Учуяв тлен, власти опомнились, пьесы запрещены, хоронить нельзя, племянник тайно увез тело в Шампань.
А 2 июля скончался Руссо. Антипод Вольтера, он взывал к народу словно с другого полюса: тот мечтал о монархии, хотя и просвещенной, Жан-Жак звал жить в природе. Вольтер — придворный, хоть скептик и насмешник, Руссо — простолюдин и обличитель неравенства. Один насаждал цивилизацию, другой воспевал безыскусную нищету, славил робинзонов-бессребреников, обличал практичных реалистов, но оба они, будто тайно договорясь, накликали скоро разразившуюся бурю над Францией и всей Европой.
У Вольты привычный распорядок жизни наладился не сразу, уж очень встряхнула поездка. Но работа шла, самой ценной получилась публикация по электрической емкости. 20 августа отправлено письмо Соссюру — тот еще в 1766 году защитил в Женеве диссертацию по электризации тел, так что поймет лучше других, как заряжаются пучки палочек и лейденские банки, что такое напряжение.
Физики уж давно знали, что электричество собирается на поверхности тела, так что сплошное оно или полое — значения не имеет. Потому много тонких цилиндриков заряжалось куда сильнее одного толстого того же веса, Составив пучок из 16 тонких посеребренных палочек длиной под 300 метров, Вольта так сильно заряжал его электрофором, что разрядом убил теленка! Знай бы ученый, что на него будут ссылаться создатели электрического стула для казни, быть может, и остерегся бы подчеркивать смертоносные свойства электричества.
«Громоносную машину» Вольта описал в статье, изданной в Милане в том же году («Об электрической емкости проводников и о сотрясениях, которые могут производиться простыми проводниками и которые были бы равны сотрясениям от лейденской банки»), а через год еще и в «Физическом журнале».
Информация для того времени новая и высококачественная, и, как обычно, она полетела в несколько адресов: к Шнитцу, Сенебье, графу Литта, Коудеру, Тинаву. Пристли в восторге, Соссюр хвалит, Коупер в Лондоне статью переводит, рекомендуя автора тотчас избрать в Королевское общество.[14] И что ж, в декабре избран!
Наука шла на досуге, главным делом оставалась служба. Но и тут радость! Отчеты Фирмиану, заказ электрической машины через Ландриани, а в марте учителю физики и регенту поднимают зарплату до 2400 лир в год. Понятно, что не за адскую работу по устройству лаборатории, а за Лондон.
Теперь обещает протекцию граф Ламбертеньи из Вены, дескать, кабинет физики мы вам укомплектуем шутя. Приобретают вес и те, кого Вольта привел вслед за собой в школу: аббат Гамби становится маэстро риторики, аббат Бертолди взят историком, удостоен похвал падре Бьянчи, верного помощника Иосси Вольта прочит в маэстро грамматики. А взлет Вольты продолжается: в ноябре его назначают профессором университета, а брата делают директором школы!
Конец года — и двойная радость: профессура в Павии и членство в обществе Лондона. Новый пост приносит новые заботы. Теперь придется ездить по кругу Комо — Милан — Павия и обратно, а для этого Вольте вручена подорожная с подписью самой Марии-Терезии. И еще одной — эрцгерцога Фердинанда. Все его титулы тоже тут — король Венгрии и Богемии, герцог Бургундии и Лотарингии, цезарь, губернатор, капитан, генерал африканских лангобардов и т. д. и т. п. Да, нелегкую работу избрал себе Руссо: отучать власть имущих от излишеств!
Вторая забота — вписаться в профессорский круг. Это нелегко, ведь самоучка и попал сюда извне, так что любви ждать не приходится. И точно, даже Барлетти, старый знакомец, взялся считаться, кто главней: 13 ноября он кладет на стол Фирмиану прошение с просьбой срочно прибавить к его званию профессора общей физики еще одно — профессора экспериментальной физики. Невразумительные ссылки на безупречную службу, на сотрудничество с Вольтой делу не помогли, а Барлетти уперся. Главный труд жизни, «Физику частную и общую», он все равно издал за подписью «первый профессор физики экспериментальной, а также физики общей в университете Павии». Нет, не любили коллеги быстро взлетающих!
Вольта не стал препираться. Он сразу затеял новую акцию: создать североитальянскую Академию науки и литературы! Все ахнули, каждый бежит с поклоном. Портфели наметили распределить так: Фирмиана в президенты, в директоры и вице-президенты Керри, графа Карди и маркиза Беккариа, секретарем — Фризи. В академики по классу математики вписали Раккиани, Реджи, Реджио и Цезариса, по классу философии — Пини, Ландриани и Москатти, по классу литературы — Горани, Саги и Соаве. Себя Вольта вписал и члены-корреспонденты вместе со Спалланцани, Парлетти, Фонтаной и еще десятком нужных людей.
Вольта многим пощекотал нервы сладкими надеждами, заманчивая идея обнажила страсти, но проект не пошел: предложенный состав слабоват — мало кто закрепился в истории науки и искусства. И верхи не поддержали, а сам Вольта охладел к собственным замыслам, ибо получил главное: отпор новичку ослаб. К тому же много сил съедала доделка газовых приборов. Надо было писать де Тинану, Пристли, Сенебье, Фонтане в Париж. Барон Дитрих в марте сообщал оттуда, что опыты с газом повторили, Фонтана с Лавуазье хвалят.
Тут еще Вольта с Сенобье затеяли определять фосфор в моче. На это интересное дело отвлекся ненадолго, нахлынули заботы о маленьком, но очень чувствительном эвдиометре для Магеллана, о газовых горелках и бомбах (придумал Джанотти из Корреджо). Из Германии пришло сообщение, что будто бы начали продавать там газовые зажигалки с электрофором, как пишет из Цюриха Шнитц, но всегда он изъясняется только на латыни, а в древнем языке и слов-то нужных нет. Вот бы взглянуть на зажигалку хоть бы одним глазом! Впрочем, множество забот о новых публикациях про газ, электричество и погоду, так что читать надо и свои, и чужие труды!
А какой умница Пристли: добывает из водорослей газ для облагораживания воздуха! Магеллан, как обычно, крайне полезен: помогает заказывать приборы, сообщает о конкурсе на экономические темы. Из Парижа Адамони пишет что-то о литературных заказах, Шнитц из Цюриха ведет разговоры о сельскохозяйственных механизмах, Рейна жаждет создать в Комо общество шелководов.
Вихрем пролетел 78-й год, стрелой промчался 79-й. В потоке бумаг, лекции, писем, поездок, успел только построить газовую лампаду и светильник, многим пришлось растолковывать про электрофор, даже Франклина озаботили вопросами, но старый зубр сам разобрался.
Столь бурный темп поддерживать нелегко, а что, если спастись в новую поездку? И Вольта обосновывает графу Лорене необходимость пообщаться с другими учеными, а для крепости подключает швейцарцев ради встречной инициативы. Даже газеты читать некогда, говорит, что русские опять вовлечены в войну с турками. Неудивительно — австрийцам выгодно истощить задиристых соседей.
В паутине дел.
Начался 36-й год жизни. Ни минуты свободной, одно дело цепляется за другое, но плоды меньше затрат. Как исправное вьючное животное, он тянул лямку, тянул аккуратно и даже с выдумкой, но разве другой не смог бы сделать того же?
Вот и сейчас. В январе списался с Сенебье о публикациях, потом много времени ушло на подготовку и обсуждение с Фирмианом планов заманчивого научного турне по Франции и Англии: там выпускаются замечательные физические аппараты, сильные специалисты, общий тонус культуры достаточно высок. Интенсивный диалог завязался с неутомимым Магелланом: все-таки комплектация кабинета физики оставалась главной целью, ради которой Вольту взяли в университет. Вот письмо от Коупера: рассыпается восторгами по поводу стеклянных и рубиновых трубок, на поставщика которых так удачно Вольта вывел своего знакомого.
А потом выдались счастливые полгода, когда удалось всерьез поработать в лаборатории. Проникновение в секреты емкости проводников настолько радовало, что эти знания как бы сами собой стремились воплотиться в какой-нибудь изящный прибор.
В августе Фирмиан сообщил, что поездка в Тоскану одобрена, и Вольта поторопился подытожить результаты прошедших месяцев, чтоб не бросать их незавершенным комом. 29 августа он написал Сенебье огромное письмо, где всласть выговорился, и сам стал лучше понимать предмет изложения. Впервые прозвучала весть о новом микроэлектрометре, или, попросту, проградуированном соломенном электроскопе. На первый взгляд ничего особенного здесь не было, но ведь не зря же позднее статью с готовностью напечатали в Лондоне, где видали всякие виды, разных авторов и любого сорта научную продукцию.
Как измеряли электричество до тех пор? Сначала по сотрясению тела, по свечению извлекаемой искры, по ее длине. Потом Рихман придумал указатель, чтоб «распознавать, больше или меньше градусов в той или иной электрической массе». Льняную нитку подвешивали на столбике, стоявшем торчком, заряжали и судили о степени зарядки по отклонению.
Но сведения из России попадали на Запад с трудом. И там изобретали собственные конструкции: освещали отклонявшееся острие и его тень проецировали на экран; взвешивали электрические силы, подбирая гирьки, уравновешивающие расталкивание; измеряли зазор между отклонявшимися сухими пробковыми шариками.
Вот в эту сферу занятий метеором ворвался самоувереный Вольта.
Сначала он доделал прибор Генли, улучшив шкалу: деления уплотнялись по мере удаления нитки от вертикали. Ведь при малых отклонениях они росли вместе с зарядом, а больше 20–30 градусов увеличивались гораздо медленное, так что прибор занижал показания. А потом Вольта предложил заменить шарики тонкими соломинками: почти невесомые, они легко разлетались даже при малых зарядах. И воспроизводимость показаний разных конструкций оказалась отличной, так что в разных лабораториях одни и те же опыты наконец-то начали давать одинаковые результаты. Соломинки Вольты продолжали идею, рожденную ниточкой Рихмана!
Вольта не гнался за внешним успехом; жизнь коротка, некогда терять времени, требуется делать истинно нужное, а заискивать перед случайными мнениями — дело слабодушных. Вольта заменил шарики соломинками, но эта безделица повысила чувствительность прибора в 16 раз по сравнению с лучшим электрометром того времени, прибором Генли. Вольта хорошо понимал, что мина замедленного действия сработает непременно, ученью еще оценят эпохальность тихого простого хода, пока пусть работает время. За год-два прибор Вольты незаметно появился чуть ли не во всех лабораториях, ибо работать без него было куда сложнее. Только через семь лет англичанин Беннет пойдет по тому же пути еще дальше, заменив соломинки золотыми листочками. Они чуть тяжелее, но зато на них легче «осаждается» электрический заряд. Но Вольта об этом еще не знал, а потому по праву чувствовал себя триумфатором.
Он писал Сенебье, своему швейцарскому почти ровеснику, даже не по делу, а ради удовольствия. Называл Жана Джованни, всегда нарядного и самоуверенного, даже не физика, а ботаника, больше всего занятого изучением «желудков» растений под названием «хлорофилл». Заодно Вольта рассказал об эвдиометре повышенной чувствительности; про аппарат для усиления электрических атмосфер; про поразившее его здесь, в Италии, невиданное зрелище — мощное северное сияние в ночь с 28-го на 29 июля и еще о многом.
А через неделю, получив в канцелярии 100 цехинов и еще 2000 лир, на то, на се, Вольта покатил в Эмилию и Тоскану. Сначала Болонья: посетил министра Турна, нескольких маркизов и графов, был в операх, картинных галереях. Увы, на карету и еду уходило по цехину в день! И замучили визиты, приходилось торопиться то к аббату Ре, снабжавшему физиков неплохим научным инструментарием, то к графу Альбани, официально представлявшему здесь интересы Англии.
Следом за Болоньей последовала Флоренция. Редкие впечатляющие картины, удивительная Мадонна Лукки, ни с чем не сравнимые росписи в храмах Сан-Петронио, Сан-Доменико, Сан-Мишель. А галереи Уффици, Питти. и академии? Старинные гобелены, книги, алтари. Еще поучительнее все пропитывающий дух предпринимательства, вот с кого брать пример! Но очень уж неспокойные люди эти тосканцы; своей трескучей скороговоркой славят своего графа Рикетти, который нынче под именем Мирабо всем вертит в Париже. Не все ж, говорят, нашим Медичи царить в Ватикане и во Франции. А другие насильно тащат гостей в церковь Сайта Мария дель Фиоре (коль Флоренция — город цветов, так и святая Мария непременно с цветком!), а там (и только там!) только 21 июня в три часа пополудни луч солнца через отверстие в куполе упадет вон на ту медную планку, вделанную в пол. «Жаль, синьор, что вы приехали поздновато, придется повторить через полгода свой визит!»
Нет, эти хитрости устарели вместе с канувшим средневековьем, когда ритмичный ход планет был в диковинку. А вот истинную новинку они проморгали. Речь шла о Пьетрамале, местности «малокаменной», куда Вольту привели легенды о горячей земле, которую Вольта изучил первым (?!), поведав заинтригованному миру о земных огнях и пылающих фонтанах около Цветочного города. Вот как сам ученый через полгода описал происшествие своему брату Серафино, который незадолго до этого получил митру в миланской коллегии Сан-Барнаби и одновременно стал хранителем музея естественной истории в Павийском университете, о чем посчитал нужным сообщить брату Алессандро, с которым обычно не имел никакого общения:
«Проезжал я через Апеннины, направляясь во Флоренцию. Вдруг вижу: земля пылает. Никто не думал, что причиной окажется горный газ, и я этого не знал, полагая вначале, что горит нефть или какие-то природные масла. Однако после осмотра этого места я не нашел даже намека на известные горючие ископаемые, так как на земле не было ни пятен, ни луж, а в воздухе не чувствовалось никакого характерного запаха. К дыркам, извергающим огонь, близко подойти трудно, воздух удушливый, земля сухая и сразу впитывает воду, если спрыснуть. Пламя при этом ослабнет, погаснет, но потом вновь вылетит большим факелом, около которого воздух колышется, соломинки дрожат, а бумажки в руке трепещут.
Собрать газ можно таким образом. Выбираешь место, где земля неплотная, и палкой протыкаешь ямку. Потом льешь туда воду, чтоб ямку заполнить доверху. Когда газ снизу начнет проникать и побулькивать, то к пузырькам подносишь стеклянную банку, собираешь туда газ, а потом проверяешь, есть ли он там, поднося свечу. Вспыхнет, значит, газ попал в банку, и надо точно так же набрать газ повторно, чтоб унести с собой для анализа. Можно собрать много газу, если прорыть канавку и уложить в неё большой сосуд. Кстати, там есть фонтан, вода которого так насыщена газом, что рев стоит, так бурлят струи, из которых газ выходит». (Следует помнить, что вместо слова «газ» употреблялись слова «горючий воздух».)
Приехав домой, Вольта сразу построил лампу на этом горючем газе, который заключался в специальном сосудике, а к лампе еще эвдиометр для определения качества газа, то есть его состава. Кстати, учёный на 167 лет опередил промышленность: только в 1947 году флорентийская фирма построила в Пьетрамале маленькую установку для добычи метана, повесив для туристов мемориальную доску об открытии этого месторождений знаменитым Вольтой.
Не успел Вольта вернуться в Ломбардию, как его снова закружил вихрь неотложных дел. Он снова пишет про микроэлектрометр к Сенебье (3 ноября) и к Ландриани (22 декабря), с удовольствием читает сообщения, что его эвдиометры неплохо продаются, многим приглянулись электрические пистолеты на болотном газе. А в ноябре де Тинан из Страсбурга длинно и взволнованно делится наблюдениями, которые были сделаны с помощью прибора Вольты. Бутылка вроде бы уже полностью разряжена (речь идет о лейденской банке), но если к ней прикоснуться монетой, которую держать рукой в кожаной перчатке, то удается еще 15–20 раз отсасывать электричество из вроде бы пустого сосуда!
Вот оно, наблюдение конденсаторного эффекта! Чуть позднее Вольта повторит опыт де Тинана, разберется в физике процесса, а потом предложит миру замечательный микроэлектрометр с конденсатором. Что же сделал Барбье де Тинан? Он касался заряженной банки монетой, на нее перетекала часть заряда, из земли через ноги в руку натекал заряд другого знака, который по индукции через перчатку подсасывал из байки на монету еще больше электричества, и емкость такой композиции существенно вырастала. Потом заряженная монета отсоединялась и отдавала заряд столу, стене, например. И снова цикл разрядки можно повторять.
А что сделал Вольта по размышлении? Он заменил монету головкой электрометра, а потом касался головки изолированной рукой. С банки на головку прибора натекал повышенный заряд, и соломинки широко раздвигались! Но вместо руки можно приближать к головке прибора любое заземленное проводящее тело, например медную пластинку, обмазанную шеллаком или клеем. Так родился прибор с конденсатором, имеющий рекордную чувствительность.
Тинан не понимал того, что делал. Действия его были неосознанными и ему самому непонятными, он словно играл вольтовым прибором. Вот бы собрать все открытия, которые невзначай совершаются детьми при игре!
Все же неплохо крепко сидеть в своем седле! Иногда Вольте казалось, что его долгими трудами налаживалась невидимая посторонним, но отлично действующая система снабжения, обеспечивающая его сторонними ценностями. Конечно, он платил сторицей, но и к нему будто по десяткам трубочек притекала информация, он ее как бы переваривал, впрыскивая свою порцию.
В голове настойчиво возникал образ паука. Что ж, пусть! Этот неприятный образ лучше держать при себе. Но своей порцией он все же заметно инициировал события в разных концах паутины.
И на службе он нужен. Фирмиан ценит его высоко, ибо Вольта — неплохая приманка для компетентных специалистов. Сильные тянутся к сильным, кто ж поедет в дыру с безликими статистами? Вот-вот с подачи Вольты успешно закончится нехитрая, но полезная комбинация с врачом Галетти: вроде бы удалось сманить сюда из Флоренции известного акушера-гинеколога.
Высокое общество Павии наверняка оценит полезное нововведение, ибо речь идет о здоровье матрон, о появлении на свет их детей и внуков. Сейчас женщин приходится возить в Рим, Милан, Турин, но с негодной практикой пора кончать. Слов нет, как умно и ненавязчиво потрафил граф с подчиненным влиятельному нобилитету.
Незаметно окончился год, близок день рождения. По-привычке подводя итоги, Вольта задумался: как бы заранее отбирать главное из наваливающейся суеты? Впрочем, немыслимо: заранее нельзя было предвидеть поездки в Тоскану, а там проезда мимо горящей земли. Если б он не сделал электрометра с соломинками и не разослал ого описания знакомым, то Тинан не смог бы провести опыта с монетой, пытаясь добиться полной разрядки лейденской банки. Так что якобы ненужное вплетено в единую цепь событий, изменить которую нам вряд ли по силам, а наше дело сводится к извлечению полезного из всего потока, протекающего через сознание, чтоб акцентировать внимание на особо полезном и склонить судьбу и желаемую сторону.
Глава четвертая (1781–1793). ВЕРШИНЫ
Четвертая дюжина лет ушла на светские и личные дела. Способного профессора пригласили в Петербург, но он отказался. В ходе нескольких поездок по Европе Вольта сошелся со многими светилами науки, но, пока он разъезжал, умерли близкие ему люди. Его вводят в академии разных стран, но в то же время из университета изгнали брата, сам Вольта думает об отставке, не ладятся сердечные дела. Он трудится, как мощная научная машина, но заметные результаты приносят лишь начало и конец этого периода: создание электрометра с соломенным указателем и конденсаторным усилителем и новое истолкование опытов Гальвани по «животному электричеству».
Посланница России.
1781 год начался обычными заботами. Львиная доля времени уходила на оснащение кабинета приборами, деловые встречи с Фирмианом, установку оборудовании вместе с безотказным аббатом Ре. Приходилось доказывать, чем хороши парижские машины («элегантны, прекрасные клапаны, хрустальные, словно венецианские, стекла»), какие приборы непременно нужно заказать, где их монтировать, как оплачивать поставки, как вывезти из Генуи аппараты, доставленные из Лондона шведской шхуной «Фреден» («всего три месяца, как заказаны Магеллану, и уже здесь!».
Снова Лорна из Вероны сообщает про свое: публикации будут нечастыми, печатать будем лучших людей, а члены нашей академии и твои коллеги Спалланцани и Фонтана наконец-то одобрили статью о горючем газе, через два месяца будешь держать в руках. Не забыть порекомендовать Фирмиану своего ученика Иосси, сейчас он учит грамматике в Комо. Его Вольта характеризует как хорошего физика.
К весне смонтировали и запустили в ход удивительные машины: двойной планетарий с зубчатыми колесами («получен через Магеллана за 40 гиней;[15] с годовым движением планет: ни у кого нет, кроме университета в Турине»), прибор Соссюра по вариациям склонения магнитных стрелок («есть только в Женеве»), папинов котел («через Ландриани, возможно, что такой же имеется в Вене»), новую силовую машину Атвуда. В кабинете появились оптические приборы Гравезанда («по 12 гиней!»), большая зажигательная линза («за 25 гиней, такая только у императрицы российской!»), микроскопы, камеры-обскуры, пинты Архимеда, демонстраторы вращения, удар» и инерции, плотности и угла отражения, свободного падения и отскока, движения шарика по циклоиде и вытекания водяных струй по параболе, а кроме того магниты, эолопилы, весы, рупоры, электрические машины и многое другое.
Все эти сверкающие новинки исправно включались, постукивали и щелкали, удивляя невиданной мудростью поведения. Сравниться с ними могла разве только знаменитая утка механика Вокансона, которая махала крыльями, крякала, наклонялась, вытягивала шею, пила, глотала зернышки и ими же испражнялась. Но ее сделали уже давно (1741) и в Париже, где за три-четыре года до того швейцарцы отец и сын Дрозы исхитрились построить пианиста, художницу с кистью и железного мальчика, пишущего пером. Посетители Вольтова кабинета заодно вспоминали другие диковинки механики — шахматного робота Кемпелена, побеждавшего умелых шахматистов (правда, знаменитый железный игрок был обманом — внутри ого сидел небольшого роста человечек), колесо Орифириуса, вечно крутящееся, и недобрым словом поминали консерватизм парижских академиков, запретивших в 1775 году даже думать о вечных двигателях.
Вольтовы машины Пыли рядом, с их помощью не просто удивляли, а вразумляли и объясняли, «секреты» природы открывались посетителям, а не со стороны поражали их воображение. Вот почему все чаще появлялись делегации и сиятельные посетители. В мае побывала герцогиня Пармская, чтоб взглянуть на опасных конкурентов в гонке к Просвещению. Она сообщила, что Вокансон строит флейтиста (через год старый мастер умрет), а Кемпелен — пишущую машинку, но придется ждать, а потом ехать за границу, в то время как мы сами можем удивлять мир!
И точно, в июне пожаловала русская княгиня Дашкова с эскортом. «Покажите все, конечно лично, это чрезвычайно важно», — паниковал Фирмиан, засыпав депешами. Высокая гостья прибыла с двумя детьми и немалой свитой. Вольта показал свой зал, многие экспонаты в действии, опыты с газами, а после обеда химические реакции, электрофор и пистоль. Потом Спалланцани провел визитеров мимо окаменелостей музея естественной истории, и посещением ботанического сада экскурсия завершилась.
Вольта подробно отчитался, но умолчал о конфиденциальном разговоре, который шел то на французском, то на итальянском, а эта маленькая властная женщина с печальными глазами знала еще немецкий и английский. Всего на год старше, и такой запас знаний! Возможно, что беседа была связана с тайным (позднее ставшим явным) поручением самодержицы Екатерины II, надумавшей поручить своей подруге руководство наукой российской. И действительно, в 1783–1796 годах Екатерина Романовна Дашкова, урожденная Воронцова, стояла во главе Петербургской Академии.
«Аз есмь в чину учимых и учащих мя требую», — сказал в начале своего царствования Петр I. Еще с тех времен началась практика приглашения в Россию иностранных корифеев. Вольта вполне годился на роль «научного варяга», российского академика, но он все же воздержался от согласия. Отчего же?
Из итальянцев в России служили скульпторы, живописцы, музыканты, рестораторы. Вот уж два года как Кваренги, архитектор из Бергамо, отбыл в страну льдов. Кто же не слышал о Камероне, Росси, Растрелли, Фальконе с его «Медным всадником»? Вольта стал бы академиком по физике; там были два сильных электрика, Рихман и Ломоносов, но их жизненные пути давно пресеклись.
О Ломоносове в Италии немного помнили. В недавней поездке во Флоренцию Вольту поразили «камни Сибирии», попавшие в музей уж лет пятнадцать назад. Как раз тогда болонцы избрали Ломоносова в свою академию за удивительные мозаичные работы по докладу секретаря Занотти (Вольта был с ним знаком), и об «итальянском взлете помора» восторженно писалось в «Санкт-Петербургских ведомостях». Но год спустя северный самородок умер, так и не вкусив зарубежной славы.
Запад знал о Ломоносове: про членство в Шведской академии, насмешки над попами, скандалы с академическими немцами, про слухи о ночезрительной трубе. Человек со стороны мог бы даже назвать Вольту «итальянским Ломоносовым», настолько схожи их судьбы. И тот и другой родились в семьях среднего достатка, далеко от столицы, оба они не кончали университетов, но трудами и способностями вошли в число великих ученых XVIII века. Они изучали электричество и химию, слагали стихи, строили приборы, пытались разгадать секреты сонорных сияний, ветров и перемен в погоде.
Покровительствовала Ломоносову партия графа Шувалова, но при Екатерине эти люди отошли на второй план. Однако после поездки графа в Болонью и попутного представления там своего подопечного на академическую премию в дом к больному ученому запросто заехали императрица с Дашковой, поздравляли задушевно и были весьма милы с «русским медведем», прославившимся на Западе!
Самой Дашковой выпала не очень счастливая судьба. Четырех лет девочка потеряла мать, воспитывалась в доме дяди, канцлера Воронцова, который дал ей хорошее образование. В 16 она вышла замуж, а через два года помогла Екатерине избавиться от мужа, дискредитировавшего себя позорным и скандальным отказом от победы России над Пруссией в Семилетней войне!
Отношения княгини Дашковой с Екатериной вскоре осложнились, потому что Дашкова, бесспорно одаренная государственным умом, имела два больших недостатка, помешавшие ей сделать карьеру: она не умела молчать, ее язык резок, колок и не щадит никого… Сверх того она слишком горда, не хотела и не умела скрывать своих антипатий» (А.И. Герцен). Вот под кем быть Вольте, если б поехать в Петербург!
А сейчас Дашкова путешествовала с сыном и дочерью, чтоб не вспоминать о своем горе (смерти старшего сына), чтоб детей образовать и Европу посмотреть, чтоб принять на свои плечи Российскую Академию. Она «с удовольствием виделась с Дидро», Кондорсе, Байи, Лаландом и Фальконе во Франции, посещала университеты и монастырские архивы в Италии, побывала в Вене, Брюсселе, посетила Англию.
О России Вольта знал по Вольтеру («История Российской империи под Петром Великим», 1759), по нечастым газетным сообщениям, по «Трудам Петербургской Академии», издаваемым на латыни, и, конечно, по Жокуру — академику Берлина, Лондона, Бордо и Стокгольма, написавшему в 1765 году соответствующую статью в «Энциклопедию». Из псевдоученой стряпни академика-борзописца явствовало, что страна эта велика и неграмотна, даже к христианской религии и тем самым к культуре приобщена совсем недавно. Черпая свое «вдохновенно» с потолка, Жокур сообщал далее, что хоровое пение в храмах у этих варваров введено относительно поздно. Путая подлинные и мнимые известия о далекой стране, Жокур живописал далее: доход от торговли с Китаем шел «на булавки» императрице, питались-де русские плохо (огурцами и вареными арбузами), русскому солдату платили треть от жалованья немецкого или французского, урожаи там плохие, сообщал далее Жокур, там царят снега и льды. Единственное же благо то, что озера и леса России обильны рыбой и зверем. Если даже десятая часть жуткой картины Жокура была норма, то Вольте не хотелось ехать и чудовищные российские края: климат холодный, опасные беспорядки во внутренних и внешних делах, фактическая изоляция от ученых Запада из-за географической удаленности. Уж не молод, здоровье оставляет желать лучшего, так что на далекий северо-восток лучше не ехать. И Вольта поехал в другую сторону, на северо-запад, к французам, голландцам и швейцарцам. И не на много лет, а всего на четыре месяца.
«О, que je suis content!».[16]
На следующий день после визита Дашковой Вольта снова получил послание от женевского библиотекаря Сенебье. Тот с жаром вспоминал про вольтово северное сияние («Падре Хелл полагает, что оно должно двигать магнитной стрелкой. Здорово, если Вы поставите такой опыт!»), хвалил микроэлектрометр («замечательная идея!»), разглагольствовал о металлах («их можно растворять в кислотах, а потом выделять обратно из растворов»), о волосяном гигрометре Соссюра и прожектах Делюка, возбужденного какими-то роговыми пластинками или чешуйками, которыми можно бы заменить волос. Вольта ответил. Странное дело, надо ли так разбрасываться мыслями сразу обо всем? Быть может, мозг должен разогреваться, как мышцы при разминке?
Фирмиана взволновал ноток высоких гостей. Он всегда рьяно выполнял указы относительно максимального благоприятствования просвещению, но столь могучие визиты? Не ожидал, кто б мог подумать! Не мешкая, удваиваем затраты на курс экспериментальной физики! Ускорьте ввод в строй анатомички Галетти! Следует то обновить, это прикупить: срочно собирайтесь за приборами в Лондон и Париж, возьмите помощника, передайте курс другому, ведь поездка рассчитана на четыре месяца!
Вольта не настаивал на такой поездке, но если уж повезло… Он в два счета представил справку о состоянии дел с Галетти, получил у банкиров деньги (не шутка, 500 цехинов), обзавелся адресами агентов, рекомендациями к влиятельным персонам, заграничным паспортом. Теперь два слова Фирмиану («весьма полезная командировка, у меня много идей насчет опытных демонстраций в дороге, некоторые опыты чудо как хороши!»). 16 сентября, уже выехав из дому, проездом через Турин послал в Женеву просьбу к Сенебье: «Желательно встретиться с Соссюром, буду у вас день или два, хорошо бы моим сиятельным попутчикам, едущим следом, посетить Вашу библиотеку и научные кабинеты».
Вояж начался. Ох, и долгим же он оказался! В университете Турина посетил кабинеты физики («нам бы такие!»). Потом Моншени, Савойя, Шамбери. В Лионе очень хорошее книгохранилище, внушительна коллегия иезуитов. В женевской библиотеке царит Сенебье. И обо всем подробнейшим образом написано Фирмиану и брату, одному сдержанно, другому раскованно: о людях, коллекциях минералов, размещении приборов, кто что сказал и как все хорошо. А Фирмиан благодарил, советовал не забывать рекомендательных писем. Перед Луиджи можно расстегнуться: «Я и Париж? Тот самый Париж, который у всех на устах, есть главная цель поездки! Но как не дешева почта: за письмо 24 французских сольди!» Теперь подробно о маршруте, куда сколько миль, какие дома и как расположены.
Вот пролетели Лозанну, Берн, Солетту, Базель, Страсбург, Кардсруэ, Мангейм, Вормс, Майнц, Кобленц, Воин. Во дворце князя в Баден-Бадене «невиданная роскошь: турецкий сераль, горячие ванны, модные лабиринты, золото соборов, бронза монументов, белый мрамор статуй. И так везде. Вот это поездки! Что будет дальше, умопомрачительно!». Наконец Брюссель: «17 ноября рано утром с первым дилижансом проехали три города, один крохотный и грязный, второй соперничает с первым, а третий точно соответствует провинции, где находится, — австрийскому Брабанту». Чудо какие места, кружева, непревзойденное сукно, лен, цикорий, породистые животные. Кстати, Брабант перешел от Испании к Австрии по Утрехтскому миру 1713 года. И Ломбардия тоже. Чуть ли не к братьям-ровесникам попал. А люди — неизвестно кто лучше, фламандцы или валлоны.[17]
В письмах подробно каждый шаг, каждое действие. «В Брюсселе обосновался аббат Рейналь, — сообщает Вольта брату, — тот самый автор нашумевшей книги про Европу и колонии. С ним даже хотели познакомиться короли Пруссии и Испании, но он уклонился». Да, Гильом Рейналь был непрост: как и Вольта, он вышел из среды бедного духовенства и успел накопить немало впечатлений, отслуживая за восемь су вместо других аббатов мессы. Он успел выпустить три компилятивных книги о судьбах принцев Оранского дома, давших наместников в Нидерланды, об английском парламенте и о разводе Генриха VIII и Екатерины Арагонской. Любопытный щелкопер, но за прелюдией прозвучали серьезные заявки.
Главной книгой эрудита Рейнали стала «Философская и политическая история колоний и торговли европейцев в обеих Индиях», сначала в четырех, а в 1780 году — в 12 томах. Здесь уже аббат не потрафлял публике, а изливался всерьез. Пользуясь дружбой с Гельвецием, Гольбахом и Дидро, Рейналь собрал немало данных и осмыслил роль открытия Америки и колонизации Индии, а также значение работорговли для развития Старого Света. Своим громоздким исследованием аббат угодил сразу двум полюсным кланам: людям государственным, получившим редкий шанс задним числом оцепить ход экономической истории, и либералам, которые упивались критикой работорговли и призывами к просвещению. Торговля и мануфактуры — вот что, по Рейналю, превращало рабов в подданных. Но никогда не перестанут враждовать работодатели и продавцы своего труда, ибо интересы их противоположны, вещал плодовитый Рейналь, наспех выдавая массу спекулятивных суждений и оставляя другим разбираться в подлинном смысле изложенных им истин.
Но экономико-философские книги были не по Вольте, призванном для конкретных дел, а не отвлеченных умозрений. Наскочив на бывшую у всех на устах книгу и отдав тем дань моде, он, настроенный радужно-восторженно-умильно, ринулся в семейные глубины. «А почему ты не пишешь? — обращается Вольта к брату. — Не случилось ли чего дома? Уж два месяца я о вас ничего не знаю, напиши мне в Лондон до востребования, я скоро буду там».
Но нет, в Англию Вольта попадет не так скоро. 22 ноября выехал он из Брюсселя в Роттердам: «Переезд короткий, коротким будет и мой рассказ о нем. Лошади в восемь ног несли нас по лучшей в мире дороге, по сторонам обсаженной роскошными деревьями». Все радовало счастливчика: аккуратные городки, башни («выше которых лишь облака»), картины лучших живописцев фламандской школы; каналы с барками; спокойное безопасное море, отделяющее Остенде от Англии.
И вдруг снова прозвучало певучее слово «Россия», будто сосульки зазвенели. «Я приглашен к русскому министру князю Голицыну. У него чудесный дворец с роскошным садом, но министр ужасный дилетант в физике, что меня весьма охлаждает. Надеюсь, ты меня понимаешь?» Молодого капитана Голицына еще в 1760 году прислали в Париж приобщаться к дипломатическим тонкостям под начало дяди, но тот вскоре отбыл в качестве посла в Вену, племяннику же пришлось изрядно попотеть, прежде чем дослужиться до ранга министра при французском дворе. В Париже общительный Голицын сошелся с Дидро, его соратниками, людьми искусства, но в 1768 году был послан в Голландию. Там особо интересовался минералами (как все), еще атмосферным электричеством и вулканизмом, сблизился с небезызвестным ученым Марумом. Какое там «дилетантство в физике», напротив!
В год визита Вольты Голицын уже был членом академий в Брюсселе и Петербурге, а позднее вошел в научные общества Берлина и Лондона, Его удручали академические нелады в Петербурге, он много сил тратил на сближение ученых России и Запада. С Вольтой было о чем поговорить, тот стал чуть ли не последним визитером, общавшимся с посланником, ибо вскоре Голицын службу бросил, но остался жить попеременно в Голландии и герцогстве Браушвейг. Общение с просветителями даром не прошло: князь обеднел, разошелся с ревностной католичкой женой, однако научных занятий не оставил. В конце концов, он собрал неплохую коллекцию минералов, первым из русских построил вольтов столб, потом через год безуспешно сватал в Петербургскую Академию еще одного «изумительно талантливого молодого математика» по имени Гаусс. Вероятно, Голицын повторно пригласил Вольту в Россию, но тот не смог сообщить брату об этом прямо, опасаясь австрийских цензоров, возможного вреда по службе. Похоже, что Вольта снова отказался из-за «весьма охлаждающего» северного климата. Не менее вероятна и другая версия: как лицо официальное, Голицын приглашение передал, но как лицо частное, ехать не посоветовал. Уж очень скверные дела творились в то время в Петербургской Академии. Полный упадок, большой беспорядок, так считали многие из тогдашних академиков. Комиссии, разбирательства… В январе 1783 года Дашкова принялась наводить порядок в храме российском науки.
Пока Вольта разъезжал по Бельгии и Голландии, в Лондон уже хлынули письма от жаждущих адресатов, успевших насладиться первыми письмами вояжера. Какой слог, сколько фактов, как остроумно! Еще, пишите еще, заклинает Печчи из Милана. И Вольта расписывает, как аккуратны чистенькие домики около Амстердама; «будто отлакированные», — повторяет он не раз и не два. Чаще вспоминается дом, все удлиняется список лиц, которым надлежит передать привет. Ездок притомился от дорожных впечатлений, в нем проснулся домосед. А брат недоволен (декабрь 1781 года): «Письма твои дома читаем вслух, но очень уж они запаздывают. Ты, конечно, ни при чем, но между подробными посланиями бросай на почту маленькие письма. Очень уж всех нас изматывает ожидание конвертов от тебя».
А с Вольтой приключился маленький казус. Он ехал при маркизе Виллани. Та везла сына для образования, сопровождать ее должен был сперва экс-иезуит, некий месье Клаве, которого в последнюю минуту сменил полковник Колли, Вольта же — больше для блеска кортежа. У Ла-Манша маркиза закапризничала, боялась плыть морем. Вольта подозревал, что причиной изменения маршрута стали меркантильные уловки, но в тонкостях не разобрался. Пришлось мчать в Париж, чему возражать он не стал, а там дожидаться спутников. Фирмиану пришлось проглотить нарушение задуманного графика, ибо Вольта подчинялся маркизе, а не наоборот. (Как и великий Фарадей через 35 лет, при поездке «бедным сопровождающим» при супругах Дэви. Прямая преемственность между великими электриками! Ведь сэр Хемфри Дэви, как-никак, ученый для своего века не последний, и ничем не примечательная маркиза.)
В начале января 1782 года Вольта приехал в Париж. «Остановился я в большом отеле «Бурбон» на улице Креста. Мой постой куда скромней, чем я воображал: слева комната прислуги, справа так, пустячок, с приспособлениями для нужд, и рядом бельевая кладовка. Зато невдалеке королевский дворец, и Тюильри. Туда и сюда мчатся каретами какие-то «вольты», не обращая никакого внимания на потоки грязи, которые летят в стороны и обдают прохожих. А те обращают.
Тебе наверняка покажется странным мое состояние, но я все же поделюсь. Сидеть мне или стоять при маркизе Виллани и полковнике Колли? И вообще в таких же случаях? Когда мне в голову пришел этот вопрос, я не знал, жить мне или лучше умереть, быть или не быть, как сказала бы мама. Еще до Ахена я был себе хозяин, но в Страсбурге уверенность начала меня покидать с того момента, когда в доме у синьора Майнони у синьоры маркизы появилась горничная, слуга и горы багажа. Напиши, как мне быть, я уж три недели в угнетенном состоянии».
Но Париж исцеляет! Вольта бродил по улицам, кафе и ресторанам, заходил в музеи, шлифовал свой французский. 21 января «в Париж днем торжественно въехала королева Мария-Антуанетта и сразу в храме вознесла хвалы небу за удачную помолвку восьмилетнего дофина. По этому случаю в кварталах простонародья устроены фестивали, балы, банкеты. Те, кому повезло, видели в центре на площади Греве фейерверк. Дворец великолепно освещен и украшен. Зрелище восхитительное, в эскорте конные гвардейцы, экипажи сияют, дамы похожи на роскошные редкие цветы, в театре восхитительный спектакль, обед у короля и придворных, даже графиню д'Артуа, обычно больную, отпустила лихорадка».
Придворная жизнь буквально оглушила бедного провинциала. Конечно, на светских праздниках Вольте места не было — мелкая сошка, Но он разевал рот вместе с обывателями, волновался сообщениями о великосветских эксцессах. Париж казался ему сценой с первоклассными примами, где звучит музыка, сверкают драгоценности и бродят счастливые статисты. А сам он, пытаясь разглядеть феерию, тянул шею с заальпийской галерки, восторгаясь пьесой а-ля Расин, чтобы рассказать о ней жаждущим домашним. Все же до любого посетителя Парижа тех лет неминуемо доходили слухи о причудах и выходках Марии-Антуанетты: ее нескрываемой англомании, ее надменности («а чего ж ждать от этой австриячки?»), ее властности («генеральный контролер финансов Тюрго, пытавшийся наладить дела опустошаемой ею казны, и двух лет не продержался!»), ее наплевательском отношении к людям («У них нет хлеба? Пусть едят пирожные!»). И конечно, о распущенности («В 11 король в постель, а она в Пале-Рояль — парк свободной любви — или в «Гранд опера», на маскарады, за карты!»).
Скромный Вольта не совался со своим уставом в чужой монастырь, ему даже нравилась изящная красивая жизнь. Но надо было работать, ведь муравей! — не стрекоза: он посещал курсы химии у профессора Сажа и физики у профессора Шарля, бывал у Сиго де ла Фонда в мастерских, где делали физические приборы. Фирмиан как раз просил дополнительно заказать аппарат по гидростатике. И Вольта докладывал графу подробно: «Пишу Вам, эччеленца,[18] сразу после рождества. На море была зима, дули пассаты, в газетах писали, что прорвана вся связь морем с Англией из-за штормов. Нас удержало только наитие, около Остенде на берег выбросило пять шхун. Мы там сидели как пленники, потеряли три недели. Вместе с банкиром Каччи высчитав все «за» и «против», мы решили свернуть в Париж, и заодно отправим оттуда машину Сиго для Павии». В марте Фирмиан задним числом дал санкцию на эту самодеятельность, разве ж мог понять этот балбес профессор, что стал игрушкой в руках маркизы, сорвавшейся с домашней цепи?
В начале февраля до Парижа добрались спутники Вольты. «Они остановились в гранд-отеле «Русь» на улице Ришелье в роскошных апартаментах по 24 луидора в месяц! А я уже истратил на поездку 190 цехинов за пять месяцев». «Немного», — успокоил его брат и выслал добавок.
Тогда же люди из Парижской академии попросили Вольту прочитать лекцию с показом опытов. Вольта прочитал и показал, народу собралось много, среди них светские дилетанты и настоящие ученые. Но и обычную публику тоже пускали. «Со многими познакомился, как-то на обеде сидел рядом с Бюффоном, Франклином, Сажем, Ле Роем, Лавуазье. Отнеслись ко мне хорошо, я не заслуживаю столь большой чести. Здесь только одна Академия, не то, что у нас. Заодно просили что-либо представить для печати. В академическом музее обнаружил свою меморию о Пьетрамале, стало быть, знают и читают мои работы. За нее-то меня избрали членом-корреспондентом».
А в марте новая демонстрации с применением новинки — электрометра с конденсатором и, конечно, эвдиометра («Потом поставил опыт в присутствии Лапласа и Лавуазье, я был счастлив, что присутствовали Франклин и Соссюр»). Вода закипела, стала бурлить, и на сосуде начал появляться отрицательный заряд, а в паре — положительный. Вот как в тучах собирается избыток электричества! (Араго сообщает другую версию: якобы сперва опыт не удался, а на даче у Лавуазье в присутствии Лапласа получился, но Вольты тогда не было. Маленькие шалости Лавуазье, впрочем, известны, но разве не Вольта придумал и продумал опыт, разве не он привез в Париж нужные приборы, разве не он занимался именно этой темой многие годы?)
На досуге перед Вольтой весь Париж. «Лучшие в мире женщины, поистине здесь царит сама женственность… Наслаждаюсь литературой, её здесь много. Гуляю по городу, обедаю в знаменитых домах, куда приглашают любители и знатоки естествознании. Я не часто бывал в обществе и практически ничего не знал о жизни этого круга людей. У меня нет никакого желания столь щедро тратить время, но приходится, потому что приставлен ходить за маркизой. Вчера, к примеру, были на обеде у императорского посла графа Мерси, среди влиятельных гостей самой важной была та самая русская дама.[19] Вроде бы я этим людям нескучен, а мне такие визиты на пользу. В Париж приехал папа, я был на концерте спиритуальной музыки, но все же в музыке я полный профан».
В апреле снова ворох разнообразных новостей; «Королева заболела рожей, но легко. Напечатал небольшие заметки о грамматике и правилах стихосложения. Сын аббата Курьони учит языки, а младший Порта написал сатирическую брошюрку, мне нравится. Русская императрица сделала графу Бюффону сенсационный подарок: 36 больших золотых медалей с изображением великих событий в ее царстве и две сказочных шубы по 2000 луидоров каждая. Растроганный Бюффон поблагодарил, а государыня в ответ прислала любезное письмо, полное похвал, восхищений и восторгов по поводу его вечного труда о систематике происхождения Земли, последующем охлаждении, развитии жизни, появлении людей и других животных, их перемещений от полюсов к экватору. Письмо написано собственной рукой императрицы, я сам видел его в доме Ленуара, куда оно доставлено для Бюффона главой парижской полиции. Я здесь часто бываю, ибо даю уроки физики дочке мадам Нантейфель».
Необычный, импульсивный, простоватый, симпатичный, высокий, разговорчивый, высокоученый итальянец похож на новую игрушку. До сих пор радости высокого порядка доставлялись в высокие дома музыкантами, певцами, поэтами, недавно в гостиные смело вошли философы и социологи, а теперь физики и химики. Вольта временно захватил внимание аристократического Парижа. Вот, к примеру, мадам Нантейфель просит Вольту «прочесть лекцию об электричестве в узком кругу, для мужа это будет сюрпризом, а мадам Бульон передает Вам мильон комплиментов». А Луиджи, взволнованный многообещающим вращением брата в высших сферах, шлет советы из Комо: «Привет от Гаттони. Будь поразговорчивее с Франклином. И побольше узнай про парижских монахов, как они организованы, распорядок дня, мероприятия, про духовную жизнь. А Тереза Чичери расцветает, когда упоминают твое имя».
Пребывание в Париже закончилось. 23 апреля 1782 года тронулся в путь без компаньонов («их море пугает»). Из Парижа снова в Брюссель — 200 миль, там Остенде, Гейт, Брюгге — еще 80, морем до Маргато — 60, посуху до Лондона — 72. Будто счетчик щелкает в мозгу у профессора, привыкшего напряженно думать, ходить, писать, говорить. А тут столь долгое расслабление; отдыхать полезно, но память о хомуте приятна рабочей лошади. В Брюсселе встречал Магеллан (он нанят сопровождающим), там баркой по изумительным каналам, прекрасные обеды в тесной компании, погода чудесная.
Потом Кентербери, Рочестер, а 3 мая в Лондоне: Флит-стрит, Стрэнд, парк Сент-Джеймс, собор святого Павла. Как в тумане, все мелькает, одно сменяется другим. Мужественно выстоял до конца: представлен послу Бельджойзо, встретился с президентом научного общества Бэнксом («ничего нового по электричеству у лордов нет, а у меня микроэлектрометр, встретили экзальтированно»).
А встретили Вольту и впрямь восторженно. Да и как можно остаться равнодушным: ведь аудитория заранее читала его статью, чувствительность прибора чудовищно высока, слушатели сами работали с электричеством и знают, почем фунт лиха. Конденсаторная пластинка над головкой прибора наряжалась по индукции и засасывала в прибор все новые порции заряда. Ничтожное напряжение, а заряда вполне достаточно, чтобы соломинки разлетелись далеко. Конденсаторный эффект создавал еще эффект психологический, зрители восторгались, Вольта утомленно улыбался.
Затем он сидел на разных докладах, беседовал с людьми, наконец отбыл из Лондона. «Города, каналы, фабрики, пристани. Представлен доктору Пристли. Магеллан просто спасает: он и помощник, и переводчик, и физику знает. Тут у них «тротуары», у нас такого нет. Это каменные дорожки вдоль домов шириной на двоих прохожих, а по середине улицы ездят «фиакры». Все ходят в «клубы», не сидят дома, как мы».
Вот, например, 6–9 июня, Бирмингем: обед у Болтона, беседа с Пристли и Уаттом. Этот сутулый длинноносый печальник только что придумал конденсировать пар в машине, а не сбрасывать впустую. Интересная встреча с химиком Генри, у Рейнольдса паровая машина, у Кетли в Коалбрукдейли видел «железную дорогу: два железных бруса с перекладинами проложены на много миль. По ним в тележках на колесах с ребордами возят руду и уголь. Но не велик ли расход железа? Вот зачем в Честере и Хъюсбери построили такие большие печи для выплавки железа, из него даже парапеты и ограды делают». А до появления паровозов Вольта не доживет, 48 лет ждать, хоть дороги уж давно готовы.
Через две недели Оксфорд. Ослепили Тициан, Рафаэль, Корреджо, Гвидо, Караччи, Ван Дейк, Рубенс. И старый «огнепоклонник» Вольта вспомнил жару, голубое небо, теплые края, а в голове всплыли великолепные строчки из Торквато Тассо. Вот чудеса, писал больше двухсот лет назад, все больше о придворной любви, о крестовых походах, во славу католицизма, а тут: «Знаком священным (хоть вера давно позабыта) солнце огромное вдруг изукрасило местность. Как услаждает искусство природы великой, что подражает шутливо картинам больших живописцев!»
В июле Вольта попал в Гринвич. Огромный парк, большая обсерватория, рядом судостроительный завод на Темзе, тут же школа артиллеристов, а вблизи другая обсерватория. Там «рыскало по небу» семейство Гершелей, главу которого, Фридриха Вильгельма, король Георг III только что удостоил чести стать приватным астрономом за открытие планеты. Родом из Ганновера, Гершель приехал в Англию подработать игрой на органе, но, пораженный успехами науки, решил податься в акустики, для чего сперва засел за математику. Для развлечения взялся соорудить небольшой телескоп, чтобы, глядя на небо, не так много думать о жизни, и вспоминать о родине. Самоделка, однако, получилась столь мощной, что в марте 1781 года Гершель заметил маленькую зеленоватую звездочку, которая оказалась далекой планетой Уран, шестой но счету за видимыми невооруженным глазом Меркурием, Венерой, Марсом, Юпитером и Сатурном. Гершели проводили за телескопами ночи и дни.
Вольте небо ни к чему, но как не познакомиться со знаменитыми учеными? К тому же его новый коллега — парижанин Лаплас интересовался небесной механикой, будущий знаменитый Лаплас, граф и маркиз с так и неизжитыми манерами выходца из крестьянской семьи. Остаток месяца Вольта пробыл как бы в высших сферах мироздания.
А в конце июля наш путешественник уже плыл на шхуне из Дувра в Кале. «Меня просто ошеломляет, — начал перестраиваться с северного на южный лад Вольта, — как они могут жить без солнца и тепла? 3–4 дня в июне, день-два в июле, и больше за всю поездку теплых дней не было. Тут не вспотеешь, даже мухи, блохи и подобные твари выжить не могут. За много дней вне Италии я уже привык к тучам, туманам, бесконечному дождю. Неужели где-то весь день светит солнце? Нет, в этих краях жить не хотелось бы».
В августе Марум поздравил Вольту: «Тебя избрали членом гарлемского научного общества, а я в нем пятый год директором музея естественной истории». Потом Лилль, Брюссель, Ловано, Тирлеман, Льеж, Сна. Проезжал селение Фонтане, где происходила известная баталия, когда Вольте было три месяца от роду; даже у Вольтера есть поэма под тем же названием. А живут, по мнению Вольты, в австрийской Бельгии «просто брильянтово. Нам бы так». Что значит наблюдать за жизнью из окошка дорожного экипажа!
В Спа пришлось задержаться: «В этом маленьком курорте с минеральными водами растят спаржу, а когда-то стояли спаги, испанские кавалеристы из арабов. Погода будто с цепи сорвалась, холодно, дождь проливной, деревни затоплены, многие дома под водой, немало овец и лошадей утонуло. Здесь многие пережидают наводнение, бароны и князья разных наций, один американец и русский из литовцев, граф Огинский. Ему всего семнадцать лет, а он уже маршал конфедерации, и кто-то здесь похитил у него роскошную табакерку, усыпанную бриллиантами». Пройдут десятки лет, и сентиментальный Вольта пригорюнится, вспоминая свою поездку, когда услышит печальные полонезы знакомого шляхтича, в которых тот прощался с родиной.
А дорога вела к дому. Арденны, Люксембург, Мец, Нанси («Город меня очаровал, и дорога словно не хочет отпускать, вся в буграх, в рытвинах»). Наконец Дижон, Лион («О нем можно говорить долго и с энтузиазмом. Жить в таком городе чудесно, только Париж в силах с ним сравниться»). Промчались через Авиньон, Нимс, Монпелье, Марсель, Тулон, из Ниццы морем до Генуи.
В октябре в Милане: отчеты, меморандумы, беседы об увиденном, прежде всего о «туманном Альбионе». И еще долго в пути, на лекциях, во время отдыха Вольте виделась Англия; не Франция, которая была чуть ли не родной, не Бельгия, которая перевалила через свои исторические вершины и выглядела сегодня вполне умиротворенной, а именно Англия, внешне консервативная, но наполненная множеством поистине новых достижений человеческого разума.
Последние двадцать лет века здесь шла промышленная революция. И ясно чувствовалось, как новое властно вторгается в жизнь. В промышленно развитой Англии появлялись новые машины, новые профессии. Вольта, всегда внимательный и к прошлому страны, с особым интересом слушал истории об эпидемии чумы 1665 года, опустошившей Лондон. Страх эпидемии прогнал тогда Ньютона в уединенный Вулсторп из Кембриджа. И именно в Вулсторпе были заложены основы великой науки, вдохновившей Вольту на создание «электрического дубликата».
А Лондонское королевское общество? Оно появилось в том же десятилетии, и первый его патрон, Карл II, настоял на девизе «Nullius in verba!» («Ничего на веру!»). Скептический подход оказался оправданным, стать членом общества означало достигнуть высшего признания. Избирали в него обычно ученых, достигших 45–50 лет, причем войти в старинное длинное трехэтажное здание могли, помимо людей науки, представляющих какую-либо подвластную Англии страну, не более четырех-пяти иностранцев. Вольта как раз и бился за столь высокую честь, и, по-видимому, дела шли неплохо…
Две смерти.
Пока довольный Вольта раскатывал по Европе, летом 1782 года умер граф Карло де Фирмиан, полномочный министр австрийского правительства в Ломбардии. Нелегкую должность в оккупированной стране граф выполнял умело и деликатно. Впрочем, какая там оккупация? По бескровной договоренности между монархами вошли в итальянское герцогство австрийские солдаты в белых мундирах.
Фирмиан заботливо пестовал Вольту. Последний раз он написал ему в Лондон 8 июня: одобрял избрание членом-корреспондентом Парижской академии, обещал прислать денег. А через полтора месяца шестидесятичетырехлетного покровителя не стало.
А осенью умерла мать Алессандро. За последние годы она сильно сдала, и, словно предчувствуя неизбежное, Вольта писал с дороги, помимо общих писем для всех родственников сразу, особые, для нее одной. Из Базеля, например, в октябре или из Ахена, в ноябре прошлого года. «Я принят нунцием Беллинцини, — сообщал он ей, ценившей оказываемые сыну почести. — Сейчас еду один, а прибыл сюда из Кёльна». И далее следует искусный рассказ специально для матери, именно для нее важный и приятный, что делает честь заботливому Алессандро.
«Дорогая синьора Мама! Вчера был в чудесном женском монастыре Санта Мария, его канонисса очень мила. Там собрались дочери только благородных родителей, не желающие выходить замуж. У нас в Италии нет подобного аббатства, ибо здесь их никто не тревожит, а сами они ничего не ищут. Здесь царит пребенда (нетрудная работа для заработка), послушницы живут в наилучших условиях, а кому наскучит церковная тишь, может покинуть монастырь, чтобы выйти замуж». Какой мягкий намек: далекая молодость наверняка близка постаревшей беглянке из монастыря. И разве не воспоминания юности держат на плаву легкие кораблики людей пожилых?
Но пора сменить легкий минор прошлого на сегодняшний мажор, без которого было бы трудно выжить. «Воображаю, как у вас там собралась хорошая компания набожных людей, и ждёте мессу, и немного ворчите, а в руках молитвенники, и такая тихая осень, а дождик чуть накрапывает. Нежно целую руку, твой преданный сын Алессандро!»
И снопа «вольт» в сторону честолюбия синьоры Маддалены: «Тебе салютует полковник и граф Рейна, который как раз сейчас объедается семгой и другими деликатесами из Рейна».
2 июня 1782 года Вольта еще раз написал матери о своих лондонских впечатлениях. Осенью он вернулся и окунулся в дела: надо посетить могилу Фирмиана, представиться его преемнику, отчитаться о поездке. А 20 октября Луиджи сообщил, что матери плохо. Через неделю Вольта из Милана написал брату в Комо, чтобы тот крепился и держал наготове каноника Гаттоии. Написал в тот самый день, когда кончился шетидесятивосьмилетний срок, отпущенный графине Маддалене де Инзаги в бренной земной юдоли…
Приз для Чичери.
Живущую по соседству молодую графиню звали Тереза Чичери ди Кастильоне. В детстве ее считали миленькой и умненькой, но когда она подросла, то оказалась массивной невысокой женщиной с крупным лицом, энергично сжатыми губами, тяжелым прямым носом и большими черными глазами, деловито глядевшими из-под плоской шляпки, надвинутой на лоб. Главным ее оружием стали ум и обходительность. Они-то и пленили молодого физика. Жениться, правда, он не помышлял — где ему с его ничтожными средствами содержать семью. Но его решение, по-видимому, не могло остановить энергичную донну Терезу.
Вольта не раз присылал из разных городов «салюты моей очаровательной донне» (19 октября 1781 года из Майнца), делился впечатлениями, эгоистично перечисляя достопримечательности Турина, Ульцио, Шамбери, Лиона, Женевы, Базеля, Страсбурга, Меца («Потрясающие виды, поражающие впечатления, а маркиза едет с сыном, какие благородные старые дворцы, замки и крепости, и сколько великих людей рядом и в прошлом»). Учтите, что Кастильоне означает «старый замок»: какой милый льстец!
19 мая 1782 года Луиджи секретно отписал брату в Лондон: «…у нас в Комо скукота. Помор синьор Кассини, в длительную поездку в иной мир отбыла донна Изабелла Самиглиа. Заплатил шесть цехинов за содержание роженицы». Уж кто-кто, а Алессандро должен был догадаться, о какой роженице идет речь. Потом пошли еще более прозрачные намеки: «Долго ездишь, а я тут выворачивайся; как взглянешь на ее домашние дела, так сразу ясно, придется мне помогать родителям Джузеппино; извини, но я передаю как будто от тебя приветы почаще, чтоб не прорвалось наружу; а не передать ли это дело нашему братцу доминиканцу, благо он как раз стал духовником в павийском монастыре Санта Катарина? А ты брось заботы о здоровье Джузеппино, продолжай почаще радовать нас новостями из мира. Имей в виду, что монастырей много: Санта Маргарита, Цецилия, Сан Джулиано, Сан Марио, и все хороши, а пенсион 600 лир в год, что совсем не бедно. Причем есть монастыри нищенствующие, или имеющие много добра, или такие, где дают сильное божественное воззрение».
Вольта в Лондоне все обдумал, ужаснулся грозящей потере сына, которого даже не видал. Он решил не жениться, но о сыне позаботиться, а потом написал для брата свое решение, переслав через Гаттони, и уже без глупой конспирации переслал Терезе Чичери успокаивающее послание. Ласковое письмо стало сильным ходом, партия оказалась выигранной. Чичери перестала волноваться. Осенью Вольта вернулся, но тут умерла мать. Дотянул до мая следующего года, а там уж Тереза взмолилась: «…женись на мне, Алессандро, умоляю тебя ради себя и сына!»
И Вольта ответил, но на этот раз без особых сантиментов: «Мой тебе совет: выходи за кого-нибудь замуж. Я немного жестоко отвечаю на твое откровенное письмо, потому что занят одной статьей, заметкой о воздухе для справочника Маскье по химии. Над ней столько работы, что голова кругом идет. Я вряд ли смогу скоро жениться, потому что дела неважны. Как вашей милости хорошо известно, весь мой ничтожный заработок величиной в 4800 лир в год вряд ли скоро вырастет. Здесь в Павии свирепствует краснуха, у больных язвы, жуткие боли в животе. Вчера умер дон Карло Галларотти, сам врач, и притом хороший. Против этой хвори лекари бессильны, больницы переполнены, всех лечат по методу Тиссо, очищая желудки и вызывая рвоту. Привет тебе».
Какая нехитрая тактика: обо всем (чтоб рассеять внимание), о чужих бедах (своя боль покажется меньше), про объективные трудности (чтоб субъективное устыдилось)! И брачные надежды Чичсри испарились, Тереза превратились в подругу Вольты, его советчицу и утешительницу, Разве плохо? Но отчего все же он не женился? Тут были свои причины: небогата, а ему хотелось менее стеснённой жизни; опять же влечение — не любовь, а он все еще мечтал о романтической страсти. К тому же тогда не было моды на женитьбу, интеллектуалы тех лет называли брак «непозволительным мотовством».
Может быть, особенно сильно влиял пример великих. Почти однофамилец — Вольтер — называл брак «единственным развлечением, доступным трусу». Опять же Галилео Галилей, обаятельный, на лютне бренчавший, умнейший, тоже не смог жениться. На его плечах сидели сестры, ждавшие приданого, и беспутный брат-фанфарон, и сварливая мать, а потому верная подруга, наградившая профессора тремя детьми (дочь и два мальчика) и безрезультатно прождавшая десять лет столь нужной свадьбы, так и отчалила другим курсом, будучи уверена, что за заботливым отцом детишки не пропадут.
Вот и Вольта поступил так же — и со вполне чистой совестью. Сердобольный любовник успокоил Терезу, умело переключив ее интересы на легкое, но почетное дело: изготовление ткани нового типа. В декабре 1783 года Вольта писал Ландриани, что «аббат Аморетти преподнес патриотическому обществу образец полотна из корпии лупина, а синьора донна Тереза Чичери, моя единственная хозяйка и возлюбленная, описала все операции. Я наспех накропал реферат, а она заслужила премию!».
Еще через месяц Аморетти официально поздравил Вольту с успехом подруги: еще граф Формиан хотел, чтоб такая ткань появилась! А в мае 1784 года Вольта показал в Милане новую ткань: «…она блестит и черна, как уголь. Сударыня, это находка для мусульман и для детей, а малая золотая медаль заслужена Вами недаром». В августе общество патриотов торжественно вручило графине Чичери новое поощрение за рукоделие. Лиха беда начало! В декабре у Вольты уже «появился образец шелка любовного типа, что-то вроде «амура». Он весьма хорош и встречен благосклонно. Я тебе скоро верну 800 лир за картофель и зелень».
Эпопея с тряпками длилась почти два года, но у всего бывает конец. Требовал хлопот брак, хоть и гражданский. Сыну уже скоро шесть, а давно ли сам отец бегал босиком? Вольта показал себя заботливым отцом, как, впрочем, во всем, за что брался. Вот, к примеру, что писал он своей спутнице в феврале 1788 года: «Кроме того, что мой слуга Джузеппе, которому я плачу по четыре с лишним цехина в месяц, проворачивает для меня дюжину всяких дел, ему еще приходится следить, чтоб какой-нибудь барчонок из младших классов, причем я не имею никакой возможности узнать об этом, не вовлек твоего сына Джованнино в какую-нибудь компанию в урочное или неурочное время. Вот почему я вынужден, максимально заботясь о его духе и теле, обратиться в коллегию Кальчи, что я уже и сделал ради нормального будущего ребенка».
И шестилетний Джованнино, который пять месяцев в году (пока длился университетский курс) жил в Павии, а остальные семь — в Комо в доме архидьякона, переселился в детский дом, ибо так решил отец. И еще много-много раз Вольта писал Чичери, как ведет себя в коллегии мальчик («хорош, нечего сказать»), регулярно отсылал в Комо вместе с конюхом грязное белье для стирки и в подарок целые штуки нового ситца («думаю, пригодится в хозяйстве»). А Чичери послушно выполняла просьбы Вольты, узнавала для него новости, сводила с нужными людьми. Взять сына к себе она не могла: не было денег и боялась сплетен, а Вольта относился к ней по-товарищески. Даже письма к ней выводились аккуратно, спокойной рукой, что, как говорят графологи, свидетельствует о спокойных, надежных отношениях.
Создается невольное впечатление, что в отношениях с Терезой Чичери Вольта копировал Руссо, который как раз в том же возрасте (34 года) сошелся с Терезой Лавассер, связь эту не посчитал возможным закреплять брачными отношениями, а прижитых детей отдавал в дом подкидышей, о чем впоследствии глубоко скорбел. Поступал ли так же Вольта во имя подражания кумиру тогдашней Европы? Трудно ответить на такой вопрос определенно. Да и стоит ли гадать, а тем более судить давным-давно умерших людей.
Первая биография.
«Надо бы посмотреть на тебя со стороны», — предложил Джовьо. Вольта заколебался, но друг настоял. В 1784 году в Комо вышел «Справочник знаменитых, горожан» с именем Вольты. Этот подарок к 40-летию ученого интересен тем, что фабулу предложил сам Вольта, а Джовьо расцветил осторожный текст поэтическими метафорами и подписал его: «…По натуре он наблюдатель и мыслитель, но с детства сохранил любовь к гуманитарным занятиям. Юношей он написал поэму на латыни о природных явлениях и зарифмовал стихами изложение научных фактов».
Потом Джовьо упомянул о письме к аббату Нолле; о диссертации на имя падре Беккариа; об упрощенном аппарате, в котором «вращающиеся диски размером с монету выполнялись из стекла, смолы или шелка. Для прочности диски, да и весь аппарат, запекались в масле, а до того никто из физиков подобного аппарата сделать не мог, как писал падре Америно в декабре того же года к Спалланцани, которому и была посвящена данная работа». «Из аппарата извлекался замечательный флюид, и для этого феномена нашлась уловка, — продолжал Джовьо, — по которой дело сводилось к выжимке флюида из нор, где тот якобы собирался. Но Вольта доказал, что этого быть не может, потому что частички флюида расталкиваются. Годом позже появился электрофор: плоская жестянка и медный диск с сургучной лепешкой в центре. Этот маленький инструмент весь пропитан флюидом, как самая настоящая электрическая машина, и потому электрофором можно добывать флюид снова и снова. Объяснить его работу непросто, поэтому в Милане (1775) появилась статья с ясным описанием процесса.
Вольта разделил надвое всю натуральную историю, так много он добыл новых знаний. В теснейшей связи с ними оказались все другие открытия, системы, ошибки и философские заблуждения космогонии, так что приложение к ним новых знаний оказалось весьма красноречивым». Конечно, претензии авторов велики, но разве не приходится замахиваться на великое, чтоб достигнуть хотя бы большого?
А потом пришли занятия с северными сияниями, обычными для скудных северных окраин, но тут вдруг воссиявших в наших широтах. Потом он предложил применять горючий газ в домашней лампе взамен масляного светильника много большей емкости. Уж несколько лет Вольта служит профессором в университете Павии, он посетил многих ученых Италии, Швейцарии, Франции, Англии. Наш кавалер написал изрядное количество писем-статей, а в нелегком труде его вдохновляла любовь каноника Гаттони. Для опытов Вольта настроил немало машин, и все они теперь собраны и кабинете натуральной истории, ныне открытом в пашем городе Комо. А еще Вольта неумело пытался выделывать чучела птиц».
Впечатление такое, что с последней фразой друзья закатились хохотом.
1784 г. Пруссия.
Летело счастливое для Вольты десятилетие правления Иосифа II, который, поддавшись духу просвещения, освобождал крестьян подвластной ему Чехии, помогал выкупать феодальные повинности горцам еще принадлежащего ему Тироля, твердой рукой насаждал централизованное по единому образцу управление своей «лоскутной» Восточной Маркой, жители которой говорили на десятках языков, не считал главного, немецкого. Либеральный дух и реформы обходились монарху недешево, ибо дворянство саботировало невыгодные для себя реформы, духовенство упиралось, а турки и пруссаки, не говоря уж о французах, раз за разом побеждали австрийские части с деморализованным офицерством во главе.
Хотя покоренная Ломбардия входила в сословную монархию, но Вольта все же не мог пожаловаться на венских администраторов, опекавших его и уважавших способности ученого.
По делам службы профессор постоянно держал связь с миланским министром и венским двором, но одновременно не забывал о научном общении с немецкоязычными соседями. В январе 1784 года в Милане и Павии побывал сам император: огромная свита, торжественные обеды, толпы любопытных, иллюминации и овации театральных партеров и ярусов. Ректор университета показывал почетным гостям библиотеку, кабинет физики, зал анатомии. Дети профессоров пели гимны, министр Вилзек вручал медали лучшим преподавателям Тамбурини, Зола, Натали и Спалланцани (Вольта был не против попасть в эту компанию, но он не мог платить за это самым драгоценным — временем, которого ему более всего недоставало в этой быстро летящей жизни). По выходе визитеры одаривали деньгами слуг, санитаров больниц, уличных певцов и подвернувшихся под щедрую руку прохожих. А Вольта имел «честь» сопровождать генерала Кинского при поездке в Комо, устроенной по аналогичной программе уменьшенного масштаба.
Теперь Вольте следовало закрепиться на завоеванных высотах официального признания, а для того планировалась очередная поездка. Не куда-то там в смутные края на западе, олицетворявшие вольнодумство, разгульную жизнь и обслуживающую их промышленность, а в страны северо-востока, где расцветали порядок, закон, логичность и дисциплина. В июне, проездом через Мантую, граф Вилзек успел информировать: эрцгерцог разрешил Вольте и Скарпи съездить в Вену и Германию на 150 цехинов. Скарпи взмолился о дотации, ибо на двоих мало, Вольта уже много где был, а хотелось еще попасть в Саксонию и Берлин. Механизм оформления поездок исправно заскрежетал: канцлер Каупитц спустил приказ барону Спергесу, готовились сопроводительные и рекомендательные письма в Вену, Берлин, Дрезден. И бюрократический плод созрел к сроку.
Вольта еще успел 10 июля предупредить брата, чтобы тот смотрел за Джованнино, поскольку сам он едет теперь уже в сторону Адриатики. Как раз из Венеции в Краков пролегала изумительная трасса, по которой вот уж 230 лет регулярно мчались туда-сюда почтовые кареты.
Но до Венеции Вольта не доехал. Его соблазнила Верона, где хотел экспромтом застать Лорну, ставшего кавалером, вице-генералом и директором военной коллегии. Но не застал. Лотом перекладными взял на север, через Тренто и Больцано, миновал Лиенц и Клагенфурт. Отовсюду письма домой: в Инсбруке познакомился с эрцгерцогиней Елизаветой, представлен императору на его вилле в Аугартене, побывал на Пратере, виделся с первым хирургом империи Брамбиллой — и все это утоплено в описаниях городов, дорог, музеев, гостиниц, библиотек и госпиталей.
В Вене Вольта побывал в школе хирургов («ее называют школой гениев»). Хороших приборов здесь не оказалось, физиков тоже. Смотрелись только книги, выуженные Скарпой из бумажного половодья: «Броматология, сиречь наука об еде и питье» и «Токсикология, о пищевых отравлениях». Медики всем нужны!
Потом в Словакию; до сих пор в Банска-Штявнице, центре горнорудной промышленности края, хранят память о посещении Вольтой Горного института. Был в Праге и других чешских городах, а оттуда зигзагами на север: Дрезден — Лейпциг — Галле — Потсдам. Вольта гордился, что мог спать мало, как флорентийский патриций по имени Галилей, но дороги были так длинны, что, несмотря на качку и сотрясения экипажа, удалось хроническое недосыпание прокрутить в хроническое же пересыпание.
В Пруссии, как и в Австрии, прижилась «эпоха просвещенного абсолютизма». После Фридриха Вильгельма I, энергичного туповатого юнкера, власть перешла к Фридриху II, которого льстивые придворные рисовали с саблей в одном руке и книгой в другой. Создав вымуштрованную до автоматизма армию (что не помешало ей не раз быть битой русскими войсками), Фридрих присоединил к Пруссии немало новых владений, за что и заслужил у своих почитателей прозвище «Великого». Открытие академий в Геттингене, Эрфурте, Мюнхене, Лейпциге принесло ему славу покровителя наук. Впрочем, с учеными Фридрих обходился почти как его капралы с рекрутами: не считаясь с заслугами, король иных приближал, иных по произволу изгонял: ярчайший тому пример — его взаимоотношения с Вольтером.
В заочную копилку чужих талантов Берлинской академии попал и Вольта, но не сразу. Сначала Джовьо, пользуясь знакомством с Фридрихом, переслал королю его труды. В октябре 1784 года Фридрих в любезном послании выразил «благодарность за присланные публикации по физике, их выбор заслуживает одобрения, однако необходимость моего присутствия на маневрах препятствует встрече с Вами». Через две недели король прислал Вольте новое послание: «Известны Ваши труды по физике, таланты и глубокие знания, и я непременно при первой же возможности введу Вас в мою академию. Сейчас там так много иностранных членов, что расширить список нет возможности». Обещание Фридрих сдержал ровно через два года: теперь в Берлине было по академику из четырех стран Европы: Вольта из Италии, Бонне из Швейцарии, Кондорсе из Франции и Магеллан из Англии. Фридрих во всем обожал симметрию!
В Прусской академии тогда числились профессора из Галле, Лейпцига, России (другой страны, но как бы немецкой провинции — так, во всяком случае, хотелось думать Фридриху и его приближенным). Теперь рядом со специалистом по минералам Ферберком из Курляндии и модным философом Кантом из Кенигсберга появился электрик Вольта. «Учти, что из Вены у нас никого нет, из австрийских подданных ты единственный», — поздравляли Вольту секретарь академии Формей и берлинец Денин.
Включение Вольты в академию оказалось чуть ли не последним делом Фридриха II. Едва он умер, берлинские академики начали разбегаться. Так, уехал Лагранж, чтоб издать в Париже нестареющую «Аналитическую механику». Нового короля Фридриха Вильгельма II ученые игры занимали куда меньше политики: он взялся срочно заключать союзы с Австрией и Россией, чтобы противостоять грозящей французской экспансии.
Из Берлина Вольта проехал на запад вплоть до Ганновера, а оттуда резко свернул на юг, через Кассель и Эрфурт курсом к дому. В Веймаре у тамошнего герцога служил министром симпатичный молодой литератор тридцати пяти лет по имени Гёте; уж не Вольта ли соблазнил того Италией, в поездку по которой министр отправится через полтора года?
И снова дороги по двадцать миль в день, роскошные обеды у местных князей (еще бы — Вольта лично знаком с королем, едет из Потсдама!), храмы, музеи, библиотеки. И отовсюду письма домой с непременными салютами всем, и Джузеппино обязательно. В конце ноября Вольта уже отчитывался перед Вилзеком: поездка трудная, много полезных знакомств, позвольте подарить «Естественную историю» Кобре. И сразу быка за рога, то есть о семейных делах, с которыми приступили братья: говорят, правительство Ломбардии нуждается в надежных людях? Позвольте рекомендовать своих единоутробных братцев: доминиканец, — много лет проповедник и маэстро и своем ордене, каноник — служит в соборе Комо, архидьякон — в кафедральном соборе. Все как на подбор, любят физику, умело работают со сложными приборами, опытные воспитатели юношества, талантливы и к тому же хорошо знают законодательство.
Книгу Кобре, бестселлер своего времени, Вольте передал Блох, согласившийся снабжать нового знакомого литературой. Каких только книг он не наприсылал в первые годы: о свечении водных саламандр, бабочках, простом естественном образе жизни по Руссо, о часто употребляемых синонимах. С планшетом из 25 альбомов рыб случился казус, там со временем любители обнаружили серьезные несуразности. «Не упусти счастья, — писал Блох, — издание превратилось в раритет, его цена удвоилась».
После поездки у Вольты оказалось немало друзей. Брамбилла, личный медик венского кайзера, бился с подагрой своего пациента и попутно помогал новому знакомому всем, чем мог. Ахард, директор физического отделения академии, запрашивал Вольту: «Конструкция ясная, но собрать эвдиометр не могу. В модели Фонтаны три рабочих среды, а у Вас четыре. И как быть с «нездоровым» газом, можно ли его выпустить в воздух?» И Вольта разъяснял инструкцию, отвечал «можно!», ибо речь шла лишь об азоте. В историю физики Ахард попал как единомышленник Франклина; оба они полагали, что металлы проводят тепло и электричество одинаково хорошо, что можно считать справедливым при достаточно грубом приближении.
А еще Вольта познакомился с директором венского госпиталя Кварином, учеником Галлера по имени Менкель, австрийским послом Ревинским; Платнером, сыном Закарии, последователя и реформатора теории Шталя; смотрителем дрезденского физического кабинета Титиусом. А в итоге пришлось писать писем больше, чем обычно, в Комо и Павию зачастили гости с севера, как ученые, так и празднопутешествующие сиятельства, светлости и даже высочества.
Весьма полезной для Вольты оказалась помощь Леске из Лейпцига. Он взялся пересылать в Италию журналы, труды академий, а заодно книги по японской флоре, «Элементарную физику» Экслебена, «Загадки естественной истории медицинских искусств».
С точки зрения научных контактов поездка была не так уж полезна, если не считать долгожданной встречи со старым другом геттингенцем Лихтенбергом. Почти ровесник Вольты, он как всегда вел себя чрезвычайно активно, что в конечном итоге не позволило ему дожить даже до смены столетий; 55 лет — вот какой срок оказался отпущен ему небесами. Кто б мог подумать, что столь рано сбежит он с «земного пира»?
С профессором Вольту связывали два старых дела: электрические фигуры, рисуемые смоляным порошком с помощью «кисти» из «вечного электрофора», и посвящение на Вольтовых письмах о метрологии. Однако в последние годы немец что-то охладел к южанину. В мае 1782 года секретарь лондонского общества Планта доверительно спросил у Лихтенберга, можно ли сделать Вольте замечание о растянутости его статьи по изоляторам, на что получил совет не церемониться, слишком-де много чести. В январе следующего года Лихтенберг убеждал своего друга Вольфа (сына того самого Христиана, российского академика, у которого стажировался и курс которого по физике переводил Ломоносов), что «никаких открытий Вольта не сделал, хотя о ломбардце много говорят». Однако уже в декабре он называл «шедевром» электрометр Вольты. «Познакомьтесь с его работами, — прибавлял он, — это шаги гиганта. Еще полтора года назад я иногда позволял себе скепсис, а нынче покорен». Вольта не мог знать о цитируемой переписке, но разве не растекаются черные мысли вокруг своего носителя?
В ноябре 1784 года Лихтенберг снова жаловался Вольфу: «Вольта смотрит на электричество глазами Ньютона», а месяцем позже объяснился, добавив: «Вольта — унитарианец, то есть говорит о недостатке или избытке одного флюида, но почти все другие — дуалисты, то есть видят два электричества разного знака. А я жду решающих опытов, чтобы присоединиться к победителю». Увы, Вольта проиграл, но об этом Лихтенберг уже не смог узнать. Все же надо признать, что Лихтенберг был верным соратником Вольты, хорошо о нем отзывался («Вольта очень убедителен, человек отличный, дискутирует с жаром и говорит прекрасно»). Вольта тоже симпатизировал Лихтенбергу, ибо тот был добр, справедлив, опекал молодых, даже собирал афоризмы древних, которыми и прославился у потомков. В науке он ввел понятие скрытого электричества (1784) по аналогии со скрытой теплотой, что оказалось полезным, когда много позднее начали говорить о нейтрализации разноименных зарядов. Впрочем, у Вольты в то время имелся деловой интерес; он готовил серию статей на имя Лихтенберга, посвященных атмосферному электричеству.
Мифические животные флюиды.
Вольта любил древнюю историю, а потому хорошо знал, что около науки нередко живет магия. Особо таинственным казался магнетизм. Вокруг магнитов клубились страсти, возникали легенды. Что-то существовало вокруг магнита, невидимое и неощутимое, но оно действовало на железо или другой магнит. Это что-то когда-то называли душой, во времена Вольты — атмосферой, а в XIX веке — полем. Если атмосферы магнита так сильны, безразличны ли они для человека?
Во всяком случае, за двести лет до Вольты уже лечил магнитами швейцарец Парацельс, а точнее, Филипп Аурел Теофраст фон Гогенхейм. «Этот экстравагантный холерик публично сжег труды Галена и Авиценны во славу своего метода лечении химией: заразные болезни — ртутными мазями, а все прочее опиумом. Еще активнее внедрял он лечение магнитами, ибо видел себя дирижером вселенского оркестра магнитных течений, направляющим небесные силы на благо лечения. Магниты будто фокусировали силу звезд, духов и сильфид, помогая Парацельсу изгонять из больного организма испорченные «археи» («жизненные принципы»). И точно: иногда прекращались корчи и судороги, возвращалась речь, исчезали параличи.
Парацельс с великой тщательностью описал, какие болезни и как следует лечить: желательно прикладыванием к больному органу магнита той же формы, но обычно излечивались только «бесформенные» истерические психозы. Из-за Парацельса церковь трижды прокляла магнетизм, но и это было понятно: пусть не пытается отбивать хлеб у экклезиастики!
И вот неминуемый рецидив: «мудростью» Парацельса воспользовался Вольтов современник. В 1766 году и Вене защитил диссертацию «О влиянии планет на человека» некто Франц Антон Месмер. Он не видел разницы между всемирным тяготением и всемирным магнетизмом, а потому одновременно опирался на Кеплера и халдейских магов, на Ньютона и Парацельса. Доктор философии, права и медицины был не лишен обаяния и даже играл на стеклянной гармонике, давая концерты вместе с отцом Моцарта. От магнетизма идут все таинства, потусторонние силы, основы чудес, боговдохновение и адство, вещал эскулап, смело проводя в жизнь свою программу, ибо она опиралась на самый прочный фундамент: на невежество, самоуверенность и жажду чуда клиентами.
Сеансы проходили так. «Удостоенный свыше», Месмер улавливал «магнитные волны Вселенной» и переправлял их в большой бак или на развесистое дерево. Пациенты числом до ста сцеплялись руками и касались заряженного лечебного предмета, а Месмер наигрывал на стеклянной лютне, манипулировал жезлом тамбурмажора, касался им избранных и что-то излучал, оповещая об этом окружающих, отчего толпа по примеру самых нервных впадала в экстаз, и те, кому возбуждение оказывалось психотерапевтически пригодным, действительно чувствовали облегчение. Свидетели утверждали, что каждый десятый излечивался без магнитов, одной только атмосферой, но не магнитной, а воздушной и эмоциональной.
Деньги лились рекой. Месмер стал самым богатым человеком Вены, он их тратил, не жадничая, а поклонение и очевидный эффект убедили магнетизера, что он неуязвим. Он лично попросил Марию-Антуанетту, которая знала его с детства, организовать научное заключение Парижской академии. И что же? Холодными умами Франклина, Лавуазье, Жюсье и Бейли вкупе с медиками Сорбонны 11 августа 1784 года наука изрекла приговор: «Животный магнетизм есть фикция, эффект порождается способностями воображения без магнетизма, а не магнетизмом без самовоображения. Причем не всегда, и наиболее опасны вредные последствия». К заключению оказался приколот секретный доклад о пагубном снижении нравственности лиц, побывавших на месмерических сеансах.
Это и решило дело. Королева отнюдь не чуралась радостей жизни, но мораль подданных следовало защищать. Реклама затихла, поддержка ослабла, спрос упал, и Месмер сник, потом эмигрировал, а в 1815 году глубоким стариком умер в забвении. И вовремя, ибо через несколько лет стараниями Эрстеда все узнали, что магнетизм порождается не богом, а электрическим током. Наконец-то в электричестве увидели как бы бога, но и до того многие прозревали божественные функции электричества, и среди удостоенных понять и провозгласить оказался Вольта.
Впрочем, до долгожданного момента появился и пропал другой чудотворец по имени Александр Калиостро (Великий Копт, Бельмонте, Феникс. Мелисса, Харат, маркиз де Пелегрино, Цисхис и т. п.). В 1780 году он торжественно въехал в Страсбург в «стае лебедей», детей в белом, опоенных настойкой опия. Здесь было все: древнеегипетские одеяния, экстаз, нехитрые фокусы, изображения в воде, загадочные надписи странными шрифтами.
На самом деле афериста звали Джованни Бальзамо, родился он в Палермо, изготовил себе фальшивый диплом врача, шантажировал слабохарактерных, искал фиктивные клады для слабоумных, притворялся ученым перед слабознающими, метался с места на место, представляясь (с помощью такой же авантюристки, спутницы аристократического происхождения) графом, чародеем и алхимиком.
При имени Калиостро в светских гостиницах млели, «актер» старался интриговать дам и развлекать их мужей. Все бредили черной и белой магией, ожидая от волшебника Бессмертия и Вечной Молодости, но сорокалетний маг неожиданно сплоховал. В 1784 году кардинал Луи де Роган по совету графини де Ля Мот купил для Марии-Антуанетты безумно дорогое ожерелье, в котором Людовик XVI супруге отказал. Де Ля Мот исхитрилась и ожерелье присвоила, кардинал не смог выкупить покупку и попал в Бастилию.
Его делом занялся суд парламента, известный под названием «Огненной Палаты», ибо когда-то здесь вершились дела при свете факелов, а осужденные чаще всего попадали на костер. Здесь рассматривались случаи особой государственной важности, вроде дела столетней давности об отравительнице многих членов своей семьи маркизе Бренвильо. В те годы Людовик XVI, оберегая королевскую фаворитку маркизу де Монтеспан, замешанную в деле, суд распустил, предосудительные бумаги изъял, собрал судей вновь и лично утвердил приговор о сожжении двух знахарок и примерном наказании поставщиков фармакопеи, в том числе ядов.
И на этот раз народ ожидал сенсаций. Суд парламента решил Рогана оправдать, но сослать. Графиню де Ля Мот наказали розгами, заклеймили и заточили в тюрьму, но ее муж успел за бесценок сбыть ожерелье и бежать, поплатившись заочным осуждением на галеры. А приобрел ожерелье не кто иной, как граф Калиостро, за что попал в Бастилию, под пытками раскрыл свою подноготную, был публично развенчан и переправлен в римскую темницу Сан-Леоне, где и умер в 1795 году.
Тогда же закатилась звезда еще одного «чудодея»: в 1784 году скончался граф Сен-Жермен. Прекрасная память, мудрые цитаты из древних, поразительные алхимические знания, приятен и умен — многими выдающимися качествами славился авантюрист, уверявший, что ему уже триста лет. Подвизался во Франции, бежал в Лондон, жил в России и везде шиковал, торговал государственными секретами и ловил рыбу в мутной воде.
Время требовало необычного, спрос на экзотику диктовался уходом почвы из-под ног знати: близилась революция в сердце Европы, во Франции. Вольта понимал, откуда сочатся слухи о чудесах, но магнетизмом он занимался не больше других, а отсветы на загадки проницательно относил на недалекое будущее. Однако отделять явное от тайного было его прямой обязанностью как ученого, поэтому Вольта не отказывался говорить на самые скользкие темы. Так, 22 февраля 1788 года Пьетро Берто ван Бергем из Лозанны написал Вольте о феноменах сомнамбулизма и прислал бедного юношу-эпилептика. Вольта по мере сил разобрался, одобрил трезвую статью Берто о сомнамбулах, кое-что в ней подправил и порекомендовал автору посмотреть на миланскую публикацию Соаве от 1780 года. Вольта следил за событиями, а Берто благодарил и всем рассказывал о любезном профессоре электрических наук.
Посла животного магнетизма и животного сомнамбулизма пробил час животного электричества. Уж давно живую материю пытались уподоблять неживой. В полном соответствии со взглядами, наиболее ясно сформулированными французом Ламетри, организм все чаще трактовали как некий механизм: в него загружалось топливо-пища, легкие-меха нагнетали для горения воздух, сердце-насос прокачивало питательную жидкость — кровь по всем клеточкам, сбрасывались отработанные смазки и прогоревшие шлаки.
Не хотим оскорбляющей нас правды! — кричали одни; только правду, какой бы она ни оказалась жестокой! — требовали другие. А ученые работали: на этот раз следовало узнать, кто руководит животной фабрикой, кто стабилизирует её температуру, выбирает цели, дает команды на перемещение, заправку, отдых? Теологи показывали пальцем в небеса, на бога; потомки поймут, что любой энерго-информационный комплекс может саморегулироваться, а современники Вольты пытались скрестить жизнь и электричество.
Потрясенный мир узнавал одну новость хлестче другой: наэлектризованные семена, луковицы, ростки прорастали быстрее (1746), насекомые активнее размножались (1750), «плодовитость домашних животных особенно велика в годы избытка электричества в атмосфере» (1774). Сообщение электрического заряда людям учащало пульс, усиливало дыхание, ускоряло потоотделение, уменьшало свертываемость крови. Даниил Бернулли уже «возвращал жизнь утопшим птицам» посредством электрических ударов, Никола оживлял отравленных кроликов, Бьянки заставлял подниматься и двигаться собак с размозженным черепом, дипломат Голицын ускорял электризацией выведение цыплят из яиц. Электричество запускало остановившиеся сердца, сокращало мышцы, улучшало самочувствие. Медики утверждали, что избыток электричества есть причина сумасшествия, а недостаток — параличей.
Биологи обнаружили существование рыб, убивающих электрическим ударом. Философы заговорили о «трансцендентных связях между всеми природными аквиденциями». Балаганщики стригли золотую шерсть с зевак и умудрялись урвать свой куш с модного течения, вводя в представления связанные с электричеством опыты. А ученые пытались понять, что к чему. Неудивительно, что в 1783–1786 годах в трудах Болонской академии появились статьи за подписью Гальвани о лягушках, дергавшихся при раздражении нервов опием (как у Парацелъса и Калиостро), магнитами (по Месмеру), палочками (по Галилею — Ньютону). Это еще не была наука, а лишь подражание светским новинкам. Но приближался час встречи электричества с нервами. И этот час вскоре пробил.
Трагедия Александры Ботты.
«La morale est dans la nature des choses»,[20] — как говорил парижский министр Неккер, и: Вольта прекрасно иллюстрирует это изречение своим поведением. Эта печальная история началась с Джовьо: нет сомнение, что именно он дал волю своему языку, внушив девушке гибельную страсть. На три года моложе Вольты, граф Джовьо наслаждался бездельем у себя: в Граведоне на вилле около озера. Внешность совершенно плебейская, черты лица топорные, но душа ангельская, разум чист и изощрен, поистине «младенец» и «весельчак» в соответствии с фамилией.
Джовьо жил: поэзией, мечтал о Древнем Риме, поклонялся красоте во всех формах и знать не хотел ничего о мерзкой мирской суете. Стихи этого эстета хвалили, и Вольта вслед за общим мнением докучал братьям Серафино и Луиджи виршами своего возвышенного друга. Граф Джованни Батиста платил не меньшим почтением: расточал восторги по поводу Горация и Ариосто, своему знакомому, королю Пруссии, послал две элегии о поездке 1777 года, приложив рекомендательные письма о желательном вводе Вольты в академики.
Что касается того путешествия с Вольтой в Швейцарию пять лет назад, то Джовьо им чрезвычайно гордился и даже предложил Мартиньолли напечатать дневники той поездки, обратившись, как обычно, в стихах: «Чтоб не канули в Ипокрену, мы удержим каскады дней с Вашей помощью, дон Игнасьо, чтобы в памяти жили моей».
Вольта, сам в душе дитя, относился к Джовьо как к ребенку. В 1782 году непрактичный профессор всерьез толковал грифу о том, чем хороша вилла Грумелло на комонском озере, через два года он из Мюнхена написал, как идет поездка по Германии, а в ответ импульсивный друг разразился ответным посланием с детальными комментариями о том, что Александр должен был увидеть, а после этого взялся внушать адресату и себе, что он, «восторженный поэт, в компании с Овидием пишет элегии, размышляет о мирских неурядицах и дышит окружающим его благолепием природы». Таков был Джовьо: беспечный, изысканный, некрасивый, восторженный.
Весной 1785 года кто-то сообщил Вольте про юную красавицу, маркизу Александру Ботту: чудо как хороша, умна, обаятельна, окружена блестящими поклонниками. Вольта пересказал другу сенсационную новость, тот вспыхнул как сухой хворост. В конце апреля семнадцатилетняя красотка приехала в Павию, а в июне в Комо. Вольта ей понравился: высокий, говорит чудесно, а Джовьо, чтоб замаскировать свое поражение, не придумал ничего лучшего, чем хвалить друга: член многих академий, душа-человек, даже поэт под маской физика.
Красавица маркиза потеряла голову: вот он, герой, которого она ждала! Он так не похож на вьющихся вокруг юнцов. В ослепительной надежде она боялась дышать, млела, бросала на избранника горящие взоры. Без Вольты она тосковала, с ним робела. И наконец-то решилась — послала ему письмо.
Что же Вольта? Он польщен, почти счастлив, какой дар судьбы! Он тронут, душа взволновалась, налетели мечты, на минуту чувства овладели им безраздельно. Но тут же пришли и сомнения.
Да, ему сорок, но и Вольтеру было столько же, когда в 1734 году встретил он свою маркизу, Эмилию дю Шатле. И десять лет в замке Сир возлюбленные были счастливы. Разве пылкая любовь помешала Вольтеру создать десятки блестящих памфлетов? Правда, Вольтер — литератор, ему достаточно пера и бумаги, а Вольте нужны приборы, лаборатории, коллеги. И чем жить? Вольтер хоть и пользовался гостеприимством Эмилии, имел собственное, и немалое притом, состояние, а куда вернется Вольта, ведь никто не будет держать вакантным место профессора? Опять же Вольтер по характеру воитель, он рожден для конфликтов, а Вольта не может отказаться от тех крох, которых добился тяжким трудом.
Жениться на ней? Но он немолод. И денег нет. А не жениться, стать пожилым чичисбеем, покуда не укажут на дверь?
Нет, злоупотреблять чувствами неопытной девушки он не станет. Она полюбит другого, уже серьезно, а сейчас в ней говорит книжный дурман, ослепление временно (русский читатель, наверное, вспомнит: «Сменит не раз младая дева мечтами легкие мечты»!). И Вольта берется за перо. «Любезная маркезина!..не следует культивировать взаимную симпатию. И еще два совета: никогда не пишите ничего сентиментального, говорите только лично при встрече.
Поверьте, я отношусь к Вам как отец, дядя или брат. Я уже стар для такого цветущего создания, как Вы. Не конфузьте меня: Вы свежи, я изношен. Вы мне совсем не безразличны, легко понять, что я полон любви к Вам и симпатии, но разве гожусь я стать объектом Вашей склонности? Вы льстите моему самолюбию, я вовсе не так гениален, как Вы полагаете.
А что потом? Да, моя фамилия достаточно знатна, мой род берет начало в античности, честь моя незапятнанна, но все же моя семья не так блестяща, как Ваша. Жить нам пришлось бы рядом с братьями, что немыслимо для Вас, и я этого не допущу. Или мне придется жить в Вашем доме, с Вашими родителями? Стало быть, я именно тот, кто не смог дать Вам ничего более достойного? Увы, так и есть, но смириться с этим нелегко…
Послушайте ж меня, как человека более опытного: разве пристало Вам жить в маленьком провинциальном городке? Возможно, что Вы согласитесь, даже захотите этого, но разве смирятся с этим Ваши родители? Ах, как много фантазий посетило мою голову об устройстве жизни с Вами, но все они отлетели, как только пришлось серьезно поразмыслить над ними…»
Александра молча приняла вежливый отказ. Больше она на людях не показывалась. Однажды ее родители робко попросили у Вольты книгу, он достал. Потом Вольта снабдил их рекомендательным письмом к Ван Маруму, а летом 1780 года, путешествуя по Голландии, они посетили гарлемскую лабораторию. А про Александру говорили, что она тоскует.
В июне 1795 года пришло известие о смерти маркизы Александры. Слезы брызнули из глаз бедного Вольты, горло перехватило спазмой. Неужели я убил ее? Если б знать заранее… Маркиза дю Шатле тоже умерла молодой, 43 лет от роду, прожив всего пять лет после разлуки с любимым. Но Александра — через десять, не дожив до тридцати, и даже без памяти о счастье! И Вольта зарыдал…
Будни профессора.
Окунувшись в работу после германского турне, Вольта начал пожинать плоды поездки, что сразу почувствовал на себе барон Спергес: в декабре 1784 года он получил запрос от Вольты на машины из Венгрии, Германии, Вены и Праги («хотя бы на 60–70 цехинов»). А через месяц откликнулся граф Вилзек: метеорологическая станция будет, дадим на нее 600 лир в год, дать квартиру для механика не в нашей власти, а Театр Физики нужен, подумаем. В Милане подумали, и уже в феврале 1785 года решили: кабинет экспериментальной физики еще раз расширить, а Театр создать. «Теперь я драматург, режиссер и актер заодно», — шутил Вольта, И еще добавил просьбу: передать бы университету библиотеку Фирмиана, ведь он был меценатом, собранные им книги нужны студентам, сам комплектовал.
Как никогда выросла доля административной работы: счета, доставка прибором, хлопоты о жилье преподавателям. После трех лет ареста, в августе 1785 года, наконец-то освободили «Донну Бьянку», из трюмов извлекли три ящика, они даже не отсырели, и с этих аппаратов силами Джузеппе Ре начался Театр Физики. В октябре Магеллан веером развернул услуги посредника: «Предлагаю аппарат Адамса по измерению центробежных сил, не хуже, чем у Гравезанда или Нолле, и всего за 30 гиней! Есть арматура для машины Атвуда по демонстрации вращения; приставки Нолле для зарядки тел; аппарат по магнетизму тянет на 25 гиней; но я полагаю, что Вы и сами сделаете подобную турель, как в магнитной сфере, которая у Вас уже есть».
Тут начались выборы ректора: в 1782 году избрали теолога Тамбурини, потом правоведа Варио, затем медика Реджи, теперь студенты захотели Вольту. Как он ни упирался («Я уже был деканом философского факультета, потом помогал молодому Паоли на том же посту»), не помогло. Груда документов еще больше выросла: расписание занятий, квартиры для новых профессоров, премии преподавателям, итоги экзаменов, визиты официальных гостей. В январе 1786 года профессура надумала выпускать хотя бы раз в два месяца научный журнал. Вилзек горячо поддержал инициативу («двор утвердил название «Литературный журнал Павии»), а на плечи Вольты пали все связанные с этим хлопоты («главным редактором рекомендую аббата Спалланцани», «хорошо бы первый номер пустить под манифест: наши планы и намеренья», «будем давать рецензии по зарубежным книжным новинкам», «для усиления библиотеки нужны еще сто цехинов в год»).
Служба кипела на радость Высшего правительственного совета: «большая делегация титулованных особ, просим сопровождать по университету лично», и в ответ от ректора: «поправки в расписании внесены тогда-то», «перевозка погребального монумента профессору А. в храм Святого Епифания закончена». Однако чуть позже механизм «студенты — преподаватели» начал давать сбои: профессура передумала выпускать журнал («Нет времени, в год читаем до 50 лекций, и надо бы издавать свои труды»), однако Вилзек удивился («Есть решение двора, манифест издан, публика ждет, работайте, коль сами взялись»).
Тут еще некоторые студенты опоздали к началу учебного года, и триместр оказался сорван. Но, гора с плеч, в ноябре восемьдесят шестого ректором избран Беретти: как ни требовал он, чтоб предшественник сам закрыл «свои» дела, но Вольта отвертелся («долгосрочные дела не могут идти помимо фактического ректора», «за Альпами преподают и издают журналы разные люди, поэтому претензии профессуры справедливы», «что ж манифесты? Литературные труды ничуть не лучше научных, которыми университет призван заниматься в первую очередь»).
Теперь на Вольте остались только отчеты за свои физические дела, курс и лабораторию. Конечно, Вилзека поставили в неловкое положение перед Веной: сами взялись и сами отказались. С его стороны можно было ждать отмщения, но обошлось. Когда в августе 1787 года Вольта попросился в Швейцарию («всего на две-три недели, меня подменит аббат Роза из Брешии, я лично его подготовил по нужным частям курса и демонстраций, о поездке ходатайствую давно, и мой коллега Соссюр в Женеве ждет меня для совместных исследований»), Вилзек без особых сомнений начертал на прошении благожелательную резолюцию. Да и как не пустить европейскую знаменитость?
1787 г., Швейцария.
В декабре 1786 года вышел в свет двухтомник Соссюра «Путешествие в Альпах». Счастливый автор сообщил об этом Вольте, который тоже бредил горами, но как альпинист сильно уступал своему другу. В том же письме Соссюр добавлял, что все рядом с ним читают про атмосферное электричество и шлют его исследователю Вольте искренние восхищения. Вольта начал переписываться с женевцем еще с прошлой поездки, но именно сейчас что-то изменилось: еще не старый (всего на пять лет старше Вольты), Соссюр недавно оставил кафедру в Женевской академии, но продолжал активно участвовать во всех научных делах.
Соссюр был лужен, чтобы поговорить о статьях, над которыми Вольта сейчас работал, а для этого приходилось к нему ехать. К тому же в Павии свирепствовала зараза: начался падеж скота, эпидемия перебросилась на людей, воздух был насыщен миазмами. Медицина оказалась бессильной. Правда, народ продолжал благодушествовать. Вопиющее легкомыслие неграмотных, чудовищное невежество лекарей!
Компас желаний указывал: бежать в Альпы, считайте меня ультрамонтаном,[21] но вон отсюда! Письмом Вольта представил Соссюру Мюнстера из Копенгагена, потом взялся сманивать в Женеву Ландриани и постепенно перепоручать остающимся свои лекции и лабораторные занятия. Написал он заодно и Лихтенбергу о соссюровской доделке электрометра. А 3 сентября 1787 года отправился в путь.
«Из Комо на двуконной коляске выехали рано, обедали в Варезе (который претендует называться городом) в остерии[22] на почтовой станции. После обеда на таком же почтовом рыдване тронулись в Ловено, оттуда в час ночи отплыли на лодке, а в три-четыре утра причалили в Интра, проплыв три-четыре мили. Там лошадьми в Домо, где приютил Бьянги — маэстро риторики из комовской школы. Из Интры утром пришлось идти до Паланцы, потом до Суны. И так далее: от села до села, через Сен-Готард, там хорошая дорога и коляска, через 20 часом пути наконец-то Лозанна. В целом до Женевы ушло 20 цехинов», ибо люди здесь не берут чаевых, а во Франции сразу требуют несколько скуди!»[23]
В пути Вольта детально измерял влажность, температуру и давление воздуха утром, днем и вечером, записывал, где какая погода, на чем ехал, что ел, сколько платил и какова обслуга. Ни минуты простоя, без хлопот нельзя, ведь он стал метеорологом. К тому же и дома про вояж придется подробно рассказывать многим.
В Лозанне пробыл недолго: прочел лекцию о своих новинках с их показом. Потом вдоль озера спустился к югу до Женевы. Здесь пришлось задержаться подольше — визиты, семинары, беседы с преподавателями.
Вечерами при свечах Вольта заносил в дневник еще свежие впечатления. Про Соссюра, Бонне, Сенебье в подробностях нет нужды, уж десять лет с ними шла активная переписка. Про Пикте, преемника Соссюра по кафедре, счел нужным пометить, что он «вместе с Полем построил электрическую машину из деталей, выписанных из Лондона», а еще про его точнейшие гидростатические весы. Главный же интерес Пикте лежал в сфере точного измерения распространения тепла в разных средах. У него оказалась хорошая коллекция минералов. Он обещал Вольте подарить ее дубликат — и в такой же красивой шкатулке.
Ежедневные записи пополнялись сведениями о других женевских ученых. О Трамбле — математике, который приезжал в Павию год назад. О Бутине-сыне, напечатавшем труд по магнезии. О химике Тингри — «замечательном химике» и еще о множестве ученых-женевцах.
Самое, пожалуй, сильное впечатление из женевцев произвел на Вольту Жорж-Луи Саж. «Мои родители из Франции, — рассказывал шестидесятитрехлетний профессор математики. — Читали «Жиль Блаза»? Это мой отец написал, он тяготел к сатире, высмеивал чуть ли не всех. А я: в Женеве родился, здесь преподаю. Во Франции пользуются признанием курсы и карты по минералогии, но это труды однофамильца».
Вольта вспомнил, как женевец бранил Бюффона за слишком смелые обобщения. К взаимному удовольствию гостя и хозяина, у них нашлись общие интересы: оба восхищались Ньютоном. Вольта в свое время пытался объяснить электрические явления теорией гравитации, а Саж публично декларировал, что «закон всемирного тяготения составляет величайшую славу сильнейшего из когда-либо живших гениев». Кроме того, еще в 1774 году Саж предлагал сигнализацию с передачей электричества по 25 проводам и расхождением на приемном конце линии бузиновых шариков, а Вольта рассказал про свой, еще более ранний проект. Наконец оказалось, что обоим близок Бошкович: Саж сам работал в том же направлении, а Вольта на память прочитал несколько строф из своей юношеской латинской поэмы, навеянной произведениями не понятого многими атомиста!
Позже Вольта так описал в дневнике суть тогдашней беседы: «Саж отмечает юбилей создания своей большой системы природы, механики и гравитации, где изумительно разъяснены многие физические вопросы, в том числе упругость твердых тел и жидкостей, способы ее расширения и фиксации объема, и все это с учетом слабого химизма, то есть все главные природные явления. Основой всех взаимодействий являются летящие атомы, которые весомы, но очень малы, движутся с огромными скоростями и толкают молекулы, формы которых для разных тел совершенно отличны. Эти взгляды разработаны им чрезвычайно детально, система проста, практически закончена, но мало известна в публикациях. Потому студентам курс читается очень подробно, там все новые физические открытия, они дополнены гипотезами, и все это вдруг сливается в единую систему.
У Сажа хороший ум, его даже можно назвать гением в общей физике. Он подарил мне большую меморию о причинах химического сродства, удостоенную премии Академии Древностей, и там изложены главные принципы его учения. А еще он презентовал мне другую работу под названием «Ньютонизированный Лукреций».
Нам женевец более известен под именем Лесажа.[24] Несомненно, мужественный и талантливый ученый попытался перекинуть исторический мостик между Ньютоном и его древними предшественниками Левкиппом, Демокритом, Эпикуром и Лукрецием Каром. Если бы первым атомистам дать хоть каплю сегодняшних сведений по геометрии и космографии, рассуждал Лесаж, они без особого труда открыли бы закон всемирного тяготения! Этот закон, считал он, совершенно естествен и следует из тех наглядных представлений, которые всем давно известны и которые начали оживать в XVIII веке трудами Гасенди и Бойля.
Лесаж рассуждал так: пусть Вселенную пронизывают хаотические потоки частиц, демокритовских «атомов»: они бьются о встречающиеся тела, равномерно их обжимая со всех сторон, а между двумя близкими телами (например, Землей и Луной) атомов меньше, отчего тела будто тяготеют друг к другу. Легко и просто Лесаж рассчитал силу сближения, совпавшую с законом Ньютона; гравитационная постоянная получилась принудительно из более общих представлений (скорость и плотность атомов в пространстве).
Героическую попытку Лесажа современники встретили холодно, этот скепсис сохранился до наших дней. Кому нужно наглядное обоснование закона, если и без того он успешно подтверждается на практике? — спрашивали снобы от науки. Притом подобная наглядность совершенно произвольна, откуда Лесаж взял хаотические потоки атомов? Пусть скажет, откуда и куда они летят! Помилуйте, молил Лесаж, это ж исходная гипотеза, она разумна и естественна. И если она справедлива, то и того довольно с нее, разгадают же загадку после нас уже другие. Нет, упрямились властные оппоненты, голые умозрения опасны и даже морально вредны, ибо фантазии отвлекают ученых от кропотливого добывания точных, объективных, реально существующих фактов. Ученый ползет по Природе, а не парит над ней!
Мир Лесажа нереален, говорили они, в нем все тела в итоге замрут, ибо навстречу ходу частички бьют сильнее, чем в «спину». Возможно, отвечал физик, не потому ль миры сгрудились в космосе? Но зато «Солнце, вертясь, гонит стадо планет по орбитам. Встанет оно, и планеты замрут неподвижно, чтобы упасть на свое золотое светило». Помните? Нет, Вольта не помнил.
К доводам поруганного Лесажа можно бы добавить еще один, возможно решающий. Волею судьбы, а точнее, своего разума, Лесаж оказался в стане атомистов, для которых мир стоит на трех китах: телах, пустоте и частичках, в этой пустоте мчащихся. В этом лагере немало славных бойцов, но армия противников все же сильнее. Альтернативная исходная картина выглядит так: мир якобы заполнен средой, в которой тела плавают, колышут этот «бульон» и колебаниями свидетельствуют о себе.
Книга Лесажа вышла в 1784 году и была буквально блокирована двумя работами Канта на ту же тему, вышедшими в 1781 и 1786 годах. В «Критике чистого разума» и в «Метафизических основах естествознания» кенигсбергский философ весьма общими словами нарисовал свою динамическую систему. Принципы выше материи, мысль первичнее тела, а потому, по Канту, мир наделялся движением вообще, «форономией», а говорить о пульсациях или вращениях частичек, как когда-то делали Декарт и Ломоносов, означает вульгаризм, не надо конкретности. Если на тело действует сила, это уже динамика, для философов низменная, а если взаимодействуют тела, название тому механика, что для людей мастеровых, у которых разум спит, но руки работают.
Путешествие длительностью в 33 дня заканчивалось. Южной дорогой мороз Александрию — Милан Вольта вернулся в Комо. В ноябре к Ван Бергему полетело письмо с пожеланием подготовить статью о северном сиянии. В ответ полномочный секретарь Лозаннского научного общества известил Вольту об избрании в число членов, добавив ваше письмо о горючем газе на французском языке мы уже напечатали, шлите новые работы. На этом год ушел в прошлое.
Промежуточные итоги.
В 1783 году жесточайшее землетрясение и Мессине потрясло умы всех ученых мира. Люди существовали в пасти Природы, вот снова она, слепая, неразборчивая и безжалостная, показала опасные клыки. Беду можно было предвидеть: 50 миль до Этны, 200 до Везувия, а в 30 милях остров, не зря же названный Вулькано. Совсем не напрасно на сицилийской стороне мессинского пролива когда-то жила Харибда, трижды в день извергавшая и поглощавшая воду, а на италийской — злобная Сцилла, похожая на сросшуюся тройню сиамских близнецов. Нет, не напрасно рассказал Гомер о чудовищах, гнездившихся на скалах на расстоянии полета стрелы: вот проснулись они, и вздыбившаяся земля поглотила полгорода, а вместе с ним университет, студентов, профессуру, хотя незыблемо стояла цитадель разума вот уже 235 лет. И сразу, словно ради помощи пострадавшим, габсбургских наместников вновь сменили испанские Бурбоны.
Их не было 70 лет, но могла ли смена власти обуздать огнедышащие недра? И даже техника помочь была не в силах, хотя в эту пору она явно пережинала эпоху взлета. В том те году, когда погибла Мессина, некто Джеймс Кук (механик, а не тот известный мореход, который погиб на Гавайях четыре года назад: съели гавайцы) изобрел семирядную сеялку. Сеялка попала в лондонский музей как технический шедевр, однако ее конструкция беззастенчиво перепевала старинные индийские мотивы. Чудо техники, правда, оставалось на земле. Но был и взлет в самом буквальном смысле слова: в 1733 году Минкелерс надул шар светильным газом, и тот полетел. И началась лихорадка: в полгода шесть полетов! Сначала Жозеф и Этьен Монгольфье скрепили пуговицами большие цилиндры (или призмы) из холста, оклеенного бумагой с их фабрики, а под ними закрепили жаровни, наполнившие баллоны теплым воздухом. В июне 1783 года над Парижем поплыл монгольфьер диаметром 10 метров, весивший два центнера и утащивший примерно такой же груз на километр вверх и на столько же в сторону. И сразу появились три книги, разнесшие по всему миру вести о монгольфьерах.
В августе взлетел сферический, диаметром около трех метров, «шарльер», который склеил из тафты, покрытой лаком, профессор Шарль из парижского музея ремесел. Наполненный водородом (для его получения серную кислоту лили в бочки с железными опилками, шар за минуту взвился до облаков и унесся за 25 километров, где лопнул в разреженной атмосфере, упал и был истерзан вилами крестьян, уверенных, что перед ними неведомое чудовище. В Версале Людовик XVI показывал гостям монгольфьер высотой в 24 метра, на котором путешествие в небо совершили петух, баран и утка, символы Франции. Потом дошла очередь и до людей: в ноябре маркиз д'Арланд с первым в мире аэронавтом Пилатром де Розье, в декабре Шарль с другом, позднее генерал Менье. В считанные недели возникли все аксессуары позднейшего воздухоплавания, заново был изобретен известный еще в древности парашют. А в скором времени во Франции открылась школа воздухоплавателей, из которой впоследствии вышли первые в мире военные «аэростьеры».
Вольта не мог остаться равнодушным, когда в сентябре его известили про полет баллона с горячим воздухом. Уже в октябре он пишет Магеллану, ссылаюсь на сторонников Кавендиша и Пристли, что «французские полеты на самодельных конструкциях есть легкомыслие, граничащее с преступлением. Непременно следует создавать индустрию, производящую достаточно безопасные аэростаты!». А в ноябре он писал к Ландриани: «Аэростатические машины синьоров Монгольфье нуждаются в подогреве воздуха. Почему б не греть легкую негорючую часть болотных газов? Следовало бы скорее обратиться к ее императорскому величеству, уж тут-то приоритет будет нашим». Увы, то ли другие дела оказались важнее для властей предержащих, то ли сама рекомендация показалась им сомнительной, только на этом закончилось заочное участие Вольты в делах аэронавтики. Закончилось почти бесследно. Только Магеллан через год негодовал по поводу очень уж преждевременного желания Вольты вывести в небо аэростат с электрометрами. Поразительно, но через сто лет именно так обнаружили космические лучи!
Все же развивать тему продолжал Вольтов друг Кавалло. В 1784 году он издал книгу про баллоны и о том, как на них летать против ветра. Его можно понять: в 1766 году Кавендиш получил водород, через два года Блэк объявил о возможности взмывания водородных шаров в атмосфере, а в 1782 году именно Кавалло первым реализовал эту идею. Бумажные шары и свиные пузыри не подошли, но мыльные пузыри с водородом полетели! После этого и появились шарльеры, но Шарль победил Кавалло только разворотом технического масштаба, а вовсе не научной проницательностью и лабораторным обоснованием возможности полета.
Как учитель юношества, Вольта знал все только про баллоны, но и про другие технические новинки, однако ни паровые машины, ни плавка железа в больших печах не могли заставить Вольту изменить своим пристрастиям; Кроме электричества, он занимался химией. Вклад в нее оказался невелик, хоть времени потрачено изрядно. Вольта словно грелся около интеллектуального химического костра, разжигаемого могучими умами, с напряжением следил за волнующими перипетиями химической революции и, бесспорно, с удовольствием мчался на правах допущенного пассажира вместе с интернациональной командой, гребущей несогласовано, но к одной цели.
Волею случая он оказался в «английском стане» сторонников флогистонной теории, всеми силами мешавших попыткам Лавуазье упростить и оздоровить устаревшее учение. Переписка Вольты по этому поводу — кладезь исторических сведений о драматической погоне за истиной. Вот, к примеру, что в октябре 1788 года рассказывал Ландриани в письме к Вольте: «Кирван стойко бился с Лавуазье и компанией, но все же отстоял флогистон, а сейчас поехал домой» (мы знаем, что дни флогистона были сочтены), «Пристли, как обычно для него, мечется между теологией и физикой» (вернее, химией) и «больше всего занят защитой святой религии от яростных нападок Гиббона, призывающего в «Истории упадка и гибели Римской империи» к смирению христиан-разрушителей», «знаменитый доктор Блэк из Бирмингема весь светится, может быть, от скрытой теплоты, излучением которой занят», «ботаник Бэнкс ведет себя диктатором в Королевском обществе», «Кавендиш с его самой умной головой в Англии пачкается с циниками, почитая наивысшей для себя честью посидеть в одной бочке с Диогеном». Все-таки Ландриани был удивительной умницей: в двух-трех словах он умел исчерпывающе обрисовать сложную ситуацию, а Вольте оставалось насладиться гениальными прозаическими экспромтами и держать нос по ветру, зная «кто есть кто».
Гораздо квалифицированнее у Вольты двигалось познание теплоты. Вольта полагал, что тепло переносится теплородом, но знал и о кинетических воззрениях. Вместе со Скополи он даже составил обзор учений о теплоте для химического журнала Крелля (1786), где, в частности, хвалил «господина Ломоносовиуса за чрезвычайно остроумную защиту тезиса о связи теплоты со скоростью». Примерно о том же Вольте писал швейцарец де Люк: «Важно не только то, что движется, но и что движет». Магеллан, напротив, полагал, что «претензии Лавуазье заменить флогистон есть химеры». В столь противоречивой обстановке Вольта терялся. «Пришли книги о распространении тепла и о сопротивлении его течению», — умолял он Ландриани.
А тут еще Вольтов друг Марум нежданно-негаданно для самого себя первым превратил газ в жидкость, открыв список последующих создателей криогенной техники. Он любил изучать активные воздействия на вещество и на этот раз решил сильно сжать газ, чтоб посмотреть на тепловые следствия такого процесса. И вот при давлении семь атмосфер нагревшийся газ остыл до температуры комнаты, а потом вдруг в сосуде сгустился в туман, капли которого охладились так сильно, что вода на крышке превратилась в лед (1790). Узнав об этом, Вольта порадовался за друга, а Кавалло даже построил холодильник — первый в мире!
И все же химия и теплота были как бы сверхпрограммой. Интерес к ним происходил от избытка любознательности, главным же для Вольты оставалось электричество.
В те годы новинки по электричеству сыпались градом. 1 мая Боддент из Утрехта представил Вольте профессора Вахла: «Едет в Италию с научной командировкой, занят естественной историей. По специальности он ботаник, сторонник взглядов Линнея. В его музее весьма интересно: скелеты, чучело гиппопотама, камни, микроскопы. Еще он построил электрофор и электрометр с платиновыми листочками». В последних невинных словах скрывался смертный приговор соломенному приборчику Вольты: бузиновые шарики — соломинки — металлические листочки, простая логическая цепь усовершенствований по пути облегчения чувствительных элементов, а теперь еще и увеличения высаженных на них зарядов! Но золото чуть легче платины, из-за пластичности листочки можно сделать потоньше, а потому лавры создания наиболее чувствительного электрометра достались не «платиновому» Вахле, а «золотому» Беннету, только через четыре года применившему золотую фольгу!
И еще опыт: в 1784 году Соссюр заряжал золотое экю от электрофора, а потом наблюдал срабатывание Вольтова прибора от этой монеты. Опыт неплох, но в нем всего лишь, демонстрируется чувствительность электрометра, а новой физики не видно. Вольта так и ответил другу. Чуть посерьезнее оказались претензии Кавалло и Локателли (1784). Они выкачивали воздух из банки, в которой закупоривался электрометр, соломинки вроде бы расходились в меньшей степени, стало быть, напрашивался вывод: в полном вакууме электрические явления должны исчезнуть! Манила идея управлять электричеством с помощью насосов, но, увы, Кавалло ошибся: эффект слабеет несущественно!
В том же десятилетии свершилось событие исключительной важности: был сформулирован закон взаимодействия электрических зарядов! Его автора, подполковника Кулона, Вольта видел в 1781 году, когда того только что избрали в Парижскую академию, но всерьез к новичку мало кто отнесся, ибо какая там высокая наука в кручении волос и шелковых нитей? Но Кулон продолжал гнуть свое: через три года он закончил изучать скручивание нитей из металлов, а еще через год точно измерил силы между шариками с зарядом. Расстояние удваивалось, силы снижались вчетверо. Закон обратных квадратов прост и логичен, его прозревали еще Эпинус (1761), Пристли (1767) и Кавендиш (1771), но Кулон провел прямые точные измерения вместо умственных или косвенных доказательств, а потому по праву стал автором одного из главных законов физики.
А Вольта продолжал специализировать свои электрометры. Коль молниеотводы сводят электричество с небес в землю, то прибор с проводом на головке должен указывать электризацию воздуха! Он и указывал. Пламя проводит электричество ничуть не хуже металла, а потому вместо стержня на головку прибора можно поставить свечу! Так и случилось.
Уж много лет ученые били электрическими зарядами по разным веществам: Беккариа из окислов получал металлы, Кавендиш из воздуха — азотный ангидрид, Троствик даже разложил воду! Пользуясь советами Вольты, Ван Марум соорудил мощнейшую электрическую машину: воздух в комнате трещал и насыщался озоном, приборы реагировали на разряды, в немалом удалении чувствовали такой же запах, какой бывает во время грозы, при слабом освещении становилось заметно странное голубое свечение воздуха. Могучими разрядами удалось разложить немало веществ, но главное желание Марума (уловить электрический флюид и измерить его вес и производимые эффекты) все же не удовлетворилось, ибо ни вес, ни скорости испарения разных наэлектризованных жидкостей ничуть не менялись. «Браво, — отзывался Вольта, — но все же опыты разрушают фанатические иллюзии многих медиков и физиков о всесильности электричества» (июнь 1787).
В эти двенадцать лет мир признал Вольту большим ученым. Париж, Берлин, Лондон, Лозанна, Брюссель, Женева, Павия, Падуя, Верона — из разных городов присылались на его имя академические дипломы. Только Петербург молчал. Кстати, Вольта рассказал Магеллану о безмерной щедрости российской императрицы, и тот в 1783 году предложил вновь назначенной директрисе академии Дашковой линзу чрезвычайно высокого качества за 700 гиней! Но нет, тамошние академики воздержались от нереально дорогой покупки.
С каждым годом уходили в иной мир ученые, которых Вольта знал лично или понаслышке: Беккариа, Даниил Бернулли, Эйлер и Д'Аламбер, Бошкович и Бюффон. Среди гуманитариев было не лучше: Лессинг, Дидро, Гольбах. Не стало Гварди, последнего живописца, «воспевавшего Венецию». Посмертного признания добился Вольтер: вышли в свет 30 томов его трудов, а его прах (как и Руссо) триумфально перевезен в Пантеон, чтобы через 23 года быть сброшенным в грязную яму…
Здесь, в Италии, размах дел был поскромнее. То пришлось выцарапывать три ящика книг и приборов («лучшие из лучших», «дорогие», «сверхчувствительные») из трюмов «Донны Бьянки», приплывшей из Лондона и на три года арестованной испанцами. То брат каноник Серафино требовал срочно просветить, откуда взялся «фонтан Паоле» с кристально чистой холодной водой в самой середине Ломбардии, на склоне Мойте Бальдо в милю высотой. То из академии Вергилия в Мантуе кто-то просит одобрить каталог картин, хранящихся в местных галереях (кстати, секретарем делегации мантуанских графов, посетивших Павию, секретарем и хранителем музея античности там оказался однофамилец Вольты, Леопольдо Камилло!). То вдруг объявилась тетка Агата, ныне живущая в Валтеллини. То Аморети чуть ли не насильно повез гондолеттой к источнику Плиния, «в страну Ларио», а Вольта не смог отказаться. И подобных дел, погоды не создававших ни уму, ни сердцу, убивавших бесценное время, набиралось каждый день больше некуда.
Вольта отбивался от второстепенных мелочей как только мог: то сбежит и спрячется от назойливого просителя, то погрузится в проведение эксперимента, который нельзя прервать. В ноябре 1783 года он ухитрился со зла написать совершенно пустой ответ длиной в 180 слов одним предложением на кичливое бессодержательное письмо влиятельного бездельника, изображавшего серьезную эпистолярную деятельность; Вольта начал: «Имею честь заверить высокочтимого и многоуважаемого синьора в том, что его ценная рекомендация будет непременно и с искренней благодарностью…» И так далее. Столь беззубое мщение сильно напоминало «кукиш в кармане», ибо адресат наверняка не понял убийственной иронии внешне подобострастного ответа. И здесь, и во всем Вольта вел себя чрезвычайно деликатно. Не потому, что не мог иначе. Он мог быть всяким: злым, жестоким, язвительным, непреклонным, грубым, но на бессмысленные демонстрации у него просто не было времени. Оп давным-давно выбрал для себя занятия, ценность которых была неизмеримо выше любого другого дела, подсовываемого ему жизнью. Эти занятия требовали всех его сил и способностей, занимали столько времени, что и слать порой было некогда вдоволь, притом даже при столь сильном пришпоривании отмеренной ему жизни могло и не хватить. Вольта догадывался, но еще не был в состоянии вразумительно объяснить другим, что близка великая разгадка вселенской тайны, которую можно было совершенно приблизительно высказать так, но пока что для своего внутреннего потребления: мир имеет электрическую природу, человек — часть природы — тоже является электрической конструкцией, а физики вроде Вольты создают электрические аппараты, всего лишь имитирующие натуральные продукты и процессы. Возникал тут и коварный вопрос: а что дальше? Может быть, лечить людей и ремонтировать электрические приборы следует одинаково? Может быть, физики призваны создать второй мир, параллельный природе, ей противостоящий и на нее опирающийся, причем создание дубликата уже началось под вывеской «Техника»? Но додумать было некогда: Вольту захлестнули чужие страсти…
Спалланцани гневается.
В 1781 году в университете начали раздаваться голоса против Вольты. Причиной недовольства коллег стали частые отлучки профессора, взамен которого, его коллегам приходилось читать лекции и вести занятия со студентами. И пяти лет не преподает в Павии, а уж объездил с десяток стран, не говоря об Италии! Возможно, что он хороший ученый, но кто будет за него работать на кафедре? С какой стати страдают студенты? Нам нужны не гастролеры, а преподаватели! Вольта решил сдаться. «Я хочу бросить кафедру!» жалуется он в Лондон в июне (рядом жаловаться не кому). «Ни за что! — успокаивает его Магеллан из-за моря. — Что за интриги? Не надо падать духом. У Вас столько заслуг, президент Бэнкс напишет за Вас, только попросите. Когда заболеет артист, его подменяют, а не гонят из театра».
Дружеское участие Вольту успокоило. Но тут снова пришлось уезжать в Вену, Берлин. Чувствуя себя как на иголках, в июле Вольта пишет из Австрии своему помощнику Бутини, как снять погрешности приборов на лабораторных стендах, какие опыты показать после лекции, а какие перенести на потом. «В августе я уже вернусь», — заклинает нервничающий профессор. «Нет, я все же оставлю кафедру», — снова шлет жалобу в Лондон Вольта, избравший Магеллана ангелом-утешителем, но тому уже начали надоедать стенания. «Такое завидное место и вдруг бросить? Полноте», — раздается из-за Ла-Манша.
Вольта и Скарпи вернулись в ноябре, отчитались, с опаской поглядывая на профессора естественной истории, более всех мутившего воду. А баталии против «гастролера» продолжились: уже все знакомые от кого-то слышали про разыгравшуюся язву, утешали, предлагали прислать лекарства. Как нарочно, в марте Вольте приходится просить у Вилзека отпуска по болезни: хоть на две недели, ревматизм правого плеча и руки, но зато я продумал все детали устройства Физического Театра!
В январе 1786 года «проснулся» до того бурливший тайно сам Спалланцани и начал бушевать в открытую. Он подал рапорт Вилзеку с требованием, чтоб и ему дали заграничную командировку, а не только Вольте и Скарпи, которых он ничуть не хуже. Ломбардский министр усмехнулся и дал, аббат уехал в Константинополь, а по приезде начал подлинную войну против Вольты.
Поводом послужило, как он заявил, исчезновение из кабинета естественных наук неких дорогих экспонатов. «Дело нечисто, их, — кричал Спалланцани, — украл каноник Серафимо Вольта из Мантуи, которого здесь, в Павии, числили смотрителем моего кабинета». Вот тогда-то Алессандро Вольте и пригодилось всем ведомое отсутствие каких-либо связей с братом.
Аббата успокаивали, но он бушевал и добился-таки своего: 4 августа 1787 года появилось юридическое постановление, подтверждавшее правомерность обвинений. Каноника Серафимо уволили, профессора Скарпи и Скополи отделались выговорами, Алессандро Вольта получил внушение, ибо он в те годы занимал пост ректора университета.
Но и этой «крови» оказалось мало. Спалланцани хотел смерти. Дело в том, что аббат Лазарь Спалланцани ревновал Вольту, полагая себя обойденным. Он, который всего на 16 лет старше Вольты, оказался бит по всем статьям. А не он ли, Спалланцани, сделал Вольту ученым? Еще в 1771 году Вольта посвятил аббату свою рукописную диссертацию по электрической машине. Если б знать, как повернется дело, физиолог не взялся бы за электричество, он бы навечно похоронил «вареные виноградные палочки»! А затем доморощенный изобретатель, даже миновав университетскую скамью, пролез в учителя, потом в профессора, и вот теперь поездки в разные страны, членство в академиях, а его, «корифея», аббата Спалланцани, оттерли на второй план. Но еще в 1784 году он начал переламывать нездоровую ситуацию, когда добился почетной медали из рук генерала Кинского во время императорского визита, а сейчас пробил час мщения. Тем более что отыскался и повод — пустячный, как всегда бывает в таких случаях. Поскольку гневные тирады по поводу якобы нешуточных отступлений от установленных в университете порядков никто поддержать не захотел, Спалланцани обратился к прессе. В 1788 году издатель Зоополи вдруг напечатал на 152 страницах скандальное «Письмо Франческо Ломбардини к Джованни Антонио Скополи», а потом еще одно подобное. Под псевдонимом разглядели Спалланцани, Ломбардия хохотала и указывала пальцем на автора и на героев пасквиля. Среди них оказался и Вольта.
Чем же он провинился? Главное, что манкировал математикой. Ведь еще профессор Массарди, проверяя качество преподавания, написал в докладной, что Вольта будто нарочно не применяет современного физико-математического аппарата для описания основных естественных процессов. Да, так и было, но ведь только через сто лет появится формальное описание электростатики. В то годы не знали закона Кулона, еще не родились Грин, Пуассон и Максвелл, авторы будущих математических спекуляций. Вольте еще неоткуда было брать формулы, профессор-экспериментатор высился в электростатике одиноким пиком среди всего лишь считанной горстки знаменитых предшественников.
Вот почему обвинения Спалланцани нельзя считать обоснованными. Но критика звучала: «Не зная выгод от применения математики ни в одном разделе физики (механике, гидростатике, оптике), профессор Вольта расточает силы на лишние эксперименты».
Нападки Спалланцани производят жалкое впечатление. Вот лишь несколько примеров. Страница 33: «Александре Вольта, профессор экспериментальной физики, часто говорит на занятиях о свойствах воздуха, теплоте и электричестве, где сам он внес немалый вклад, что, конечно, для студентов тоже полезно. Но в лекциях и намека нет на принципы геометрии, алгебры, механики и других соответствующих методов, а изложение по курсу ограничивается просто разговорами о воздухе, теплоте и электричестве, что вряд ли достаточно для предмета физики. То же самое касается машин и приборов, а про газовый пистоль и какой-то огарок, величаемый газовой лампадой, и говорить нечего, это просто два фокуса, а делать упор на барометры просто смешно».
Страница 46: «Курс химии — это гордость нашего университета, а Вольта там говорит только о воздухе, теплоте и электричестве, будто, кроме него, никто ничего не сделал». И так далее, и том же духе.
Вольта не оставался равнодушным к нападкам Ломбардини — Спалланцани, хотя сознавал шаткость их. И все же, мрачнел Вольта, эти звери почуяли, что он едва стоит, едва тащит свои кресты, изнемогая под ними. Денег нет, приходится рваться на части между наукой и преподаванием, между Комо и Палией. Все, что делает Вольта, он делает хорошо, но, конечно, если б не нужда в заработке, он без раздумий целиком ушел бы в науку.
А к тому же и семьи нет, и бесконечно утомительные дороги. Кто еще выдержал бы это каторжное существование, кроме него? И недруги почуяли, что сил мало, самое время нанести удар, а потом лицемерно посочувствовать, увидев, как он расколется вдребезги.
Однако друзья Вольты знали ему истинную цену. Когда в апреле 1788 года уже знакомый читателю имперский лейб-медик Франк Брамбилла получил анонимное письмо с тяжелыми оскорблениями Скополи, Скарпи и Вольты, он сразу сообщил Вольте, что безотлагательно объяснит все барону Спергесу и покажет письмо имперскому министру по Риму и Неаполю. Уже в июне, прихватив с собою сына, аббата Бертола и Вольту, Франк объехал Кремону, Верону, Виченцу, Павию и Венецию, елико возможно смягчая ситуацию.
А Вольта? Публично отвечать на выпады «Ломбардини» он не стал, чтобы не раздувать пустую полемику, в частных же письмах предельно откровенно и полно разъяснил свою позицию, понимая, что из дырявого водопровода напьется и Спалланцани. Так и случилось. И гласность убила злоупотребление. Вольта не стал требовать сатисфакции, тихо помог, чем смог, оклеветанным Скополи и Скарпи и даже обращался потом, когда буря утихла, к Спалланцани с разными просьбами, в которых тот при всем желании не мог отказать. Плохой мир Вольта предпочитал хорошей ссоре.
Несчастный влюбленный.
Только упущением литераторов можно объяснить, что не написано романа по этому захватывающему и поучительному сюжету. Вольте сорок четыре года. Он отчаянно влюблен, мечтает жениться. Его тоже любят. Три с половиной года бушуют страсти, а в итоге — крах, зарядивший Вольту глубокой депрессией на все оставшиеся ему годы жизни.
Причиной тому не пресловутый любовный треугольник, а скорее совсем уж небанальный семиугольник, по углам которого, кроме самих влюбленных, родственники, друзья, начальство, коллеги и даже сам император Священной Римской империи. До нас дошло более полусотни документальных свидетельств об этой великолепной страсти, об этих горьких переживаниях, а вкратце романтическую историю можно пересказать так.
Третьего декабря 1788 года Вольте принесли письмо, посланное из Милана графиней Марианной делла Порта де Салазар. С ее семьей Вольту связывала португало-испанская общность происхождении, и знакомство это было надежным, респектабельным и целеустремленным. Старушка писала кратко, сумбурно, словно впопыхах, словно после вечернего посещения оперы, где пела ее тезка, римлянка Марианна Парис. О ней и писала матрона.
Вероятно, зная, что ее стиль внушает ощущения торопливости, графиня начала так: «Пишу не сгоряча, без азарта, вполне серьезно. Девушка — чудо, необычайно порядочна, весьма интересна, речь благородна, хорошо одета, весела. Редкость среди подобных персон. Благоразумна и вежлива, хотя как артистка все же посредственна. Умоляю быть осторожным, не проболтайся в университете об этой рекомендации, чтоб не опередили, или лги, что тебе все равно, если потеряешь. Избегай насмешек над ней. Извини, дядя полагал, что с артистками связываться нельзя, но эта будет стоящей подругой. Извини, что отвлекла твое внимание».
И приписка: «Дорогой, лучше опереться на совет, чем идти, не зная куда. Мой Мартино шлет тебе привет, а я массу уважения. А сейчас отчаянно тороплюсь».
Старая сводница! Вольта отбросил письмо, но поздно: пуля попала в яблочко. Он ценил дружбу с древними корнями и уважал титулы, притом искал жену, как тут не внять совету, исходившему от носительницы графской короны. К тому же всем известно, что он поклонник Франции, а тут двойной знак: Марианна — давнее символическое имя этой страны, а Парис — так пишется название ее столицы, лучшего города на свете! Если графиня взволнована, то вряд ли зря. Пишет с ошибками, слог пестрит испанизмами, но ведь от всей души. Ему все хотят помочь, дело важное, не терпит отлагательства — волна умиления захлестнула его сентиментальную душу.
Через три дня Вольта уже знал, что 25 февраля (еще знак! Через неделю после его рождения!) начнутся гастроли римского театра, который прибудет в Павию как раз на масленицу. Но, какая досада: хранил тайну в полном секрете ото всех, а тут вдруг начал болтать о масленице. Однако вовремя спохватился и притаился почти на год.
Удалось отыскать в Павии старую афишу. За 1786 год. Римская опера в позапрошлом году встретила масленицу в Вероне, весну провела в поварском театре Солнца, август в Имоле и Луго, потом до Нового года в Кенто, Местре, Ферраре и Ровиго. Довольно хитрые зигзаги!
В каждом городе труппа дает две-три оперы. В репертуаре семь наименований: «Король Теодор в Венеции», «Два вероятных графа», «Поэт на Парнасе», «Уловки принцессы», «Три радости на спор», «Братья Папабуоне» и «Насмешки кастелянши». Почти все это Вольта видел, и композиторы неплохие: Паизелло, Чимарозо, Луиджи Карузо, Алессандри, Сарти и Фабрицци.
Кровь побежала по жилам, в ушах Вольты зазвучала пленительная музыка, засверкали свечи люстр и канделябров театрального зала, увидел женщин в вечерних туалетах, а на сцене, в отблесках масляных светильников рампы — смутный отблеск той, к которой уже устремилось его сердце. При первой же оказии Вольта бросился в Милан, подстегиваемый нетерпением. Чтоб взглянуть, навести справки. И еще более утвердился в своих намерениях. Тем временем наступил 1789 год.
В 1789 году римляне привезли в Павию на великий пост «Севильского цирюльника» Паизелло, а летом в Генуе показали его же «Служанку-госпожу». Вольта бросил все дела, полетел как на крыльях. Марианна его очаровала, он был ей представлен и встречен благосклонно.
Можно представить, как сладко пело сердце профессора, вдохновленного любовью. Вот она, страсть, опьянение, неизъяснимые словами чувства — и все это у подножия театральных подмостков, на фоне великолепной музыки. Всё разом, и этот чудесный поток увлек сердце ввысь, взметнул душу, дотоле не слишком падкую к такого рода полетам в возвышенные дали.
Вольта умел молчать, сверкать глазами, взрываться монологами, смешить до упаду, исторгать слезы. В его речи явились Мельпомена, Талия, Терпсихора и Полигимния (остальные пять муз к опоре отношения вроде бы не имели). Пригодился знаменитый композитор и скрипач Тартини, которого Вольта еще застал и живых и которого обожал за легендарные двести скрипичных композиций, в особенности же за пресловутую «Дьявольскую сонату», по преданию записанную наутро после того, как маэстро увидел во сне дьявола, играющего на скрипке.
Потом шла речь про Гайдна, про его симфонию № 48 до мажор, посвященную императрице Марии-Терезии, про оратории «Времена года» (Вольта цитировал из своей юношеской поэмы на ту же тему) и «Сотворение мира», столь близкие каждому, кто хоть раз задумывался над тайнами мироздания, и все сочувственно смолкали, ибо тоже задумывались. А «Прощальная симфония» № 45 со свечами и поочередным уходом музы кантон с гобоем, валторной, фаготом и так далее?
Худощавый и покладистый обер-капельмейстер Гайдн прожил долгую жизнь. Он сумел не обидеться на императрицу даже тогда, когда личным своим распоряжением та вывела его из состава придворной капеллы, когда у подростка начал ломаться голос. Гайдн славился, правда, не одним только кротким нравом, но более всего, конечно, тысячами изумительных произведений. Искусству создавать оратории австриец обучился у великого Генделя, для чего даже ездил в далекую Англию, где тот прожил едва ли не половину всей своей жизни. Зато тайны создания струнных сонат у Гайдна перенял сам Моцарт. И если уж быть объективным, так ведь всех троих обучили музыке итальянцы, даже тексты либретто писались исключительно на итальянском, а музыкальные инструменты? И Вольта добавлял: «А хорошенькие женщины в ложах?»
Про Гайдна и его оркестр тогда ходило немало всяческих легенд: о преуспевании в благородном дело сочинения симфоний, о том, как прожил он долгие годы в сложном положении полуслуги в доме князя Эстерхази, у которого был капельмейстером, о нелегком образе жизни и необходимости напряженно трудиться. («Как я», — про себя добавлял Вольта.)
А у бедного Моцарта дела куда хуже. Так изящен, так талантлив, но небогат (подобно мне — думалось Вольте). Марианна пела в чудесных Моцартовых операх «Похищение из сераля» и «Директор театра». Вспоминались дивные сонаты и дивертисменты Моцарта, его блистательная «Маленькая ночная серенада». В памяти Вольты вдруг всплыл полузабытый эпизод юности — слушая Моцартов дуэт для скрипки и альта соль мажор, мать вдруг обняла его и сказала на ухо вполголоса: «У тебя претензии скрипки, а душа альта». Быть может, она была права: тому, кто хочет быть впереди, нужно побольше напора, а ее сын скорее склонен размышлять даже там, где надо действовать, хотя б и не лучшим образом. «Экспромт лучше натуги», — засмеялся Вольта.
Потом он вспомнил, как еще в 1770 году ездил с матерью в Милан, где 14-летний Моцарт дирижировал своей оперой «Митридат». Как тогда же Вольфганга Амадея с триумфом избрали в Полонскую филармонию после часового заточения на экзамене, чтоб убедиться в самостоятельном сочинении сложной многоголосной композиции на заданную тему. Жаль, что у физиков этого не принято. Вольта тоже, пожалуй, смог бы обойтись без подсказки.
И снова звучали слова, что зальцбургский архиепископ Иероним, граф Коллоредо третирует Моцарта — концертмейстера своей придворной капеллы, словно раба, что будто бы его жена Констанца Вебер наставляет ему рога, что Моцарта назначили на место, которое прежде занимал великий Глюк, камермузикусом в Вену, и что не раз выручал композитора с либретто его восторженный поклонник, опять же итальянец де Понта.
Только в сентябре 1789 года Вольта решился открыться брату. «Уж давно на душе тяжело, меня заботит, это между нами, любовь, которую я прячу даже от себя. Много раз я пытался рассказать тебе, но нет мужества. Это дело надо делать очень умно, оно из категории очень волнующих, ты меня будешь упрекать, печаль в моем сердце, так что не дави на меня, я буду за это крайне признателен. Смотри сам, но будь снисходителен. Я поражен в сердце, меня одолел соблазн. Настолько другой мир, другие люди и родители, другие цели, что я тяну и откладываю реализацию своих планов, не зная, что делать. Дело обычное, но…
Кто ж она? Боюсь сказать, но она — театральная звезда. Не ужасайся, а читай дальше. Прежде чем нападать на предмет моего обожания, вспомни, что искусство не позор. Не веди себя как инквизитор. Ее ничто не может запятнать, так чиста, так порядочна. Конечно, жаль, что положение семьи вынудило ее выйти на сцену. Я ничего не хочу, кроме ее возврата к жизни простой и частной, я страстно жажду ее ухода со сцены. Моя возлюбленная — Марианна Парис.
Ее рекомендовала графиня Салазар с виллы Триульцы, ей покровительствует князь Кебенюллер, а рекомендует князь Альбани. Она родилась в Риме, несколько лет провела в монастыре как воспитанница. Из-за какого-то несчастья семья попала в тяжелое положение, а у нее голос. В театре у нее отличная репутация, она сама скромность. Конечно, ходят разные слухи о причинах их бедственного положения, скабрезности о родителях и братьях, разные версии, вроде того, что родители в молодые годы вытолкнули ее содержать семью, торгуя своим даром. Мать ее даже не понимает, чем плох театр, где же делать карьеру, чем нехороша музыка?»
Страница исписывается за страницей, появляются эпитеты «моя дорогая Марианна», междометия «о!» и «ах!». Право, жаль, что еще далеко до рождения кинематографа — перед нами сюжет, вполне достойный мелодрамы в стиле фильмов тридцатых годов. Но это, что называется, «в сторону», а Вольта, этот умный и весьма сентиментальный человек, уже выяснил, что на «масленицу дорогая едет в Виченцу. А я на три дня в Павию, потом остановлюсь в Милане в «Отеле Льва». Любовный марафон набирает скорость.
Так сама судьба занесла Вольту в оперный театр — властитель дум всей страны. Музыкальные и склонные к лирике южане наслаждаются, нет, вернее даже, живут страстями сцены. Здесь все красиво, неожиданно, ярко — как раз то, что надо людям, чья кровь согрета солнцем Италии. Впрочем, разве сама жизнь не театр? Только в театре все более сгущено и события не так растянуты во времени, как в реальной жизни. Труппа, где пела Марианна, безостановочно гастролировала но всему югу Европы, избегая, впрочем, нищих южных областей полуострова, где царствовала скаредная поросль испанской линии Бурбонов и свирепствовала инквизиция не хуже, чем на Пиренеях.
Реакция близких не заставила себя ждать. Луиджи категорически против: преодолей свою слабость, не иди на поводу обстоятельств, ты потеряешь мое уважение, если не освободишься ото всех обещаний, которые успел надавать Парис. Не надеясь на благоразумие слабохарактерного брата, Луиджи обращается за помощью к Вилзеку, и тот из Милана подключается к попыткам погасить любовный пожар.
«До меня дошли новости, которые гуляют повсюду, что Ваша милость порешили о женитьбе на Марианне Парис, которая уж год разъезжает с этим театром. Подобное известие для меня сюрприз, мне интересно, чем Вы руководствовались в своих поступках, что возбудило Вас, я еще не могу представить. При выборе жены надо бы совмещать свои стремления с мнением родных. Думается, что следовало бы отречься от своих планов и предположений относительно этого дурного альянса, который наверняка для Вас не нужен, хотя б это было нелегко Вашему сердцу. Потому желаю, чтоб Вы не вели в одиночку своих дел, тем более столь аффектированно. А еще желаю Вашей милости получше подумать, когда встречаются дела с последствиями, где надо бы сомневаться, чтоб не пришлось раскаиваться, как при подобных инсинуациях. С неизменным почтением». Вот так!
Тогда же, 21 ноября, Вилзек написал архидьякону. «Мне очень жаль, но в соответствии с Вашими предположениями Ваш брат профессор действительно надумал настоящее долго с женитьбой. Не в моих силах, но я охотно помолодел бы, чтоб за год обучения привести в порядок Вашего братца. Как договорено, надо бы отправиться туда с приемлемым поводом, но он все не находится, чтобы принудить мешающую персону этой необычной ситуации устраниться. Я не брошу дирижировать этим делом, о чем буду Вас информировать, чтоб можно было размышлять с учетом всех обстоятельств, для исключения ошибки. Чтоб помочь Вашему брату, надо все проверить. Не беспокойтесь, все будет нормально».
Через два дня в заговор «доброжелателей» включился каноник Джованни. Ясным языком он передал Алессандро свои недвусмысленные возражения его «безумным» планам. Что ж оставалось делать Вольте? Да, я получил письма, думал он, да, я отнесусь к их содержанию серьезно. «Да, дорогой брат, — писал он к Луиджи, — я все рассказал Терезе Чичери, но «это не очередное развлечение», «это не слабость», не будет, «как в прошлый раз». Я совершенно искренен: разве не горе, когда требуют: отвернись от своей любви! Никакая развязка, никакой форсаж немыслимы хотя бы потому, что ее нет в Павии, к которой я привязан. Когда-то они увидятся, он может ей надоесть, она выйдет замуж, но за другого!»
Но постепенно удары холодного разума пробивают огненную завесу любовной страсти. Брат каноник наседает. Чичери ведет себя деликатно, но советует подчиниться семье. Забота и доброта графа Вилзека Вольту растрогали, а Вилзек пишет снова и снова, советуя одуматься окончательно: «Мне принесли от Вашей милости бесконечно приятное известие, и я увидел хорошие новости с отказом жениться на певичке. Нетрудно понять, что за привычки должны выработаться у девушки, которая вынуждена служить в театре, и как ее наклонности и прочие моральные свойства будут все меньше отличаться от принятых в этой среде. Не заставляйте меня повторять, что выбор жены должен согласовываться с семьей, что бесспорно, и не вестись личными сантиментами. Все это нормы общепринятые. Когда в женитьбе какое-то неравенство, то это станет причиной многих драм, поэтому по надо поднимать этого груза в одиночку, а пока, впрочем, уступите своей натуральной страсти. Быть может, Вам больше по нраву другой совет, но сдержитесь в главном, и Вы одержите победу, ибо при разумном поведении появляется самоуважение».
Вольта прислушался к доводам. Тем более что надо было списаться с Соссюром, обдумать мысли Гаттони по поводу Лавуазье, подправить курс в университете. И острота матримониальных намерений снизилась, притупленная временем. Однако через год, в конце 1790 года, тлеющее пламя вспыхнуло с новой силой.
Массированные атаки на безумца продолжались. Некто «Монсиньор Р.» и Ландриани говорили о простом рефлексе. Чичери просила не причинять горя родным своей женитьбой на Парис. Сводная сестра Чиара (сестра Лодовико Рейна, мужа Клары Вольты) повторяет то же (сговорились!) и заодно жалуется на свою дочь: «Твоя племянница говорит, оставьте его в покое. Не огорчайте его, пусть компрометирует себя, кто хочет, тот обязательно рухнет в грязь, не сейчас, так в другой раз непременно!»
Вольта в отчаянии, но бьется как лев. Он снова и снова повторяет те же доводы о любви, чистоте суженой, благородности ее семьи. «Я еще жив, что вы рыдаете надо мной, скорбите и мечитесь, подождите, пока уйду в иной мир! А где добродетель, любовь, терпимость? Кто ж будет рубцевать язвы этого мира, о которых все сострадают? Позор вам и презрение, развели канитель вокруг желающих жениться, чтоб развести их! Но зачем ломать человека, ставить на колени, делать несчастным на всю жизнь? Неужели любить греховно? Ведь без любви не может быть счастья, любовь пришла, а вы губите ее! Я не боюсь ничего, ни вашего гнева, ни каких-то тягостных последствий. Вы молитесь, призываете благодать с неба, она пришла, а вы отворачиваетесь от нее!»
Но речи глохли в пустыне, оратор оставался одиноким. И наваливались лекции, глушили его, он бился, словно рыба в сети. Неотложные письма к Лавуазье. В марте 1791 года он пишет Чичери, осмеливаясь в конце письма раздраженно и воинственно вступиться за свою любовь против согласованного давления близких. Но перед кем? Перед женщиной, которая сама ищет любви Вольты и имеет на нее право, перед полусломанной мудрой постаревшей Чичери по кличке «Развалины старого замка», перед верной Чичери, которая все еще надеется!
А Вольта стоит в позе оскорбленной добродетели. «Я буду биться до победы, — трубит его боевой рог на ухо любовнице, — нельзя же дать слово чести, а потом сделать вид, что его нарушили другие». И снова пригвождаются пером к бумаге бесконечные эмоциональные вскрики, слова о боге, сердце, душе, женитьбе, горе, покое», жестокости, красоте и справедливости.
Как нарочно, в Виченце труппа поет «Щедрого соперника» и «Севильского цирюльника», и Вольта ревнует, чувствуя себя театральной жертвой. В Вероне — «Благородного пастушка», и Вольта видит себя пейзанином из все еще модных рулад Жан-Жака Руссо о природе и ее детях.
Как-то Вольта выбрался к Парис, когда театр был в Милане. Мать бледна, Марианна задумчива. Собрались в гостиной, и бархатное меццо-сопрано заполнило комнату печальными звуками. Что это? «Это Моцарт, — просто молвила певица, — «Когда Луиза сжигала письма своего неверного возлюбленного». Эти слова больно резанули Вольту по сердцу.
Предчувствия не обманули. Он был верен, он любил, но каждый вправе залечивать рану. 4 мая 1791 года на невидимую сцену любовной драмы выходят мать и дочь. Их ультиматум ясен и краток: «Если Вам угодно продолжать разговоры о женитьбе, то поручитесь в своих обещаниях. Пора Вам знать, что постоянные смуты и поспешности досаждают. От Вашего имени нотариус должен объявить, что если Вы не сможете жениться, то по смерти родителей Вы обязуетесь взять дочь на иждивение. До такого объявления никакие слова не будут иметь никакого значения. Вам следует указать размер помесячных выплат, текущих и на капитал, и каждая может быть равна 500 римских скуци».
Брат и его соратники торжествуют: мы предупреждали, от тебя нужны только деньги. Вольта стонет: на кого ей еще опереться? Семья Парис печалится: этот милый профессор получил слишком много за свое ученое знание, но оставил их у разбитого корыта.
До сих пор преградой браку служили барьеры социальных предрассудков. А теперь на первый план вышли деньги. Платить требуемый пенсион Вольта не в силах, а родной брат, архидьякон Луиджи, не хочет: пойми, внушал церковник физику, чтобы добыть денег, родители торгуют твоей примадонной!
Обезумевший Вольта решается на отчаянный шаг. По совету брата он добился аудиенции у императора Леопольда II, когда тот был в Милане. 27 мая 1792 года Вольта представлен, устно и письменно он умоляет властителя перенести его должность в Милан на старых условиях, при том же жалованье, чтоб жениться на римлянке.
Путано, мешая разные тезисы, Вольта жалобно восклицал, что он уже «тринадцать лет профессором в Павии. Три брата служат церкви, но он один государству. Два года я хочу жениться на порядочной донне, но она принуждена служить в театре».
Решение двора нетрудно было предугадать: через пять месяцев на прошении появилась пометка императора: «Настойчивость просителя удовлетворена быть не может». И брат Луиджи еще более непреклонно заявил, что мечты о пенсионе для такого (?!) союза нереальны.
А Вольта? Любовь оказалась сильнее рассудка. Он продолжал упорно кричать, что «добродетель восторжествует. Я несчастлив, перевозбужден, жизнь моя переполнена печалью. Она доказала искренность своих намерений, она превосходит меня не только искренностью, но красотой, грацией, благородством. Мне льстит, что она выбрала меня. Мир гораздо бесчестнее, чем я думал, много грубее, чем я мог вообразить. Она согласна даже на меня такого, который не может дать всего, что ей надо. Но при этом ей придется остаться донной театра. Но ведь она не балерина, а певица, что много приличнее. Её никто не содержит, никто не сопровождает. Она достойна моей фамилии, слова дурного о ней не услышишь, все говорят только с почтением. Она хороша, благоразумна, современна, даже немного замкнута. А у меня только специальные знания, только скучная профессия. Да это чудо, что она меня заметила! Чем мне хвалиться? Имя ничуть не более благородное, сам я немолод, фамильный дом стар и даже мне не принадлежит».
Еще два года будут звучать его жалобы, но родные уже начали шушукаться, чтобы приискать более подходящую кандидатуру в невесты Алессандро. Тем временем старательная почта приносит письмо от матери Парис, и на остатках надежды появляется черный крест. Сообщается, что «Марианне бросать театр нереально и даже весьма несовременно. Такой шик сменять на унылое существование»? А брат Луиджи прав. Вас с Марианной ничего не связывает, бог делает все к лучшему».
Так и не состоявшаяся теща вываливает все, что хранила за душой, полуграмотно, но достаточно откровенно, ханжески причитая, что ему уже под пятьдесят, а денег нет, а у них, бедных родителей, нет здоровья, а смерть близка, и как бросить театр, несущий заработок и развлечения, и что сам бог не допустит, чтобы стало еще хуже.
И Вольта смирился. Он проглотил целую горсть пилюль: нищий, старый, без титулов. Что значит членство в академиях, если за него не платят? Но душила обида. Каковы мать с дочкой? Им «не хватает даже на фрукты»? Им мало тысячи скуди в месяц? И все же, молит профессор, разрешите оттянуть официальный разрыв: ему надо успокоиться, набраться смелости, привыкнуть к своему фиаско.
А вихри опер уже закружили любимую Марианну. В 1791 году Виченца, Верона, Мантуя и Местре. В тот год труппа рыдала о безвременно умершем Моцарте, слушая его «Реквием». Такой молодой, всего тридцать пять! Вольта тоже горько оплакивал величайшего гения музыки. Опомнись, увещевал Луиджи брата, он же франкмасон вроде Вольтера, Лессинга, Дидро, Гёте, Виланда. Пять лет назад написал своей ложе кантату с хором. «Волшебную флейту» посвятил Шикандеру, масонскому идеологу. Талант, конечно, недаром папа ему «Золотую шпору» дал, когда Моцарт мальчонкой «Мизерере» запомнил в Сикстинской капелле! Но учти, путь-то открыл Панзиелло, он еще в 84-м году убыл в Россию, только что вернулся! Вольта отмалчивался — физика и любовь отвращали его от раздумий о шутовской масонской обрядности и того, что стояло за ней.
А в 1793 году Неаполь рукоплескал Парис в «Оскорбленной женщине» и в «Двух баронах с Лазурного берега» (в прошлом году ее не было из-за любовной драмы, слышали?). Через пять лет театр поставил «Женитьбу мага» Фьораванти и «Школу зависти» Сальери, того самого итальянца, который на посту придворного капельдинера в Вене успешно вредил Моцарту, интригуя перед австрийцами против австрийца.
Парис перестала ездить в Павию и Милан. А вот в Неаполе, Пистойе и Болонье ей пелось легче и дышалось свободней. Но долго еще звуки знакомых арий пробуждали в сердце Вольты память о несбывшейся любви. Впрочем, мы забежали вперед, и потому нам предстоит вернуться к одному из тех годов, когда образ Марианны вытеснял, но так и не вытеснил из сознания ученого его главную и, по сути дела, единственную любовь — науку. Итак, год 1790-й…
Начался он скверно. Замучили поездки в Павию и обратно. «Жизнь моя проходит на колесах, чаще всего приходится смотреть в конский зад», — жаловался профессор. Не ладилась не только личная жизнь. Приходилось распыляться на множество научных тем, чего требовали как ведение многопланового университетского курса, так и пример старших коллег. Все они, как один, могли одновременно бежать в разные стороны, но у Вольты не хватало ног.
Вдруг события ускорились. Именинный февраль ушел на себя и близких, а первого марта скончался Иозеф II, неужели «иозефизм» (курс на просвещение и человеческие права) закончился? В Милане побывал новый император, но словно из чинопочитания успел умереть верный министр двора Джузеппе Спергес. Правда, и возраст немалый — 65 лет, но до последних дней аккуратен, исполнителен, суховат. Человек старой закалки!
Обо всех проблемах забылось, когда с запозданием прилетела из Америки печальная весть: 17 апреля в возрасте 84 лет скончался Бенджамен Франклин. Вольта держал маленькую, потрепанную красненькую книжечку с именем великого знакомого, «Трактат об электричестве», и печально думал: кому-то теперь достанется негласный титул первого электрика мира?
Во Франции ученая жизнь кипела, в Ломбардии влачилась потихоньку. «Научная провинция, глухой угол», — огорчался Вольта. Пришла очередная новость из Германии. Речь шла еще об одном Бенджамене, на этот раз Томпсоне, и не о смерти, а о здравии. Вольта виделся с ним во время последней поездки, а теперь баварский курфюрст Карл-Теодор пожаловал своего придворного ученого титулом графа Румфорда, по названию местечка в американском штате Нью-Гемпшире, где родился Томпсон. Право же, неплохо оказывается быть верным подданным могущественных властителей: сначала король Англии щедро наградил Томпсона за участие в войне против своих же колонистов, и вот уже графский титул в Германии! А ведь Томпсон на восемь лет младше его, Вольты!
Возраст под 45 лет оказался нелегким. Один год съели переживания о Парис. Постоянно заботили думы про Джованино. Серьезной оказалась забота, чтобы братец Луиджи занял одну из вакантных епископских кафедр. Кому только не кланялся Вольта с просьбой о помощи: кардиналам Архинто и Герцану, барону Спергесу, венскому другу доктору Брамбилле, графу Вилзеку. Но братья запоздали, битву выиграл другой.
В мае вдруг на авансцену вышел турмалин. Вольта занимался электричеством и теплотой, а в этом цейлонском камешке оба свойства сочетались: при нагреве-охлаждении на торцах кристалла появлялись заряды равной величины, но разного знака. Вольта повторил опыты Эпинуса, Вильке, Кантона, но ничего нового выжать не удалось. Разве только использовать минерал как электрический компас? Но его надо подогревать или охлаждать, это неудобно. При двух магнитных полюсах у Земли только один электрический, так что стрелка всегда будет ориентирована торчком. Опять же, электрокомпас получался куда слабее магнитного. Нет, турмалином Вольте заниматься не с руки, других дол невпроворот.
В июне вернулся к измерениям расширения воздуха при нагреве. В июле — ура! — прислан диплом из Лондона: официально принят в члены Лондонского королевского общества. В августе радость поменьше: введен в академию Италии, что в Вероне. Спасибо Лорне!
И все же, с какой стати научный мир заговорил о турмалине? Ведь в двухстах милях от Вольты уже работал еще непонятный и все-таки до того неизвестный источник электричества. Неужели знания вылетали из головы, носились по воздуху и там улавливались желающими?
Переключение на болонскую тематику.
Тут-то и произошло событие, которое в корне изменило судьбу Вольты: Гальвани издал книгу о животном электричестве. Для Вольты скачком изменились и род занятий, и предмет исследований, даже круг людей, которым были интересны его опыты. Никто не мог знать, что от электростатики физики переходили в электродинамику, но подсознательное ощущение необычности происходящего чувствовалось каждым.
В конечном итоге именно работа в гальваническом направлении принесла Вольте деньги, в которых он так нуждался; славу, которой он жаждал; независимость, к которой стремился, и высокое место в истории науки, которого без работ Гальвани ему было не видать, ибо все остальное, чего он достиг, было бы несправедливо называть очень уж крупной научной добычей.
История про научное противостояние Гальвани — Вольта широко известна. Суть ее такова. В июльском номере мемуаров болонского института за 1791 год появилась обширная статья «Комментарии о силах электричества при мышечных движениях». Автор, Алоиз Гальвани, скромно излагал великую теорию, основанную на добытых им фактах: животными организмами движет электричество! Трактат Гальвани, говоря современным языком, стал бестселлером последних лет XVIII века. Его издали в Болонье, Модене. Народ стонал от восторга: магнитный Месмер не состоялся, лопнул авантюрист Калиостро с обещаниями Вечной Молодости, неужели электрический Гальвани подарит бессмертие, станет мессией, все оживляющим своею дланью? Ползли слухи, что болоноц сподобился благодати: ведь он учился божественному, потом послан высшим перстом принимать новорожденных, а теперь настал час, когда он приоткроет тайну жизни!
Даже ученые были потрясены. Открыт секрет жизненной силы — это электричество! «Электрический флюид приготовляется силою мозга, — вещал Гальвани, — и извлекается из крови, он вступает в нервы и протекает внутри них, полых, как трубочки». Куда ж смотрели физики? — роптали виталисты. Мозг оказался обычной электрической машиной, а физики все еще трут стеклянные тарелки. Гальвани говорил много загадочных слов, сообщал про излечение параличей, вот он, магистральный путь, на который должны выходить заблудшие овцы науки. За ним, пусть ведет к вечному спасению!
Вольта был убежденным сторонником холодного академического скепсиса: или Вера, или Наука! Дай волю эмоциям, и они блокируют мышление. Люди думающие не верили глупым слухам. Но руки держали документ, а в этой книжке, понятной лишь достойным (на латыни!), вполне научно, с рисунками, ясно и убедительно излагались факты. Факты удивительные, обещавшие много, чуть ли не все: суть жизни и смерти! Понятное дело, что Вольта не мог пройти мимо дела всей своей жизни: он так давно устремлен к Главному Секрету Бытия, что должен знать о нем первым! Кроме того, он электрик высокого уровня, а труд Гальвани как раз посвящен «силам электричества». Конечно, еще «при мышечных движениях», но боги ль обжигают горшки? Познал же Вольта неживые материн, неужто отступать перед живыми тканями? Не напрасно же он лично знаком с прославленными физиологами Галлером, Бонне, Бюффоном и Спалланцани?
В первую очередь следовало разобраться в том, что сделал Гальвани. Вряд ли там все безукоризненно, но исправлять надо потом, по ходу дела, когда удастся ухватить главное, на что так удачно вышел Гальвани. Впрочем, спокойному чтению мешало многое. Нездоровилось. Не ладились дела с Парис, этой феей, посланной Вольте самим небом. Кроме того, очень уж удачно сливались в подозрительное трио малознающих, но громко претендующих Месмер, Калиостро и Гальвани.
Гальвани был типичным болонцем. Чуть старше Вольты, он рано и счастливо женился, сделал диссертацию по строению костей и начал преподавать медицину в своей альма-матер, где в 38 лет получил от своего тестя Галеацци кафедру практической анатомии. Лекции он читал вразумительно, только будто о чем-то печалился, и студенты его но только любили, но еще за что-то жалели. В 1780 году Гальвани заинтересовался влиянием электричества на живых тварей, еще года через два подался на кафедру акушерства и гинекологии, а недавно потерял обожаемую жену по имени Лючия Галеацци.
Все это передал Вольте его друг Антонио Скарпи, который давно, но невольно нанес Гальвани чуть ли не первую душевную рану, опередив того в изучении строения уха и почек птиц, так что расстроенный болонец даже не стал публиковать своих сведений. С тех пор Гальвани опасался павийцев и потому, вероятно, в своих теперешних «Комментариях» попробовал задобрить лестью возможного оппонента («Мы решили применить к животным проводникам точнейшие электрометры и приладили небольшой прибор, построенный согласно знаменитейшему Вольте»). Удивительно, что само открытие сделал вовсе не Алоиз, а его жена. Точно известно, что 26 сентября 1786 года для нее, как всегда, готовили суп из лягушек по предписанию врача. Лапки со снятой кожей лежали на лабораторном столе рядом с приборами, и Лючия заметила, что они вздрогнули, когда лаборант вблизи извлек искру из электрической машины. А через полвека Дюбуа-Реймон воспел этот миг в сонете: «…ведь ей, а не тебе, и разрезанной лягушке заметить удалось остатки уходящей жизни».
Гальвани совершил три действия, из которых первое — обнаружение электричества внутри живого тела. Этот факт быстро получил заслуженное признание, причем Гальвани заметил многие детали: наличие порога нервного (электрического) возбуждения, самовосстановление способности возбуждаться у уставшего нерва после отдыха. С тех пор начала формироваться электрофизиология — одна из важнейших отраслей медицины. Что касается Вольты, тезиса о животном электричестве он, в конце концов, не принял, полагая, что живые ткани всего лишь хорошо проводят электричество.
Второе действие Гальвани можно назвать подвигом научно-техническим, который оказался незамеченным, и все из-за того же Вольты. Болонец зарегистрировал электромагнитные волны, использовав лягушечьи лапки как радиоприемники. Волны излучались разрядами от машины трения, молниями в небесах. Антеннами служили скальпели, сам человек-препаратор или проволоки стометровой длины. Их можно было покрыть воском, сургучом или смолой, а вешать следовало на шелковых нитях, потому что подвеска без изоляторов сильно ослабляла прием возмущений. Нельзя было класть детектор, то есть препарированную лягушку, на проводящую поверхность, чтоб электричество не убегало в сторону, а шло через препарат. Гальвани делал заземления, цепляя провод к лапкам и опуская его на пол или в колодец.
Разве не удивительны эти находки медика? Он вслепую, руководствуясь интуицией и подражая физикам, не только собрал нужную схему, но с её помощью доказал электрическую природу мышечных сокращений, «даже подметил условия и как бы некоторые законы, которым они повинуются».
Третий подвиг Гальвани — обнаружение электричества, вырабатываемого двумя разнородными металлами. Болонец еще в 1786 году думал именно так, ибо называл свой опыт «экспериментом с металлическим электричеством». Увы, сбитый с толку модными словами о животном электричестве, Гальвани уже через месяц пристроился в хвост «авторитетам» и уже стоял на своем до самой смерти, увы, столь близкой. Нет, чтоб послушаться увещеваний Вольты: тот самостоятельно понял, доказал и убедил весь мир, что два металла могут давать электричество, что Гальвани обронил ключ от замка. Вольте нелегко далась эта кампания по просвещению заблудших, но он добросовестно выполнил свой труд.
За девять месяцев 1792 года Вольта написал 15 (!) различных документов на эту тему (докладов, статей и писем). Еще в январе никакого шума не было, Вольта буднично отчитывался перед начальством в получении по почте четырех карт Англии, измерителя степени усиления биноклей, маленьких химических весов с деревянными чашечками разной формы.
И февраль традиционно ушел на подведение итогов теперь уже 47 прожитых лет. В марте Вольта традиционно стонал в письмах, повторяя: «О, Парис! Как бы я был с ней счастлив! О боже, сколь горька судьба моя!», а в промежутках не упускал возможности сообщить Маруму, что по Морво воздух расширяется не совсем равномерно по мере нагревания, но он, Вольта, мог бы гарантировать рост объема в 1/220 на градус Реомюра или 1/275 на градус стоградусной шкалы. Уже после Вольты Рено получил 1/326, а Гей-Люссак — 1/267, но сегодня известна точная цифра, 1/273, так что в заочном соревновании ученых Вольта оказался победителем.
В марте Вольта принялся повторять опыты Гальвани, так что уже в апреле смог написать письмо к одному из ученых — профессору Вассали, и поделиться впечатлениями, а потом и другому, по фамилии Баронио, передав текст верному другу Луиджи Гаспару Бруньятелли, профессору химии того же Павийского университета, чтобы тот срочно напечатал в своем «Физико-медицинском журнале». С этого письма к Джузеппе Баронио, врачу миланского госпиталя, и началась историческая серия публикаций Вольты о животном электричестве. Серия, ставшая практически последней в многотрудном и долгом пути ученого…
Вольта миролюбиво воспевал удачу болонца, он признал новизну чуть ли не всех утверждений. Какая деловая здоровая ситуация: медик открыл, электрик чуть уточнил и подтвердил. 5 апреля Евсебио Валли тоже напечатал статью с подтверждением результатов Гальвани, но уже на лягушках, умерщвленных необыкновенными способами. И там же сообщил, что «один из первых авторитетов в области электричества, гений между физиками Вольта весьма усердно занят тем же». Одно отличие: у Вольты получался на нервах минус, а на мышцах плюс, хотя у Гальвани наоборот.
Ответ не заставил себя ждать. Через месяц, в мае, Гальвани ответил, похвалив новые измерения, но настаивая на своем. «Существование животного электричества неопровержимо доказано, долг каждого заключается в признании этого факта. У меня нет возможности далее углублять эту тему. С непременным уважением». Каков афронт! Можно сказать, оплеуха в награду за поклон.
Конечно, Вольта потратил на опыты месяц, а Гальвани сто тридцать месяцев, но ведь судить надо по результатам, а не по затратам времени и труда. Помогло забыть огорчение дружелюбное письмо из Женевы. Добрый знакомый Гораций Соссюр просил помочь: «Довольно долго от Вас, месье, не было новостей. Я отправил моих детей в поездку по Италии, это месье и мадам Неппер, мои зять и дочь. Я беспокою Вас, рекомендуя их, и убедительно прошу представить путешественников профессору ботаники, которого я не имею чести знать, если это не месье Витман, страстно любящий свой предмет. Говорят, Вы закончили новый опыт по расширению нагреваемого воздуха, и я был бы счастлив прочитать о нем».
Да, опыт закончен, и Соссюру придется поучиться у Вольты. Но Соссюр совсем оторвался от дел, когда принялся бродить по горам с геологическим молотком в руках, лет пять назад передав кафедру своему ученику Пикте. Монах-валломброзианец Витман уж двадцать лет как учит в миланской школе Брера. Впрочем, все мы не молодеем, вздохнул Вольта.
Жизнь текла двумя потоками. В одном, привычном, Луиджи Бертолетти прислал из Милана ящичек с колокольчиком и стеклянной трубочкой, укоряя, что единицей длины должна стать канна (примерно два метра). Но Вольте было не до вселенских забот: взбешенный, он как раз писал канонику Петиросси, что брак с Парис лопнул и что Луиджи все же прав, когда говорит, что «и тысячи римских скуди не хватит, чтобы жить в столице и ни в чем себе не отказывать». Как лицемерила мать Парис: «…даже фруктами полакомиться нет средств»!
А в письме к брату добавлял: «Монсеньер каноник теперь снова потребует начать с визитов и комплиментов, а вы с ним будете решать, одобрить мой выбор или нет, а потом ждать, разрешит ли дон Джироламо дель Перо? Марианна готова была пожертвовать собой за тысячу в месяц, а вдруг новой кандидатке потребуется та же сумма?»
Но рядом со старым ширился другой поток, бурный и крепнущий, бегущий по новому, «гальваническому» руслу. Здесь тоже забот хватало, но как много свежего и нового. 5 мая в своем университете Вольта произнес речь о животном электричестве и сразу передал текст Бруньятелли для печати. Желающих послушать набрался весь, актовый зал: еще бы, слухи о сенсационных опытах Гальвани разлетелись, да и сам Вольта, большой мастер публичных демонстраций, покажет что-то новое — говорят, ему уже лягушек наловили бочонок.
Вольта радостно вышел перед аудиторией, говорил горячо и взволнованно, получая удовольствие от того, о чем и как говорит. Ведь не каждый день и далеко не каждому ученому выпадает честь попасть в самый эпицентр поистине эпохальных событий.
Вольта рассказывал об электризации поглаживаемых им кошек, разбрызгиваемой жидкости, поднимающихся к тучам паров воды. И еще услышал притихший зал, что холоднокровные лягушки не так легко поддаются смерти, как теплокровные мыши, телята и мы, люди. А в каждом индивиде разная сила жизни, и ради науки испробованы разные виды умерщвления: голод, усталость, нагрев, раны и мучения, много слабых разрядов или один сильный, удушение газами и отравление ядами.
Под занавес уточнил Вольта маленькую новинку: Гальвани непременно разрезал лягушек, а он смог обойтись без скальпеля. Если поясницу лягушки покрыть фольгой из олова или меди, к ножке приложить ключ, монету или ложку из другого металла, например серебра, и замкнуть фольгу на серебро, то лапки начинают особенным образом дрожать, брыкаться и подскакивать.
Расходясь, осведомленные слушатели лектора хвалили, но ничего нового сверх того, что сообщил сам Гальвани, не видели. Разве что тот анатомировал своих жертв, а Вольта тряс их даже живыми. Но хороший популяризатор тем и хорош, что наглядно излагает чужие достижения!
Подобные мнения Вольту возмутили: он бушевал, гневался и срывался по малейшему поводу. Гальвани — ученый, а я — его демонстратор? Душила обида, но, остывая, Вольта признавался себе, что так и есть. В электрических вопросах он маэстро, а здесь его роль вторична. Неужели мать была права («Ты, Сандро, альт, а хочешь вести партию скрипки!»)? Так и есть, первым голосом пел болонец, а он, комовец-павиец, лишь вторил.
Потому Гальвани и вел себя надменно: это его ария. А Вольта пытался на электрическом поле взять реванш, но лишь подчистил небольшие огрехи. Вольта писал брату о лягушках, а заодно и о новых шансах на епископат, требуя не сдаваться и имея в виду прежде всего самого себя. Вокруг шла какая-то заурядная суета со студентами, конкурсами, премиями, Луиджи торопил с женитьбой. Ну что ты, молил Алессандро, сейчас не время, не хочу, дел по горло, к тому же невыносимая жара, начальство вызывает в Милан отчитываться, со студентами хлопоты. Не могу.
Отбивался от всего, а сам исступленно совал в приборы лягушек, мышей, саламандр, ящериц и других мелких животных, благо резать их уже не требовалось. Мозг работал напряженно. Писал в «Избранные труды» к Аморетти, в издания друга Бруньятелли, к Карминати, к Кавалло в Лондон. Впереди что-то брезжило, какая-то идея выступала из подсознания. Впервые металлы казались не менее активными, чем лягушки. Отчего придуман непреодолимый барьер между живым и неживым? Разве живые ткани сложены не из тех же веществ, что и все «неживое»? И сама «жизненная сила» разоблачена: под загадочной мантией пряталось электричество!
Тогда же в июне родилась «мемория секонда», то есть вторая памятка о животном электричестве. И прошлая статья была огромной, а эта в полтора раза больше: только на беглое прочтение требовалось два часа. Но надо же было выплеснуться, стравить избыток сил, погасить раздражение.
Одолевает досада: самый расцвет сил — кончается четвертая дюжина лет, но все нет долгожданного перелома! Неужто придется завершить свое поприще, так и не достигнув вершины?
У второй статьи не было конкретного адресата, она писалась обо всем сразу. В предыдущей речи Вольта ограничился общим обзором ситуации, проведенными за два месяца опытами, теперь же надо было углубиться в детали. Садясь писать, Вольта еще не видел в уме «готовой» статьи, она строилась по ходу дела, и потому писать научные трактаты было для него непревзойденным удовольствием. В конце взглянешь, что же такое получалось, и застынешь в изумлении: вот это да!
Из новой статьи физиологи еще раз узнали, что для вздрагивания лягушки электричеству надо пройти через ее нерв. Притом лягушка реагировала на заряд вдвое меньший, чем самый чувствительный из электрометров Вольты. Вот это чувствительность!
Статья содержала много нового. Подробнейшим образом, с цифрами, Вольта рассказал о емкости банок и проводов, об электрометрах, о применении стеклянных столбиков как изоляторов. Оказалось, что два разнородных металла совсем не обязательно накладывать на нерв или язык одновременно, достаточно приложить лишь один, а вторым коснуться первого, а вовсе не живой ткани. Так почти незаметно Вольта решил загадку двух металлов: о ней знал еще Гальвани, но два металла были нужны вовсе не нерву, а электрической цепи, куда входил нерв!
Анализу подвергся еще один важный вопрос. Гальвани извлекал разряд из банки, а лягушка в стороне вздрагивала. Почему? Потому что в электрической атмосфере флюид смещался в другую сторону, обратную направлению разряда. Про «электричество давления» специалисты могли прочитать в книге лорда Мак-Магона: обратный удар мог даже убивать! Через тридцать лег появится новая терминология («электромагнитная индукция»), но разве в словах дело?
А вот еще одно удивительное предвидение Вольты! «Свет не обладает механическим импульсом, достаточным для ничтожного ощутимого действия, чтоб двинуть, например, пушок или другое легчайшее освещенное им тело, однако он сильно возбуждает зрительный нерв, даже повреждая его при слишком сильном ощущении». Вольта не утверждал, что электрический флюид есть то же самое, что свет, но оба они явно относились к флюидам, несравненно более тонким, упругим и лишенным заметного веса, чем флюидам воздухообразным и газам. И в XX веке Вольта был бы на месте!
Какая необычайная в истории науки статья, как много в ней откровений! Вольта уже видит, что не «животное», а обычное электричество производит разные действия, протекая через нервы, дающие вкус или действие. А потом Фарадей доведет до конца дело Вольты о тождестве разных электричеств!
Что же произошло? Доброжелательный Вольта с чистым сердцем и без каких-либо тайных соображений бросился к Гальвани с объятиями, но, наткнувшись на весьма холодный прием, сосредоточился исключительно на научных, никак не личных вопросах. Разобравшись в материалах Гальвани, их доработав и по новому растолковав, Вольта имел моральное право высказать свою точку зрения, отличие которой от мнения Гальвани было расценено посторонними как ответная враждебная мера. Конечно, жаль, что загремели залпы. Впрочем, разве удалось бы достичь чудесных результатов в итоге этого драматического поединка, если бы эмоции не оплодотворили холодных рациональных доводов?
…Теперь дышать стало легче. По методу Гальвани лягушку надо взрезать, чтобы пустить электрический флюид по нервам, зато по методу Вольты можно гонять флюид по любому пути, если в начале и конце разместить металлическую арматуру.
О Вольте снова заговорили. Вокруг его головы снова воссиял нимб непревзойденного мастерства. «Ах, как интересны Ваши опыты, писал ему из Неаполя некий граф, любитель наук, Каринолав, — о них все только и говорят, я мечтаю иллюстрировать точно такими же свои лекции. А с Вами хотел бы переписываться и поддерживать научные контакты барон Бюлов, прусский кавалер».
Но пора писать в Лондон, член общества обязан информировать коллег об успехах, особенно неординарных. И Вольта снова пересказал, как сотрясались лягушечьи лапки при отдаленных разрядах. Как Гальвани приспособил «нервные проводники» для улавливания электрических флюидов и проводники заземляющие для отвода флюида в землю после протекания через препарат. Это открытие удивило Гальвани «даже больше, чем следовало», ибо «всем физикам хорошо известна способность флюида возбуждать сотрясения в мышцах и нервах». Пусть вспомнит о Мушенбреке или монахах Нолле, которых сотрясали разряды лейденских банок.
Потом Вольта упомянул про электрические атмосферы и возвратные удары. «Мистер Гальвани, который, по-видимому, недостаточно продумал это присутствие электрических атмосфер и который еще не знал о чудовищной чувствительности его лягушки, был крайне поражен подобным эффектом, однако он не покажется столь же чудесным другим физикам». Теперь четко и кратко главное: лягушка — всего лишь очень чуткий прибор; мышцей движет нерв, а сам он возбуждается электричеством от лейденской банки или двух металлов, на нерв наложенных. Вывод ясен: банка и металлы дают одинаковую продукцию!
На этом первое письмо обрывалось. Ведь надо дать время на то, чтоб Кавалло дошел до Бэнкса, разъяснил ему, что и как, тот еще должен снабдить новостями своих метров, и те не сразу проглотят новые сведения.
Тут подоспел Джовьо: твой долг спасать аристократов, тебе надо ехать и Турин, французские бунтовщики, мол, там свирепствуют! Вольта разгорячен успехами в битве с болонцами, он человеколюбив, а обиженным надо помочь. И он мчится в Турин. Увиденное его потрясло, и в адрес «сиятельного лица» отправляется срочная депеша о необходимости защищать Ниццу во что бы то ни стало. «Сдача этого города была бы равноценна краху эмигрантов, но можно ли играть на руку революционерам? После поражения пруссаков 20 сентября под Вальми возникла еще одна республика! Генерал Густине после Рено оккупировал Вормс и Майнц, Дюмурье идет на Бельгию, Монтескью занял Савойю, Ансельм нацелен на Ниццу. Сверх того Витторио Амедео III придется отвоевывать Сардинию и защищать альпийскую границу».
В бурях такого рода у Вольты еще нет компаса, он сбит с толку, он не видит ни истоков, ни той цели, к которой устремляется политический ураган. Чем руководствоваться, когда приходит массовое несчастье, когда ветер срывает с фундамента обжитый домик? Конечно, человеколюбием. И впечатлительный Вольта, переоценивая свои силы, чувствует себя военным стратегом. Он искренно почитает высокородных английских лордов, гордится знакомством с парижскими академиками, он сам почти член того же круга избранных, только еще без титулов и денег. Они говорят о бунте, и он повторяет за авторитетами. Они требуют обуздать чернь, и он жалеет бедные жертвы. Откуда Вольте знать, что это не бунт, а Великая французская революция! Но чуть погодя он начнет прозревать, набравшись недостающего ему опыта. Он по-другому взглянет на «страдающих» вельмож, на его ресницах начнут просыхать слезы сочувствия и общечеловеческой благодати.
Пока же вслед посланию о туринских делах — письмо Маруму. Сенсация про кисловатый вкус на языке от металлов. Если серебро и цинк поменять местами, то ощущение изменится. Язык стал индикатором направления течения электрического флюида. Эффектно! К тому же языком можно построить шкалу металлов по их электрической активности! Чуть подробнее, немножко точнее фразы, и можно заклеивать.
Теперь пора вспомнить про Кавалло. Уж два месяца, как почтовая карета умчала через Швейцарию первое письмо за Ла-Манш, где его соотечественник, как послушный и умелый садовник, должен укоренить Вольтов росток на британской земле. Дело пора заканчивать, и 25 октября в Лондон отбыло второе письмо к Кавалло — в продолжение первого.
Его текст чисто деловой. «Два металла гонят электричество везде, где бы их ни приложить: тело или провод вода или влажный ковер».
Президент Королевского общества суммировал итог. Голоса лондонских ученых слились вокруг Бэнкса в дружный хор: какие эффектные опыты! Браво, этот труд надо выдвинуть на соискание медали! Так труд Вольты о металлическом электричестве, выуженном из гальванического озера всякой всячины, удостоился почетного золотого диска имени Готфри Копли.
В конце октября Вольта отправил научное послание в Лондон, а через две недели сам поехал из дома в Павию, чтобы продолжить занятия со студентами. А тут его уже дожидалось письмо от Джованнии Альдини, болонского профессора, племянника Гальвани, которое писалось как раз в то же время, когда рука Вольты выводила назначенные лондонским адресатам укоризны животному электричеству.
Альдини извещал метра электрических наук, что в ближайшее время миланский книготорговец Марелли вышлет Вольте новое издание все тех же «Комментариев» Гальвани с примечаниями и диссертацией племянника, опять же посвященной электрическим конвульсиям лягушек, но уже в теоретическом плане. Своего экземпляра Вольта еще не получал, но его друг и коллега аббат Спалланцани (что-то он готовит новенького против Вольты, Скарпи и Скополи?) посчитал своим приятным долгом упомянутую книгу показать и даже одолжить из-за спешности и остроты дела, сулящих зрителям продолжение трагикомедии. Вольта внимательно прочитал все добавления Альдини. Написаны они вполне грамотно, к тому же изящным слогом. Этот тридцатилетний человек неплохо излагал мысли, а мысли были, и знал не только минимум (итальянский и латинский), но еще и максимум (английский и французский), что было видно по цитированным источникам. Похоже, что в лагере Гальвани появился сильный боец за дядино дело, которое вместе с написанием диссертации превратилось уже в личное дело самого племянника.
В присланных документах Альдини часто поминал Вольту, комментируя его находки и заодно передавая приветствия и мнения дяди, весьма заинтересованного мнением павийского коллеги. Волей-неволей приходилось браться за перо; ничего нового Вольта получить здесь не ожидал, так что времени терять не хотелось, но на два-три сильных удара родственника Гальвани ответить он был попросту обязан. Впрочем, до них могли дойти только те две статьи из журнала Бруньятелли, где была даже не критика, а только намеки на критику. Тревогу болонцев, по всей вероятности, успели разжечь те их «доброжелатели», которые везде и во все времена видят себя гусями, спасшими Рим.[25] Даже название дядиной диссертации («О силах электричества при мышечных движениях») абсурдно, хотя и выписано латинскими буквами, ибо мышцы и электричество не имеют ничего общего, они имеют посредника — нервы! Защищать заведомо ошибочный тезис можно лишь по запальчивости и скороспешности. «Нет, эти люди говорят быстрее, чем делают; их языки опережают и руки, и голову, что, впрочем, типично для болонской «школы» — таков вывод Вольты.
«Если дело обстоит так, как подтверждают мои прямые опыты, описанные в моей уже цитированной статье, то теория и объяснения Гальвани, которые Вы стараетесь подтвердить, в большей своей части отпадают, а все здание угрожает обрушиться». Получилось несколько жестко, но юноше пора проснуться.
Теперь про вкус. В 1752 году в своей книжке «Об измерении удовольствий» Жан Иохан Зульцер упомянул о возбуждении вкуса металлом. «Я имел честь знать и поддерживать дружеские отношения с самим любезным швейцарским физиком и знаменитым берлинским академиком. В последние годы жизни, а его нет с нами уже дюжину лет, он составил себе представление о вкусовом действии двух металлов. Но он совершенно превратно понимал суть дела: коль скоро металлы наверняка не могут растворяться влагой рта, чтобы частички проникали в язык, то, стало быть, вкус вызван колебаниями частичек металла, которые при действии на нервы языка порождают вкусовое ощущение».
«Но ведь эти метафизические и физиологические спекуляции не имеют ничего общего с моим объяснением, — размышлял Вольта. — Ведь я открыл и показал, что именно электрический флюид от пары металлов раздражает нерв. Зачем передергивать? О кислом вкусе знали задолго до Гомера, даже кошки морщатся, облизнув лимон. Кислый вкус открыл не я, я открыл, что он может порождаться электричеством, а этого не знали кошки, Гомер и Зульцер!»
Чтоб не повторяться, Вольта отослал Альдини к уже напечатанным статьям, потом процитировал кое-что из письма в Лондон, добавил о своих мыслях и удивлении при зрелище изгибавшегося языка теленка или ягненка под действием электричества от лейденской банки или пары металлов. И, как обычно, сюрприз под занавес: замените серебро углем, и вкус усилится!
Теперь оставалось назвать текст «меморией терца» (памяткой третьей), а потом переслать ее Альдини и Бруньятелли для печати. Теперь можно убрать на полку книжку Зульцера, а заодно и книжку знаменитого Кестнера «Размышления о происхождении удовольствий». Не понадобилась, чтоб не углублять тему в боковом направлении.
А в ноябре из Лондона написал Бэнкс: письмо на имя Кавалло переведем и напечатаем, все будет в порядке. Работа произвела прекрасное впечатление, браво, писал по-французски любезный президент общества. В декабре Вольта выкроил часок написать старому Кюну. Конечно, на латыни, ибо тому важны не только научные новости, но ритуал и ощущение избранности. Окончен ли перевод писем Лихтенбергу для немецкого читателя? Если да, то большое спасибо. Что касается воздуха, то при нагреве он расширяется почти равномерно на 1/220 объема на каждый градус шкалы Реомюра. Что касается Гальвани, то у него биметалл дает электрическую силу, а лягушка — электрометр. До сих пор мы знали конструкции Генли, Кавалло, Беннета и Вольты, теперь добавился прибор Гальвани, лягушка. А писать мне надо через торговца Пенса из Лейпцига: время бурное, но этот почтовый мостик еще служит.
В последний день уходящего 1792 года откликнулся Альдини. Этот умен, трезвая голова. Коротко и ясно молодой болонский профессор от себя и дяди благодарил Вольту на хорошие отзывы об их трудах. Наконец-то поняли, что за Вольтой — Истина!
После Нового года ажиотаж спал, появилась возможность подумать о себе. Брат беспокоился насчет женитьбы, но с Парис все кончено, Антониетта Джовьо в жены не годится (очень уж беспокойна), может вернуться к Чичери?
Но вдруг пришла жуткая новость из Парижа: 21 января 1793 года королю Людовику XVI отрубили голову! Вольта потрясен, павийские и комовские обыватели остолбенели, виданное ли дело? Впрочем, виданное: в 1649 году та же участь выпала Карлу I, королю Англии. Но что это? Разрыв между кровавыми событиями составил 144 года! Так вот она, дюжина дюжин, о которой кричал безумный монах, приплясывая и зазывая перед матерью в год рождения Алессандро! А сейчас ему как раз четыре дюжины. Нет ли здесь какого-то зловещего резонанса? То Пифагор, то Лихтенберг, то Хладни — все они и еще многие другие загадочно прикасались к ритмике, пронзающей Вселенную.
Вольта напряженно думал о жуткой власти чисел, не зря он их не любил и опасался. Но вот пришло письмо с лондонским штемпелем от 11 февраля: секретарь общества Джузеппе Планта извещал, что письмо к Кавалло собираются печатать под названием «Об эффектах, производимых в мускулах посредством электрических проводников».
В тот же день и Кавалло выразил удовольствие за то, что столь ценная статья косвенно прославит его имя. До чего ж интересно читать, писал старый товарищ, но до чего трудно переводить. Вольту тронули похвалы. «Вперед, кавалерия!» — захохотал он.
Свой день рождения Вольта встретил в нелегких, иногда утомительных, а временами страшных раздумьях об уже сделанном, о предопределенности, небесных скрижалях, видимости свободы и силе дисциплины. Он прожил 48 лет, сколько в них скрыто труда, горя, счастья, волнений! Начинался новый виток его жизни, что-то он принесет ему, уже кое-что знающему, побитому, уставшему, но достигшему? Но грядущее не радовало, очень уж разыгрались политические бури. Хватало своих личных и профессиональных забот, своих неурядиц, а тут еще наваливались штормы со стороны. Как бы выплыть?
Глава пятая (1793–1805). «ВОЛЬТАИЧЕСКИЙ ФУРОР»
До смены столетий Вольта успел жениться, обзавестись тремя сыновьями и «победить» Гальвани, животное электричество которого порождалось касанием двух металлов. Соединить несколько металлических пар в цепочку оказалось делом техники, а в итоге вольтов столб прославил профессора, ученые Лондона, Парижа, Женевы, Брюсселя удостоили Вольту высокими почестями. Столб оказался последним изобретением Вольты, его жгучее желание продолжать научные поиски воплотить в жизнь не удалось по трем причинам: во-первых, Ломбардию захлестнули наполеоновские войны, народ стонал от грабежей и контрибуций; во-вторых, новые власти загрузили ученого почетными должностями, съедавшими уйму времени; в-третьих, с помощью столба ученые разных стран наперебой получали так много необычной информации о свойствах движущегося электричества, что одному человеку, даже если его звали Вольтой, осмыслить ее было непросто.
1793 год.
С австрийцами дела обстояли неважно. После смерти Леопольда II занявший престол Франц I с головой погрузился в дела антифранцузской коалиции. В Европе гремели войны, сражения еще миновали миланский край, но жителей уже лихорадило.
Беспокойство накатывалось из Франции. Пока ею правил наш соотечественник Мазарини — шепелявили старцы про дела столетней давности, — там был порядок. Потом зазнайка Людовик XIV разогнал оппозицию Фронды, повесил краснорубашечников-камизаров, отнял у испанцев Бельгию, но Австрия, Англия и Голландия не дали ему проглотить Испанию. Следующего, Людовика XV, самого поработили, ха-ха, женщины, он успел по инерции захватить Лотарингию и генуэзскую Корсику, но крах в Семилетней войне лишь подчеркнул его слабости. А Людовик XVI довел дело поистине до конца!
Действительно, Монтескье и Вольтер преуспели, они раскачали привычные идеалы абсолютизма, потом физиократы и энциклопедисты привили массам вкус к технике и размышлениям, Руссо и Мабли так красочно запели о природе, что сентиментальные выбыли из политических игр, тут-то Мелье и Морелли воспитали истинных разрушителей, атеистов, а сдержать их было некому. Сам король, своими несообразными поступками, словно нарочно поощрял расплодившихся возмутителей спокойствия. То призвал на помощь Тюрго, то позволил его убрать. Затем алогичный договор с Англией, из-за которого прогорели мануфактурщики Франции, да и ломбардским пришлось нелегко. Теперь сверхсрочный сбор и столь же поспешный роспуск нотаблей, коль они не захотели облегчить жизнь введением новых налогов.
А Неккер, убедивший короля собрать Генеральные штаты, поистине открыл дорогу революции, ибо на 300 дворян и 300 попов пришлось 600 представителей третьего сословия. Могли ли они, а потому и штаты, взвалить себе ж на голову новые налоги, к тому же без гарантии каких-то радикальных реформ? Тысячу раз «нет»!
Чего ж удивительного, что такие штаты взбунтовались и назвали себя Национальным, а потом Учредительным собранием. Летом 1789-го пала Бастилия, с 1790 года монархия стала конституционной. Муниципалитеты снизу поддержали депутатов-буржуа, крестьяне бунтами вырвали у феодалов земли и свои провинности, но лишь один житель Франции из каждых пяти получил право стать «активным гражданином», а остальные, обделенные, просто за компанию поддержали церковь, на права и доходы которой покусились пошло законодатели.
Потом покатилось под гору само собой. Неудавшееся бегство короля и расстрел на Марсовом поле, конституция, восстание в Бельгии и ее разгром Габсбургами, лагерь именитых беженцев в Кобленце и поход революционеров в бой на Австрию! Итог естественный: свержение короля, заключение в Бастилию, суд, казнь.
Франция будто проснулась, иные рыдали, большинство ликовало, ее армии казались непобедимыми. Бельгия, Савойя, Ницца, земли до Рейна и Альп вошли в состав новой республики — так решили голосованием заграничные коммунары! Блок из войск Англии, Австрии, Пруссии, Испании, королевств Сардинии и Неаполя, мелких княжеств Германии пытался противостоять французской заразе, но куда там, В марте 1793 года коалиции удалось сгоряча выбить республиканцев из Бельгии, а республиканский генерал Дюмурье перебежал к австрийцам. В Лионе, Бордо, Марселе восстали роялисты. Но в ответ в Париже образовалась якобинская диктатура, появилась новая конституция, заработал Комитет общественного спасения.
Грянул террор, максимум цен обуздал перекупщиков, дехристианизация пыталась покончить с церковью. Появились культы Разума и Верховного Существа, 70 тысяч аристократов разбежались по соседним странам.
На юго-восточных границах Франции крепло Сардинское королевство со столицей Турин, Венеция и Генуя освободились от власти австрийцев, Тоскану с Флоренцией удерживали Габсбурги, Рим оставался папским, и уже год как Франция, воевавшая с Пьемонтом, теперь бросила вызов Неаполю. В самом Париже летели головы то роялистов, то жирондистов, 16 октября в зловещей тишине провезли к гильотине Марию-Антуанетту, за ней настал черед королевской сестры Елизаветы.
Вольта смотрел, слушал, думал, но кто мог видеть историческую правду? Одно было ясно: вздыбились прежде до того тихие волны, возопило чудище с именем «народ», но сколь противоречивыми были действия этого многоголового монстра! Головы то росли, то хирели, ссорились, а то сшибали друг друга. Мы пролетаем под созвездием Скорпиона, кричали астрологи, торгуя секретами неба; и точно, как скорпион, народ жалил сам себя.
Сколько уже пролилось крови, сколько выкрикнуто то пламенных, то опрометчивых слов! Впрочем, Вольту не очень поражали чудовищные силы новообразования, разбуженного заклинаниями людей, казавшихся книжниками, он профессионально свыкся с поражающими буйствами природы.
Что можно сделать? Пока везло, он зритель, а не статист, в кровавой драме. К тому же дел с него никто не снимал! В марте политическая канцелярия магистрата предложила передать из физического кабинета университета пневматическую машину школе Комо. Вольта в мае ответил, что насос ветхий, лучше купить новый, типа Смитона, в Англии или Голландии всего за 50–60 цехинов. Канцелярия испугалась расходов, а потому известила в сентябре, что вопрос передается на рассмотрение Вольты и падре Карпани, в октябре, согласовав проблему с Барлетти, добавила, что надо срочно выступить с лекцией о машинах для математиков, инженеров и землемеров, а демонстрирует эти машины пусть помощник Вольты механик Ре.
Будни перемежались маленькими праздниками. В марте с гастролями в университете появилась поэтесса Тереза Бандеттини, больше известная под псевдонимом буколического звучания Амарилья Этруски. Студент Арривабене с сарказмом писал своему приятелю, что «внимать ей собралась почти вся профессура, которая разделилась на гвельфов и гибеллинов. Ради простой импровизаторши засидевшиеся академики вели себя как на именинах. Они льстили актрисе, а та холодно их слушала. Были и такие метры, как Спалланцани, он, как обычно, отпускал шуточки из истории пауки, а Вольта, тот словно электричество источал!». Впрочем, передышки выпадали редко. Уже с год Вольта интенсивно переписывался с Кавалло, рассуждая о биметаллах, о течении флюида по нервам через мышцы и глаза, требовал обещанный прибор Вульфа и умолял прислать китовые усики для гигрометра. В ответ Кавалло клялся, что аппарат Вульфа вышлет первой же почтой, что кальцинированную ртуть не отдают дешевле 12 шиллингов за унцию, что в Кембридже участвовал кое в каких опытах, что публикацию полученной в августе рукописи о животном электричестве затянул до декабря не по своей вине: то начальства нет, то дел невпроворот, то адрес меняли. А 20 декабря сам Бэнкс, чтобы Вольта не слишком огорчался, поручился за объективность оправданий Кавалло: «Ваш материал по Гальвани встретили с большим удовлетворением и сейчас же напечатаем, общество оценивает его очень высоко. Уверен, что именно Вам присудит медаль за этот год, хотя поступление работ на конкурс еще не закончено. Задержки в рассмотрении случились из-за моих вакаций и перевода рукописи, но сейчас дело ускорилось. Ждем продолжения, запишите новый адрес. С высокой оценкой Ваших талантов и с почтением, Ваш слуга…»
А рукопись от 26 июля действительно была этапной, с ней кончался первый из трех этапов гальванизма, этап ученический, этап восторгов и доверия к находке и истолкованию Гальвани. Вольта исправно повторил опыты болонца, принял на веру его сокровенные мысли про нервы и мышцы как минусы и плюсы животной лейденской, нет, теперь болонской банки, но за два года, постепенно умнея и невольно фиксируя свой прогресс в дюжине писем к Вассали, Баронио, Томазелли, Маруму и Кавалло, совершенно убедился в том, что никакого животного электричества нет — обычное металлическое электричество бежало по животному пути. Именно проводники давали разбаланс электрического флюида, причем не только металлические.
Тогда-то Вольта и выстроил ряд цинк, олово, свинец, железо, латунь, бронзу, медь, платину, золото, серебро, ртуть, графит и древесный уголь по силе их электроактивности. Умелый экспериментатор накладывал пластинки веществ друг на друга, потом размыкал, держась за изоляционные ручки, а сверхчувствительный гальванометр конденсаторного типа улавливал ничтожные напряжения.
И без Франции год был тяжелым: занятия в университете, противостояние с Гальвани и его клевретами, однако удалось кое-что сделать и помимо электричества: нагретые газы расширялись равномерно (только через девять лет Гей-Люссак узнает то же самое!).
Тогда точных сведений о расширении тел было немного, лишь недавно установили, что самая высокая плотность у воды талой (4 °C). По воздуху данные противоречивее: в начале века Амонтон измерил, что при нагреве на градус объем растет на 1/240 часть, у Дэви недавно получилась 1/185, у Соссюра — 1/235, многие думали, что цифры меняются вместе с температурой.
Вольта взялся за дело, чтоб поставить точку. Какой высокий класс, маэстро среди младенцев! Воздух прогревался в масляной оболочке, погруженной в водяную ванну. Между температурами льда и кипятка воздух расширялся на 1/270 часть, здесь и лежало предвидение самой низкой температуры в -270 °C, когда газ сожмется в точку (в XX веке цифра Вольты уточнится на процент!). А кажущуюся неравномерность расширения давала влажность воздуха — предшественники не додумались его осушать. Браво, Вольта!
К сожалению, редко кто читал выходивший в ничтожном числе экземпляров журнал Бруньятелли. В 1802 году Гей-Люссак получил тот же результат самостоятельно, если не считать успеха Шарля: за шесть лет до Вольты он знал о том же! Гей-Люссак нашел протоколы опытов, повторил, уточнил и опубликовал.
В пасмурную погоду неминуемо нападает сонливость. Вот и люди, напуганные войнами, жались по домам и без нужды не покидали своих берлог. «Я с детства привык к молниям, — шутил Вольта, — они меня тонизируют». Так и было, в гнетущей атмосфере 93-го две классные экспериментальные работы по электричеству и газам! Ерунда, смеялись друзья, просто у Вольты домом служит лаборатория! Так и было, чем меньше Вольта отвлекался, тем больше выдавал наружу.
Бандиты.
Обычно мало кому удается в жизни избежать контакта с преступниками разного калибра. Вольте, изо дня в день мотавшемуся по дорогам из города в город или разъезжавшему по всей Европе, где зачастую гремели войны и свирепствовали мародеры, таких встреч избежать было невозможно.
Обычно Вольта много ездил по служебным делам по дороге, вытянутой с севера на юг примерно на 100 километров.
Весной 1794 года эти поездки стали особенно частыми, так как надо было улаживать многочисленные дела, связанные с намерением профессора срочно жениться. Времена стали беспокойными: еще 19 декабря прошлого года французы выбили англичан из Тулона, потом разбили австрийцев у местечка Ватингнис и собирались напасть на Пьемонт и Ломбардию. Занятые внешними событиями, австрийские власти ослабили контроль за внутренними делами, чем не замедлили воспользоваться те, кто был не в ладах с законом, кражи и разбои участились, явственно свидетельствуя об ослаблении государственного аппарата.
30 апреля аббат Аморелли сообщил аббату Фортису, что на дороге недавно ограбили их коллегу Вольту. Как же вел себя наш герой: сражался, как лев, или умолял о пощаде? Узнать об этом можно из бумаги, которая поступила в миланскую канцелярию полиции тремя днями раньше. «Донос. О нападении на коляску, где ехал поднадзорный Вольта. Я, нижеподписавшийся фискал Франческо Саверио Лоренцо ди Орландо, урожденный Фьюме, докладываю, что 16 апреля 1794 года недалеко от Милана совершено нападение бандитов на кабриолет королевской почты, следовавший по маршруту Павия — Милан. В экипаже, кроме меня, ехали профессор дон Валентино Брускати, дон Алессандро Вольта и деверь первого дон Винченцо де Роддерфал. На козлах вместе с кучером сидел слуга того же профессора по имени Антонио. Мы ехали после обеда, нападение было часа в два, а сбились с курса из-за Брускати.
Я свидетельствую, что сначала все вели серьезный разговор, а потом он стал шутливым. Тут вдруг экипаж наклонился так, что коляска чуть не перевернулась, потому что кто-то на ходу вскочил на подножку. Сколько было бандитов, сказать не могу, потому что я всех не видел, но по голосам трое или четверо. Чувствую, экипаж замедлил ход и стал. С обеих сторон, отогнув пологи, появилось по негодяю, и пистолеты на нас наставлены.
У одного пистоль, как бочка, у другого поменьше, и они молчат, только следят, чтоб пассажиры не шевелились. Еще один влез в коляску, на взгляд изнуренный, а подстрижен кругло, рот закрыт повязкой, а другой на него смахивает, а потому, естественно, страх берет, как на них глянешь, на этих каналий, и как они вертятся. Росту они небольшого, будто подростки, а увидел я это, потому что ширина проходов, где они стояли, не вся была нагорожена.
Первым заговорил и предложил кошелок и часы синьор профессор Вольта. Потом и профессор Брускати отдал свои часы. Я свидетель, что они пересчитали горсть монет серебряных числом 124 штуки, 5 австрийских, а другие итальянские мелкие. Недовольные мизерной добычей, стали нас обыскивать как настоящие подонки.
Пока они этим занимались, подросток среднего роста, одетый в куртку оливкового цвета и вооруженный кухонным ножом, откинул портьеру с левой стороны коляски, прекратил досматривать объект наблюдения с его свояком, рванулся прочь, и с его ботинка отскочила серебряная пряжка. На ней знак Вены, формы она продолговатой, восьмиугольная, грани отточены, снабжена двойной резной оборкой, весом примерно восемь унций. Не найдя ничего, кроме табакерки, бандиты поднялись и убрались один за другим.
Мы все время боялись каких-нибудь сюрпризов от этих убийц, но все обошлось малыми потерями и найденным нами куском серебра от ботинка. Самая большая беда от нападения, что задержались, так как потом ехали медленно и осторожно, так что на дорогу ушло много времени из-за страху, чтоб не попасть в новое дело. Как свидетель происшедшего, я клянусь, что все изложено полно и как оно было на самом деле».
Что ж, недаром про разбойников говорят: «Рыцари с большой дороги»…
Приличный брак.
Луиджи твердо решил женить брата Алессандро, ждать больше нет времени.
В январе 93-го отпала кандидатура Антониетты Джовьо. Лучше уж Чичери, чем Джовьо, писал Вольта брату, и тот выговаривал сердито, что сам, мол, мечтал породниться, склонялся то к старшей Луизе, то к младшей Антониетте, а теперь на попятную? Наконец в ноябре Луиджи облегченно вздохнул, столковавшись о браке с семьей Терезы Перегрини. Они знакомы давно, тоже старожилы Комо, а вилла в Граведоне рядом с Джовьо. Еще в 89-м Перегрини и Мугаска предлагали Вольта свои голоса и поддержку возведения архидьякона в сан епископа.
«Что ж, я склонен, — отвечал Вольта брату, — только финансовые дела утрясай сам. Лишь вчера получил я твою восторженную записку. Хотелось бы закончить побыстрее.
А что касается Перегрини, то я уж сделал три-четыре визита, и довольно. Уже два года топчусь в женихах».
Дела завертелись, переписка крепчала, занятый Луиджи торопил, Вольта поддакивал: да, донна достойная, брат Фабио приемлем, донна Чекки и дон Канци советуют требовать приданого тысяч тридцать и представить Чичери с сыном. Увы, с Марианной ее не сравнить, заунывно констатировал жених.
Братья Терезы Перегрини утрясали размеры платы, сроки и прочие пункты брачного контракта. Сестра невесты, графиня Порта, не видела причин для увеличения приданого Терезины. А Вольта уже входил в роль, в июле он сочинил невесте светское письмо по-французски: «Моя обожаемая супруга! Мадемуазель Канци хотела бы нагрянуть сюрпризом, но я хочу предупредить…» — и так далее. «Твой скромный слуга Алессандро».
В августе 94-го он начал рассылать извещения о предстоящем событии. Полтора года назад сестра Терезы вышла замуж за графа, и теперь Вольта пересказывал будущему родичу льстивые отзывы о нем и высказывал желание познакомиться с ним. Потом сообщение к Джироломо Курти о предстоящей женитьбе на Терезе, дочери дона Лодовико, делегата от Комо в Павии, и сестре дона Тобио, делегата Кремоны. Затем о том же к Николо Паравичини, графу Болца, братьям матери графам Антонио и Франческо Инзаги в Грац.
Невеста повела — наконец-то! — лодку Вольты к гавани, финансовая неразбериха, кажется, начинала сменяться строгим порядком в делах. И истории с Марианной Парис пришел конец (что ж, все сущее не вечно!). Наступил наконец долгожданный день. Процедура бракосочетания состоялась в Комо, в церкви Сан-Провино 22 сентября 1794 года. Прямо в дверь, по проходу к аналою шествуют брачующиеся. Справа движется он, Алессандро, потомок декурионов, еще беден, но уже известен в научных кругах. Жених в белой рубашке с пышным воротом, на шее кружевной галстук, из которого вырастает длинная, чуть склоненная выя, вытянутый овал лица еще более удлиняет тонкий нос, нечастые короткие волосы прилегают к черепу. Мудрый аист решился свить гнездышко за четыре месяца до полувекового порога.
По левую руку выступает донна Мария Алонсо Тереза Перегрини, рожденная 5 мая 1764 года, младшая дочь королевского делегата от Комо дона Лодовико и донны Марии Гуэйта. Уже невесте тридцать: спокойная, но настойчивая, разумная женщина с отгоревшими девичьими метаниями. Вид ее обещает, что брак будет прочным и приличным. Действительность подтвердила ожидания.
А в церкви орган, кружева и темные тона костюмов. Посетители внимают ритуалу, шепчутся, улыбаются. Все так пристойно, силен надежный испанский дух. Расселись, словно на лекции профессора. Двенадцать рядов, проход меж скамьями, на каждой слева и справа, если сесть плотно, умостится по шесть персон. Гостей дюжина дюжин, приметное число, дань стародавним поверьям.
Но вот разъезд, всех ждет вилла в Граведоне, это рядом у озера, на праздничных экипажах — десять минут. Услышав новость, всплакнула где-то Тереза Чичери ди Кастильоне, нахмурилась Марианна Парис, но свадьба прошла образцово, неделю гости ели, пили, говорили, музицировали, декламировали, гуляли по берегу и катались на лодках.
А потом Вольта переслал записку брату-канонику с просьбой к Джованни срочно приехать сменить Луиджи, тот вдруг заторопился в Комо, не хочет, мол, оставлять надолго одних дома Мариту с ее мамой. «А еще, — прибавлял молодожен, — передай моему карино[26] Джузеппино, чтоб привез баночку крема и старинные монеты кипрские, из Лукки и еще серветовы, он знает, где лежат. Ждем твоего приезда!» Эта записка и стала первым камушком, взболтавшим свадебную тишь и гладь, потому что кроткая молодая не собиралась платить за холостяцкие выходки мужа.
Тем и хорошо воспитание, что приучает сначала думать, потом действовать, поступков не афишируя. То-то Луиджи почуял, что за вожжи брата взялась крепкая рука. Внешне все пристойно, только нервные что-то занервничали, так и началась неизбежная притирка привычек-характеров. С запозданием граф Болца из Неаполя поблагодарил за приглашение и красиво поздравил длинными фразами со словами «Гименей», «кавалер», «дама». Пожелал счастья Курти из Рима и многие другие еще.
А вот лучший из свадебных подарков: 30 декабря депешей из Лондона Бэнкс поздравил с присуждением медали общества! Наконец-то сбылась мечта заветная! Еще в 1707 году Готфрид Копли завещал обществу сто фунтов для поощрения успехов в естественных науках, ученые мудро распорядились небольшим вкладом, и вот резец начертал имя Алессандро Вольты и год МDССХС1V (1794), когда напечатана статья о животном (?), нет, уже металлическом (!) электричестве. 30 марта 95-го года Вольта ответил Бэнксу: спасибо, письмо ваше всем показал, но за два года столько воды утекло, опять много нового.
Ровно в срок появился первенец с династическим именем Занино, или Джованни для бытового употребления. После основателя династии и его потомка в пятом поколении это был уже третий Занино. С плеч бедного Алессандро свалился один из тяжких крестов — генеалогическое древо зазеленело!
Послушный муж и надежный отец начал долгую баталию за увеличение жалованья. В королевскую конференцию в ноябре 1795 года поступает нудное прошение: уже 22 года я профессор, до того пять лет был регентом, мной все довольны, в кабинете много приборов, нанят наилучшего качества механик, а сам я член академий в Берлине и Лондоне. Притом за неделю приходится совершать два вольта туда-сюда, из Павии в Комо и обратно, лекции веду, читаются через день, а потому надо б выровнять сальдо. И еще 20 лет этот стереотип будет переписываться слово в слово, меняются лишь адресаты.
Подарки к 50-летию.
Всего за два года четыре важных события произошли в жизни Вольты. Во-первых, женитьба. Фактически не знал отца, давно лишился матери, старшие братья — единственная опора, а тут появился свой дом, которому жена принесла устойчивость, кончились мыканья холостяка, род продлился: 3 июля 1795 года появился Занино, без малого через год — 29 мая — второй, Фламинго. Сердце ныло о настоящем первенце. Вольта клялся себе, что не забудет, поможет, чем может пареньку, который ведь не виноват в том, что он незаконнорожденный.
Вторая радость — «закрытие» животного электричества. Еще в 1793 году Вассали попытался робко возражать по некоторым пунктам теории Вольты о мышечных сокращениях, но не выдержал напора комовского эрудита, потом и Альдини принял факт кислого вкуса на языке от электричества металлов. Еще серия писем в разные адреса, и с гальваническим флюидом покончено. Еще только закрепить бы успех, и все.
Вассали, тот следовал научным модам, а потому занимался всем: физикой, математикой, географией, собирал камни, в 1789 году издал «Опыты по электричеству мышей и кошек», слепо копируя неаполитанца Котуньо по его «Письмам об электризации мышей» от 1784 года. Вот кого, Вассали, Вольта избрал адресатом для новых убийственных статей.
Первое письмо от 10 феврали 1794 года надо считать классическим и по форме, и по содержанию. «Что вы думаете о так называемом животном электричестве? — раскованно начинает Вольта. — Что касается меня, то я давно убежден, что действие порождается касанием металла с водой или влажным телом».
Вот эпохальный опыт с «квартетом мокрых», потрясший современников. Четверо с мокрыми руками становятся кружком: первый правой рукой держит кусок цинка, а левой — за язык второго; тот касается глазного яблока третьего; этот же держит за ножки тушку лягушки без кожи и внутренностей; четвертый правой рукой схватился за ее тельце, а левой подносит кусок серебра к цинку первого. Касание! Первый вздрагивает, второй морщится от лимонного вкуса, у третьего искры в глазах, лягушка «оживает» и трепещет. Кому ж неясно, что лягушка — просто электрометр, металлическое электричество чувствуется языком, глазом. Хотите прибором Беннета? Будет.
Второй тезис статьи не менее красив: можно сближать одинаковые металлы, важно не химическое, а хотя бы физическое отличие в шероховатости, теплоте, закалке, твердости, блеске, полировке. Вольта перепробовал самые разные сочетания: стоит поскоблить металл до блеска, и вот уж он электрически совсем другой!
Отсюда следовало открытие! Меж двух стаканов параллельными мостиками переброшены тельце лягушки и толстая железная проволока. В один стакан льем холодную воду, в другой кипяток — и лягушка трепещет, ибо в петле «вода — лягушка — вода — проволока» течет ток! Да ведь это первый в истории науки термоэлемент, только через треть века (1821) Зеебек откроет то же самое, заменив лягушку висмутом.
«Тепло уже имеет некоторое значение, — продолжал Вольта, — но гораздо действеннее закалка, превращающая тот же металл как бы в другое вещество, причем на железе эффект заметнее, чем на латуни, серебре и олове». Один конец калился докрасна, потом отпусканием закалка снималась, и холодный провод с разнозакаленными концами исправно рождал электричество. И снова исторический парадокс: за два века никто еще не построил по рецепту Вольты подобного, так сказать, «закалко-электроэлемента»!
В марте 94-го приятная новость — избран иностранным членом Туринской академии (вместо умершего Ди Борна). Вольта воодушевлен, всякое дело в руках кипит, он делится признанием его умения туринцами с Вассали, посылая вслед уже второе письмо. Этот текст в другом жанре, вместо неукротимой атаки нам предлагается изящное, по все же топтание на месте.
В августе 94-го он пишет в Геттинген Лихтенбергу: «…что касается меня, то у меня все хорошо, тружусь как обычно, хотя плоды не столь значительны. Сейчас занят животным электричеством, по открытию Гальвани, зарядом-разрядом нервов и других органов. Сторонники Гальвани стоят за то, что всем органам свойственно электричество и они даже тиснули две работки в Болонье, а Альдини с его импозантными опытами пытается обосновать ту же теорию».
Третье письмо к Вассали от 27 октября 1795 года исходит явно от человека утомленного. «После двух длинных писем, написанных вам уже более года назад, о знаменитый академик и коллега, и напечатанных в периодических изданиях нашего общего друга доктора Бруньятелли…» Как раз по Бэкону — запрещенное доказательство «от авторитета»!
Осенью 94-го Валли (да что он знает, этот лекарь по чуме и туберкулезу!) издал статью про лягушку и стеклянный скальпель. Никаких металлов, а вздрагивания те же! Читатели смеялись, Вольта бранился («Пустые идеи, незрелые и бесполезные предположения, обволакивать ясные вещи туманными мыслями, затемнять существо дела, уже забракованная система мнений, малочисленные последователи, какое уж тут сомнение может оставаться, слишком большой шум»), но пришлось чуть осадить.
Он расширил ряд металлов, внеся в него уголь, графит и колчеданы (медный, железный, свинцовый и мышьяковистый). Он задабривал оппонентов терминами «гальванизм» и «гальванианцы». Он признавал, что «кое-где и я сказал слишком много, слишком решительно, зашел слишком далеко». Он отговаривался нехваткой времени: «Я пишу из Комо во время вакационного досуга, который заканчивается». Он снова обличал: у Валли лягушка, мол, плохо обмыта, а животные выделения могут искажать факты. Он ссылался на свои добродетели: «Многие иностранцы и сограждане без колебаний подписались под моим мнением, увидев мои опыты». Наконец, он кивал на Томазелли из Вероны и Марума из Гарлема: еще в 1792 году лягушки у них вздрагивали при простом касании нерва!
Короче, самолюбие не пускало Вольту кончить битву вничью, невыигранный бой ему казался поражением. Гальвани подлил масла в огонь: в моденской публикации он не захотел назвать себя, тем самым отказавшись дискутировать с Вольтой, высказав свое недоверие и, если угодно, даже отвращение к любым, хотя бы письменным, контактам. Вольта нервничал, но все еще вел научный разговор, Гальвани без нужды обострил ситуацию до болезненности.
Публика прекрасно разобралась. В честности и компетентности Вольты никто не сомневался. Работящий, добросовестный, знающий, но страстность привела к нетерпимости. «Легковерные читатели», «какой-то торжествующий тон», «ослепление», — продолжал лепетать честный упрямец. Гальвани побежден, но и самоуверенность Вольты разлетелась вдребезги, больше никогда он не будет столь категоричным. Он доведет до конца свою победную «металлическую арию», и только. Факты гальванианцев при жизни Вольты так и не получат объяснения, наука электрофизиология сформируется много позже.
В слишком нервном противостоянии Гальвани — Вольта выиграл разве только Вассали, в 1799 году он выпустит и свет «Письма о гальванизме». Безделица, но все же. Огорченный какими-то непонятностями в убедительной ясной картине с лягушками, Вольта все же откровенно поделился своими сомнениями с Делфико, младшим коллегой: «То животное электричество порождалось металлами, а это, без металлов, вроде бы новое» (13 апреля 1796 года). Что ж, разум Вольты на обычной высоте, как раз такой и окажется «гальваническая правда».
Как бы то ни было, но металлы не подвели. Граф Вилзек посчитал возможным лично поздравить с публикацией в Лондоне и медалью Копли. В июне писал из Марбурга Мошетти: «Химик Пфафф претендует на сокращения без металлов, но в Вене считают, что Ваши опыты с углем и пиритом сделаны раньше».
Еще подарок себе — законы пара! Уж пять лет он работал с паром, (и еще будет экспериментировать до 1804 года), рассказывал на лекциях, спорил с коллегами, написал три письма, но все недосуг было напечатать. Он заметил, что даже лед испаряется. Подключив барометрическую трубочку к ванночке с нагреваемой водой, Вольта отыскал ценой множества опытов три правила. В науке выжил только третий вольтов закон (давление паров не зависит от того, пуст сосуд или заполнен другими газами), в 1802 году его подтвердил Дальтон, тоже самоучка и учитель. Так имя Вольты попало в славную когорту ученых, изучивших законы давления паров и газов.
Размышления педагога.
Плюс-минус два года около 50 — пожалуй, самое насыщенное время в жизни Вольты. Семья, наука, еще и работа.
В июле 94-го года Вольта представил в политическую канцелярию магистрата серьезный труд с доводами об устройстве курса философии, о методах преподавания, содержании лекций и экспериментов. Программы занятий еще спутаны и нелогичны, писал профессор, неясно, когда давать начала математики, когда общую и когда специальную физику, когда давать время иезуитам на семинары и философию.
Студентам, изучающим теологию и право, на первом курсе надо б дать логику и метафизику (профессор Балдинотти), потом элементы математики (профессор Маскерони) и общей физики (падре Барлетти). На втором году обучения хорошо бы прочитать курс этики (Ламбертеньи), затем частной и экспериментальной физики (Вольта), географии и истории (Гюртола), истории естествознания (Спалланцани). Медикам на первом году надо то же, а на втором заменить географию и историю анатомией и физиологией. Правоведы, теологи и медики пусть сдают экзамены два раза, до и после пасхи. А собственно физикой надо считать оптику и метеорологию, туда входят учения о воздухе, газе, огне, испарении, электричестве, магнетизме и приборах типа баро-, термо-, гигро-, электро-, магнито-, эуди- и прочих «метров».
Ректору и в ученый совет профессор передал расшифровку: по одному только воздуху надо знать о текучести, упругости, тяжести, машинам пневматическим (вакуумным) и сгущательным (давления), сифонам, барометрам и манометрам, баллонам, аэростатам. По звуку: возбуждение, распространение, скорость, сила, отраженно, эхо, инструменты, тональности, музыка. А по газам 15 тем, столько же по теплу и огню, свет дается по Ньютону и Эйлеру, причем среди 17 тем телескопы, микроскопы, волшебные фонари и камеры-обскуры.
По электричеству, главному делу Вольты, затрагивается 20 тем: природа, возбуждение, распространение, изоляторы, проводники, емкости, конденсатор, электрометр, банка лейденская, квадрат Франклина, электрофор. Еще электричество в атмосферах и животных, магниты с арматурой, сходство электричества и магнетизма, магнитные углы (склоненья, наклоненья), магнетизм животный. Сверх всего этого нужны гидравлика и химия, Земля с вулканами и землетрясениями, ветры и погода, соли и химические соединения (кислоты, щелочи), земли (бариты, кальции, магнезии), глины, камни и кристаллы, металлы, жидкости, масла, спирты и эфиры.
Даже прочитать нелегко этот пухлый методический трактат, зачем же Вольта писал его? Затем и писал, чтоб далекие от университета чиновники поняли, что наука — это не умные беседы, а тяжелый труд, требующий предельной загрузки мозга и обращения к множеству приборов. И пусть никто не сочтет физиков бездельниками…
Составляя записки, Вольта и для себя подытоживал состояние классических наук, их дробление и взаимопереплетение частей. Любопытна эволюция учебных курсов, многое еще не доведено до отчетливой ясности, но не так уж мало знали физики-химики два века назад.
Никаких иллюзий о возможных благодеяниях извне у Вольты не было, он просто информировал начальство, чтобы не говорили потом: «А мы не знали!» Вольта разослал бумаги тем, кто мог что-то решать, прежде всего в Вену. «Учебные часы следует непременно перекраивать, — страстно вещал он маркизу Гульяни, — оптику надо урезать (там ничего нет, кроме камеры-обскуры), зато давно пора усилить динамику и гидростатику. В месяц можно читать 7–8 лекций, в год до 150. Лабораторных работ сотни, действующих стендов еще больше. Лаборанту Ре нелегко, студентам еще труднее. Физический Театр должен в год ставить 150–200 спектаклей!» (январь, 1793).
Двор «за», отзывался из Вены служилый меценат. «Мой респектабельный друг! — вторил Франк. — Во время моего визита к императору я заручился его полным согласием». Ландриани в Вене зондировал возможность выбраться в столичную академию, и заодно советовал купить паровую помпу Кемпелена. Подобно многорукому Шиве Вольта умело «дирижировал» участниками своих программ: датчанину Ранцау показал кафедру; Боваре в Милан отослал табель посещений; перечислил Ландриани необходимые качества помпы; проводил в Вену Франка-младшего, тот уже 10 лет заведовал медицинской клиникой университета и сожалел о разлуке, но ему влияние отца предоставило госпиталь в столице, так пусть заодно передаст привет Вилзеку и сам примет поздравления в связи с рождением сына («у меня тоже, пусть оба поступят к нам в университет»).
Еще приходилось заниматься ружьями для аристократов, по 24 цехина с персоны: занятная новинка, духовые аркебузы, работают на сжатом воздухе, пусть граф Эберли забирает первую партию пневматических стволов. Тот прислал Раканьи, и Вольта всласть наговорился с падре-химиком про опыты с фосфором, про кислород, ведь когда что-то жжешь, то жизненного газа становится меньше, а удушливого больше, и чем ниже температура, тем больше в воздухе азотистых составляющих. Хорошо поболтать со знающим человеком!
Нашествие.
В 1795 году французский Конвент отменил так называемый максимум. По старой памяти французы принялись бунтовать, но ситуация изменилась. Остатки энтузиазма инертных людей, все еще опьяненных недавней свободой, помогли разбить пруссаков, потом картечью вдоль парижских улиц были выметены воспрянувшие реалисты, но и бунты кончились.
Крупные буржуа держали в узде и санкюлотов, и монархистов-легитимистов. Вот гибнет заговор истинных революционеров: Бабеф и Дартэ, понимавшие необходимость подкрепления смелых фраз более прочной опорой, попытались заколоться, но их сохранили для гильотины. Третий радикал, Буонарроти, просидит в тюрьме пять лет, по выходе напишет книгу о мечтаниях современных Гракхов, а от эшафота его спасет (кому ж неясно?) корсиканская кровь, как в жилах восходящего Бонапарта.
Но вот французы бросились на Италию. Планы генералов просты: побольше кричать о братстве свободолюбивых франков и латинян, а под шумок и заодно прибрать к рукам богатство соседей. 27 марта девяносто шестого года занята Ницца, 10 мая австрийцы снова разбиты при Лоди, 14-го пал Милан. Пал для австрийцев, а дети итальянцев в восторге визжали, девушки лобызали грязных, запыленных пехотинцев, восторженные юноши дрожали от наконец-то сбывшихся надежд обрести свободу.
Итальянский поход начался триумфально. Первым делом Бонапарте убрал из фамилии «е», чтобы покончить с корсиканским запахом, его курс — прямиком к владычеству сперва над Францией, потом надо всем миром. А тем временем следовало превратить Апеннинский сапог в собственный ботфорт.
На другой день после входа в Милан он принял депутации края, всем, мол, простертой дланью отсыплю блага и справедливости. Из 40 декурионов Комо Вольту и Джовьо, знатоков французского, отрядили воспеть хвалу избавителю, в толпе других уполномоченных провинциалов их осчастливили (вот дома разговоров будет!), допустив в палаццо эрцгерцога Дюка (власти меняются, а дворцы остаются!), где французский комендант генерал Деспиной принимал депутацию.
Благосклонность победителей — то же золото: Вольту вмиг ввели в муниципалитет, назначили персональным асессором для службы на стыке французских и итальянских интересов. Он купался в почитании, признании, да ведь заслужил, и в Париже бывал, кто ж лучше родине послужит, чем он, грамотный, честный и одаренный?
22 мая через миланского астронома Ориани Бонапарт объявил свои высокие намерения поддержать честь и славу местной науки. Ориани приуныл: он не решился предстать перед своими «рупором конкистадора», а пока он медлил, прекращение выплат содержания вынудило профессуру молить о милости. Услышав про такую безделицу, Бонапарт мигом решил дело, отозвавшись из своей ставки в Ливорно и тем заслужив немало похвал.
29 мая Тереза разродилась вторым сыном, счастливые родители дали ему имя Фламинго, чтобы подобно своему тезке в птичьем мире он парил, грозя лягушкам (и гальваническим тоже). Как странно, всех Вольта, и Алессандро тоже, матери вынашивали под гром пушек! Асессору Вольте сразу пришлось заняться пренеприятнейшим делом: распределением военной контрибуции среди граждан завоеванного города. Да мы не воевали, пусть австрийцы платят, возопили горожане, уповавшие на ласковые речи Бонапарта и не желавшие верить умникам, язвительно уподоблявшим народ дойной корове. Но жалобы не помогли, военный налог надлежало сдать в три месяца.
В неприятное дело вовлек Вольту его новый пост, но деваться было некуда. Самое разумное, советовал он делегатам провинции, разложить репарацию на аббатство и капитул, потом на собственников земли, а остальное на всех прочих граждан сообразно их доходам. Мысль одобрили, дело спихнули на Вольту, и тот, пожелавший внести справедливость в неправедное дело, перед стонущими людьми предстал вандалом, перед церковью блудным сыном. «Я не могу что-то изменить, — оправдывался он перед кузеном Лопико, — каждый платит по персональному билету, мы лишь следим за справедливым взиманием. Ты, между прочим, платишь 25 тысяч, по минимуму, по расценке в полпроцента, надо б вдвое больше. Пойми, мы мало на что влияем». Влияют, влияют, злились обираемые люди.
25 июня 1796 года, то есть теперь по революционному календарю IV года, начался грабеж Павии. Озверевшие «освободители» срывали кресты с шей, серьги с ушей, кольца с пальцев, насиловали жен и дочерей, детей, убивали их защитников, тащили в обоз столовое серебро. В университете нашлось мало поживы: машина Атвуда тяжела, поднять не удалось, зато зачем-то украли новый дупликатор, перевернули шкафы и стеллажи, все кувырком, стекла вдребезги, ни одной целой склянки. Только к концу другого дня конные части усмирили мародеров, к кладбищу поползли гробы, комиссар Салицетти заверил павийцев, что ущерб компенсируют. Вольта сидел в Комо, читал скорбный рапорт Ре, губы дрожали.
Тем временем контрибуция в Ломбардии собиралась решительно. Вывозились картины, золото, книги, мебель; это ж не нам, а республике, объясняли пришельцы. Люди прозрели: их опять провели болтовней о справедливости, коварный корсиканец оказался предводителем армии разбойников, но предъявлять счет французам было не по зубам, их проклинали исподтишка, сквозь зубы, а козлом отпущения стал… Вольта. Ему грозили, вредили, он умолял Валери, военного агента в провинции Комо, срочно освободить его от обязанностей асессора. «Как один из 40 декурионов Комо, входящих в совет, я выполнил почетное поручение помочь в распределении репараций. Я прошу Вас и комиссара Салицетти снять с меня временно исполнявшиеся обязанности асессора, чтобы я смог заняться естественными науками, ибо крайне желаю продолжать службу профессором в университете Павии». Увы, мирным просьбам в военное время не внимают, приходилось тянуть две лямки — лекционную и контрибуционную.
В октябре появились слухи о переводе Павийского университета в Милан. Это дело Вольты — решили многие. Одних новость радовала («не забудьте вашего верного школяра»), другие не желали бросать насиженного места («это все Вольта из-за кафе и театра, до которых он большой охотник»), профессора едва не передрались.
Вольта опять промахнулся, он начал оправдываться. «Вчера в театре на празднике открытия учебного года, — писал он аббату Габбе, — меня потрясли несправедливые упреки в том, что я якобы действую против университета, инициируя его переезд».
Увы, никого не обманули жалкие оправдания человека, не умеющего лгать, клерикалы уже перенесли имя Вольты из белого в черный список. Письмо Вольты читали в кабаках, а его автора обливали грязью. Назревал самосуд. 21 ноября каноник Джованни призвал муниципалитет Комо приставить к брату охрану, ибо «многие события, происходящие изо дня в день, вынуждают просить о защите». Козел отпущения верно служил Франции, через него стравливался пар возмущения. «Обойдется без охраны, — нагло ответили Солари, Новати и Требини из канцелярии, — он прикомандирован к университету Павии». На другой день Вольте с домашними пришлось спасаться бегством.
Только тут власти зашевелились. Уже 19 ноября президент Навези, ответственный Карневали и секретарь Германни из главной администрации Ломбардии призвали Вольту на службу. От имени Французской республики, единой и неделимой, его призывали срочно вернуться для исполнения общественно необходимых обязанностей ради пользы юного студенчества, ибо его звания, почести и имя служат достаточным для этого основанием. «Я вернусь, — отвечал Вольта 26-го числа, — но без охраны это невозможно, мое письмо к Габбе еще ходит по рукам, слухи множатся, так что дайте отсрочки хоть на две недели». Просим вернуться как можно быстрее, снова молил его представитель конгресса Карневалли-Чичери, студенты ведь не виноваты, а положенное жалованье будет выплачено. В письме от 15 декабря Вольта напоминал обо всех своих заслугах перед городом, университетом, о том, что публика ездит глядеть опыты, о медалях, статьях, приборах, лекциях и упрекал: неужели вы не можете Габбу образумить!
В новом году (2 января 1797 года, или 13 нивоза Пятого года Республики) Карневалли опять просит вернуться скорее к студентам и не подводить коллег. Но что это, вместо положенной концовки «Салют и Братство» он пишет «Салют и Знакомство», а прошлый раз даже «Салют и Поклон»! Здорово, но зачем рисковать, сейчас не до глупых шуток. Конечно, пышные словеса выродились, никто не читает фанфарной ерунды, но надо б поосторожнее. Впрочем, Вольта недолго продержался схимником, через месяц-другой он подключился к словесной эквилибристике.
Конечно, все прозрели, «дочерние» республики, устроенные Бонапартом — Гольветическая, Цизальпинская, Лигурийская, — хоть кого отрезвят. О какой науке тут речь? Но Вольта затыкал уши, чтобы не слушать опасных речей: чем, мол, французы хуже австрийцев, за одного убитого они вырезают целый город. Да и зачем рисковать, ничто не вечно под луной, тем более эта пена.
За спиной шепчутся, что в Бонапарте и Вольте родственная кровь, они ж иберийцы. Вот корсиканец: малый рост, черные волнистые волосы, кости тяжелые, решителен, нетерпелив. А Вольта разве не таков? Повыше, пообразованнее, но такой же кипяток. Вот почему Вольта столь решительно присягнул Бонапарту, а Гальвани, слыхали, отказался!
Но и поплатился за то — кафедру отняли, по Лючии своей по-прежнему горюет, хоть шесть лет прошло. Уже после ее смерти нашел силы завершить свой трактат о животном электричестве, а сейчас сдал, бедняга.
А сам Вольта с затянувшимся бегством немного лукавил. Он паниковал и упирался с возвратом в университет не только потому, что попал с контрибуцией, как муха в пиццу, просто у него удачно шли опыты с касанием металлов, хотелось урвать денек-другой-третий. Еще летом прошлого года он доказал, что эффект дают не только металлы, у Валли, например, и вовсе одни неметаллы. На эту тему уже есть публикации на немецком, французском, итальянском, теперь еще рукопись к Грену. В августе туда ушло и второе письмо про то же, но с электрометром, конденсатором, дупликатором Никольсона. Experimentum crisic, опыт решающий: серебро и латунь, между ними мясо или просто мокрый картон, и диски заряжаются!
В сентябре обрадовал граф Виани из Ниццы: он-то уверен, что в гальванических опытах проявляется именно электрический флюид! Вольта с оказией переправил восторженный ответ (он стал статьей): никаким экивокам, сомнениям и двусмысленностям места нет! Измеритель сделал Беннет, Кавалло кавалерийским наскоком его улучшил, Никольсон элегантно довел до ума, и этому прибору безразлично, откуда взялось электричество, трением или касанием, прибор сработал, значит, оно есть!
Потом Марум, хоть и педант, порадовался вместе с Вольтой. Из-за этой непроходящей гибельной войны связь сделалась ненадежной, приходилось вести переписку через французские комиссариаты в Милане и Женеве, оплачивать ливрами и надписывать пакеты именами Бонапарта или комиссаров Салицетти и Гарриса, чтоб солдатня не распотрошила по дороге.
Эх, советовал Вольта Маруму, вам бы такую машину, чтоб все гудело и трещало, как при грозе, приборы чтоб дрожали при малейшем намеке на электричество. С измерителями он бы помог, ибо в них он разбирался хорошо, а машинами давно не занимался. Еще древние понимали, что verba volant, scripta manent («сказанное улетает, написанное остается»), а потому Вольта еще раз добавил: животное электричество оказалось металлическим!
А французы тащат все, приписал Вольта, ибо у них нет страха перед генералами. И ждите меня в длительное турне на вакациях, если война не помешает. Марум, сидевший в Брюсселе, порадовал Вольту китовыми усиками для гигрометра — как не помочь друг другу узникам соседних камер, то есть стран.
И снова писал Виано. Он отсасывал электричество из воздуха, заряжал им банки, предлагал измерять время электрометром, настолько четко менялись его показания в течение суток. Читать такие слова было сплошным удовольствием, и друзья у Виано влиятельные — чего стоит комендант Карло Д'Осаско, офранцуженный испанец, Виано вспоминал умершего Ван-Свитена, лейб-медика покойной Марии-Терезии, тот мечтал обмерять больного приборами, хотя б электроскопами или электрическими весами. Давно уже замечено влияние температуры тела на состояние больного, теперь самое время вступать в игру электрикам!
В 97-м году Монж начал славить искусство Вольты. Живший в Париже Маскерони всем там рассказывал, что приборы павийца могут даже фиксировать момент перед срывом искры! Вольта писал к Бертолле, намечалась поездка в Политехническую школу, заказов на статьи было так много, что не успевал все их удовлетворять.
Тогда же в Берлине вышла книга Гумбольдта, через два года последовал второй том. Вольта огорчился: немец не знал про многие опыты, и на четырехстах страницах уверял читателя, что электричество родится живыми тканями и химическими процессами. Вот уж истинно — зрят умом, а не глазом. Только химия, только кислород и водород — два дня Вольта читал многословный труд, а осилил лишь четверть. Том устарел, еще не появившись, напрасно природовед-путешественник взялся за физику, авторитет автора лишь навредил истине.
Зато порадовал венский житель, некий Каррадори. «Вы излечили меня от тоски, — благодарил далекий незнакомец, — метаморфоза вызвана тем, как чудесно вы пишете об электричестве, все великолепно и чарует».
Но, как и прежде, внешний мир властно стучался в окна Вольты. В марте 97-го года Вольта с горечью жаловался жене: «Дорогая супруга! Вчера ректор Разори и профессор Носетти призвали студентов устроить поход в честь новой власти и пойти в Брешию и Верону с патриотическими лозунгами, славя французскую революцию. С трех факультетов набралось три сотни желающих, и остальным уже не до занятий. Корпус в 3–4 тысячи, с охраной и разбившись на отряды, пройдет до Кассано, а потом вернется в Брешию. Вот уж лучший способ прославить университет! И этот развал учебного процесса должны поддерживать профессора, разве за это им платят? Уж давно стало известно еще об одном разгроме австрийских войск, французы уже вступили в немецкий Тироль, в мае войдут в Каринтию. Если так пойдет дальше, мир наступит не скоро, и прусского короля не оставят в покое».
28 декабря молодого генерала Дюпо из свиты посла Жозефа Бонапарта зарезали в Риме в двух шагах от самого посла. А в ответ через сорок дней папская столица занята французами, святой отец лишен светской власти. Правда, Римская республика не продержалась и года: воспользовавшись уходом главных сил французов, падких на всяческие авантюры, австрийцы (у них все же три армии!) и итальянцы из Неаполитанского королевства (которое скоро превратится в республику Партенопею) на время вернули город к старому образу жизни.
Что принесли французы?
Казалось, что наступили три конца: австрийцам, может быть, науке и христианскому счислению веков. Всего не перечесть, устоявшийся уклад сменился мельтешением, а Вольта из зрителя волей-неволей превратился в участника спектакля по имени Жизнь.
Вместе со сменой власти немецкий язык уступил французскому, и, как его знаток, Вольта шел в гору. Исчезла австрийская педантичность, но новая администрация тоже тяготела к патернализму, изуродованному избытком слов и формализма.
Австрийцы ушли, но атмосфера насытилась кровью и ненавистью. Давно опостылевшую разумность сменили крикливые лозунги. Идеи Руссо, Дидро, Вольтера казались детскими иллюзиями. Впрочем, и якобинской диктатуры уже не было: она устранила говорунов-жирондистов, которые сбросили монархию, а теперь и сама сметена термидором «серьезных» дельцов.
Вольта с ужасом замечал — террор не миновал французской науки, хотя кто, как не ученые Франции, снабдил революцию пушками, порохом, аэростатами. В то же время закрыты 22 университета, а в девяносто втором году упразднены все три академии (Французская, Надписей и Наук) как «школы сервилизма и лжи». Обличения Мирабо подхватил «друг народа», прорицатель событий Марат, тут уж удар не миновал академиков. «Шарлатаны, — неистовствовал трибун, формируя мнение народа, — ищите их среди 70 тысяч эмигрантов, только богатые могли заниматься наукой, знания тоже продаются и покупаются, «ученый» и «враг бедняков» суть слова-синонимы!»
Кулона, Лапласа, Лавуазье вывели из комиссии мер и весов. «Перемена династий не дает больших преимуществ», — смело отбивал Кондорсе упреки Робеспьера в аполитичности, но лучше б он помалкивал. Временами в день падало по 30 голов, многие из них принадлежали тем, кто казался слишком грамотным. Вот пал Байи, фигура легендарная, академик-астроном, автор биографий Мольера, Корнеля, Лейбница и Карла V, друг Франклина и оппонент Бюффона, певец Платоновой Атлантиды, докладчик по животному магнетизму, борец с болезнями, льющимися по парижским улицам вместе с кровью от боен городского рынка. Ужели мэр Парижа казнен невиновным, мучил себя вопросами Вольта, разве такие люди расхищают общественные фонды?
Та же участь постигла Лавуазье, творец химической революции не смог пережить революции социальной. Вместе с другими двадцатью восемью генеральными откупщиками его обезглавили за «мошенничество и незаконное обогащение продажей влажного табака, заключение Парижа в тюрьму[27] (забор для сбора таможенных пошлин), плохое снабжение страны порохом». «Дайте хоть пару дней, чтоб привести в порядок бумаги, которые важны для науки», — просил из тюрьмы приговоренный, но казнь не отсрочили ни на час, ибо, как сказал на радость всем будущим хулителям любой революции печально знаменитый обвинитель революционного трибунала фанатичный якобинец Антуан Фукье-Тенвиль, «республика не нуждается в ученых».
Покончил с собой пламенный спорщик, математик, непременный секретарь академии Кондорсе. Бедняга вольтерьянец, чуть старше Вольты, после разгона жирондистов летом 93-го он с полгода поскитался, потом все же попался и решил избежать если не смерти, то позора.
Острый умом, он кончил слишком рано, оставив людям наспех написанный «Эскиз прогресса человеческого ума». Колесо истории не повернуть назад, учил экс-маркиз, развитие неудержимо, богатства правят, но пробил час для знаний достичь паритета. Он утверждал, следуя учению физиократов: только математики, знающие историю, могут увидеть закон развития; от богословия через философию к физике — вот непреложный путь совершенствования разума; прогресс вперед влечется то одним, то другим народом. Черед французов настает, но пал под колесницей тот, кто долго мчал ее вперед!
И еще одну новость принесли на штыках французы — новое летосчисление. На первом же заседании Конвент декретировал неприкосновенность личности и собственности и упразднил монархию. Началась новая эра, возгласил восторженный монтаньяр Бийо-Варенн, и позднее революционный календарь действительно начался с той самой даты — 22 сентября 1792 года.
Месяцев осталось 12, но год теперь начинался с осени: вандемьера (сбора винограда), брюмера (месяца туманов) и фримера (месяца холодов). Зимние нивоз, плювиоз и вантол (месяцы снега, дождей и ветров) сменялись весенними жерминалем, флореалем и прериалем (прорастанием, цветением, сенокосом) и летними мессидором, термидором и фрюктидором (временами жатвы, жары и сбора плодов). Недели исчезли, равные месяцы вмещали по три декады, внемесячные пять дней в конце года стали праздниками-санкюлотидами, так что в сентябре гуляли. Они б и год удлинили, ворчали старики, но солнцу не прикажешь!
Вольте пришлось всерьез изучать нововведение. До сих пор учебный год кроился по Христову графику, теперь вводился Бонапартов. Все должностные лица получили распоряжение приспособить жизнь и службу под календарь французов, Вольта приложил все усилия, но приказ оказался невыполнимым. Пришлось заявлять протест. Друзья сдерживали, но ведь нецелесообразно, упирался добросовестный профессор. 13 февраля 1797 года, то есть 25 плювиоза Пятого года, главная администрация Ломбардии получила пространную бумагу от возмущенных деканов Павийского университета: Вольты с философского факультета, Нани с правоведческого, Прешиани с медицинского, Зола с теологического. Делами высшей школы в администрации ведали Перелли и Матья, им не хотелось неприятностей, жалобу замяли.
Чем же не угодил деканам новый календарь? Он вводится во всех официальных учреждениях, рассуждали жалобщики, но сам генерал Бонапарт не советовал нарушать сложившихся канонов религии, морали и обычаев жизни народа. Вместо понедельников, вторников и т. п., вводятся примоды, дуоды, триоды, что «нарушает христианский склад поведения юношества, расстраивает ритуал религиозных служб. Ведь многие мыслители, — блеснули эрудицией заявители, — Толанд, Спиноза, Коллинз, отмечали важность периодических процессов, даже студенты полагают нововведение ужасным деспотизмом».
Ректор Разори среагировал сразу: календарь вводится для пробы, теперь у нас и покровителей-французов станут совпадать будни и праздники. Эти четыре профессора что-то бормочут про ненависть к тирании, но разве мало славного совершила для нас революционная Франция, а мы для нее. Приложим все силы для введения нового календаря по всему миланскому краю, по всей Ломбардии!
Демагогия позволяет выиграть время, Бонапарт для проформы выполнял якобинские заветы, начался двойной счет времени по старому и новому календарям. Кому нужны радикальные переломы привычного? С грехом пополам календарь прожил еще с десяток лет, незаметно исчезнув при подписании конкордата с папой, ибо христианская религия построена на христианском летосчислении, революционный календарь не мог выжить без революционной религии.
Активные, но малочисленные атеисты не смогли сломить пассивного неприятия календаря католиками и протестантами, гораздо реальнее обстояли дела с вводом единых мер и весов, нужных всем потребителям и крупным производителям. Кто-кто, а Вольта знал про важность измерений и их унификации. Еще в 1783 году Уатт мечтал ввести единые показатели для своих паровых машин, разлетавшихся стаями по Европе, и машин других фирм. Он писал об этом Делюку, тот обсуждал проблему с Лапласом, Лихтенбергом, Вольтой, позже сам Уатт побывал в Париже.
Впрочем, сработала инициатива масс, а не грамотных одиночек. «За единого короля, за единые законы, за единые меры и веса!» — такой наказ получили Генеральные штаты в 1789 году от граждан, истомленных самоуправством местных сеньоров, дававших законы своим владениям. Через год депутат Бриссон перевел проблему в ранг научных, тогда-то впервые и прозвучало имя Талейрана, советовавшего ввести единые меры для всех стран ради претворения в жизнь своей мечты — сотрудничества с мудрой Англией, по пути которой с запозданием на дюжину дюжин лет тащилась Франция.
1 августа 1793 года Конвент решил предать суду Марию-Антуанетту, закрыть парижские заставы, изгнать враждебных иностранцев и ввести в употребление метрическую систему «на все времена для всех народов».
Впрочем, сказано широко, сделано узко. Речь шла только о метре, килограмме, литре и франке.
Жизнь катилась по своим законам, ее не затормозить, но недаром, видно, извергся в 94-м Везувий, предвещая бурные годы. Всего три года просуществовал казавшийся столь грозным великий Конвент, лишь два года бушевала Коммуна Парижа, вот новый год полнился событиями.
«Мы послужили трамплином».
Начался 1798 год. В 53-й день рождения пришлось сочинять скверное прошение все о том же, о нужде: «Уж 20 лет я профессор университета, до того три года служил в школе. Работа напряженная, по 20–30 лекций в месяц, в кабинете физики действующие машины, к ним делаю комментарии по новым физическим достижениям, провожу лекции для публики с театральными опытами, нужно тщательно подготавливать оборудование несколько раз и поделю. Нагрузка значительно выше, чем у других профессоров, особенно таких, как по естественной истории Сналланцани или по анатомии Скарпа. Они просто направляют студентов в музеи или на выставки для массового осмотра, а им платят по 6–7 тыс. лир, а мне, профессору экспериментальной физики, только 5 на все, в том числе жилье. Даже если их заставить делать то же, что меня, они не смогут. Я к тому же часто публикую статьи в журналах, курс свежий. Однако мне даже не доплатили 3750 лир, оттого я прошу доплаты, так как надо содержать дом и семью. Хотелось бы, чтоб платили как Сналланцани и Скарпе, они вообще схоластикой заняты».
Вольта с отвращением вывел дату — 3 вентоза VI года — вот уж точно месяц ветров, так и свищет за окном!
Время смутное. Из-за десятичных нововведений пришлось ехать в Милан к свояку Мартиньоли, он женат на Марианне, сестре Терезы, но свояк держался с профессорами истинным министром: послушал, сморщил лоб, изрек неопределенно: «Да будет так». Одна газетенка писала, что в Лугано нет красных беретов: стало быть, куда-то направились французские резервисты, но куда? И скоро ль затопят Павию? С неделю ходили прокламации какой-то Римской республики, и точно: в марте папу лишили светской власти, превратив Вечный город в коммуну. Говорили о готовых списках для арестов и штрафов, опять пошли слухи о контрибуции, не меньше 30 миллионов, и снова на Ломбардию.
Из Женевы собиралась приехать Альбертина, дочка Соссюра, она недавно вышла за Джакомо Неппера. «Здесь туманно, — писала она, — зреет что-то политическое, но это учение сложное для тех, кто знает с десяток естественных наук». Кто мог, тот на время уезжал с Альп, из Швейцарии, где французы задумали создать дочернюю Гельветическую республику, а в это самое время Жермена Неккер, ныне мадам де Сталь, все еще в Париже играла по-крупному, решив покорить Бонапарта. «Я без ума от корсиканца со стальными глазами», — закатывала она очи на новогоднем балу, но генерал отнюдь не собирался глотать столь примитивный крючок.
Хотелось освежиться читкой. Вольта просил Барта слать побольше: «Химию» Риттера, все работы Палласа, Кирвана о барометрах, Хладни, Бермана, Миттершпанера, Зигеля, Гильденбрандта, Вилже про магнетизм, «Курс электричества» Кавалло (только свежее, 3-е издание!), «Энциклопедию» Кутеля, конечно, Прево «Происхождение магнитных сил», Пикте и т. д.
В апреле Вассали прислал из Турина плиту мемориальную по просьбе Спалланцани, вот уж плохая примета! А Вольта наконец-то сочинил письмо № 1 к Альдини — «О сомнениях в существовании животного электричества в гальванических опытах», потом еще № 2: пускай сами повторят его опыты двухлетней давности с парой металлов, мультипликатором и конденсатором! Ведь именно металлы пружиной расталкивают плюсы и минусы электричества! Борьба-дискуссия продолжалась, игра в анонимы тоже — теперь Вольта для смеху подписался N.
1 мая ошарашила весть: из Тулона отплыл экспедиционный корпус в 30 тысяч солдат, но куда? Даже генералу Клеберу не сказали, Монж вроде бы знал, но молчал. Впрочем, какое Вольте дело до чужих забот. Тереза родила третьего сына (!), пусть будет Луиджи, в честь брата. Апартаменты Вольты в Павии заняли офицеры. «Я ж официальное лицо, — пытался возражать профессор, — неужели я должен терпеть тяготы постоя?» Отвечали — временно, да ведь и вся жизнь временна.
Слухи про авантюру в Египте обрастали деталями. В июле галлы приплыли в Александрию, захватили Каир, разогнали мамелюков, одно полезное» дело — обмерили пирамиду Хеопса.
А Вольта сообщал Маскерони в Париж, что приезд откладывается: «Меня наверняка еще помнят и Лаплас, и Лаланд, а тут не могут даже перевести в Милан или хотя бы жалованье увеличить».
У Риттера в Веймаре вышла книжка по гальванизму на три сотни страниц, он цитировал Вольту и Гумбольдта, спорил с ними, развивал их идеи. Ряд Вольты совпал с рядом химического сродства «металл — кислород», вот так новость! Смелый юноша зайцем скакал по нетоптаной лужайке, вываливал ворохами новые гипотезы, сочинял новые термины, бредил о каком-то «электроконфликте». Через Грена этот букет идей в духе Новалиса, Шеллинга, Баадера дойдет-таки до Эрстеда.
В августе Нельсон сжег 15 кораблей египетского флота Бонапарта, только 5 судов из Абукира сумели уйти на Мальту. «Битва при Ниле» поставила крест на планах отрезать Англию от Индии. 25 суток брел по пескам озлобленный Бонапарт от несдавшихся крепостей Сирии к морю, а там авантюрист бросил солдат и спасся на фелюге, в конце концов, доскрипевшей до берегов Франции.
Вольта со всеми издали наблюдал за кульбитами завоевателя Италии.
На всякий случай связался с Франком; уж три года, как тот заведовал венским госпиталем, понравившись Францу I. Вольта делился со старым знакомым своими проблемами, вдруг пригодится: «Сколько ж у нас страстей! Революционер и атеист Разори, всюду сует свой нос Скарна, как фактический ректор. Живописная картина, где действуют Москати и Маскерони, Фонтана и Барлетти. Я стал отцом трех мальчишек. Контрибуции и реквизиции французов сильно обрезали наше и без того маленькое состояние, в доме все еще квартируют офицеры. Слава богу, что у меня хорошая репутация, а то было бы куда хуже» (ноябрь 1798 г.).
4 декабря — неприятное сообщение, печально кончил дни свои Гальвани, Вольтов оппонент. Одни говорили, что от тоски по жене: ее не было в живых, восемь лет безутешный вдовец пытался отвлечься наукой, но забыть Лючию не смог. Другие показывали пальцем на него, Вольту, якобы он загнал в гроб, но эта чушь только для глупцов: велась научная дискуссия, а истина превыше всего. Притом, и кроме дискуссии, были у Гальвани поводы для огорчений. Когда французы состряпали Цизальпинскую республику, тихий упрямец отказался ей присягать, за что лишился кафедры, а еще умерли тетка и двое племянников. Утомленный жизнью Гальвани перебрался к нищему брату Якову и там уморил себя голодом, лишившись даже прежнего, более чем скромного заработка. Он не успел воспользоваться милостью Бонапарта, внявшего ходатаям и вернувшего болонцу его кафедру.
Зато англичане процветали. Кавендиш на этот раз измерил силы притяжения двух масс. С крутильными весами уже много работали Кулон, Митчелл, но Вольте они казались сложными. Измерители должны быть предельно простыми — соломинки и пластинки, а то такого намеряешь, что век не разберешься. Он-то знал, что Sancta Simplicitas. («Простота священна»)!
Явление Суворова ломбардцам.
И следующий, 99-й год кипел событиями. «Конец века, — вяло шутил Вольта на лекциях, — это сотый, а не 99-й год, но люди торопятся начать, не кончив, так будем готовиться к встрече XIX века!» Студенты смеялись.
В январе Неаполь превратился в республику Партенопею. Турки пропустили через свои проливы флот Ушакова, русские моряки освободили Грецию, а потом Неаполь, в то же время англичане отбили Мальту. За неделю до дня рождения Вольты умер великий Спалланцани, не зря мрамор получал! Ворчлив и гневлив, но добр и свято соблюдал запрет не увечить животных, потому перебивался то однодольными растениями, удаляя, к примеру, без всякого ущерба мужские цветы у дынь. Неопыленные плоды зрели исправно, давая исправные семена.
В апреле хилые республики (Цизальпинская, Лигурийская, Римская, Партенопейская) испарились бесследно, как только Суворов-Рымникский разбил французов у Валледжо, при Адде (сам Моро бежал!), под Нови (Жубер убит!), у Требии.
Пришли русские, и итальянцы возликовали, дамы надели шляпки «а-ля Суворофф», мужчины, чем могли, угощали солдат. Армия освободителей дошла до Турина, Вольта радовался, но опять огорчали злые новости. Словно земля разверзлась, поглотив одного за другим Лихтенберга, Соссюра, Блэка, Шиллера, Бомарше. «Французы бежали, полная эвакуация варваров», писал Вольта, австрийцы вошли в Милан, но тут французам удалось разбить армию Римского-Корсакова. Суворов, через Сен-Готард, бросился ей на подмогу, потом русские вошли в Баварию, а там Павел I приказал им возвращаться, рассердившись на вероломных австрийцев, бросающих союзников, и опасаясь революционной заразы.
Все это время Вольта бился за оклад, ему помогал Скарпа, не уставая славить своего профессора — «опору физики и науки».
«Не трать силы, — по дружбе советовал Вольте Мантильи, — на изменение своего статуса в университете, лучше уповать на милость всевышнего. Если два атланта, Вольта и Скарпа, бессильны, то дело безнадежное. Лучше двигать свое дело, ибо только оно приносит истинное удовлетворение». Что за абсурд, кипел Вольта, не было б кабинета и лаборанта, я получал бы больше, И Франк поддерживал, он писал Скарпе: «Говорил о Вольте во дворе. Можно менять и число профессоров, и оклады. Наш друг Вольта и Вы сами вполне заслуживаете персонального подхода. Вы не вмешиваетесь в политические дела, заняты своими ответственными функциями, а потому совершенно реально надеяться на успешное решение Ваших личных дел». Но вдруг выяснился подводный риф, Скарпа разузнал, что повышения содержания Вольты не хотят… иезуиты, в чем-то он сплоховал. А потому надо непременно ехать в Вену на поклон, раз уж машина раскручена. Вольта обиделся и не поехал: уж 20 лет в университете — и все еще на минимуме. Чем кормить детей?
А потом опять Бонапарт привлек общее внимание. Члены Директории Дюко и Сийес назначили генерала комендантом парижского гарнизона, и вот он разогнал Законодательное собрание. 18 брюмера (9 ноября) вся эта троица назначила себя консулами. Теперь приобретения неотчуждаемы, нувориши могут спать спокойно, триумвиры сами назначали префектов департаментов, а законодательство расчленили по четырем органам, которые мешали друг другу и не мешали диктатуре Бонапарта. Государственный совет по новой «Конституции 8-го года» предлагал законы. Трибунат их обсуждал, Корпус законодателей принимал, а Сенат из назначенных верных людей мог и не утвердить. Неплохая видимость демократии, а на самом деле полное исключение всех беспокойных и строптивых из политических дел. Нагло, но действенно, поди разберись, и, в суете будней, мало кто и разобрался.
А Вольта уже давно хотел реализовать контактное электричество в эффектном приборчике. Но вот незадача, сколько ни набирай разных дисков в стопку или проводов в цепь, останется только разность потенциалов крайней пары. Похоже, что все пары надо изолировать, чтоб не замыкались друг на друга, но в то же время их надо бы электрически соединить, чтоб суммировать напоры. Стало быть, нужны прокладки из сукна, смоченные водой или кислотой: проводят и изолируют одновременно! Только и всего! В декабре 1799 года столб заработал.
Собственно, все было готово. Уже давно: в девяносто третьем заработала одна пара, через пять лет дубликатор Никольсона помог исключить животные ткани, и вот столб, то есть много пар, соединенных последовательно.
В марте 1800 года из Комо ушла статья к Бэнксу, почти 30 страниц хорошо изложенного текста. Название — «Об электричестве, возбуждаемом простым соприкосновением простых проводящих веществ». Прибор назывался «искусственным электрическим органом» по аналогии с органом естественным у рыбы ската. Теперь как собрать. Какие дает эффекты (чем больше пар, тем сильнее, а так все известные). Принцип действия — «вечное движение флюида»! Вечное движение запретили еще четверть века назад, а Вольта дал два вечных электроносца, порциями (электрофор) и потоком (столб). По крайней мере, он так думал.
Ток грел провода, светил, давал химические реакции и механическое движение. Все это было ново, полезно, захватывающе интересно и, самое главное, достигалось элементарнейшим образом. А сам Вольта уже перестал действовать, он только следил за лавиной фактов, обрушенной на науку его аппаратиком. Но как он смог удержаться в стороне?
Тому видятся две причины. Первая — ему не дали больше заниматься наукой. Вторая — по складу своей натуры он «вторичник», ему нужен толчок со стороны. От Эпинуса — к электрофору, от Гальвани — к столбу!
В Париж.
Еще не остыв от мартовских писем Бэнксу, усеянных помарками, с правкой и неряшливыми эскизами, с головой выдающими изнуренность и ликование, Вольта исступленно взялся за новое. «Я послал Вам, месье, большое письмо, но это еще не все. Первое Вы уже, может быть, сдали в печать, а это уже будет второе. Юный аптекарь Гаровалли из Комо взялся его Вам доставить, причем только в ансамбле они станут одним целым. Любой, кто повторит мои опыты с моим прибором, получит те же результаты. Я надеюсь, что аппарат особо понравится Никольсону, Кавалло и Беннету, ибо мой успех стал следствием хорошего сочетания теории с практикой».
Письмо отправилось в Англию, и через месяц хирург Карлейль и физик Никольсон, взявшись оживить новым прибором лягушку, ненароком разложили воду. Вольта не мог узнать об этом сразу, но его трясло от возбуждения: то ли опять переработал, то ли нервные флюиды как-то переносились из Лондона. Впрочем, уже в августе Ландриани известит о разложении первого, но далеко не последнего вещества.
Бруньятелли передал с Джузеппино две книжки: «Водянистые метеоры» — про дождливую погоду, и «Влияние Луны» — для страдающих бессонницей, а взамен получил рукопись о новом аппарате. Ненароком оказал медвежью услугу Ландриани: он написал Вольте об интересе медиков, их активности, специальных лечебных вариантах столба, и ценивший себя изобретатель так сильно поверил другу-умнице, что перестал интересоваться чем-либо иным, кроме электротерапии.
Еще 2 июня, перейдя перевал Сен-Бернар в мае, Наполеон вошел в Милан. После разгрома 14 июня у Маренго Меласа ему оставалось вновь занять Лигурию, Пьемонт и Ломбардию.
Вторая коалиция рухнула, консула омрачало разве что бегство с Меласом мадам Дезире, его прежней любовницы. Пышная служба в миланском соборе, а 25 июня победитель мчался в Париж. В последний день полугодия Циспадану и Транспадану вновь слили в Цизальпину, через неделю вооружили ее быстро склеенной бумагой под названием «конституция».
Верный друг Ориани, терпеливо ждавший Вольту в Брере, обрадовал: первый консул декретом от 4 мессидора (23 июня) снова открыл университет в Павии, а Вольту назначил на старое место, профессором экспериментальной физики и президентом физического кабинета, а ему в помощь назначен Вентури. Ах, корсиканец, умел радовать людей щедрым словом!
Через неделю Вольта опомнился: спасибо, дорогой, заклинал он астронома, но лети к консулу, постарайся, чтобы вместо Вентури назначили Раканью. Но пока торговались, так и осталось. Зато слухи, что Вольта в фаворе, разлетелись быстро.
15 июля зазвонили колокола — папа Пий VII подписал конкордат о восстановлении во Франции католической веры, обещав взамен полную поддержку. Бонапарт тоже смекнул, что без духовных пастырей сад зарастает бурьяном анархии. И, совсем местная новость: через Симплон на Милан решено пробивать тоннель!
У Вольты давно в голове бродила мысль о поездке в Париж, а тут он взялся за нее всерьез.
И снова помог Ориани. Выяснилось, что он когда-то пришелся по нраву самому Карно, тот рекомендовал миланца Бонапарту, и нынче вся новая власть держит в любимцах старого астронома.
К концу года стало ясно, что поездка получится, если не помешают военные действия. Помогло то, что имя Вольты гремит по всей Европе.
Новое изобретение мир принимал на «ура»! Марум из Гарлема прислал годовую программу заседаний, а там конкурс: «Можно ли объяснить действие гальванической колонны Вольты известным электричеством или надо допустить существование особого и отличного от первого электрического флюида?» Они там разложили серную кислоту, разбавив водой шестикратно, добавлял друг, отличные результаты, эффекты очень сильны, металлы окисляются, шли скорее мемуар!
Из Брюсселя Ван-Монс добавлял: «Исследования идут полным ходом. Фуркруа столбом сжег железо, Вагелин разложил воду, я сам зарядил бутыль Клейста! За конкурс Вам обязательно дадут серебряную медаль и 10 дукатов золотом, в конце года получите». Барт из Лейпцига почтительно просил срочную меморию для немецких читателей. Риттер из Веймара радостно удивлялся: надо же, пара золото — цинк вместе с серебром — золотом дает то же, что серебро — цинк! В конце лета Доломье в Париже по совету Мангильи напечатал описание вольтова столба в бюллетене научного общества «Филоматик», придется взять его аспирантом, хочет доучиться у Вольты. Да и сам Вольта, памятуя о грядущей поездке, написал Монжу подробнейшее письмо: что новый источник электричества действует как рыба-торпедо; внешне тоже оформлен под рыбу, а потому не забудьте, что тайна электрорыбы раскрыта; о тождестве действий столба и лейденской банки по искре, вкусу, показаниям приборов; о трех эффектах (электроскопическом, физиологическом, химическом) и о явном тождестве «электрического» и «гальванического» флюидов (19 мая 1801 г.).
Однако не мешало поторопить власти. «Напиши письмо министру Петье, — просил в августе Вольта брата, — что граждане Вольта и Бруньятелли желательны в Париже ради интересов науки. На днях у нас появится Мюрат с войском, удалось скостить контрибуцию с 5 до 2,6 млн., а остановится он во дворце Уффици». Такие перескоки мысли для Вольты типичны.
19 августа (1 фрюктидора IX года) сбылось: Панкальди из Миланского полицейского ведомства на гербовом бланке от имени Цизальпины, тут же изображенной во фригийском колпаке, со вздернутыми ввысь руками, выписал Вольте пропуск в Париж во славу двух республик и ради процветания науки! И завертелось, Вольта засуетился по давно освоенному ритуалу: спешное письмо Маруму про срочную необходимость опытного доказательства тождества электричеств от столба и большой тейлоровской машины; наспех рукопись Барту в Лейпциг; сопроводительное письмо от Палкальди к Марешальди, чтобы итальянский посланник в Париже достойно встречал, опекал и рекомендовал двух профессоров из Павии (Вольта ехал вместе с Бруньятелли).
1 сентября из Комо двинулись в путь.
Через заставы проезжал профессор по паспорту 56 лет, роста 178 см, брюнет, полноты средней, лица овального и открытого. Дорога наезжена, до Варезе проводили жена и Луиджи, там пообедали и заночевали в доме у Дандоло, вот куда судьба забросила потомков венецианских дожа и купца! Потом четыре мили по Лаго Маджоре, две мили посуху от Борромео до Интры, там ученых пилигримов гостеприимно, принял доктор Бранио из своего университета, еще час лодкой до Мергоццо, потом Домодоссола, шоссе до Вогоньо.
В Семпьоне делали дорогу, за рабочими присматривал сам префект департамента Лемано Д'Эймар с молодой красавицей женой. Очень милы, но время не ждет, опять мелькают дни и города: Брига, Сьерра, Вивэ, Лозанна.
11 сентября остановились в Женеве, где пробыли с неделю. Два часа общались с Сенебье: «Уж под шестьдесят, но какой здравый ум», — старательно записывал путевые впечатления сорокалетний Бруньятелли.
В Женеве поработали на славу. Старший Делярив, с учениками, помог провести «Опыты по химическому и физическому исследованию явлений, полученных с помощью аппарата Вольты», под таким названием и легла рукопись коллективной статьи в Бруньятеллевы «Анналы химии». День провели у Делюка-сына, в другой общались с Колладоном, Прево, Озье, Сенебье и Соссюром-младшим, потом ходили по учебным кабинетам Поля, Ваше, 10-го провели вечер с Сенебье, Д'Эймаром, Неппером и его дочкой Жерменой, то есть теперь мадам де Сталь. «До чего ж одухотворенная женщина, — строчил Бруньятелли, — говорунья, красноречива, театралка! Она уже написала элегию про Руссо, многие эссе о политике, романов три тома».
Почти день удалось провести с Сажем, математиком и философом. До восьмидесяти ему оставалось три года, но он детально помнил про старую встречу, снова говорил о первоначалах, о Вселенной с летящей пудрой микрочастичек, ударами вызывающих многие действия: химические, тяготительные и электрические тоже. Вольта немел, словно растворяясь в бездонной черноте рисуемого Сажем космоса, и, чувствуя себя виноватым за непризнание мудреца мельтешащими современниками, рассказывал о своих безделушках и про однофамильца хозяина Вальтазара Сажа, парижского химика и минералога. Знаю-знаю, кивал старец.
18 сентябри путешественников опять привечали! Сенебье, Тингри, Озье. Было грустно: увидятся ли еще, хоть соседи, но ведь пикеты, колонны войск, то с одной, то с другой стороны трещат выстрелы и ухают пушки. Наконец уезжать: по склону Юры, через границу во Францию. Морец, Полиньи в славной Шампани, от Доля пять маршрутов с дилижансами до Парижа, Лиона, Женевы, Безансона, Нанси.
По пути сошли в Дижоне посмотреть на дом Бюффона, побродили по Жанли, рта Вольта буквально не закрывал, спутник радостно внимал, на ходу строча в дневнике. Монбард, Тоннеге, Виллено, наконец Фонтенбло. Замок времен Людовика XIV, новенький памятник Бонапарту и, наконец, Париж. За 90 франков в месяц сняли номер в отеле на улице Виктора Дижона, скоро выяснилось, что Вольта, знаток французского, чуть перепутал: улица Победы, отель «Дижон».
А в Париже моросил дождь, фиакры с мокрым верхом, в меняльных кассах франк стоил 30 сольди, куда-то тащился катафалк с жалкой кучкой сопровождающих. Сходили в Лувр, 28-го на обод к великому химику Бертолле, потом осмотрели Тюильри.
На другой день посетили посланника Марешальди. Представились, отметили паспорта. На обеде у мадам Висконти вели умные разговоры про науку и литературу, был Фуркруа, рыхлый, но подвижный, все люди нужные, известные и обходительные. Сколько ж нового: грандиозная поездка в горы на двух шарабанах, ослы, мулы, пикник, лодки, изюминка Парижа — Ботанический сад!
Сам директор Кювье провел по анатомическому залу, множество ботанических диковин, разные зерновые и стручковые. Вот звери: два слона, лев, две львицы с четырьми львятами, одни свирепы и непослушны, другие приручены. Тигр, пантеры, леопарды, верблюды и дромадеры, гиены, олени и газели. Интересно, но чувствуешь себя провинциалом, впрочем, так оно и есть.
В последний день сентября обедали у Фуркруа, Вольта скромно, но с достоинством поведал о гальванизме и его физико-химических проявлениях, спрашивали о флогистоне. Все старые знакомые: Бертолле, Гитон де Морво, даже Пристли. В библиотеке зал Вольтера, труды Руссо, Бертолле, Нобиле, Френе, Бюффона, Кондильяка. Био не упустил случая передать Бруньятелли свою статью о гальваническом флюиде. Потом театр, кафе и всякие прочие развлечения в парижском вкусе.
Триумф!
В октябре академики всерьез взялись за приезжих — со времен Ньютона вроде бы не было столь крупной находки. Мало того, что аппаратом Вольты разложили воду и аммиак, немец Крюикшенк даже извлек искру, взорвав баллон с газовой смесью, и своим лежачим столбом-корытом осадил на полюсе с пузырьками водорода еще и металл. А приезжий химик-павиец, что помоложе, показывал хозяевам свой журнал со своей же статьей от прошлого года: «Я часто наблюдал, как с серебряного проводника серебро устремлялось на платину или на золото и прекрасно серебрило их». Можно было серебрить, меднить, цинковать электроды, уж после поездки Бруньятелли исхитрится позолотить две серебряные медали, погрузив их в раствор аммиачного золота на отрицательном электроде столба.
1 октября друзей позвал на обед Гаюи. Хозяин дома хорошо разбирался в минералах и кристаллах, как президент Института он набрался знаний во многих науках, но в вопросах электричества нуждался в подсказке, для чего пригласил еще Альдини и тут же выспросил обо всем. Назавтра обед повторили, Вольта показал свои опыты на маленьком столбе, поговорили о значимости столба для химии, а 3-го числа академики по совету Фуркруа пригласили гостей на заседание Института Франции. Фуркруа считался знатоком, еще в прошлом году вместе с Вокеленом, Тенаром и Гаше он раскалил столбом провод, а теперь он вел заседание.
С места в карьер Гаюи предложил создать комиссию по изучению гальванизма. В нее ввели Лапласа, Морво, Шарля, Бриссона, Фуркруа, Кулона, Мошка, Био, Вокелена, Галле, Пелетана и Сенебье вместе с приезжими. Они выходили из Версаля, шатаясь от впечатлений. Вот это да! Вот это цветник знаменитостей, присутствовал даже Рамсден из Англии. Зайдем-ка в Пантеон, пошутил Вольта, присмотрим местечко.
4-го провели день с Пфаффом; тридцать лет еще не исполнилось, а уж профессор в Киле.
5-го замучил Сю, срочно начавший писать пятитомник по истории гальванизма. В беседах участвовали Фуркруа, Галле и Шосье. Старый знакомый астроном Лаланд обнимал, старику за семьдесят, живая история французской науки, с ним еще Буркхард из Лейпцига, и земляки — Пьяцци и Оркани.
И на другой день опять горячо толковали про то же с Пфаффом, обедали у генерала Бертье, в свиту павийцев попали Пикте, Гейслер, даже посол из России, о чем-то конфиденциально перебросившийся несколькими фразами с героем дня. Наутро их зазвал Шапталь. Он служил министром внутренних дел, но все еще читал курс химии растений. В свое время он помог Конвенту снабдить армию порохом и селитрой, сейчас на своем заводе-лаборатории в Монпелье производил купорос. Говорили, что для Лавуазье что-то значили лишь Морво и Шапталь, а сейчас ветеран науки и политики повел гостей смотреть парад войск во главе с Бонапартом. «Какой хороший спектакль!» — вздыхал Бруньятелли.
8-го ездили на железнодорожные заводы, щупали новинку — рельсы; англичане, правда, освоили их выпуск куда раньше.[28] Пфафф тем временем слал в «Альгемайне Литературе Цайтунг» сенсационный материал: в новом аппарате Вольты между цинком и серебром циркулирует флюид, идентичный электрическому! Ученая Германия ахала, а Вольта тем временем общался с Пикте, прусским послом Лучезини, побывал в Лувре, посмотрел на Лаокоона, восхитился богатствами музея (1390 иностранных картин, 270 старофранцузских, 2000 современных, 4000 английских и еще 150 статуй). Тут счет велся на тысячи, не то, что у них дома — поштучно!
Опять дождило, опять Пантеон с останками Руссо и Вольтера, изваяниями Мирабо и Марата, были с Лаландом в обсерватории, потом «Комеди Франсез», а утром другого дня их ангажировал бешеный неаполитанец с английской кровью в жилах — Робертсон. «Надо бы назвать прибор гальванометром», — уговаривал он, и сентиментальный Вольта растрогался: «Уж лучше так, чем гальваноскопом», как советует Симой.
В этой беготне, с ног сбиваясь, Вольта успел набросать и отдать Мотерье рукопись про столб: о величине тока в паре цинк — медь, о том, что воду необязательно солить круто, и еще ряд других наблюдений. Подумать — всего-навсего контакт двух металлов, а сколько эффектов: химические, физические, медицинские! Для усиления достаточно умножить число пар. Разлагает любые жидкости, окисляет металлы, все это видел женевец Пикте на портативном столбе, а сейчас готовится опыт для комиссии, в которой я имею честь состоять вместе с коллегой химиком Бруньятелли из университета Павии.
15 октября в доме у Шарля собрались комиссионеры. Первым пришел Бриссон, за ним Лаплас. Слушали с интересом, демонстрируемые опыты смотрели с восторгом. Через три дня пришло сообщение из Англии: Волластон добился тех же эффектов разрядами банок и объяснил их электрохимически.
«Кариссимо фрателло![29] — писал усталый Вольта брату. — Письма идут редко, только по правительственным каналам. Два раза в декаду хожу в Институт, начала заседать комиссия по гальванизму. Еще разок — и комиссия, уже видевшая основные опыты, сделает доклад Институту. Я сейчас штудирую все статьи и диссертации по этому делу. 17-го был обед у министра внутренних дел Шапталя, после обеда два часа ушло на околонаучную беседу, сидели до 10 вечера. Наш Марешальди нанес визит министру иностранных дел Талейрану. Тут много книг. Обедал у известного химика Гитона де Морво, еще у Бертолле, приглашений больше моих возможностей. На 9-10 ноября намечен большой фестиваль по поводу великого мира. Хожу в оперу, на водевили». Брат понял: речь шла об Александре I, Бонапарт поладил с ним, пообещав не трогать королевства обеих Сицилии.
21 и 25-го снова собиралась комиссия. Вольта ставил опыты, объяснял. Между делами успели побывать в цирке, встречались с Альдини, посетили школу медиков, еще раз обедали у Шапталя. Вольта устал — слава богу, что домой через месяц. А пока надо было известить Марума, что никакой доклад в Гарлеме он делать не в силах, все показано и описано в печати, распределяйте призы как хотите, но учтите, что все физики, общества и академии уверены в моей победе. Это письмо везет Пфафф, он видел мои опыты и может их связать с объяснениями. Вот бы зарядить батарею конденсаторов от столба и от машины Тейлора и потом замерить напряжения в градусах соломенного электрометра. 60 пар дают два градуса на 120-градусной шкале». Вот так 22 октября 1801 года мимоходом родился термин «напряжение»!
2 ноября снова опыты, но уже в Институте, при Румфорде, Шведьяре, Дезорье, Гаше. Монж рассказал про египетский поход, Монгольфье вспомнил про свои шары с нагретым воздухом, их запускали даже при обороне Парижа, заодно научил строить «химические гармоники». В другие дни смотрели Уаттовы машины, а Румфорд слушал павийцев и удивлялся, как много студентов в их университете.
О Вольте говорили. Бонапарт слушал с жадностью: он искал орлов, чтоб взлететь с ними в высокие дали. 6 ноября через Марешальди первый консул стремительно позвал месье Вольту с Бруньятелли на обед, живо внимал опытам, даже Талейрану понравилось.
Министр иностранных дел, вместе с Бонапартом кроивший карту Европы, был серьезен, смугл, носат и массивен. Моложе Вольты, но в годах. Оба они умели маскировать скрытность улыбкой и гладкой речью и потому нравились слабодушным. Но они не сошлись: англоман и франкоман, опять же один коварен, другой безобиден.
Олицетворение коварства, Талейран сменил уж третью оболочку: епископом предал церковь, взяв на себя в Учредительном собрании конфискацию монастырских земель, потом бежал и тем обманул якобинцев, наконец, переждав террор в эмиграции, занял кресло вершителя внешних дел и пересидел в нем Директорию, консульство, а там еще и империю. После реставрации Людовиков он уйдет с главных ролей, но все же в старости сменит Шатобриана, почти своего двойника по красноречию, уму и беспринципности, на посту лондонского посла. Конечно, будущего Вольта не видел, но оно словно излучалось хитрым опасным лицом министра.
А наутро уж назначено заседание физико-математического класса. Оно только открылось, как в Институт явился Бонапарт. «Он расточал комплименты моим опытам, — позднее расскажет Вольта, — и сразу предложил присудить мне золотую медаль. Хвалил, говорил об электричестве и других материях. Президент Института Гаюи и сенатор Лаплас высказали пожелание увидеть столб побольше, а Бонапарт экзальтированно заговорил о золотой медали».
Над этим Вольтой, словно святой нимб, шептались подобострастные. Еще бы, Бонапарту представили Якоби. «Что такое материя?» — буркнул консул, бедняга затянул с ответом, и ему показали спину. Впрочем, в вежливости корсиканца не упрекнешь: как-то Бонапарт заставил зарыдать седовласого Ламарка, беззастенчиво отчитав старика неизвестно за что, в другой раз Араго не успел поддержать диалог и услышал: «Дурак или немой?».
А вот что записано в протоколе комиссии от 7 ноября 1801 года: «Гражданин Вольта, профессор из Павии, представил первую часть мемуара по теории гальванизма и, в частности, по природе электрического флюида. Гражданин Бонапарт предложил, чтобы класс, вдохновляясь первыми моментами всеобщего мира и желая собрать плоды знаний всех, кто культивирует занятия науками, представил мемуар к золотой медали и удостоил премии в знак особого уважения к этому профессору и как образец отношения к трудам иностранных ученых».
Вмешательство в привычные ритуалы несколько шокировало педантов, не подозревавших, что гражданин Бонапарт скоро перестанет играть в демократию, у самых наивных еще звучали в ушах призывы к братству, но физикой и математикой в Институте занимались отнюдь не дураки. Они мгновенно сориентировались: золотую медаль дает не класс, а общее собрание Института, но коль надо, пусть будет прецедент. Тем более что Вольта говорил и показывал нечто стоящее, и хоть немного тянул и мямлил, но столб работал. Бонапарт и сам знал, что превышает свои полномочия, но ведь надо тигру потянуться и размяться перед прыжком.
А Вольта Бонапарту нравился: какие-то железки и соленая вода, но если они организованы в нужную комбинацию, из них исходит могучая сила! Разве не то же самое демонстрирует миру Бонапарт: камень Корсики и соленая вода Тирренского и Лигурийского морей излучают через него как бы электрические флюиды, которым никто не может противостоять: ни короли, ни женщины, ни ученые! Если, конечно, действовать умно и решительно.
С радости Вольта и Бруньятелли перебрались в отель поприличнее, «Монетный», в номер рядом с Сажем. К Марешальди отнесли благодарственное письмо к «светочу нации» и к классу: «такая честь, мое скромное открытие, я даже сконфужен, боюсь — не заслужил, и даже медаль, какая высокая оценка, великий Бонапарт, а еще званый обед, я счастлив!» Надо бы добавить еще, советовал бывалый Саж, но Вольта не лгал, он был честен, про величие Бонапарта и столба говорил весь Париж.
Пока везло. «Жил далековато, — писал он жене, — так что приходилось поспешать. Жизнь интересная, но утомительнее, чем дома».
Сила министров — в умении держать нос по ветру. Чрезвычайный посланник и полномочный министр Марешальди срочно шлет депешу к министру внутренних дел Цизальпинской республики Панкальди: к Вольте благоволит первый консул, приглашал на обед, явился в Институт, дал медаль и пр. Через три дня Вольте вручили срочное послание из Милана: Панкальди извещал, что «в Лионе собирается экстраординарный Совет Нотаблей, от Цизальпины 30 депутатов. Ваша высокая миссия и долг гражданина диктуют участие в работе Совета, чтобы с блеском внести свой вклад в достижение успеха и ознаменование чести и заслуги таланта». Еще один ученый попал в суетное горнило официальных почестей.
11-го числа Вольта прочитал лекцию в Лицее, президент Фуркруа благодарил за большой шаг в физике, открывающий новую эпоху в истории наук. Может быть, даже не лукавил? На другой день продолжалось слушание в Институте, собралось много больших ученых, интерес огромный. «Хочу домой, — писал Вольта брату, — для университета Павии немалым ущербом служит отсутствие двух профессоров. Здесь говорят про объединение Лигурии с Цизальпиной. На моем сеансе были Лаплас, Лагранж, Бертолле, Гитон до Морно, Ласепед, Гаюи, Вокелен, Фуркруа, Саж. Консул острил, смеялся, говорил больше часа. Я сам… поражаюсь тому, что мои старые и новые открытия… вызвали столько энтузиазма… Уже более года все газеты Франции, Англии, Германии полны сообщениями об этом. В Париже они, можно сказать, вызвали фурор, ибо здесь к ним, как обычно, примешивается крик моды… К беспокойству донны Терезы, расходы не записываю. Погода не очень хорошая, туманно, печально шуршат тополя, моросит иногда сверх меры, то проясняет, то по-старому. Снаружи иногда радуюсь, но душа замерзла».
На открытие лицейского учебного года пригласил будущий маршал Бертье. С той же целью Гитон де Морво звал в Политехническую школу, соблазняя шансом лучше понять молодых французов. Химик Ламберт из рода Немуров приглашал проехаться за город: «Я тоже цизальпинец, на даче в Морице нас будет уже трое».
На обеде у Марешальди опять видел Альдини, последний раз собрались у Шарля. Побывал Вольта в Институте на выборах иностранной восьмерки (вот бы когда-нибудь тоже!), а сейчас баллотировались гиганты: Уатт по механике, Пристли по физике, Бэнкс по ботанике, Гершель по астрономии, Кавендиш по химии, Паллас по зоологии, Артур Юнг по экономике, Мантаньи по медицине, Машелин по математике.
2 декабря на ранний обед пригласил Саж. Тонко шутил обаятельный Неккер, блистала русская дама «Замбочанинофф». Гости потешались над ее горничными, одетыми в курьезные костюмы народов «Сибирии», но лица серьезнели, когда вспоминали про удушение Павла, договор Бонапарта с Александром, возврат казаков с полдороги безумного марша в Индию. Не так ли вернулся из Египта сам Бонапарт, а Питт ныне без союзников.
Вечером собрался Институт. От имени комиссии и класса перед залом предстал Био, по белому лицу именинника ползли красные пятна. Впрочем, что волноваться, уже вывелись те, кто б дерзнул прекословить! «Выслушав и обсудив доклады, предлагаем удостоить гражданина Вольту золотой медалью, ибо класс полагает эти работы лучшими по электричеству». Скромно. Пять членов комиссии не подписались под резюме (Морво, Бриссон, Галле, Пеллетан, Сабатъе), но восьми оставшихся (Лаплас, Кулон, Монж, Шарль, Фуркуа, Вокелен, Био) оказалось достаточно. Отчет скрепили визы секретаря Деламбра и президента Гаюи.
На другой день Вольту приняла донна Беккариа, потом он был у Манцони в доме Имбонати, здесь же сидел банкир Бюсти. Еще неделю назад у Тромбетты начались разговоры об Италии, конкордат всем казался выгодным, но как лучше для родины использовать взлет профессора? 17-летний поэт-миланец Манцони (надо ж, на полвека моложе!) читал свою аллегорию «Триумф свободы», потом горячо говорили о сплаве веры, знаний и патриотизма, строили планы участия Вольты в лионском сборище. Наконец тезки: — Манцони и Вольта — разошлись, через три года первый из них закончит колледж, а потом проводит в последний путь хозяина дома одой «На смерть Карло Имбонати».
А Вольте приходилось торопиться, он мчался в Лион, смакуя пережитое. Рассказывали, что Бонапарт увидел в библиотеке Института гипсовый венок со словами «Аu grand Voltaire!». Соскоблить три последних буквы, приказал консул, не Вольтеру, а «Великому Вольте!», так будет правильнее! Жаль, но не удалось встретиться с Давидом — бывший якобинец превратился в придворного живописца. Классицизм, уравновешенность, некоторая ходульность и чуть надрыва в холодной оболочке — что еще надо для преуспеяния там, где энергичные новички показывают мускулы? Побольше лаку и плоти, впрочем, больше некуда!
«Кенсульта».
Пять дней скакали кони, но Вольта не заметил, как дормез миновал 58 дорожных станций, он изучал 26-страничное письмо Марума позже ставшее статьей в «Анналах химии».
Из Мюнхена писал восторженный Пфафф: «Мой уважаемый друг и метр! Ваши идеи прекрасны. Гумбольдт и Риттер уже повторили все опыты. Вы как Колумб и Америго Веспуччи открыли новый материк физики, его я давно предлагаю назвать «Вольтаизмом», но коль Вы против, пусть именуется «Электричеством металлическим» или «Электричеством Вольты» в дополнение к электричеству простому. И ради науки, и для анонса я хочу издать все Ваши труды, письма к Вассали, Грену и все из «Анналов Бруньятелли». Что ж, Пфафф был прав: одно дело электричество «стоячее», другое — бегущее по проводам.
Законодатели, числом в пол тысячи, уже съехались. 8 декабря пришлось выступать. Из знакомых — Москати, маркиз Порро, архиепископ Милана, павийские коллеги Мангильи, Рейси, Бутурини и Джанорини. Спешно примчались Шапталь и Талейран, Марешальди остановился в роскошном отеле «Прованс» за 150 франков в сутки, делегаты в дешевых «Норде» и «Вилле». Пришла золотая медаль от Гаюи. Шапталь прислал шесть тысяч франков по декрету Бонапарта. Для самого консула покои приготовили в Коллегии иезуитов, там и откроют Ассамблею, все оцепила полиция.
Бонапарта едва дождались, но вот отшумело открытие, пошли будничные заседания. Вольта встретился с Тромбеттой и его женой, изучил окрестности, а делегаты вслух завидовали любимцу Бонапарта и Шапталя: вместе с графом Мельци ему пророчили сенаторство с сорока тысячами жалованья, шутка ль!
Дождило, как в Париже. Вольта скучал о жене, детях, часами вышагивал по набережной Роны, с экскурсией попал в школу ветеринаров. Новый год встретил блекло. 3 января 1803 года Одье из Женевы известил о вводе почетным членом в Общество естествоиспытателей. От Петье, французского посла при Цизальпинской республике, спешно вручили ордонанс о создании на Ассамблее Чрезвычайного совета из пяти секций. Вольта попал в первую, где собрались бывшие австрийские владения вместе с епископствами Павии, Кремоны и Лоди. Во второй, папской, президентом стал Альдини. Еще венецианская, моденская, Пьемонт с Валтеллиной. Стало быть, и Пьемонт аннексирован?
11 января вернулся Бонапарт. «Грандиозно, он со всеми говорит». Речь консул произнес по-итальянски, делегаты в восторге, предлагает всю Италию сделать республикой, хотя в Тоскане еще свой король. Обеды у Шапталя и Талейрана, Бонапарт всюду с женой.
Вместе с Мурачи Вольта попал в избирательную комиссию. Проголосовали дружно, все за республику, Бонапарта президентом. Перед и после выборов роскошные обеды в отеле «Европа» на набережной Роны. Музыка, фейерверки. А что случилось»? Ничего, только аннексию оформили.
Вдруг, как четыре года назад, грянули холода, снег и град. Ревматизм измучил, Вольта слег, но от круговерти событий не спасала даже постель: Медицинская школа Парижа назвала Вольту почетным членом, нетерпеливый Дандоло из Варезе прислал свою рукопись «Основ физико-химических наук». Арестовали настоятеля родного Санто-Донино. Вольта хлопотал, бегал, ручался, ведь у него оттуда акт о рождении.
10 февраля разъехались. По пути встретил слугу Джузеппе, он мчался навстречу, с ним стало куда удобнее. Неделю провел в Шамбери, потом добрался до Женевы и там слег. Посетил болящего старый Неппер, потом мадам Соссюр, Джузеппе заботился о хозяине с трогательной искренностью. Отовсюду шли известия про вольтов столб: Тингри разложил сланец, Скарпеллини в Риме построил «корону сосудов», виденное ли дело?
В конце марта в Амьене англичане согласились освободить Египет и Мальту, а еще торговать с Бонапартом, если он перестанет изнурять Европу военными аферами. Консул ликовал. Теперь можно выздоравливать, опасения о скором конце света не сбылись. 18 апреля Вольта еще был в Женеве, со всеми раскланялся, через неделю уже в Милане. Встречи, объятия, разговоры. Хватило на месяц, тут еще Бонапарт с внешних дел переключился на внутренние, новости так и сыпались, тут уже не Талейрану, а Шапталю пришлось крутиться волчком!
16 мая учреждена сказочная премия в 60 тысяч франков «за объяснение явлений гальванизма и электричества, где Франклин и Вольта уже совершили практически все возможное»! 19 мая декрет о новом дворянстве — Почетном легионе! 2 августа, плебисцит: Дёко и Сийеса в отставку, Бонапарта в пожизненные консулы, жалованье ему поднять до гигантской суммы — 6 миллионов франков — в двенадцать раз выше, чем прежде. Эмигранты получили амнистию, на Гаити вновь установилось рабство, вместо слов «гражданин» и «гражданка» вернулись обращения «мадам» и «месье». И теперь уже не гражданин Бонапарт, а Наполеон! Неслыханно: по имени только королей зовут, а этот ловкач играет в республику, а сам заложил новую династию! Карно не согласен? Вон его! Отныне 15 августа, день рождения, будет национальным праздником: всего 33 года, а уже добился! И домашние дела решены: бесплодную Жозефину — сын Эжен Богарнэ от первого брака не в счет — наградить четырьмя фрейлинами, мадам де Сталь вон из Парижа, 10 тысяч экземпляров ее «Коринны», итальянского романа с наглыми сладострастиями, — в огонь, ее любовника Констана вон из Трибуната!
На фоне будущего властелина текущие дела Вольты казались малозначительными. Он подал в правительство Итальянской республики записку об электрической природе землетрясений (сам Вилла просил, итальянский Шапталь!). Марум карабкался по Альпам; Вольта обещал Фанди в Лион прислать семян и книг на хорошем тосканском; надо представить Сенебье едущего в Женеву Альдини.
Падре Раканьи срочно сообщал, что в Брера свободна кафедра метеорологии, приглашал на нее, если не минула охота. Они там сделали вольтов столб, Романьози из Тренто 3 августа всех удивил. «Приготовив столб по методу синьора Вольты из круглых пиастров меди и цинка, он проложил фланелью каждую пару и залил водным раствором нашатырного спирта, после чего соединил полюса серебряным проводом с магнитной стрелкой, подвешенной на стеклянном изоляторе. При соединении цепи стрелка повернулась поперек провода, а под проводом перевернулась, указав в обратную сторону. Опыт поставлен еще в мае, повторен при свидетелях».
Вольта дочитал, сложил лист «Газетты Тренто»; молодец адвокат, все как надо, даже стеклянные изоляторы, давняя находка! Через 42 года заметку перепечатает Майоччи в своих «Анналах», через 146 лет Ферми разыщет строчки соотечественника, упустившего приоритет. В 1820 году в июле Эрстед из Копенгагена, а в сентябре Делярив в Женеве переоткроет эффект, объяснив его, a Романьози, вот скромник, только зафиксировал факт!
Через год после этого опыта (1803) Вольта все же разыскал Романьози в Пьяченце, заехав туда с Аморетти, Бруньятелли и Реджи. Хозяин уже получил кафедру права в Парме, физику бросил, едва начав, но с радостью угостил гостей обедом, показал установку, а Вольта рассказал про свою теорию и оставил рукопись для пармского «Журнала моей жизни».
А Вольта стал знаменитостью: еще в августе 1802 года его избрали болонским академиком. «Слава Европы, редкий талант, удивительные достижения» — так писали коллеги Гальвани то ли из приличия, то ли остыв со временем. Быть может, повлиял и фавор Наполеона, теперь уже скоро Наполеона Первого. 5 октября Вольту декретом ввели в Институт Италии с пенсией шесть тысяч лир, а еще Скарну, Москати, Дандоло, Фонтану, Бруньятелли.
Перелом судьбы.
Появление французского генерала самым катастрофическим образом изменило судьбу Вольты. Как сказали бы астрологи, звезда Бонапарта сбила с курса звезду Вольты и вовлекла ее в свою орбиту вместе с мириадами других.
Причина этого рокового влияния совсем не случайна. Каждому было видно, как поразительно схожи эти люди, высокий худощавый и низкий плотный. Комо и Аяччо — похожие захолустья. Их отцы — словно братья. Один, Филиппе Мария Вольта, умер в 49 лет, второй, Карло Мария Буонапарте — в 40. Глубоко католические семьи. Алессандро был четвертым, Наполеоне — вторым сыном, опекали их старшие братья Луиджи и Жозеф, у обоих по сестре, воспитали их долго жившие мудрые матери Маддалена Инзаги и Легация Рамолино. В обеих семьях с голоду не умирали, но кошельки монетами не распирало.
Оба в подростках переболели идеями Руссо, оба мечтали про освобождение родины от захватчиков, Ломбардии от австрийцев, а Корсики от французов, оба смолоду баловались стихами и драмами, оба преклонялись перед естественными науками. И того, и другого содержать было некому, кроме самих себя. Вольту учили иезуиты, Бонапарта военные, и потом их судьбы шли как бы параллельно: комовец служил в Павии, корсиканец в Лионе.
Не будет преувеличением сказать, что Наполеон — это неудавшийся Вольта. Резкое несовпадение судеб молодых грамотных провинциалов, привыкших к запахам земли и к откровениям книг, началось с того времени, когда Наполеона, такого же домоседа, как Алессандро, бурные события изгнали с Корсики. Дом оказался разрушен, едва удалось спасти мать от бедствий вспыхнувшего на острове междоусобия. «Теперь эта страна не для нас!» — плакала мать, Летиция Буонапарте. А Вольте удалось остаться в Комо, и он, хотя и наездился больше некуда, всегда знал, что ждет его дом в родном краю.
И внешне эти люди схожи: смуглокожи, вспыльчивы, влюбчивы, сентиментальны, к тому же быстры, талантливы, решительны, трудолюбивы, вставали рано, ходили много, в еде непривередливы. К обоим отрезвление пришло в 1793 году, оба издали ужаснулись «танцам жертв гильотины». И семьи они создали почти одновременно, Бонапарт лишь двумя годами позже.
Ноябрь 1799 года стал переломным в биографиях и того и другого: Вольта построил столб, а Бонапарта Директория сделала консулом. С того времени отношения «двойников» преобразились, молодой повлек старшего вверх, навсегда оторвав от науки. Долгим изнурительным трудом завоевал Вольта место в науке, но метким «выстрелом» Бонапарт выбил ученого из науки XIX века.
Не сразу Вольта распознал в большом человеке своего «врага», да и тот искренне считал себя благодетелем. Увы, военный «украл» у физика 20 лет активной жизни, для науки Вольта словно умер. Он продолжал преподавать, но с удовольствием окунулся в политические воды, насладился свершением честолюбивых мечтаний, но, когда мишура развеялась, Вольта ужаснулся: научная почва ушла из-под ног, он сам толкнул тарантас и сам же не успел на него вспрыгнуть!
Если циркулем начертить полукруги радиусом примерно в тысячу километров и с центрами в Аяччо и в Комо, они почти закроют друг друга. Сорвавшись с привязи, бык кружит у загона, вот и Бонапарт подсознательно тяготел к Корсике. Тулон, Лион, Генуя, Неаполь — вот зоны его особой активности. Париж, Брюссель, Мадрид, Вена — вторая, более далекая сфера, менее покорная, а потому съедавшая уйму времени. Что касается третьей, самой далекой зоны, она уже не покорилась Бонапарту, несмотря на его отчаянные наскоки: вечно ускользали Португалия и Испания, лопнули потуги перебраться через Ла-Манш, после жуткого краха египетско-сирийской авантюры полное фиаско в далекой России, поставившей крест на метаниях шустрого честолюбца. Вольте не повезло, он попал в самую горячую зону Бонапартовых бросков.
Вольте не повезло еще потому, что Бонапарт уважал ученых вообще и благоговел перед Вольтой в частности. Наконец, суеверный Бонапарт искренне верил, что Вольта приносит ему счастье, а потому как бы избрал его своим талисманом. Еще бы, столько общего, вот бы кем стал корсиканец, сложись судьба поудачнее! Тут бы он берег себя, не стал бы ежечасно рисковать головой. А мудрый Вольта, шедший столь правильным путем, поскользнулся, он соблазнился кривой тропкой Бонапарта. Он был готов к такому вывиху, люди вокруг только и жужжали о процветании и богатстве знатных. Ах, совсем не золотом оказалось то, что блестело!
Хватит разбрасываться!
Приход нового века заставил задуматься: в 55 лет Вольта построил превосходный «двигатель электричества», можно успеть и еще кое-что. Но для этого нужно время, нужна свобода от рутинной службы. Сразу после дня рождения на стол имперского комиссара Кокастелли при итальянской армии легло заявление: «Эччеленца! Обращаюсь к вам с просьбой о назначении мне почетной пенсии от австрийских властей. У меня большая семья, жена и три маленьких сына, имею стажу 20 лет, но приходится ездить между домом и работой».
Вольта излил все: много научных дел, а сколько заслуг и признания, множество публикаций о тепле, паре, погоде, электричестве, в том числе животном, за что удостоен лондонской медали. А просьба самая скромная: дать обычную пенсию и если нельзя дать полной отставки, то хотя бы перевести в Милан с учебной нагрузкой в школе Брера. Согласен вести астрономию, ведать библиотекой или музеем, читать физику или любую науку, хоть инженерию, агротехнику, медицину, хирургию, теорию и эксперимент. А заменить Вольту в Павии вполне б смог барнабит падре Раканьи.
Пока австрийцы думали, пришли французы, пришлось начинать сначала. Еще раз не переломить биографию Вольта решился в конце 1801 года. Парижские академики помогли Вольте взглянуть на себя со стороны: ему выпал редчайший шанс подарить миру невиданный ранее источник электричества, не порциями, как от банок и электрофоров, а непрерывным потоком. Не зачерпнуть, а направить реку в нужное место, как Гераклу при очистке авгиевых конюшен. Растрачивать себя не на науку? Для электрического Геркулеса роскошь непозволительная!
В декабре 1801 года первый консул, по рапорту Шапталя, выдал Вольте шесть тысяч франков. Про отставку вроде бы решено в школе Брера уже ждут, но еще год никаких перемен.
Ну что будет делать в этой дыре Комо, возмущались в правительстве. Нет, упирался Вольта, бомбардируя заявлениями министра внутренних дел, я гражданин Комо, но хочу в Милан, мне 56 лет, 28 отданы службе: в гимназии 4 года, в университете 24, преподавал, заслужен и т. д.
В октябре министр решился отказать Вольте («Школа Брера плохая, вашему профессорскому амплуа не соответствует») и тут же сообщил, что Вольту избрали в Итальянский Институт, так что надо ехать на сбор в Болонью. Ну нет, капризничал светоч европейской науки, за Институт спасибо, в Павию больше раза-двух в неделю ездить не могу, и то не больше двух месяцев подряд, и еще раз нужна пенсия.
Министр спрятал эмоции и сообщил, что сбор Института переносят на январь, а Вольта в пику вернул в публичный фонд 2883 лиры, полученные еще в 1799 году от австрийцев. От выборных должностей он отказываться остерегся, потому выполнял исправно функции президента совета департамента Ларис, но на заседание в Болонью так и не поехал. У него, мол, еще с той зимней поездки в Париж грудь болит.
А в марте министр Вилла все же принял отставку из университета, но только на год с сохранением 2/3 оклада до окончательного решения. Да разве о том мечтал? «После заграничной поездки, — жаловался Вольта, — везде, особенно в Германии, о столбах печатают, их строят, а наши манкируют. В этом лежит повод просить отставки у правительства, хотя отслужил 28 лет, мотивы о здоровье и семье уважительны. В Германии все медики просто схватились за гальванизм и мой двигатель зарядов, чтоб лечить разные болезни во многом успешно. Печатают и во Франции, даже создали Гальваническое общество. Почему ж в Италии этого нет?»
Обида точит. «Не печатают, — жаловался он Гильберту на правительство, — по секрету скажу, что хочу в отставку, а они ссылаются на закон, требующий еще двух лет выслуги. Надо 30, а у меня 28, но ведь я работал с перегрузкой, к тому же мне дали 6000 премии и медаль, совсем новая отрасль науки, а они…» (25 марта 1803 г.).
Странное недоразумение! Никто не хотел Вольте зла, французских министров и итальянских политических марионеток вполне устраивал Вольта именно таким, каким он был: ученым, профессором, членом многих академий. Власти не собирались и не хотели ничего менять, ибо сам Бонапарт как бы зафиксировал Вольтов статус-кво. Вольту тоже можно понять: со всех сторон его заверяли, что он гений, реальным подтверждением служил столб, его можно потрогать, нет числа желающим поиграть с диковинкой. Изобретатель хотел внедрения, а у французов полно своих забот, павийскому болоту лишь бы сплетничать, в пику победителю Гальвани болонцы умыли руки. Лишь далекие от здешних: страстей ученые из Киля, Веймара, Геттингена и других дальних мест занимались наукой, но не они делали погоду. У великих великие заботы, малые их не трогают, кто ж поможет Вольте? Некому, и он обиделся, надулся, начал ворчать, вставать в позу по любому поводу и без повода. Перед кем? Неважно, на этот раз перед французами.
Ревизор.
Когда могучий человек простаивает, заботливая власть обязана загрузить его общественно полезным делом. 15 апреля 1803 года миланский префект Казатти сообщил, что Вольта назначен ревизором печати, цензором. Хлынул поток служебных бумаг. «Необходим максимальный надзор за печатью, чтоб исключить появление в Комо публикаций с выражением мнений, противоречащих существующей системе», — предписывали Вольте имеющие власть.
И других дел хватало. Секретарь Гарнье сообщал из Женевы о внезапной смерти милого префекта Д'Эймара, его хорошенькая женушка тут же укатила в Париж. Впрочем, продолжал секретарь, тут вышла книга Дюпуа про савоярку из Фэрне, любовницу Вольтера, ее можно выгодно продать во Франции, советую, вы католик, хорошая репутация, ваше имя придало бы делу необходимое «экзальте».
Но не до того. Вместе с женой и братом пришлось срочно пересматривать соглашение с Боттой (братом той несчастной!) о сдаче в аренду земли под виноградник. Брат Джованни уже взял аванса 300 лир, но передоговорились с Мугаской, полюбовно и наверняка, тот дал аванса 450. И вновь (15 мая) заявление к Висмаре, заместителю министра: «Уже прошел назначенный год, я не могу служить, прошу дать отставку. Со времени поездки в Лион я болен, медики прописали соблюдать диету, но этому препятствуют лекции, опыты, публичные демонстрации. Для езды в Болонью приходится отвлекаться ради заседаний Института, а уже набрались нужные 30 лет».
В мае магистрат ревизий буквально взорвался на мине двухтомника Мариезини, 1796 года издания, «Любовные диалоги академика», книга, мол, полна недопустимых инсинуаций насчет военной службы. Цензору Вольте надлежит принять любые меры для недопущения появления и конфискации крамольного издания! Понятное дело, чиновники развлекались, доводя до абсурда указания свыше: про любовные диалоги академика кому ж читать, как не греховоднику академику Вольте!
А магистрат ревизий все слал инструкции, нормативы, циркуляры и кодексы запрещенных книг. Французы только создавали аппарат охраны государства, цензуре надо было выпалывать идейные сорняки. Приходилось облагать пошлиной и проверять ввозимую литературу, перлюстрировать официальную почту. С июля на территории Итальянской республики вводилась в действие «Проверка мотивов противодействия епископальной деятельности в публикациях веры». Эта инструкция (Болонья, 1800) предписывала без лишних церемоний предавать огню книги, если они того заслуживали.
В сентябре Вольта как президент совета департамента информировал членов городской комиссии Комо по прессе и трибуналу о процессе по делу анонимного автора «Бунта на сковородке», потом пришло сообщение о запрете книги Харни «Фанатизм революционного языка», о сомнительности сочинения Буччи про собственность. Со стороны ревизорская служба казалась пустяковой, но на деле приходилось работать до изнурения. Сказывались не только внутренние брожения, но еще подавление Швейцарии, конкордат. Во Франции и вассальных странах уцелела лишь одна из каждых десяти газет, расплодились осведомители, вдруг выявились многие заговоры. Ищеек награждали, хотя прямо сказать — до австрийского сыска им было далеко,
Активный мир.
В лаборатории и на лекциях, дома и в университете Вольта исступленно работал, боясь досуга, чтобы не думать о постороннем. Стоило дать волю мыслям, как начинало колотиться сердце, не хватало воздуха, он готов был зарыдать от счастья. Какой восторг, какие пики идей он покорил, куда там Альпам!
Действительно, испокон веков материю считали мертвой, ею двигали духи, ангелы, бог. Великий Ньютон думал так же, лишь специальным словом «сила» обозначив то же самое божественно устроенное влияние. Вольта имел смелость доказать: эти силы разлиты везде, ими заряжена каждая капелька тленного мертвого праха. Впрочем, еще Галилей говорил о присущей каждому телу инерции, присущей, а не навязанной со стороны сверхвнимательными надмировыми контролерами.
Те, кто первым заметил электризацию трением, невзначай приоткрыли люк в бездны материи. Но лишь он, Вольта, понял, сколь много живой воды в этом: бездонном колодце. Именно он, кого надменно кличут низменным экспериментатором, недостойным войти в храм мыслителей, понял одухотворенность всей якобы мертвой материи, что и дало ему мужество построить электрофор, а теперь еще столб.
Как же не понимают все они, что мир деятелен сам по себе. Вот и Гальвани с разумом, плененным древними догмами, считал, что якобы мертвое тело заряжено жизненной силой, а физики лишь научились возмущать божественные заряды. Но нет, тело не манекен, оно до краев полно «энтелехии», как говорил Аристотель.
Неужто бог не снаружи, а внутри, расчлененный на множество долек, спрятанных в прахе? Если атеисты признают Природу, то они верят в бога, распределенного везде, в отличие от них католики верят в бога наружного. Велика ль разница? А он, Вольта, приучен к образу бога внешнего, но своими открытиями пришел еще как бы к богу внутреннему, и его одолевали тревожные сомнения: неужели он дважды верующий?
Что, если бог внутри, а зовут его электричеством? Электрофор давал лишь вспышки света, но столб настежь распахнул окно. Впору хоть основать новую религию, но нет ни сил, ни желания, очень уж много видал он пройдох-чудотворцев, да и устал, взятый темп был великоват.
Афера в Санкт-Петербурге.
На рубеже XVIII-ХIХ веков в России, как обычно, было неспокойно. В 1796 году умерла Екатерина II, ее преемник Павел I, потрясенный убийством своего отца Петра III с ведома матери, боялся заговоров смертельно. Царь то посылал войска для обуздания французов, то надумал закрыть наглухо границы для въезда людей и ввоза идей и вещей, а заодно порвать с англичанами. Их месть не замедлила настигнуть монарха. Он был убит заговорщиками, за спиной которых стоял английский посол лорд Уитворт. На престол взошел Александр I. Сложная жизнь заставляла начинать круто: в России сразу легализован орден иезуитов, чтоб заткнуть католической пробкой масонский поток. Черные сутаны в Комо ликовали, и не зря: через три года орден возродился на юге Италии, а в 1814 году вернулся в Рим.
В напряженной обстановке россиянам было не до науки, она шла вторым планом. Санкт-Петербургская императорская Академия наук была старше Вольты всего на 21 год, и она привыкла влачиться за Европой, ибо с первых дней там царили, соперничая между собой, немецкая и швейцарская партии. Блеск поистине великих одиночек академии заслоняли бездарности, склонные к интригам, наподобие пресловутых противников Ломоносова — Шумахера и Тауборта. В начале XIX века застой в делах научных явственно ощущался в академических стенах. И тем не менее именно здесь, в Петербурге, в исследовании «текучего» электричества был сделан важный шаг. О вольтове столбе здесь узнали в 1800 году. О новинке сообщил тогдашнему президенту академии барону Николаи из Брауншвейга проведший почти весь свой век на чужбине ученый-дилетант князь Д.М. Голицын. Он писал: «Гальванисты открыли чрезвычайно любопытное электрическое явление. Цинковые пластины, расположенные попеременно с серебряными и разделенные влажной фланелью, вызывают удар и даже электрическую искру. Впрочем, по-моему, все это не является новостью, в третьем письме Вольты Грену сказано, что, применяя одну оловянную и одну серебряную пластины, можно в одно мгновение на первом из этих металлов получить положительное электричество, на втором — отрицательное».
Ровно через год граф А.А. Мусин-Пушкин показал петербургским академикам опыты со своим столбом из полутораста пар серебро — цинк с рубль размером, столб давал потрясения или свет даже в закрытом глазу. Тогда же, вдохновленный увиденным, начал строить большую батарею Василий Владимирович Петров — пока еще не академик, а профессор Медико-хирургической академии.
Для приватного употребления господами в Петербурге уже строились штучные гальванические приборы в ларцах из красного дерева с инкрустацией слоновой костью и с серебряными цепочками, но профессор экспериментальной физики Медико-хирургической академии решил построить столб не красивее, а побольше, чтоб действия были заметнее. Как и Вольта, он преподавал общий курс физики, для чего скомплектовал для студентов лабораторию с электроприборами, магнитами, оптикой, тепловой машиной, Смитоновым воздушным насосом, в Петербурге как раз в эту пору вышла его книга по физико-химическим опытам. А любовью Петрова было горение. Вслед за Ломоносовым антифлюгистоник Петров страстно доказывал, что при соединении: кислотворного газа с веществом родятся и огонь, и тепло. У «огнелюбца» Петрова главными орудиями были зажигательные стекла и зеркальца, что и у парижских академиков, теперь же им на смену пришел огонь электрический.
По типу небольшой приобретенной батареи Петров построил огромную из 2100 пар медь-цинк. В январе 1802 года после того, как граф Мусин-Пушкин показал публике свой столб из 150 пар, Петрова, несколько авансируя доверием, избрали членом-корреспондентом Академии наук. В апреле заработал его столб, еще через полтора года вышла в свет ого книга «Известие о гальвани-вольтовских опытах» с описанием опытов поистине удивительных, но тут же глухая стена умолчания отделила от мира все, что было связано с русским физиком. Только через век о нем вспомнят потомки, наткнувшись на его труд почти случайно.
Дела обстояли так. Не любили Петрова: он гнушался математики, не видя народной пользы в абстракциях. Когда в 1802 году Наполеон объявил конкурс «Отыскать истинную причину электрической силы и составить точную ее теорию», Петров прямо заявил: «Надо искать источник электрических явлений не в умствованиях, к которым доселе только прибегали почти все физики, но в непосредственных следствиях самих опытов». Поистине Петров с Вольтой — близнецы по духу и делу!
Но пренебрежения математикой мало. На каждом шагу Петров славил Ломоносова, объявлял себя верным последователем его, в могилу безвременно сведенного. Петров (как не стыдно!) торговался на рынке, покупая для своего столба металлические кружки и не стесняясь писать в научной книге об экономии народных денег. Нет, высокоученые математики никак не могли включить воинствующего плебея в свой круг, ему перекрыли все пути.
А что ж Петров? Российская Академия не для русских, потому он напишет книгу по-русски и без формул, пусть «варяги» поплавают в чужом славянском языке. Они и поплавали, в книге не разобравшись.
Петров понимал причины дискриминации. Знаток латыни и западных языков, он, выходец из курской глухомани, писал на русском сознательно: «Поелику я природный россиянин» и «наипаче для пользы тех читателей, которые живут в отдаленных от обеих столиц местах и которые не имели случая приобрести нужного понятия о сих предметах» в Петербургской академии.
Про засилье иностранцев в Петербургской академии Европа знала, но кому ж было ведомо, что академик Крафт возражал против избрания какого-то Петрова в члены-корреспонденты, что годом позже он же вопреки своей прямой обязанности не представил академикам петровскую книгу. В 1804 году по всей Европе разошлось Крафтом составленное извещение на немецком языке про конкурс о природе света. Желающие могли писать, как призывало извещение, и «про гальванический огонь, ослепительный блеск коего в случае большого вольтова столба и обугливания веществ до известной степени подобен солнечному свету».
Старый Крафт учил Запад, как переоткрыть вольтову дугу, Петровым обнаруженную, а дирижировал событиями ученый секретарь Фусс, женатый на внучке Эйлера и тоже помогавший старцу. 3 октября 1803 года Альдини запросил Петербургскую академию о новостях, желая написать книгу про гальванизм. Фусс рекомендовал второсортные работы, а о Петрове умолчал, хоть про столб и эффектные опыты уж все знали, а через месяц петровская книжка поступила в продажу.
А 24 декабря того же года Альдини прислал письмо Вольте. Он передавал приветы от Бэнкса, Кавалло, Марума, писал об интересе публики к столбу, про великий вклад итальянцев Гальвани и Вольты в науку. «…Еще надо упомянуть о грандиозных исследованиях, столь своевременно выполненных в прославленной императорской Академии Петербурга с помощью вашего аппарата. Подробностями располагает постоянный секретарь сеньор кавалер Фусс, но для вашего сведения сообщаю, что будет какое-то надувательство».
Так и вышло. Петров построил крупнейший столб в Европе, он разложил током многие вещества, пропускал ток через рыб, лягушек и кроликов, плавил металлы, открыл электрическую дугу. Какие-то слухи бродили, но одних слухов недостаточно, да и, правду сказать, своих забот Вольте хватало.
«Одумайся, друг!»
Во все времена люди ждут чудес. В 1804 году пришлось заняться «рабдомантикой» («домашним безумством»), когда палочка сама собой крутилась в руке. Нет, уверял трезво мыслящий профессор, не обманывайте себя и других, палочка эластична, тепло руки заставляет ее вибрировать, в ней могут быть включения металлов, сказывается разбаланс по весу. Профессор знал, что говорил, его руки помнили несчетное число опытов с металлами, газами, жидкостями и деревом.
К тому же проницательность его была поразительна. В школах будут учить законы и ряд Вольты, но идеи о контактном электричестве никто не считал сногсшибательными. Только в конце XX века им займутся всерьез, появятся нобелевские лауреаты по изучению электрических сил, порожденных касанием металлов. Вольта говорил про это настойчиво, но глубокая порядочность мешала рекламе, так что скромность кое-кто принимал за фарисейство, усвоенное от иезуитов.
Нет, такой напраслины Вольта не заслуживал. Он сам предложил назвать «гальванизмом» раздел физики, более отвечающий слову «вольтаизм». Про высокую научную компетентность Вольты, его человеческую порядочность говорили Кастберг, Ваше, Делюк, Мартене, Гильберт, Риттер, Ван-Монс, не говоря уж о друзьях. Женевец Сенебье, тот даже скучал без приветливого комовца: «Что долго молчишь? Лучше переведи нам три мемории Спалланцани, они так логичны и оригинальны, и еще надо б про твой столб. Свет твоего гения словно погас для нас. Вассали с компанией сделал кое-что, но ты единственный, кто мог бы пролить свет знаний» (август 1803 г.).
Хотя Вольта дулся на Павию, однако там его ценили и обходиться без него по могли. В 1802–1803 годах Вольту замещал Стратико, «но нет, — напоминал Вольте министр внутренних дел, — в новом учебном году надо бы возобновить курс экспериментальной физики; хоть ты и согрешил с Висмарой насчет перерыва в службе, но яви свое чело народу, студенты требуют».
А избрание Вольты в Институт Франции? В объективности тайно голосующих ученых сомневаться не приходилось. В марте 1802 года его поставили на очередь с Уаттом, Гершелем, Далласом и Масканьи, в сентябре уточнили список (Уатт, Кавендиш, Вольта, Даллас, Масканьи, Юнг), через неделю Кавендиш набрал 159 голосов, а Вольта — 135. Еще в ноябре он был шестым, но тут вместе с Дандоло они опубликовали отличную работу о столбе на проводниках второго рода, и его акции резко пошли вверх. В августе 1803 года список выглядел так: Вольта, Масканьи, Клайрот, Вальтер, Уатт, Земмеринг, Жакье и Скарпа, а на выборах 5 сентября Вольта получил абсолютное большинство.
18 фрюктидора XI года председатель Шапталь, секретари Кювье и Деламбр с одобрения первого консула зафиксировали избрание Вольты иностранным членом Института. Почти автоматически последовали менее важные почести: через месяц членство в Гальваническом обществе Парижа, затем в Институте Италии с пенсией, потом еще медаль Института Франции (8 февраля 1804 г.).
Среди приятных хлопот Вольта не забывал о старых друзьях. «Ездил в Германию, Францию, Англию, Шотландию, — писал ему Франк. — Ваша рекомендация к Бэнксу отлично сработала, а медики высоко оценивают ваш столб. Я помогал Дэви, он синтезировал двуокись азота, и Альдини, он пишет книгу и служит в больнице, лучше заработаю 30 фунтов, шутит он, чем всю жизнь ждать медаль». Тогда, кстати, в Париже и вышли в свет книги Альдини и Сю по гальванизму.
В те годы на электротерапию с помощью столба надеялись многие. «Помогите излечить тугоухость, — взывал к Вольте капитан Бусье из Вероны, — заработал злую лихорадку в Венгрии, испробовал все средства, последняя надежда на вас. Мне 55, но я крепок, все органы в порядке».
Жизнь летела в заботах о столбе, о семье, студентах, Институте, а тут еще озадачил Джовьо. «Мой соотечественник, — начал он однажды, — как быстро летят годы, и никакие силлогизмы не в силах уничтожить диалектику. Мы живем в удивительной стране, здесь воздух будто набальзамирован, все пропиталось цветами и травами. Ведь мы несем заряд античности, вспомни, получив брошюры о родине. Когда разум бессилен, доверься импровизации, а ты что-то впал в политику. Кариссимо Вольта, лучше рискни, как советовал Данте, описать глубины первооснов. Впрочем, что говорить, ведь друг становится врагом особенно опасным, поскольку душа твоя обнажена на его ладони». Спасибо, дружище, холодновато отвечал Вольта, твои опусы передам в библиотеку.
В 1803 году случились небольшие неприятности. Из-за просьбы об отставке проверяли послужной список, когда, кем и с кем служил. Кто-то неизвестный через канцелярию цеплялся за учебу в школе иезуитов. Вольта защищался бумагами: с подписями Фирмиана, Вилзека, вытаскивал старые характеристики: уверял, что он не иезуит, но не слишком, чтобы не озлобить их, опять входящих в силу. Тут некстати к нему приехал испанец Д'Азала, натуралист и путешественник. Он когда-то поставлял продукты в иезуитское государство в Парагвае, но я тогда был младенцем, объяснял Вольта, а с Д'Азалой мы обсуждали его книгу «Опыт по натурфилософии», где он написал про тамошних четвероногих. Ведь я сотрудничал со Спалланцани, живой мир мне близок и по моим электрическим занятиям.
Глава шестая (1805–1817). ЛЮБИМЕЦ БОНАПАРТА
Наконец-то на Вольту хлынул золотой дождь: деньги, звание сенатора, титул графа, академические грамоты! Шлюзы признания распахнул сам Наполеон, счастливый Вольта яхтой плыл в кильватере могучего судна, но от бедствий не уберегся: один за другим умерли оба брата и любимый сын. Преуспевший профессор метался в растерянности, он грустил по близким и радовался наградам, читал лекции и оплакивал ссыльного императора, служил в муниципалитете и опекал Сильвио Пеллико и Уго Фосколо — опасных карбонариев, ибо только в молодых идеалистах видел последнюю надежду на освобождение Италии.
Разминулись!
До чего ж славно начинался 1805 год! Вольта не успел оглянуться — уже апрель. 5-го числа прилетело письмо от Гумбольдта: «Жаль, что мы с Гей-Люссаком не застали Вас в Павии, выбравшись из Рима в Милан, но с ним едет один химик, он явится к Вам лично и расскажет про Париж. Хотели заехать на несколько часов, потолковать об астральных гемисферах, но Бруиьятелли, Скарпа и Москати сообщили, что Вы отбыли из Павии в Комо.
Не будете-ль в ближайшие пару месяцев в Риме, а то после Парижа с гальваническим электричеством вас не видно? Быть может, в Англии публиковалось что-либо дельное, а мы в Париже проморгали? Лапласа и Бертолле интересует то же самое. Мой адрес в Риме: барон Александр Гумбольдт, дом министра Пруссии. До 29-го будем здесь».
Ах, как Вольта обрадовался письму и как огорчился несостоявшемуся рандеву! Ведь 8 лет назад этот веселый сангвиник был в Комо, восторгался работами Гальвани и Гей-Люссака, и у Вольты сегодня готов обзор публикаций по электрометрии. Какой редкий человек, всех обольстил при испанском дворе, что за эманацию излучает?
С расстройства отчитал Аралди: сидит там, в Болонье, не мог дать на конкурс Вольтову тему о животном тепле, ведь куда как важно, а в первый том актов Института вполне б поспела мемория о свойствах пара. Все четыре предложения Вольты годятся, про тепло скрытое и свободное, об угле и его окислении. Конечно, кислород можно связать не только углем, но и водородом, что даст воду. И Вольта исписывал страницы, вспоминая Делюка, Пристли, Шмидта, Дальтона и рассказывая секретарю Института Италии, чем венозная кровь отличается от артериальной: кислорода в ней нет.
Встреча в Болонье.
Свиданье с Гумбольдтом он упустил в ущерб душе, и теперь прозевал второе, с Наполеоном, в убыток престижу. Началось с Ипполито, сына сестры Чиары и Лодовико Рейпы. Племянник попал в миланский комитет по предстоящей коронации Бонапарта и теперь просил у Вольты дом для светских целей. Слухи о новом короле ходили давно: в декабре прошлого года первый консул превратился в императора Франции. В Париж сразу укатила делегация во главе с вице-президентом Итальянской республики Мелци и министром иностранных дел Марешальди, чтоб найти «действенные формы устройства политической жизни Италии».
«Новая действенная форма» нашлась сразу: просить Наполеона в короли! 15 марта депутация думала и решалась, через два дня в Тюильри бросилась перед императором на колени, «отец родной» отослал в сенат («чтоб все по закону!»), государственные мужи Франции изобразили мышление и учредили итальянское королевство для «императора французов». В последний день марта из Сен-Клу отбыла вереница карет, через три недели стремительный Наполеон въехал в Турин, 3 мая в Александрию, 6 мая в Меццана-Порта, миновал границу республики, на другое утро в Павии. А Вольта — вот незадача! — сидел в Комо, ни о чем не ведая.
Программа дня у Наполеона напряженная, но посетить университет надо. Аудиенции, беседы. А где ж Вольта? Отпустили? Чрезвычайно жалко. 8 мая корсиканец в Милане, коронация прошла триумфально, республика превратилась в королевство. 26-го числа император-король уже дома, не устает кстати и некстати повторять медоточивые речи о том, как за границей любят Францию, без ее руководства, защиты и помощи существовать не мыслят.
А Вольта сиднем сидит в своем саду, подписывает в канцелярии циркуляры, веером разлетающиеся по провинции, и муссирует свои обиды, бередит душевные раны. Волна сенсаций из Павии чуть запаздывала, но вот нагрянула наконец, и семья остолбенела, пораженная невероятной новостью.
Первым прибыло письмо от Несси — у него брат служит на почте почтальоном. «У нас в университете был Наполеон, — торопился рассказать профессор, — он рекомендовал вернуть Вольту обратно. Бонапарт встречался с консультантами и министрами, в доме Ботты виделся с профессорским корпусом, от их имени Скарпа выступал. Человек, известный всей Европе, дрожал от восторга коллега, должен умирать на службе! Вот что сказал Бонапарт!»
Вольта с женой обомлели, дети ахнули, разговоры выплеснулись на улицы. А 10 мая Вольте вручили спешную депешу Скарпы. «При визите император настойчиво требовал, чтобы я, — писал друг-ректор, — передал тебе о желательности хотя бы частичного возвращения!
Он подчеркнул абсолютную необходимость, чтоб ты и я вернулись обратно. Еще никогда фортуна не была так благосклонна ко мне, как сегодня. Через три дня после этого инцидента его спутники возвратились и бросились меня тормошить, ректор, клерки, консультанты. Я заикнулся, что у тебя жена, дети и от Комо в Павию далеко, но меня слушать не стали, пригласили на обед, хвалили. А про тебя так: этот человек, мол, известен всей Европе, он предназначен учить других, а потому должен умереть на своем посту».
Вольта, оглушенный, механически являлся на заседания коллегии выборщиков («явка обязательна, циркуляр министра внутренних дел…»), слушал восторги племянника Ипполито о роскошном доме синьоры Мартиньоли, предоставленном под коронацию, вникал в малоинтересные детали пизанца Маньяни про состряпанную им вместе с Пинтотти статью о гальванизме.
Но вот форс-мажор! Через секретаря Ваккари Наполеон приглашает Вольту 23 июня на коронацию, просьба прибыть к министру внутренних дел заблаговременно! И завертелось. Муниципалитет Комо срочно вводит Вольту в депутацию («Ведь Вы вместе с графом Джовьо 15 мая 1796 года уже приветствовали императора при входе в Милан»), жена заставила нацарапать ответ с благодарностью от всего сердца, Аральди прислал курьера о срочном заседании Института, министр внутренних дел просит Вольту быть в Болонье 20 июня, чтобы помочь Аральди организовать экстраординарную встречу императора с учеными.
10 июня Вольта мчится в Милан, на другой день он около Брешии, вот уже промелькнули Верона, Леньяно, Мантуя. 21-го числа в три пополудни Вольта в Болонье, а в шесть прибыл сам король-император с Жозефиной. На другой день прием: дипломаты, генералы, делегации, герцоги Пармы и Модены, гвардейцы, кавалерия.
Члены Института собрались в зале филармонии, обсудили переезд в Милан, послушали отчет Аральди, выслушали чрезвычайную новость — в то утро Наполеон назначил своего пасынка Евгения Богарнэ вице-королем. «Все мы представлены, — рассказывал Вольта брату, — тут все в сборе. Наполеон говорил со всеми и со мной, спросил, что я делаю, как дела с Павией, знаменитый человек должен умирать на поле боя, пусть жена и дети едут за мной в Павию и т. д. А я возразил, что моя служба не только в Павии, а скорее в Комо, но если останется время, я готов отдавать его университету».
Генерал и физик.
Может быть, корсиканец девятилетним малышом влюбился в науки из-за ревности к старшему брату Жозефу, когда в ноябре 78-го года того отослали в сказочную Францию учиться на казенный кошт, а Наполеоне остался играть на загаженном курами каменистом дворе при доме своего отца-адвоката? Может быть, Бонапарт потянулся к знаниям позднее, в колледже Отена, Бриенском военном училище или в Парижской военной школе?
У него была цепкая память, и он хорошо считал, но зато дурно танцевал, не знал языков, кроме родного итальянского и французского, плохо играл в шахматы. Вставал в четыре утра, много ходил пешком, любил буколические стихи антиков. «О, как люди далеки от природы!» — экзальтированно вздыхал бедный худощавый юноша с оливкового цвета лицом. Но разве не таков портрет мальчика Вольты, лишь повыше ростом?
«Он был страстным поклонником Жан-Жака и, что называется, обитателем идеального мира», — вспоминал брат. У них даже литературные упражнения схожи: Наполеон гордился изданным в Ницце (1793) своим «Ужином в Бокере», и Вольте было что вспомнить.
Замухрышка, генерал алькова, корсиканский интриган — шептались за спиной всходящего Бонапарта, когда в 96-м году, бросившись из Ниццы в итальянский поход, он по карнизу Альп привел армию к победе при Монтеночче, открывшей путь на Пьемонт, Турин и Милан. Но разве за четверть века до этого не бранили Вольту бабником, австрийским подхалимом, иезуитским выкормышем, когда он, самоучка, попал в Павию профессором? Кстати, он был старше Наполеона на 24 года.
На смене веков, в дни заговора буржуа против революции, Наполеон играл в ученого: он ходил на заседания Института, писал Лапласу, который с Монжем еще в школе читал лекции, а потом принимал выпускные экзамены у будущего диктатора. Получив власть, он сразу назначил Лапласа министром внутренних дел, но познавший законы мира не понимал законов мирян, а потому через шесть недель его сменили, но опять на ученого, химика Шапталя, подсластив пилюлю присвоением титула графа и вводом в сенат.
Про Бонапарта говорили, что изо всех военных он самый штатский. «Истинно сожалею, — признавался Лапласу генерал в дни лихорадочного устройства булонского лагеря ради переправы в Англию годом раньше, — что сила обстоятельств удалила меня от ученого поприща». Свою тягу к науке Бонапарт удовлетворял общением с учеными, главным образом Монжем и Карно — «человеком Разума». «А знаете ли вы дифференциальное исчисление?» — ставил он на место претендующих невежд.
Слов нет, парижские награды за вольтов столб свидетельствовали о проницательности Бонапарта, конечно, не без подсказки других, но он увидел в электричестве знамение времени.
Вольта делал то же самое, что Бонапарт, но на столе, а не на полях сражений. Итальянец как бы моделировал битвы корсиканца. Эти игрушечные бури физика можно было обозреть глазом, они были наглядными. Вольта тратил неживые кислоты и металлы, а Бонапарт, мясник исторического масштаба, проливал реки крови. Англия и Франция: да это же разные полюсы вольтова столба!
Карета науки уносится вперед.
Странный год словно распух. Время казалось полым, туда умещалось сколько угодно событий. Исчезли полутона, или, вернее, они словно нарочно чередовались, чтобы дать нулевую окраску. Будто в сумме ничего и не было.
Однако с наукой все было в порядке. В Комо приехал Фортис поговорить о морской «торпедине», Вольта как раз приготовил восковой муляж рыбы, упрятав внутрь столб. Разве не похоже? Вот только надо заменить металлы на проводники второго рода.
Жилло научился взрывать столбом электрические мины. Бруньятелли отлично вызолотил железные кругляши, при разложении воды столбом выделялось водорода вдвое больше, чем кислорода. Так родилась химическая формула воды, и помог тому вольтов столб!
Делюк написал о гальванизме для Аральди, готовившего к изданию очередной том трудов Института. Молодой Ботта, секретарь второго кантона дистрикта Комо, представил труд Дандоло «Отношение к овцам Испании», импорт шерсти казался выгодным, влиятельные персоны одобрили плакетку. Из Парижа пришла весть о кончине молодого Шаппа, всего 36, но в каком далеком прошлом был его телеграф, только что взмахами сигнальных реек телеграфировавший по маршруту Париж — Марсель — Брест.
Из Рима привезли чудесную, на французском языке изданную брошюрку: химик Гроттгус, у Фуркруа учившийся, взялся повторить вздорные опыты Пакьянини, который якобы заметил хлористый водород на положительном (цинковом) полюсе при разложении воды. Как и надо было ожидать, там собирался кислород, а на медном электроде нарастали блестящие металлические деревца, например дендриты свинца, если воду заменить свинцовым сахаром, и свинец ветвился зарослями папоротника.
Любопытно, что стеклянное электричество будто грело раствор, смоляное — охлаждало. Еще интереснее, что и «вольтов столб, который обессмертил гений его изобретателя, является электрическим магнитом, и я должен сознаться, что это было для меня лучом света», — писал автор. Частички воды, полагал он гениально, сложены из положительных и отрицательных начал, они притягиваются к полюсам столба других знаков, что и ведет к разложению воды.
«Поразительная простота закона, которому подчиняется это явление, сказывается, к нашему удивлению, на законе Вселенной. Природа не может ни создавать, ни уничтожать, так как количество вещества не может ни увеличиться, ни уменьшиться, но любое вещество без исключения подчинено взаимному обмену своих элементов; рассматривая чудесные действия электричества, которые часто происходят таинственно, хотя они вездесущи, нельзя удержаться от признания в нем одного из самых мощных средств, используемых природой для осуществления великих процессов».
Подлинные Мастера приходили на смену Вольтову поколению! Перефразировав Гроттгуса, можно было уходить на покой, оставив новичкам «бессмертный гений». Так и пришлось поступить, Вольта запустил в ход такую пьесу, что она приковала к себе весь мир, а сам драматург смотрел и думал: нелегко было поспеть за гигантскими шагами науки и сотен ее актеров. Можно было притвориться всепонимающим метром, всюду совать нос и бурчать нечто многозначительное, но этого Вольта не умел и не хотел. К тому же физические науки интересовали народ куда меньше политики, лишавшей людей не то что естественнонаучных знаний, но хлеба и даже жизней.
Приглашение в Россию.
И все же перенасыщенный событиями 1805 год продолжал приносить сюрпризы. «Месье! Мои друзья, члены Академии Санкт-Петербурга, уже давно мечтают предложить Вам войти в штатные члены своего научного сообщества, — так начиналось письмо, отправленное из Геттингена 1 июля. — Бесспорно, что Академия предоставит Вам исключительно благоприятные условия. Я высказываю свое предложение, заведомо зная, насколько сильно Вы привязаны к своей родине, что Вы никогда не предпринимали никаких попыток для изменения Вашего теперешнего положения, но данное предложение весьма почетно. И вот по просьбе моих друзей, поручивших мне выяснить Ваше мнение по данному вопросу, я и обращаюсь к Вам с этим письмом. С уважением, учитывая Ваши огромные заслуги перед всей Европой, имею честь — профессор философии Кристофоро Мейнерс».
Тут было о чем подумать. Жаль, уже нет Лихтенберга, он бы открыл глаза на подноготную. Он-то попал в Петербургскую академию, причем сразу после лондонского общества, а вот Вольту продержали в российской прихожей не два, как Лихтенберга, а уж десять лет. Стало быть, какие-то соображения русских умаляли его заслуги.
Но ехать смысла не было. Немолод, опять же Наполеон не ладит с Россией, не дай бог попасть перебежчиком на чужую сторону. И этически процедура приглашения выглядела отвратительно: здесь император публично выказывал уважение, а там, словно из-под полы, с оглядкой через полуизвестных посредников, будто что-то постыдное проворачивают. Похоже, что в Российской Академии так привыкли все делать втихомолку, даже почетное приглашение шепотом, будто в мелочной лавочке.
«Спасибо на Ваше конфиденциальное письмо, — сдержанно ответил Вольта. — Получить Ваше предложение было приятно, но воспользоваться им нелегко. Мне уже 60 лет, со мной два брата церковнослужителя, жена и три сына-подростка, я на родине, как почетный профессор и член Института, получаю пенсию 5000 франков. Чего желать более для тех лет, что мне остались? Жить в покое, отдыхать на родине и с семьей, воспитывать детей и заниматься экспериментами, которые мне хорошо известны. Ради чего бросить все это и Павию, где я уже 30 лет на службе? При других обстоятельствах, будь я моложе, и решение могло быть другим по столь почетному предложению из-за границы. А потому, многоуважаемый профессор…».
Оставалось предотвратить появление неминуемых сплетен. В пакет уложить копии писем Мейнерса и своего, туда же приписку («…и раньше, что не сюрприз, я всегда отклонял подобные предложения, ибо ценю отношение ко мне, хотя Петербургская Академия не хуже обществ в Лондоне и Германии, Институтов в Италии и Франции»), надписать адрес («Из Комо. В Милан. Министру внутренних дел Капелло ди Римини»). Ровно два года, день в день, Римини ходит в министрах, только название страны изменилось с республики на королевство.
Вольта не планировал получения награды за патриотизм, но через месяц она последовала: император Франции и король Италии Наполеон из Болоньи декретировал назначение пенсии 3000 франков в год за счет епископства Адрии «для компенсации затрат по службе и в знак проявления высочайших талантов».
Через два дня, 26 августа, новое правительственное письмо. Из Парижа граф Ласепед извещал о присвоении Вольте звания Почетного легионера с вручением ордена. Подумать только, словно царедворцу!
Подношение триумфатору.
Возложив на голову железную корону итальянских королей, Наполеон занялся Европой, которую, как, впрочем, и весь остальной мир, он собирался пригнуть под сень своих знамен.
Раздраженные властители Англии, России, Швеции, Австрии не выдержали и сбились уже в третью антифранцузскую коалицию. «Моветон», «парвеню»,[30]«наглец» лишь смеялся: первое противостояние окончилось миром 1797 года в Кампоформи, второе — в 1801 году миром в Люнневиле и Амьене. И вот 300 тысяч австрийцев двинулись на Ганновер, 20 тысяч русских высадились на остров Корфу, чтоб выбить французов из Неаполя.
Как ни старался посол Разумовский в Вене, но скованный под началом бездарнейшего из бездарных австрийского генерала Макка, Кутузов не смог предотвратить пленения австрийцев под Ульмом (октябрь 1805 г.) и их разгрома в Италии. Австрийский император Франц молил Кутузова не оголять Вены, но тот отошел от Бранау, за счет чего выиграл сражение у Кремса. «День резни» стоил Наполеону 4 тысяч солдат: оскорбленный чуть ли не первым столь страшным поражением, он бросил армию от Мюнхена к Вене, где собирались австрийские и русские войска.
Под Веной сгущались тучи, 5 ноября туда приехали императоры Франц и Александр, но солдаты смотрели мрачно, словно предчувствуя смерть.
Только Евгений Богарнэ мотыльком порхал по Италии, созывая высший свет на фестивали и рауты. Вот и Вольте 12 октября пришлось ехать в Монцу. «Почему б нам не провести заочный триумф Бонапарта от имени Института? — угодливая мысль родилась в голове Аральди. — Мы бы как раз к его именинам успели», — развил он ее дальше. «Давайте», — присоединился Москати, ставший генеральным директором публичной информации. «А поскольку Вольта почетный легионер, то пусть он почитает в ходе действа курс лекций», — решили оба льстеца.
Вольта поворчал, но согласился, хотя от затеи не видел большого проку, да и нелегко было пойти на такое: надо 30–40 лекций растянуть максимум на два месяца. И принялся обдумывать детали: в театре физики мы покажем опыты с излучением тепла и его проходом через жидкости и газы, расскажем о Румфорде и Лесли, потом об удельном скрытом тепле по Крауфорду, о тепловой емкости, испарении, работах Реомюра и Дальтона.
По электричеству дадим азы, доктрины и новинки про атмосферные заряды, электрофор, конденсатор. Аппараты привезу из Комо, установки смонтирую в Павии: электрометры, спинтерометры, лампады с болотным газом подожжем от туч, корону сосудов, всякие колонны, электромоторы (столбы).
Но вдруг подтвердились томящие предчувствия: в начале декабря под Аустерлицем погибли 21 тысяча русских и 6 тысяч австрийцев. Слава богу, что я не поехал в Петербург, крестился Вольта, сколько мертвых! Под Новый год в Прессбурге заключен мир: Франц II приполз едва ли не на коленях, Бавария отошла к Франции, Варцбург отошел к Австрии, но зато с Итальянским королевством слились Венеция, Истрия, Далмация и Папская область.
А Наполеон в Шенбрунском дворце перекраивал карту Европы. Бурбоны бежали из Неаполя, на вакантный престол королевства обеих Сицилии в марте 1806 года пришлось спешно сажать Жозефа, старшего брата. А в августе Франц I стал Францем II, император Священной Римской империи превратился в короля Австрии. Старинная империя испустила дух на 844-м году существования, сын Карла Великого Оттон ее породил, Наполеон уничтожил.
Вольте было грустно. Немного ободрил Гаттони — друг издал заметки о первых шагах «великого Вольты». Профессор все еще зазывал Беллани: «Приезжай, Анжело, есть и гигрометр, и термоскоп!». Аральди и Симони удвоили темпы подготовки подарков, Гримальди сообщал о вводе Вольты в луккскую «Академиа Наполеоника». Да-да, благодарил тот из Комо, словно уныло оправдываясь в угодничестве перед большим кровопускателем, ведь он дал мне четыре года назад парижскую медаль и 6000 франков, потом чины, орден, пенсию Адрии, а его сестра Элиза, жена Феличе Бачокки, со мной так мила.
Пользуясь поддержкой Москати и помощью Конфильяччи, Вольта все же обновил лабораторию по 20 позициям, одна другой интересней, поручил инженеру Джилардони устроить небольшую обсерваторию с метеостанцией, кое-что напечатал у Аральди.
В конце апреля из дому прислал записочку сынок, 2 мая 1806 года Луиджи исполнилось восемь лет. «Папа, — просил малыш, — хочу на день рождения пистоль с пулей на ниточке, чтоб можно убить мышь, еще змею и петуха с курицей», Пришлось заняться подарками, но 1 мая Наполеон, щедрая душа, успел одарить отца раньше, на этот раз орденом Железной Короны.
Пока ездил по инстанциям, получал орден с бумагами, ситуация изменилась: его решили не отпускать из университета. «Извини, — писал Вольта к Конфильяччи, тебя опять в штат не вводят, маленький ветерок из Парижа вызывает здесь бурю, они боятся не угодить королю, потерпи еще».
Снова посыпались приглашения в разные комиссии, но все же успел сделать большую статью про градообразование. Тем временем как-то незаметно ушли из жизни Кулон, Делюк и еще кое-кто из персон заметных, например, духовник убиенного Людовика — Фермон. Опять подступили цензорские хлопоты с цензурой, а к тому же Вольта увлекся электролизом кислот, особенно соляной, едва успевал опекать аспирантов, как-то разом избрали в магистраты и департаментские советы, мимоходом узнал о своем вводе в академии и общества Мюнхена, Низы, Эрлангена и Болоньи. Словом, обычная круговерть.
Все бы хорошо, но постепенно «микроклимат», как оказали бы в наши дни, вокруг Вольты ухудшался. К концу 1806 года на конкурс в Академию Модены профессор представил серьезную работу на имя Баронио — «Об идентичности электрического и гальванического флюидов. Достойное и беспристрастное изложение взглядов Альдини и Вольты», но сверх ожидания не только не получил премию в 90 цехинов, но удостоился иронического отношения. Повторяет сам себя, пять лет твердит одно и то же! Опять же мучили все более ужесточающиеся правила цензуры; понятное дело, давно пора натягивать узду, ослабнувшую из-за непрерывных походов императора-короля.
Наставник карбонариев.
Первым главой города, подестой, жаждущие справедливости жители Комо при Бонапарте избрали графа Порро — молодого красавца с чистой душой, смелого, знающего. Он сразу раскусил Вольту, призвал его честность и мудрость себе в подмогу, они сдружились, умело осторожничали, успешно вели нужные дела в нужных направлениях и с нужной осмотрительностью. Вот и сейчас, 5 января 1808 года, подеста официально призывал профессора «принять участие в высочайшей комиссии по украшению города, пригорода и его строений ради визитов почетных гостей и поднятия гражданского духа обывателей». Да-да, спешно примчался еще крепкий старик на голос юности (графу недавно минуло тридцать).
Семьей подеста еще не обзавелся, но скоро у него появятся сыновья Карло (1813–1848) и Алессандро (1814–1879) — будущие патриоты. Один из них героически погибнет в миланских боях революции 48-го года в рядах радикальных сторонников Мадзини. В доме Порро Вольта встретился с Пеллико — секретарем графа и писателем, и сам привел туда Фосколо.
Уго Фосколо уже понюхал пороху. Сын гречанки и венецианского хирурга из древнего рода дожей, мальчиком Уго учился в Падуе, в 14 лет вернулся домой, чтоб влиться в наполеоновскую армию освободителей. Увы, мечты волонтера об единой Италии без имущественного неравенства и без тиранов лопнули: грабежи, диктат, деспотизм. Генерал Шампиньоне высмеял чудака и несостоявшийся реформатор бросил армию французов.
Вольте нравился этот 30-летний идеалист, он уже успел написать оды Данте и Наполеону (вторую, правда, вскоре порвал), опубликовал роман, сонеты, только что закончил поэму о «святой гробнице Пиндемонте» — борца-патриота. Лучше б воспел Пиндара, олимпийского стихотворца, насмешничали друзья, но максималист не любил глупых шуток.
Вольта устроил Фосколо к себе в университет преподавать элоквенцию (красноречие). Талантливый молодой профессор обожал старшего друга. «Я помогал Вольте в Павии, — писал он графу Джовьо 19 мая 1809 года, — в опытах с электричеством на животных, по силам инерции. До чего здорово, как эффектно!»
1808 год. Все украдено!
Франция официально отменила давно и без того почивший революционный календарь, в Голландии Наполеон посадил брата Луи королем, но опрометчивая смена системы правления и возникновение королевства Батавия вызвали у мужественного, умного народа не умиление возвратом к привычным монархическим идеалам, а смех над неприкрытым цинизмом. Ничего, ёрничал Вольта перед Марумом, всё могут короли.
Вроде бы никакой связи с политикой, но в конце 1806 года благонадежный сверх меры веймарский министр Гёте обвенчался с давней подружкой Вульциус, воспользовавшись бегством своего курфюрста, запрещавшего неравный брак, И снова роман, но уже Наполеона: любовницей 38-летнего героя стала полячка Валевская, сам же он в Тильзите[31] чуть ли не лобызался с русским императором.
Внешне все казалось обычным, но распространение цинизма свидетельствовало об уходе почвы из-под ног. Люди чувствовали, что пора забиваться в норы; Наполеон сплоховал, увлекшись династическими играми и увязнув в них. Вот и Вольту префект Олоны зазывал переехать, но профессор подумал-подумал и решил не метаться, хоть беспокойство росло. Чтоб затормозить угрожающий развал, власти решили заткнуть публике рот, книгопродавцев начали расстреливать, и Вольта все глубже уходил в электричество, чтоб ничего не видеть.
Внешне словно царили покой и счастье: звенели балы, однако отчего-то струились и заговоры. На Бонапарта покушались, но Вольта, как все, называл любимца судьбы «непотопляемым человеком». Наполеона уже обкладывали, как волка. Интуитивно чувствуя беду, тот гневался, срывал зло на придворных: «дерьмо в шелку», «порок под руку с преступлением» — язвил он при виде Фуше с Талейраном, подозревая, но не зная к чему прицепиться, и не веря подозрениям. А те действительно продали императора, раскусив, что у того за душой нет ничего, кроме крестьянской сметки, упорства, решительности и примитивного тщеславия. А тут еще лопнули надежды на брак с сестрой русского царя.
И у Вольты вдруг стряслась маленькая, но сильно встревожившая неприятность — кража в миланском доме. «Приехал, все распахнуто, — сообщал Вольта жене, — даже двери сняты с петель с помощью деревянной лесенки, тут же брошенной. В комнате и кабинете хоть шаром покати, из спальни исчез гардероб, три пары простыней, скатерти, посуда. Да что там простыни, кровати и то нет. Ни тряпочки, ни бумажки, канделябров и свечей след простыл. Ни-че-го». Тремя днями раньше уволились трое поварят, подозревали их.
А ученых коллег сводил с ума «сидеризм»: Гильберт год потратил на изучение самоуказывающих палочек и самоугадывающих зло маятников из сернистого железа.
Обычное дело — если плохи дела, так всегда черту кланяются. Осторожный Баронио звал в Болонью — как раз объявлен конкурс на кафедру физики. Нет, сдерживал беспокойство Вольта, приклеят ярлык Гальваниева преемника, из Комо я никуда, вот тебе моя рекомендация, претендуй сам.
В Испании 2 марта отрекся Карл IV Бурбон, Мюрат ввел в страну разноплеменный корпус под французским знаменем. Но это далеко, а тут, под боком, родной брат, архидьякон жаловался на военное положение, на беспорядки в Комо, на обременительность постоя. «Скоро буду, — успокаивал Вольта брата 3 июня, — немного задержался. Был на утренней мессе, говорил с префектом Монте-Наполеоне, есть привлекательные дела, но придется платить. Наконец-то кончаю свои лекции с опытами, Театр Физики переполнен. И для дома столько работы: элогии, посмертные речи, надписи с умеренным или большим сердечием на статуи или другие посмертные аксессуары для профессоров, умерших за последние 10 лет. К этим функциям привлечены все авторитеты Павии и Милана: Москати, Парадизи, Меджант. Еще неясно, но знатные уже мчатся в каретах, чтоб попасть раньше других к королю Джузеппе Неаполитанскому, то есть Лучиано Бонапарте, теперь второму лицу («…как бы не промахнуться, станет королем Испании»), И точно, в июне короновали.
И снова выборы, публикации, семья и лекции на фоне политики. Хлопот много, но у коллеги Перегалли, например, еще больше: сгорел с домом, вдову взял в жены астроном. Шталмейстер короля Италии приглашал на обед в Болонью, «3 сентября 1808 года в четыре часа пополудни». Поехал, оттуда списался с братом. Эти письма были последними, через четыре месяца Луиджи не будет.
Взлет в сенаторы!
Еще в январе Компаржни из Парижа срочно сообщал Вольте о «важнейшем химическом открытии, совершенном Дэви с Вашим столбом, маэстро», потом примчался Конфильяччи с той же сенсацией. «Безусловно, — поторопился 26 января отослать ответ в Париж Вольта, — открытие Дэви велико, оно заслуживает премии Наполеона в 60 тысяч франков. Мы тут с Конфильяччи и Брунъятелли повторили опыты, они вызывают бесспорный энтузиазм».
Еще в предыдущем году с помощью электролиза Дэви получил калий и натрий, добавив вскоре к перечню новоявленных элементов барий, кальций, сурьму, фтор и магний. Достижение немалое, но, по существу, продолжалась старая игра: совать провода от столба куда попало и смотреть, что при этом получится. Да и премия была под вопросом: мыслимо ли награждение Наполеоном химика по ту сторону Па-де-Кале?
А Вольта в сентябре поехал в Болонью, где его выбрали в коллегию докторов, где ждал Аральди для согласования текстов в трудах Института и где в субботу 3-го числа следовало явиться на королевский обед. «Вот уж три дня я в Болонье и пишу тебе третье письмо, можно ли быть прилежнее? — читал архидьякон строчки брата. — Я стал хитрым, подгадываю на почту с письмом домой к девяти, потом быстро в профессорское кафе (Институт), до вечера проболтаем, кое-что черкну домой».
Вернулся — брат тяжело болен. Но опять пришлось писать к монсеньору Молину о недавно пожалованной от римской курии пенсии. Молин из Ровиго небрежно отвечал, что, мол, с деньгами нелегко, фонд тормозит перечисления, за ноябрь в срок уложиться едва ли удастся. Потом почта принесла красивый лист с латинскими строками: эрлангенское физико-медицинское общество ввело в свои члены. Октябрь MDCCVIII. Долго выжидали!
Показал торжественный лист старинным друзьям из «Компании», экс-иезуиты держались вместе: Перпенти, Кару, Гамба, Сала, Маркези, Бранкардо, Конфильяччи. Они как раз собирались у Гаттони ради опытов с токами, а Вольта не пошел, он не мог себя компрометировать вызывающим поведением. У них было что-то интересное, по крайней мере Аморетти так писал синьоре Поре: «…мы опробовали намагниченное острие, маятник, цилиндр, заостренные палочки, но все неудачно, они не чувствовали вольтова столба рядом, разве только намагниченное острие. По совету друга Вольты каноник Гаттони хотел бы удвоить силу и взять цилиндрики с нанесенными рисками». Что ж, друзья шли по верному пути, намеченному еще Романьози, но выявить магнитного действия тока не смогли по уважительным причинам.
Дело в том, что новый 1809 год начался с печальных сюрпризов. В субботу 7 января по предложению подесты коммуна избрала Вольту президентом совета вместо Перги, а в следующую субботу умер брат Луиджи. Алессандро тяжело встретил потерю самого близкого человека, тосковал, места себе не находил. Брата любили многие, Гаттони оплакивал покойного и неожиданно сам последовал за ним, хоть был моложе на десять лет.
Вольта горевал, но работа не отпускала. В феврале пришлось давать отзыв Раматти в Новарский лицей по его диссертации «О химической философии»: «…мы с Мосотти и Карлони повторили некоторые опыты с двумя аппаратами, для лекций они могут быть полезны». А 22 февраля, словно в компенсацию за утерю брата, Гримальди из Луки переслал Вольте акт о приеме в «Академиа Наполеоника». Ректор университета поздравил Вольту, почему-то назвав его «эччеленца» и разрешив по высочайшему указанию продолжать свои лекции даже в столь высоком звании. В каком? Чуть позже выяснилось: министр Бреме, сидящий в своем кресле с февраля 1806 года (опытный!), известил, что еще 19 февраля (надо же, в день рождения!) в Тюильри подписан декрет о вводе Вольты в сенат, а потому добро пожаловать на открытие!
Вольта только оправился от смерти Луиджи. С сенаторским подарком к дню рождения его поздравлял Циголини, Аральди обратил свой талант чинопочитателя на старого коллегу, смаковал словосочетание «сенатор Вольта» и докладывал, что акты Института печатаются успешно. Спасибо, друзья, умилялся 64-летний счастливец, все останется по-старому, я продолжу профессорство в Павии и членство в Институте. Не замедлила заграничная реакция: король Голландии ввел Вольту в первый класс амстердамского Института наук и искусств. Известие звучало красиво, если бы не одно «но»: король Людовик был младшим братом Наполеона! Вольту одарял клан, а не Европа!
Еще два приятных дела. Гуляя в окрестностях Кампоры, Вольта нашел клад — 160 античных монет. «Ты обязан основать музей в Комо, у тебя дома много предметов старины, так давай создадим общество науки, литературы и искусства», — уговаривал подеста Порро, а Вольта с удовольствием слушал речи истинного гражданина. Сам он тоже думал о городе, готовил бумаги о возвышении гимназии Комо до уровня лицея. Как в любой школе высшего типа, в ней теперь надо вводить курсы риторики, права, медицины, инженерии, создавать совет по присвоению академических степеней. Как в университете, радовался профессор.
Сдвинулись с мертвой точки пенсионные дела благодаря волшебному сиянию сенаторского звания. Вместе с Боллати, миланским юристом, решили взыскать долг с епископства Адрии, для чего поверенный Соломон Моисей Луззато истребовал в Ровиго иск на 1000 лир. «Желаю здоровья вашему брату, — добавлял миланец, — я имею честь быть с ним знакомым». Вольта вздрогнул, ему послышалось «имел честь», неужели умер? Он поспешил в Комо, брат действительно лежал на смертном ложе.
Вершина.
Небеса разгневались, вот и взяли сперва одного брата, а потом второго через полгода. Вольта искал какой-то закономерности в событиях и не находил. Пусть сенаторство — компенсация за смерть Луиджи, но как Наполеон предвидел ее?
Вольта занялся наследством. Вся недвижимость брата отходила семье, сразу открылся кредит в Комо и Милане. Через год и Вольта решился составить завещание: «Я, кавалер орденов Железной Короны и Почетного Легиона, член Национального Института и сенатор Королевства Италии, проживающий в Комо, моей дорогой родине, оставляю жене четверть состояния, а остальное трем сыновьям в соответствии с Кодексом Наполеона: Занино Джованни — 15, Фламинго — 14, Луиджи — 12 тыс. лир».
Легкой бабочкой промелькнули игры с античным музеем. Вольта благодарил за доверие, но вдруг, обессилев от тоски, принимался рассказывать, как «будет трудно, ведь мой дорогой брат Луиджи 14 января скончался, а каноник Джованни тоже умер 8 июля».
Люди жалели Вольту: здорово его ударило, понять можно, ведь немолод. А Вольту с женой приятно взволновало, что Босси с Баронио назвали его сенатором-графом — вряд ли обмолвка. В сентябре пришел запрос от правителя области герцога Лоди, бывшего графа Мельци, чтобы Вольта срочно представил документы на предмет возможного возведения его в графский титул. Сладко заныло в груди: а вдруг? Непременно дадут, уверяли друзья, ведь не всякий граф сенатор, но всякий сенатор непременно граф.
Вольта понимал, что до князя или герцога ему далеко, но в графы вполне можно пробиться. В сенат Древнего Рима тоже ведь входили богатые плебеи, образовав вместе с патрициями сословие нобилей, а род Вольтов издавна относился к нобилитету Комо. И потом: коль скоро я законно утверждаю сенатус-консульты, говорил себе Вольта, то имею право на статус дворянина.
В генеральные директоры народного образования пробился Скополи. Сначала он привыкал к креслу («прошу профессора Вольту включить в курс экспериментальной физики основы, элементы и вопросы применения математики для землеустройства и мелиорации»), потом осмелел («Слушай, вот счастливый случай найти капитал для обновления твоего физического кабинета»).
Чуть ли не на третьем плане шли необязательные разговоры про науку.
А Сенебье умер? С ним Вольта общался так давно, он, наверное, стар ужасно? Нет, 67. Он так много успел; помнится, разложил светом хлористое серебро (1782), а теперь Вольта столбом делал то же самое. Неужто свет есть электричество? Из-за континентальной блокады с запозданием пришла весть о кончине Кавалло, только до 60 дотянул старый друг-неаполитанец на берегах туманного Альбиона.
Тон всему 1810 году задал сосед в Граведоне каноник Венини. Его увлекли слухи про самовозгорание; люди, мол, могут вспыхнуть факелом, а откуда огонь, как не провидением послан, хоть в человеке и гореть-то нечему. Вольта подошел к делу научно: химик Порати полагает, что в фосфорном водороде может произойти самопроизвольная вспышка, однако это все же немыслимо без внешнего толчка, так что наличие водорода следует отнести не к причине вспышки, а всего лишь к благоприятным условиям. Вот-вот, обрадовался Венини, бог везде, а главное — вне нас. Ну нет, осторожно возражал Вольта, с этим можно спорить, еще святой Амвросий указывал, что внутри.
Первая половина года ушла на вольтов столб, Скополи выполнил обещание, дав 200 лир, но Вольте пришлось поискать желающих пользоваться аппаратом. Выразил желание Аральди, а Вольта хотел «сделать столб побольше, чтоб повторить за Дэви главные опыты: разложение спиртов, металлических земель и металлизацию предметов». Пришлось обосновывать нужные расходы: сколько надо цинка, меди, олова; как нарубить 160 пар квадратных пластин шириной по 7 дюймов; и еще круглых; какого диаметра, каких жидкостей и порошков, а закупить все лучше бы у Парелли на фабрике в Баресоне (22 мая 1810 г.).
Со столбом все ладилось, а Бонапарт огорчал. Он бросил свою любовь, полячку Валевскую, с ребенком; титул графини ему маловат; Александр I от имени сестры отказал окончательно. Тогда решительный монарх развелся с Жозефиной, оставив ей титул императрицы, и 1 апреля обвенчался в Лувре с Марией-Луизой Габсбург. Мир ахнул: Бонапарту везло, пока он летел с попутным ветром, теперь он поплыл против волн, а потому обречен. На что он надеется? Они ж не любят друг друга, Австрия не смирится с насильственным мезальянсом, а Франция проклинает еще одну австриячку на тропе.
Но Бонапарт закусил удила, не считаясь ни с чем. В марте 1811 года родился наследник — тот, которого наполеонисты назовут потом Наполеоном II, но которому суждено не процарствовать ни единого дня. А Бонапарт словно доказывал публике, что все идет как надо. Я все так же пестую избранников! И секретарь Академии Неаполя высылает Вольте диплом члена-корреспондента. Я все так же щедр! И Вольта стал графом. Подумать только, после Людовиков они снова завелись с 1 марта 1808 года, до Вольты дошла очередь всего за два года!
Механика была такова. 28 июля 1810 года претор сената вызвал Вольту в дворцовую капеллу Монцы на мессу в честь вице-короля. В начале августа собрался сенат, для Вольты ничего нового, то же самое уже пережито в Консулате. Вот податель благ Молин несколько отмяк: то казначей Адрии тянул с пенсией, рассчитывая, вероятно, поживиться невыплатами и случае смерти старичка адресата, а тут переводы пришлось сделать регулярными, граф-сенатор оказался живуч, как бы не напороться на неприятность.
А Вольта жил тихо, 8 октября он так писал из Комо к Беллани: «В конце сентября был в Лаззате, потом поехал в Милан, к Сан-Мишелю, снова переменил дом на Лаззате. Последние восемь дней сижу в Комо, потом переберусь в Кампору, где останусь до святок. К 20-му снова надо двигаться в Милан, а 22-го вернулась в Кампору. В моем одиночестве такая регулярная маршрутность имеет свои преимущества, вносится антимонотонность».
Но вот свершилось. 11 октября в Фонтенбло подписан декрет: «Я, Наполеон, милостью господа законный император Франции, король Италии и протектор королевской конфедерации…». Вот шалун, какой же он законный? А далее — о вводе Вольты в титул графа Итальянского королевства! С передачей титула наследникам по первородству! Дрожали руки, последние строчки прыгали в глазах: «…живущему в Комо, коммуна Комо, Камнаго, Ольяте, коммуна Лаззате, Милан».
Теперь у семьи будет три герба, от 1400, 1614 и 1810 годов. Какую бы эмблему выбрать? Леонардо да Винчи предпочел компас с аллегорической фразой «Устремленное к цели упорство» или «Не оборачивается тот, кто устремлен к звезде». Вольта решил разделить графский щит на четыре поля: слева змея у зеркала (природа смотрится в зеркало разума), вольтов столб с электрофором, а справа родовой символ (арка с лебедем) и революционное знамя Италия в благодарность Бонапарту. А над щитом графский берет!
Метаморфозы труженика.
Став графом, Вольта не переменился, но занялся несколько другими делами. Он радостно оформлял нужные документы, чувствуя себя в новом качестве. Кассир Креспи из геральдического совета взял 400 лир за удостоверяющий доподлинность титула пергамент, подарив ощущение реальности происходящего. Появились светские обязанности: старый знакомый граф Румфорд из Отейля под Парижем (как-то удался его брак с вдовой Лавуазье?) рекомендовал графа Кустине: тот ездил с сыном по Италии и пожелал познакомиться с графом Вольтой.
Вольта никогда не чурался радостей жизни, теперь появились не только возможности, но даже обязанности заняться лошадьми. Так принято в высшем свете! Заседал сенат, в шитом золотом мундире Вольта раскланивался с нужными и известными людьми. С новой силой хлынули почести: Академия в Брешии (науки, литературы и аграрного искусства) ввела Вольту в члены; вот Молин из Ровиго почтительно шлет пенсию, уже не переча; префект Соммарива из департамента Ларио приглашает в комиссию по выявлению претендентов на муниципальные премии, а из департамента Олона просят прибыть в Милан на заседание выборной коллегии.
Научный фундамент держал прочно. Ламбертеньи хвалил новый пятитомник по физике; будем рекомендовать лекционным пособием в дополнение к трактатам Гелера, Фишера и Грена. Миланец Озонан взялся перевести на французский Вольтовы физические статьи — давно пора! Академия Прогресса и Трасформации пригласила Вольту в свой состав «ради возрождения театра и ради обновления общества». Несколько радикально, но миланцы вечно бунтуют по любому поводу.
Как обычно, наука обогащалась серьезными находками, но сейчас не до них. Жаль Риттера, мюнхенец прожил только 33 года, впрочем, пик его научной активности уже миновал. Интересные книги по химическому атомизму и поляризации света издали Дальтон и Малюс, надо бы почитать.
Внешне Вольта благодушествовал, на самом деле возведение в графы стало концом. Любознательность, работоспособность, неугомонность в конечном итоге диктовались желанием выбиться из нужды. Именно это приземленное соображение руководило Вольтой, изобретавшим только полезные приборы, именно ради гарантированного содержания он тянул каторжную лямку преподавателя в соседнем городе.
Декрет из Москвы. 1812 год принес Европе новые тяготы. В Англии даже виселицы не могли помешать безработным уничтожать машины, отбиравшие работу у пролетариев.
Бунты разрушителей машин не помогли, на помощь пришли Армии Спасения. Сострадательные Оуэны укорачивали рабочие дни, строили школы, устраивали больничные кассы и потребительские кооперативы, но коммуны хирели и лопались из-за невежества и лени пассивных и воровства активных. Из Швейцарии доносился голос экономиста-романтика Сисмонди: на примере итальянских заводов он призывал тормозить механизацию, чтоб производить продукта на сумму дохода, в противном случае перепроизводство породит кризисы.
Нет, действиями своими возражал на то Бонапарт — до словесных споров он не унижался, это из-за Англии хромает экономика империи и ее вассалов. Блокада не удалась; пытаясь заткнуть прорехи, император уволил Талейрана, за мягкотелость наказал брата Луи, трианонским тарифом ужесточил товарообмен с Россией, на что Александр I ответил увеличением пошлины на товары французские. «А, вот кто мне враг» — нашел козла отпущения отчаявшийся Бонапарт, указывая на восток.
Осторожный Вольта знал, что ему обойдется дорого поражение покровителя, поэтому он загодя получил у канцлера сената Гуччьярди пропуск в форме рекомендательного письма (10 января), оформил паспорт нужному человеку Линусьо из Толмеццо (10 февраля), с новой силой занялся опытами, чтоб подновить образ ученого, от политики далекого. «Статья с анализом сульфурной воды готова, — сообщал он в Институт, — ведь еще в 1810 году Ремо и Монгейм открыли азото-фосфорный газ» (4 июня). Как раз в эти дни 400 тысяч солдат Бонапарта хлынули через российскую границу от Немана через Ковно. 280 тысяч русских отступали, заманивая захватчика на верную гибель в российских просторах.
В июле 1812 года Аральди с Вольтой уже составляли списки ученых экспертов по военной продукции заводов Италии: Бруньятелли и Брейслаг — по сульфату магнезии с фабрики Каттанео из Орио; Морози и Менготти — по ружейной стали Консоле из Олоны; Аморетти и Бруньятелли — по тканям для мундиров от Ковенези с Адриатики.
6 сентября войска Бонапарта заняли Смоленск, а веронец Замбони обратился к Вольте с изобретенным «сухим столбом». Избавиться от жидкостей в столбе было бы неплохо, компактный пакет из тысячи слоев металлической фольги с бумажными прокладками работал без влаги. «Это именно то, о чем я говорил! — радовался Вольта. — Именно металлы дают напряжение, а ток порождается окислением электродов. Спасибо за оттиск статьи, — благодарил Вольта, — жаль, что ваш столб мало пригоден для анализа погоды, чтоб указывать степень электризации земли и воздуха».
Замбони продолжал писать, сам Делюк одобрил его инструмент. Еще бы, попытки Делюка построить безжидкостный столб не удались, а. Замбони решил заменить бумагу влажной угольной пастой, лучше бы перекисью марганца, советовал Вольта (август — сентябрь), потом Боненберг начал чередовать листы с напыленными серебром и золотом. Сухие столбы убеждали Вольту в своей правоте, ибо напряжения все же порождались контактом металлов, а химические процессы всего лишь стремились выровнять потенциалы через внешнюю цепь. Фехнер, горячий сторонник мегаллических сил, радовался, электрохимики примолкли, через два десятилетия им на помощь придет Фарадей, но Шенбейн помирит спорщиков, указав на роль тех и других процессов в общей картине.
А в России 7 сентября грянула великая битва при Бородине. Через неделю Бонапарт вошел в Москву. Город встретил захватчика пожаром, но и в зареве полыхающей священной столицы России победитель еще пронзительнее ощущал себя всемогущим. Хочу видеть старинные иконы! Желаю ворошить груды золота! Пусть мне поет легендарная цыганка Стеша! 21 сентября в московской ставке он занялся итальянскими делами и тут же вспомнил про Вольту. Спокойный, знающий, уверенный физик-химик казался Бонапарту такой надежной опорой в этом зыбком мире! Надо его всемерно поощрить, и император с гонцом отправил и Италию декрет о назначении симпатичного профессора президентом коллегии выборщиков, его наверняка обрадует высокая милость могучего покровителя!
«Такая честь!» — всполошился министр внутренних дел. Местные власти пришли в восторг. А Вольта загрустил: он уже попадал впросак, как-то взявшись из чувства долга приветствовать новичка Бонапарта и едва не поплатившись жизнью за свое гражданское повиновение, и вот снова из безопасной тиши его выталкивала на сцену добрая рука владыки. Благодари ж, граф-сенатор-лауреат-кавалер! Свистели ядра, лилась кровь, Вольта не имел отношения к этим злодействам, что за медвежья услуга с этим копеечным президентством!
Впрочем, какая там услуга? Опять интуиция не подвела Вольту: дела Бонапарта были совсем не блестящи. Новый «Цезарь» высидел в Москве всего 34 дня, а потом, приказав герцогу Бассано вывозить срочно как можно больше русских драгоценностей, бросил город, ставший пепелищем. Император-мародер приказал Мортье взорвать кремлевские строения, но тот бежал, спасаясь от казаков. 27 сентября случилось неминуемое — гибельная переправа через Березину. Идущий кривыми дорогами непременно сломает ноги!
А в Комо кипели восторги, император помнил их захудалый городишко! Кроме Вольты, никто не чувствовал беды, а ему, «имениннику на чужом пиру», пришлось держать речь (15–16 ноября). Не подвела интуиция умного старика, он держался исторически достойно. «Коллегии выборщиков доводится до сведения, что декретом его величества от 21 сентября, данным в Москве, президентом коллегии назначен граф Вольта, граф Порро секретарем и провизором, Ровелли и Молина — счетная комиссия». Ни одного лишнего слова.
Потом выступил Порро. В краткой речи прозвучали слова «о дорогой родине», «интересах нашей коммуны», «августейшем монархе», «общих усилиях» — и т. п. Зато префект департамента заливался соловьем: «Из древней столицы России увенчанный лаврами победы его императорское величество направил нам декрет. В восхищенья мы приносим благодарность в эти дни триумфа нашего монарха, давшего процветание народу… И оды льются, о высокочтимый господин президент, освещая светом радости и тем украшая столетье, в начале которого избранники народа призваны взяться за исполнение своих великих функций, чтоб всей душой пропеть гимн и прославить им победу покорителя Москвы. Позвольте от вашего имени заверить правительство…».
Ну и тарабарщина! Вольта вздыхал, передавая префекту стенограмму заседания «для увековечения великого момента в истории Комо». А 5 декабря Наполеон обнародовал XXIX Бюллетень ставки, из которого потрясенная Европа узнала ужасную правду про близкие беды. В России трещали морозы, из 31 тысячи неаполитанцев, приведенных сюда Мюратом, погибло 30 тысяч. Окоченевшие трупы красавцев, рожденных под жарким южным солнцем, складывали штабелями. Бонапарт отдал остатки некогда великой армии озлобленному королю Неаполя, а сам бросился в Париж. 18 декабря он уже в Тюильри, там он услышал про бунт Мале двухмесячной давности. Генерал поторопился объявить, что Наполеон мертв, и сам был расстрелян на месте.
Впрочем, мало кто предчувствовал конец Бонапарта; досадная промашка, ничего более. В последний день года Вольта подал заявление на имя «его величества» с просьбой определить сына в училище пажей. Нет, заявил министр Капрара, желающих слишком много, придется устраивать собеседование. Вольте указали на его место: ты, мол, урвал и без того немало, дай другим попользоваться благами жизни — вот что просвечивало сквозь изысканные формулировки отказа. Верно сказал Ксенофан: «Следует или как можно реже встречаться с тиранами, или как можно больше угождать им». А Вольта застрял на полдороге.
В ожидании краха.
Еще год и театр военных действий загрохочет рядом, сместившись из восточных далей на тысячу миль к западу. В январе 13-го года русские овладели Кенигсбергом и тремя потоками хлынули за французами. В центре главную армию вел Кутузов, через 500 верст после Вильно он разгромил у Калиша отступавшего врага и через Гайнау двинулся к Лейпцигу. Русские военачальники Милорадович и Витценроде шли по краям как пристяжные с коренником.
Жизнь замерла, но выходили книги — «Энциклопедия» Крунитца в 121 том дошла до буквы Р, еще Вольта получил 8-томную физику Фишера, с трудом осилил два тома «Учения о свете» Гёте, изучил труд Хейндрика о фосфоресценции меди. Вот бы еще почитать Кювье хорошего издания, франков на 70, пригодятся подшивки «Монитора» и журнал «Эмпайр», достать бы Копта. И сам Вольта страстно захотел написать книгу по истории естествознания.
В феврале Пруссия с запозданием (но безошибочно) примкнула к русско-английско-австрийской коалиции, а Вольта надумал купить дом в Милане, квартал Меравильо, № 1477. Место чудесное, но продавец Варри брал дороговато («Тогда продам Майоцци за 37 тыс., сам купил за 30, да еще сколько потом истратил!»).
10 апреля в Париже умер Лагранж, а 19-го в тот же «месяц смерти» в Бунцлау сам Кутузов. А ведь я с ним ровесник — пугался Вольта, читая газеты. На месяц действия враждебных армий прекратились, а Вольта успел переоформить договор с Джовьо о недвижимости в Ольгьяте. Живший там каноник Кайми завещал дом Вольтам, но там оставалась вдова, Катерина Чичери, после смерти которой душеприказчик Джовьо подвел итоги ее мирских дел.
Вольту опять выбрали, на этот раз в Академию Неаполя.
В августе погиб легендарный Моро: после 18 брюмера он бежал в Америку, услышав о затруднениях Бонапарта, вернулся добивать его, самозванца, могильщика Французской республики, но — вот незадача — сразу погиб в бою под Дрезденом, хотя в целом французы проиграли сражение. Итальянские части вице-короля Евгения разгромлены при Адидже. Мельци получил от него жалобное письмо: «Я отдаю приказ генералу Пипо отойти к моей резиденции в Монце, там прикрепить орден Железной Короны к королевскому стягу и тайно в сопровождении двух священников укрыть знамя в соборе того же города».
Все эти детские поступки были бы смешны, когда бы не было так грустно: герцог Лоди, он же граф Мельци, и президент сената граф Венери извещали, что по распоряжению вице-короля из штаб-квартиры в Вероне всех сенаторов, домам которых угрожает захват врагом, надлежит эвакуировать в Турин. Вот до чего дошло! Впрочем, после октябрьского поражения под Лейпцигом дорога на Париж открыта. Неужели Наполеону конец?
Сенатские битвы за родину.
Как не верить приметам? Вечером 16 декабря 1804 года в Париже был запущен шарльер. Он нес огромную модель короны, оклеенной зеркальцами, стеклярусом, с надписью: «XXV фримера XIII г. республики император Наполеон I коронован его святейшеством папой Пием VII!» Утром другого дня водородный баллон долетел дo Рима и рухнул на кладбище. Корона вдребезги. Так и будет, пророчили зеваки, подбирая мишуру и осколки. Так и стало.
В январе 14-го года вице-секретарь Института Карлини собрал заседание на тему о реформе устава. Вольта помчался в Милан, чтоб не опоздать с реорганизацией не то что учреждения, а самой Италии.
31 марта на белом коне в Париж въехал Александр I, через два дня Талейран собрал сенат Франции, а 4 апреля генералы Бонапарта потребовали его отречения в пользу сына при регентстве Марии-Луизы. Нет, упорствовал Наполеон, пойдем в Альпы, начнем все сначала! Маршалы прятали глаза. 6-го император отрекся. Он бродил по Фонтенбло, не выпуская из рук пробирку с цианистым калием. Победители демонстрировали великодушие: 28 апреля Бонапарту оставили титул и дали остров Эльбу без права покидать новую крошечную империю.
Тем временем вице-король Италии тоже переживал бурные дни. Войска французов и итальянцев все еще стояли под Изонцо в Иллирии, потом сместились к Адидже, а 4 февраля уже под Минко. Через три дня в Гойто они даже выиграли стычку, а 28 марта вице-королева перебралась из Милана в штаб-квартиру генерала Богарнэ в Мантую, где 13 апреля благополучно разрешилась девочкой. Благородные победители заключили временное перемирие в замке Ширино-Риччино близ Мантуи, через три дня бои было разгорелись, но вновь затухли, ибо французы рвались домой, а итальянцам надоело воевать из-под палки.
Зато военные действия переместились в сенат, там 28 апреля Вольта сделал первый залп: вместе с другими восемью сенаторами он вручил генерал-лейтенанту Соммариве протест по поводу нарушения конституционных правил на заседаниях 17 и 20 апреля. Ясное дело: Вольта пытался отмыться от компрометирующих (и таких нужных!) благодеяний рухнувшего исполина, но и ставка была колоссальной. Италии выпал шанс получить самостоятельность, народ задержал дыхание, этим моментом никак нельзя было пренебречь.
Еще с января в сенате шла скрытая, но яростная борьба, сражались три партии: проавстрийская, чисто итальянская, желавшая сохранить королевство, но без Богарнэ, и профранцузская (с Богарнэ и графом Мольци в качестве премьер-министра и канцлера — хранителя печати). Вольта колебался, но первого исхода не хотел.
Тем временем первые две партии выбросили лозунги: разделаться с вице-королем, министрами и сенатом; поднять народ на восстание; с помощью австрийцев и выборных советов поставить над страной Боллегарда. Однако такая крамола не прошла: 17 апреля благодаря большинству голосов третьей партии сенат запросил срочного появления послов от Франца I, чтоб те официально подтвердили независимость обновленного королевства с Богарнэ во главе. «Кровавое заседание» вел экс-президент сената Венери, а страждущий власти Мельци дома бился с разыгравшейся подагрой.
Чтоб остудить страсти, вторая партия надумала послать в Мантую канцлера Гучьярди и сенатора Кастильоне — пусть требуют ухода Евгения Богарнэ, а тот пусть поддержит тезис о нужности независимости своей бывшей державы, но тут 19 апреля в «Итальянском журнале» за подписью вице-короля появилось сообщение о перемирии в связи с радостью в Шарино-Риччино. Взбешенные депутаты отменили свое решение от 17 апреля, а подеста Милана Дурини призвал первые две партии сплотиться в борьбе с вице-королем.
20 апреля восстал Милан, спровоцированный появлением в Лугано анонимного сообщения, якобы полученного из Парижа, но фактически сочиненного сенатором Форми, что народ обманут, убийцы еще на воле, населению пора проснуться для битв за свободу. Сенат тут же разбежался, сложив с себя обязанности и ответственность, но успел провозгласить срочный сбор выборщиков, послав делегации во все концы государства.
И вот 28-го числа теперь уже экс-президент Венери и экс-канцлер Ручьярди представили Соммариво новый устав сената и новый состав президентской коллегии, куда вошли три ломбардца: Сербеллони из Милана, Кавриани из Бергамо и комовец Вольта! Почему Вольта предпочитал французов австрийцам? Потому, наверное, что метрополия ему казалась прогрессивнее провинции — иначе он не представлял себе соотношение культур двух соседних держав.
Соммарива бросился в Милан, скорбя о глупости сенаторов. Того же 28 апреля в город вошел авангард австрийских войск, что особенно возмутило мнящих себя вершителями судеб законодателей. Восемь сенаторов во главе с Вольтой заявили протест по поводу игнорирования мнения высшего выборного органа! Идеалист Вольта верил в принципы, не замечая откровенной возни своих коллег в грызне за более жирный кусок. Какая там выборность, какие там интересы итальянского народа? Сострадание ютится в нищете, а во дворце кончились битвы за демократию, и пирог, как всегда, съел самый сильный.
Впрочем, Вольте уже было некогда, он отдался своему горю. Пока он витийствовал среди сенаторов, надеясь на беспринципных захребетников, кутавшихся в красивые словесные одеяла, у него умер… О горе! Умер Фламинго…
Опять смерть!
14 марта Вольту подстерегла беда. «Не знаю, что мешает тебе приехать в Милан в этом году, — взывал он к свояку Алессандро Рейне, — после масленицы ты еще не был. Пришел пост, а за ним горе, можешь представить, как я сражен, потерял сына Фламинго, сердце щемит, так мало выпало ему радостных дней. Умоляю, приезжай, побудь немного с нами, детей надо утешить, они в меланхолии, все их забросили, поговори с ними о чем-нибудь приятном, расскажи что-нибудь, пошути на прогулке. Кончаю, не могу больше писать, не могу ничего делать, надо полежать часок. Привет твоим домашним и всем знакомым. Твой дядя».
Линусьо еще не знал, что старик оплакивает сына, и бодрым тоном звал учителя приехать во Фриули взглянуть на свой опытный сельскохозяйственный участок, а заодно на копию письма к Пикте в Женеву. «У меня горе, — отвечал Вольта, — почти: два месяца как потерял второго сына. Так прилежен, так образован, внушал надежды. Он готовился к карьере теолога и уже не носил мирских одежд. Какой-то нарыв на голове, очень мучился, ослаб, потом нагноение, ревматическая лихорадка, очень скоро мозговой удар. Потом впал в летаргию, в три дня три сильных, но очень коротких лихорадки, затем агония и смерть. Такая потеря, как я еще жив! Я неутешен, мать измучена, а на агрономический участок Фриули я как-нибудь позже приеду. Копию письма к Пикте получил».
Даже в несчастье аналитический мозг ученого фиксировал события четко.
3 мая в Париж вернулся из Кобленца гриф Прованский, теперь Людовик XVIII Бурбон, подагрик, а с ним дочь, герцогиня Ангулемская, по прозвищу «ангел доброты», и еще брат, граф д'Артуа, крикливый грубиян. Забегали старички роялисты, призывая учредить орден белых лилий. У Хлодвига, великого объединителя франков, на стягах вышивались три золотые лягушки, с 496 года лягушек сменили лилии, а с 1147 года золотой цвет уступил белому. Бонапарт все испортил своими золотыми пчелами на зеленом лугу, но теперь-то лилии навечно! Знали б отсутствовавшие 22 года Бурбоны, что только на 15 лет…
В расстроенном мозгу Вольты события налезали друг на друга: Ломбардию слили с Венецией, умер злой памяти Гильотен, скомпрометировавший науку созданием машины смерти — гильотины, в августе не стало Румфорда, у Бонапарта отняли сына, короля Римского, и под именем герцога Рейхштадтского крошку увезли к деду Францу I в Австрию, 29 мая в Мальмезоне пятидесяти одного года умерла Жозефина Богарнэ, а Вольта горевал теперь не только о сыне — скончался старый друг Джовьо.
Плохие новости не заставили себя ждать. В мае «обрадовал» Молин из Ровиго: «Говорил о Вас с папой Пием VII. Возникли трудности с пенсией, фонд в долгах, у нас сейчас в Ломбардо-Венеции правит король Энрико XV, а не Наполеон, оттого Ваша пенсия ликвидирована. Будете в Риме, вручим Вам платежную сводку. Жаль Вашего сына, передайте наши утешения синьоре». Не графу, не сенатору, просто Вольте.
Через месяц Линусьо предупредил: болтают, что графские титулы «самозванца» вот-вот ухнут в небытие, но у Вольты были другие сведения: «Конфильяччи и сын Бруньятелли ловко разузнали, что в Берлине и Геттингене думают иначе». Подеста Милана граф Дурини делал вид, что все в порядке, и приглашал принять участие в празднике наступления мира в честь Парижского договора от 30 мая. Соберемся в базилике во славу господа и счастливого возвращения Людовика XVIII во Францию и Франца I в нашу провинцию. Теперь весь миланский дом Сеномино в Брера, где жил Вольта, страстно строил домыслы, вчитываясь в ласковое послание: сохранят титулы, не иначе. Вольта взбодрился и отстоял-таки папскую пенсию.
Захотелось подумать о науке. Приезжим показывали изящный громоотвод над башенкой госпиталя, сделанный по эскизам Гаттони. «23 июля, — рассказывал Мошетти внимающему Конфильяччи, — в 4.10 ударила молния за 300 футов от мачты, и та притянула огненную стрелу на себя. Покупать громоотвод желающим надо только в Комо, на родине Плиния».
В августе Антинори предложил издать труды Вольты. «Надо бы включить туда свежую публикацию Конфильяччи моей старой работы «Об идентичности электрического и гальванического флюидов», — заволновался профессор. В конце года ожил Павийский университет: сначала министр Ломбардии граф Беллегард назначил Вольту деканом философского факультета «с целью совершенствования учебного процесса.» (14 ноября 1814 г.), потом министр народного образования граф Скополи прислал декану четырех претендентов в аспиранты кафедры элементарной математики: учителя лицея Горини, репетитора Лампуньяни, профессоров Бордони из военного училища и Форни из агрономической школы. Я предпочитаю первого, ответил Вольта через неделю. Понятное дело, он с умилением вспоминал запахи своей комовской школы, да и сыновьям вот-вот пора поступать в лицей.
Вы слышали, спрашивали Вольту знакомые, что в Болонье только что открыли памятник? На нем надпись: «Алоизию Гальвани, врачу-хирургу, доктору анатомии и акушерства, обогатившему физику замечательным открытием, названным его именем, необычайно усердно создавшему великолепное учение, — от товарищей и друзей этого всемирно известного мужа».
Да, Вольта слышал, но никак публично не комментировал.
В 70 лет.
Думая о прожитом и боясь заглядывать вперед, Вольта горевал по сыну, писал анекдотические заметки про абсурд политических и церковных догм (их опубликуют через 10 лет), вспоминал былое.
В Берлине из университета как раз уволили Вильгельма Гумбольдта, этот университет основавшего. Вильгельм относился к жизни критично, не то что симпатичный подвижный младший брат Александр, о новой книге которого с жаром писал Линусьо. Вольта присоединился, особенно интересны описания поездок в Персию и другие уголки Азии, в Африку и Центральную Америку.
Он даже приезжал к Вольте в гости, услышав про Гальвани в 92-м году, смотрел опыты, восторгался, однако стал на сторону болонца. Но как можно стать гальванистом, разве не явную ерунду пишет сам Гальвани в последнем письме к Спалланцани? «Животное электричество не представляет собой в точности обычного электричества, какое есть во всех предметах, но оно изменено и соединено с принципами жизни, благодаря чему имеет совершенно новые свойства, только ему присущие».
А сам Вольта подытоживал свою жизнь. Он добился успеха, кое-что сделал в науке в прошлом веке, а в новом столетии пожинал лавры. Бонапарт возвел его на высокие ступени почестей, понемногу пришло пусть скромное, но богатство, однако уже нет в живых любимых братьев и потерян семнадцатилетний сын. Свирепствовала какая-то фамильная болезнь с фурункулами и воспалениями!
1 марта 1815 года, словно поздравляя Вольту с 70-летием, Наполеон бежал с Эльбы.
Окружающие восклицали и ахали, Вольта безмолвствовал — умудренный старец никак не реагировал на события, он ждал. Антинори сообщал из Флоренции, что уже переведена вторая диссертация. Рейна копался в архивах, в мае Вольта смог представить в миланскую геральдическую комиссию бумаги про предков декурионов и патрициев, а по жене и матери — еще и графов.
Италия вновь реорганизовалась. Восстановилось Сардинское королевство с Савойей, Ниццей, Турином и бывшей республикой Генуей. Ломбардия с Венецией снова отошли к Австрии императора Франца I, родного брата казненной Марии-Антуанетты. Парму вручили его дочке Марии-Луизе, бывшей жене Наполеона, Модону взял себе эрцгерцог Франц, Тоскану — эрцгерцог Фердинанд, Неаполь вернули Бурбонам. Габсбурги и Бурбоны торжествовали.
Наполеона будто и не было. По школьной «Истории» патера Лорике после смерти Людовика XVI в 1793 году будто бы правил Людовик XVIII, а Бонапарт был его генералом. Что касается Людовика XVII, то он умер мальчиком в 1795 году, и это было правдой, кое-что историкам не удавалось фальсифицировать.
А пока бумаги Вольты тщательно проверялись: родословная, декреты на пенсию и орден Железной Короны. Наконец в сентябре фонд Адрии возобновил переводы, а в октябре геральдическая комиссия (там друзья по сенату — Борромео и Сомаглия) доложила правительству, что у профессора «все чисто». Радовал Антинори: он готовил труды «по типу Галилея и Ньютона», а умиротворенный Вольта рассказывал издателю, «какая стоит нечастая хорошая осень». Может быть, войны удобряют природу?
В июле Вольта передал Конфильяччи и Аморетти новое изобретение: шелкопрядильную машину с паровым приводом. Бак на 50 ведер, 2 больших и 20 маленьких труб, манометр и два термометра, за полчаса вода доводилась до кипения, профессор не преминул дать табличку «время — температура». Машина работала, подесте Порро на индустриальной выставке вручили серебряную медаль за рожденную в его городе новинку.
Доверие к Вольте восстановилось — в Вене столько связей. Его даже привлекли сотрудничать в журнале «Законы и уставы», изданию которого немало способствовал наместник Беллегард, стремившийся доводить до сведения публики решения австрийских властей. Министр Скополи тоже не забывал профессора, поручая ему наблюдать за подготовкой архитекторов, инженеров и землемеров. Из Турина пожелал вернуться Ломбардини. «Я о нем совсем забыл, — смеялся Вольта, — но визу дам, зла не держу, пусть вернется».
В конце года газеты много писали про образование Священного союза России, Австрии, Пруссии, призванного крепить христианский мир (выпад против Турции) и дружно противостоять общим врагам (предупреждение новым Бонапартам). Второй Парижский съезд наказал Францию на две трети миллиарда лир контрибуции с возвратом реквизированного, но Вольту уже занимали семейные дела, Луиджи и Занино перебрались из Милана в отцов университет.
Часто писал Линусьо, умер Ландриани, новый, 1816 год начался днем скорби по погибшим во Франции, граф Парадизи представлял («синьор граф, мой уважаемый ладроне») некоего изобретателя Скарамеллу, атташе прусского представительства граф Хенкель привез кое-какие бумаги Риттера, вспомнив просьбу умершего «передать мосье Вольте самый теплый привет и восхищение». В дополнение к приветам от усопшего пришли недостающие тома «Энциклопедии» Крутитца. «Из-за боевых действий я не получал их два года, — жаловался Вольта, — и когда ж это кончится?»
Умерли Валли, Делюк, Мельци, Гитон до Морво. «Какой же я старый!» — думал Вольта. Жизнь возвращалась на круги своя. У Антинори вовсю печатались труды, с типографом Пьятти им удалось издать роскошный пятитомник: на титульном листе посвящение великому герцогу Тосканскому Фердинанду III, на обложке первого тома портрет Вольты кисти Рафаэля Моргены. В семдесят один год, при жизни, Вольта стал вровень с классиками!
В сентябре возобновились заседания Института, через месяц отмечали именины императора. Франц I понимал, что его распухшая империя нежизнеспособна, но «меня и Меттерниха она еще выдержит». Он боялся крамолы, даже паровозов («Как бы железные дороги не нанесли революцию»). От возможных революций несло серным жупелом, обыватели потели от страха, видя экстравагантного Байрона, бродящего по миланским улицам проездом из Женевы куда-то. «Конечно, все ваши горничные беременны от меня», — язвил архиопасный революционер-британец. Как же, огрызались мещане, читали вашу постельную поэмку «Беппо», а еще лорд! Как только не стыдно!
Начался 17-й год. Граф Соро, губернатор и высший канцлер Ломбардии, официально известил из Вены, что Вольта с 1796 года — да, да, именно так! — считается графом, что подтверждается документами. Удивительно, конечно, но что ж, тем лучше. А в феврале Пистолези из Ливорно сообщил про избрание Вольты в члены-корреспонденты Академии «Лавронико». Славный подарок к 72-му дню рождения!
Где же бог?
Бонапарт исчез и из тайников мгновенно выскочили и зажужжали попы. Рим вернули папе, а он вернул иезуитов. Городок Комо всегда считался их ломбардской родиной, а теперь и в Неаполе заработали церковный суд и цензура, в Сардинии отменили аморальные гражданские браки. Вольта жалел, что с уничтожением Кодекса Наполеона внебрачные дети лишались всяких прав, признания, опеки, даже поиски запрещались. Бедный Джованнино!
Когда-то Лепелетье предлагал принудительно учить в интернатах поголовно всех детей с 7 до 12, чтоб уравнять шансы. Этим и занялся знаменитый Песталоцци, названный Бонапартом почетным гражданином Франции. Швейцарский педагог вводил в приютах для бедных не только духовное, но и трудовое воспитание. Он славил технику, облегчающую труд, он гордился придуманным им предметным обучением; вырастали не рабы-ремесленники, как болтали обанкротившиеся остроумцы и злоречивые насмешники, но вполне оптимистичные люди, бодро смотрящие вперед и полезные своим трудом.
Вольта настойчиво искал духовной опоры. «Нет, я не могу сомневаться в моей убежденности и устойчивости к той религии, которую исповедую, — пытался он укрепить свою веру в трех «лекциях» от января 1815 года, — которая есть католическая, апостолическия, романская, в которой я рожден и воспитан, которая распределена снаружи и внутри меня. Иногда я пренебрегал трудной защитой католического христианства, сам я виновен во многих грехах, но благодаря особой милости божьей я не думаю, что я слишком неверующий, так как, бесспорно, никогда ни в чем не покидал веры. Главный мой грех скрыт в беспорядочности, мое число и место есть подозрение в неверии, но заявляю открыто любому человеку и при любом случае: готов преклонить колени и готов любой ценой славить господа с несогбенной верой…».
Как скучно это покаяние! Уж не писал ли профессор своей объяснительно-оправдательной лекции по принуждению, ибо крепнувший дух веры находил разные меры обуздания гордыни смертных, вплоть до письменных исповедей? Вот и юношество надо было излечивать от «кризиса духа», чтоб вернуть в лоно церкви. Этой хворью заражались многие (Агостиньо, Паскаль, Манцони, Фосколо, Пеллико), но пастыри клеили «елейные пластыри» умело и настойчиво.
В 1816 году Вольта получил давно обещанный подарок от Пеллико. Молодой, горячий, талантливый идеалист годом раньше написал и поставил патриотическую трагедию «Франческа да Римини», и тысячи карбонариев восторженно славили неминуемое грядущее объединение порабощенной, но великой Италии.
Теперь бывший Вольтов студент сочинил поэму в честь Учителя! В 46 трехстишиях, построенных в форме разговора Пеллико — Вольта, поэт начертал образ профессора, образ несколько туманный, но привлекательный. Вот несколько фрагментов из нее:
Европа и мир тебя славят, о Вольта! Могучим искусством познал ты Природу, Безгрешна твоя о Вселенной забота. Нам сверху кричали: вот Бог! Он от века! Склонитесь в почтеньи! Он знает и видит! Но горе бурлило вокруг человека. Напыжившись, гордо лжецы изрекают, Нахально берутся учить простодушных, Но только чему? Они сами не знают! Незнанье нас мучит — и мы упрощаем. Нам видится хаос — но глаз примитивен. Увидеть реальность? Но как? Мы не знаем. Так делайте то, что вам жизнь позволяет. Что людям на пользу, то, стал-быть, священно. Пусть каждый стремится, пусть каждый дерзает.Вольта выслушал декламацию, растрогался, обмял Сильвио, но после исполнения ритуала «дарящий-благодарящий» призадумался. Юноша уловил многое: нужду в революционной теории, ограниченность естественнонаучного подхода к жизни, даже какое-то старческое смирение. Впрочем, оно передалось Пеллико, чтобы спасти ему жизнь. Да и можно ли осуждать профессора за противопоставление злу труда, но не бунта? Ведь ему за 70, он видел так много горя, лопнуло столько благих надежд и светлых мечтаний.
А Пеллико покинул Порро и стал редактировать не то чтобы прогрессивный, а скорее просветительский журнал «Примиритель», выходящий в Милане. Редактор писал о Шекспире и Гёте, сеял Шиллеровы идеи о свободе и справедливости, мечтал о единой Италии. Власти позволяли гореть этому печатному огоньку, на его свет бабочками слетались горячие головы, а в начало «военной революции» 1820 года все они были арестованы и преданы суду.
Пеллико приговорили к смертной казни, потом заменили расстрел 15-летним заключением. Благодаря христианскому смирению поэт не досидел срока — в 1830 году вышел из мрачных казематов Шпильберга, издал тюремный дневник «Мои темницы», с интересом встреченный жертвами и палачами во всех европейских странах, а затем сочинил духовный трактат «Об обязанностях человека», который вызвал много нареканий людей, прогрессивно мыслящих, в том числе и Белинского. Старый друг писателя-карбонария Лемонье издал произведения Вольтова студента. Их немало набралось к концу жизни — одних трагедий больше дюжины. Но всего этого Вольта уже не узнает, он уйдет из жизни, когда Пеллико еще будет гнить в тюремной камере.
Другой поэт, Фосколо, переживет Вольту на месяц-другой. Фосколо не повезло: жизнь наградила его способностями, но за страстность он заплатил дорого, наездник был слабее скакуна, тот задавал темп, всаднику лишь бы не свалиться. Увы, он рухнул и погиб.
Работая под крылышком Вольты в университете, он успел написать пару красивых поэм, навеянных грезами Джовьо о совершенство античного мира. Но вернулись австрийцы, против которых он сражался в рядах французов, и бунтарь бежал в Швейцарию. Священный союз и там имел своих агентов, пришлось перебираться в Англию.
Поэт поддался скепсису, говорил о гибели Италии: «Мы все рабы, раздавленные германцами». Еще в 1798 году в одной из поэм Фосколо изобразил разочарование некоего Ортиса, который застрелился из-за невозможности объединения Италии и ухода изменившей возлюбленной. Идея фикс поработила поэта, он слишком вжился в придуманный им образ. Вот и Байрон, их даже путали, настолько ловко Фосколо имитировал образ своего любимца, Байрона не стало, а Фосколо еще целых тринадцать лет носил маску погибшего. Разочарование Чайльд Гарольда еще витало над впечатлительными душами, тяжел был груз хандры.
И когда пробил час кончины Вольты, Фосколо впал в тоску: без Учителя делать нечего, жизнь не удалась. И родились строки: «Возжег я благовонный фимиам над гордой урной физика-поэта, умчит нас вместе в смерти океан холодная задумчивая Лета».
Глава седьмая (1817–1827). ПЕРЕД УХОДОМ
Жизнь прошла, надо было завершать ее достойно. Дети получили образование, можно отдыхать, но Вольта стоял до конца, словно исполняя завет Наполеона. Он читал о восстаниях и кризисах, люди прошлого века уходили из жизни, приходило новое поколение, ученые всего мира извлекали из вольтова столба электрические токи и разгадывали их необычные свойства. А эти токи подарил людям именно он…
1817. Гегель против Вольты.
Шесть дюжин лет прошло. В свой семдесят второй день рождения Вольта глядел в прошлое умиротворенно. Он уже старше, чем была мать, вдвое пережил отца, но кто знает, сколько еще отпущено судьбой. К праотцам он не торопился, смерть наверняка застанет врасплох, как братьев и бедного Фламинго.
В целом жизнь удалась. Вот-вот появится еще один новенький диплом, на этот раз «лавровой» Академии литературы и искусства. Жаль, что нельзя носить орден Почетного Легиона, однако, почему бы не испросить разрешения, начав, как принято у австрийцев, с провинциальной делегации.
Год кончался неплохо, но отчего-то не очень радостно. В декабре Вольту вызвали в Милан: секретарь правительства провинции Ульбрехт поставил вопрос ребром. Правительство желало назначить Вольту деканом, нужна полная определенность, ни на кого нельзя положиться, закон и порядок в первую очередь. Вольта никак не мог бросить службы: строевой лошади надо чувствовать седло, он жил и хотел жить работой. Вот почему 19 декабря родился документ на имя императора Франца I, короля Австрии, Венгрии, Богемии, Галиции, Ломбардии, Венеции, Людомирии и прочая с нижайшей просьбой назначить директором философского факультета университета Павии. Помнится, у него уже были гербовые бумаги с подобными шапками. Наполеона будто и не было, как сон промчался смуглый корсиканец.
Ни о каком активном занятии наукой и речи быть не могло, с повседневными делами справиться бы! Кармини сообщал, что Институту Италии разрешили снова издавать «Акты». В Комо «отцы города» уже полгода никак не могли выбрать места для громоотвода — им хотелось одним махом защитить лицей, собор с колокольней, театр, Коллегию Галилея, больницу, но ведь зона действия стрелы ограничена.
Про электричество тем временем заговорили философы, надо было переключаться на Гегеля. Еще в 1804 году тот начал в Йене читать курс по естественным наукам, а теперь уже в ранге ректора университета в Гейдельберге он издал вторую часть своего труда «Лекции по философии природы». Вольта читал: «Тотальность химического процесса существует, как различие индифферентных тел, здесь дифференцированность еще не наличествует реально, но различие полагается деятельностью процесса как дифференцированность. Так, мы имеем здесь металлы, различия которых приходят в соприкосновения, и так как они в этом соединении деятельны, то есть, дифференцированы, то тем самым наличествует процесс».
Здорово накручено, но германец говорил дельно: срабатывает именно различие в металлах, провоцирующих друг друга на выравнивание своих электрических напоров, избыток заполняет недостаток, сумма усредняется. Разве не об этом многократно писал сам Вольта, только человеческим языком?
А философ все пел про металлы, вдохновляющие друг друга, про касание, порождающее напряжение, про переход электрического процесса в химический. Вот прямо в пику Вольте и его единомышленникам: «Физика упорствует в своем воззрении, что гальванизм как процесс есть только электричество… простой и ясный взгляд на этот процесс был умерщвлен тотчас же после открытия его простого химического образа в вольтовом столбе». Какой там образ? Все химия да химия, а где ж «образы» тепла, света, вкуса?
Гегель учил Вольту, что такое «влажный проводник», ссылался на сочинение г-на Поля «Процесс гальванической цепи». Био как-то сказал, что вода есть изолятор электричества, это не совсем так, а тевтонец увидел повод обозвать француза упрямцем. Потом попало Берцеллиусу, как он посмел сравнить электричество с самим химизмом? Ведь искра, то есть электричество, исчезает, а окислы, то есть химизм, остаются! Какой абсурд, но опять книга философа учила Вольту, что его столб не есть электрическая батарея, однако разве столб не усиливал обычное электричество, делая действия электричества, например искру, всего лишь заметнее?
Гегель бушевал, все с ним несогласные якобы судили легковесно и прозрачно. Вот он заговорил про Волластона и Дэви, «гальванизм открыл Гальвани, но Вольта первый понял его характер», «Вольта взял металлы вместо мышц и нервов» (да так ли это?) и т. д. и т. п. тридцать страниц из шестисот — электричеству отдана немалая дань!
Вот и появились ссылки на Вольту еще при жизни, чего еще желать? Электричество, Вольтов удел, оказалось вершиной физической горы, а Ньютону досталось место где-то у подножия.
У Гегеля многое звучало откровением, поражая справедливостью: физика ощущает, обобщает, абстрагирует: взявшись понять природу, мы разлучаемся с ней, отчуждаемся. Зверь сжирает пищу пастью, мы умом.
И снова Гегель писал про столб. Вольта, мол, за действенность контакта; другие с Берцеллиусом во главе за первичность электрических сил атомов; третьи, среди них Риттер, Волластон, Беккерель, утверждают: электричество порождено химическими реакциями. Самое место опять вспомнить Гёте: «Анализом природы, как на смех, гордится химия, но полон ли успех? Разбит у ней на части весь предмет. К несчастью, в нем духовной связи нет».
Вот Гегель цитирует Шеллинга: мир есть сумма природы и духа. Природа есть окаменевший интеллект (вот это вольт!), природа есть инобытие идеи (тоже лихой поворот!). А Шеллинг еще прозорливее назвал электричество «разломанным», так и есть, пожалуй: оно дает много частностей, оставаясь все тем же.
Но вот прямое оскорбление. «Бесконечно мощные индивидуальности не выдерживают напора времени и рано умирают. Лишь их подвиги, их дела остаются, то есть остается ими созданный мир. Посредственное длительно существует и, в конце концов, правит миром. Эта посредственность обладает, также, и мыслями, она убеждает в правоте этих маленьких мыслей окружающий мир, уничтожает яркую духовную жизнь, превращает ее в голую рутину и, таким образом, обеспечивает себе длительное существование. Ее долговечность и означает именно то, что она упорно стоит на своей лжи, не добивается и не достигает своей правды, не воздает должное понятию, эта долговечность царства посредственности означает, что истина не воплощается в нем как процессе».
Какая напраслина! Почему ж рано умирает особо мощное? Все наоборот, словно философ жаждет прославиться парадоксами. Да, Вольта старик, и у него были силы жить долго и многое сделать. И Гёте таков же, и он тоже не согласится. «Какую жизнь ты назовешь счастливой?», — спросили Леонардо да Винчи, и он ответил: «Долгую! Только долгоживущий успевает набраться ума и создать нечто обдуманное». Вот Риттер: смел, пылок, но экспромты сыры, блеск импровизации глохнет в мусоре. Он дерзал и бросался в крайности, он не успел встать выше заблуждений. Он умер в 33, но это не Христос, а лишь способный смертный человек, не успевший созреть.
Как можно столь опрометчиво показывать эмоции перед молодым хворостом студенчества, и без того готовым вспыхнуть без нужды? Не потому ль бурлили прусские университеты, а в Варцбург под предлогом празднования юбилеев Реформации и Лейпцигской битвы съехались сотни горячих голов из разных университетов, они жгли книги и солдатские аксессуары. Что будет, предсказать нетрудно на примере Франции, там философы уже пробовали учить людей, не зная конечной цели, Европа до сих пор содрогается.
1818. Реформа языка.
Карета прошлого катилась как всегда. Декану Вольте пришлось добиваться составления топографической карты Комо силами астрономов школы Брера. Потом занялся кафедрой экономических наук: Моретти держит курс на экономику сельского хозяйства, но в Праге уже есть такой профессор, лучше б говорить о кафедре политической экономии. И Вольта блеснул ссылками на Рикардо — его новую книгу о прибавочной стоимости только прислали из Англии.
И посыпалось… В феврале поддержал петицию профессора Фьоччи; перевел в Турин Бертолини, чтоб стал там инженером-архитектором, благо в Павии нет такой специальности; послал на отзыв «Конические сечения» Лампукьячи; объявил конкурс по кафедре философии для магистров, докторов и профессоров математики, права, медицины и хирургии; известил всех о годности только печатных, но не рукописных трудов.
В марте пустил Сантагостино в аспиранты, дал Бруначи в помощь ассистента Гратоджини, разрешил Иринетти пересдачу экзамена. В апреле выпустил приказ об экзаменах, замещениях, реорганизациях, конкурсах, вакансиях, штатных должностях. Профессора Клебенца — на кафедру немецкого, профессор Маццони сплоховал со студентом Гриффини, на кафедры в Падую, Ворону, Венецию, Винченцо, Удино претендуют Замбони, Николино, Клеес и Ракетти, доктора Марианини пора передвинуть с кафедры элементарной физико-математики на физико-математику прикладную, а с ним инженера Белли.
Тут терпение иссякло. Уж семдесят три стукнуло, а крутится как белка в колесе! Мало Павии, еще подбросили университет Падуи и лицеи в четырех городах!
Приходится думать о шести родственных факультетах. Невмоготу! И в правительство уходит бумага: 44 года служу в Павии профессором физики, веду факультет философии и математики по примеру коллег Скарти (факультет медицины и хирургии) и Тамбурипи (факультет права), работа почетна и ответственна, но нелегка, а функции разнообразны, поэтому вынужден просить об отставке.
Пошло прошение по равнодушным инстанциям, в ожидании ответа добросовестный Вольта тянул лямку по-прежнему. В мае третьекурсник Ловетти пожелал стать инженером-архитектором; на кафедры подведомственных факультетов захотели перейти Моретти, Кальяпи, Зепдриони, Кериоли и аббат Конфильяччи (его можно понять, сколько ж ходить в подручных?). По примеру Брешии надо б создать кафедру нумизматики и антиквариата; Фьоччи с кафедры классической литературы, латинского и греческого языков все еще носится со своей петицией отменить экзамены для инженеров и агрономов, как принято в германских университетах; для нумизматов объявлен конкурс, а в Павии и Падуе пора создать кафедры дипломатики и геральдики; наконец, надо утвердить итоги разных конкурсов, здесь и Альдини среди дюжины замещающих.
И в июне: Цугалу на кафедру эстетики; умер Бруначи, надо собрать памятное заседание, заказать мемориальную доску, найти преемника; хорошо б перевести экзамены на осень по примеру Праги. В июле конкурс на кафедру философии в Павии и Падуе, среди пяти претендентов сын Джовьо Балтазар (да, жизнь прошла); теперь конкурс на кафедру древних языков, как у Лемберга в Вене; из Брешии просится обратно Николини. Наконец-то запрос: а кто ж сменит тебя, Вольта? В какой раз отвечаю — Конфильяччи! Иначе уйдет, а таких, кто может взяться за подобное дело, немного.
Попутно с ежедневными административными заботами приходилось успевать делать кое-что для себя. Едва упросил Джовьо написать друзьям в Вену, чтоб разрешили носить орден Почетного Легиона, что ж зря лежать изящному крестику? Год, надо же, пришлось ждать диплома из Ливорно, впрочем, и Вольта три месяца потянул с благодарностью, был безмерно занят. В феврале немного занемог, пришлось Терезе мчаться в Павию, ухаживать за мужем. В апреле успел отправить письмо к Линусьо с приветом от Бруньятелли и его деток, они уже сотрудничали в отцовском журнале.
В мае удалось выкроить день-другой для серьезного дела. Еще в прошлом году Грасси издал в Милане роскошный «Военный словарь», а Монти взорвался негодованием: кому нужна эта чушь про крестоносцев? Вместо того чтоб зря тратить время, предложил Монти, не лучше ль писать про гигантов нашего века, таких, как Ориани, Вольта, Джордани, Мустоксиди?
Еще в 13-м году Вольта способствовал вводу Монти в Институт Италии. Тот поднял острую проблему реформы итальянского языка. Создали инициативный комитет из десяти человек, Вольту ввели как знатока научной терминологии и поэта. Когда австрийцы сменили французов, коллега Соро взлетел в североитальянские министры, в 1815 году он разрешил работу над словарем, в октябре того же года собрали сведущих людей, во главе их поставили Бернадотти, и работа закипела.
Словарь скоро появился, удивительное в другом: как Вольты хватало на все дела? Он один в университете выполнял функции, которые в наше время лежат на деканате, ученом совете, отделе кадров, кафедре и областном отделе высшего образования. А тут еще лингвистика! Нет, не правы те, кто позднее припишет Вольте «умственное истощение», якобы мешавшее ученому вести плодотворную научную работу (например, известный историк физики Розенбергер). Вольта служил преподавателем с тех самых пор, как 44 года назад Фирмиан дал ему сверхштатную должность регента. Наука как таковая для Вольты всегда была предметом увлечения — любимым, получавшимся, в конце концов, принесшим славу, но предметом бесплатным. Зато на старости лет профессор превратился в чиновника высокого ранга по части образования.
Не за горами был конец его каторжной профессорской службы, к нему следовало готовиться. В июне университет погасил долг за жилье, накопившийся за три года аренды квартиры в Павии, где Вольта жил со Скарпой. В июле удалось добиться для Конфильяччи дополнительно 500 лир в год на метеорологическую обсерваторию. Из дома писала Тереза: волнуется, мучают какие-то предчувствия, хотя ничего нового нет. «Прочитал твое письмо и огорчился, — отвечал Вольта. — Радует только, что нет новостей, это уже хорошая новость. У нас тут в Павии 23 градуса, ночью 17, утром 20. Жары нет, но хочу в Комо».
Свершилось долгожданное событие: Луиджи и Занино 6 августа получили дипломы с отличием! Кожаные папки, латинские буквы — красота! Отец сразу послал в Комо гонца: пусть слуга Виченцо обрадует мать, через неделю усядемся за праздничный стол, с нами приедут Гульярди и Конфильяччи.
После семейного банкета из Комо в правительство полетели депеши: следует воздать должное Конфильяччи, он тянет воз и за Бруначчи, и за меня, надо бы дать ему 1151 лиру в год. Не забудьте, еще через месяц напоминает канцелярии добросовестный декан из Комо, что курс общего естествознания непременно следует расчленить на химию, физику, теплоту, теорию с фундаментальными принципами и описанием молекулярных притяжений (!).
Конфильяччи был бы рад сменить Вольту, но старика все же оставили деканом, правда, предоставив ему право бывать дома почаще. Все оставалось по-прежнему, ярмо ненамного стало легче. В ноябре опять про латынь, ее надо в курсе усиливать, вот почему «Руководство по теоретической и практической философии» Сальвиоли признано предпочтительней итальянской «Логики» Соаве.
Плохие новости не задерживаются: только вспоминал Бруньятелли, а его уже нет, всего пятьдесят семь! А ты, Конфильяччи, напутствовал Вольта из дачного дома в Лаззате своего помощника, был бы хорошим ректором и будешь им непременно. Впрочем, с теми, кому покровительствовал Вольта, что-то не ладилось, в Милане приходилось расхваливать аббата слишком сильно, когда переправлял в центр деканские отчеты.
Умилил Катеначчи, прислав новенькое издание «Поэзии и прозы» Мартиньоли (уж пять лет, как нет на свете старого друга!) и надписав дарственную: «Искусство антики, твоя стрела дрожит, когда ты целишься в недревние предметы!» Ах, негодник, знает, что Вольта пятится по жизни, уставясь в идеальное прошлое!
А в целом год выдался спокойным. Тициановский университет издал стихи молодого Вольты. Дюлонг и Пти поставили интересный опыт с тепловым расширением ртути, с двумя термометрами и двумя уровнями, надо вводить в курс как классику. В Аахене собрался конгресс стран-победительниц, решили вывести войска из Франции: она уже выплатила контрибуцию и может войти пятой страной в коалицию. Наполеон еще жив, но память о нем почти умерла. Вот и Монж 8 июля преставился, хорошо, что еще не казнили за прегрешения, всем уже осточертела кровь. К старости «барон устьев Нила» обезумел, много волновался на своем веку. Итальянцы не любили этого морского министра, Бонапартова друга, участника походов в Египет и Сирию. Во исполнение приказов Директории именно Монжу пришлось обозами вывозить из Италии 500 ящиков с картинами и скульптурами, создавать и ровно через девять месяцев уничтожать Римскую республику, вводить нудную систему департаментов, советов, выборов по французскому типу, отдавать страну нерадивым марионеткам, пяти консулам и десятку министров. Как было не смеяться, глядя на тщетные потуги увлечь итальянцев «Марсельезой» и переводами Корнеля, Мольера, Расина.
В 1818 году произошло еще одно историческое событие, о нем никто не знал, однако в XX веке мир потрясут радикальные переустройства: в Трире родился мальчик по имени Карл Маркс…
1819. Россия вспомнила!
Год начался с денежных неурядиц. Примета плохая, но куда денешься. Еще в декабре между Павией и Ровиго началась переписка: недоплатили, взывал Вольта, не может быть, отвечал монсеньор Молин, расписки в порядке. В январе противостояние продолжалось: ваш долг 1400 с лишним, уведомлял экс-сенатор, а казначей епископата Адрии вдруг замолчал, неужто умер?
Зато деканские дела кипели по-прежнему: учебник Савиоле никак не мог перевесить книжонку Соаве, верхи требовали все новых обоснований; Вольта упорно проталкивал Конфильяччи в ректоры, пользуясь любым поводом, на этот раз потребностью создать школу инженеров, архитекторов и землемеров. Опять что-то не срабатывало, кто-то невидимо притормаживал иезуитов.
29 марта неожиданное послание из Петербурга: секретарь Грассман составил диплом почетного члена тамошней Академии. Неплохо, но поздновато, отчего-то по-немецки, хотя, впрочем, и там, и здесь правят германцы, даже в жилах Александра I текла немецкая кровь, к тому же он возглавлял, тевтонский, по существу, Священный союз. В Санкт-Петербургской Академии непременными секретарями служили Гольбах, Шумахер, Эйлер-сын, сейчас все еще тот самый Фусс, но кто такой Грассман Г.В.? Опять же, если нельзя по-итальянски, то почему бы не на латыни. Или пусть по-русски — хоть и не уразумел бы ни слова, но не раздражало бы так, как угловатые росчерки готического шрифта.
В апреле Вольта все еще сидел в Павии: то конкурсы, то неприятная новость о смерти Молина, пришлось отправлять студентов Бобби и Панелли на стажировку в Австрию, кем-то надо заменить умершего брешианца Виченцо Розу в музее зоологии. Еще в 1787 году Розу рекомендовал Фирмиану сам Вольта…
В августе — сентябре декану удалось выкроить немного времени и побывать дома. Линусьо прислал свою новую книгу «Зоорефлексы», Вольта похвалил, добавив «…мне почти семдесят пять. Осень, отдыхаю, почти месяц, как вернулся в Комо». В сентябре Марцари из Тревизо поздравил с избранием в свою Академию и, взбодренный почестью, декан с новой страстью взялся за работу. А в Вене траур — умер престарелый Вилзек.
В Англии было не лучше. В августе под Манчестером власти разогнали массовый митинг рабочих, через три дня после этого скончался великий Уатт, якобы потрясенный «побоищем при Ватерлоо», как назвали этот эпизод склонные к хлестким словечкам газетчики.
Самым надежным занятием, как всегда, оказывалась наука, она уверенно шла вперед. То Френель интерферировал свет двойной призмой, то Дюлонг и Пти провозгласили любопытный закон: чем тяжелей вещество, тем меньше его удельная теплоемкость. В Лондоне вышла уже третья по счету книжка Альдини: вначале одна за другой в Париже появились труды во славу гальванизма, теперь же речь шла о медицинских задачах электричества, «главным образом о поддержании жизни».
Альдини славился умом и добротой. В итальянский Институт его ввели одним из первых, он знал французский и английский одинаково хорошо, все состояние потратил на любимое детище — созданную им для рабочих физико-химическую школу. Его любили, простой народ души не чаял в «отце-просветителе», студенты Болонского университета обожали заведующего кафедрой физики и химии.
А год как начался, так и кончался деньгами: в ноябре пришлось срочно отдавать семье Мартиньоли долг в 4000 лир…
1820. И грянули бури.
Ну и потрясения! Такое же впечатление осталось с детства, когда спрятался в выемке скалы у озера, а вокруг хлестал ливень, в воду били молнии, гремел гром.
7 марта восстал Мадрид. Через несколько дней Фердинанд IV восстановил наполеоновскую конституцию 12-го года, освободил узников из тюрем и набрал в правительство умеренных либералов. Испанских Бурбонов били, а Вольте приходилось верно служить австрийским Габсбургам. Как декан он составлял для Милана подробные досье на свою профессуру: Даддо, Галли, Савиоли, Бордони, Фьючи и Конфильяччи. Потом еще на аспирантов, претендующих на вакансии в университете и лицее Брешии, в том числе на Золу, Манцини, Зантедески и молодого Бруньятелли.
В июне сам Брюстер, калейдоскопом которого три года играла вся Европа, в качестве секретаря Королевского общества в Эдинбурге поздравил с избранием. Потом донеслась весть из Парижа о кончине молодого (только тридцать девять!) Пти, его место в Политехнической школе занял бессребреник Дюлонг, тративший все свои заработки на лекарства больным и книги студентам.
Люди уходили, точно листья сыпались с дерева осенью. Умер сэр Джон Бэнкс, более сорока лет руководил он Британским королевским обществом. Сэр Джон на два года старше Вольты. Ах, самому бы еще года два выстоять в этих бурях! Вслед ботанику пришел электрик Волластон. Прибыла весть о кончине Георга III. При нем Англия упустила Северо-Американские Штаты, зато отняла у французов Канаду, утвердилась в Индии, захватила Австралию. При нем Англия, не переставая быть «мастерской мира», окончательно сделалась «владычицей морей». Впрочем, имя короля не более чем зарубка на дереве истории. И сообщение это не вызвало ничего, кроме разве что желания дожить хотя бы до его возраста — восьмидесяти двух лет.
Отвлекаясь на подобные мысли, Вольта все еще разъяснял местным властям, отчего не соответствует требованиям книга Штейна для упражнений в греческом, почему прав Фьоччи, все еще желающий внедрить учебник Савиоли вместо пособия Соаве. Впрочем, в июле декан все же на два дня съездил в Милан вместе с Луиджи. «До чего ж я был счастлив этой поездкой», — признавался он жене.
Но вот и в Италии грянула политическая буря. Начали революцию военные — как в Испании, тайные венды карбонариев мечтали изгнать австрийцев. Началось в Неаполе, «австриячка» королева Каролина, сестра Марии-Антуанетты, билась в истерике, перепуганный Фердинанд IV будто копировал поступки испанского тезки, но тут вспыхнуло восстание в Сицилии, входившей в то же Неаполитанское королевство.
А Вольтов знакомый по Лиону, Манцони, на этот раз поразил всех очередной трагедией «Граф Карманьола». Вот шутник, назвал графом пляску якобинцев, когда еще подпевают пританцовывая! В эти бурные дни везде, и в Павийском университете тоже, требовались сильные администраторы, чтобы держать в узде горячих студентов, а имя Вольты вдруг зазвучало на допросах арестованных. Вот каков тихоня, притворялся верноподданным, а сам сеял крамолу с кафедры!
Участь Вольты была решена, но разделываться с ним предстояло умело, чтоб не возбуждать венских покровителей. Кажется, граф Вольта просил отставки, словно невзначай вспомнил ректор Спедальери, так быть посему, придется резко урезать его обязанности, но расставаться с ценным ученым нежелательно.
Но приказ только о вас, там обо мне ни слова, растерянно сетовал Конфильяччи, вы почти отстранены от всего, а как же я? Вольта сокрушенно разводил руками: кому в Шпильберг, ему в Комо, а бедолага аббат пусть радуется, что его, не защищенного ни старостью, ни регалиями, вообще не изгнали из университета под горячую руку.
Европа вновь бушевала. Революционная хунта захватила Лиссабон, в Сицилии восстание подавлено, в Неаполе пришлось учредить парламент. В австрийском городке Троппау срочно собрались министры Священного союза.
Их пугали бунты против Бурбонов, перед глазами маячил призрак наследника французского трона герцога Беррийского, убитого кинжалом рабочего-седельника Лувеля. Лувель отправлен на гильотину, но сколько их, еще никому не ведомых фанатиков, скрывают в себе трущобы столичных предместий?
В физике тоже гремела революция. Электричество могло светить, нагревать, порождать новые вещества. В июле Делярив демонстрировал вольтову дугу, женевец намного опоздал по сравнению с неизвестным русским и даже Дэви, по Париж все равно восторгался. В Дании Эрстед заметил, что магнитная стрелка становится поперек провода с током, Араго в Париже обсыпал провод железными опилками, они кольцами окружили ток.
Потом Прехтль называл магнетизм и химизм детьми электрицизма, мюнхенцы во главе с Шеллингом долго рассуждали о том же. Впрочем, даже Монж замечал, как столб намагничивал швейные иглы. Альдини писал об этом в «Трактате о гальванизме» в 1804 году.
Вот новое сообщение из Парижа, Араго утверждал, что как обычное, так и «вольтаическое» электричество намагничивало железо одинаково. Тождественно, поправил буквоед Деламбр, ученый секретарь Института. Этот Араго подпал под гипноз Вольты, он благоговел перед могучими силами высвобождаемого из мрака электричества и уже стариком выскажет свой юношеский восторг словами, отдающими должное Вольте: «Этот столб из разнородных металлов, разделенных небольшим количеством жидкости, составляет снаряд, чудеснее которого человек никогда не изобретал, не исключая даже телескопа и паровой машины».
Интересно все же быть стариком, новые и старые факты не просто сыпались в кучу, оставаясь одинокими крупинками, но срастались по родству, группировались в рисунки, тоненькими стебельками струились из общего комля! Вот, к примеру, Ампер. Когда Вольта был в Лионе, он мог познакомиться там с учителем физики в школе Бурже, старому и молодому было бы о чем переговорить, семьи у них были клерикальные, связанные с иезуитами. Впрочем, Ампер имел причины не любить все, порожденное революцией, в том числе и Наполеона: в годы террора он потерял отца, который был судьей у мятежников-роялистов. В тринадцатом году Ампер заменил в Институте умершего Лагранжа — честь высокая, а сейчас он отзывался о Вольте прекрасно: «Доказательство тождества гальванизма и электричества, данное Вольтой, сопровождалось изобретением элемента, а затем последовали все открытия, которым положил начало этот электрический прибор». Или: «Имеется несомненное действие между двумя металлами, Вольта доказал это наиболее полным образом». Что ж, лионец не путал следствия с причинами. А вот еще: «В истории наук имеются эпохи, отмеченные плодотворными открытиями, влекущими за собой множество других. Такой была эпоха в конце прошлого века, когда Вольта изобрел прибор, который справедливая признательность ученого мира посвятила автору, присвоив название вольтова столба». Вот парадокс, этот Ампер ненавидел Бонапарта, но объективно шел за экс-императором в высоком признании Вольтова источника тока!
Внешне Вольта не реагировал на токовый и магнитный бум: устал, пугали невероятные возможности новой физики. Впрочем, кого же не обескураживали странные магнитные вихри вокруг проводов? Вдоль или поперек тока — это было бы естественно, но вокруг? Трезво мыслящий Ампер и тут нашел гениально простой выход: магнит был всего лишь токовой петлей, так что о «магнетизме» следовало забыть раз и навсегда.
Не магнит становился поперек тока, а петля одного тока ложилась в плоскости тока другого! Увы, большинством голосов физики все же впустили в свой дом гипотезу Эрстеда, спровоцированную туманными воззрениями венского философа Шеллинга. Природа едина, учил тот, а потому разные ее проявления суть тождество. Абсолют Шеллинга, шутил Гегель, походит на сумрак, в котором все кошки серы, но с помощью Эрстеда физика все же споткнулась на ступеньке, ведущей от электричества неподвижного к движущемуся. То было простым и логичным, в этом появились магнитные странности; многие почувствовали коварный подвох, но никто так и не смог назвать причиной семантическую ошибку.
А год кончался столь же сумбурно, как и начался. Во вторник, 21 октября, миланский правитель граф Штрауссольдо официально подтвердил политическую лояльность и благонадежность графа Вольты, пригласив его на официальный обед. Точно в три с половиной часа, явка гостей в мундирах со шпагами. «Свари-ка мне картошку в мундире!» — пошутил Вольта, обращаясь к жене, покуда облачался в опереточные одежды ради предстоящей церемонии.
1821. Новые удары.
В самом начале года конгресс Священного союза перебрался: в Лайбах, поближе к Италии, и зловещее соседство не замедлило сказаться. Австрийские войска двинулись на Неаполь, а в начале марта буквально раздавили войска мятежников. Вернулся радостный и озлобленный Фердинанд IV, конституцию упразднил, тюрьмы переполнил.
Однако потушенный пожар перебросился в Пьемонт. Восстали войска, Виктор-Эммануил I отрекся от престола, революционную хунту карбонариев повел за собой граф Санта-Розза. Регентом стал племянник короля, но через несколько дней он сбежал. В апреле австрийцы шутя рассеяли бунтовщиков, начались репрессии. «Я же говорил, — злобствовал граф Порталла, он же князь Меттерних, — что Италия — всего лишь географический термин».
Волнения непосредственно Ломбардию не затронули, но кто ж мог оставаться спокойным? Внезапно пришла весть со Святой Елены — умер Наполеон. Мучила слабость, изнуряли: кровотечения, припадки озноба, распухали ноги. Ссыльный император подозревал у себя рак, отец тоже погиб от опухоли. Вскрытие вроде бы подтвердило: изъязвлен желудок.
Ерунда, кипятились ветераны наполеоновских походов, его утащила на тот свет креолка Жозефина. Императрица умерла в 51 год, и бывшему мужу дала прожить столько же! Она скончалась в мае 29-го, и для него май, пятое число, стал роковым! И вообще все его победы — ее рук дело, она принесла ему счастье, он сам уничтожил себя, сменив чертовку-креолку на худосочную австриячку. А поводом для колдуньи стал Неаполь, ведь муженек был связан с этим городом неземными нитями Napoleonе — Napoli. Восстал Неаполь — у Бонапарта начались припадки. Неаполь сдался — и корсиканец недолго протянул.
В географических аналогиях действительно проглядывала какая-то чертовщина, ведь активность Наполеона загадочным образом постоянно обращалась на Италию. Взлет его начался с итальянского похода, именно в Неаполе в 1809 году по его тайному указу отравили его бывшего друга Салицетти, через Турин он трижды проходил с войсками (1796, 1799, 1802).
Трезво мыслящие уверяли, что Бонапарта сжили со света англичане, охранявшие его остров, но премьер Англии Фокс клялся, что времена Макбета и Борджиа прошли безвозвратно. К тому же экс-императора окружала преданная ему свита из двадцати человек, убежденных бонапартистов, в том числе повар, врач, слуги и телохранители.
Только через полтора века всплывет трагическая в своей смехотворности тайна гибели Наполеона: его, покровителя ученых, погубила наука! Причиной смерти, по-видимому, стал мышьяк, пропитавший обои и гардины, но попавший туда не из рук злоумышленником, а содержавшийся в зеленой, столь любимой императором краске. Геральдическим знаком дома Бонапартов служили золотые пчелы на зеленом фоне, преобладавшем в одежде узника и убранстве его департаментов. Кстати, подобными болями страдали и все его слуги.
Подумать только, химик Шееле умело придумал зеленый пигмент, дешевый и стойкий, фабриканты схватились за выгодную новинку, а она со временем стала выделять мышьяк в результате спонтанно шедших внутри неё химических реакций. Сколько ж народу погубили зеленые обои? А Наполеон, вот незадача, опекал науку, а та сжила его со свету!
Вольта много думал об изгнаннике и оплакивал императора, всем-всем одарившего ученого. Вот и сейчас приходилось заниматься пенсией, назначенной папой по настоянию Наполеона. В мае от монсеньора Равази, заменившего Молина в епископстве Адрии, Вольта потребовал доплатить 540 скуди, но тот сослался на приостановку всех выплат из-за военных действий. Все титулованные пенсионеры волновались (Монти, Ориани, Пертьери, Тривульцио), но денежные ручьи иссякли, письменные запросы не помогали.
Мир продолжал клокотать. В Испании «апостолическая хунта» требовала репрессий. Дон Карлос брался сменить Фердинанда VII и продемонстрировать настоящий порядок. Взбунтовалась австрийская Моравия, восстали греки, германских крестьян умело вывели из игры, милостиво позволив выкупать участки в рассрочку.
Незаметно ушла из жизни старая подруга Чичери, она действительно стала совсем старой, семьдесят один год. Я любил её, растроганно вспоминал Вольта когда-то юную мать своего незаконного первенца, но от Чичери мысли перескакивали к Бонапарту. «Всегда одинокий средь людей, я возвращаюсь к своим мечтам лишь наедине с самим собой», — разве не так говорил в 1786 году этот застенчивый мальчик, лишь казавшийся решительным. Сила Наполеона крылась в изумительном актерском таланте, в идеальном послушании обстоятельствам («Я только слуга природы вещей», — откровенно делился он со всеми), но никто не желал видеть правды, все хотели видеть монстра или гения, а отнюдь не марионетку. Разве только Фуше и Талейран поняли механизм Бонапарта, поняли и обратили угаданное ими свойство во вред вознесшему их к вершинам властителю.
В память об императоре Вольта надумал носить орден Почетного Легиона. «Орден почетной кастрюли» — в свое время издевался Моро, но тут пахло совсем не кухней, легионеры стали новым дворянством взамен уничтоженного королем, 15 их когорт были прочной опорой трона монархии Бонапарта. На просьбу Вольты из Парижа ответил секретарь канцелярии ордена Саймо: «Желающим подтвердить членство посылаем дубликат удостоверения в обмен на анкету и заявление». Вольта отослал.
А что ж наука? Там новостей с избытком. Вернулся из Антарктиды россиянин Беллингсгаузен с рассказами и невиданными картами. Навье вывел сенсационные уравнения для упругих жидкостей. Что-то интересное о цветовом спектре писал Гете, его восторженно одобрял Гегель. Владелец оптической мастерской в Баварии Фраунтгофер научился разлагать спектр решеткой тонких и близко расположенных борозд на стеклянной пластинке. Удивительные радужные спектры — и столь простыми средствами! В духе Вольты.
Лаборант сэра Хэмфи Дэви по имени Майкл Фарадей продемонстрировал в Лондоне вращение магнита вокруг провода с током (и наоборот), но Вольта смолчал. «Vanitas vanitatum et ornnin vanitas» («Суета сует и всяческая суета») — словно молча вторил Экклезиасту усталый ученый. Его апатию, быть может, разбила бы другая новость: Зеебек в Берлине нагрел лампой стык проводов из меди и висмута, и по цепи побежал ток, отклонивший магнитную стрелку. Разве не то же самое в 1794 году проделал Вольта?
Две банки с водой, между ними перекинуты два мостика, железный и посредством разделанной лягушки. В одной банке кипяток, в другой вода холодная, а конечности: лягушачьего тельца бьются в конвульсиях, пока вода не остынет. Зеебек не слышал про опыт Вольты, Вольта тоже не знал про Зеебекову находку.
У него дома в конце года состоялся званый обед по каким-то ничтожным причинам, но на самом деле хозяин втихомолку чествовал память Наполеона, втащившего профессора на горку. О, этот суетный мир, не знающий справедливости! А как изысканно тешил гостеприимную чету Вольта и их гостей падре Вилларди импровизированным сонетом: «Бессмертный Вольта! Средоточье силы! Окно в природу настежь распахнул. Бог музу вдохновил, а я ее пришпорил, садясь за стол. Пегасом стал мой стул». Браво-браво, умилялся хозяин и гости с ним…
1822. То густо, то пусто!
В Павию ездить прекратил: обязанности урезали, стало быть, не нужен. Словно в насмешку (чем меньше работаешь, тем больше благ) хлынули добрые вести. Вена разрешила получить дубликат ордена Почетного Легиона, министр внутренних дел империи наказал делегации Комо особо пестовать награжденного другой державой. Не абсурд ли, словно орден перестал быть наполеоновским? Но что им делать? Друг другу монархи и впрямь братья, они дерутся чужими руками, пьют чужую кровь, блаженствуют за счет чужих страданий.
Еще лучше оказалась благая весть о деньгах. Еще в апреле Беллани призывал бунтовать против ареста пенсий и ограничения ипотеки, а в мае указ: пенсии восстановлены полностью! Как экс-сенатору — 1200, как почетному профессору — 3840, как исполняющему обязанности профессора в сокращенном объеме — 480 лир в год. Жить можно было спокойно.
А из Испании донесся клич толпы: «Риего, конституция или смерть!» В российском Вильно поляки ликовали, упиваясь Мицкевичем, певцом свободы. Зашевелились французские карбонарии. Продолжался победный марш науки: из Парижа прислали только что изданную книгу Фурье «Аналитическая теория теплоты». Там не было новой физики, была новая математика. Формулы размерностей, теплом двигал температурный напор, в электричестве было нечто похожее: напряжение, двигавшее током. Слов нет, расчеты облегчали понимание, но беззаботное наслаждение найденными впотьмах эффектами кончалось. Молодым уже придется поскучнее: барон Фурье, участник египетского похода Бонапарта, пустил в ход формализованные символы. С символами, кстати, тогда же отличился другой герой Египта, только вооруженный нe ружьем, а очками библиофила. Его звали Шампольон, его труд весом в добрых три килограмма с разгадками египетских иероглифов лежал на прилавках радом с аналитикой Фурье.
Интересные вещи делал Дэви, он разглашал добытые им новости: сопротивление провода току увеличивалось с длиной, и температурой, но падало по мере утолщения. Впрочем, Вольта это уже знал, Марианини с его павийской кафедры давно выяснил то же самое.
Но вот словно вновь прорвался холодный ветер: один за другим ушли Фаброни, Гроттгус, Бертолле — плеяда химиков, занимавшихся электричеством. Правда, с Фаброни Вольта не сошелся, тот еще 30 лет назад уверял всех, будто именно химические процессы между металлами толкали электричество в опытах Гальвани. Предполагать можно что угодно, но зачем выдавать кажущееся за действительное? Может быть, оттого ересь разрослась. Готро и Волластон перенесли ту же схему на столб, мол, активен контакт, но не металл — металл, а металл — жидкость. Зато модель Гроттгуса казалась весьма разумной: за исключением мелких шероховатостей, она действительно ляжет в основу ионных теорий.
Вольта растроганно вспоминал французские встречи, но опять извне прорывались и наслаивались на пасторальные картинки прошлого дикие бредни настоящего. Турки потрясли мир жестокими убийствами греков; в Испании казнили героев герильи, восстановили инквизицию, жгли и пытали жаждавших перемен, живописец короля Гойя отважно отобразил буйство темных сил в своих «Капричос. Сон разума».
Вот умер молодым Гофман. В его родном Кенигсберге помнили о странном человеке и придуманном им странном мире: странах фей, свободы и тепла, туманных надеждах и безумных желаниях, котах и пуделях, качелях на нитях снов, сплетениях света в радужные ткани, тающих в ладонях призрачных пятнах. Мир Вольты ничем не напоминал фантасмагории романтики, он был прост, ясен и труден.
…Вольта выбрался из дома в базарный день и словно вдохнул живительной реальности. Хрюкали свиньи, булькало молоко, сквозь зелень лиственных салфеток желтели масляные шары, блеяли гурты коз, загорелые пастухи жевали дешевые пряники, девушки сосали винные ягоды и грызли семечки. Босоногие сорванцы, белые ирисы и нарциссы, красные маки. Ветер с горных склонов ледяными струями вырвался на раскаленную площадь. А по улице уже цокала кавалькада ослов с клоунами, коломбинами в пестрых юбках, бродячий цирк торопился раскрасить день краткого отдыха от тяжелого труда мазком минутной радости.
Вернулся домой — опять досадная неприятность: уходили не только мертвые, но и живые. 17 лет работал рядом, подставлял под груз службы свое плечо, но под конец не вытерпел и уволился «вечным наследник» Конфильяччи. На факультете философии он стал заслуженным профессором, членом советов в университете Найми и в Институте Милана, редактором научного журнала, участником всех комиссий и жюри. На его место пришел профессор Беллисоми. Огорченный Вольта отправил гневное письмо в Милан, исправно приложил проспект прошедшего учебного года и зарекся впредь хоть пальцем шевелить для равнодушных чиновников.
А декабрь радовал и огорчал одновременно. В коммуне Лаззате Вольту избрали первым депутатом с большим отрывом по числу поданных голосов от Дискачьяти и графа Ватты. А дружище граф Норро пригласил в комиссию почтить монументом память безвременно усопшего в Венеции великого скульптора Канову. Тот воспевал античность, Рим, вот бы в честь потомка латинян вырубить что-то столь же чистое, грандиозное, классическое. Непременно из каррарского мрамора, этот камень прозрачен в глубину на дюйм, даже на два. И Вольта с Порро принялись с жаром отбирать кандидатов для изготовления Каноне истинно достойного его памятника.
1823. Тревожный звонок.
В Комо обрадовались, что графа-ученого турнули из Павии; он нам самим нужен. И Вольта хотел быть полезным: юного дона Одескалчи он рекомендовал в помощники к Конфильяччи, помог графу Паоли из Пезаро учредить премию «прогресса науки». В апреле муниципальный совет Комо комплектовал делегацию знатных персон ко двору ломбардо-венецианского короля, и влиятельный ученый посоветовал включить в список Терезу Перегрини-Вольту, графиню ди Гайета, и докторов права Занино и Луиджи Вольтов рождения 3 июля 1795 года и 3 мая 1798 года соответственно. Не виноваты изумруды в соседстве бриллианта: вдали от него и они засверкают величественно!
В июне началось самое сенсационное дело о молниеотводе, дорого Вольте стоившее. Марцари, президент Академии в Тревизо, почтительно попросил дать консультацию насчет достоинств конструкций, предложенных аптекарем Ландстолле и учителем Толардом, — они описаны в томе третьем мемуаров сообщества. Вольта посмотрел эти труды, черкнул записку со словами: «Первая конструкция негодна, а вторая отличается от первой несущественно», отдал письмо сыну Марцари, заехавшему по случаю, и тут же забыл про безделицу.
Вдруг в «Газетт ди Милане» и в «Комовском листке» появилось Вольтово письмо! Народ хохотал; здорово ж Вольта отделал неучей! Профессор приуныл, он никак на хотел устраивать публичной свары. «Для меня было сюрпризом, — поторопился деликатный старец оповестить редактора, — появление в приложении к вашей газете № 199 за этот год конфиденциального письма о громоотводах, написанного мною президенту Академии в Тревизо синьору Марцари. Я не предполагал подобной публикации, поэтому излагал мысли импровизационно, не подбирая уместных слов».
Век живи, век учись. С крупным аншлагом «Вольта был откровенен!» и второе письмо увидело свет. Профессор был потрясен аморальностью газетчиков, скандал разрастался, Ломбардия смаковала ляпсус графа и унижение изобретателей, мнивших о себе невесть что.
Через два дня, 28 июля, Вольта слег. Легкий апоплексический удар, нарушилась речь. Жена зарыдала, врач назначил кровопускание и, о чудо, старый упрямец пошел на поправку. Нет, он не привык сдаваться. «Тело — лишь клуб пыли, надутые кожаные мехи», — цитировал он Эпихарма, — поэтому надо-бы выпустить этот дым достойно. Через месяц он почти оправился.
Но страсти еще не потухли. Флорентиец Антинори умолял дать взглянуть на злосчастное письмо: «Это же клад для моего доклада в Академии: Любителей Земледелия». Вольта оправдывался: «Это письмо по оплошности попало в другой конверт». Тут же несколько слов о наболевшем: «А Конфильяччи мне изменил. Ты преотлично издал груды Галилея» (всегдашняя манера Вольты сказать сразу обо всем).
Из Павии продолжал скулить профессор Фьоччи, умоляя синьора графа ректора защитить от нападок: «Я всего лишь требую дисциплины, а меня за это преследуют». Извинялся Марцари: его разрешения на публикацию никто не испрашивал. Вольта думал-думал и надумал продать свои домики в Лаззате и Ольгаяте — в этом коварном мире детям надо устраивать свои судьбы.
Продолжал клокотать мир науки. Построил термоэлемент Эрстед, то же самое сделал Фурье. Френель научился поляризовать свет и описывать преломление — отражение лучей, за это его сразу ввели и Парижскую академию. Тогда же попали в академики российский секретарь Фусс (в Турине, за издание трудов Эйлера) и Нарлоу (в Лондоне, за восхитительное электрическое колесо с током и магнитом).
Мир напоминал кипящие кастрюли, одна в другой. Буйствовали любовные инстинкты — это у сыновей забурлила кровь. Наука переваривала куски природы, а заодно — и жизнь своих служителей. Клокотали политические страсти: получила независимость Бразилия, французы подавили волнения в Португалии и Испании. Словно не пережив пиренейской экзекуции руками недавних революционеров, скончался Карно.
Вот и ушли соратники Бонапарта: Монж, Бертолле, теперь Лазарь Карно. Вольта хорошо знал голубоглазого высокого блондина, тот был всегда учтив, но холодноват.
1824. Сицилийский академик.
Годы тянули вниз. В 85 лет умер старый друг Москати. Не прожив и половины этого срока, скошен недугом на бастионах греческой Мисулонги пламенный Байрон. У него на родине свирепствовал экономический кризис, возникли тред-юнионы, английские «цивилизаторы» захватили Бирму.
А Вольта тихо существовал в Комо, растягивая запасы жизненных сил. Он не хотел уходить, ему все было интересно, из действующих лиц он попал в зрители, но трагедия нравилась. Вот и Терезе 5 июня исполнилось 60, полжизни она отдала ему. Серебряную свадьбу справили давно, шутил профессор, скоро золотая.
В Париже умер Людовик XVIII, граф Д'Артуа стал отныне Карлом X. Что ж, смерть скашивала как бонапартистов, так и их врагов. А Вольта процветал, если можно назвать цветами последние чествования зажившегося ученого: его избрали в Сицилийскую академию естественных наук. Заслужил.
Любопытные ассоциации: Академия Радостей, а директором там принц Чезаре Борджиа! Вот бы в шутку переправить дату сообщения с 12 мая 1824 года на 333 года назад, как раз попадешь к его знаменитым родственничкам Алесандро, Цезарю и Лукреции. Те опьянялись преступными «радостями»: обжорством, отравлениями, распутством, ложью и ударами кинжалов. А их потомок смирно взращивает посев на грядках научных…
1825. Бедный Александро!
Речь шла не о Вольте, а о русском царе. Болтали, что JIaгарп воспитал из сына Екатерины II настоящего либерала, но реальная жизнь оказалась куда более жестокой, чем в философских трактатах. Взойти на трон через труп отца, дважды проиграть войны Наполеону в союзе то с Австрией, то с Пруссией, пойти на унизительный: мир в Тильзите, порвать добрые и выгодные связи с мудрыми англичанами, выращивать со Сперанским прожекты России парламентарной, а потом оказаться вынужденным изгнать доверенного советника, наконец, война с Наполеоном, оказавшаяся столь безнадежной вначале, но увенчанная ошеломившей самого Александра развязкой — триумфальным въездом в Париж на белом коне!
И вот смерть, она пришла подозрительно вовремя. Узнав о кончине российского властелина, Вольта думал не столько о нем самом, сколько о его загадочной стране, в которую столь часто вели, но так и не привели Вольту житейские тропки. И о том еще, что там, в почти непостижимой дали, тоже горел свет знаний.
В том же году ушли Вассали и Пикте, баварский король Максимилиан и венский капельмейстер Сальери, злой гений Моцарта, воспитавший, однако, Листа, Шумана и отчасти Бетховена. Чем больше радостных встреч, тем больше печальных расставаний! Время затягивало раны Франции, Карл X выплатил эмигрантам огромную компенсацию за понесенный ущерб.
В Брюсселе скончался: Давид, ухитрившийся стать символом как республики Робеспьера, так и империи Наполеона. В бурное время могли выжить только те, кто легко менялся вместе с обстоятельствами. Чуть моложе Вольты, художник успел многое: попал в академики, организовал первый независимый и платный салон, якобинцем проголосовал за казнь короля, трудился в Комитете общественной безопасности, потом стал легионером и первым живописцем нового императора. И вот финал деятельности человека: организатор невиданных дотоле массовых празднеств Братства и Верховного Существа, законодатель революционных мод, творец величавого стиля ампир, певец деяний Вольтера, Лепелетье, Марата и Бонапарта сражен сердечным недугом над грудой орденов и почетных дипломов.
Уходили в небытие эпохи Конвента, Директории, новой династии, прощальным аккордом звучало имя Сен-Симона. Два года назад граф неудачно стрелялся, ныне он умер всерьез, оставив после себя бесплотный призыв к уравнению доходов и лозунг «от каждого по способностям, каждому по его труду». В бурную жизнь Сен-Симона вместились знатные предки, сражения, пленения, заморские авантюры, тюрьмы, нищета и богатство, но они отшумели с жизнью. Остались отзвуки теорий Руссо, хвала всемирному тяготению Ньютона и восторги перед грядущим веком машин Уатта — граф ярко светил отраженным светом!
Уже миновали теологическая и метафизическая стадии прогресса, учил сен-симонист Конт, наступает век позитивных наук, точное знание сменяет общие рассуждения. Только наука спасет мир, вещал апологет Сен-Симона, революции — это бред, тормоз, кровь. Позднее Маркс небрежно прокомментирует: «Это нечто жалкое», имея в виду эпигонов великого создателя светлых утопий.
А технический прогресс действительно был налицо. Вот, к примеру, Англия. Семь лет назад в Клайдо поплыл первый железный корабль, ныне по рельсам побежал паровоз Стефенсона, вот уж 20 лет по всему миру стучали Жаккардовы станки. Мир менялся на глазах, разве ускорение обошлось без помощи Вольты?
1826. Зигзаги наследства.
Пока все было неплохо, ибо он был еще жив. Вольта вспоминал слова Фалеса («Какие услуги ты оказал своим родителям, те же получишь от своих детей»), но переиначивал их, думая, чем бы еще помочь жене и детям. Год назад, уж в какой раз, он нажал на делегацию («Я просил учесть, что два взрослых сына, Занино 29 лет и Луиджи 20 лет, а также их мать достойны представлять Комо перед правительством»). Потом он внес поправки в рукопись «Декурионы и патриции», которую издавал муниципалитет города. Наконец, выправил информацию по генеалогическому древу, так что знатность рода теперь официально исчислялась с 19 сентября 1691 года, когда в Комо объявили о декурионстве его предка!
Словом, ему не грозила участь Вольтера, ведь того уморили за наследство племянница и приемная дочка, хоронили тайно, потом якобинцы все же перенесли гроб в Пантеон, но, в конце концов, после реставрации Бурбонов, останки Вольтера (вместе с Руссо) оказались в канаве. Нет, у Вольты все было куда пристойнее. Вольтер встретил смертный час холостяком, у Вольты достойная жена и приличные сыновья.
И с деньгами положение детей было надежнее, чем у него в юности. Кстати, весь год Вольте пришлось хлопотать о завещании некоего Луиджи Вольты-Стампы. «Ваши документы о наследстве недостаточны, — сообщал из Рима юрист Персиани, называя: Вольту Вольтой-Стампой, что несколько смущало нотариуса, — а потому вам следует еще представить выписки, из завещания».
«Помилуйте, — сообщал профессор юристу, удивляясь, — я и есть брат Луиджи, только мы просто Вольты». Дело было в том, что прадед Джузеппе (1598–1639) в 1631 году женился на Камилле Курти, дочери Алессандро Вольты из Граведоны и Гортензии Стампы. У них родились дочки Чиара и Чиара-Мария, a также сын Джованни Бенедетто (1635–1704), который в 1686 году женился на Анне-Марии Стампе, дочери Алессандро Стампы. Однокровкам брак запрещен, но папу Иннокентия XI (он был родом из Комо) уговорили сделать поблажку, объяснив про дальность корней и получив разрешение в апостольском послании от марта 1685 года.
От этого брака и родились дочь и четыре сына Джованни, Антонио, Алессандро и Филиппо (доминиканец, архидьякон, каноник и иезуит), а у последнего родились дети: каноник Джованни, доминиканец Джузеппе из Болоньи, архидьякон Луиджи, профессор Алессандро и дочь Чиара — по мужу Рейна. 14 января 1809 года Луиджи умер, его-то вклад и должен получить последний из живых — наследник — брат Алессандро.
У Персиани голова пошла кругом от династии комовских кровосмесителей, он запросил уже не выписки, а копии завещания, потом начал угрожать, что капитал причитается Вольте-Стампе, а не Вольте. Если же удастся доказать тождества юридически, то получить придется всего одну треть, остальное правительству, притом придется еще начать тяжбу с другими претендентами.
Вольта продумал с полгода, посоветовался со знающими людьми, наконец, отослал копии документов из своих генеалогических изысканий, но, понадеясь, что они облагоразумят крючкотворов, холодно добавил, что нездоров, дескать, поправлюсь, тогда продолжу.
Другой на месте Вольты бился бы отчаянно. Понаторевший в запутанных делах, Персиани почувствовал правоту и внутреннюю силу старика, навел справки, удостоверился в ситуации и в неделю перевел счет, закрыв дело. Помогавший Вольте граф Гатти поздравил с благополучным окончанием правого дела, а Тереза надоумила мужа затребовать еще проценты на завещанный капитал, невесть где скитавшийся 17 лет.
А в любимой науке действовали новые люди, они опирались на сведения, добытые предшественниками, но беззастенчиво выпячивали себя на первый план. Так, из газет Вольта узнал про газовое освещение Берлина. Вообще-то освещение началось с Лондона (1814), потом оно появилось в Париже и Нью-Йорке. Газ получали разложением угля, однако особой разницы между ним и полвека назад исследованным Вольтой болотным газом не было.
Зато со столбом везде шла работа серьезная. Зеебек предложил ряд металлов, где каждый последующий был «отрицательнее» предыдущего. Но разве Вольта уже не предлагал такой ряд много раньше? Только с проводимостью он немного ошибся, думая, что жидкости не пропускают тока. Марианини с кафедры Вольты измерил распределение токов в разветвленных цепях: жидкости действительно пропускали ток много хуже металлов, но все же пропускали.
Появились сообщения о смерти оптика Фраунгофера и президента Северо-Американских Соединенных Штатов Джефферсона. В такой компании умирать не стыдно, шутил Вольта. Впрочем, когда там скончался Ньютон? 31 марта 1727 года. Еще протянуть несколько месяцев, и можно попасть в столетнюю годовщину смерти «гения рода человеческого». Только удастся ли, здоровья не было. Не удалось, все же совпали и год, и месяц, а вот по числам расхождение. Недотянул двадцати пяти дней…
1827. Трупные мухи.
Они жужжали уже не первый год. В январе 1825 года некто Шнайдер из Франкфурта предложил Вольте билет в лотерею, всего 195 франков («Только для великих людей, беспроигрышная», адресовав письмо так: «Комо, Сардиния, Греция»).
Какое издевательство, занервничала Тереза, они даже на карту не удосужились посмотреть или развлекаются, вымогая кусок у старого человека! В июне Шнайдер написал повторно: прошу оплатить счет, ибо по совету профессора Кастелли из Турина билеты уже выкуплены. Вольта успокаивал жену: «Не обращай внимания, пусть Луиджи пошлет перевод, всего-то 43 лиры».
В декабре 1826 года новое письмо с предложением лотерейных билетов, только вместо Шнайдера за подписью Юберфельда. Вольта был совсем слаб. «Выбрось в корзину», посоветовал он жене. Тереза не послушалась («Ведь мы приличные люди, неужели прятаться от наглецов») и, сдерживая гнев, решила покончить с наглыми вымогателями, для чего сухо известила адресата, что муж тяжело болен, но она готова оплатить билет первого класса стоимостью в шесть флоринов.
Едва сдала письмо на почту, как новый конверт от Юберфельда. Он вновь предлагал билеты, мимоходом информируя, что выслал их еще в декабре. В тот же день, кипя раздражением, Тереза ответила от имени больного мужа, что «следует прекратить, бомбардировку письмами, их набралось уже шесть, муж сильно болен, а я уже сообщала, что нужен только один билет первого класса стоимостью в шесть флоринов, и деньги уже отосланы».
Как она ошибалась, полагая историю недоразумением! Через неделю на имя Вольты принесли ценное письмо из Нюрнберга. «Я получил ответ от вашей супруги, — писал негоциант Юберфельд, — поэтому с полным основанием снова предлагаю билеты на льготных условиях. Тиражи шесть раз в год, главный выигрыш 260 000 франков».
«Нет, — отвечала Тереза, — муж еще болен, нужен один билет первого класса, посылка вами билетов всех классов для нас нежелательна, причины я уже излагала. Просьба писать куда-нибудь в другие города, вы сделаете мне одолжение».
Она была упряма, но беззащитна перед жестоким миром, где безраздельно царил закон — грабить слабых. Вольта уже не мог помочь ей, его лихорадило. День рождения он встретил в постели. Март начался ознобом, страшной слабостью. 5 марта ночью послали за священником, он причастил умирающего. В три часа утра сердце остановилось.
Через шесть часов в Париже скончался маркиз Лаплас, через три недели в Вене умер Бетховен, через месяц — Хладни, через квартал — Френель, в том же году покончил с собой Фосколо, не стало английского министра Каннинга, педагога Песталоцци. Словно на небе комплектовали неплохой отряд из кое-что совершивших.
В тот же мартовский день муниципальная конгрегация Комо срочно известила президента Штрауссольдо о том, что, прожив 82 года и 16 дней, ушел из жизни «дон Алессандро Вольта, сенатор бывшего Итальянского королевства, член итальянского Института науки, литературы и искусства, декан философского факультета и заслуженный профессор университета Павии, член многих академий Европы, кавалер орденов Почетного Легиона и Железной Короны».
Они же забыли указать, что он граф, сокрушалась жена, а он так бился за этот титул! Полно, за титул ли сражался Вольта всю жизнь?
Срочно вызнали скульптора Подралио Колоньолу. С приличествующим случаю печальным лицом профессионал снял посмертную маску, измерил рост (182 см), определил периметр черепа (57 см) и его объем (1865 см3). Тленное перестало существовать, но семья поклялась хранить память о великом человеке!
Через два дня Вольту хоронили. Пышное отпевание все в той же церкви Санто-Донино, где регистрировали его появление на свет. Прощальная речь павийского профессора Катеначчи. Серьезные лица сотни собравшихся. Погребение на местном кладбище Камнаго близ Кампоры.
Эпилог. НАСЛЕДСТВО
Ухода из жизни своего иностранного члена Французская академия почти не заметила, она была занята печальными проводами своего корифея Лапласа, умершего в один день с Вольтой. Вместо Вольты в восьмерку заграничных академиков избрали талантливого Юнга, он уж четверть века возглавлял лондонское общество. В 1831 году постоянный секретарь Академии Араго сочинил о Вольте автобиографический очерк: так обычно поминали усопших сотоварищей.
Вдова с сыновьями воздвигла на кладбище в Камнаго приличную гробницу и заказала модному скульптору Маркези монумент. В 1838 году его поставили на место, сопроводив гордой надписью: «Вольте от отчизны!» Через три года появился еще один памятник, но уже не в камне: трехтомник избранных трудов в дополнение к тем, что вышли еще при жизни Вольты в 1816 году. Заодно флорентиец Антинори решил напечатать сочинения Гальвани, без которых работы Вольты смотрелись бы менее впечатляюще.
Когда возникла единая Италия, воодушевленные возрождением родины ее ученые на первой же встрече европейских метрологов в 1881 году добились, чтоб единицу электрического напряжения назвали «вольтом». В последнем году прошлого века (1899) в честь столетия изобретения вольтова столба в Комо открылась грандиозная электротехническая выставка.
Чего только не показали комовцы вместе с иногородними и иностранными экспонентами на этом сборище в преддверии нового века! Оргкомитет выставки разместился на площади Вольты, 9. В павильонах можно было пощупать и купить эмалированную посуду, автомобили, лампы, вентиляторы, пинцеты, сельскохозяйственные машины, электромоторы, шерстяные ткани, но над всем этим изобилием царил шелк: коконы, ткани, прядильные станки, шелковичные черви, химикаты, поливалки, сеялки.
Выставка открылась 20 мая, маршрут для почетных гостей вел через 37 павильонов. Нижнее белье сначала, потом крашеный шелк, электроаппараты, аккумуляторы, шелководство, сувениры, шоколадки в виде электрофоров и вольтовых столбов, граммофоны, пластинки, электрегенератор с паровым приводом в целых 20 лошадиных сил, насосы и прочее, XX век показывал, каким он будет. Народ ходил, ел, гулял, смотрел, катался на лодках, громко восторгался. Предприниматели хвастались своей активностью, трудами своих инженеров и рабочих. Конкурировали Комо, Милан, Венеция, Напил, Ирионна.
Салон памяти Вольты начинался к бюста работы Комолли, рядом бронзовые венки, фотостенды, бумаги ученого, пропуска, письма монархов, картина Пертини «Вольта демонстрирует столб перед Наполеоном», статуи полноразмерные и миниатюрные, медали, первые диссертации, слепок графского герба, аллегорическое изваяние «Электричество потрясает мир», хрустальная лампада из Мурано, стекло цветное, памятные часы «Наука и Искусство», дипломы, картины «Вольта открывает металлическое электричество» и «Вольта на смертном одре».
Потом витрины с приборами, берет графа, плащ сенатора, часы, медали, перчатки, портрет жены, письмо Бэнксу, медали лондонского общества и Французской академии, труды, рукописи, книги с дарственными надписями, университетские планы и расписания.
Оглушенные изобилием почетных регалий посетители переходили в другие павильоны: снова автографы юбиляра (копии), портреты, бюсты, обои, мебель. Италия чествовала своего героя, промышленники пожинали плоды посеянных Вольтой научных злаков. К тому же наступал новый век!
Увы, над светлым праздником в райском местечке словно тяготело проклятье. В сентябре выставка вспыхнула. За какой-то час остались одни головешки. Сгорело все дотла: павильоны, экспонаты, вещи Вольты. Промышленники стали чуть менее богаты, вещественная память о Вольте почти уничтожена.
Кто же стал виновником случившегося? Ненависть или небрежность? Поджигателей не нашли. Может быть, искры от нового тогда электрооборудования или окурки экскурсантов? Может быть, гальванисты отомстили за «поруганного» Гальвани (его день рождения отчего-то сошелся с днем пожара)? Кстати, за три года до выставки вышло Полное собрание сочинений Вольты, а в 1918 году появился еще один шеститомник его трудов.
В сентябре 1927 года в память столетия со дня смерти Вольты в его родном городе Комо собрался Международный физический конгресс. Сама повестка дня не имела к Вольте никакого отношения. А миланские физики, вдохновленные вниманием мировой науки к своей родине, в июле 1928 года открыли новый музей-храм памяти Вольты. В этот роскошный именной пантеон попало все, миновавшее пожарище 1899 года: бумаги, вещи, приборы, в основном дубликаты.
Но что же осталось от Вольты, если не считать сгоревших исторических реликвий? Сам он хотел решить семь крупных задач, удалось же справиться с четырьмя. Во-первых, удалось вывести семью из-под неумолимого пресса иезуитов. Во-вторых, род продлился. О сыне от Терезы Чичери ничего не известно. Умерший 18-летний Фламинго детей не оставил.
Первенец Занино женился на Рашели Сент-Клер, но брак оказался бездетным, зато третий сын Луиджи, свивший семейное гнездышко с сестрой Рашели Луиджией, имел дочь Терезу и сына Занино, которым до 1930 года жил в браке с Рашелью Сент-Клер-младшей и имел семь детей, ни один из которых не дал потомства. Но у Луиджи с Луиджией был еще один сын по имени Алессандро (внук нашего Вольты), тот выбился в графы и родил трех сыновей: Луиджи, Пьеро и Чезаре, из которых у первого оказалось четыре сына — Пьеро, Ипполит, Ричард и Алессандро 1912 года рождения. Этот Алессандро, праправнук нашего героя, еще жив, так что цепочка Алессандро — Луиджи — Алессандро и т. д., по всей видимости, продлится и далее.
Сверх проблем с иезуитами и родом, Вольта пытался разгадать тайну жизни и смерти, но мимоходом такого подвига не совершить. Что касается проблемы мироустройства, она не менее трудоемка и, быть может, вообще непосильна человечеству, а вот в физику электричества вклад Вольты довольно значителен.
Разобрав манускрипты Вольты, профессор Магрини разложил их по шести стопкам: физика общая и механика, теплота и расширение воздуха, упругие силы пара, электростатика, гальванизм или вольтаическое электричество, метеорология.
Вольтов столб был более важным шагом в истории электричества, чем лейденская банка, — такое мнение не раз высказывали историки науки. За построение этого прибора Вольту заслуженно или преувеличенно славили многие. Его даже назвали «мэтром электрохимии» вместе с «мэтром света» Френелем и «мэтром электронов» Лорентцем, но электрохимию Вольта и знать не хотел, он неустанно боролся с электрохимическим объяснением работы своего столба. Вместе с Ампером, Гауссом и Максвеллом Вольту еще называли одним из четырех пионеров науки об электричестве — именно так писал знаменитый французский физик де Бройль, ибо, «изучая электростатические явления и электрические токи, физики заложили основы новой науки, которая до них игнорировалась почти всеми».
Все-таки главным научным подвигом Вольты надо назвать доказательство заряженности двух металлов при касании и построение ряда контактных напряжении. Соединить пары металлов параллельно или последовательно в столб — это полезно, но именно «касание» Вольта совершенно справедливо считал своим шедевром, даже модные сегодня так называемые «уровни Форми» проистекают оттуда же. Впрочем, и электрохимии еще только предстоит показать во многом невыявленные возможности.
Вклад Вольты в проблему «вечного источника» вообще упущен. Что бы ни говорили традиционалисты, бездонные резервуары электрической энергии внутри материи, хоть и используются техникой, но явно недооцениваются. Может быть, здесь и спрятана самая большая правда о Вольте: после Ньютона мир держался тяготением, после Вольты мир оказался электрическим!
Ньютон и Вольта… Оба они отчего-то скончались в марте с разрывом ровно в сто лет, но какие же они разные! Домосед, человек нелюдимый и угрюмый, Ньютон сумел прожить полные семь дюжин лет, а равнявшийся на британца непоседа, всеобщий любимец Вольта чуть поторопился, недобрав двух лет до заветной цифры. И до Ньютона знали о тяготении, об инерции, о массах, но Ньютон подытожил известное весомыми словами и цифрами. И до Вольты знали об электричестве, но он нескончаемыми опытами продемонстрировал его вездесущность, ибо можно было его извлечь отовсюду: не только из стекла, смолы, серы (это знали и до Вольты), но и из дерева, паров, воздуха, металлов, манипулируя теплом, огнем, закалкой и прочим.
Вольта спел свою «электрическую арию», но он не философ, не теоретик, свою главную идею он доказывал делами, опытами, внедрение — вот его стихия! Сначала он привел в стройную систему все известное про электричество: доделал электроскоп и электрометр, построил электрофор, ввел в научную лексику термины «напряжение» и «емкость», научился измерять малые заряды. Он подытожил находки всей армии электриков первой волны: Франклина, Грея, Кантона, Нолле, Беккарин, Клейста, Мушенбрека и других.
Вторым разделом его прикладных усилий оказалось электричество движущееся. Гальвани заметил генерацию электричества двумя металлами, но именно Вольта измерил эффект, описал, объяснил, построил практически полезный аппарат. Как следствие появились законы контактных напряжений и ряд электроактивности металлов.
Изучение тепловых явлений не было для Вольты делом первостепенным, но он на удивление точно определил степени расширения воздуха и водяного пара при нагреве. Еще в 1776 году Вольта использовал метан болотного газа, но только через четверть века (!) на улицах Лондона зажглись фонари, правда, не с болотным, а со светильным газом, получаемым перетопкой каменного угля.
Во времена Вольты просто некому было использовать термоэлектричество, а потому соответствующий эффект ждал переоткрытия. А Вольтов опыт с разбалансом закалок железного прута вообще еще никто не повторял и тем более не применял. Тут не мешает вспомнить про электризацию кипящих и реагирующих жидкостей — вот кладезь полезных изобретений, сам Лавуазье не погнушался этот опыт присвоить, а Вольте обнаруженное явление пригодилось для теории атмосферного электричества, которая еще никому не оказалась нужной.
Наконец, еще один атрибут наследства — уроки жизни способного, честного и работящего человека в сложное время, уж они-то всегда поучительны, даже если отделены от нас двумя веками. Биография Вольты до предела насыщена событиями, то внешними, то касающимися внутренних дел героя, его мыслей, забот, исканий, переживаний. Удары судьбы чередуются с ее благодеяниями, от радости к горю, притом Вольта не пассивно сидел внутри молотилки жизни, он активно строил свою судьбу, чем разнообразил ее, и без того полную сюрпризами.
О Вольте говорили многие, пытаясь увидеть какую-тo логику в одуряющем месиве противоречивых фактов его биографии. Главным жизненным стержнем все же видится наука, преподавательская служба на втором плане, отличный семьянин все-таки немного занимался семьей.
Можно выпятить странности в жизни Вольты. Разве не парадоксально, что труженик стал графом, что самоучка служил профессором и деканом, что сын иезуита и брат церковнослужителей оказался скрытым атеистом, он упустил свои открытия, но открытия других с блеском довел до внедрения.
У Вольты немало критиков. Разно может принципиальный человек быть покладистым, спрашивают некоторые, а Вольту любили почти все: студенты, женщины, друзья, родные, министры австрийские и французские, ученые всей Европы.
Он не писал философских трактатов, и без него хватало чистых мыслителей, но насколько ж философична жизнь Вольты! Предельно честный человек, он не рассыпал вокруг себя рецептов вселенского счастья, но уважал действия и мнения других, но до чего ж преступно манипулировали массами безответственные лица, рекламировавшие то животный магнетизм, то животное электричество, зовущие к массовому счастью вот тут, за углом, куда сейчас поведет малограмотный или психически ущербный мессия!
Нет, Вольта говорил только то, что знал, делал только то, в чем был уверен, из нового и заманчивого усваивал только то, что подтверждал опыт жизни или опыт лабораторный. Что-то принимать на веру? Нет, увольте, вон сколько крови пролили обманутые толпы.
Не очень хвалебно, но похоже на правду: Вольта подобен стреле. Без лука она пассивна, но выпущенная твердой рукой, летит точно, в полете звенит и бьет наповал. Недоброжелатели говорили, что Вольта пуст, из него не бьет фонтан желаний, его надо вести за руку. Он действительно хотел, чтоб им руководили — дядя, мать, брат, Гаттони, Фирмиан, жена. В велоспорте есть гонщики, они садятся на чужое колесо, но потом, поддавшись азарту, выходят вперед и могут увлечь других за собой. Так и произошло: Эпинус поиграл с серными дисками — Вольта сделал электрофор; Гальвани нащупал что-то оригинальное в лягушке на медном крючке — Вольта сделал столб. Вот и Наполеон понял, что этот профессор пойдет, куда толкнут, будет сетовать и жаловаться, но пойдет, и пойдет хорошо. Ошибка и трагедия его возлюбленных Чичери, Ботты и Парис как раз в том, что они жаждали покориться кумиру, а тот сам ждал лидера.
Таков Вольта, его надо поджигать, потом сам разгорится. Тяжел на подъем, зато не остановишь. Он продолжатель, развиватель, улучшатель, но он нелегковесен, и хотя он не генератор идей, но уж доведет идею до воплощения.
То ли иезуиты, закатывая глаза, приучили ждать указаний свыше, то ли умен был, не умея по изощренности или доброте отбраковать одно хорошее от другого. И все же думается, что он — жертва родителей. Семь первых лет жизни «сиротой» катастрофически деформировали психику Вольты, не научив его проявлять инициативу!
Вот отчего он вечно брал пример, учась у других. Его можно бы назвать конформистом, только выгоду он искал не примитивную, он всей душой желал людям счастья и добра. По доброте и мудрости терпим до предела; знакомых масса, но друзей наперечет; всем свой, но все ему чужие. «Вот философия оборванца, — страстно кивал Вольтер на Руссо, он хотел бы, чтоб бедные обобрали богатых», а Вольта хотел, чтоб было хорошо и тем, и другим, а потому так и не занял своего места на классовых баррикадах.
Он всех устраивал, его все любили, коль задача поставлена, он выполнял ее квалифицированно и даже любовно, но ставить задач он не умел или не хотел. Вот отчего с 55 до 82 лет этот великолепный механизм по имени Вольта ржавел без дела.
«Он не делал революций, он был гением обстоятельств» — такова еще одна из многочисленных оценок Вольты его биографами. У Вольты были принципы («Работа, честь и достаток — чего еще желать?»), но он не знал, куда вести других. Вольта-человек думал, что достаточно быть справедливым и терпимым. Вольта-педагог учил других только тому, что знал сам и что имел право спрашивать. Вольта-ученый полагал, что лишь бы самому работать и работать, вдохновляясь высокими целями, а другие пусть смотрят и берут пример, если захотят и если он прав.
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АЛЕССАНДРО ВОЛЬТЫ
• 1745, 18 февраля — В Комо у падре Филиппо Вольты и графской дочери Маддалены Инзаги родился четвертый сын — Алессандро Иозеф Антоний Анастасий.
• 1752 — Умер отец (1703 г.р.).
• 1757, ноябрь — Поступил в класс философии коллегии ордена иезуитов в городе Комо.
• 1761 — Каноник дядя Алессандро забирает мальчика из коллегии, где падре Бонези пытался завербовать Вольту в иезуиты.
• 1763 — Юноша пишет аббату Полле в Париж о подобии гравитации и электричества.
• 1764 — Сочиняет стили на латыни об успехах наук.
• 1768 — Строит громоотвод вместе с Гаттони.
• 1769, 18 апреля — Опубликована первая диссертации к Беккария о притягательных силах электрического огня на примере лейденской бутыли.
• 1771, июль — Вторая диссертация к Спалланцани об устройстве простейшей электрической машины из дерева.
• 1774, 22 октября — Назначен сверхштатным интендантом-регентом королевской школы в городе Комо.
• 1775, весна — Изобрел электрофор («вечный электроносец»).
• 1 ноября — Назначен штатным профессором (учителем) той же школы по экспериментальной физике.
• 1776, 3 ноября — Начал опыты с болотным газом.
• 1777, январь — Строит электропневмо-флогистонный пистоль.
• 15 января — Издает письмо к Камни о болотном газе.
• лето — Изобретает эвдиометр.
• лето — Письмо к Барлетти о сигнальной линии электропередачи Павия — Милан.
• сентябрь — октябрь — Поездка в Швейцарию вместе с Джовьо.
• 23 октября — Встреча в Ферне с Вольтером.
• 1778, 20 августа — Письмо к Соссюру об электрической емкости тел.
• 10 ноября — Назначен профессором экспериментальной физики университета Павии.
• 1780, весна — Изобрел электрометр с конденсатором.
• сентябрь — Изучает огни Пьетрамалы около Флоренции.
• 1782, январь — апрель — Стажировка в Академии наук в Париже.
• май — Тереза Чичери рожает и передает Вольте на воспитание сына Джованни.
• 21 августа — Избран членом-корреспондентом Французской академии.
• 28 октября — Умерла мать (1714 г. р.).
• 1784, лето — Поездка со Скарпой в Австрию, прием императором Иозефом II, поездка по Пруссии.
• 1785, 27 января — Избран членом-корреспондентом Академии наук и литературы в Падуе.
• 27 августа — Избран ректором университета Павии на 1785/86 учебный год.
• 1787 — Письмо Лихтенбергу об атмосферном электричестве.
• 1791 — Избран в Лондонское королевское общество.
• 1792, лето — Письмо к Баронио про опыты Гальвани.
• 1793 — Строит ряд электроактивности металлов. Рукопись о равномерном расширении воздуха по мере изменения температуры.
• 22 сентября — Женится на Терезе Перегрини.
• 1795, 3 июля — Родился сын Занино.
• 1796 — Три письма о давлении водяного пара.
• 29 мая — Родился сын Фламинго.
• июль — Получает назначение распределять выплату контрибуций гражданами Комо.
• 1 августа — Письмо Грену о возбуждении электричества касанием несхожих проводников.
• 1798, 2 мая — Родился сын Луиджи.
• 1799, декабрь — Строит вольтов столб.
• 1800, 20 марта — Письмо Бэнксу об искусственной электрической рыбе-торпедо (вольтовом столбе).
• 23 июня — Бонапарт открывает университет Павии, переназначая Вольту профессором экспериментальной физики.
• 1801, 9 июня — Получает от Марума известие о конкурсе по природе электричества вольтова столба.
• 3 октября — Введен с Бруньятелли в комиссию Института Франции по изучению гальванизма.
• 7, 12, 22 ноября — Читает перед комиссией лекцию о тождестве электрического и гальванического флюидов.
• 7 ноября — Бонапарт предлагает наградить Вольту золотой медалью Института.
• 2 декабря — На сессии Института Франции Вольте присуждают золотую медаль и премию первого консула.
• 1802, 10 августа — Избран в Академию Болоньи.
• 1803, 5 сентября — Избран членом-корреспондентом Института Франции.
• 1805, 1 июля — Приглашен в Академию наук Санкт-Петербурга через посредство геттингенского профессора Мейнерса.
• 24 августа — По указанию Наполеона папа Пий VII назначает пенсию от епископства Адрии.
• 26 августа — Награжден орденом Почетного Легиона.
• 1806, июль — Написал научную статью о граде.
• 1809, 14 января — Умер брат Луиджи (1740 г. р.).
• 19 февраля — Назначен сенатором Итальянского королевства.
• 8 июля — Умер брат Джованни (1735 г. р.).
• 1810, 11 октября — присвоен титул графа.
• 1812, 10 июля — Институт Италии вводит Вольту в число экспертов промышленных товаров.
• 21 сентября — Из ставки в Москве Наполеон назначает Вольту президентом коллегии выборщиков.
• 1814, 14 марта — Умер сын Фламинго.
• 1 июля — Выходит в свет статья об идентичности электричеств гальванического и животного.
• 14 ноября — Приносит присягу австрийским властям в качестве декана философского факультета университета Павии.
• 1817, 10 января — Антинори издает пятитомник трудов Вольты. Написание статей о градообразовавии и периодичности гроз.
• 19 декабря — Вновь назначен австрийскими властями на пост декана философского факультета университета Павии.
• 1819, 29 марта — Избран почетным членом Академии наук Санкт-Петербурга.
• август — Получает право исполнять обязанности декана университета без посещения службы.
• 1822, 1 мая — Австрийские власти признали законность выплаты пенсий почетного профессора и экс-сенатора.
• 20 декабря — Избран первым депутатом коммуны Лаззате.
• 1823, 28 июля — Переносит легкий апоплексический удар.
• 1827, январь — Заболевает.
• 5 марта — В три часа утра умирает.
КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
• Гальвани А., Вольта А. Избранные работы о животном электричестве. М.-Л., Биомедгиз», 1937.
• Радовский М.И. Гальвани и Вольта. М.-Л., ГЭИ, 1941.
• Бочарова М.Д. А. Вольта. — Электричество, 1957, № 3.
• Лебединский В.К. А. Вольта. — Электричество, 1927, № 9.
• Лежнева О.А. А. Вольта — итальянский физик. — Вопросы истории естествознания и техники, 1964, № 17.
• Лежнева О.А. Гальвани и Вольта. Трагизм и благородство поединка. — В кн.: Роль дискуссии в истории естествознания. М., 1977.
• Марьин О. Лягушачий радиоприемник. — Техника и наука, 1983, № 7.
• Дорфман Я.Г. Всемирная история физики. М., Наука, 1974, т. 1
• Кудрявцев П. С. История физики. М., ГУ ПИ, 1948, ч. I.
• Льоцци М. История физики. М., Мир, 1970.
• Розенберг Ф. История физики. М.-Л., ОНТИ. Часть II. 1935. Часть III-2, 1936.
• Спасский Б. И. Физика в ее развитии. М., Просвещение, 1979.
• Epistolario di A. Volta, v. 1–5, Bologna, 1949-55.
• Leopere di A. Volta, v. 1–7. Milano, 1918–1929.
• Volta A. Opere scelte. Tourino, 1967.
• Cau G. A. Volta I'uomo, la ons scienza il suo tempo. Milano, 1927.
• Como ad A. Volta. Como, 1945.
• Fabietti E.A, Volta. Milano, 1927.
• Mara1di U. La vita. A. Volta. Roma, 1927.
• Mieli A. A. Volta, Roma, 1927,
ОГЛАВЛЕНИЕ
• Пролог. ЛЕГЕНДЫ
• Глава первая (1745–1757). БЕСПРИЗОРНОЕ ДИТЯ ЛЮБВИ
• Глава вторая (1757–1769). ПЕСНЬ О НАУКЕ
• Глава третья (1769–1781). ПРЫЖОК ИЗ КОМО
• Глава четвертая (1781–1793). ВЕРШИНЫ
• Глава пятая (1793–1805). «ВОЛЬТАИЧЕСКИЙ ФУРОР»
• Глава шестая (1805–1817). ЛЮБИМЕЦ БОНАПАРТА
• Глава седьмая (1817–1827). ПЕРЕД УХОДОМ
• Эпилог. НАСЛЕДСТВО
• ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АЛЕССАНДРО ВОЛЬТЫ
• КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
• ОГЛАВЛЕНИЕ
Примечания
1
«Отряд Христа» (итал.). Более точный перевод слова «Compagnia» — рота.
(обратно)2
Монашеский орден святого Доминика нередко называли «Domini canes», что в дословном переводе с латыни как раз и означает «Господни псы».
(обратно)3
Уменьшительное от имени Алессандро.
(обратно)4
Имя Готлиб, в дословном переводе с немецкого, означает «любящий бога».
(обратно)5
Антропофаги — людоеды (греч.).
(обратно)6
Нарастание (итал.) — музыкальный термин.
(обратно)7
Либертэ (франц.) — свобода.
(обратно)8
Смысл этой итальянской идиомы в точности передается словами соседей. Примечательна игра слов.
(обратно)9
Английский писатель-пуританин, ослепший от чрезмерной работы.
(обратно)10
Пятнадцать (итал.) — принятое у историков обозначение XV века в Италии.
(обратно)11
Разновидности клавишных инструментов — предшественников фортепиано.
(обратно)12
Цехин, или дукат — старинная (с XIII в.) золотая монета достоинством примерно 80 лир по курсу XVIII века.
(обратно)13
Парижский парламент — высшее судебное учреждение. Его не следует путать с парламентами в современном смысле слова.
(обратно)14
Так называется в Англии учреждение, аналогичное академии наук в других странах.
(обратно)15
Гинея — английская золотая монета достоинством в 21 шиллинг (в основной британской денежной единице, фунте стерлингов, — 20 шиллингов; монета достоинством в 1 фунт стерлингов называется соверен). Считать на гинеи было признаком аристократического шика.
(обратно)16
О, как я доволен! (франц.).
(обратно)17
Население Брабанта (теперешней Бельгии) составляют два народа — фламандцы, говорящие на особом языке германской группы, и валлоны, говорящие по-французски.
(обратно)18
Принятое в Италии обращение к сановникам. На русский язык ecelenza принято переводить «ваше превосходительство», как и равнозначные слова в других европейских языках — «exelence» (франц.), «exelenz» (нём.) и т. д.
(обратно)19
Имеется в виду княгиня Дашкова.
(обратно)20
«Мораль естественна» (франц.).
(обратно)21
Ультрамонтаны — от латинского «ultra montes» («за горами»). Так традиционно именовали сторонников светской власти римских пап.
(обратно)22
Постоялый двор, трактир (итал.).
(обратно)23
Скуди — серебряная монета стоимостью пять лир.
(обратно)24
Та же форма написания обычна для его отца, знаменитого писателя, автора романа «Хромой бес» (1707 г.).
(обратно)25
По преданию, Рим был спасен гусями, предназначенными в жертву богам. Гуси почуяли приближение галлов, осаждавших Капитолийский холм, и подняли гомон. Защитники крепости проснулись и сбросили врагов в пропасть.
(обратно)26
«Дорогому» (итал.). Собственно, это слово приведено в уменьшительной форме, так что точного соответствия в русском языке ему нет. Приблизительный смысл можно передать как «крошка», «малютка» и т. п.
(обратно)27
Имелась в виду ограда, возведенная вокруг Парижа с целью облегчить сбор таможенных пошлин агентам Генерального откупа — организации, объединявшей богатых коммерсантов, взявших при старом режиме на откуп государственные подати. Лавуазье принадлежал к их числу, но в отличие от подавляющего большинства генеральных откупщиков расходовал свой капитал на научные исследования и материальную поддержку нуждавшихся ученых.
(обратно)28
Рельсовые пути в это время уже широко использовались в шахтах и рудниках для откатки добытых пород. Вагонетки передвигались конной тягой или вручную.
(обратно)29
«Дражайший братец» (итал.).
(обратно)30
«Дурной тон», «выскочка» (франц.).
(обратно)31
Ныне город Советск в Калининградской области.
(обратно)

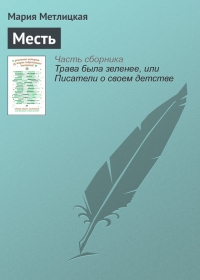



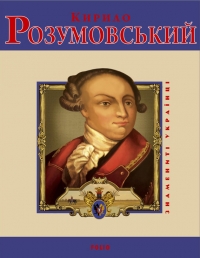

Комментарии к книге «Вольта», Владимир Околотин
Всего 0 комментариев