Владимир Иванович Сысоев Анна Керн: Жизнь во имя любви
…КАК МИМОЛЁТНОЕ ВИДЕНЬЕ
Посвящается моей жене Наталии Игоревне
В родовом имении Ганнибалов—Пушкиных, сельце Михайловском, весною пробуждаются к жизни старые липы. Зимой их разросшиеся дуплистые стволы и высоко взметнувшиеся кроны своей монументальностью и выразительностью напоминают памятники. Тёмный цвет их коры рождает сравнение с металлом, застывшим, неровно выкованным временем. Лишь рисунок высоких ветвей, их изгибы порою напомнят о песнях, которые поют прилетающие невесть откуда ветры, да редкий в ненастье луч солнца позолотит тянущийся к небу молодой и тонкий живой росток. Солнце и ветер да еще время – вот ваятели этого чуда природы, старых лип Михайловского парка.
Приходит весна, набухают и лопаются почки. В вуали молодой листвы преображаются и, кажется, светлеют деревья–великаны. В многочисленные дупла возвращаются мелкие пичужки. Их щебетанием, шёпотом вешней листвы и голосами людей заполняется аллея. Всё чаще слышится передаваемое как пароль: «Аллея Керн». Эти слова способны пробудить воображение, повести за собой. Есть немало людей, влюблённых в пушкинское Михайловское и утверждающих, что встретились с Поэтом и Анной Петровной Керн – здесь, на тропинках старого парка. Можно скептически улыбнуться – или поверить и вслед за ними, за песнями ветра, играющего струнами ветвей, вновь и вновь повторять знакомые строки «…Как мимолётное виденье, / Как гений чистой красоты…».
За давностью лет – вот уже и двадцатый век стал «прошлым» – судьбы и имена людей сливаются в образы. Мы склонны называть их по фамилиям, убеждённые в том, что каждый поймёт, о ком идёт речь. Если их имена принадлежат литературе – если они писали стихи, прозу, письма, дневники или путевые заметки, – то легко и незаметно мы переносим на них мантии и лавры литературных героев, рождённых их талантом и воображением. И вот уже всё труднее представить их себе полными чувств и страстей, в обстоятельствах, когда ещё неизвестно, каким будет финал пьесы под названием «Жизнь» и от сказанного слова, брошенного взгляда, остановленного порыва может зависеть настоящее и будущее.
Это потом, за пределами их исполненной судьбы, всё будет казаться нам таким простым и понятным, будет возникать желание остановить мгновенье – прекрасное или ужасное, – чтобы продлить главное, предотвратить неотменимое… Всё будет просто и понятно. Так просто и так понятно, как никогда не бывает в собственной жизни. Нам легко судить, объяснять очевидное, недоумевать, как нелепо всё произошло в жизни людей, которые всё ещё влекут нас тайной своей свершившейся великой участи.
Анне Петровне Керн выпало не только встречаться с Пушкиным, но и посмертно быть рядом с ним. От первой встречи до последних строк, посвященных Поэту, она достойна этого. Ни хула, ни хвала, возносимые ей, уже ничего не могут изменить в самом факте взаимного влияния этих двух людей. Порицание или оправдание имели бы смысл лишь в том случае, когда бы можно было прожить вторую жизнь, учесть ошибки и изменить судьбу.
По счастью, это невозможно. Так, как меж ними, ничто никогда повториться не может – ни михайловское одиночество в глухой умирающей вместе с природой осенней деревне, ни одиночество ума и воображения, равное смерти, ни страсть, подобная рвущей все заслоны вешней воде. Важна сама эта жизнь, прожитая от первого до последнего вздоха, её полнота, её божественная красота, какие бы краски и тона ни были взяты творцом для этого свершившегося чуда. Исключительность, которой только и может дышать великая литература, – вот то, чему посвящена эта книга.
Как издавна известно, хорошо написанная книга неоднократно раскрывает нам навстречу свои страницы. Нам дано находить в ней ответы на разные вопросы, созревшие в разную пору в нас самих. Можно только порадоваться за читателей, ведь эта книга такова.
Это повествование об Анне Петровне Керн, о Любви, о Поэзии, о Женщине, к которой обращены одни из самых возвышенных строк Поэта. Не этим ли с самого своего возникновения, как вечным законом, живёт Поэзия? Не эту ли загадку всегда разгадывает и не может разрешить Мужчина?
Оно и о Пушкине. О нём читать будут всегда. Кому ещё мы стольким обязаны? Кто виноват в большинстве наших бед, как не он? Над кем и с кем можно так заразительно смеяться? С кем можно так искренне грустить? Кто будит чувства и мысли, совесть и стремление к правде? Кому, подобно Творцу, подвластны жизнь и смерть, любовь и разочарование?
Осенью, особенно поздней, когда на холодном ветру трепещет последний, зачем–то оставшийся на ветке раскрашенный лист, хочется бежать из промокшей насквозь деревни в далёкий Петербург. Там в призрачном тепле огней, в дружеском кругу, кажется, ещё можно забыться за чашей согревающего сердце вина. Здесь же, в Михайловском, остаются стынущие глыбы старых лип. Память о неизбежном, об уходе близких, об одиночестве, как старая рана, болит к непогоде. Впереди зима. Сон… Отрываются от небес первые снежинки. Вот уже хоровод метели вьётся за тёмным окном. Завтра всё будет бело от первого чистого снега. Завтра всё будет иначе. А не велеть ли заложить сани? Сию минуту, сейчас! И – в город! В Петербург! К друзьям?! К Анне!..
Г. Н. Василевич, директор Государственного музея–заповедника А. С. Пушкина «Михайловское»
ПРЕДИСЛОВИЕ
В трёх километрах от небольшого старинного города Торжка на погосте Прутня вот уже почти 130 лет покоится прах той, кому А. С. Пушкин посвятил свои самые волшебные поэтические строки:
Я помню чудное мгновенье…Анна Петровна Керн (многие знают её именно под фамилией первого мужа), урождённая Полторацкая, по второму мужу Маркова–Виноградская… Муза величайшего русского поэта, автор бесценных мемуаров, без цитирования которых ныне невозможно представить себе ни одной серьёзной работы о Пушкине.
Вся жизнь её была посвящена неустанному поиску всепоглощающей любви. Ей необходимо было ощущать постоянную мужскую влюблённость, нужны были как воздух романтические переживания на самой высокой ноте. Редко кто из её поклонников способен был даже непродолжительное время выдержать такой накал чувств; Анна Петровна быстро утешалась и с головой окуналась в новое страстное увлечение. Для нее любовь была смыслом и главной святыней её жизни, и поэтому к оценке многих её поступков и личности в целом нельзя подходить с мерками общепринятой морали.
Судьба одарила её великим счастьем близкого общения с Пушкиным, знакомством и дружбой со многими известными поэтами, писателями, композиторами и просто интересными людьми.
Многие литературоведы, историки и писатели пытались скрупулёзно разобраться в довольно сложных взаимоотношениях поэта и его музы. Диаметрально противоположны и эпитеты, которыми награждал в разное время Анну Петровну Пушкин: от «хорошенькой женщины», «гения чистой красоты», «прелести», «милой, божественной» и «ангела любви» до «вавилонской блудницы», «мерзкой» и «дуры».
В понимании многих исследователей летние дни июня– июля 1825 года, проведённые нашей героиней в Тригор–ском, в завершение которых был написан и преподнесён ей в дар шедевр мировой любовной лирики, а также последовавшие три месяца интенсивной озорной, остроумной и страстной переписки стали для Анны Петровны вершиной, зенитом её довольно продолжительной жизни. Да, именно они принесли ей бессмертие. Однако принесли ли они ей счастье?
Кроме того, был ещё октябрь того же 1825 года, когда Анна Петровна вторично приехала в Тригорское и состоялось её новое свидание с поэтом, о котором и она сама, и большинство исследователей в лучшем случае вскользь упоминают. Вскоре после этой встречи она окончательно порвала с мужем, уехала в Петербург, сблизилась с родителями поэта и некоторое время даже жила в их квартире, а через девять месяцев родила дочку, чьей крестной матерью стала сестра поэта Ольга Сергеевна Пушкина… А по возвращении Пушкина из Михайловского в Петербург были новые встречи, новые посвященные ей стихотворения и сближение, которое не осталось на этот раз их тайной… Заметим, что Пушкин редко возвращался к предметам своей былой страсти; для этого предмету сему нужно было быть не просто красивой и привлекательной женщиной, но и незаурядной личностью.
Однако такой стремительный, искромётный роман величайшего поэта России с нашей героиней был для него только небольшим эпизодом в его бурной, насыщенной любовными страстями жизни, да и для неё прекращение отношений с Пушкиным не стало жизненной драмой.
После смерти поэта Анна Петровна прожила ещё более сорока лет, встретила, наконец, свою любовь – ту, которую искала всю первую половину жизни, родила сына и совершила одно из главных дел – написала очень интересные и, самое важное, довольно откровенные воспоминания – и о себе, и об окружавших её замечательных людях.
Конечно, писала она их уже на закате своей долгой и насыщенной жизни, через двадцать лет после смерти Пушкина. Это и хорошо, и плохо: отстоялся взгляд на многие события, улеглись страсти – но вместе с тем стушевались некоторые, самые выразительные краски, выветрился терпкий аромат наиболее ярких впечатлений. Тем не менее Анна Петровна нашла такие слова, такой стиль изложения, что смогла очень живо, легко и в то же время тактично поведать о своих отношениях с великим поэтом, никого не обидев и не принизив своей чести. При этом она не сказала открыто о своих чувствах к Пушкину, все эмоции оставила при себе.
В общении с Пушкиным, да и с другими известными современниками Анна Петровна запомнила каждый эпизод, каждую деталь, каждую мелочь и потом, через много лет, воспроизвела всё происходившее с такими подробностями и таким языком, которые делают честь её памяти и литературным способностям.
Считая себя довольно сведущей в вопросах любви («чтение и опытность позволяют мне судить о сей статье», – писала она одному из своих поклонников), она смогла разобраться в пушкинском отношении к женщинам. Анна Петровна напрямую поставила его в зависимость от эпохи. По её свидетельству, сам поэт почти никогда не выражал чувств, он как бы стыдился их, и в этом был сыном своего века, про который сам же сказал, что «чувство было дико и смешно» (курсив А. П. Керн. – В. С.). В её горьких фразах «Он был невысокого мнения о женщинах» и «Пушкин никогда и никого по–настоящему не любил» чувствуется трагедия её личных переживаний.
Наши современники должны быть благодарны А. П. Керн не только за то, что поэт достиг вершины любовной лирики, вдохновлённый ею, но и за то, что она в воспоминаниях донесла до нас подлинный образ Пушкина – не иконы, а живого человека.
Анна Петровна первая рассказала в мемуарах о многих эпизодах своей жизни, тем самым задав тон будущим повествованиям о ней.
Писать о ней начали буквально через год после её смерти. Однако в большинстве работ, посвященных нашей героине, описываются только эпизоды её биографии, связанные с Пушкиным. И уже в первых публикациях было чётко определено её место: в ближайшем дружеском и родственном окружении поэта.
Одну из лучших работ об Анне Петровне Керн в начале XX века написал выдающийся пушкинист Б. Л. Модзалевский. С тех пор о ней написано столько – и хорошего, и плохого, – что, кажется, трудно что–либо добавить. Однако почти каждый год появляются новые исследования, посвященные Керн. Среди тех, кто интересовался её жизнью, множество громких имён деятелей нашей культуры. Свой взгляд на роль этой женщины в жизни и творчестве Пушкина изложили Н. И. Черняев и П. К. Губер, А. И. Незеленов и В. В. Вересаев, Б. В. Томашевский и А. И. Белецкий, А. А. Ахматова и А. М. Гордин, Ю. М. Лотман, Л. И. Вольперт, Л. А. Карваль и др.
Но если внимательно перечитать её воспоминания и письма, записки её второго мужа А. В. Маркова–Виноград–ского, дневники Алексея Вульфа, опубликованные и находящиеся до сих пор в рукописях мемуары и письма современников Анны Петровны, то станет ясно, что всё напечатанное ранее освещало жизнь нашей героини неполно и односторонне.
Автор предлагаемой книги попытался на основе перечисленных выше источников представить в максимально полном спектре жизнь этой замечательной женщины. В связи с тем, что некоторые сюжеты, описанные ею самой с предельной откровенностью и подчас с глубоким волнением, только поблекнут в пересказе, не было смысла лишать читателя возможности познакомиться с ними именно в её изложении.
Многие сведения о жизни Анны Петровны после второго замужества почерпнуты автором из записок А. В. Марко–ва–Виноградского, полный текст которых в данный момент готовится к публикации сотрудниками Пушкинского Дома, и хранящихся там же неопубликованных писем.
Большую помощь в понимании характера и многих мотивов поведения Анны Петровны оказала автору потомок и семейный историк Полторацких Наталья Сергеевна Левицкая. Её вдохновенное эссе о четырёх представительницах этого рода: А. П. Керн, Е. Е. Керн, Н. Г. Львовой (урождённой Полторацкой) и Е. В. Полторацкой – было моим настольным пособием на завершающем этапе работы над рукописью.
При цитировании по возможности соблюдены орфография и пунктуация той эпохи и даны необходимые ссылки. Переводы на русский язык текстов, написанных по–французски, даются в скобках в изложении публикаторов; иногда приводятся несколько вариантов перевода, если они передают разные смысловые оттенки.
Автор выражает благодарность за помощь в сборе материалов для данной книги и подготовке её к изданию начальнику отдела генеалогии и письменных источников Государственного музея А. С. Пушкина, кандидату исторических наук Ольге Владимировне Рыковой, научному сотруднику Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Игорю Саввичу Сидорову (Москва), директору литературного музея Института русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук, кандидату культурологии Ларисе Георгиевне Агамалян, сотрудникам рукописного отдела Пушкинского Дома, доктору филологических наук Маргарите Михайловне Павловой и Лидии Константиновне Хитрово, сотрудникам Всероссийского музея А. С. Пушкина, Елене Владимировне Пролет и Ирине Александровне Клевер (Санкт–Петербург), бывшему директору музея А. С. Пушкина в Торжке Таисии Владимировне Горох, кандидату филологических наук Александру Михайловичу Бойникову (Тверь), а также потомкам рода Бакуниных Вадиму Сергеевичу Галенко (Сходня) и Александру Борисовичу Мошкову (Санкт–Петербург) и потомку рода Полторацких Наталье Сергеевне Левицкой (Москва).
Часть I. «И БОЖЕСТВО, И ВДОХНОВЕНЬЕ»
ПОЛТОРАЦКИЕ, ВУЛЬФЫ, КЕРН
Дедушка Анны Петровны по материнской линии тайный советник{1} Иван Петрович Вульф (1741—1814) в 15–летнем возрасте был зачислен на службу солдатом в лейб–гвардии Семёновский полк. В 1761 году он получил первый унтер–офицерский чин, в 1764 году стал прапорщиком, в 1765–м – подпоручиком, в 1767–м – поручиком, а в 1769 году – капитан–поручиком{2}. Вскоре после этого производства Иван Петрович по болезни вышел в отставку и жил в тверском имении, которое досталось ему в 1754 году по наследству после смерти отца, бригадира{3} Петра Гавриловича Вульфа. В состав имения входили: в Старицком уезде – села: Берново и Соколово, три сельца: Малинники, Петраково и Сенчуково и деревни: Глазуны, Подол, Коробино, Бибиково и Воропу–ни; в Новоторжском уезде – два сельца: Иевлево и Щелка–ново и деревня Кожевники[1].
Женат Иван Петрович был на Анне Фёдоровне Муравьёвой (?—1810), дочери полковника Фёдора Артамоновича Муравьёва. У них было шестеро сыновей: Пётр (1768—1832), женатый на Елизавете Петровне Розановой; Николай (1771– 1813), женатый на Прасковье Александровне Вындомской; Фёдор (1774—1820), женатый на Вере Александровне Свечиной; Павел (1775—1858), женатый на Фридерике Ивановне фон Буш; Иван (1776—1860), женатый на Надежде Гавриловне Борзовой; Никита (1780 – после 1793). Мать нашей героини Екатерина (1773—1832) была старшей из их трёх дочерей; средняя, Наталья (1782—1855), вышла замуж за Василия Ивановича Вельяшева, а Анна (1784—1873) была замужем за Павлом Ивановичем Понафидиным.
Неоднократно, вплоть до 1788 года, Иван Петрович избирался Старицким уездным предводителем дворянства. В 1787 году он был награждён орденом Святого Владимира 4–й степени. Затем в течение десяти лет Вульф занимал различные должности в тверских губернских учреждениях: советника наместнического правления, судьи Совестного суда, председателя департамента Палаты суда и расправы. В Твери на центральной Екатерининской улице, рядом с домом губернатора, у Ивана Петровича был собственный двухэтажный каменный дом (ныне – дом 8 по улице Советской, надстроенный ещё одним этажом).
При назначении в 1798 году вице–губернатором во Владимир И. П. Вульф уже имел чин действительного статского советника{4}. 14 декабря 1798 года он был назначен орловским гражданским губернатором. В Орёл Иван Петрович приехал с большой семьёй: женой Анной Фёдоровной, двумя несовершеннолетними дочерьми Натальей и Анной и двумя молодыми парами: сыном Николаем с женой Прасковьей и дочерью Екатериной, только что вышедшей замуж за Петра Полторацкого.
Губернаторство Вульфа в Орле продолжалось недолго: после сенатских ревизий, проведённых А. И. Голохвастовым и князем К. А. Багратионом (сводная записка о результатах проверки датирована 4 ноября 1800 года), 22 ноября того же года последовала отставка Ивана Петровича. В высочайшем указе причина отставки не указана; вероятно, недовольство было вызвано большим количеством нерешённых дел в губернских присутственных местах.
Отзывы обывателей о коротком периоде правления Вуль–фа в Орле, тем не менее, весьма благожелательны. В. В. Измайлов в 1802 году в книге «Путешествие в полуденную Россию в письмах, изд. Владимиром Измайловым» привёл следующий эпизод: гуляя по Орлу, он спросил у встретившегося местного жителя о губернаторском доме и поинтересовался его мнением о губернаторе. Тот ответил: «Знаю, что он добрый человек. Бедный до него доходит, притеснённый также». Далее Измайлов прибавил: «Моралисты! Запишите сию черту в трактатах ваших с именем Вульфа в Истории людей»[2] .
После отставки И. П. Вульф до конца своих дней жил в основном в Бернове. Анна Петровна вспоминала: «…Господский дом в Бернове стоял на горе задом к саду, впереди него большой двор, окружённый каменной оградой. Далее площадь, охваченная с обеих сторон крестьянскими избами, и в середине её против дома каменная церковь». Иван Петрович очень любил птиц. «В обеденной зале (берновского дома. – В. С), смежной с его кабинетом, находилась во–льерка с канарейками. Там были гнёзда, и их было очень много». Усадебный дом Вульфов в Бернове сохранился, ныне в нём располагается музей А. С. Пушкина.
Бабушка Анны Петровны по матери – Анна Фёдоровна, урождённая Муравьёва (?—1810), в честь которой и названа наша героиня, была светской дамой. Её двоюродный брат Михаил Никитич Муравьёв состоял воспитателем великого князя Александра Павловича – будущего императора Александра I. Анна Фёдоровна со всеми, даже со своими детьми, держала себя всегда чрезвычайно высокомерно, и в то же время всегда входила во все мелочи домашнего хозяйства. «Важничанье бабушки, – писала Анна Петровна, – происходило оттого, что она бывала при дворе и представлялась Марии Фёдоровне во время Павла I с матерью моею, бывшею тогда ещё в девицах. Императрица Мария Фёдоровна, всегда приветливая и ласковая, познакомила мою мать с своими дочерьми Еленою и Александрою Павловнами, сравнивала их рост, и мать моя говорила, что она никогда не видала никого красивее их».
Дедушка по отцовской линии Марк Фёдорович Полторацкий (1729—1795) происходил из рода черниговских казаков, с молодых лет обладал прекрасным голосом, пел в церковном хоре и был вывезен А. Г. Разумовским в Санкт–Петербург (граф на заре юности сам пел в церкви, а в столице восхождение к вершинам власти начал с дворцовой украинской капеллы). Здесь он стал придворным певчим, выступал в итальянской оперной труппе, в 1754 году был произведён в полковники и назначен сначала регентом, а потом директором придворной певческой капеллы. В 1763 году Марк Фёдорович получил потомственное дворянство. Он был обласкан двумя императрицами – Елизаветой Петровной и Екатериной II – и награждён многочисленными имениями в Малороссии и Центральной России. Первый раз он был женат на дочери богатого петербургского купца Шемякина, которая очень рано умерла, а второй – на тверской помещице А. А. Шишковой.
Своей бабушке по отцу Агафоклее Александровне Полторацкой, урожденной Шишковой (1737—1822), Анна Петровна уделила много строк в «Воспоминаниях о моём детстве», поведав о ней изрядное количество семейных преданий и легенд и внеся в её биографию немало путаницы, а зачастую и явных преувеличений. Тем не менее лучше Анны Петровны о ней не сказал никто: «Это была замечательная женщина… Все дети её были хорошо воспитаны, очень приветливы, обходительны… но довольно легкомысленны… Она была красавица, и хотя не умела ни читать, ни писать, но была так умна и распорядительна, что, владея 4 000 душ, многими заводами, фабриками и откупами, вела все хозяйственные дела сама без управляющего через старост… Жила она в Тверской губернии, в селе Грузинах, в великолепном замке, построенном Растрелли (вероятно, дом был возведен не под руководством знаменитого архитектора, а лишь по его проекту; затем он был перестроен зодчим В. П. Стасовым. – В. С.)… С батюшкой она была очень холодна, с матерью моею ласкова, а со мною нежна до того, что беспрестанно давала мне горстями скомканные ассигнации. Я этими подарками несколько возмущалась и всё относила маменьке. Мне стыдно было принимать деньги, как будто я была нищая. Раз спросила у меня, что я хочу: куклу или деревню? Из гордости я попросила куклу и отказалась от деревни. Она, разумеется, дала бы мне деревню, но едва ли бы эта деревня осталась у меня…»
У Марка Фёдоровича и Агафоклеи Александровны было одиннадцать детей. Анна Петровна в своих воспоминаниях пишет, что их было 22 (именно это количество детей Полторацких до настоящего времени фигурирует в работах многих пушкинистов). Это, скорее всего, описка или результат неправильной расшифровки небрежно написанных в рукописи цифр Марковым–Виноградским, который переписывал набело воспоминания жены. Можно предположить ещё, что стольких детей Агафоклея Александровна родила, и половина их умерли в детском возрасте; однако ни в одном из воспоминаний или писем членов семьи о них не говорится.
Представим всех детей М. Ф. и А. А. Полторацких, а также некоторых внуков, которые в дальнейшем будут упоминаться в нашей книге.
Дмитрий (1761—1818) – статский советник, владелец богатейшего имения Авчурино в Калужской губернии, где он создал образцовое аграрное хозяйство. Был женат на Анне Петровне Хлебниковой (1772—1842), за которой в качестве приданого были отданы заводы и фабрики в Калужской и Рязанской губерниях. Имел сына Сергея, известного библиофила и библиографа, и шесть дочерей.
Фёдор (1764—1858) – полковник в отставке, владелец имения Чернянка в Курской губернии. От нескольких жён, в том числе двух официальных (первая, не вынеся его разгульной жизни и глумления над религиозно–нравственными устоями, сбежала от него за границу и осталась там навсегда), имел двенадцать детей.
Александр (1766—1839) – обер–берг–гауптман IV класса (генерал в горном ведомстве), служил помощником директора пушечного завода в Петрозаводске, а затем – управляющим монетным департаментом в Санкт–Петербурге. Владел имениями в селе Рассказове Тамбовской губернии и селе Красном Тверской губернии. От первой жены Марии Карловны, урождённой Гаскойн, он имел дочь и двоих сыновей, в том числе Александра Александровича (1792—1855) (тот в 1819 году сопровождал молоденькую генеральшу Анну Керн на выходах в столичный свет, а в 1834 году женился на предмете первой любви Пушкина Екатерине Павловне Бакуниной). Вторая жена – в девичестве Татьяна Михайловна Бакунина – родила ему ещё двоих сыновей и шесть дочерей. В детские годы Анна Полторацкая с родителями бывала в Красном и даже, как писала потом в воспоминаниях, была дружна с сестрами А. А. Полторацкого.
Павел (1767—1827) – поручик в отставке, жил в имении Баховкино Тверской губернии. Женился на Варваре Михайловне Мордвиновой, от которой имел троих сыновей и трёх дочерей.
Алексей (1770—1843) – действительный статский советник, на протяжении 17 лет избирался Тверским губернским предводителем дворянства. Владелец имения Вельможье в Тверской губернии. Был женат дважды. От второй жены Варвары Дмитриевны Киселёвой у него были три сына (один из них, Владимир Алексеевич, дослужился до генерал–майора) и две дочери.
Пётр (около 1775 – после 1851) —отец нашей героини. Был женат на Екатерине Ивановне Вульф (1773—1832). Кроме Анны, у него были ещё дочери Елизавета (около 1802 – после 1868) и Варвара (около 1808 – после 1830) и сын Павел (1810—1876).
Константин (1782—1858) – генерал–лейтенант, свидетель убийства Павла I, участник Отечественной войны 1812 года и Заграничного похода русской армии 1813—1814 годов, ярославский губернатор. Был женат на княжне Софье Борисовне Голицыной и имел от неё одного сына.
Егор (1780–е – после 1808) умер в молодом возрасте холостым.
Елизавета (1768—1838) была замужем за Алексеем Николаевичем Олениным, директором императорской Публичной библиотеки, президентом императорской Академии художеств, действительным тайным советником, членом Государственного совета. В петербургском доме Олениных состоялось знакомство её племянницы Анны Керн с Пушкиным.
Варвара (1772—1845) вышла замуж за тайного советника и сенатора Дмитрия Борисовича Мертваго.
Агафоклея (1776—1840) – замужем за действительным тайным советником и сенатором Александром Дмитриевичем Сухаревым.
«Противоположностию ей (бабушке Агафоклее Александровне. – В. С.), – вспоминала Анна Петровна, – во всём могла служить милая моя бабушка, родная тётка моей матери, девица Любовь Фёдоровна Муравьёва. Она с самого замужества моей матери жила с нами. Она была любезная старушка. Красавица в молодости, она внушала вдохновение поэтам, и Богданович поднёс ей свою „Душеньку“… Не помню я горькой минуты в своей жизни, которою бы я ей была обязана, и таю в глубине сердца самые светлые о ней воспоминания… Никогда она меня не бранила, никогда не наказывала. Я только знала её ласки, самые дружеские наставления, как ровне.
Когда я выросла, тогда всегда была готова сознаться ей в какой–либо неосторожности и просить её совета… Между тем как другие живущие в доме или подводили меня под наказание, или сами умничали надо мною, она всегда была моим другом и защитником. Она продала своё имение за 8 000 и отдала их отцу моему, с тем, чтобы он содержал её и её горничную, которая была другом бабушки. Это также рисует её доброту. Когда я выходила замуж, то она потребовала, чтобы из её денег была употреблена 1 000 на покупку фермуара для меня. Она ослепла от катарактов… Ей сделали неудачно операцию, и она через несколько лет умерла на моих руках».
Отец Анны Петровны Пётр Маркович Полторацкий, по её словам, был добрым, великодушным, достаточно образованным и довольно остроумным человеком. Вспомним хотя бы известную шутку, разыгранную им с маленькими детьми
Понафидиных{5} во время пребывания А. С. Пушкина осенью 1828 года в старицких деревнях Вульфов, и описанную поэтом в письме к А. А. Дельвигу в середине ноября: «Пётр Маркович здесь повеселел и уморительно мил. На днях было сборище у одного соседа; я должен был туда приехать. Дети его родственницы, балованные ребятишки, хотели непременно туда же ехать. Мать принесла им изюму и черносливу, и думала тихонько от них убраться. Но Пётр Маркович их взбуторажил, он к ним прибежал: Дети! Дети! Мать вас обманывает – не ешьте черносливу, поезжайте с нею. Там будет Пушкин – он весь сахарный, а зад его яблочный, его разрежут и всем вам будет по кусочку – дети разревелись: Не хотим черносливу, хотим Пушкина. Нечего делать – их повезли, и они сбежались ко мне, облизываясь – но, увидев, что я не сахарный, а кожаный, совсем опешили…»
Во время жизни Петра Марковича в Лубнах Полтавской губернии, где он управлял материнским имением, в его ближайшем окружении находилось много неординарных личностей, занимавших высокие государственные должности. Анна Петровна вспоминала, что в числе друзей её отца был князь Алексей Борисович Куракин, с 1802 по 1807 год – генерал–губернатор Малороссии, затем – член Государственного совета, а в 1807—1810 годах – министр внутренних дел России: «Он был настоящий магнат с величавой осанкой и самою аристократическою грациозностью и ласковостью. Всё лицо его сияло добротою и умом. Он был очень образован и любил моего отца». Князья Виктор Павлович Кочубей, в 1802—1807 и 1819—1823 годах занимавший пост министра внутренних дел России, и Яков Иванович Лобанов–Ростовский, с 1808 года являвшийся малороссийским генерал–губернатором, а затем – членом Государственного совета, по словам А. П. Керн, «видели в отце моём благонамеренного и умного деятеля» и также состояли с ним в дружеских отношениях.
Пётр Маркович был гостеприимным хозяином, за его обеденным столом находилось место и городничему Артю–хову, и аптекарю Гильдебрандту, и соседям – помещикам Кулябкам, Новицким и Пинкорнелли, и офицерам квартировавшего в Лубнах Егерского полка. Его все любили, уважали и вместе с тем боялись попасть ему на зубок. Его острые шутки были оригинальны и метки. Постоянным гостем в доме Полторацких был лубенский городской голова Роман Фёдорович Ждан – честный, добрый, умный и весьма любезный купец. На всех вечеринках он пел малороссийские песни и смешил публику местными анекдотами.
Щедрость Полторацкого очень часто не соответствовала его возможностям. При жизни матери он, желая вырваться из материальной зависимости от неё, несколько раз пытался заработать большие деньги своим умом, сметкой и изобретательностью, но так как был абсолютно лишён практической хватки и предприимчивости, то все его «спекуляции», по воспоминаниям Анны Петровны, «имели характер более поэтический, чем деловой, и лопались как мыльные пузыри». Эти его непродуманные, порою даже авантюрные поступки приносили близким одни беды и оставили в памяти потомков самые неблагоприятные отзывы о нём.
«В обращении с крестьянами и прислугою, – вспоминала Анна Петровна, – он проявлял большую гуманность. Он был враг телесных наказаний и платил жалованье прислуге в то время, когда на мужиков смотрели исключительно как на рабочую силу… Впрочем, несмотря на гуманность, он, в припадке спекулятивных безумий, продал раз на своз целое селение крестьян».
В начале 1809 года П. М. Полторацкий предложил дешёвый способ получения сухого мясного бульона: на салотопенных заводах, которых тогда в России существовало несколько десятков, он рекомендовал устанавливать дополнительные котлы для выпаривания жидкости, остающейся после вываривания сала, которую обычно на этих заводах просто выливали. После выпаривания этот «мясной варенец» необходимо было высушить в специальных формах и получить таким образом прекрасный по питательным свойствам и удобный в хранении и транспортировке сухой мясной концентрат. Внедрение этого изобретения Петра Марковича, особенно в преддверии затяжной и охватившей огромное пространство войны с Наполеоном, сулило России большие выгоды. Полторацкий надеялся на хорошее денежное вознаграждение и на получение привилегий{6} как минимум на десять лет на внедрение своего проекта; однако Александр I ограничился тем, что наградил его орденом Святой Анны 2–й степени, а военный министр А. А. Аракчеев и морской – маркиз И. И. де Траверсе, по своей недальновидности, отказались заказывать сухой бульон для нужд армии и флота. Петра Марковича это очень огорчило, но не остановило в реализации своей идеи[3].
«…Он потом приобрёл 150 душ и 1 500 десятин за 40 тысяч ассигнациями, – писала в воспоминаниях Анна Петровна, – и, продав их на своз, купил скота, сварил бульон, которым предполагалось кормить армию во время войны, повёз его в Петербург, чтобы продать его в казну, но не хотел подмазать приёмщиков, и бульон его забраковали. Он повёз его в Москву, сложил там. Пришёл Наполеон и съел бульон». Вот так – довольно прозаически в изложении А. П. Керн, а на самом деле весьма трагически и с большими денежными потерями – закончилась одна из затей Петра Марковича.
Агафоклея Александровна, узнав об очередной «афере» сына, послала в Малороссию своего доверенного отобрать у него имения. Анна Петровна вспоминала: «…я, десятилетний ребёнок, была свидетельницею страшной сцены по случаю означенного бульона, которою она встретила отца моего, приехавшего к ней из Бернова! Когда он входил к ней, её чесали. Она вскочила. Седые её волосы стали дыбом, она страшно закричала, изрекла несколько проклятий и выгнала [отца]. Он хотел взять мать и меня и уйти, но она потребовала, чтобы мы остались. <…> Батюшка пошёл к камердинеру своего отца, очень доброму человеку, и провёл с ним вечер».
И в дальнейшем Пётр Маркович предпринимал попытки заработать своим умом и смекалкой. Анна Петровна приводит ещё один эпизод: «Получив землю в Киеве (места в Киеве раздавались тогда даром), вздумал [он] построить, не имея ни гроша денег, огромный дом для всех лучших магазинов и ездил к хозяевам этих магазинов, убеждал их заплатить ему вперёд за проектированные в будущем доме квартиры годовую плату, с тем, что он на полученные деньги устроит им помещения в их вкусе. Рабочие были уже наняты, барак для них был уже построен в долг, и вся афера кончилась процессом».
Однажды он вырыл в своём имении огромный пруд, наполнил его морской водой и хотел разводить морских рыб; в другой раз задумал производить масло в форме зернистой икры, для чего даже построил у себя целую фабрику. Он изобрёл машину для вымешивания теста и лёгкую грузовую повозку в виде бочки[4] . В 1831 году Пётр Маркович получил привилегии на изобретённые им мешалки для глины и бражных заторов на винокуренных заводах[5].
Таков был отец нашей героини…
Мать Анны Петровны – Екатерина Ивановна была тихой, доброй и ласковой женщиной, она во всём уступала мужу.
В качестве приданого, по рядной записи от 11 декабря 1800 года, Екатерина Ивановна получила из отцовских владений, находившихся в Старицком уезде Тверской губернии, в трёх верстах от Бернова, сельцо Иевлево с 49 душами мужского и 47 душами женского пола и деревню Сенчуково с 90 душами мужского и 102 душами женского пола[6]. Довольно часто именно эти две деревеньки спасали семью от безденежья: Екатерина Ивановна оформляла ссуды под их залог, в тяжелые моменты брала взаймы у партикулярных лиц, а возвращала долги из доходов этого небольшого именьица.
Начнём повествование о жизни нашей героини со сведений о её рождении, почерпнутых ею самой из рассказов близких:
«Я родилась под зеленым штофным балдахином с белыми и зелеными страусовыми перьями по углам 11–го февраля 1800 года. Обстановка была так роскошна и богата, что у матери моей нашлось под подушкой 70 голландских червонцев{7}, положенных посетительницами».
Анна появилась на свет в Орле, в доме дедушки И. П. Вульфа, который, как говорилось ранее, в течение двух лет (до 22 ноября 1800 года) служил здесь губернатором. Одним из восприемников при крещении был её дядя Дмитрий Маркович Полторацкий.
В конце 1800 года, вскоре после отставки Ивана Петровича, Полторацкие перебрались в Лубны, где Пётр Маркович управлял имением в 700 душ, данным ему матерью Ага–фоклеей Александровной.
«Батюшка мой, – вспоминала Анна Петровна, – с пелёнок начал надо мною самодурствовать. <…> Когда, бывало, я плакала, от того, что хотела есть или была не совсем здорова, он меня бросал в тёмную комнату и оставлял в ней до тех пор, пока я от усталости засыпала в слезах… Требовал, чтобы не пеленали и отнюдь не качали, но окружающие делали это по секрету, и он сердился, и мне, малютке, доставалось… » Кроме того, из–за неустроенности Екатерине Ивановне не всегда удавалось кормить ребёнка грудью, от чего у неё «сделалось разлитие молока, отнялась нога, и она хромала всю жизнь». Пётр Маркович возил жену на лечение в Сорочинцы к знаменитому доктору Трофимовскому.
Вскоре у Полторацких родилась ещё одна дочь; к сожалению, её имя в использованных нами документах не упоминается.
В 1802 году измученная лечением и семейными заботами Екатерина Ивановна с двухгодовалой Анной и её новорождённой сестрой уехала погостить к своим родителям в имение Берново в Тверской губернии. Там неожиданно пришлось задержаться на целый год, потому что обе девочки заболели скарлатиной, от которой младшая сестра умерла.
Анна Петровна пишет об одном из первых своих детских впечатлений: «Нас было несколько детей в Бернове, из них помню хорошо одну Анну Николаевну Вульф, с которою мы были дружны, как родные сестры. Мы обедывали на маленьком столике в столовой, прежде обеда старших за час или за два. За обедом присутствовала одна из наших няней: моя Пелагея Васильевна и её Ульяна Карповна, обе добрые, усердные и ласковые. Мне было хорошо и привольно в Бер–нове, особенно в отсутствие батюшки: все были очень внимательны и нежны ко мне, в особенности наш бесподобный дедушка Иван Петрович Вульф».
Здесь, в Бернове, под заботливой опекой семьи дедушки маленькая Аня Полторацкая прожила до трёхлетнего возраста.
В 1803 году Пётр Маркович снова перевёз семью в Лубны.
«Лубны раскинулись по холмам и террасам высокого правого берега реки Сулы, впадающей в Днепр, – читаем мы в „Записках“ А. В. Маркова–Виноградского{8}. – Они замечательны ботаническим садом и казённою аптекою, заведённою Петром I. В них около 3 000 жителей, из которых одна треть евреев. До XVII века они принадлежали гетманской булаве. В 1658 году тут были стычки поляков с русскими… А в 1802 году сделались уездным городом Полтавской губернии… В них (в Лубнах), кроме грязи, в которой тонут не только собаки, но и лошади и даже иногда люди – бывают такие случаи – есть и библиотека для чтения! Да и помимо этого Лубны достойны замечания по своему древнему живописному положению и прекрасному климату. Верно, тут в древности промышляли лубом, а может, как некоторые думают, любовью, и от того и город получил своё название».
Ещё одно описание этого провинциального местечка оставил в 1840 году украинский писатель Е. П. Гребёнка: «Вероятно, всякому образованному человеку известно, что Лубны – уездный город Полтавской губернии, что они стоят на реке Суле, воспетой в „Песне о полку Игоря“, и что в Луб–нах находится казённая аптека… Кроме того, Лубны могут похвалиться своим местоположением, своими поэтическими преданиями и ярмаркою, бывающей 6 августа, в день преображения… Многие приезжие из столицы вменяют себе в непременную обязанность смотреть в провинции на всё с другой стороны и особливо, если дело идёт о театре; тотчас начинается сравнение: и сцена, дескать, Большого театра обширнее… сравнивать театр в Лубнах с петербургским вовсе не остроумно… На третий день оставаться на ярмарке скучно. Я сел в коляску. Прощайте, Лубны! Благодарю вас за несколько минут веселья, за несколько светлых живых ощущений, за ваше радушие, за вашу красоту и красоту ваших обитательниц!.. »
Пётр Маркович, занимавший с 1802 года в Лубнах выборную должность поветового маршала (уездного предводителя дворянства), подарил свой дом под богоугодное заведение, а себе строил новый «на чрезвычайно живописном месте, на окраине горы над Сулою, среди липовых, дубовых и берёзовых рощ, красиво сбегавших по террасам и холмам к реке». В этом новом доме, с видном на прекрасные пейзажи, в окружении добрых и порядочных людей – соседей–дворян, сослуживцев отца и армейских офицеров квартировавшего в городе полка – Анна прожила до восьми лет[7].
Она вспоминала о своём детстве:
«Тогда тут стоял полк Мелиссино, очень умного и доброго серба. Этот генерал говаривал: „Палытыка, палытыка, а рубатыся треба!..“ Этот почтенный старик очень был мил со мною.
Раз, когда мне было 4 года, один офицер на вечере у нас посадил меня на колени, слушая, как я читаю, и очень любезно со мной шутил… Это так мне понравилось, что я обещала ему выйти за него замуж. Когда он ушёл, я сказала матери. Она, смеясь, сообщила это решение Мелиссино. Старик хотел узнать, кого я осчастливила своим выбором, но я не могла назвать своего фаворита, потому что не знала его фамилии. Тогда он стал подводить ко мне, сидевшей на комоде, всех офицеров полка… Оказалось, что избранный мной был Гурьев.
Все эти военные и гражданские очень меня ласкали <…>.
Несмотря на постоянные весёлости, обеды, балы, на которых я присутствовала, мне удавалось удовлетворять своей страсти к чтению, развивавшейся во мне с пяти лет. Я всё читала тайком книги моей матери, тут попадались мне, по большей части, переводные английские романы; из них нравились мне особенно: Octavia, par Anna Maria Porter, Felicie et Florestine{9} и другие. Многого, разумеется, я не понимала, но всё–таки читала.
В куклы я никогда не играла и очень была счастлива, если могла участвовать в домашних работах и помогать кому–нибудь в шитье или вязанье…»
В 1808 году Екатерина Ивановна, потеряв третью дочь, «ребёнка необыкновенной красоты», по свидетельству Анны Петровны, «была неутешна», и Пётр Маркович вновь отправил жену с её теткой Любовью Фёдоровной и детьми в Берново.
Здесь под дедушкиным кровом вновь встретились две Анны, две сверстницы – Анна Полторацкая и её кузина Анна Вульф, которую привезли из Тригорского родители – Прасковья Александровна и Николай Иванович.
«Был вечер… – вспоминала Анна Петровна о знакомстве и начале дружбы с Анной Николаевной, – горела тускло сальная свеча в конце большой залы… Они (П. А. и Н. И. Вульфы. – В. С.) сели на стулья у огромной клетки с канарейками, подозвали к себе меня и маленькую свою дочь с ридикюлем и представили нас друг другу, говоря, что мы должны любить одна другую, как родные сестры, что мы и исполняли всю свою жизнь.
Мы обнялись и начали разговаривать. Не о куклах, о нет… Она описывала красоты Тригорского, а я прелести Лубен и нашего в них дома. Во время этой беседы она вынула из ридикюля несколько желудей и подарила мне. Смело могу сказать, что подобных детей, как были мы, мне не случалось никогда встречать… Анна Николаевна не была такою резвою девочкою, как я; она была серьёзнее, расчётливее и гораздо прилежнее меня к наукам. Такие свойства делали её любимицею тетушек и впоследствии гувернантки. Различие наших свойств не делало нас холоднее друг дружке, но я была всегда горячее в дружеских излияниях и даже великодушнее».
Несмотря на несходство характеров, сестры очень сблизились. «Когда я заболевала, – вспоминала Анна Петровна, – то мать брала меня к себе во флигель, и из него я писала записки к Анне Николаевне, такие любезные, что она сохраняла их очень долго. Мы с ней потом переписывались до самой её смерти, начиная с детства».
Мать Анны Петровны и отец Анны Николаевны, родные брат и сестра и, судя по всему, близкие по духу люди, всячески способствовали сближению своих дочерей. «Взаимная наша доверенность была полная, без всяких задних мыслей. Нас и вели совершенно ровно, и покупали мне то, что и ей, в особенности наблюдал это брат моей матери Николай Иванович, превосходное существо с рыцарским настроением и с любовью ко всему изящному, к литературе… Он поручил старшему брату своему Петру Ивановичу Вульфу, служившему кавалером при великих князьях Николае и Михаиле Павловичах, отыскать гувернантку».
В это время для ровесницы и тёзки кузин, великой княжны Анны Павловны, выписали из Англии двух гувернанток: m–lle Sybourg (Сибур) и m–lle Benoit ( Бенуа). Последняя после непрерывных двадцатилетних трудов на поприще воспитания отпрысков английских лордов предпочла отдать предложенное ей в России место при царском дворе своей приятельнице Сибур, а сама в конце 1808 года приняла предложение Петра Ивановича Вульфа и приехала в Берново.
Наша героиня находилась в Бернове под попечением гувернантки с восьми до двенадцати лет. Она вспоминала: «Родители наши тотчас нас с Анной Николаевною ей поручили в полное её распоряжение. Никто не мешался в её воспитание, никто не смел делать ей замечания и нарушать покой её учебных с нами занятий и мирного уюта её комнаты, в которой мы учились. Мы помещались в комнате, смежной с её спальною».
Мадемуазель Бенуа, оказавшаяся умным и знающим педагогом, не только сумела завоевать уважение и любовь воспитанниц, но и в совершенстве обучить их французскому языку (русскому языку девочек учили только шесть недель во время вакаций, для этого приглашали студента Московского университета) и, самое главное, приохотить их к чтению и самостоятельному мышлению. «У нас была маленькая детская библиотека с m–me Genlis{10}, Ducray–Duminil{11} и другими, и мы в свободные часы и по воскресеньям постоянно читали. Любимые сочинения были: «Les veillees du chateau», «Les soirees de la chaumiere» (« Вечерние беседы в замке», «Вечера в хижине»). Встречая в читанном скабрезные места, мы оставались к ним безучастны, так как эти места были нам не понятны. Мы воспринимали из книг только то, что понятно сердцу, что окрыляло воображение, что согласовано было с нашею душевною чистотою, соответствовало нашей мечтательности и создавало в нашей игривой фантазии поэтические образы и представления. Грязное отскакивало от наших душ. Они всасывали в себя только светлую непорочную поэзию».
Сентиментальные английские и французские романы навевали в мечтах и фантазиях девочек поэтические образы, совершенно оторванные от действительности; они «считали себя достойными только принцев и мечтали выйти замуж за Нуму Помпилия или Телемака, а в случае неудачи за какого–нибудь из русских великих князей».
Довольно часто дети вместе со взрослыми ездили в гости к соседним помещикам и многочисленным родственникам, проживавшим в Новоторжском и Старицком уездах – к Львовым в Митино, к Бакуниным в Прямухино, к Полторацким в Грузины, Красное и Баховкино, а также в Малинники – имение мужа Прасковьи Александровны Вульф.
В конце 1810 года умерла бабушка нашей героини Анна Фёдоровна. После её смерти Иван Петрович Вульф с детьми и внуками некоторое время жил в Твери. В 1811 году художник О. А. Кипренский в доме Вульфа нарисовал карандашный портрет Ивана Петровича, который находится ныне в Тверской областной картинной галерее. Анна Петровна писала о дедушке в воспоминаниях: «Никто не слышал, чтобы он бранился, возвышал голос, и никто никогда не встречал на его умном лице другого выражения, кроме его обаятельной, доброй улыбки, так мастерски воспроизведённой (в 1811 г.) карандашом Кипренского на стоящем передо мною портрете. Этот портрет рисовался в Твери, и я стояла, облокотясь на стол, за которым сидел дедушка и смотрел на меня с любовью…»
В начале 1812 года Пётр Маркович решил перевезти жену с дочерью в Москву, но сначала отправил их на лето в небольшое владение Полторацких Кушниково, находившееся в Ста–рицком уезде Тверской губернии, и поместил в двух крестьянских избах, а когда началась война с Наполеоном, исколесив 12 губерний, в объезд оккупированной французами Москвы, через Владимир и Тамбов доставил, наконец, в Лубны.
О том, что представляла собой лубенская усадьба, строительство которой Пётр Маркович закончил в 1811 году, можно судить по описанию племянницы Керн Веры Павловны Полторацкой, сделанному в 1937 году:
«Родовая усадьба Полторацких в Лубнах располагалась на самом краю высокого обрыва, нисходящего к реке Суле. Крутые спуски здесь перемежаются с небольшими ровными полянами, заросшими деревьями и цветами. Два–три домика по склону не портят вида; наоборот, лишь оживляют ландшафт. В нём столько шири и, вместе с тем, уюта и ласковой, приветливой красоты… Дом был сложен из толстых полуаршинных бревен. (Через 120 лет после постройки при ударе молотком стены звенели, как железо. – В. С.) По преданию, дом [был] выстроен над сводами подвалов древнего казначейства. В первом этаже когда–то размещались обширные кладовые и кухня… Через крытую застеклённую веранду с узорчато вырезанными стенами проходим через боковые двери в уютную и тёплую горницу с низеньким потолком (над комнатой антресоли). И сразу овладевает чувство глубокого успокоения от ощущения незыблемой пряности этого родового дома, где каждый уголок такой привычный, родной и близкий. В нашей горнице, которая находится рядом с парадными покоями, очень высокими комнатами, когда–то ютилась девичья, где в тесноте десятки крепостных девушек вышивали на пяльцах и вязали кружева. А над средней частью дома – мезонин, выходящий широкими венецианскими окнами на Сулу и на сиреневую аллею… Дом Петра Марковича был в те времена, да, пожалуй, и теперь – лучший в городе. Тогда он носил название «Замка Полторацкого»… В этом доме протекали детские и девичьи годы родной тётки нашей Анны Петровны… С веранды нашего «замка», и особенно из окон мезонина раскрывается необъятный простор Засулья. Река Сула серебристой змейкой вьётся по ярко–зелёным лугам. За рекой группы деревень с зелёными куполами храмов и потемневшими от непогоды соломенными крышами хат… Был здесь когда–то большой фруктовый сад и дубовая роща. Ещё сохранилось от неё несколько древних дубов, современников Иеремии Вишневецкого, который когда–то владел всем краем… Да, хорошо здесь очень. А особенно хорошо было в старину, когда вокруг дома ещё красовалась сиреневая аллея – прямою линией от парадных дверей на улицу, или вернее – в тихий переулок, где и сейчас, через 120 лет, так пустынно. Была ещё и вторая аллея – вдоль обрыва, которая носила название «Любовная». Это была аллея из дубов – могучих и огромных, широко раскинувших во все стороны свои могучие ветви, каждая из которых была подобна дереву. Они были увенчаны густыми вечно зелёными кронами. Всегда здесь бывало сумрачно, и эта противоположность – сумеречного полусвета с ярким сиянием дня на открытом краю обрыва – была чарующе прекрасна. Нужно ли говорить, скольких романов свидетелем была эта аллея?..»[8]
Когда в конце августа 1852 года император Николай Павлович, проездом в Крым решивший поучаствовать в смотре войск в Чугуеве, остановился в Лубнах, то для отдыха ему отвели комнаты именно в доме Полторацкого, что ещё раз подтверждает, что это строение было – и ещё долго оставалось – лучшим в городе. «Высокий путешественник остался доволен благоустройством города, любовался живописной панорамой засульской дали, открывавшейся из окон отведённого ему помещения в доме Полторацкого, и выразил желание иметь виды Лубен».
Дом Полторацких простоял до лета 1942 года, когда во время фашистской оккупации был разобран по приказу гебитскомиссара Фалцрафа, пожелавшего на этом месте устроить плацпарад (место для смотров и строевых занятий).
«Тут я прожила до замужества, – вспоминала А. П. Керн, – уча меньшого брата и сестёр, танцуя (и совершенствуясь в игре на фортепиано. – В. С.), читая, участвуя в домашних спектаклях, подобно тому, как в детстве в Бернове, где m–lle Benoit заставляла нас разыгрывать комедии детские, петь романсы…
Батюшка продолжал быть со мною строг, и я девушкой так же его боялась, как и в детстве. Если мне случалось танцевать с кем–нибудь два раза, то он жестоко бранил маменьку, зачем она допускала это, и мне было горько, и я плакала. Ни один бал не проходил, чтобы мне батюшка не сделал сцены или на бале, или после бала. Я была в ужасе от него и не смела подумать противоречить ему даже мысленно».
В Лубнах стоял 37–й егерский полк, и все его офицеры были поклонниками Анны Полторацкой{12}. Она беспечно кружила им головы, мечтая при этом о возвышенной, взаимной и страстной любви до гроба. Но когда сам командир 15–й пехотной дивизии, в состав которой входил этот полк, 52–летний боевой генерал, кавалер многих орденов Ермолай Фёдорович Керн также начал ухаживать за молодой девушкой, Пётр Маркович отдал ему явное предпочтение и стал отказывать всем прочим соискателям руки его дочери. Анна была в отчаянии – старый служака никак не соответствовал её девичьим мечтам; но с детства панически боявшаяся отца, она даже в мыслях не могла ему перечить. Вскоре генерал посватался и, сделавшись женихом, поселился в доме Полторацких.
«Батюшка преследовал всех, – вспоминала А. П. Керн, – которые могли открыть мне глаза насчёт предстоящего супружества, прогнал мою компаньонку, которая говорила мне всё: несчастная! и сторожил меня, как евнух, всё ублажая в пользу безобразного старого генерала… Он употреблял все меры, чтобы брак состоялся, и он действительно состоялся в 1817 году, 8–го января…»
«Много было людей, которым угодно было устроить этот брак, – писала Анна Керн в 1820 году в „Дневнике для отдохновения“, – но не нашлось ни одной души, которая не допустила бы его, а именно это должно было сделать, видя моё к нему отвращение».
Мнение потомков Полторацких об истории замужества старшей дочери Петра Марковича передает племянница Анны Петровны Вера Павловна Полторацкая:
«Дед, говорят, был великий самодур, подлинное порождение эпохи крепостного права. Владел он многими имениями с крепостными, обширными лесами и угодьями. Он был маршалом города. Когда в Лубны заезжал проездом Николай I, то останавливался у деда. Но так как последний жил широко и беспутно и, к тому же, вечно бывал обуреваем какими–то фантастическими прожектами самых необычайных промышленных предприятий, которые неизменно пролетали в трубу, то к концу жизни он спустил все свои поместья, и Анна Петровна, и прочие наследники остались в бедности.
Как самодур и деспот, который всех ломал по–своему, он много горя причинил своей семье. Анну Петровну, как известно, он в возрасте неполных шестнадцати лет насильно выдал замуж за престарелого бригадного генерала Керна. Девочка очень убивалась, очень страдала из–за постылого сватовства, но, однако, не осмелилась пойти против воли непреклонного сурового отца»[9].
Кто же он, первый муж Анны, к чьему имени сначала с подачи супруги, а затем в результате многочисленных повторов пушкинистов было приклеено столько нелестных эпитетов?
Род Кернов внесён в дворянскую родословную книгу Черниговской губернии. Он происходил из «природных российских немцев».
Ермолай Фёдорович Керн родился в 1765 году в городе Петровске Саратовской губернии, где его отец, отставной полковник, служил городничим. С детского возраста был записан вахмистром в Смоленский драгунский полк{13}, принимал участие в Русско–турецкой войне 1787—1791 годов, отличился при осаде и взятии Очакова и крепости Бендеры, а затем под непосредственным командованием М. И. Кутузова штурмовал считавшуюся неприступной турецкую крепость Измаил. За проявленную храбрость он получил две серебряные медали на Георгиевской ленте и чин прапорщика.
Во время польских кампаний 1792 и 1794 годов Ермолай Фёдорович был ранен. В 1806 году уже в чине майора он сражался на Кавказе и в одной из стычек едва не попал в плен к чеченцам, но сумел шпагой сбросить накинутый аркан; в другой – был ранен стрелой в левый бок. В 1806– 1807 годах, уже в войнах против Наполеона, Керн отличился при Гейльсберге и был назначен командиром Перновского мушкетёрского полка.
Е. Ф. Керн участвовал в Русско–шведской войне 1808– 1809 годов. 4 декабря 1808 года из–за ранений и расстроенного здоровья он вышел в отставку с правом ношения мундира и полным пенсионом. Однако в марте 1811 года он возвратился в армию и был назначен сначала командиром 48–го егерского, а затем Белозерского пехотного полка.
Когда началась Отечественная война 1812 года, Керн сначала со своим полком в составе 17–й пехотной дивизии З. Д. Олсуфьева, а затем во главе 2–й бригады 1–й Западной армии М. Б. Барклая–де–Толли находился в арьергарде, прикрывая отступающие войска, вступая в непосредственное соприкосновение с противником и уничтожал за собою мосты. Он участвовал в боевых действиях под Смоленском и на Бородинском поле, где защищал Утицкий курган и лично водил полк в штыковые атаки. «Славно, Керн! – сказал ему тогда генерал П. П. Коновницын. – Будь в моей воле, я снял бы с шеи моей Георгиевский крест и надел его на те бя». За Бородино Ермолай Фёдорович получил чин полковника. Он участвовал в Тарутинском сражении, отличился при штурме Вязьмы, за что 18 июля 1813 года был произведён в генерал–майоры. В сражении под Красным 6 ноября его подразделение захватило казну французского корпуса. Главнокомандующий М. И. Кутузов лично поблагодарил Керна за такую добычу и представил к ордену, а после изгнания французов из России рекомендовал его в Вильно императору Александру I как одного из лучших офицеров.
Во время Заграничного похода русской армии 1813—1814 годов Ермолай Фёдорович являлся комендантом немецкого города Мейсена, блестяще проявил себя в сражении под Ба–уценом, участвовал в Битве народов под Лейпцигом, был военным губернатором Касселя. С января 1814 года он командовал 3–й бригадой 17–й пехотной дивизии Олсуфьева, участвовал в блокаде Майнца, взятии Суассона и Парижа. За французскую кампанию он получил несколько ранений и контузию.
Храбрость и военные таланты Керна были отмечены семью боевыми орденами: российскими Святой Анны 1–й степени, Святого Владимира 3–й степени, Святого Георгия 4–й степени (18 марта 1814 года), прусскими Красного Орла 2–го класса и «За заслуги», шведским Меча 3–й степени, золотым знаком за штурм Праги, а также серебряными медалями в память взятия Очакова и Измаила, войны 1812 года и покорения Парижа.
Вскоре после окончания боевых действий и возвращения в Россию с 5 мая 1816 года Ермолай Фёдорович получил под командование 15–ю пехотную дивизию.
В биографии Е. Ф. Керна указывается, что первым браком он сочетался с дочерью витебского помещика Севери–нова, и их сыну Александру в 1817 году было шесть лет. В метрической книге церкви Вознесения, что в Адмиралтейских слободах Санкт–Петербурга (запись № 352 от 1810 года), записано о рождении 3 декабря у «отставного полковника Ермолая Фёдорова сына Керн» незаконнорождённого сына Александра и крещении его в тот же день священником этой церкви Кириллом Яковлевым[10] .
Ермолай Фёдорович ещё с 1814 года был знаком с дядей Анны, генералом Константином Марковичем Полторацким – оба командовали бригадами в дивизии Олсуфьева.
Вот как характеризовал Е. Ф. Керна военный писатель генерал–лейтенант А. И. Михайловский–Данилевский, автор знаменитого «Описания Отечественной войны 1812 года»: «Керн был среднего роста, худощав, и нрава весёлого. Беззаботный, доверчивый, не бережливый на деньги, никогда не помышлял он о завтрашнем дне. Война составляла его стихию. Особенно отличал его принц Евгений Вюртембергский, а чтобы заслужить внимание сего знаменитого сподвижника императора Александра, надлежало явить опыты храбрости необыкновенной. Действительно, в сражении надобно было любоваться Керном»[11].
Первый год своего замужества Анна прожила в Лубнах под присмотром отца. Она ещё не осознала в полной мере тех изменений, что произошли в её судьбе. Однако у неё быстро появилось и усиливалось с каждым днём жизни с армейским служакой–генералом отвращение к мужу. Некоторое разнообразие в её жизнь вносили редкие поездки с мужем по его служебным делам в другие города.
Во время одного такого вояжа в Полтаву в том же 1817 году на балу, устроенном по случаю смотра 3–го корпуса генерала Ф. В. Остен–Сакена, состоялось знакомство Анны с императором Александром I.
«Сакен <…> указал государю на меня и сказал ему, кто я, – писала А. П. Керн в воспоминаниях „Три встречи с императором Александром Павловичем“. – Император имел обыкновение пропустить несколько пар в польском прежде себя и потом, взяв даму, идти за другими. Эта тонкая разборчивость, только ему одному сродная, и весь он, с его обаятельною грациею и неизъяснимою добротою, невозможными ни для какого другого смертного, даже для другого царя, восхитили меня, ободрили, воодушевили, и робость моя исчезла совершенно. Не смея ни с кем говорить доселе, я с ним заговорила, как с давнишним другом и обожаемым отцом! Он заговорил, и я была на седьмом небе и от ласковости этих речей, и от снисходительности к моим детским понятиям и взглядам!
Он говорил о муже моём, между прочим: «C'est un brave soldat» (Храбрый воин). Это тогда так занимало их! Потом сказал: «Venez a' Petersbourg chez moi» (Приезжайте ко мне в Петербург). Я с величайшею наивностью сказала, что это невозможно, что мой муж на службе. Он улыбнулся и сказал очень серьёзно: «Il peut prendre un semester» (Он может взять полугодовой отпуск). На это я так расхрабрилась, что сказала ему: «Venez plutout a' Loubnu! C'est si beau Loubnu!» (Лучше вы приезжайте в Лубны! Лубны – это такая прелесть!) Он опять засмеялся и сказал: «Je viendrai, absolument, je viendrai!» (Приеду, непременно приеду!)
Я возвратилась домой такая счастливая и восторженная, рассказала мужу весь разговор с царём и умоляла устроить мне возможность ещё раз взглянуть на него, что он и исполнил».
Генерал не мог отказать молодой жене в удовлетворении её прихоти. Новая встреча Анны Петровны с объектом её восторгов вскоре состоялась:
«Я поехала к обедне в маленькую полковую церковь, разбитую шатром на поле Полтавской битвы, у дубового леска, и опять имела счастие его видеть, им любоваться и получить сперва серьёзный поклон, потом, уходя, ласковый, улыбающийся.
По городу ходили слухи, вероятно несправедливые, что будто император спрашивал, где наша квартира, и хотел сделать визит… Потом много толковали, что он сказал, что я похожа на прусскую королеву… На основании этих слухов губернатор Тутолмин, очень ограниченный человек, даже поздравил Керна, на что тот с удивительным благоразумием отвечал, что он не знает, с чем тут поздравлять? Сходство с королевой было в самом деле, потому что в Петербурге один офицер, бывший камер–пажом во дворце при приезде королевы{14}, это говорил моей тётке, когда меня увидел. Может быть, это сходство повлияло на расположение императора к такой неловкой и робкой тогда провинциалке! <…>
Я не была влюблена… я благоговела, я поклонялась ему!.. Этого чувства я не променяла бы ни на какие другие, потому что оно было вполне духовно и эстетично. В нём не было ни задней мысли о том, чтобы получить милости посредством благосклонного внимания царя, – ничего, ничего подобного… Всё любовь чистая, бескорыстная, довольная сама собой.
Если бы мне кто сказал: «Этот человек, перед которым ты молишься и благоговеешь, полюбил тебя, как простой смертный», я бы с ожесточением отвергла такую мысль и только бы желала смотреть на него, удивляться ему, поклоняться как высшему, обожаемому существу!..
Это счастие, с которым никакое другое не могло для меня сравниться! <…>
Возвратясь после смотра домой в Лубны, я предалась мечтаниям ожидающего меня чувства матери, о котором пламенно молилась и желала. Тут примешивалась теперь надежда, позже осуществившаяся, что император будет восприемником моего ребёнка!»
Для того чтобы читатель мог правильно оценить данную ситуацию и сам сделал необходимые выводы, дадим некоторые пояснения относительно нравов российского императорского двора. Нет ничего странного в том, что губернатор поздравил генерала Керна с успехами его жены. В высших административных кругах, к которым, безусловно, относился и полтавский губернатор действительный тайный советник Павел Васильевич Тутолмин, было известно об амурных похождениях Александра I. Во время многочисленных поездок по стране он при каждом удобном случае предавался любовным утехам с местными дамами, причём не скрывал этого даже от супруги. Императрица Елизавета Алексеевна писала в дневнике: «Любит мне рассказывать о своих сердечных делах и всегда уверен в моём участии… Купчихи, актрисы, жёны адъютантов, жёны смотрителей станций, белобрысые немки, и королева Луиза Прусская, и королева Гортензия… Со многими доходило только до поцелуев…»
В добавление к сказанному можно процитировать французского историка Галле де Кюльтюра, долго жившего в России и имевшего возможность наблюдать нравы российского двора: «Царь–самодержец в своих любовных историях, как и остальных поступках, если он отличает женщину на прогулке, в театре, в свете, он говорит одно слово дежурному адъютанту. Особа, привлекшая внимание божества, попадает под наблюдение, под надзор. Предупреждают супруга, если она замужем, родителей, если она девушка, о чести, которая им выпала. Нет примеров, чтобы это отличие было принято иначе, как с изъявлением почтеннейшей признательности. Равным образом нет ещё примеров, чтобы обесчещенные мужья или отцы не извлекали прибыли из своего бесчестия. „Неужели же царь никогда не встречает сопротивления со стороны жертвы его прихоти? – спросил я даму любезную, умную и доброжелательную. – Никогда! – ответила она с выражением крайнего изумления. – Как это возможно? – Но берегитесь, ваш ответ даёт мне право обратить вопрос к вам. – Объяснение затруднит меня гораздо меньше, чем вы думаете: я поступлю как все. Сверх того, мой муж никогда не простил бы мне, если бы я ответила отказом“»[12].
Благодарность императора в данном случае была выражена достаточно конкретным образом: сразу после смотра он прислал Ермолаю Фёдоровичу в качестве награды пятьдесят тысяч рублей – конечно же эту милость заслужил не генерал Керн бравой выправкой на маневрах, а молодая генеральша.
В ноябре 1817 года Анна вместе с матерью и мужем ездила в Киев, где познакомилась с семьёй генерала Раевского. «Николай Николаевич Раевский, – вспоминала позже А. П. Керн, – представил жене своей моего мужа, назвав его: «mon frere d'armes» (мой брат по оружию). Она сейчас приняла меня под своё покровительство, приголубила и познакомила со всеми дочерьми своими… Я многих там увидела, с которыми потом довелось встречаться в свете: и Дубельт{15}, и m–me Фролова{16}, на которую так всё бы и хотелось смотреть!»
В 1818 году у Анны родилась дочь Екатерина. Александр I, как и надеялась молодая мать, изъявил желание стать (разумеется, заочно) крёстным отцом.
Во время беременности Ермолай Фёдорович обращался с женой грубо. Позже в «Дневнике для отдохновения», адресованном своей двоюродной тётке Феодосии Петровне Полторацкой{17}, Анна напишет: «Вы ведь помните, как я ждала первого ребёнка, а чего только не пришлось выстрадать бедному моему сердцу от грубого обращения, и когда я была беременной, и во время родов, и потом, вместо благодарности за перенесённые страдания».
Вскоре после родов, под разными предлогами стараясь реже бывать рядом с мужем, Анна вместе с дочерью «жила при матери, которую обожала, и кормила свою девочку»; затем она начала навещать многочисленных родственников. Зимой 1818 года она ездила сначала в Липецк к брату мужа, затем в Москву, где посетила своих тёток Варвару Марковну Мертваго и Анну Петровну Полторацкую, вдову её крёстного отца Дмитрия Марковича, только что скончавшегося. Александр I, присутствовавший при представлении Варвары Марковны вдовствующей императрице Марии Фёдоровне, сказал ей, что имел удовольствие познакомиться с её молоденькой родственницей, и удостоил ту лестным отзывом: «Elle est charmante, charmante, votre niece» (Она очаровательна, очаровательна, ваша племянница).
Весной 1818 года Ермолай Фёдорович из–за нарушения субординации и неуважительного отношения к своему непосредственному начальнику Остен–Сакену угодил в опалу; 10 мая, лишившись должности командира дивизии, он был определён «состоять по армии»{18}.
В начале 1819 года, будучи в гостях – на этот раз вместе с мужем – у своей бабушки Агафоклеи Александровны Полторацкой в Грузинах, Анна узнала, что её отец находится в Петербурге, где через члена Государственного совета А. Н. Оленина пытается добиться прощения для зятя и приглашает его одного приехать в столицу. Однако бабушка, заявив, что «жена не должна оставаться без мужа», отправила с ним и Анну. Ермолай Фёдорович помнил о том впечатлении, какое произвела его жена на государя во время их первой встречи, и уговорил её ещё раз увидеться с императором и просить за него. Анна вместе с племянником Керна, который служил пажом при дворе, в течение нескольких дней безуспешно пыталась встретить Александра I на Фонтанке во время его ежедневной утренней прогулки. Вскоре, как вспоминала наша героиня, «случай мне доставил мельком это счастие: я ехала в карете довольно тихо через Полицейский мост, вдруг увидела царя почти у самого окна кареты, которое я успела опустить, низко и глубоко ему поклониться и получить поклон и улыбку, доказавшие, что он меня узнал. Через несколько дней Керну, бывшему дивизионному командиру, [начальник Главного штаба Его Императорского Величества генерал–адъютант] князь [П. М.] Волконский от имени царя предложил бригаду, стоявшую в Дерпте».
«ЧУДНОЕ МГНОВЕНЬЕ»
Именно в этот приезд в Петербург, в доме Олениных на набережной Фонтанки, где Анна с мужем были ласково приняты, во время одного из ужинов произошла её встреча с Пушкиным.
Анна Петровна доводилась свойственницей Александру Сергеевичу Пушкину через Прасковью Александровну Оси–пову (в девичестве Вындомскую, в первом браке – Вульф). Мать нашей героини Екатерина Ивановна, урождённая Вульф, была сестрой Николая Ивановича Вульфа, первого мужа Прасковьи Александровны. А сестра последней Елизавета Александровна была замужем за двоюродным братом матери поэта Яковом Исааковичем Ганнибалом.
В «Воспоминаниях о Пушкине» А. П. Керн пишет:
«В 1819 году (в январе—феврале. – В. С.) я приехала в Петербург с мужем и отцом, который, между прочим, представил меня в дом его родной сестры, [Елизаветы Марковны] Олениной. Тут я встретила двоюродного брата моего Полторацкого, с сестрами которого я была ещё дружна в детстве».
Кузен Анны Александр Александрович Полторацкий, старший сын Александра Марковича Полторацкого, в чине подпоручика участвовал в войне против армий Наполеона как на территории России, так и в заграничном походе в составе батальона Её Императорского Высочества великой княгини Екатерины Павловны. 20 апреля 1813 года во время сражения под саксонским городом Люценом он был ранен «пулею в грудь через лопатку», за храбрость награждён орденом Святой Анны 4–й степени. После излечения и кратковременного отпуска возвратившись в действующую армию, он состоял при генерале Д. С. Дохтурове, принимал участие во взятии Гамбурга.
1 марта 1815 года А. А. Полторацкий был переведён в лейб–гвардии Семёновский полк, квартировавший в столице. Он был масоном, состоял сначала в ложе Соединённых друзей, затем – в ложе Трёх добродетелей. Членами этой ложи были многие будущие декабристы: Н. М. и А. Н. Муравьёвы, С. И. и М. И. Муравьёвы–Апостолы, С. П. Трубецкой, Ф. П. Шаховской, С. Г. Волконский; посещал заседания ложи и А. С. Пушкин. Знакомство Полторацкого с Пушкиным состоялось, вероятно, в Царском Селе на одном из заседаний «Священной артели». Затем были встречи в петербургском доме Олениных, где молодой офицер буквально дневал и ночевал{19}.
«Он (Александр Полторацкий. – В. С.) сделался моим спутником и чичероне (от ит. cicerone – гид, путеводитель. – В. С.) в кругу незнакомого для меня большого света, – писала в воспоминаниях А. П. Керн. – Мне очень нравилось бывать в доме Олениных, потому что у них не играли в карты, хотя там и не танцевали, по причине траура при дворе (по умершей сестре Александра I Екатерине Павловне. – В. С. ), но зато играли в разные занимательные игры и преимущественно в charades en action ( шарады), в которых принимали иногда участие и наши литературные знаменитости – Иван Андреевич Крылов, Иван Матвеевич Муравьёв–Апостол и другие».
Муж Елизаветы Марковны Алексей Николаевич Оленин, директор Императорской публичной библиотеки, президент Академии художеств, член Государственного совета и статс–секретарь по Департаменту гражданских дел, был разносторонне одарённым и талантливым человеком; в их доме на Фонтанке постоянно собирались молодые литераторы, художественная интеллигенция и государственные мужи. Елизавета Марковна не только прекрасно вписалась в этот круг, но и поистине была его душой.
Своим человеком у Олениных был И. А. Крылов. В 1808—1810 годах он служил под началом Алексея Николаевича в Монетном департаменте, а с января 1812 года, после назначения Оленина директором Императорской публичной библиотеки, перешёл туда сначала помощником библиотекаря, а с 1816 года – библиотекарем. «В первый визит мой к тётушке Олениной, – вспоминала А. П. Керн, – батюшка, казавшийся очень немногим старше меня, встретясь в дверях гостиной с Крыловым, сказал ему: „Рекомендую вам меньшую сестру мою“. Иван Андреевич улыбнулся, как только он умел улыбаться, и, протянув мне обе руки, сказал: „Рад, очень рад познакомиться с сестрицей“».
Посетителями петербургского салона Олениных были литераторы Г. Р. Державин, В. В. Капнист, Н. М. Карамзин, В. А. Жуковский, П. А. Вяземский, В. А. Озеров, А. А. Шаховской, Н. И. Гнедич, К. Н. Батюшков, И. И. Козлов, А. Мицкевич, С. Н. Марин, А. С. Грибоедов, П. А. Плетнёв; писатель, драматург и переводчик М. Е. Лобанов; музыканты М. И. Глинка и братья Виельгорские; живописцы А. Г. Венецианов, О. А. Кипренский, А. П. и К. П. Брюлловы, Ф. Г. Солнцев; гравёры Н. И. Уткин и Ф. И. Иордан; скульпторы Ф. П. Толстой и С. И. Гальберг; актёры А. С. Яковлев, Я. Е. Шушерин, И. И. Сосницкий, Е. С. Семёнова; певец Н. К. Иванов, палеограф и нумизмат А. И. Ермолаев.
Упомянутый Анной Петровной Иван Матвеевич Муравьёв–Апостол был родственником её бабушки А. Ф. Муравьёвой; по материнской линии он приходился правнуком украинскому гетману Даниле Апостолу. Он являлся членом Российской академии и Беседы любителей российской словесности. В последние годы царствования Екатерины II был назначен воспитателем великих князей Константина и Александра Павловичей, при Павле I служил сначала его советником по внешнеполитическим вопросам, а затем – посланником в Гамбурге и Мадриде. Он написал комедию «Ошибки, или Утро вечера мудренее», проникнутые искренней любовью к родине «Письма из Москвы в Нижний Новгород» и «Путешествия по Тавриде», а также перевёл «Облака» Аристофана и «Школу злословия» Шеридана. С 1806 года Иван Матвеевич владел полтавским имением Апостолов Бакуловка. Анна Петровна упоминает о том, что именно И. М. Муравьёв–Апостол в 1807 году, когда нуждался, занял у её матери, да так и не отдал те самые 70 голландских червонцев, что были положены под подушку после её рождения. В 1816 году, когда И. М. Муравьёв–Апостол вёл тяжбу с майоршей Сенельниковой за имения сына гетмана М. Д. Апостола в Полтавской губернии, Пётр Маркович Полторацкий был его поверенным и принял опеку над его детьми. Некоторое время Муравьёв–Апостол жил у Полторацкого в Лубнах.
С юных лет дети Ивана Матвеевича Сергей и Матвей бывали в доме Олениных и, в свою очередь, приводили туда полковника Генерального штаба И. Г. Бурцева. Будущие декабристы Е. П. Оболенский и М. М. Нарышкин гостили здесь как сослуживцы и приятели Г. Н. Оленина, родственника хозяина. Его сын Алексей Оленин приглашал домой своего сослуживца штабс–капитана Гвардейского генерального штаба А. О. Корниловича. На правах родственников бывали А. Н. Муравьёв и С. Г. Волконский. Н. И. Греч, знакомый с А. Н. Олениным с детских лет, ввёл в дом Олениных Николая Бестужева. Как сослуживец Петра Оленина по
Семёновскому полку приезжал в дом на набережной Фонтанки и будущий декабрист И. Д. Якушкин.
Вскоре после окончания Лицея салон Олениных по воскресеньям стал посещать и Александр Сергеевич Пушкин. Многое привлекало его здесь: и шумное веселье, и научная строгость узких кружковых собраний, на которых известные учёные обсуждали проблемы издания русских летописей, спорили о путях развития отечественной словесности. Пушкин принимал участие в дружеских беседах с Крыловым, Гнедичем, Батюшковым, А. И. Тургеневым, П. А. Катениным, И. М. Муравьёвым–Апостолом, М. П. Бестужевым–Рюминым, в домашних театрализованных представлениях и разгадывании шарад, играл в фанты, лапту и горелки.
Общение поэта с гостеприимным семейством прервала его ссылка сначала на юг, а потом в Михайловское.
Вот как описала свою первую встречу с Пушкиным наша героиня:
«На одном из вечеров у Олениных я встретила Пушкина и не заметила его: моё внимание было поглощено шарадами, которые тогда разыгрывались, и в которых участвовали Крылов, Плещеев и другие. Не помню, за какой–то фант Крылова заставили прочитать одну из его басен. Он сел на стул посередине залы; мы все столпились вокруг него, и я никогда не забуду, как он был хорош, читая своего Осла\ И теперь мне ещё слышится его голос и видится его разумное лицо и комическое выражение, с которым он произнёс: «Осёл был самых честных правил!»
В чаду такого очарования мудрено было видеть кого бы то ни было, кроме виновника поэтического наслаждения, и вот почему я не заметила Пушкина. Но он вскоре дал себя заметить. Во время дальнейшей игры на мою долю выпала роль Клеопатры (курсив А. П. Керн. – В. С.), и, когда я держала корзинку с цветами, Пушкин вместе с братом Александром Полторацким подошёл ко мне, посмотрел на корзинку и, указывая на брата, сказал: «Et c'est sand doute Monsieur qui fera l'aspic?» (А роль змеи, как видно, предназначается этому господину?){20}. Я нашла это дерзким, ничего не ответила и ушла.
После этого мы сели ужинать. У Олениных ужинали на маленьких столиках, без церемоний и, разумеется, без чинов.
Да и какие могли быть чины там, где просвещённый хозяин ценил и дорожил только науками и искусствами? За ужином Пушкин уселся с братом моим позади меня и старался обратить на себя моё внимание льстивыми возгласами, как например: «Est–il permis d'etre ainsi jolie!» (Можно ли быть такой хорошенькой!). Потом завязался между ними шутливый разговор о том, кто грешник и кто нет, кто будет в аду и кто попадёт в рай. Пушкин сказал брату: «Во всяком случае, в аду будет много хорошеньких, там можно будет играть в шарады. Спроси у m–me Керн, хотела ли бы она попасть в ад?» Я отвечала очень серьёзно и несколько сухо, что в ад не желаю. «Ну, как же ты теперь, Пушкин?» – спросил брат. «Je me ravise (Я раздумал), – ответил поэт, – я в ад не хочу, хотя там и будут хорошенькие женщины…» Вскоре ужин кончился, и стали разъезжаться. Когда я уезжала, и брат (Александр Полторацкий. – В. С.) сел со мною в экипаж, Пушкин стоял на крыльце и провожал меня глазами».
Молодая генеральша тогда не обратила на Пушкина никакого внимания: как поэта она, вероятно, не знала его совсем, а как потенциальный поклонник он совершенно не произвёл на неё впечатления.
Пушкина же поразило в ней сочетание сверкающей красоты, девической чистоты облика и какой–то затаённой грусти; ему казалось, будто какая–то тяжесть давила на неё. Этим тяжелым крестом была её жизнь с нелюбимым мужем и полная беспросветность впереди. Он держался с красавицей развязным мальчишкой, однако в его душе мгновение случайного знакомства оставило глубочайший след, а внезапно вспыхнувшее чувство жило в нём годами, периодически выплёскиваясь бриллиантами поэтических строк.
По мнению Анны Петровны, непосредственным отголоском этой встречи стали следующие строки восьмой главы «Евгения Онегина», где описывается появление Татьяны Лариной с мужем на балу:
Но вот толпа заколебалась, По зале шёпот пробежал… К хозяйке дама приближалась, За нею важный генерал. Она была нетороплива, Не холодна, не говорлива, Без взора наглого для всех, Без притязаний на успех, Без этих маленьких ужимок, Без подражательных затей… Всё тихо, просто было в ней, Она, казалось, верный снимок Du comme il faut… ( Шишков, прости: Не знаю, как перевести). К ней дамы подвигались ближе, Старушки улыбались ей, Мужчины кланялися ниже, Ловили взор её очей, Девицы проходили тише Пред ней по зале: и всех выше И нос и плечи подымал Вошедший с нею генерал.В 2007 году вышла книга одного из крупнейших российских специалистов по славянской мифологии и палеографии академика В. А. Чудинова «Тайнопись в рисунках А. С. Пушкина. Разгадка кода гения». Её автор даёт расшифровки многих тайнописных текстов поэта, вставленных им в его графические изображения. Не вдаваясь в острую полемику, развернувшуюся в печати по поводу этой работы, хотим, тем не менее, привести расшифровку учёным одной фразы, вмонтированной Пушкиным в причёску молодой женщины, изображённой рядом с портретом Марии Раевской в рукописи второй главы «Евгения Онегина» (по определению А. М. Эфроса, это портрет одесской знакомой поэта Амалии Ризнич): «Анна Керн – слюбила Пушкина. Это дико».
Если расшифровки Чудинова не являются мистификацией, то перед нами – первое признание поэта в любви к Керн. В словаре В. И. Даля слово «слюбиться» обозначает «полюбить друг друга взаимно». Но шифром написано, что Анна Керн слюбила Пушкина, то есть вроде бы заставила поэта полюбить её; продолжение фразы констатирует: с точки зрения Пушкина, «это дико», чтобы его, покорившего столько женских сердец и оставшегося при этом к ним равнодушным, вдруг влюбила в себя молодая генеральша. Причём черновик второй главы «Евгения Онегина» с XI—XII строфами, среди которых помещен интересующий нас портрет, датируется концом октября 1823 года. Пушкин живёт в это время в Одессе, увлечён Амалией Ризнич, общается с приехавшей из Киева семьёй Раевских, в том числе с Марией Николаевной, на горизонте уже появилась Екатерина Ксаверьевна Воронцова – и вдруг фраза об Анне Керн… К этому времени прошло уже более четырёх лет со дня встречи поэта с нашей героиней, но, по–видимому, её образ продолжал занимать его мысли.
Чудинов сомневается в правильности прочтения им слова «слюбила» и приводит другой вариант – «слопала». Тогда получается, что Анна поглотила Пушкина, полностью завладела его вниманием и его сердцем. Такое толкование кажется нам ближе к истине.
10 марта 1819 года, как уже говорилось выше, Ермолай Фёдорович Керн был назначен командиром 9–й бригады 25–й пехотной дивизии, квартировавшей в Дерпте, и жена, после короткого визита на Пасху, которая в этом году была 6 апреля, к родным в Тверскую губернию, последовала за ним.
«Этот милый Дерпт всегда мне будет памятен, – писала Анна Петровна. – Мне там было хорошо. Ко мне туда приехали дорогие гостьи: тётка (Прасковья Александровна Оси–пова. – В. С.) и многолюбимая сестра Анна Николаевна Вульф, которая приехала летом и осталась у меня гостить до зимы. Мы там много читали, много гуляли, выходили и выезжали всегда вместе… Мы переезжали из города в город, поджидая и осматривая полки нашей бригады. Керн ездил то провожать их, то встречать; а мы с Анной Николаевной жили в маленьком городке Валке, в весьма поэтическом домике с садиком, при выезде из города». В Дерпте Анна познакомилась с воспитанницей Олениных Анной Фурман{21} – многолетней неразделённой любовью К. Н. Батюшкова, а через неё подружилась с М. А. Мойер{22}, которую называла «ангелом во плоти, первой любовью Жуковского и его музою»: «Никогда не забуду времени, проведённого с нею и у неё в её маленьком садике или в её уютной гостиной, слушая музыку: она с мужем играла очень хорошо на фортепиано в четыре руки». Умную, начитанную молодую женщину с тонкой чувствительной душой влекло к общению с интересными людьми.
Дивизионный командир генерал–лейтенант В. Д. Лаптев вручил здесь генеральше Анне Керн присланный по команде подарок кума–императора – украшенный бриллиантами великолепный фермуар{23}, изготовленный на заказ в Варшаве и стоивший шесть тысяч рублей ассигнациями.
В сентябре 1819 года Анна имела ещё один счастливый случай беседовать с Александром I на балу{24} во время маневров в Риге, где она была вместе с мужем и Анной Николаевной Вульф. Бал, устроенный в зале дворянского собрания, предварялся, сразу по приезде императора, обедом с командирами частей, участвовавших в маневрах, на котором присутствовал и муж Анны Петровны.
«Керн обедал там же и возвратился довольно поздно в очень радостном расположении духа, – вспоминала она, – и начал меня, всегда ленивую, торопить туалетом, говоря, что я и то опоздала, что не хорошо приехать на бал позже императора. При этом рассказал утешительное известие о своём свидании с царём и некоторого рода примирении.
– За обедом, – сказал он, – император не говорил со мною, но по временам смотрел на меня. Я был ни жив ни мертв, думая, что всё ещё состою под гневом его! После обеда начал он подходить то к тому, то к другому, – и вдруг подошёл ко мне: «Здравствуйте! Жена ваша здесь? Она будет на бале, надеюсь?»
На это Керн, натурально, заявил свою горячую признательность за внимание, сказал, что я непременно буду, и приехал меня торопить… Мне было заранее выписано из Петербурга платье – тюлевое на атласе и головной убор: маленькая корона из папоротника с его воображаемыми цветами. Это было очень удобно для меня или моей лени и неуменья наряжаться. Я только заплела свою длинную косу и положила папоротниковую корону, закинув длинные локоны за ухо, и прикрепила царский фермуар…
Можно сказать, что в этот вечер я имела полнейший успех, какой когда–либо встречала в свете!..
[В зале], пока император не приехал, музыка не играла, слышен был только сдержанный говор ожидавших его… »
Анна Петровна сама оценивала этот свой выход в свет как несомненную победу:
«Сакен (генерал Остен–Сакен. – В. С.) меня заметил и, подойдя, вывел почти на середину залы, где остановился, и осыпал меня комплиментами, и просил снять длинную перчатку, чтобы расцеловать мне руку; я очень сконфузилась, разумеется, оробела, неловко раскланялась с ним и воротилась в свой уголочек…
Скоро вошел император, грянула музыка с хор… Он остановился, выслушал [хвалебный] гимн с благосклонной улыбкой, прошёл несколько далее и, по странной, счастливой случайности, остановился прямо против меня»…
Император танцевал с ней третий танец. Он «увидел меня, своё скромное vis–a–vis, – и быстро протянул руку. Начались обычные комплименты, а потом сердечное выражение радости меня видеть – и расспросы о моём здоровье. Я сказала, что долго хворала и что теперь надеюсь полного выздоровления от чувства счастия по случаю возвращения его благосклонности к моему мужу. Он вспомнил, что мельком меня видел в Петербурге, и прибавил: „Vous savez pourquoi cela n'a pu etre autrement“ (Вы знаете, почему не могло быть иначе).
Я уж и не знаю, что он хотел этим сказать. Не потому ли только не встречался и не разговаривал со мною, что всё ещё гневался на Керна?.. Он сказал, что помнит, как мы молились в Полтаве, «dans cette petite eglise, si vous vaus sou–venez?» (в той маленькой церкви, если вы помните?).
Я сказала, что такие минуты не забываются. А он заметил: «Jamais je n'oublierai le premier moment ou je vous ai vu!» (Никогда не забуду первую минуту, когда я вас увидел!).
Далее добавил: «Dites–moi, desirez–vous quelque chose?» (Скажите, не желаете ли вы чего–нибудь?). Не могу ли я вам быть полезен?
Я отвечала, что по возвращении его благосклонного прощения моему мужу мне нечего больше желать и я этим совершенно счастлива… В третий раз он меня взял, чтобы опять спросить: не нужно ли мне что от него, и сказал эти незабвенные для меня слова: «Je veus que vous souez dans r aisance!» (Я хочу, чтобы вам было хорошо!) – и с нежною добротою проговорил: «Adressez–vous a moi comme a un pe–re!» (Обращайтесь ко мне, как к родному отцу!).
После этого спросил ещё, буду ли я завтра на маневрах. Я отвечала, что непременно буду, хотя вовсе этого прежде не желала, боясь до смерти шума и стрельбы».
По окончании маневров Анна Керн вместе с другими дамами наблюдала со смотрового балкона за обедом, на котором среди командиров частей присутствовал император.
«Когда они уселись, – вспоминала Анна Петровна, – заиграла музыка, очень хорошая, одного из наших морских полков, – и заиграла любимые мои арии вместо увертюр…
Между тем Сакен взглянул кверху и приветливо мне поклонился. Это было так близко, над их головами, что я слышала, как император спросил у него: «Qui saluez vous, general» (Кому это вы кланяетесь, генерал).
Он отвечал: «C'est m–me Kern!» (Это госпожа Керн).
Тогда император посмотрел наверх и, в свою очередь, ласково мне поклонился. Он несколько раз смотрел потом наверх. Я любовалася всеми его движениями и в особенности манерой резать белый хлеб своею белою прекрасною рукой.
Но – всему бывает конец – и этому счастливому созерцанию моему настала минута – последняя! Я и не думала тогда, что она будет самая последняя для меня…
Вставая из–за стола, император поклонился всем – и я имела счастье убедиться, что он, раскланявшись со всеми и совсем уже уходя, взглянул к нам наверх и мне поклонился в особенности. Это был его последний поклон для меня… До меня дошло потом, что Сакен говорил с императором о моём муже и заметил, между прочим: «Государь, мне её жаль!»
Он ушёл – другие засуетились, и блистательная толпа скрыла государя от меня навеки…»
Это была её последняя встреча с Александром I. На протяжении всей жизни Анна Петровна вспоминала о нём с большой теплотой и любовью.
«ВО МРАКЕ ЗАТОЧЕНЬЯ»
В 1820 году Анна жила в Пскове и вела «Дневник для отдохновения, посвященный Феодосии Полторацкой, лучшему из друзей». Записи в нём она делала в основном по–французски.
В этом дневнике она часто пользовалась «языком цветов». Этот условный язык, употреблявший названия цветов для выражения определённых чувств, был очень распространён среди дворянской молодёжи того времени и входил в арсенал общения в «свете». Существовали даже специальные словари–толкователи (как русские, так и французские), в которых приводилось значение того или иного названия цветка, причём иногда в разных словарях давались различные толкования. Вот, например, А. П. Керн записала в «Дневнике»: «У меня есть тимьян, я мечтала лишь иметь резеду, с моей мимозой нужно много жёлтой настурции, чтобы скрыть ноготки и шиповник, которые мучают меня. Благодаря утрате резеды, оринель взял такую силу, что вокруг уже нет ничего, кроме ноготков, тростника и букса… Вот каково состояние моего сада». А теперь дадим «перевод»: «Я мечтала сохранить достоинство и скромность, с моей чувствительностью нужно много силы воли, чтобы скрыть нежность и несбыточные надежды, которые мучают меня. Утратив скромность, мне не остаётся ничего, кроме нежности, смирения и печали».
Полистаем этот дневник, весь проникнутый тоской и страданием…
«Итак, я здесь прозябаю, усердно стараясь выполнять долг свой… Мне удается быть почти спокойной, когда я занята, а без дела я никогда не сижу, постоянно читаю, либо пишу что–нибудь, сама поверяю счета, занимаюсь своей дочерью, словом, за весь день, можно сказать, минуты свободной нет, но если вдруг что–нибудь напомнит мне Луб–ны, мне делается так больно – невозможно описать вам чувства, которые меня тогда охватывают. Чтобы обрести сколько–нибудь спокойствия, мне надобно позабыть о пленительном призраке счастья, но как вычеркнуть из памяти ту единственную пору моего существования, когда я жила? <…>
Особенно делается мне грустно в вечерние сумерки: мною тогда до такой степени овладевает меланхолия, что я никого не желаю видеть, и если в такие минуты слышу звук какого–нибудь инструмента, слёзы так и льются потоками из моих глаз. Единственное утешение – это моя дочка, она удивительно как привязана ко мне и очень ласковая. Представьте, она сразу же замечает, когда я чем–либо огорчена, ласкается ко мне и спрашивает: «Кто вас обидел?» <… >
Какая тоска! Это ужасно! Просто не знаю, куда деваться. Представьте себе моё положение – ни одной души, с кем я могла бы поговорить, от чтения уже голова кружится, кончу книгу – и опять одна на белом свете: муж либо спит, либо на учениях, либо курит. О боже, сжалься надо мной! <…>
Никакая философия на свете не может заставить меня забыть, что судьба моя связана с человеком, любить которого я не в силах и которого я не могу позволить себе хотя бы уважать. Словом, скажу прямо – я почти его ненавижу. Каюсь, это великий грех, но кабы мне не нужно было касаться до него так близко, тогда другое дело, я бы даже любила его, потому что душа моя не способна к ненависти; может быть, если бы он не требовал от меня любви, я бы любила его так, как любят отца или дядюшку, конечно не более того. <… >
Я словно окаменела – хожу, разговариваю, иной раз даже смеюсь – и при этом не испытываю никаких чувств. Всё делаю как автомат, только тоску свою чувствую, а когда по утрам и вечерам молюсь Богу, все чувства мои оживают, и я горько плачу. <…>
Я всё думаю, я близка к отчаянию. Вообразите, что нет не только дня, но ни минуты, когда бы я была спокойна. Теперь ужасная будущность терзает мою душу. Богу угодно посылать ко мне всякого рода испытания. Ежели любя наказу–ет, то он меня очень любит…»
Довольно часто молодые офицеры обращали на неё внимание, даже признавались в любви; но она, не ощущая душевной близости, не отвечала им взаимностью. Тем не менее Ермолай Фёдорович находил поводы для ревности. Одну сцену ревности Анна описала в дневнике: «Мой драгоценный супруг… садится со мной в карету, не даёт мне из неё выйти, и дорогой орёт на меня во всю глотку (можно себе представить силу генеральской глотки! – В. С.) – он де слишком добр, что всё мне прощает, меня де видели, я де стояла за углом с одним офицером. А как увидел моё возмущение, тут же прибавил, что ничему этому не поверил. Тогда я сказала, что лучше быть запертой в монастыре до конца дней своих, чем продолжать жить с ним».
В это время предметом сердечного увлечения Анны был какой–то офицер Егерского полка, которого она в «Дневнике для отдохновения» называла то L'Eglontine ( Шиповник), что переводится как «несбывшиеся надежды», то Immortelle ( Бессмертник) – «неизменная память».
Ермолай Фёдорович считал вполне допустимым пользоваться чарами своей молодой супруги для продвижения по службе: для этого он собирался снова поехать с Анной в Петербург, чтобы на одном из придворных балов она попробовала добиться у императора нового, более высокого назначения для мужа. Он также заявлял жене, что считает вполне допустимым и простительным, если муж находится не в добром здравии, жене иметь любовника. «Какой низменный взгляд! – восклицала Анна. – Каковы принципы! У извозчика и то мысли более возвышенные…» Керн самыми различными способами предлагал ей на роль любовника своего племянника Поля. Он почти силой затаскивал жену в комнату племянника, когда тот ложился спать и, усадив её возле постели, спрашивал, «не правда ли, какое у его племянника красивое лицо». Анна, по её словам, с негодованием отвергла все попытки мужа сблизить их, а также любезности и нежности его 18–летнего племянника. «Со мною он (Поль. – В. С.) более ласков, чем следовало бы, и гораздо более, чем мне бы того хотелось. Он всё целует мне ручки, бросает на меня нежные взгляды, сравнивает то с солнцем, то с мадонной и говорит множество всяких глупостей, которых я не выношу… Он очень красивый мальчик, со мной очень любезен и более нежен, чем, быть может, хотел бы показать, и, однако, я совсем к нему равнодушна…
Его (Е. Ф. Керна. – В. С.) низость до того дошла, что в моё отсутствие он прочитал мой дневник, после чего устроил мне величайший скандал, и кончилось это тем, что я заболела… »
Анна пыталась находить утешение в религии: посещала церкви и монастыри, постоянно молилась в уединении до ма—в её дневнике много записей на эту тему:
«Только что вернулась от обедни. По чрезмерной своей мягкости, я дала себя уговорить и вопреки собственному желанию поехала в монастырь, где нынче престольный праздник, а следовательно, много народу. Обедню служил архиерей. Очень я раскаивалась в том, что поехала, и мысленно давала себе слово не быть впредь столь сговорчивой. Когда искренне жаждешь предаться молитве, делается не по себе в толпе всех этих людей, которые обычно приходят в церковь лишь затем, чтобы покрасоваться. Невольные слёзы, что исторгает молитва из глубин взволнованной души, не могут свободно излиться среди такого множества людей, стремивших на тебя свои взоры. Так было и сегодня со мной. Я проклинала себя за несносную свою податливость, и дорого бы дала, чтобы остаться незамеченной и иметь возможность вволю поплакать, благодаря создателя за прежние дни счастья, что он даровал мне. Я твёрдо решила отныне ходить только в ту церковь, где менее всего бывает народу. <… >
Сейчас возвратилась от обедни, была в соборе, усердно молилась Богу… До половины обедни я спокойно молилась, но вдруг я заметила, что глаза всех мужчин устремлены на меня, чего никак нельзя было избежать, ибо они стояли на правой стороне, совершенно против меня… Мне так сделалось дурно. <… >
Вернулась от обедни, где горько плакала, моля Бога, чтобы он ниспослал мне терпения, ибо мне оно нужно более, чем кому–либо… В церкви было много народу, но меня никто не видел. <… >
Завтра воскресенье, пойду в церковь, дабы возблагодарить Создателя за дарованный мне счастливый день, это правда, что по вере вашей будет вам, и то также, что за Богом молитва не пропадёт. <…>
Я только что немножко прокатилась в карете, и это принесло мне пользу. Но ещё более того – молитва. Проезжая мимо отпертой церкви, я вошла туда. Шла вечерняя служба. Я стала в уголке перед образом нашего Спасителя, умирающего на кресте, и горячо молилась, прося небо сохранить мне тех, кого я люблю и… Вы не можете себе вообразить, как эта молитва меня облегчила, святость места, образ умершего на кресте за нас, всё это внушает упование и тихое спокойствие. Г–жа Сталь говорит истинную правду, что это прекрасное обыкновение у католиков, что у них во всякое время церкви отворены, бывают минуты в жизни, где так приятно прибегнуть к молитве в уединённом храме! <… >
Вернулась из церкви, где, по своему обыкновению, горячо молилась за всех тех, кто дорог моему сердцу».
Её упоминания о семейной жизни полны горечи и сарказма: «Только что ездила кататься с дорогим супругом. Сначала лошади чуть было не опрокинули карету, чему в душе я очень обрадовалась в надежде, что это может повлечь за собой благодетельный исход, но нет, мы не вывалились. Когда мы проезжали мимо церкви, супруг милостиво разрешил мне в неё войти. Там, в уголочке, я прочла свою обычную краткую молитву, после чего мы продолжали прогулку… »
Изредка на страницы дневника ложились строки её смиренных молитв: «Боже, прости мне сей невольный ропот, ты, видящий все тайники души моей, прости мне ещё раз за всякую мысль, всякое слово, вырвавшееся у меня от непереносимой муки… »
Одной из последних в дневнике стоит запись: «Я сегодня была у обедни, молилась за вас (имеются в виду родные, проживавшие в Лубнах. – В. С.) и за скорое соединение с вами… Несчастное творение я. Сам всемогущий, кажется, не внемлет моим молитвам и слезам… »
Несколько фраз в дневнике Анна посвящает своему характеру:
«Признаюсь, иной раз я немножко кокетничаю, но теперь, когда все мои мысли заняты одним (тем, кого она называла Шиповником. – В. С.), я уверена, нет женщины, которая так мало стремилась бы нравиться, как я, мне это даже досадно. Вот почему я была бы самой надёжной, самой верной, самой некокетливой женой, если бы… Да, но «если бы»! Это «если бы» почему–то преграждает путь всем моим благим намерениям… Вы ведь знаете, какая мягкая у меня натура, добром от меня можно добиться самой большой жертвы…
Хоть я получила довольно небрежное воспитание, чувство восхищения перед прекрасным, что вложено в меня природой, позволяет мне тотчас же распознать алмаз, будь он даже покрыт самой грубой корой, и мне никогда не пришлось бы краснеть за предмет своей привязанности…
Могу сказать, не хвалясь, что нет человека, с коим я не могла бы ужиться… Душа у меня нежная, но я разборчива даже в выборе друзей, а из опыта я знаю, как опасно дарить своё доверие каждому. Человеку бездушному я никогда не доверюсь…
Положение моё достойно жалости… Мой удел на сей земле – одни лишь страдания. Я ищу прибежище в молитве, я покорно предаю себя воле божьей, но слёзы мои всё льются, и нет рядом благодетельной руки, что осушила бы их… »
Несколько раз Анна порывалась уехать от Е. Ф. Керна в Лубны: «Я гораздо меньше буду рисковать своей репутацией, ежели стану жить отдельно»; однако страх перед отцом удерживал её: «Ведь сказал же он однажды мужу, что если бы я его оставила, двери родительского дома были бы для меня закрыты». И всё же она надеялась на благоразумие Петра Марковича: «Ежели родной отец не заступится за меня, у кого же искать мне тогда защиты?»
«Вот уже несколько дней, как он (муж. – В. С.) обращается со мной грубо, словно с горничной: курит себе трубку с утра до вечера, обнимается со своим племянничком, а со мной разговаривает с высоты своего величия. Я отказываюсь от всех благ на свете, дайте мне уединённый угол, только чтоб я об нём не слышала и не видела!
Дитя моё не может меня утешить, и я в отчаянии, что оно постоянно видит меня с глазами, полными слёз…
Я только что взглянула на себя в зеркало и – поверите ли – почти испугалась, так скверно я выгляжу… Мой румянец, моя свежесть, здоровый, счастливый вид – всё исчезло. Побледневшие щёки, круги под глазами, постоянно полными слёз, слишком ясно свидетельствуют о состоянии души моей».
Но женщина остаётся женщиной. В «Дневнике для отдохновения» среди описаний бесконечных душевных страданий от невыносимой жизни с ненавистным мужем изредка проскальзывают упоминания о нарядах.
26 июня: «На той неделе поеду к губернаторше, и тогда надену синее платье; оно сшито под шею и с длинными рукавами по тому фасону, как у Мальвины, что у вас на картинке осталось».
1 июля: «Только что муж подарил мне прелестное платье. Он получил его от некоей г–жи Бибиковой в благодарность за то, что выполнил её поручение в Риге. Очень красивый узор, особливо просветы хороши. Спешу вам его переслать с покорнейшей просьбой – велите сделать вышивку на кушаке и лифе и сообщить цену».
27 июля: «Вечер у губернатора был довольно приятный. Я сегодня была в новом шитом платье, и ваша закладочка синей шерсти прекрасной с синелью, и белая шаль».
31 июля после очередного бала: «Бал был блестящий – чудная иллюминация, прелестный фейерверк <…> Насчет моего наряда скажу вам, что на мне было белое вышитое платье на розовом чехле, зелёные шёлковые башмаки и зелёный платочек, на голове ничего».
17 августа: «Покидаю вас, чтобы немного приготовить к вечеру свой туалет, потому что как раз сегодня я буду крестить (ребёнка одного из сослуживцев мужа. – В. С.), а после будет танцевальный вечер. На мне будет синее платье такой волнистой материи, называется муаровая, отделка простая из такого же атласа; на голове ничего, а на шее цепочка и часы».
Ермолай Фёдорович явно баловал молодую супругу. Кроме того, с позволения мужа она иногда принимала подарки и от его сослуживцев: «Магденко подарил меня прекрасным мылом, духами и перчатками. Так рад был меня видеть, что всё на свете хотел отдать, выпросил у мужа позволение подарить мне шёлковых чулок с узорами…»
Иногда и Феодосия Петровна присылала племяннице наряды. «О, как я сегодня счастлива, мой ангел, благодарю вас тысячу раз за всё присланное, – писала Анна Петровна. – За вуаль я давно уже заплатила, а ещё дала 9 рублей за пояски. Теперь благодарю вас за прекрасную закладочку и поясочек. Прошу вас, мой ангел, прислать мне шитья. Я… надеюсь скоро же иметь случай достать дешёвых и хороших чулок из Митавы <…> Вы мне писали, что имеете прекрасные узоры, так для пелеринки я полагаюсь на ваш вкус, или попросите папеньку, чтоб он для меня выбрал, приятнее будет носить. Хороших и модных узоров я постараюсь для вас достать, мой ангел».
Сама Анна рукоделием, похоже, не очень увлекалась. Один раз она упоминает о том, что шьёт кисет в подарок папеньке: «Как вы думаете, ведь папеньке будет приятен этот кисет? Я бы ничего больше не успела сделать, но я сама его шью, вы мне напишите, понравится ли ему он?»
Находясь вдали от родных, она часто баловала их подарками. «Посылаю вам, мой ангел, – писала она Феодосии Петровне, – два платка, которыми муж позволил мне распорядиться по моему усмотрению. Я помню, вы однажды выразили желание иметь полосатый платок. Другой я хочу подарить Ольге Андреевне, она женщина бедная, ей это будет приятно, да и к свадьбе пригодится. Возьмите себе, мой ангел, тот, который больше вам понравится, и носите его из любви к вашей Анете, а для неё нет большего счастья, чем сделать вам что–то приятное. Другой же пошлите от меня Ольге Андреевне <… > Хотела послать Лизе сапожки, но Ер–молай Фёдорович говорит, что дорого на почту, и хотел послать казённым конвертом, но я это отклонила <…> Сейчас принесли мне холстинку и шерсть, которую я выписывала из Дерпта для вас, жаль мне очень, мой ангел, что холстинка не такого цвету, как вы желали, но она очень тонка и хороша, другого цвета не нашли; я постараюсь ещё выписать и ту сама привезу, шерсть тоже посылаю, но она не очень хороша. Посылаю Лизе на именины модный платочек, который прошу вас ей вручить от меня душевно, чтобы понравился».
Как видим, наша героине были не чужды маленькие и вполне простительные женские слабости – впрочем, характерные для большинства представительниц прекрасного пола. Но по–настоящему одно только спасало её в это трудное время – книги. Анна читала произведения А. Коцебу, В. А. Озерова, В. А. Жуковского, «Сентиментальное путешествие» Л. Стерна, «Надгробные речи» Э. Флешье, «Новую Элоизу» Ж. Ж. Руссо, «Письма» М. Севинье, «Гамлета» У. Шекспира, цитируя понравившиеся, в основном созвучные её настроению, строки в дневнике. Особенно увлекла её книга мадам де Сталь «О Германии», ставшая для неё своеобразным духовным ориентиром. «Какая она прелесть, г–жа Сталь, я преклоняюсь перед ней, и, однако, мне кажется, что не всякому дано уметь любить это „нечто неизъяснимое“ и понимать чувства того, „в ком есть душа, много души“… Я по–прежнему много читаю, – что бы я без этого стала делать! Читаю романы, дабы рассеяться. Что бы ни говорили против такого рода чтения, я считаю, что ни что не может лучше успокоить мои страдания».
В конце июля 1820 года Анна вдруг обнаружила, что «на своё несчастье» снова беременна: «Господь прогневался на меня, и я осуждена вновь стать матерью, не испытывая при этом ни радости, ни материнских чувств. Мой удел на земле – одни лишь страдания. Я ищу прибежище в молитве, я покорно предаю себя воле Божьей, но слёзы мои всё льются».
Она пишет тётушке Ф. П. Полторацкой: «Вы знаете, что это не легкомыслие и не каприз, я вам и прежде говорила, что не хочу иметь детей, для меня ужасна была мысль не любить их, и теперь ещё ужасна. Вы также знаете, что сначала я очень хотела иметь дитя, и потому я имею некоторую нежность к Катеньке, хотя и упрекаю иногда себя, что она не довольно велика. Но этого все небесные силы не заставят меня полюбить: по несчастью я такую чувствую ненависть ко всей этой фамилии, это такое непреодолимое чувство во мне, что я никакими усилиями не в состоянии от оного избавиться».
А Керн становился всё невыносимее. «Когда человек холоден, потому что таков его характер, это ещё можно перенести, но когда холодность происходит от злобы, от презрения к тебе и сопровождается самыми оскорбительными подозрениями! Это убийственно! Его поведение сделало его для меня столь отвратительным, что я рада была бы бежать, куда угодно, только бы ничего не слышать о нём, он мне стал невыносим. Вот сейчас он приходил, целый час плевался у меня в комнате и ушёл, не сказав ни слова… Поверьте мне, не могу дольше терпеть. Простой солдат и то более уважительно относился бы к своей жене. Он должен был бы иметь ко мне жалость хотя бы из–за моей несчастной беременности, но ведь это бездушное существо, у него каменное сердце… Теперь умоляю вас, – просила Анна Феодосию Петровну, – расскажите обо всём папеньке и умолите его сжалиться надо мной во имя неба, во имя всего, что ему дорого. Маменьке об этом говорить не нужно… »
17 августа Анна Петровна зафиксировала в дневнике, что её муж назначен командиром 2–й дивизии, которая стояла под Могилёвом. «Может быть, я окажусь совсем близко от доброй Дарьи Петровны{25}, и это уже будет мне утешением… Квартировать мы будем в Старом Быкове. Кажется, это в настоящее время местопребывание тётушки Дарьи Петровны, и, может быть, приехав туда, я увижу её вновь здоровой и уже готовой ехать в Лубны».
Дневник Анны Керн обрывается записью, сделанной 30 августа 1820 года, сообщающей о том, что собирается выехать в Лубны «прежде 5 сентября».
Нам ничего доподлинно не известно о жизни Анны с этого времени до сентября 1823 года. Сколько времени она прожила без мужа в Лубнах? Как встретилась со своим возлюбленным «Иммортелем»? Не тогда ли познакомилась с будущим своим любовником Аркадием Родзянко? Одни вопросы! Одни загадки!
Ясно одно: её отец, узнав, наконец, из первых уст об отвратительном характере и поведении зятя, о несчастной замужней жизни дочери, смягчился и открыл для неё двери своего дома. По некоторым разрозненным сведениям, в Старом Быхове Анна встретилась с тётушкой Дарьей Петровной, только что родившей сына Александра, и нянчила его – своего будущего второго мужа.
В начале 1821 года Анна Петровна родила дочь, названную также Анной, по воспоминаниям старшей дочери Екатерины – «рыжую и хорошенькую», которая прожила только четыре года.
26 сентября 1823 года Ермолай Фёдорович Керн получил должность коменданта Риги. Там Анна пробыла недолго. Самое яркое её воспоминание об этом периоде приводит в своём дневнике – разумеется, с её слов – А. В. Марков–Ви–ноградский.
В Ригу после раскассирована лейб–гвардии Семёновского полка был прислан молодой офицер Иван Петрович Фри–дрихс, «талантливый музыкант с возвышенной душой и любящим сердцем». На другой день после его приезда сослуживец выпросил у него пистолет и застрелил начальника. Фрид–рихса арестовали, после долгого разбирательства судили и сослали на Кавказ, где он и умер в 1827 году. Этот невинно пострадавший вызвал в Анне участие, а потом и любовь. Во время содержания Фридрихса под стражей она посылала ему книги и фрукты и стала видеться с ним в церкви на хорах. Когда же по болезни его поместили на вольной квартире, то они встречались на кладбище, и «свидания их были исполнены любви, счастья и восторженной поэзии».
«Это был, – писал Марков–Виноградский, – высокопоэтический эпизод в её жизни. Теперь, через 45 лет (запись датируется 1870 годом. – В. С.), она жалела, что не последовала за ним на Кавказ».
За шесть лет жизни с ненавистным супругом она никому не дала повода сомневаться ни в своём благоразумии, ни в своей добродетели. Но постепенно терпение её истощилось. Вероятно, в конце 1823–го или в начале 1824 года Анна уехала от мужа к родителям в Лубны.
Это был ещё не разрыв, а всего лишь робкая попытка деликатно, с оглядкой на общественное мнение, освободиться. Но относительно свободная жизнь вдали от супруга вскоре изменила мироощущение нашей героини, и она сблизилась с соседом по имению, эротическим поэтом, «добрейшим» Аркадием Гавриловичем Родзянко (1793—1855), сыном хорольского поветового маршала.
Его семья была дружна с Капнистами, соседями по имению, а Аркадий с ранних лет был знаком с сыном В. В. Капниста Семёном. Уже во время обучения в московском Благородном пансионе у А. Ф. Мерзлякова он начал переводить Вергилия и Руссо и писать стихи. В 1814—1819 годах Родзянко служил в лейб–гвардии Егерском полку, квартировавшем в Петербурге. Здесь он познакомился с Державиным, в «Духе журналов» и «Сыне Отечества» стали печататься его стихотворения. 15 ноября 1817 года он был избран членом Общества любителей словесности, наук и художеств, стал сотрудничать в «Благонамеренном», писал оды, послания, немалую дань отдавал гедонистической и эротической лирике. Н. И. Греч называл его «беспечным певцом красоты и забавы».
В 1818 году А. Г. Родзянко стал членом литературно–политического общества «Зелёная лампа», где познакомился и подружился с Пушкиным, а также сблизился с будущими декабристами. Продолжил он службу в Орловском пехотном полку, а в марте 1821 года вышел в отставку и поселился в своём имении Родзянки Хорольского уезда Полтавской губернии, недалеко от Лубен. Женой Аркадия Гавриловича стала Надежда Акимовна Клевцова, родившая ему троих сыновей и двух дочерей.
В 1822 году Родзянко написал сатиру «Два века», в которой, сравнивая эпоху Екатерины с современностью, противопоставлял героизм «отцов», умевших наслаждаться жизнью, современным ему ригористам, строго соблюдавшим принятые в обществе принципы, пародийным «Катонам», занятым спорами о политической экономии. В сатире под вымышленными именами изображены Н. И. и А. И. Тургеневы, Ф. Н. Глинка и некоторые другие радикальные деятели. Пушкину посвящены его строки:
И все его права: иль два иль три ноэля, Гимн Занду{26} на устах, в руках – портрет Лувеля{27}.Последняя фраза являлась намёком на то, как Пушкин однажды в театре показывал всем присутствующим портрет Лувеля с надписью «Урок царям».
Первое прочтение сатиры вызвало у Пушкина вспышку гнева. «Донос на человека сосланного есть последняя степень бешенства и подлости, – писал он 13 июня 1823 года А. А. Бестужеву, – да и стихи, сами по себе, недостойны певца сократической любви». Однако вскоре Пушкин перестал считать эту сатиру «доносом», и отношения с её автором ещё на протяжении многих лет остались дружескими. Петербургский знакомый Пушкина с 1818 года, впоследствии известный как поэт и историк Украины Н. А. Маркевич привёл в своих записках мнение поэта о Родзянко: «У этого малороссиянина злое перо, я не любил с ним ссориться»[13].
Считается, что 3 августа 1824 года по дороге из Одессы в Михайловское Пушкин заезжал к Родзянко в его имение. До конца 1820–х годов они обменивались письмами и поэтическими посланиями.
После смерти Пушкина Родзянко написал стихотворение, в котором проявилось его истинное отношение к великому поэту:
Любимец наш, отрада, друг, Честь, украшенье полуночи, — Его напевов жаждал слух, Его лица искали очи!Заканчивалось оно словами, призывавшими Музу к мести за смерть поэта:
Как Цезаря кровавый плащ, Бери, кажи ты Барда тогу, Зови к царю, к народу плачь, И месть кричи земле и Богу!В Рукописном отделе Российской государственной библиотеки в собрании А. С. Норова находится рукописный сборник стихотворений А. Г. Родзянко, включающий 150 стихотворений 1812—1849 годов, большинство которых, проникнутые гражданским звучанием, никогда не печатались.
«В течение 6 лет, – вспоминала А. П. Керн, – я не видела Пушкина, но от многих слышала про него, как про славного поэта, и с жадностью читала Кавказский пленник, Бахчисарайский фонтан, Разбойники и 1–ю главу Онегина, которые доставлял мне сосед наш Аркадий Гаврилович Родзянко, милый поэт, умный, любезный и весьма симпатичный человек. Он был в дружеских отношениях с Пушкиным, переписывался и имел счастие принимать его у себя в деревне Полтавской губернии Хорольского уезда. Пушкин, возвращаясь с Кавказа, прискакал к нему с ближайшей станции, верхом, без седла, на почтовой лошади, в хомуте… »
Переписываясь со своей кузиной Анной Николаевной Вульф, жившей в Тригорском, Анна Петровна получала от неё сведения и о самом поэте. Оказывается, он помнил о их встрече у Олениных. «Ты произвела глубокое впечатление на Пушкина во время вашей встречи у Олениных; он всюду говорит: она была ослепительна», – писала Вульф подруге. К одному из писем Анны Николаевны к Анне Петровне Пушкин сделал приписку из Байрона: «Une image qui a passe devant nous, que nous avons vue et que nous ne reverons jamais» (Промелькнувший перед нами образ, который мы видели и никогда более не увидим) – именно эта фраза позже под пером влюблённого поэта превратится в «мимолётное виденье».
В письме к Родзянко от 8 декабря 1824 года Пушкин, делая вид, что не знаком с Анной Петровной, поинтересовался: «Объясни мне, милый, что такое А. П. Керн, которая написала много нежностей обо мне своей кузине? Говорят, она премиленькая вещь – но славны Лубны за горами. На всякий случай, зная твою влюбчивость и необыкновенные таланты во всех отношениях, полагаю дело твоё сделанным или полусделанным. Поздравляю тебя, мой милый… Если
Анна Петровна так же мила, как сказывают, то верно она моего мнения: справься с нею об этом».
Ответ Родзянко (при непосредственном, довольно игривом участии Анны Петровны) был написан только через полгода, 10 мая 1825 года: «Виноват, сто раз виноват перед тобою, любезный и дорогой мой Александр Сергеевич, не отвечая три (?) месяца на твоё неожиданное и приятнейшее письмо, излагать причины моего молчания и не нужно и излишнее, лень моя главною тому причиною… Я тебе похвалюсь, что благодаря этой же лени я постояннее всех Амади–сов и польских и русских. Итак, одна трудность перемены и переноски моей привязанности составляет мою добродетель: следовательно, говорит Анна Петровна, немного стоит добродетель ваша! А она соблюдает молчание».
Керн: «Молчание – знак согласия».
Родзянко: «И справедливо. Скажи, пожалуй, что вздумалось тебе так клепать на меня? За какие проказы? За какие шалости? Но довольно, пора говорить о литературе с тобой, нашим Корифеем».
Далее – снова приписка рукою Анны Петровны, решившей «полюбезничать» с поэтом: «Ей–богу, он ничего не хочет и не намерен вам сказать! Насилу упросила! – Если б вы знали, чего мне это стоило!»
Родзянко: «Самой безделки: придвинуть стул, дать перо и бумагу и сказать – пишите».
Керн: «Да спросите, сколько раз повторить это должно было».
Родзянко: «КерйШа est mater studiorum» (Повторение – мать учения). Зачем не во всём требуют уроков, а ещё более повторений? Жалуюсь тебе, как новому Оберону: отсутствующий, ты имеешь гораздо более влияния на неё, нежели я со всем моим присутствием. Письмо твоё меня гораздо более поддерживает, нежели всё моё красноречие».
Керн: «Je vous proteste qu'il n'est pas dans mes fors!» (Уверяю вас, что он мною не пленён!).
Родзянко: «А чья вина? Вот теперь вздумала мириться с Ермолаем Фёдоровичем: снова пришло давно остывшее желание иметь законных детей, и я пропал. – Тогда можно было извиниться молодостью и неопытностью, а теперь чем? Ради Бога, будь посредником!»
Керн: «Ей–богу, я этих строк не читала!»
Родзянко: «Но заставила их прочесть себе 10 раз».
Керн: «Право, не 10».
Родзянко: «А 9 – ещё солгал. Пусть так, тем–то Анна Петровна и очаровательнее, что со всем умом и чувствительно
стью образованной женщины, она изобилует такими детскими хитростями…»
Окончание письма написано рукою А. Керн: «Вчера он был вдохновен мною! и написал – Сатиру – на меня. Если позволите, я её вам сообщу.
Стихи насчёт известного примирения.
Соч. Арк[адий] Родз[янко] сию минуту.
Поверьте, толки все рассудка Была одна дурная шутка, Хвостов [в] лирических певцах; Вы не притворно рассердились, Со мной нарочно согласились, И кто, кто? – я же в дураках. И дельно; в век наш греховодный Я вздумал нравственность читать И совершенство посевать В душе к небесному холодной; Что ж мне за все советы? — Ах! Жена, муж, оба с мировою Смеются под нос надо мною: «Прощайте, будьте в дураках!»NB: Эти стихи сочинены после благоразумнейших дружеских советов, и это было его желание, чтоб я их здесь переписала».
В этом довольно откровенном и фривольном письме А. С. Пушкину излагалась вся ситуация Анны Петровны: и то, что она всячески хочет установить с поэтом контакт, хотя бы путём переписки; и то, что она давно уже заочно находится под его поэтическим обаянием; и то, в каких отношениях она состоит с Родзянко; и то, что её уже тяготит эта связь, постоянно грозящая беременностью; и то, что она готова возвратиться к мужу. Чего уж было не понять?
И Пушкин подготовил ответ в стихах, в котором хотя и в игривой форме, но довольно чётко изложил свой взгляд на сложившиеся обстоятельства и определил дальнейшую манеру поведения Анны Керн: оставаться формально замужней женщиной, не забывая при этом о любовных приключениях; любовь и замужество хотя и разные вещи, но вполне совместимые для умных жён. И сам он настроился на далеко не платонические отношения с беглянкой–генеральшей.
Ты обещал о романтизме, О сем Парнасском афеизме, Потолковать ещё со мной. Полтавских муз поведать тайны, — А пишешь лишь об ней одной. Нет, это ясно, милый мой, Нет, не влюблён Пирон Украйны! Ты прав, что может быть важней На свете женщины прекрасной? Улыбка, взор её очей Дороже злата и честей, Дороже славы разногласной; Поговорим опять о ней. Хвалю, мой друг, её охоту, Поотдохнув, рожать детей, Подобных матери своей, И счастлив, кто разделит с ней Сию приятную заботу, Не наведёт она зевоту. Дай Бог, чтоб только Гименей Меж тем продлил свою дремоту! Но не согласен я с тобой. Не одобряю я развода: Во–первых, веры долг святой, Закон и самая природа… А, во–вторых, замечу я, Благопристойные мужья Для умных жён необходимы: При них домашние друзья Иль чуть заметны, иль незримы. Поверьте, милые мои, Одно другому помогает, И солнце брака затмевает Звезду стыдливую любви.«ПЕРЕДО МНОЙ ЯВИЛАСЬ ТЫ»
Однако Пушкин не успел ещё отправить это послание, как в середине июня 1825 года Анна Петровна сама появилась в Тригорском – направляясь в Ригу для примирения с мужем, она по дороге заехала к тётушке Прасковье Александровне Осиповой. Она устала от бесконечных гнетущих упрёков отца, от бесперспективности отношений с Родзянко, была полна желания упорядочить свою жизнь и, может быть, как–то наладить отношения с мужем, от которого находилась в полной материальной зависимости – обо всём этом она хотела поговорить с тётушкой, которую любила с детства и уважала.
Летом 1825 года в тригорском доме Вульфов обитало целое женское царство: кроме Прасковьи Александровны здесь проживали две её взрослые дочери от первого брака – Анна и Евпраксия, а также две маленькие дочери от второго брака и падчерица Александра Ивановна Осипова (Алина). Кроме того, в это время там отдыхал и приехавший на каникулы из Дерпта (ныне Тарту, Эстония) старший сын Прасковьи Александровны Алексей Вульф, который сразу же после приезда кузины начал активно ухаживать за ней.
Прасковья Александровна Осипова, урожденная Вын–домская (1781—1859) в первом браке (с 1799 года) с коллежским асессором Николаем Ивановичем Вульфом (1771– 1813), родила пятерых детей: Анну (1799—1857), Алексея (1805—1881), Евпраксию (1809—1883), Михаила (1808—1832), Валерьяна (1812—1845). Во второй раз она вышла замуж в 1817 году за статского советника Ивана Сафоновича Осипова (ум. в 1824), имела от него дочерей Марию (1820—1896) и Екатерину (1823 – после 1908) и воспитывала падчерицу Александру (Алину) (1808—1864).
После смерти отца, а затем и первого мужа Прасковье Александровне достались имения Тригорское в Псковской губернии и Малинники в Тверской.
Среди провинциальных помещиц она представляла собой явление далеко не заурядное: знала не только французский, но и немецкий язык, вместе со своими детьми училась английскому. Воспитание она получила домашнее, но любила читать, постоянно внимательно следила за литературными новинками, переписывалась со многими писателями. Обладая здравомыслием и принципиальностью, от отца она унаследовала характер не злобный, но своенравный, держала в ежовых рукавицах и обоих мужей, и детей, и дворовых с крепостными.
Издатель «Русской старины» М. И. Семевский со слов Алексея Вульфа написал, что все дети её не любили – за строгость и бестолковость в вопросах воспитания, за упрямство и настойчивость в мнениях, за мелочность, скупость и эгоизм; однако на самом деле нелюбовь к матери испытывал только её старший сын.
Прасковья Александровна состояла в родстве с Пушкиным: её сестра Елизавета была замужем за двоюродным братом матери поэта Яковом Исааковичем Ганнибалом. Александр Сергеевич познакомился с Прасковьей Александровной и её семьёй в первый свой приезд в Михайловское в июле—августе 1817 года, а в августе 1824 года, когда прибыл туда из Одессы, подружился и поддерживал эту дружбу до конца жизни. П. А. Осипова одной из первых оценила его талант, была в курсе всех литературных, хозяйственных и семейных дел и пыталась по мере возможности помогать ему в трудных ситуациях, в том числе и материально. Некоторые пушкинисты – да, вероятно, и наша героиня – рассматривали их отношения как любовные, что совершенно не соответствовало истине. Прасковья Александровна была глубоко религиозной и высоконравственной женщиной, а любовь её к Пушкину была чисто материнская.
«Приезжал он (Пушкин в Тригорское. – В. С.) обыкновенно верхом на прекрасном аргамаке, – вспоминала одна из младших дочерей Прасковьи Александровны Мария Ивановна Осипова, – а то, бывало, приволочится и на крестьянской лошадёнке. Бывало, все сестры мои, да и я, тогда еще подросточек, – выйдем к нему навстречу… Приходил, бывало, и пешком; подберётся к дому иногда совсем незаметно; если летом, окна бывали раскрыты, он шасть и влезет в окно… он, кажется, во всё перелазил… Все у нас, бывало, сидят за делом: кто читает, кто работает, кто за фортепиано… Сестра Alexandrine, как известно вам, дивно играла на фортепиано; её, поистине, можно было заслушаться… Я это, бывало, за уроками сижу. Ну, пришел Пушкин – всё пошло вверх дном; смех, шутки, говор так и раздаются по комнатам».
Влекли Пушкина в Тригорское беспечная веселость и жизнерадостность молодёжи, наполнявшей этот большой уютный дом, «праздный шум, говор, смех, гремевший в нём круглый день от утра до ночи, и все маленькие интриги, вся борьба молодых страстей, кипевших в нём без устали».
Анна Петровна так охарактеризовала свою тётушку в письме к автору первой научной биографии Пушкина П. В. Анненкову в 1859 году: «Вы когда–то у меня спросили: „что такое была Прасковья Александровна Осипова“. Мне кажется, я теперь вот могу это сказать почти безошибочно. С тех пор, как она скончалась, я долго об ней думала, и она мне теперь ясно нарисовалась. Это была далеко не пошлая личность – будьте уверены, и я очень понимаю снисходительность и нежность к ней Пушкина… Она меня всегда любила: и в детстве, и в молодости, и в зрелом возрасте, несмотря на то, что от бесхарактерности делала вред, почти что положительное зло. Я тогда сердилась на неё, но всегда потом ей прощала; она была так ласкова, так нежна со мною, как никто из моих близких, ни одна из моих родных тёток!.. И так мне рисуется Прасковья Александровна в те времена. Не хорошенькою, – она, кажется, никогда не была хороша, – рост ниже среднего, впрочем, в размерах, и стан выточенный; лицо продолговатое, довольно умное (Алексей на неё похож); нос прекрасной формы; волосы каштановые, мягкие, тонкие, шёлковые; глаза добрые, карие, но не блестящие; рот её только не нравился никому: он был не очень велик и не опрятен особенно, но нижняя губа так выдавалась, что это её портило. Я полагаю, что она была бы просто маленькая красавица, если бы не этот рот. Отсюда раздражительность характера».
По утверждению близкого друга Пушкина А. И. Тургенева, поэт провёл в Тригорском «лучшие минуты своей поэтической жизни». Прасковье Александровне посвящены его стихотворения «Простите, верные дубравы» (1817), «Подражания Корану» (1824), «Быть может, уж недолго мне» (1825) и «Цветы последние милей» (1825). Ей посвящали стихи Н. М. Языков и А. А. Дельвиг. Сохранились 24 письма Пушкина к Осиповой (1825—1836) и 16 писем Осиповой к Пушкину (1827—1837). Прасковья Александровна, по словам Тургенева, «как мать любила» Пушкина и искренне оплакивала его смерть.
Алексей Вульф вскоре после смерти матери сообщил Анне Петровне о единственном её предсмертном распоряжении – уничтожить всю её переписку со своим семейством; после неё не нашли ни одной записочки её мужей и детей! Остались только письма Александра Сергеевича Пушкина к ней.
Старшая дочь П. А. Осиповой от первого брака Анна Николаевна Вульф, как уже говорилось, знала Анну Петровну с детского возраста, воспитывалась вместе с ней в Бернове. В дальнейшем она жила вместе с матерью в Тригорском и Малинниках. Знакомство её с Пушкиным произошло во время первого приезда поэта в Михайловское в июле – августе 1817 года. В 1824—1826 годах, во время отбывания Пушкиным ссылки в деревне, завязался их роман, «самый скучный и самый пошлый из всех, что были в жизни поэта», который принёс много страданий Анне Николаевне. Ей шёл 25–й год, она была не особенно хороша собой, что подтверждают её портреты, слезлива, сентиментальна и, кажется, не особенно умна. А. Н. Вульф влюбилась в поэта искренне, от всей души, от всего сердца, а Пушкин в начале 1826 года соблазнил её просто так, от нечего делать, ради забавы. Поэт, кажется, никогда не относился к её чувствам серьёзно, в своих письмах говорил о ней почти всегда с подчёркнутым пренебрежением и насмешкой, а в стихах унизил – дальше некуда:
Рисунок А. С. Пушкина.
Предположительно изображена Анна Николаевна Вульф
Увы, напрасно деве гордой Я предлагал свою любовь: Ни наша жизнь, ни наша кровь Её души не тронут твёрдой! Одним страданьем буду сыт, И пусть мне сердце скорбь расколет… Она на щепочку нассыт, Но и понюхать не позволит.Анна Николаевна понимала, что Пушкин к ней равнодушен, но писала к нему, безуспешно пытаясь вызвать ревность и сострадание. Известны шесть её писем к Пушкину и два письма Пушкина к ней (остальные были по завещанию Анны Николаевны сожжены). В одном из писем к поэту она с горечью восклицает: «Ах, Пушкин, вы не стоите любви… »
Весь роман Пушкина с А. П. Керн проходил на глазах её тёзки; но она отнеслась к нему спокойно – вероятно, потому, что хорошо знала свою кузину и не верила в серьёзность её намерений; с другой стороны, как ей казалось, она достаточно хорошо узнала Пушкина и была уверена, что его чувства к Анне Петровне недолговечны.
Встречался Пушкин с Анной Николаевной в Малинниках и осенью 1828 года, вскоре после неудачного сватовства к Анне Олениной, и осенью 1829 года, после аналогичного отказа матери Натальи Гончаровой (в этот раз он пробыл в тверских имениях Вульфов три недели) – она всегда была готова утешить поэта.
Исследователи творчества Пушкина считают, что кроме приведённого выше язвительного стихотворения ей адресованы ещё три стихотворения 1825 года: «Я был свидетелем златой твоей весны», и «Хотя стишки на имянины» и «Н. Н.» («Примите, „Невский альманах“). Её имя было включено поэтом в так называемый донжуанский список.
Другую дочь П. А. Осиповой от первого брака – Евпрак–сию Николаевну Вульф – Пушкин назвал «полувоздушной девой» и увековечил в «Евгении Онегине»:
…строй рюмок узких, длинных, Подобно талии твоей, Зизи, кристалл души моей, Предмет стихов моих невинных, Любви приманчивый фиал, — Ты, от кого я пьян бывал!Она отличалась удивительной женственностью, лебединой плавностью движений и походки; при этом, в противоположность своей серьёзной и мечтательной сестре Анне, Евпраксия была кокетлива и шаловлива. Летом 1826 года она царила в Тригорском. По вечерам именно Е. Н. Вульф варила для всей компании в ковшике с длинной серебряной ручкой жжёнку, для которой Александр Сергеевич заказывал ром из Петербурга через брата Льва.
Пушкин, как свидетельствовал Алексей Вульф, был «всегдашним и пламенным обожателем» Евпраксии. Пятая глава «Онегина» писалась именно в это лето, и пушкинский стих – «ты, от кого я пьян бывал» – можно понимать двояко: это и про жжёнку, и про любовь. В 1828 году поэт послал ей четвертую и пятую главы «Онегина» с многозначительной надписью: «Твоя от твоих».
Пик их отношений – а они, судя по некоторым свидетельствам, были интимно–близкими – приходится на 1828– 1829 годы. Осенью 1828 года Пушкин гостил в Малинниках, и сведущему в любовных делах Алексею Вульфу показалось, что в сестре что–то переменилось: «У неё было расслабление во всех движениях, которое её почитатели назвали бы прелестной томностью, – мне это показалось похожим на положение Лизы (имеется в виду сестра Анны Керн Елизавета Полторацкая, которая была безответно влюблена в Вуль–фа. – В. С.), на страдание от не совсем счастливой любви, в чём, я, кажется, не ошибся».
В январе 1829 года Пушкин вновь посетил тверские имения Вульфов и встречался с Евпраксией. Осенью этого же года он по пути в Петербург снова свернул в Малинники, где состоялась, должно быть, его последняя перед женитьбой встреча с Евпраксией. Поводом для столь неожиданного появления поэта в Малинниках послужил, скорее всего, день рождения Евпраксии Николаевны (12 октября). После этого Пушкин и Евпраксия Вульф расстались надолго.
18 февраля 1831 года женился Пушкин, а через полгода, 8 июля 1831 года, Евпраксия вышла замуж за барона Бориса Александровича Вревского – товарища Льва Сергеевича Пушкина по Благородному пансиону при Главном педагогическом институте, своего тригорского соседа, владельца имения Голубово. Брак этот оказался неожиданно счастливым. Супруги поселились в Голубове, где Евпрак–сия Николаевна принялась за «труды материнские», родив 11 детей.
Пушкин увиделся с Евпраксией Николаевной, уже баронессой Вревской, в начале 1835 года, когда она, будучи в очередной раз беременной, вместе с матерью и сестрой приехала в Петербург и остановилась у его родителей.
Осень 1835 года Пушкин провёл на Псковщине. По приглашению барона Б. А. Вревского он несколько раз бывал в Голубове, виделся с Евпраксией Николаевной и, по преданию, принял самое непосредственное участие в устройстве голубовского парка – помогал рыть пруд, рассаживал деревья и цветы. Пушкин относился к Борису Вревскому с явной симпатией, искренним дружеским расположением и с удовольствием гостил в имении супругов. Барон был достаточно умён и тактичен, чтобы не ревновать жену к поэту.
В 1836 году, побывав в Голубове после похорон матери, Пушкин писал поэту Н. Языкову: «Поклон Вам от холмов Михайловского, от сеней Тригорского, от волн голубой Со–роти, от Евпраксии Николаевны, некогда полувоздушной девы, ныне дебелой жены, в пятый раз уже брюхатой…»
Е. Н. Вревская в очередной раз приехала в Петербург 16 января 1837 года, за десять дней до роковой дуэли. Она остановилась в доме своего деверя Степана Александровича Вревского на Васильевском острове. Пушкин навестил её сразу же, как только узнал о приезде.
25 января, за два дня до поединка, Пушкин написал письмо приёмному отцу Дантеса, барону Геккерну, и, сдав его на городскую почту, отправился на Васильевский остров к Вревской. Здесь состоялся его откровенный разговор с Евпраксией Николаевной, во время которого поэт рассказал ей о своей семейной драме и намерении стреляться. Евпраксия Николаевна пыталась напомнить Пушкину о детях, на что он ответил, что надеется на обещание императора позаботиться о них. Вернувшись в Тригорское уже после дуэли, она поделилась услышанным с матерью, и Прасковья Александровна позже писала А. И. Тургеневу: «Я почти рада, что вы не слыхали того, что говорил он перед роковым днём моей Евпраксии, которую он любил, как нежной брат, и открыл ей своё сердце. – Моё замирает при воспоминании всего услышанного. – Она знала, что он будет стреляться! И не умела его от того отвлечь!»
26 января, накануне дуэли, Пушкин вышел из дома в шесть часов вечера и, вероятно пожалев о том, что рассказал Евпраксии Николаевне, направился к Вревским и взял с неё слово никому не говорить об услышанном, которое она сдержала.
Известно, что и Наталья Николаевна Гончарова знала – а может, просто догадывалась – о их былой любви, и ревновала мужа к Евпраксии Вульф.
Дочь Евпраксии Николаевны по воле матери сожгла всю переписку сестёр Вульф с Пушкиным.
Имя Евпраксии Вульф в 1829 году было включено поэтом в так называемый донжуанский список, в первую его часть, рядом с именами женщин, которых он любил искренно и глубоко. Ей посвящены следующие стихотворения Пушкина: «Если жизнь тебя обманет…» (1825), «К Зине» («Вот, Зина, вам совет; играйте…», 1826), строки в пятой главе романа «Евгений Онегин».
Старший сын П. А. Осиповой Алексей Николаевич Вульф в 1822—1826 годах обучался в Дерптском университете, где познакомился и подружился с поэтом Н. М. Языковым. В 1824 году, приехав на каникулы в Тригорское и оказавшись в обществе своих молоденьких сестёр, увлечённых соседом–поэтом, он познакомился и сблизился с Пушкиным. Несомненно, юный студент сразу попал под влияние уже достаточно опытного в сердечных делах поэта. В нём Алексей увидел блестящего представителя эпохи, для которой признаком хорошего тона считалось «только нравиться, занимать женщин, а не более: страсти отнимают только время». Тёплыми летними вечерами Пушкин преподавал Вульфу науку обольщения. Тот оказался достойным учеником: на своём уровне, в основном в ближайшем родственном и дружеском окружении, он блестяще применял полученные от Пушкина приёмы и имел полный успех, в первую очередь – у своей кузины Анны Керн. Вульф разнился с Пушкиным только в одном: если у поэта расчётливый и тонкий разврат будил поэтическое вдохновение, то для его молодого ученика был просто самоцелью.
В декабре 1824 года Пушкин поделился с Алексеем Вуль–фом тайным намерением бежать за границу. Вульф предложил свою помощь – вывезти поэта под видом собственного слуги. По разным причинам план этот сорвался, но сам факт посвящения в него говорит о полном доверии Пушкина к сыну Прасковьи Александровны.
После окончания университета Алексей Вульф приехал в Петербург, где снова сблизился с Анной Керн, одновременно «не платонически» развращая её сестру Лизу и жену Антона Дельвига Софью. Анна Петровна, безусловно, знала обо всех романах Вульфа и не скрывала от него своих, что совершенно не мешало их взаимным наслаждениям. «Они не были в претензии друг к другу, – отмечал историк и литературовед П. Е. Щёголев, – в их отношениях поистине царила какая–то домашность, родственность. Вульф навсегда остался благодарен Анне Петровне за её любовь». 18 августа 1831 года Алексей Николаевич оставил в своём дневнике запись, касающуюся его кузины: «…никого я не любил и, вероятно, не буду так любить, как её».
Некоторое время А. Н. Вульф служил чиновником Департамента разных податей и сборов, а в 1829 году поступил унтер–офицером в гусарский полк принца Оранского, участвовал в Русско–турецкой войне 1828—1829 годов и подавлении Польского восстания 1830—1831 годов.
Большой знаток женской души, Вульф один из немногих понял, что смыслом всей жизни Анны Петровны была любовь.
Однако вернёмся к приезду Анны Керн в Тригорское.
Все эпизоды встречи Пушкина и Анны Керн в Тригор–ском и дальнейшего их общения неоднократно излагались и в прозе, и в стихах и комментировались как самими её непосредственными участниками, так и биографами поэта, и его коллегами по поэтическому цеху, и писателями–беллетристами. Мы же будем цитировать только первоисточники.
«Восхищённая Пушкиным, я страстно хотела увидеть его, – вспоминала Анна Петровна, – и это желание исполнилось во время пребывания моего в доме тётки моей, в Тригорском… Мы сидели за обедом и смеялись над привычкой одного г–на Рокотова{28}, повторяющего беспрестанно: «Pardonnez ma franchise» и «Je tiens beaucoup a' votre opinion» (« Простите за откровенность» и «Я весьма дорожу вашим мнением»). Как вдруг вошёл Пушкин с большой толстой палкой в руках. Он после часто к нам являлся во время обеда, но не садился за стол; он обедал у себя гораздо раньше и ел очень мало. Приходил он всегда с большими дворовыми собаками chien–loop. Тётушка, подле которой я сидела, мне его представила; он очень низко поклонился, но не сказал ни слова: робость видна была в его движениях. Я то же не нашлась ничего ему сказать, и мы не скоро ознакомились и заговорили. Да и трудно было с ним вдруг сблизиться: он был очень неровен в обращении: то шумно весел, то грустен, то робок, то дерзок, то нескончаемо любезен, то томительно скучен, – и нельзя было угадать, в каком он будет расположении духа через минуту… Вообще же надо сказать, что он не умел скрывать своих чувств, выражал их всегда искренно и был неописанно хорош, когда что–нибудь приятное волновало его… Когда же он решался быть любезным, то ничто не могло сравниться с блеском, остротой и увлекательностью его речи… »
Чем можно объяснить такое поведение Пушкина? Вероятно, перед ним в Тригорском предстала женщина, в реальности далеко не соответствовавшая тому образу, который начал складываться в его воображении после встречи у Олениных, а затем окончательно сформировался в результате довольно игривой переписки с Родзянко. Несмотря на то, что она была в расцвете своей блистательной красоты и женственности, сама это прекрасно понимала и пользовалась этим, кружа голову и соседу–помещику Рокотову, и Алексею Вульфу, и Пушкину, в её глазах часто отражалась какая–то тайная грусть, а в манере держаться ощущалась постоянно смущавшая Пушкина девическая застенчивость.
К Пушкину в Михайловское приехали гости – племянник директора Царскосельского лицея Е. А. Энгельгардта гусарский офицер Александр Петрович Распопов, с которым поэт был знаком ещё с лицейских времён, его сослуживец С. О. Юрьевич со своим дядей И. С. Деспот–Зеновичем. На следующий день Пушкин пригласил их прогуляться в Тригорское. «До позднего вечера мы провели очень приятно время, – вспоминал Распопов, – а в день нашего отъезда (гости пробыли в Михайловском четыре дня. – В. С.) были на раннем обеде; милая хозяйка нас обворожила приветливым приёмом, а прекрасный букет дам и девиц одушевлял общество. Александр Сергеевич особенно был внимателен к племяннице Осиповой, А. П. Керн, которой посвятил «Я помню чудное мгновенье»»[14] .
В течение месяца Анна Керн и Пушкин виделись почти ежедневно, но поэт никак не мог преодолеть возникшее между ними напряжение, взять ровный определённый тон. Во время одной из встреч он всё же вручил Анне Петровне свой ответ Родзянко, адресованный больше ей, чем её бывшему любовнику. Он думал, что Анна как–то отреагирует на него, но этого не случилось.
В один из вечеров в тригорском доме занялись портрети–рованием; в это время был широко распространён способ создания профильных портретов при помощи свечи: карандашом обводилась тень от головы портретируемого на стене или листе бумаги, потом полученный силуэт затушёвывался. До нас дошли три силуэта, сделанные тогда в Тригорском: Анны и Евпраксии Вульф и Анны Петровны Керн. На обратной стороне теневого портрета нашей героини рукою Алексея Вульфа проставлена дата его создания: «1825». Анна Петровна изображена с высокой негладкой причёской и чуть полноватым подбородком – вероятно, такой её и увидел в Тригорском Пушкин.
«Во время пребывания моего в Тригорском, – писала в воспоминаниях А. П. Керн, – я пела Пушкину стихи Козлова:
Ночь весенняя дышала Светлоюжною красой. Тихо Брента протекала, Серебримая луной… и проч.Мы пели этот романс Козлова на голос Benedetta{29} sia la madre – баркаролы венецианской. Пушкин с большим удовольствием слушал эту музыку и писал затем П. А. Плетнёву (19 июля 1825 года. – В. С.): «Скажи старцу Козлову, что здесь есть одна прелесть, которая поёт его ночь. Как жаль, что он её не увидит! Дай бог ему её услышать!»». Анна Петровна по памяти воспроизвела фразу из письма почти точно; сравним её с подлинным текстом: «Скажи от меня Козлову, что недавно посетила наш край одна прелесть, которая небесно поёт его Венецианскую ночь на голос гондольерско–го речитатива – я обещал известить о том милого, вдохновенного слепца. Жаль, что он не увидит её, но пусть вообразит себе красоту и задушевность – по крайней мере, дай бог ему её слышать!»
Пушкин наслаждался пленительной музыкальностью её пения, её чудным голосом, а более всего – обаянием и даже дурманом её женственности. Он пустил в ход весь арсенал своих методов обольщения: блестящие каскады остроумия, необычайную любезность и, наконец, тяжёлую артиллерию – поэтический талант.
«Однажды… – вспоминала далее А. П. Керн, – явился он в Тригорское со своею большою чёрною книгой, на полях
Силуэты: вверху – Анна Петровна Керн,
внизу – Анна Николаевна и Евпраксия Николаевна Вульф. 1825 г.
которой были начерчены ножки и головки, и сказал, что он принёс её для меня. Вскоре мы уселись вокруг него, и он прочитал нам своих Цыган. Впервые мы слышали эту чудную поэму, и я никогда не забуду того восторга, который охватил мою душу!.. Я была в упоении как от текучих стихов этой чудной поэмы, так и от его чтения, в котором было столько музыкальности, что я истаивала от наслаждения; он имел голос певучий, мелодичный и, как он говорит про Овидия в своих Цыганах:
И голос шуму вод подобный.Через несколько дней после этого чтения тётушка предложила нам всем после ужина прогулку в Михайловское. Пушкин очень обрадовался этому, и мы поехали. Погода была чудесная, лунная июльская ночь дышала прохладой и ароматом полей. Мы ехали в двух экипажах: тётушка с сыном в одном, сестра (Анна Николаевна Вульф. – В. С.), Пушкин и я – в другом. Ни прежде, ни после я не видела его так добродушно весёлым и любезным. Он шутил без острот и сарказмов, хвалил луну, не называл её глупою, а говорил: «J'aime la lune, quand elle eclaire un beau visaqe» (Люблю луну, когда она освещает прекрасное лицо), хвалил природу и говорил, что он торжествует, воображая в ту минуту, будто Александр Полторацкий остался на крыльце у Олениных, а он уехал со мною; это был намёк на то, как он завидовал при нашей первой встрече А. Полторацкому, когда тот уехал со мной. Приехавши в Михайловское, мы не вошли в дом, а пошли сразу в старый, запущенный сад. «Приют задумчивых дриад», с длинными аллеями старых дерев, корни которых, сплетаясь, вились по дорожкам, что заставляло меня спотыкаться, а моего спутника вздрагивать. Тётушка, приехавши туда вслед за нами, сказала: «Mon cher Pouchkine, faites les honneurs de votre jardin a Madam» (Дорогой Пушкин, будьте же гостеприимны и покажите госпоже ваш сад). Он быстро подал мне руку и побежал скоро, скоро, как ученик, неожиданно получивший позволение прогуляться. Подробностей разговора нашего не помню; он вспоминал нашу первую встречу у Олениных, выражался о ней увлекательно, восторженно и в конце разговора сказал: «Vous aviez un air si virginal; n'est ce pas, que vous quelque chose, comme une croix» (Вы выглядели такой невинной девочкой; на вас было тогда что–то вроде крестика, не правда ли)».
«ГЕНИИ ЧИСТОЙ КРАСОТЫ»
«На другой день я должна была уехать в Ригу вместе с сестрою Анной Николаевной Вульф. Он пришёл утром и на прощание принёс мне экземпляр второй главы „Онегина“{30}, в неразрезанных листах, между которых я нашла вчетверо сложенный почтовый лист бумаги со стихами:
К***
Я помню чудное мгновенье; Передо мной явилась ты, Как мимолётное виденье, Как гений чистой красоты. В томленьях грусти безнадежной, В тревогах шумной суеты, Звучал мне долго голос нежный И снились милые черты. Шли годы. Бурь порыв мятежный Рассеял прежние мечты, И я забыл твой голос нежный, Твои небесные черты. В глуши, во мраке заточенья Тянулись тихо дни мои Без божества, без вдохновенья, Без слёз, без жизни, без любви. Душе настало пробужденье: И вот опять явилась ты, Как мимолётное виденье, Как гений чистой красоты. И сердце бьётся в упоенье, И для него воскресли вновь И божество, и вдохновенье, И жизнь, и слёзы, и любовь!Когда я собиралась спрятать в шкатулку поэтический подарок, он долго на меня смотрел, потом судорожно выхватил и не хотел возвращать; насилу выпросила я их опять; что у него промелькнуло тогда в голове, не знаю».
Какие чувства владели тогда поэтом? Смущение? Волнение? Может быть, сомнение или даже раскаяние?
Было ли это стихотворение результатом мгновенного увлечения – или поэтическим озарением? Велика тайна гениальности… Всего лишь гармоничное сочетание нескольких слов, а при их звучании в нашем воображении сразу возникает, словно материализуясь из воздуха, лёгкий женский образ, полный чарующей прелести… Поэтическое любовное послание в вечность…
Многие литературоведы подвергли это стихотворение самому тщательному разбору. Споры о различных вариантах его толкования, начавшиеся на заре XX века, ведутся до сих пор и, вероятно, ещё будут продолжаться.
Некоторые исследователи творчества Пушкина считают это стихотворение просто озорной шуткой поэта, решившего из одних только штампов русской романтической поэзии первой трети XIX века создать шедевр любовной лирики. Ведь из ста трёх его слов более шестидесяти являются затёртыми банальностями («голос нежный», «порыв мятежный», «божество», «небесные черты», «вдохновенье», «сердце бьётся в упоенье» и т. д.). Не будем серьёзно относиться к такому взгляду на шедевр.
По мнению большинства пушкинистов, выражение «гений чистой красоты» – это открытая цитата из стихотворения В. А. Жуковского «Лалла–Рук»:
Ах! Не с нами обитает Гений чистой красоты; Лишь порой он навещает Нас с небесной высоты; Он поспешен, как мечтанье, Как воздушный утра сон; И в святом воспоминанье Не разлучен с сердцем он! Он лишь в чистые мгновенья Бытия бывает к нам И приносит откровенья, Благотворные сердцам.Для Жуковского эта фраза была связана с целым рядом символических образов – призрачного небесного виденья, «поспешного, как мечтанье», с символами упования и сна, с темой «чистых мгновений бытия», отрыва сердца от «темной области земной», с темой вдохновения и откровений души.
Но Пушкин, вероятно, этого стихотворения не знал. Написанное к празднику, данному в Берлине 15 января 1821 года прусским королём Фридрихом по случаю приезда из России его дочери Александры Фёдоровны – супруги великого князя Николая Павловича, оно появилось в печати только в 1828 году. Жуковский его Пушкину не присылал.
Однако все образы, символически сконцентрированные во фразе «гений чистой красоты», опять появляются у Жуковского в стихотворении «Я Музу юную, бывало» (1823), но уже в иной экспрессивной атмосфере – ожидания «даро–вателя песнопений», тоски по гению чистой красоты – при мерцании его звезды.
Я Музу юную, бывало, Встречал в подлунной стороне, И Вдохновение летало С небес, незваное, ко мне; На всё земное наводило Животворящий луч оно — И для меня в то время было Жизнь и Поэзия одно. Но дарователь песнопений Меня давно не посещал; Бывалых нет в душе видений, И голос арфы замолчал. Его желанного возврата Дождаться ль мне когда опять? Или навек моя утрата И вечно арфе не звучать? Но всё, что от времён прекрасных, Когда он мне доступен был, Всё, что от милых тёмных, ясных Минувших дней я сохранил — Цветы мечты уединенной И жизни лучшие цветы, — Кладу на твой алтарь священный, О Гений чистой красоты!Жуковский снабдил символику, связанную с «гением чистой красоты», своим комментарием. В основе его лежит понятие прекрасного. «Прекрасное… не имеет ни имени, ни образа; оно посещает нас в лучшие минуты жития»; «оно является нам только минутами, для того единственно, чтобы нам сказаться, оживить нас, возвысить нашу душу»; «прекрасно только то, чего нет»… Прекрасное сопряжено с грустью, со стремлением «к чему–то лучшему, тайному, далёкому, что с ним соединяется и что для тебя где–то существует. И это стремление есть одно из невыразимейших доказательств бессмертия души».
Но, скорее всего, как впервые отметил в 1930–х годах известный филолог академик В. В. Виноградов, образ «гений чистой красоты» возник в поэтическом воображении Пушкина в это время не столько в непосредственной связи со стихотворением Жуковского «Лалла–Рук» или «Я Музу юную, бывало», сколько под впечатлением его статьи «Рафаэлева Мадонна (Из письма о Дрезденской галерее)», напечатанной в «Полярной звезде на 1824 год» и воспроизводившей распространённую в то время легенду о создании знаменитой картины «Сикстинская мадонна»: «Сказывают, что Рафаэль, натянув полотно своё для этой картины, долго не знал, что на нём будет: вдохновение не приходило. Однажды он заснул с мыслию о Мадонне, и верно какой–нибудь ангел разбудил его. Он вскочил: она здесь, закричав, он указал на полотно и начертил первый рисунок. И в самом деле, это не картина, а видение: чем долее глядишь, тем живее уверяешься, что перед тобою что–то неестественное происходит… Здесь душа живописца… с удивительною простотою и легкостью, передала холстине то чудо, которое во внутренности её совершилось… Я… ясно начал чувствовать, что душа распространялась… Она была там, где только в лучшие минуты жизни быть может.
Гений чистой красоты был с нею:
Он лишь в чистые мгновенья Бытия слетает к нам И приносит нам виденья, Недоступные мечтам.…И точно приходит на мысль, что эта картина родилась в минуту чуда: занавес развернулся, и тайна неба открылась глазам человека… Всё, и самый воздух, обращается в чистого ангела в присутствии этой небесной, мимоидущей девы».
Альманах «Полярная звезда» со статьёй Жуковского привёз в Михайловское А. А. Дельвиг в апреле 1825 года, незадолго до приезда в Тригорское Анны Керн, и после прочтения этой статьи образ Мадонны прочно обосновался в поэтическом воображении Пушкина.
«Но Пушкину была чужда морально–мистическая основа этой символики, – заявляет Виноградов. – В стихотворении „Я помню чудное мгновенье“ Пушкин воспользовался символикой Жуковского, спустив её с неба на землю, лишив её религиозно–мистической основы…
Пушкин, сливая с образом поэзии образ любимой женщины и сохраняя большую часть символов Жуковского, кроме религиозно–мистических
И я забыл твой голос нежный, Твои небесные черты… Тянулись тихо дни мои Без божества, без вдохновенья… И для него воскресли вновь И божество, и вдохновенье…строит из этого материала не только произведение новой ритмической и образной композиции, но и иного смыслового разрешения, чуждого идейно–символической концепции Жуковского»[15].
Не надо забывать, что Виноградов сделал такое заявление в 1934 году. Это был период широкой антирелигиозной пропаганды и торжества материалистического взгляда на развитие человеческого общества. На протяжении ещё полувека советские литературоведы не касались религиозной темы в творчестве А. С. Пушкина.
Строки «в молчаньи грусти безнадежной», «в дали, во мраке заточенья» очень созвучны «Эде» Е. А. Баратынского; Некоторые рифмы Пушкин позаимствовал у себя самого – из письма Татьяны к Онегину:
И в это самое мгновенье Не ты ли, милое виденье…И здесь нет ничего удивительного – творчество Пушкина насыщено литературными реминисценциями и даже прямыми цитатами; однако, используя понравившиеся строки, поэт преображал их до неузнаваемости.
По мнению выдающегося русского филолога и пушкиниста Б. В. Томашевского, это стихотворение, несмотря на то, что рисует идеализированный женский образ, несомненно, связано с А. П. Керн. «Недаром оно в самом заголовке „К***" адресовано любимой женщине, хотя бы и изображённой в обобщённом образе идеальной женщины“[16].
На это указывает и собственноручно составленный Пушкиным список стихотворений 1816—1827 годов (он сохранился среди его бумаг), которые поэт не включил в издание 1826 года, но намеревался ввести в своё двухтомное собрание стихотворений (оно вышло в 1829 году). Стихотворение «Я помню чудное мгновенье… » здесь имеет заголовок «К А. П. К[ерн], прямо указывающий на того, кому оно посвящено[17].
Доктор филологических наук Н. Л. Степанов изложил сформировавшееся ещё в пушкинские времена и ставшее хрестоматийным толкование этого произведения: «Пушкин, как всегда, исключительно точен в своих стихах. Но, передавая фактическую сторону встреч с Керн, он создаёт произведение, раскрывающее и внутренний мир самого поэта. В тиши михайловского уединения встреча с А. П. Керн вызвала в ссыльном поэте и воспоминания о недавних бурях его жизни, и сожаление об утраченной свободе, и радость встречи, преобразившей его однообразные будни, и, прежде всего, радость поэтического творчества»[18].
Другой исследователь, Е. А. Маймин, особенно отметил музыкальность стихотворения: «Это как бы музыкальная композиция, заданная одновременно и реальными событиями в жизни Пушкина, и идеальным образом „гения чистой красоты“, заимствованным из поэзии Жуковского. Известная идеальность в решении темы не отменяет, однако, живой непосредственности в звучании стихотворения и в его восприятии. Это ощущение живой непосредственности идёт не столько от сюжета, сколько от увлекающей, единственной в своем роде музыки слов. В стихотворении много музыки: певучей, длящейся во времени, протяжной музыки стиха, музыки чувства. И как в музыке, в стихотворении выступает не прямой, не предметно ощутимый образ любимой – а образ самой любви. Стихотворение строится на музыкальных вариациях ограниченного круга образов–мотивов: чудное мгновенье – гений чистой красоты – божество – вдохновенье. Сами по себе эти образы не содержат ничего непосредственного, конкретного. Все это из мира отвлечённых и высоких понятий. Но в общем музыкальном оформлении стихотворения они становятся живыми понятиями, живыми образами»[19].
Профессор Б. П. Городецкий в своём академическом издании «Лирика Пушкина» писал: «Загадка данного стихотворения состоит в том, что всё известное нам о личности А. П. Керн и об отношении к ней Пушкина, несмотря на весь огромный пиетет женщины, оказавшейся в состоянии вызвать в душе поэта чувство, ставшее основой невыразимо прекрасного произведения искусства, ни в какой мере и ни в какой степени не приближает нас к постижению той тайны искусства, которая делает это стихотворение типическим для великого множества аналогичных ситуаций и способным облагораживать и овевать красотой чувства миллионов людей…
Внезапное и кратковременное появление «мимолетного виденья» в образе «гения чистой красоты», мелькнувшего среди мрака заточенья, когда дни поэта тянулись «без слёз, без жизни, без любви», могло воскресить в его душе «и божество, и вдохновенье, / И жизнь, и слёзы, и любовь» только в том случае, когда всё это было уже пережито им ранее. Taкогo рода переживания имели место в первый период ссылки Пушкина – они–то и создали тот его душевный опыт, без которого немыслимо было появление впоследствии и «Прощания», и таких потрясающих проникновений в глубины человеческого духа, как «Заклинание» и «Для берегов отчизны дальной». Они создали и тот душевный опыт, без которого не могло появиться и стихотворение «Я помню чудное мгновенье».
Не следует понимать всё это слишком упрощённо, в том смысле, что для создания стихотворения реальный образ А. П. Керн и отношения к ней Пушкина были мало существенны. Без них, разумеется, не было бы и стихотворения. Но стихотворения в том его виде, в каком оно существует, не было бы и в том случае, если бы встрече с А. П. Керн не предшествовало прошлое Пушкина и весь тяжёлый опыт его изгнания. Реальный образ А. П. Керн как бы вновь воскресил душу поэта, раскрыл перед ним красоту не только безвозвратно ушедшего прошлого, но и настоящего, о чём прямо и точно сказано в стихотворении:
Душе настало пробужденье.Именно поэтому проблему стихотворения «Я помню чудное мгновенье» следует решать, как бы повернув её другой стороной: не случайная встреча с А. П. Керн пробудила душу поэта и заставила минувшее оживиться в новой красе, а, наоборот, тот процесс оживления и восстановления душевных сил поэта, который начался несколько ранее, полностью обусловил и все основные характерные особенности и внутреннее содержание стихотворения, вызванного встречей с А. П. Керн»[20].
Литературовед А. И. Белецкий более 50 лет назад впервые робко высказал мысль, что главный герой этого стихотворения – вовсе не женщина, а поэтическое вдохновение. «Совершенно второстепенным, – писал он, – нам представляется вопрос об имени реальной женщины, которая вознесена затем на высоту поэтического создания, где реальные черты её исчезли, а сама она стала обобщением, ритмически упорядоченным словесным выражением некоей общей эстетической идеи… Любовная тематика в данном стихотворении явно подчинена другой, философско–психологической тематике, и основной его темой является тема о разных состояниях внутреннего мира поэта в соотношениях этого мира с действительностью»[21].
Дальше всех в отождествлении образа Мадонны и «гения чистой красоты» в данном стихотворении с личностью Анны Керн пошёл профессор М. В. Строганов: «Стихотворение „Я помню чудное мгновенье…“ было написано, очевидно, в одну ночь – с 18 на 19 июля 1825 года, после совместной прогулки Пушкина, Керн и Вульфов в Михайловском и накануне отъезда Керн в Ригу. Во время прогулки Пушкин, по воспоминаниям Керн, говорил о их „первой встрече у Олениных, выражался о ней восторженно и в конце разговора сказал: <…>. Вы выглядели такой невинной девочкой…“ Всё это входит в то воспоминание о „чудном мгновенье“, которому и посвящена первая строфа стихотворения: и сама первая встреча, и образ Керн – „невинной девочки“ (virginal). Ho это слово – virginal – означает по–французски и Богоматерь, Непорочную Деву. Так происходит невольное сравнение: „как гений чистой красоты“. А на другой день утром Пушкин принёс Керн стихотворение… Утро оказалось мудренее вечера. Что–то смутило Пушкина в Керн, когда он ей передавал свои стихи. Видимо, усомнился он: сможет ли она быть этим идеальным образцом? Явится ли она им? – И захотел отобрать стихи. Не удалось забрать, и Керн (именно потому, что она не была такой женщиной) напечатала их в альманахе Дельвига. Всю последующую „похабную“ переписку Пушкина с Керн можно, очевидно, рассматривать и как психологическую месть адресату стихотворения за свою излишнюю поспешность и возвышенность послания»[22].
Рассматривавший в 1980–х годах это стихотворение с религиозно–философской точки зрения литературовед С. А. Фомичёв увидел в нём отражение эпизодов не столько реальной биографии поэта, сколько биографии внутренней, «трёх последовательных состояний души»[23] . Именно с этого времени наметился ярко выраженный философский взгляд на это произведение. Доктор филологических наук В. П. Грех–нев, исходя из метафизических представлений пушкинской эпохи, трактовавшей человека как «малую вселенную», устроенную по закону всего мироздания: трёх–ипостасное, подобное Богу существо в единстве земной оболочки («тела»), «души» и «божественного духа», увидел в «чудном мгновении» Пушкина «всеобъемлющую концепцию бытия» и вообще «всего Пушкина»[24]. Тем не менее оба исследователя признавали «живую обусловленность лирического начала стихотворения реальным источником вдохновения» в лице А. П. Керн.
Профессор Ю. Н. Чумаков обратился не к содержанию стихотворения, а к его форме, конкретно – к пространственно–временному развитию сюжета. Он утверждал, что «смысл стихотворения неотделим от формы его выражения…» и что «форма» как таковая «сама… выступает как содержание…»[25]. По мнению Л. А. Перфильевой, автора последнего по времени комментария к этому стихотворению, Чумаков «разглядел в стихотворении вневременное и бесконечное космическое коловращение самостоятельной Пушкинской Вселенной, созданной вдохновением и творческой волей поэта»[26].
Ещё один исследователь поэтического наследия Пушкина С. Н. Бройтман выявил в этом стихотворении «линейную бесконечность смысловой перспективы»[27]. Та же Л. А. Перфильева, тщательно изучив его статью, констатировала: «Выделив „две системы смыслов, два сюжетно–образных ряда“, он допускает и их „вероятную множественность“; в качестве важного компонента сюжета исследователь предполагает „провиденциальность“{31}».
Теперь познакомимся с довольно оригинальной точкой зрения самой Л. А. Перфильевой, базирующейся также на метафизическом подходе к рассмотрению и этого, и многих других произведений Пушкина.
Абстрагировавшись от личности А. П. Керн как вдохновительницы поэта и адресата этого стихотворения и вообще от биографических реалий и исходя из того, что основные цитаты стихотворения Пушкина заимствованы из поэзии В. А. Жуковского, у которого образ «Лаллы–Рук» (впрочем, как и другие образы его романтических произведений) предстаёт в качестве неземной и нематериальной субстанции: «призрак», «видение», «грёза», «милый сон», исследовательница утверждает, что пушкинский «гений чистой красоты» является в своей метафизической реальности «посланника Небес» как таинственный посредник между авторским «я» поэта и некой потусторонней, высшей сущностью – «божеством». Она считает, что под авторским «я» в стихотворении подразумевается Душа поэта. А «мимолётное виденье» Душе поэта «гения чистой красоты» – это «момент Истины», божественное Откровение, мгновенной вспышкой озаряющее и пронизывающее Душу благодатью божественного Духа. В «томленьи грусти безнадежной» Перфильева видит мучительность пребывания души в телесной оболочке, во фразе «звучал мне долго голос нежный» – архетипическую, первичную память души о Небе. Следующие две строфы «рисуют Бытие как таковое, отмеченное утомительной для души продолжительностью». Между четвёртой и пятой строфами незримо явлены провиденциальность или «Божественный глагол», в результате которого «Душе настало пробужденье». Именно здесь, в промежутке этих строф, помещается «незримая точка, создающая внутреннюю симметрию циклически замкнутой композиции стихотворения. Одновременно она является точкой поворота–возврата, с которой „пространство–время“ малой пушкинской Вселенной вдруг поворачивает, начиная течь себе навстречу, возвращаясь от земной реальности к небесному идеалу. Пробужденная Душа вновь обретает способность восприятия божества. И это акт её второго рождения – возвращение к божественной первооснове – «Воскресение». <…> Это обретение Истины и возвращение в Рай…
Усиление звучания последней строфы стихотворения знаменует всю полноту Бытия, торжество восстановленной гармонии «малой вселенной» – тела, души и духа человека вообще или лично самого поэта–автора, то есть «всего Пушкина».
Подводя итог своему анализу пушкинского произведения, Перфильева предполагает, что его, «независимо от той роли, которую сыграла в его создании А. П. Керн, можно рассматривать в контексте философской лирики Пушкина, наряду с такими стихотворениями, как „Поэт“ (которое, по мнению автора статьи, посвящено природе вдохновения), „Пророк“ (посвящено провиденциальности поэтического творчества) и „Я памятник себе воздвиг нерукотворный…“ (посвящено нетленности духовного наследия). В их ряду „Я помню чудное мгновенье…“ действительно, как уже отмечалось – стихотворение о „всей полноте Бытия“ и о диалектике души человека; и о „человеке вообще“, как о Малой Вселенной, устроенной по законам мироздания».
Кажется, предвидя возможность появления такой чисто философской трактовки пушкинских строк, уже упоминавшийся Н. Л. Степанов писал: «В таком истолковании стихотворение Пушкина лишается своей жизненной конкретности, того чувственно–эмоционального начала, которое так обогащает пушкинские образы, придаёт им земной, реалистический характер. Ведь если отказаться от этих конкретно–биографических ассоциаций, от биографического подтекста стихотворения, то образы Пушкина потеряют своё жизненное наполнение, превратятся в условно–романтические символы, означающие лишь тему творческого вдохновения поэта. Пушкина мы тогда можем подменить Жуковским с его отвлечённым символом „гения чистой красоты“. Этим обед–нится реализм стихотворения поэта, оно лишится тех красок и оттенков, которые так важны для пушкинской лирики. Сила и пафос пушкинского творчества в слиянии, в единстве отвлечённого и реального».
Но даже пуская в ход сложнейшие литературно–философские построения, трудно оспорить утверждение Н. И. Черняева, сделанное спустя 75 лет после создания этого шедевра: «Своим посланием «К***" Пушкин обессмертил её (А. П. Керн. – В. С.) так же, как Петрарка обессмертил Лауру, а Данте – Беатриче. Пройдут века, и когда множество исторических событий и исторических деятелей будут забыты, личность и судьба Керн, как вдохновительницы пушкинской музы, будет возбуждать большой интерес, вызывать споры, предположения и воспроизводиться романистами, драматургами, живописцами»[28].
«Я К ВАМ ПИШУ…»
Но вернёмся от литературоведческих споров к нашей героине.
Романтически описанная Анной Петровной прогулка по Михайловскому парку состоялась 18 июля 1825 года; а уже на следующий день, в воскресенье, Прасковья Александровна, по выражению П. В. Анненкова – «во избежание катастрофы», а формально – с намерением лично способствовать примирению Анны Петровны с мужем, увезла племянницу, а вместе с нею и дочерей Анну и Евпраксию в Ригу. Вскоре вслед за ними уехал и Алексей Вульф. Перед его отъездом Пушкин проговорил с ним около четырёх часов. Что они обсуждали, доподлинно неизвестно; вероятно, разрабатывали план побега поэта за границу, в осуществлении которого Алексею отводилась одна из главных ролей. Но, безусловно, много говорили и об Анне Керн.
Анна Петровна уезжала (вернее, её увозили) в тот момент, когда Пушкин уже пылал страстью, которая вот–вот должна была охватить и её. Но на пути этого пламени встала Прасковья Александровна…
Некоторые исследователи прямо называют главным мотивом поспешного увоза Анны Керн ревность (или зависть к успеху?) Прасковьи Александровны к молодой и обольстительной племяннице. Возможно, отчасти так и было; и Анна Петровна долго не могла простить ей этого. Но главная причина состояла в том, что мудрая Прасковья Александровна первой почувствовала опасность надвигающейся беды и мгновенно бросилась спасать близких людей, и без того не обласканных судьбой, от новых жизненных осложнений. Не увези тогда Прасковья Александровна племянницу в Ригу – и разыгралась бы драма, ведь в Пушкина были влюблены все без исключения обитательницы Тригорского.
Почему же Анна Петровна так безропотно дала тётушке увезти себя от Пушкина? Может быть, потому, что была в полном смятении чувств, не успела разобраться в себе. В её отношениях с Пушкиным всё было так неопределённо… Да, он посвятил ей дивные стихи, в которых были и восторг, и упоение, и любовь. Но ведь он адресовал поэтические признания в любви и другим обитательницам Тригорского, и эти стихи его ни к чему не обязывали. К тому же её лучшая подруга, Аннет Вульф, именно тогда открыла ей тайну своей любви к Пушкину. Не ускользнула от глаз Анны и влюблённость в поэта Евпраксии Вульф – пусть пока ещё детская, но стремительно набиравшая высоту. А к тому же она была в гостях, хотя и у своих родственников и друзей, и разрушать с трудом сложившуюся хрупкую тригорско–михай–ловскую идиллию ей не позволяли заложенные с детства нравственные принципы.
Пушкин был обескуражен – охваченный любовью, налетевшей на него, как горячий вихрь, и лишившийся предмета обожания, он испытывал отчаяние. Уже через день после отъезда Анны Петровны и тригорских барышень он начинает переписку с ними. Эти замечательные по красоте и силе чувства, озорные и остроумные, интригующе–интимные и страстные письма поэта, выдающиеся шедевры эпистолярного искусства, адресованные в основном Анне Петровне, несмотря на то, что они многократно воспроизводились в печати, мы процитируем полностью, так как они содержат много нюансов, которые нельзя упустить, чтобы суметь разобраться во взаимоотношениях этих людей. Картина была бы яснее, если бы существовала возможность привести ответные письма А. П. Керн; однако они не сохранились, и остаётся только обращаться к её воспоминаниям.
Первое письмо, написанное 21 июля 1825 года, как и все остальные, по–французски, поэт адресует Анне Николаевне Вульф. В нём после шуточных вопросов: «Итак, вы уже в Риге? Одерживаете ли победы? Скоро ли выйдете замуж?.. » и нескольких советов в том же духе вдруг следует признание Анне Петровне:
«Всё Тригорское поёт «Не мила ей прелесть ночи», и у меня от этого сердце ноет, вчера мы с Алексеем проговорили 4 часа подряд. Никогда ещё не было у нас такого продолжительного разговора. Угадайте, что нас вдруг так сблизило. Скука? Сродство чувства? Не знаю. Каждую ночь гуляю я по саду и повторяю себе: она была здесь – камень, о который она споткнулась, лежит у меня на столе, подле ветки увядшего гелиотропа, я пишу много стихов – всё это, если хотите, очень похоже на любовь, но клянусь вам, что это совсем не то. Будь я влюблён, в воскресенье со мною сделались бы судороги от бешенства и ревности, между тем мне было только досадно, – и всё же мысль, что я для неё ничего не значу, что, пробудив и заняв её воображение, я только тешил её любопытство, что воспоминание обо мне ни на минуту не сделает её ни более задумчивой среди её побед, ни более грустной в дни печали, что её прекрасные глаза остановятся на каком–нибудь рижском франте с тем же пронизывающим сердце и сладострастным выражением, – нет, эта мысль для меня невыносима; скажите ей, что я умру от этого, – нет, лучше не говорите, она только посмеётся надо мной, это очаровательное создание. Но скажите ей, что если в сердце её нет скрытой нежности ко мне, таинственного и меланхолического влечения, то я презираю её, – слышите? – да, презираю, несмотря на всё удивление, которое должно вызвать в ней столь непривычное для неё чувство».
А через четыре дня Пушкин пишет уже самой Керн:
«Я имел слабость попросить у вас разрешения вам писать, а вы – легкомыслие или кокетство позволить мне это. Переписка ни к чему не ведёт, я знаю; но у меня нет сил противиться желанию получить хоть словечко, написанное вашей хорошенькой ручкой.
Ваш приезд в Тригорское оставил во мне впечатление более глубокое и мучительное, чем то, которое некогда произвела на меня наша встреча у Олениных. Лучшее, что я могу сделать в моей печальной деревенской глуши, – это стараться не думать больше о вас. Если бы в душе вашей была хоть капля жалости ко мне, вы тоже должны были бы пожелать мне этого, – но ветреность всегда жестока, и все вы, кружа головы направо и налево, радуетесь, видя, что есть душа, страждущая в вашу честь и славу.
Прощайте, божественная; я бешусь и я у ваших ног. Тысячу нежностей Ермолаю Фёдоровичу и поклон г–ну Вульфу.
25 июля.
Снова берусь за перо, ибо умираю с тоски и могу думать только о вас. Надеюсь, что вы прочтёте это письмо тайком – спрячете ли вы его у себя на груди? Ответите ли мне
длинным посланием? Пишите мне обо всём, что придёт вам в голову, – заклинаю вас. Если вы опасаетесь моей нескромности, если не хотите компрометировать себя, измените почерк, подпишитесь вымышленным именем – сердце моё сумеет вас угадать. Если выражения ваши будут столь же нежны, как ваши взгляды, увы! – я постараюсь поверить им или же обмануть себя, что одно и то же. – Знаете ли вы, что, перечтя эти строки, я стыжусь их сентиментального тона – что скажет Анна Николаевна? Ах вы чудотворка или чудотворица!
Знаете что? Пишите мне и так и этак – это очень мило».
А. П. Керн в воспоминаниях пишет: «Получа это письмо, я тотчас ему отвечала и с нетерпением ждала от него второго письма; но он это второе письмо вложил в пакет тётушкин, а она не только не отдала его мне, но даже не показала. Те, которые его читали, говорили, что оно было прелесть как мило». Она цитирует также отрывок из не дошедшего до нас письма Пушкина к Прасковье Александровне, написанного в конце июля – августе 1825 года: «Хотите ли вы знать, что за женщина г–жа Керн? У неё гибкий ум, она понимает всё; огорчается легко и так же легко утешается, робка в приёмах обращения и смела – в поступках; но она чрезвычайно привлекательна».
А вот другое, не менее «милое» письмо, написанное поэтом 13 или 14 августа и обращенное к Анне Петровне:
«Перечитываю ваше письмо вдоль и поперёк и говорю: милая! прелесть! божественная!.. а потом: ах, мерзкая! – Простите, прекрасная и нежная, но это так. Нет никакого сомнения в том, что вы божественны, но иногда вам не хватает здравого смысла; ещё раз простите и утешьтесь, потому что от этого вы ещё прелестнее. Например, что вы хотите сказать, говоря о печатке, которая должна для вас подходить и вам нравиться (счастливая печатка!) и значение которой вы просите меня разъяснить? Если тут нет какого–нибудь скрытого смысла, то я не понимаю, чего вы желаете? Или вы хотите, чтобы я придумал для вас девиз? Это было бы совсем в духе Нетти. Полно, сохраните ваш прежний девиз («Не скоро, а здорово»), лишь бы это не было девизом вашего приезда в Тригорское, – а теперь поговорим о другом. Вы уверяете, что я не знаю вашего характера. А какое мне до него дело? Очень он мне нужен – разве у хорошеньких женщин должен быть характер? Главное – это глаза, зубы, ручки и ножки (я прибавил бы ещё – сердце, но ваша кузина очень затаскала это слово). Вы говорите, что вас легко узнать; вы хотели сказать – полюбить вас? Вполне с вами согласен и даже сам служу тому доказательством: я вёл себя с вами, как четырнадцатилетний мальчик. Это возмутительно, но с тех пор, как я вас больше не вижу, я постепенно возвращаю себе утраченное превосходство и пользуюсь этим, чтобы побранить вас. Если мы когда–нибудь увидимся, обещайте мне… Нет, не хочу ваших обещаний: к тому же письмо – нечто столь холодное, в просьбе, передаваемой по почте, нет ни силы, ни взволнованности, а в отказе – ни изящества, ни сладострастия. Итак, до свидания – и поговорим о другом. Как поживает подагра вашего супруга? Надеюсь, у него был основательный припадок через день после вашего приезда. (Поделом ему!) Если бы вы знали, какое отвращение, смешанное с почтительностью, испытываю я к этому человеку! Божественная, ради бога, постарайтесь, чтобы он играл в карты и чтобы у него сделался приступ, подагры, подагры! Это моя единственная надежда!
Перечитывая снова ваше письмо, я нахожу в нём ужасное если, которого я сначала не приметил: если моя кузина останется, то осенью я приеду ит. д.
Ради бога, пусть она останется! Постарайтесь развлечь её, ведь ничего нет легче; прикажите какому–нибудь офицеру вашего гарнизона влюбиться в неё, а когда настанет время ехать, досадите ей, отбив у неё воздыхателя; опять–таки, ничего нет легче. Только не показывайте ей этого; а то из упрямства она способна сделать как раз противоположное тому, что надо. Что делаете вы с вашим кузеном? Напишите мне об этом. Только вполне откровенно. Отошлите–ка его поскорее в его университет; не знаю почему, но я недолюбливаю этих студентов так же, как и г–н Керн. – Достойнейший человек этот г–н Керн, почтенный, разумный и т. д.; один только у него недостаток – то, что он ваш муж. Как можно быть вашим мужем? Этого я так же не могу себе представить, как не могу вообразить рая.
Всё это было написано вчера. Сегодня почтовый день, и, не знаю почему, я вбил себе в голову, что получу от вас письмо. Этого не случилось, и я в самом собачьем настроении, хоть и совсем не справедливо: я должен быть благодарным за прошлый раз, знаю; но что поделаешь? Умоляю вас, божественная, снизойдите к моей слабости, пишите мне, любите меня, и тогда я постараюсь быть любезным. Прощайте… »
21 августа Пушкин снова пишет Анне Петровне: «Вы способны привести меня в отчаяние; я только что собрался написать вам несколько глупостей, которые насмешили бы вас до смерти, как вдруг пришло ваше письмо, опечалившее меня в самом разгаре моего вдохновения. Постарайтесь отделаться от этих спазм, которые делают вас очень интересной, но ни к чёрту не годятся, уверяю вас. Зачем вы принуждаете меня бранить вас? Если у вас рука была на перевязи, не следовало мне писать. Экая сумасбродка!
Скажите, однако, что он сделал вам, этот бедный муж? Уж не ревнует ли он часом? Что ж, клянусь вам, он не был бы неправ; вы не умеете или (что ещё хуже) не хотите щадить людей. Хорошенькая женщина, конечно, вольна… быть вольной (в другом переводе – вправе… иметь любовников. – В. С). Боже мой, я не собираюсь читать вам нравоучения, но всё же следует уважать мужа, – иначе никто не захочет состоять в мужьях. Не принижайте слишком это ремесло, оно необходимо на свете. Право, я говорю с вами совершенно чистосердечно. За 400 вёрст вы ухитрились возбудить во мне ревность; что же должно быть в 4 шагах? (NB: Я очень хотел бы знать, почему ваш двоюродный братец уехал из Риги только 15 числа сего месяца, и почему имя его в письме ко мне трижды сорвалось у вас с пера? Можно узнать это, если это не слишком нескромно?) Простите, божественная, что я откровенно высказываю вам то, что думаю; это – доказательство истинного моего к вам участия; я люблю вас гораздо больше, чем вам кажется. Постарайтесь хоть сколько–нибудь наладить отношения с этим проклятым г–ном Керном. Я отлично понимаю, что он не какой–нибудь гений, но в конце концов он и не совсем дурак. Побольше мягкости, кокетства (и главное, бога ради, отказов, отказов и отказов) – и он будет у ваших ног, – место, которому я от всей души завидую, но что поделаешь? Я в отчаянии от отъезда Аннеты; как бы то ни было, но вы непременно должны приехать осенью сюда или хотя бы в Псков. Предлогом можно будет выставить болезнь Аннеты. Что вы об этом думаете? Отвечайте мне, умоляю вас, и ни слова об этом Алексею Вульфу. Вы приедете? – не правда ли? – а до тех пор не решайте ничего касательно вашего мужа. Вы молоды, вся жизнь перед вами, а он… Наконец, будьте уверены, что я не из тех, кто никогда не посоветует решительных мер – иногда это неизбежно, но раньше надо хорошенько подумать и не создавать скандала без надобности.
Прощайте, сейчас ночь, и ваш образ встаёт передо мной, такой печальный и сладострастный; мне чудится, что я вижу ваш взгляд, ваши полуоткрытые уста.
Прощайте – мне чудится, что я у ваших ног, сжимаю их, ощущаю ваши колени, – я отдал бы всю свою жизнь за миг действительности. Прощайте, и верьте моему бреду; он смешон, но искренен».
Одно из писем Пушкина к Анне Петровне было вскрыто и прочитано П. А. Осиповой, после чего она разорвала отношения с племянницей и вернулась в Тригорское. Об этом стало известно поэту. 28 августа, делая вид, что не знает об отъезде Прасковьи Александровны из Риги, Пушкин пишет Анне Петровне:
«Прилагаю письмо для вашей тётушки; вы можете его оставить у себя, если случится, что они уже уехали из Риги. Скажите, можно ли быть столь ветреной? Каким образом письмо, адресованное вам, попало не в ваши, а в другие руки? Но что сделано, то сделано – поговорим о том, что нам следует делать.
Если ваш супруг очень вам надоел, бросьте его, но знаете как? Вы оставляете там всё семейство, берёте почтовых лошадей на Остров и приезжаете… куда? В Тригорское? Вовсе нет; в Михайловское! Вот великолепный проект, который уже с четверть часа дразнит моё воображение. Вы представляете себе, как я был бы счастлив? Вы скажете: «А огласка, а скандал?» Чёрт возьми! Когда бросают мужа, это уже полный скандал, дальнейшее ничего не значит или значит очень мало. Согласитесь, что проект мой романтичен! Сходство характеров, ненависть к преградам, сильно развитый орган полёта и пр. и пр. – Представляете себе удивление вашей тётушки? Последует разрыв. Вы будете видаться с вашей кузиной тайком, это хороший способ сделать дружбу менее пресной – а когда Керн умрёт – вы будете свободны как воздух… Ну что вы на это скажете? Не говорил ли я вам, что способен дать вам совет смелый и внушительный!»
Шутливо нарисовав перспективу оставления Анной Петровной мужа и его последствия, Пушкин переходит к обсуждению возможностей общения с нашей героиней, одновременно пытаясь заставить её ревновать:
«Поговорим серьёзно, т. е. хладнокровно: увижу ли я вас снова? Мысль, что нет, приводит меня в трепет. – Вы скажете мне: утешьтесь. Отлично, но как? Влюбиться? Невозможно. Прежде всего надо забыть про ваши спазмы. – Покинуть родину? Удавиться? Жениться? Всё это очень хлопотливо и не привлекает меня. – Да, кстати, каким же образом буду я получать от вас письма? Ваша тётушка противится нашей переписке, столь целомудренной, столь невинной (да и как же иначе… на расстоянии 400 вёрст). Наши письма наверное будут перехватывать, прочитывать, обсуждать и потом торжественно предавать сожжению. Постарайтесь изменить ваш почерк, а об остальном я позабочусь. – Но только пишите мне, да побольше, и вдоль и поперёк, и по диагонали (геометрический термин). Вот что такое диагональ. А главное, не лишайте меня надежды снова увидеть вас. Иначе я, право, постараюсь влюбиться в другую. Чуть не забыл: я только что написал Нетти (Анне Николаевне Вульф. – В. С.) письмо очень нежное, очень раболепное. Я без ума от Нетти. Она наивна, а вы нет. Отчего вы не наивны? Не правда ли, по почте я гораздо любезнее, чем при личном свидании; так вот, если вы приедете, я обещаю вам быть любезным до чрезвычайности – в понедельник я буду весел, во вторник восторжен, в среду нежен, в четверг игрив, в пятницу, субботу и воскресенье буду чем вам угодно, и всю неделю – у ваших ног. Прощайте. 28 августа.
Не распечатывайте прилагаемого письма, это нехорошо. Ваша тётушка рассердится.
Но полюбуйтесь, как с Божьей помощью всё перемешалось: г–жа Осипова распечатывает письма к вам, вы распечатываете письмо к ней, я распечатываю письмо Нетти – и все мы находим в них нечто для себя назидательное – поистине это восхитительно!»
Таким образом, Пушкин начинает игру. Его письмо, датированное тем днём и адресованное Прасковье Александровне Осиповой, фактически предназначено для прочтения Анной Петровной:
«Да, сударыня, пусть будет стыдно тому, кто дурно об этом подумает. Ах, эти люди, считающие, что переписка может к чему–то привести. Уж не по собственному ли опыту они это знают? Но я прощаю им, простите и вы тоже – и будем продолжать.
Ваше последнее письмо (писанное в полночь) прелестно, я смеялся от всего сердца; но вы слишком строги к вашей милой племяннице; правда, она ветрена, но – терпение: ещё лет двадцать – и ручаюсь вам, она исправится. Что же до её кокетства, то вы совершенно правы, оно способно привести в отчаяние. Неужели она не может довольствоваться тем, что нравится своему повелителю г–ну Керну, раз уж ей выпало такое счастье? Нет, нужно ещё кружить голову вашему сыну, своему кузену! Приехав в Тригорское, она вздумала пленить г–на Рокотова и меня; это ещё не всё: приехав в Ригу, она встречает в её проклятой крепости некоего проклятого узника и становится кокетливым провидением этого окаянного каторжника! (Не об этом ли эпизоде упоминал А. В. Марков–Виноградский? – В. С.) Но и это ещё не всё: вы сообщаете мне, что в деле замешаны ещё и мундиры! Нет, это уж слишком: об этом узнает г–н Рокотов, и посмотрим, что он на это скажет. Но, сударыня, думаете ли вы всерьёз, что она кокетничает равнодушно? Она уверяет, что нет, я хотел бы верить этому, но ещё больше успокаивает меня то, что не все ухаживают на один лад, и лишь бы другие были почтительны, робки и сдержанны, – мне ничего больше не надо. Благодарю вас, сударыня, за то, что вы не передали моего письма: оно было слишком нежно, а при нынешних обстоятельствах это было бы смешно с моей стороны. Я напишу ей другое, со свойственной мне дерзостью, и решительно порву с ней всякие отношения; пусть не говорят, что я старался внести смуту в семью, что Ермолай Фёдорович может обвинять меня в отсутствии нравственных правил, а жена его – издеваться надо мной. – Как это мило, что вы нашли портрет схожим: «смела в» и т. д. Не правда ли? Она отрицает и это; но конечно, я больше не верю ей.
Прощайте, сударыня. С великим нетерпением жду вашего приезда… мы позлословим на счёт Северной Нетти, относительно которой я всегда буду сожалеть, что увидел её, и ещё более, что не обладал ею. Простите это чересчур откровенное признание тому, кто любит вас очень нежно, хотя и совсем иначе.
Михайловское».
Однако вскоре Пушкин, вероятно, испугался, что А. П. Керн всё же пошлёт это письмо своей тётушке и тем самым может поссорить его с хозяйкой Тригорского (она конечно же не отправила его. – В. С.), и в послании от 22 сентября 1825 года из Михайловского в Ригу к Анне Петровне поэт обращается с просьбой:
«Ради бога не отсылайте г–же Осиповой того письма, которое вы нашли в вашем пакете. Разве вы не видите, что оно было написано только для вашего собственного назидания?»
Пушкин перемежает упрёки в кокетстве советами, как вести себя с поклонниками, и предлагает возможные места встречи с Анной Петровной: «Кстати, вы клянётесь мне всеми святыми, что ни с кем не кокетничаете, а между тем вы на „ты“ со своим кузеном, вы говорите ему: я презираю твою мать. Это ужасно; следовало сказать: вашу мать, а ещё лучше – ничего не говорить, потому что фраза эта произвела дьявольский эффект. Ревность в сторону, – я советую вам прекратить эту переписку, советую как друг, поистине вам преданный без громких слов и кривляний. Не понимаю, ради чего вы кокетничаете с юным студентом (притом же не поэтом) на таком почтительном расстоянии. Когда он был подле вас, вы знаете, что я находил это совершенно естественным, ибо надо быть рассудительным. Решено, не правда ли? Бросьте переписку, – ручаюсь вам, что он от этого будет не менее влюблён в вас. Всерьёз ли говорите вы, уверяя, будто одобряете мой проект? У Анеты от этого мороз пробежал по коже, а у меня голова закружилась от радости. Но я не верю в счастье, и это вполне простительно. Захотите ли вы, ангел любви, заставить уверовать мою неверующую и увядшую душу? Но приезжайте, по крайней мере, в Псков; это вам легко устроить. При одной мысли об этом сердце у меня бьётся, в глазах темнеет и истома овладевает мною. Ужели и это тщетная надежда, как столько других?.. Перейдём к делу: прежде всего нужен предлог: болезнь Анеты – что вы об этом скажете? Или не съездить ли вам в Петербург? Вы дадите мне знать об этом, не правда ли? – не обманите меня, мой ангел. Пусть вам буду обязан я тем, что познал счастье, прежде чем расстался с жизнью! – не говорите мне о восхищении: это не то чувство, какое мне нужно. Говорите мне о любви: вот чего я жажду. А самое главное, не говорите мне о стихах… Ваш совет написать его величеству тронул меня, как доказательство того, что вы обо мне думали – на коленях благодарю тебя за него, но не могу ему последовать. Пусть судьба решит мою участь; я не хочу в это вмешиваться… (Пушкин, вероятно, всё же воспользовался советом Анны Петровны – попытался писать к Александру I, но прошение так и осталось в черновике, недопи–санным; вскоре, 19 ноября, император умер. – В. С.) Надежда увидеть вас ещё юною и прекрасною – единственное, что мне дорого. Ещё раз, не обманите меня. 22 сент. Михайловское.
Завтра день рождения вашей тётушки (Прасковье Александровне в этот день исполнялось 44 года. – В. С.); стало быть, я буду в Тригорском; ваша мысль выдать Анету замуж, чтобы иметь пристанище, восхитительна, но я не сообщил ей об этом. Ответьте, умоляю вас, на самое главное в моём письме, и я поверю, что стоит ещё жить на свете».
Пушкина настолько увлёк роман с Анной Керн, что на второй план отодвинулась даже поэзия. Казалось бы, должно происходить наоборот, ведь «душе настало пробужденье»,– но стихи не рождались…
И, тем не менее, к 1825 году относится весьма интересное стихотворение поэта – восьмистишие «Всё в жертву памяти твоей»{32}:
Всё в жертву памяти твоей: И голос лиры вдохновенной, И слёзы девы воспаленной, И трепет ревности моей, И славы блеск, и мрак изгнанья, И светлых мыслей красота, И мщенье, бурная мечта Ожесточённого страданья.Исследователи традиционно считают это произведение адресованным Елизавете Ксаверьевне Воронцовой.
«Сторонники такой версии, – пишет С. М. Громбах в статье, чьё заглавие повторяет название стихотворения, – не утруждают себя аргументацией, довольствуясь распространённым представлением о любви Пушкина к Воронцовой. Но нельзя не отметить, что… почти все строки стихотворения „Всё в жертву памяти твоей“ решительно противоречат общепринятой версии. Действительно, как согласовать „принесение в жертву“, т. е. отказ от блеска славы, со всем тем, что известно о мыслях Пушкина при воспоминаниях о Воронцовой? Он совершенно не пренебрегал славой, более того – жаждал её: достаточно вспомнить хотя бы знаменитое „Желание славы“. Пушкин не забывал и „мрака изгнанья“, а напротив, очень тяготился им. При воспоминании о Воронцовой не исчезал и „трепет ревности“ – об этом говорит страстное „Но если…“, которым обрывается стихотворение „Ненастный день потух…“. Рассеять для Пушкина мрак изгнания, заглушить ревность могли, по–видимому, лишь воспоминания о другой женщине, скрасившей это изгнание, заставившей забыть далёкую возлюбленную, отодвинувшей мечты о мести. Этой „другой“ была Анна Петровна Керн. Именно к ней и обращено стихотворение „Всё в жертву памяти твоей“.
Нельзя не отметить, что насколько все строки стихотворения «Всё в жертву памяти твоей» упорно сопротивляются отнесению его к Воронцовой, настолько легко и естественно они выстраиваются при соотнесении его с Керн. Все перечисленные в нём «жертвы» вполне могли стать незначительными, забытыми при воспоминании («памяти») об уехавшей недавно из Тригорского Анне Петровне. «Голос лиры вдохновенной» действительно замолк – в ближайшее после отъезда Керн время не создано (во всяком случае, не дошло до нас) ни одного лирического стихотворения. Исчез «трепет ревности». В словах о ревности склонны иногда видеть намёк на ревность к А. Н. Вульфу. Но при том, что Пушкин действительно ревновал Анну Петровну к её кузену, в стихотворении речь идет не об этом. Забыть («принести в жертву») «трепет ревности» заставили воспоминания не о женщине, которую ревновал поэт, а о той, увлечение которой затмило старую любовь и старую ревность»[29].
Анализируя далее в таком же духе все фразы этого стихотворения, Громбах высказывает твёрдое убеждение в том, что оно адресовано именно Анне Петровне. Что касается даты его создания, то в любом месяце из трёх (июль, август или сентябрь), находящихся в промежутке между приездами А. П. Керн в Тригорское, в двадцатых числах у Пушкина был повод для его написания.
Жизнь Анны Петровны в Риге поначалу складывалась вполне удачно. Она помирилась с мужем и стала с ним совместно проживать. Двухэтажный каменный дом коменданта рижской крепости находился в цитадели. Рядом с ним были строения, где жили офицеры, располагалась гауптвахта, и находилась православная церковь Петра и Павла{33}, которую посещали супруги Керны.
Но пушкинские письма сделали своё дело – поэт буквально покорил ими Анну Петровну. Был забыт даже Алексей Вульф, довольно часто на правах кузена навещавший её и настойчиво ухаживавший. Он писал нашей героине 1 октября 1825 года из Дерпта: «Вот уже целая вечность, что Вы мне не пишете! Что Вы меня забыли, дорогой друг?.. Вы более спокойны – это ли причина Вашего молчания? Не знаю, что я пишу Вам; нет, неправда, я не забыт, – скажите да! Ведь Вы так добры, – наверно есть какая–то другая причина для Вашего молчания!.. Вместо Вашего я получил письмо от моей матери; она говорит о Вас; например, она пишет: „один Загрядский и один Дадианов“ заменяют на минуту опасного кузена… Кто этот последний? Вы мне скажете это, – не правда ли?.. Не покидайте меня! Я ничего не прошу! Только это забвение, – оно ужасно!»
Примерно в то же время, когда было написано это письмо, Анна Петровна совершила довольно решительный поступок – вновь приехала в Тригорское, на этот раз вместе с мужем – якобы для примирения с тётушкой Прасковьей Александровной.
В 1859 году А. П. Керн описала ситуацию автору первой научной биографии Пушкина П. В. Анненкову: «Вы видели из писем Пушкина, что она (П. А. Осипова. – В. С.) сердилась на меня за выражение в письме к Алексею Вульфу: «Je meprise ta mere» (Я презираю твою мать). Ещё бы!.. Было и за что…
Керн предложил мне поехать. Я не желала, потому что, во–первых, Пушкин из угождения к ней перестал писать, а она сердилась. Я сказала мужу, что мне неловко поехать к тётушке, когда она сердится. Он, ни в чём никогда не сомневающийся, как следует храброму генералу, объявил, что берёт на себя нас примирить. Я согласилась. Он устроил романическую сцену в саду (над которой мы после с Анной Николаевной очень смеялись). Он пошёл вперёд, оставив меня в экипаже. Я через лес и сад пошла после и – упала в объятия этой милой, смешной, всегда оригинальной маленькой женщины, вышедшей ко мне навстречу в толпе всего семейства. Когда она меня облобызала, тогда все бросились ко мне, Анна Николаевна первая. Пушкина тут не было. Но я его несколько раз видела. Он очень не поладил с мужем, а со мною опять был по–прежнему и даже больше нежен, хотя урывками, боясь всех глаз, на него и меня обращенных».
Однако Пушкин в письме к Алексею Вульфу в Дерпт от 10 октября 1825 года изобразил сложившиеся у него с Е. Ф. Керном отношения иначе: «Что скажу вам нового? Вы, конечно уже знаете всё, что касается до приезда А. П. Муж её очень милый человек, мы познакомились и подружились». Относительно дружбы с мужем Анны Петровны поэт конечно же слукавил.
Среди биографов поэта сложилось мнение, что Ермолай Фёдорович, Прасковья Александровна и Анна Вульф неустанно ревниво следили за Пушкиным и Анной Петровной. Александр Сергеевич якобы был крайне раздосадован невозможностью даже на короткое время остаться наедине с женщиной, в которую был страстно влюблён. В какой–то момент он, вероятно, не смог скрыть раздражения по поводу такой тотальной слежки и сказал что–то неприличное в адрес Ермолая Фёдоровича. Произошёл конфликт, среди свидетелей которого была и Анна Петровна; в результате в глазах поэта ореол очарования женщины, недавно являвшейся предметом его страстного увлечения, на фоне несносного, неумного и смешного мужа неожиданно потускнел.
Однако можно предположить, что тогда Пушкин уже добился от Анны Петровны желаемого (вспомним её слова из письма к Анненкову: «со мною опять был по–прежнему и даже более нежен»; а ведь она, не желая в воспоминаниях и письмах прямо рассказывать об интимном, тем не менее часто делала намёки). Вероятно, муж почувствовал неладное – и его отношения с поэтом испортились. Если близость имела место, то это объясняет многие дальнейшие действия Анны Петровны, непонятные в другой ситуации: её прямо–таки маниакальное стремление сблизиться с семьёй Александра Сергеевича и вскружить голову брату Пушкина Льву, перезнакомиться со всеми его друзьями (в первую очередь с ближайшим другом ещё с лицейских времён Антоном Дельвигом) и войти в их круг; даже то, что по прошествии многих лет при написании «Воспоминаний о Пушкине» она не упомянула об этом своём приезде в Тригор–ское и новой встрече с поэтом – и это после такой страстной переписки?!
Супруги Керн пробыли в Тригорском всего несколько дней и вернулись в Ригу.
В библиотеке Пушкина хранятся два небольших томика в старинных переплетах – роман в письмах Юлианы Крю–денер «Валери» (Juliane von Krudener. Valerie, 1803). На страницах романа заметны многочисленные подчеркивания, от–меты ногтями, на полях – карандашные маргиналии, сделанные по–французски.
Действие романа развертывается в Италии конца XVIII века. Юный Густав де Линар полюбил супругу графа Б., друга его покойного отца, шестнадцатилетнюю Валери. Поначалу Густав сам не догадывается о своей любви; но когда истина открывается ему, герой осуждает себя, пытается бороться с чувством, решает расстаться с любимой женщиной навсегда. Он ищет забвения на лоне природы, в монастыре, в путешествиях, но не в силах забыть Валери, заболевает и умирает.
Пушкин в примечаниях к «Евгению Онегину» назвал повесть баронессы Крюденер «прелестной» и включил её в круг чтения Татьяны.
Литературовед Я. И. Ясинский пришёл к заключению, что пометы в книге сделаны рукою Пушкина. М. А. Цявловский в 1925 году утверждал: подчёркивания, отчёркивания и записи на полях связаны с увлечением Пушкина Анной Петровной. Несколько позднее Б. В. Томашевский обратил внимание на смысловое единство подчёркнутых фраз и выдвинул гипотезу о том, что в совокупности их «правомерно рассматривать как своеобразную переписку Пушкина – быть может, с А. П. Керн».
Л. И. Вольперт назвала их «зашифрованным письмом»: «В романе подчёркнутые фразы составляют в совокупности довольно обширный текст. Трудно ожидать, чтобы выхваченные из текста романа фразы соединялись между собой в органическом единстве, между ними чаще всего остаётся некое „разреженное пространство“. Всё же в письме можно найти некую организованность. Её создают удачно отобранные начало и концовка, определяющие известную композиционную законченность „письма“»[30].
Развивая эту тему, исследовательница попыталась объяснить выделенные фразы и увязать их с конкретными событиями, имевшими место во взаимоотношениях поэта и его музы, в особенности во время посещения Анной Петровной Тригорского.
Известно, что обитательницы Тригорского были тонкими ценительницами поэзии и знатоками как европейской, так и русской литературы. В их кругу были в почёте всевозможные литературные игры. Вероятно, Анна Керн во время пребывания в Тригорском была активной участницей этих игр. Будучи любительницей развлечений, связанных с литературой, она ценила импровизации, экспромты, с увлечением играла в шарады. Пушкина, в совершенстве владевшего искусством остроумного намёка, лукавого подтекста, интригующей недоговорённости, «домашней семантикой», также можно легко представить участником эпистолярной игры. Шутливая приписка к чужому посланию, «обманное письмо», сообщение, отправленное от чужого имени, – все эти забавы в «царстве переписки» были его стихией. Использование «чужого слова» для составления «зашифрованного» любовного письма – ещё один вид той же игры. Эпистолярная форма романа Крюденер – любовные излияния Густава де Линара – могла подсказать идею сложить из строк романа лирическое письмо.
Любовное послание, составленное из подчёркнутых строк в тексте французского романа, отлично вписывается в атмосферу развлечений Тригорского. Оно начинается со строки, подчёркнутой в тексте романа ногтем: «Увы, буду ли я когда–нибудь любим!» Далее следуют строки об упоительном пении Валери во время прогулки в гондоле по Бренте. Вспомним рассказ Анны Петровны о восхищении Пушкина её исполнением романса «Венецианская ночь», в котором также идёт речь о Бренте. Особо выделены (и подчёркиванием, и отчёркиванием на полях) строки, повествующие о волнении Густава, вызванном внезапно донёсшимися звуками песни, которую любила напевать Валери: «Я замер, моё сердце и чувства были охвачены экстазом, знакомым лишь душам, в которых обитала любовь». А следующие отмеченные строки: «Почему она поёт так страстно, если сердце её не знает любви? Откуда она берёт эти звуки? Им учит страсть, а не одна лишь природа» – могли звучать для «адресата» по–особому, наполняться тайным, лишь ему понятным смыслом.
Оказались помеченными и фразы, описывающие внешность героини: её «хрупкость», «изящество», «девственный облик», а также «сочетание ветрености и серьёзности» и «прелесть выразительных глаз». Вероятно, эпизоды гадания на ромашке, танца с шалью, исполнительница которого будто сошла с картины Корреджо, подчёркнуты поэтом так же не случайно, как и апельсиновая корочка, которой касались губы Валери.
В составленном из фраз романа «письме» заметна перекличка с посланиями Пушкина, отправленными им Анне Керн в Ригу в июле—августе 1825 года. И в нём, и в почтовой переписке особо выделено получение первого письма от любимой. «Автор» выделяет дважды – и карандашом, и от–метой ногтя (что всегда является знаком особой важности) – восторженную реакцию Густава на неожиданное получение им письма от Валери. И в переписке, и в «письме» напряжённо звучит тема ревности. Густав мучительно и остро ревнует Валери к мужу: «И однако она прикасалась к его груди, он вдыхал её дыхание, её сердце билось рядом с его сердцем, а он оставался холодным, холодным как камень. Эта мысль приводила меня в неизъяснимую ярость». Тот же мотив в отношении мужа Анны Керн слышится в письмах Пушкина: «Если бы вы знали, какое отвращение, смешанное с почтительностью, испытываю я к этому человеку».
Примечательно, что и стиль двух словесных помет, обра–щённых непосредственно к «адресату», выдержан в духе романа Крюденер.
Первая – отклик «автора» на переживания Густава в связи с болезнью Валери. Подчёркнуты строки о физическом состоянии Густава, отражающем его отчаяние и ужас: «Когда мне показалось, что ее страдания стали невыносимыми, кровь бросилась мне в голову, и я ощутил, с какой силой она бьётся в артериях <…> Я задрожал от ужаса, мне показалось, что кровь остановилась в венах, и я едва дотянулся до стула». Рядом с этими словами на полях книги «автор» написал по–французски: «Si une certaine personne e'tais mala–de je serais dans une position plus cruelle que celle a' Gustave» (Если бы известная особа заболела, я был бы в более мучительном положении, чем Густав).
Вторая словесная помета на полях, обращенная к «адресату», – краткий комментарий «автора» к прощальному, предсмертному письму де Линара к Валери, составляющему своего рода кульминацию и романа, и «письма»: «Ты была самой жизнью моей души: после разлуки с тобой она лишь изнемогала. В мечтах я вижу тебя такой, какой знал прежде. Я вижу лишь тот образ, который всегда хранил в сердце, который мелькал в моих снах, который я открывал своим горячим молодым воображением во всех явлениях природы, во всех живых существах. Я любил тебя безмерно, Валери!» Рядом с этими словами на полях стоит приписка, связывающая воедино судьбы «автора» и героя романа: «tout cela au presents ( всё это в настоящее время).
В неожиданной связи с текстом «письма» оказалась и дарственная надпись на шмуцтитуле второго тома, сделанная неизвестным лицом чернилами, по–французски: «Мадемуазель Ольге Алексеевой. Увы, одно мгновение, одно единственное мгновение <…> всемогущий Бог, для которого нет невозможного; это мгновение было так прекрасно, так мимолетно… Чудная вспышка, озарившая жизнь как волшебство». «Мгновение», «прекрасно», «мимолётно», «чудная», «волшебство» – не правда ли, мы всё это уже слышали в прекрасном стихотворении, посвященном Анне Керн?
Конец «письма» – прямое признание в любви – взят из предсмертного послания Густава: «Ты была самой жизнью моей души <…> Я любил тебя безмерно, Валери».
Этот эпизод – возможно, и спорный – тем не менее, думается, поможет современному читателю ощутить и атмосферу домашних развлечений, принятых в образованном дворянском обществе XIX века, к которому, безусловно, относились обитатели Тригорского, и чувства Пушкина, высказанные таким оригинальным способом.
16 октября 1825 года Пушкин написал стихотворение «Цветы последние милей», копия которого с небольшим изменением и с названием «Стихи на случай в позднюю осень присланных цветов к П. от П. О.» сохранилась в альбоме их адресата Прасковьи Александровны Осиповой.
Цветы последние милей Роскошных первенцев полей. Они унылые мечтанья Живее пробуждают в нас. Так иногда разлуки час Живее сладкого свиданья.Альбомное название этого стихотворения свидетельствует, что оно стало ответом на присланный букет. «Но следует обратить внимание на одно обстоятельство, – пишет С. М. Громбах в статье, посвященной тщательному разбору этого стихотворения. – Нежно любящая поэта Прасковья Александровна часто посылала ему цветы из своего сада. Даже уезжая, она оставляла распоряжение посылать Пушкину цветы. Но лишь единственный раз Пушкин отозвался на это стихами. Видимо, их продиктовала не вежливость, а нечто иное <…>. В поисках объяснения обратимся к датировке стихотворения… Если автограф этого стихотворения, так же как и альбомная запись родились в один день – 16 октября 1825 г., то в словах о разлуке и свидании мы вправе усмотреть отклик на недавний второй приезд А. П. Керн в Тригорское».
В таком случае из последних строк, по мнению Громба–ха, вытекает, что «по сравнению с этим, разочаровавшим его свиданием предшествовавшая ему разлука, заполненная оживлённой перепиской и постоянными воспоминаниями о первой встрече с Анной Керн в Тригорском, для Пушкина была „живее самого свиданья“. Именно это, вероятно, и хотел сказать Пушкин Прасковье Александровне Осиповой, выражая благодарность за присланные цветы. Ей, с вниманием и тревогой следившей за всеми перипетиями взаимоотношений Пушкина с её очаровательной и ветреной племянницей, была вполне понятна причудливая ассоциация, отозвавшаяся в пушкинских строках»[31].
А разночтение между сохранившимся автографом, по которому приведённое выше стихотворение было напечатано в «Современнике», и альбомным текстом заключается в замене всего лишь одного слова: «сладкого свиданья» на «самого свиданья». Может быть, Пушкин в альбомном варианте, адресованном тётке нашей героини, хотел такой заменой несколько приглушить автобиографичность текста?
Через два месяца, почувствовав, что беременна, Анна Петровна решила окончательно порвать с мужем и уехать в Петербург. Перед отъездом из Риги она послала Пушкину последнее издание Байрона (вероятно, это было пятое, 12–томное издание «Сочинений Байрона в переводах на французский язык» 1822 года, с десятью добавочными томами, выпущенными в 1824 году), о котором он давно хлопотал. Одновременно Анна Петровна послала письмо кузине, Анне Николаевне Вульф, где сообщала о своём намерении уйти от мужа и поселиться в Петербурге.
Через некоторое время она получила от Пушкина ответ – одно из самых любезных, но в то же время наименее чувственных писем:
«Никак не ожидал, чародейка, что вы вспомните обо мне, от всей души благодарю вас за это. Байрон получил в моих глазах новую прелесть – все его героини примут в моём воображении черты, забыть которые невозможно. Вас буду видеть я в образах и Гюльнары и Леилы – идеал самого Байрона не мог быть божественнее. Вас, именно вас посылает мне всякий раз судьба, дабы усладить моё уединение! Вы – ангел–утешитель, ая – неблагодарный, потому что смею ещё роптать… Вы едете в Петербург, и моё изгнание тяготит меня более, чем когда–либо. Быть может, перемена, только что происшедшая, приблизит меня к вам, не смею на это надеяться. Не стоит верить надежде, она – лишь хорошенькая женщина, которая обращается с нами как со старым мужем. Что поделывает ваш муж, мой нежный гений? Знаете ли вы, что в его образе я представляю себе врагов Байрона, в том числе и его жену.
8 дек[абря].
Снова берусь за перо, чтобы сказать вам, что я у ваших ног, что я по–прежнему люблю вас, что иногда вас ненавижу, что третьего дня говорил о вас гадости, что я целую ваши прелестные ручки и снова перецеловываю их, в ожидании лучшего, что больше сил моих нет, что вы божественны и пр. и пр. и пр.».
Далее следовала приписка Анны Николаевны Вульф: «…Алексей писал мне, что ты отложила все свои намерения об отъезде и решила остаться. Я начинала успокаиваться на твой счёт, как вдруг письмо твоё так разубеждает меня! Почему ты не говоришь мне положительного, а оставляешь таким образом в неизвестности?.. Положительно ли решён твой отъезд в Петербург?.. Байрон примирил тебя с Пушкиным; он посылает тебе деньги – 125 рублей, – его теперешнюю цену… »
Это письмо оказалось последним, дошедшим до нас из их переписки; им закончилась эпистолярная часть романа Пушкина с Керн.
Анна Петровна поняла характер складывающихся отношений с поэтом и не обольщалась радужными перспективами на их предмет. В своих воспоминаниях она чутко подметила несколько отстранённое, а иногда даже циничное отношение Пушкина к женщинам, особенно уже завоёванным им: «Живо воспринимая добро, Пушкин, однако, как мне кажется, не увлекался им в женщинах: его гораздо более очаровывало в них остроумие, блеск и внешняя красота. Кокетливое желание ему понравиться не раз привлекало внимание поэта гораздо более, чем истинное и глубокое чувство, им внушённое».
Часть II. «НИ ВДОВА ТЫ, НИ ДЕВИЦА…»
РАЗРЫВ С МУЖЕМ И ПЕРЕЕЗД В ПЕТЕРБУРГ
Итак, в начале 1826 года наша героиня, наконец, окончательно порвала с ненавистным супругом и уехала в Петербург. Здесь Анна Петровна быстро сблизилась с семьёй Пушкина и даже некоторое время жила у родителей поэта{34} на набережной Фонтанки у Семёновского моста в доме Устинова.
Весной 1826 года умерла четырёхлетняя дочь А. П. Керн, звавшаяся, как и мать, Анной. Хоронили её приехавшие в Петербург родители Анны Петровны Пётр Маркович и Екатерина Ивановна Полторацкие. Сама она на этой печальной церемонии отсутствовала, сославшись на недомогание, связанное с беременностью. В это время Анна Петровна проживала вместе с родителями и сестрой Елизаветой на набережной Фонтанки у Обухова моста в доме генеральши С. И. Штерич{35}.
Но и будучи в положении, Анна Петровна не лишилась присущего ей обаяния и кокетливости. Её не оставляли вниманием многочисленные поклонники.
О её знакомствах и «дружбах» через письма родных и друзей, в первую очередь Прасковьи Александровны Осиповой, становилось известно Пушкину. Вероятно, это и дало ему повод в письме Алексею Вульфу от 7 мая 1826 года бросить фразу: «Что делает вавилонская блудница Ан[на] Петр[овна]? Говорят, что Болтин{36} очень счастливо метал против почтенного Ерм[олая] Фёд о ровича]. Моё дело – сторона; но что скажете вы? Я писал ей: «Вы пристроили Ваших детей – это прекрасно (две дочери Анны Петровны Екатерина и Анна воспитывались в Смольном институте. – В. С.). Но пристроили ли Вы Вашего мужа? Последний – гораздо большая помеха»».
Такую резкую пушкинскую антитезу – «гений чистой красоты» и «вавилонская блудница» – можно объяснить по–разному. Последняя фраза была употреблена поэтом в личном письме к своему близкому другу, одновременно являвшемуся одним из любовников Анны Петровны. Пушкин, безусловно, знал о их связи и такой характеристикой хотел умалить достоинство Анны Керн именно в глазах Алексея Вульфа, и только его! Можно также предположить, что эти слова Пушкина – следствие ревности и досады: на непостоянство предмета его некогда страстной любви, на то, что она имела романы с другими, в том числе не только с Болтиным, но и самим Алексеем Вульфом. А может быть, всё это было сказано поэтом в шутку?
Никогда Анна Петровна не была блудницей, никогда не была развратницей. Каждому новому увлечению она предавалась с таким пылом, с такой страстью, что это вызывало подчас недоумение у её прежних почитателей.
До нас дошло одно из писем Анны Николаевны Вульф к поэту, которое указывает ещё на одну причину, по которой Пушкин мог назвать А. П. Керн «вавилонской блудницей»:
«Как изумилась я, – писала кузина нашей героини Пушкину 2 июня 1826 года из Малинников, – когда получила недавно большое послание от вашей сестры, написанное ею совместно с Анетой Керн; обе они очарованы друг другом. Лев (Лев Сергеевич, брат поэта. – В. С.) пишет мне в том же письме тысячу нежностей, и к великому своему удивлению я нашла также несколько строк от Дельвига, доставивших мне много удовольствия. Мне кажется, однако, что вы слегка ревнуете ко Льву. Я нахожу, что Анета Керн очаровательна, несмотря на свой большой живот, – это выражение вашей сестры. Вы знаете, что она осталась в Петербурге, чтобы родить, а потом собирается приехать сюда. Вы хотите на „предмете“ Льва выместить его успех у моей кузины. – Нельзя сказать, чтобы это свидетельствовало о вашем безразличии к ней»[32].
Из этого письма можно понять, что вскоре по приезде в Петербург у Анны Петровны завязался роман с братом Пушкина и Лев имел успех, что, впрочем, вызывает большое сомнение. Неизвестно также, кто был тем «предметом», на котором Пушкин хотел выместить успех младшего брата. Роман Льва Сергеевича с Анной Петровной продолжился и после её родов. В первой половине января 1827 года А. А. Дельвиг писал Пушкину: «Нынче буду обедать у ваших, провожать Льва. Увижу твою нянюшку и Анну Петровну Керн, которая (между нами) вскружила совершенно голову твоему брату Льву…» Но в марте 1827 года Лев Пушкин поступил юнкером в Нижегородский драгунский полк и отправился для участия в боевых действиях на Кавказ.
7 июля 1826 года, ровно через девять месяцев после того, как Анна Петровна вторично побывала в Тригорском, она родила дочь Ольгу.
Интересно, что официальным восприемником при крещении Ольги, которое происходило 9 июля «в церкви Вознесения Господня, что при Адмиралтейских слободах», записан генерал–майор Фёдор Петрович Базин (или Пётр Петрович Базен)[33] , в то время как в работах многих пушкинистов на основе писем Ольги Сергеевны Пушкиной утверждается, что восприемницей (может быть, заочно?) последней дочери Анны Петровны была также сестра поэта; именно в её честь девочку и назвали Ольгой. Сама Ольга Сергеевна 31 июля писала Пушкину, что она «так сдружилась с Керн, что крестила её ребёнка», и в дальнейшем называла эту дочь Анны Петровны крестницей. Так, 13—15 сентября 1827 года она писала из Ревеля: «Нежно целую мою маленькую крестницу».
Пётр Петрович (Пьер Доминик) Базен (Bazaine) (1786 – 1838) был инженером–строителем, учёным, механиком, математиком, педагогом. Выходец из Франции, принятый в 1810 году Александром I на русскую службу, он во время Отечественной войны 1812 года «из предосторожности» был отправлен сначала в Ярославль, затем в Пошехонье, а потом в Иркутск, а тамошним начальством на всякий случай помещён в острог, где получил варикозное расширение вен – как тогда называли, «аневризм». Только после окончания войны, весной 1815 года Базен был возвращён в Санкт–Петербург. Он спроектировал около 30 объектов – мосты Санкт–Петербурга и пригородов (большинство из которых были построены), набережные, эллинги, гавани, шоссе, являлся автором проектов перекрытий Зимнего дворца, Алек–сандринского театра (не осуществлены) и Троицкого собора. Пётр Петрович руководил строительством Обводного канала, зданий Сената и Синода, Шлиссельбургских шлюзов, гидросооружений Охтинского порохового завода. В 1824– 1827 годах Базен разработал проект защиты Санкт–Петербурга от наводнений, предусматривавший строительство пяти плотин и водо–и судопропускного сооружения общей длиной около 24 километров по створу Горская – остров Котлин – Ораниенбаум, который не был осуществлён. Он первым указал на циклоны как одну из основных причин наводнений в столице. Он являлся также автором трудов по математике («Начальные основания дифференциального исчисления» и «Начальные основания интегрального исчисления»), транспорту и строительству. В 1817 году П. П. Базен стал членом–корреспондентом, а в 1827 году – почётным членом Петербургской Академии наук. В 1815—1820 годах он служил профессором Института корпуса инженеров путей сообщения, в 1824—1834 годах – его директором. С 1816 года он состоял членом, а в 1824—1834 годах – председателем Комитета для строений и гидравлических работ. В 1826 году Базен получил чин генерал–лейтенант–инженера, а в 1830 году – генерал–лейтенанта. Пётр Петрович числился в Санкт–Петербургской масонской ложе Палестины (в степени шотландского рыцаря) и двух масонских ложах Франции. Среди его наград были ордена Святого Александра Невского, Белого орла, Святого Владимира 2–й степени, Святой Анны 1–й степени. С 1824 года он проживал в Санкт–Петербурге по адресу: набережная Фонтанки, 115. С 1835 года, оставаясь на российской службе, он работал во Франции. В 1839 году в здании Института путей сообщения был установлен бюст П. П. Базена, который ныне утрачен.
Кроме выдающихся инженерных знаний и талантов, Пётр Петрович обладал разнообразными гуманитарными способностями: владел пятью языками, неплохо знал русскую литературу и историю, писал стихи. Перевод значительной части поэмы Хераскова «Россиада» на французский язык, выполненный им, с его же комментариями был включён в вышедшую в 1823 году в Париже «Русскую антологию». Он посещал литературные вечера у князя Лобанова–Ростовского, был знаком с Н. М. Карамзиным, А. Н. Олениным, В. А. Жуковским, Н. И. Гречем, Ф. В. Булгариным, Д. И. Хвостовым, М. Ю. Виельгорским, Ксавье де Местром, Е. И. Загряжской, будущими декабристами А. А. Бестужевым–Марлинским и Г. С. Батеньковым.
С генеральшей Керн Пётр Петрович познакомился, вероятно, ещё до того, как она навсегда ушла от мужа. В жизни этой женщины много тайн; одна из них несомненно связана с генералом Базеном. Красота Анны Петровны не оставила его равнодушным. О их необыкновенно тёплых и близких отношениях поведал в своих воспоминаниях будущий цензор, а в описываемое время студент и начинающий литератор А. В. Никитенко, тоже имевший виды на нашу героиню и несколько смущённый развязностью обращения с ней генерала:
«Сентябрь 18[27]. Вечером был у г–жи Керн. Видел там известного инженерного генерала Базена. Обращение последнего есть образец светской непринуждённости: он едва не садился к г–же Керн на колени, говоря, беспрестанно трогал её за плечо, за локоны, чуть не обхватывал её стана. Удивительно и не забавно! Да и пришёл он очень некстати. Анна Петровна встретила меня очень любезно и, очевидно, собиралась пустить в ход весь арсенал своего очаровательного кокетства».
Анна Петровна в воспоминаниях отмечала, что Базен «в своём тесном, дружеском кружке отличался самою доброжелательной любезностью».
Через неё Базен познакомился с А. А. Дельвигом, Л. С. Пушкиным и его родителями. 22 августа 1827 года Надежда Осиповна Пушкина писала А. П. Керн: «…Базен всё не едет, не может расстаться с вами – его можно понять». Вполне вероятно, что генерал был знаком и с Александром Сергеевичем.
На протяжении многих лет П. П. Базена связывала с Анной Петровной дружба. До конца своих дней наша героиня берегла две маленькие записочки генерала, написанные по–французски аккуратным бисерным почерком.
«Если бы я не был столь болен, – говорится в одной из них, – то непременно приехал бы повидать Вас, дорогой друг, но я претерпеваю муки от моего аневризма. Как только я смогу говорить, пошлю за Вами экипаж, прося Вас приехать ко мне. А пока Ваше письмо… отправится с первым фельдъегерем, и я дам знать Элькану, что он должен вернуть Вам Ваши рукописи. Преданный Вам».
Вероятно, речь здесь идёт о переводах, которыми Анна Петровна предполагала подрабатывать после ухода от мужа и которые присылала Петру Петровичу для просмотра. А. В. Марков–Виноградский на оборотной стороне одной из записок оставил коротенькую информацию о Базене, которая заканчивается словами, написанными, безусловно, с подачи Анны Петровны: «Умён, добр и честен».
Сохранились два письма Надежды Осиповны Пушкиной к Анне Керн, написанных в августе 1827 года. Мать поэта называла её «дорогая и добрейшая моя Анета», делилась весточками, приходившими с Кавказа от Леона (Льва Сергеевича), и новостями из Михайловского, просила подыскать новую квартиру. Приведём фрагменты этих посланий:
16 августа 1827 года из Петербурга: «…Александр изредка пишет два–три слова своей сестре, он сейчас в Михайловском, подле своей „доброй нянюшки“, как вы мило её называете. Давно уже не имею вестей от Прасковьи Александровны».
22 августа 1827 года из Ревеля: «До чего же я обязана вам, любезнейшая моя, дорогая Анета, за то, что вы так аккуратно отвечаете мне и хлопочете по моему поручению о приискании для нас квартиры; очень мне жаль, но дом, который находится в одном дворе с вашим, никак нам не подходит – я эту квартиру знаю, она уныла как тюрьма, ни одно окно не выходит там на улицу, солнца не бывает никогда. <…>
Другая же квартира, что по соседству с вами, слишком для нас дорога. Какая жалость, что не хватает одной комнаты в доме Полторацких. <… >
Мы остаёмся здесь ещё до 14–го, а затем я отправлюсь в окрестности Нарвы повидаться с кузинами, а вы пока что, моя милая, добрая Анета, постарайтесь подыскать нам квартиру, не смущаясь тем, что первые две нам не подошли. Мне самой это обидно – я так люблю Фонтанку. Однако хватит на сегодня толковать о квартирах. Позвольте мне немного попенять вам, что вы так мало пишете о себе; вы ничего не говорите, принимаете ли вы ванны, которые должны были принести вам облегчение; что поделываете? С кем встречаетесь? Всё так же ли вы ленивы ходить пешком? Как ваши денежные дела? Извольте ответить на все эти вопросы, которые лишь свидетельствуют о том, с каким живейшим интересом я отношусь ко всему, что касается до вашей прелестной особы. <… >
Прощайте! Шлю тысячу нежных приветов всем вашим. Целую вас от всего сердца… Мой муж целует ваши ручки.
Прасковья Александровна перестала писать мне с тех пор, как Александр подле неё…»
Вот ещё несколько записочек, подтверждающих тёплые отношения, сложившиеся у Анны Керн с матерью Пушкина:
«Что вы поделываете, любезная Анна Петровна, как ваше здоровье, а также здоровье вашего ребенка? Нынче я счастлива, только что получила письмо от Леона, хотела утром же идти к вам пешком, да страшная грязь на улице. Буду ли я иметь удовольствие видеть вас у себя? От всего сердца обнимаю вас и сестру вашу».
«Тысяча благодарностей, любезная Анна Петровна, за вашу милую предупредительность. Чёрную шаль я оставлю у себя только на несколько часов, мне нужно сделать визит соболезнования. Надеюсь иметь удовольствие ещё нынче вас обнять – вы ведь придёте к нам обедать, не правда ли?»
«Придёте ли вы нынче пообедать к нам, любезная моя Анна Петровна? Надеюсь, вы доставите мне это удовольствие. Ваша тётушка (П. А. Осипова. – В. С.) едет навестить свою кузину Бегичеву, а вечером все мы будем у Дельвигов, где Леон обедает. Прасковья Александровна пообещала тоже быть там. Не желаете ли к нам присоединиться?»
В КРУЖКЕ ДЕЛЬВИГА
Ещё в период беременности состоялось более тесное знакомство Анны Петровны с ближайшим другом Пушкина Антоном Антоновичем Дельвигом и его женой Софьей Михайловной, вскоре переросшее в дружбу.
Отец Дельвига, тоже Антон Антонович, 30 августа 1816 года был произведён в генерал–майоры и назначен на службу в Полтавскую губернию. Здесь произошло его знакомство с генералом Е. Ф. Керном, который в это время командовал 15–й пехотной дивизией и ходил в женихах Анны Полторацкой.
Сразу после выпуска из Лицея Антон Дельвиг приезжал к отцу в Хорол, который находится всего в нескольких верстах от Лубен. Вполне возможно, что Анна Петровна была знакома с Антоном Дельвигом, ещё проживая в Малороссии. После выпуска из Лицея Дельвиг служил в Департаменте горных и соляных дел, затем в канцелярии Министерства финансов, с 1821 по 1825 год – помощником библиотекаря в Императорской публичной библиотеке, а позже – в Министерстве внутренних дел, к концу жизни имея чин надворного советника (VII класс по Табели о рангах).
Один из товарищей оставил такое описание внешности А. А. Дельвига: «Это был молодой человек, довольно полный, в коричневом сюртуке. Большие, осенённые густыми, тёмными бровями, глаза блестели сквозь очки в чёрной оправе; довольно полное, но бледное лицо было задумчиво, и вообще вся наружность выражала несвойственное летам равнодушие».
Дельвиг состоял в обществе «Зелёная лампа», являлся действительным членом Вольного общества любителей российской словесности, с 1819 года входил в состав пред–декабристской организации «Священная артель», был членом Санкт–Петербургских масонских лож «Елизаветы и добродетели» и «Избранного Михаила». В 1825—1831 годах он издавал альманах «Северные цветы», в 1829—1830 годах – альманах «Подснежник», с 1830 года – «Литературную газету».
А. П. Керн так характеризовала его в воспоминаниях: «Дельвиг соединял в себе все качества, из которых слагается симпатичная личность. Любезный, радушный хозяин, он сумел осчастливить всех, имевших к нему доступ. Благодаря своему британскому юмору он шутил всегда остроумно, не оскорбляя никого. <…>
Кроме прелести неожиданных импровизированных удовольствий, Дельвиг любил, чтобы при них были и хорошее вино, и вкусный стол. Он с детства привык к хорошей кухне; эта слабость вошла у него в привычку. <… >
Юмор Дельвига, его гостеприимство и деликатность часто наводили меня на мысль о Вальтер Скотте, с которым, казалось мне, у него было сходство в домашней жизни. В его поэтической душе была какая–то детская ясность, сообщавшая собеседникам безмятежное чувство счастия, которым проникнут был сам поэт. Этой особенностью Дельвига восхищался Пушкин. <…>
Я никогда не видела его скучным или неприятным, слабым или неровным. Один упрёк только сознательно ему можно сделать, – это за лень, которая ему мешала работать на пользу людей. Эта же лень делала его удивительно снисходительным к слугам своим, которые могли быть всё, что им было угодно: и грубыми, и пренебрежительными; он на них рукой махнул, и если б они вздумали на головах ходить, я думаю, он бы улыбнулся и сказал бы своё обычное: «Забавно!»».
Сам Дельвиг называл Анну Петровну своей «второй женой», а себя – зная о её многочисленных романах, проходивших на его глазах, – «мужем безномерным».
«Однажды Дельвиг и его жена, – вспоминала Анна Петровна, – отправились, взяв с собою и меня, к одному знакомому ему семейству; представляя жену, Дельвиг сказал: „Это моя жена“, и потом, указывая на меня: „А это вторая“. Шутка эта получила право гражданства в нашем кружке, и Дельвиг повторил её, надписав на подаренном мне экземпляре поэмы Боратынского „Бал“: „Жене № 2–й от мужа безномерного“.
Двоюродные братья Дельвига Андрей и Александр, молоденькие прапорщики, также не избежали всесильных чар любвеобильной красавицы.
Жена Антона Дельвига Софья Михайловна, урождённая Салтыкова (1806—1888), была дочерью члена литературного общества «Арзамас» и тайного советника Михаила Александровича Салтыкова. Её мать, француженка Елизавета Фран–цевна, в девичестве Ришар, умерла в 1814 году, после чего Софья была отдана отцом в петербургский женский пансион Е. Д. Шрётер. Преподавателем российской словесности в нём был П. А. Плетнёв, который и познакомил её летом 1825 года с Дельвигом. До этого у неё уже было два романа – с однокурсником Пушкина и Дельвига по Лицею Константином Гурьевым и с будущим декабристом Петром Каховским, который, посватавшись к Софье и получив от её отца отказ, в пылу чувств даже безуспешно уговаривал барышню бежать с ним.
30 октября 1825 года она вышла замуж за барона Антона Дельвига. Обаятельная, хорошо образованная, да к тому же неплохая музыкантша, Софья Михайловна устроила в доме своеобразный литературно–музыкальный салон, где, кроме поэтов, собирались многие любители классической фортепианной музыки и романса. На этих вечерах присутствовали и несколько женщин: жена Плетнёва Степанида Александровна (урождённая Раевская), супруга Одоевского Ольга Степановна (урождённая Ланская).
Софья Михайловна буквально боготворила Анну Петровну. В письме от 10 января 1829 года она писала своей подруге и соученице по пансиону Александре Николаевне Карелиной: «Из дам вижу более всех Анну Петровну Керн; муж её генерал–майор, комендант в Смоленске; она несчастлива, он дурной человек, и они вместе не живут около трёх лет. Это добрая, милая и любезная женщина 28 лет; она живёт в том же самом доме, что и мы, – почему мы видимся всякий день; она подружилась с нами и принимает живое участие во всём, что нас касается, – а следовательно, и в моих друзьях…»
В следующем письме Софья Михайловна продолжает информировать подругу об Анне Петровне: «Она живёт здесь из–за своей старшей дочери, девочки 11 лет, которая в монастыре. Она должна была поместить её туда, чтобы спасти её от плохих забот её отца, который взял бы её к себе при их разъезде. Ты знаешь, что это так водится. Это очаровательная женщина, повторяю это ещё раз…»
Поселившись по соседству с Дельвигами на Загородном проспекте, в доме купца Кувшинникова, Анна Петровна стала посещать их дружеские литературные вечера, на которые обычно дважды в неделю, по средам и воскресеньям, около восьми часов вечера собирались петербургские литераторы: И. А. Крылов, В. А. Жуковский, П. А. Плетнёв, В. Ф. Одоевский, О. М. Сомов, В. Н. Щастный, А. И. Подо–линский, Е. Ф. Розен, М. Д. Деларю и др. Часто у Дельвигов бывали его сослуживец по Императорской публичной библиотеке Н. И. Гнедич, молодой поэт Дмитрий Веневитинов, а также высланный в Россию польский поэт Адам Мицкевич. «Во всём кружке, – вспоминала Анна Петровна, – была родственная простота и симпатия; дружба, шутки и забавные эпитеты, которые придавались чуть не каждому члену маленькой республики, могут служить характеристикой этой детски весёлой семьи».
На вечерах говорили не по–французски, как было принято в тогдашнем светском обществе, а по–русски. Довольно часто здесь звучала музыка – превосходной пианисткой была хозяйка, иногда приглашали молодого композитора и пианиста Михаила Глинку; прекрасно пел, играл на скрипке, гитаре и фортепиано соученик Дельвига по Лицею Михаил Яковлев, нередко под аккомпанемент жены пел и сам хозяин.
«Душою всей этой счастливой семьи поэтов, – вспоминала А. П. Керн, – был Дельвиг… Дельвиг соединял в себе все качества, из которых слагается симпатичная личность. Любезный, радушный хозяин, он умел счастливить всех, имевших к нему доступ».
Анна Петровна быстро оказалась в курсе всех дел и творческих забот членов этого литературно–дружеского кружка. Вместе с С. М. Дельвиг она читала в корректуре «Северные цветы» и «Литературную газету» и сама пробовала переводить французские романы. Своим женским очарованием, начитанностью и искренней любезностью в обращении Керн во многом способствовала созданию особой атмосферы дельвиговских вечеров – открытых, весёлых, шумных, с импровизациями и лёгкой влюблённостью. Здесь она всегда находила понимание, дружескую поддержку и – что немаловажно для молодой кокетливой женщины – восторженное поклонение.
Постоянное и разнообразное чтение помогло нашей героине сформировать хороший литературный вкус, умение отличать истинную художественность от литературных подделок и испытывать наслаждение при встрече с настоящим талантом.
«Приятно жилось в это время, – вспоминала Анна Петровна. – Баронесса приходила ко мне по утрам: она держала корректуру „Северных цветов“. Мы иногда вместе подшучивали над бедным Сомовым, переменяя заглавия у стихов Пушкина, например: „Кобылица молодая“ мы поставили „Мадригал такой–то“. Никто не сердился, а всем было весело. Потом мы занимались итальянским языком, а к обеду являлись к мужу…»
Ближайший помощник А. А. Дельвига по изданию «Северных цветов», а затем и «Литературной газеты» Орест Михайлович Сомов (1793—1833), о котором упомянула А. П. Керн, происходил из Харьковской губернии, окончил университет и с 1817 года обосновался в Петербурге. До 1826 года он состоял столоначальником в правлении Российско–Американской компании, где правителем канцелярии был Кондратий Фёдорович Рылеев. По подозрению в причастности к восстанию декабристов Сомов был арестован 19 декабря 1825 года и заключён в Алексеевский равелин Петропавловской крепости, но 7 января 1826 года освобождён. С этих пор Орест Михайлович стал жить только литературным трудом. Первые стихотворные, прозаические и переводные произведения он начал печатать ещё во время учёбы в Харьковском университете. По приезде в Петербург он публиковался в журнале «Благонамеренный», состоял членом Вольного общества любителей российской словесности. Сомов являлся автором произведений на тему украинской истории: «Песнь о Богдане Хмельницком – освободителе Малороссии», «Гайдамак», «Юродивый», «Русалка», «Оборотень» и других «малороссийских былей».
Некоторое время Сомов работал в изданиях Булгарина, который ценил его как человека полезного, но, зная, как тот нуждается, обходился с ним дурно и даже иногда обсчитывал его. Однажды Булгарин за что–то прогневался на Сомова и объявил ему отставку. Оставшись без средств к существованию, Сомов в 1827 году предложил свои услуги в качестве помощника в издательских делах А. А. Дельвигу. Тот охотно принял предложение Ореста Михайловича. С этих пор ни одна книжка «Северных цветов» не появлялась без повестей Сомова и его обозрений российской словесности.
«Появление Сомова, – вспоминал Андрей Иванович Дельвиг, – было очень неприятно встречено в обществе Дельвига. Наружность Сомова также была не в его пользу. Вообще постоянно чего–то опасающийся, с красными, точно заплаканными глазами, он не внушал доверия. Пушкин выговаривал Дельвигу, что тот приблизил к себе такого неблагонадёжного и мало способного человека. Плетнёв и все молодые литераторы были того же мнения. Между тем все ошибались насчёт Сомова. Он был самый добродушный человек, всею душою предавшийся Дельвигу и всему его кружку и весьма для него полезный в издании альманаха „Северные цветы“ и впоследствии „Литературной газеты“. Вскоре, однако же, все переменили мнение о Сомове. Он сделался ежедневным посетителем Дельвига или за обедом, или по вечерам. Всё его общество очень полюбило Сомова. Только Пушкин продолжал обращаться с ним с некоторою надменностью».
Со своим приходом в «Северные цветы» О. М. Сомов стал одной из центральных фигур украинского литературного землячества в Петербурге. Он опекал начинающего литератора А. В. Никитенко, вдохновлял благожелательными критическими отзывами «осьмнадцатилетнего стихотворца» Н. В. Гоголя, привлекал к сотрудничеству в альманахе И. П. Котляревского. Орест Михайлович собирал тексты украинских народных песен, малороссийских былей, преданий и сказок.
Сомов был человеком честным и благородным, обладал добрым и кротким нравом и в результате скоро стал любимцем женской части дельвиговского кружка, являясь при этом горячим поклонником Анны Петровны Керн. Кроме взаимной симпатии их сближало трепетное отношение к малороссийскому фольклору и обычаям. Сам Орест Михайлович называл А. П. Керн и С. М. Дельвиг «изящными произведениями природы».
В 1830 году после запрещения Дельвигу издавать «Литературную газету» именно Сомов стал её официальным издателем и редактором и выпускал газету до июня 1831 года.
В 1826 году Анна Петровна познакомилась с Михаилом Ивановичем Глинкой. Вот как она описала эту встречу в воспоминаниях:
«В это время ещё немногие живали летом на дачах. Проводившие его в Петербурге любили гулять в Юсуповом саду, на Садовой. Однажды, гуляя там в обществе двух девиц и Александра Сергеевича Пушкина{37}, я встретила генерала Базена, моего хорошего знакомого. Он пригласил нас к себе на чай и при этом представил мне Глинку, говоря: «Jen e vous promets pas cTexcellent the, car je ne nfy connais quere, mais un accompagnement delicieux: vous entendrez Glinka, un ce nos premiers pianists» (Прекрасного чаю обещать не стану, ибо не знаю в нём толку, но зато обещаю чудесное общество: вы услышите Глинку, одного из первых наших пианистов). Тогда молодой человек, шедший в стороне, сделал шаг вперёд, грациозно поклонился и пошёл подле Пушкина, с которым был уже знаком и прежде. Лишь только мы вошли в квартиру Базена, очень просто меблированную, и уселись на диван, хозяин предложил Глинке сыграть что–нибудь. Нашему хозяину очень хотелось, чтобы Глинка импровизировал, к чему имел гениальные способности, а потому Базен просил нас дать тему для предполагаемой импровизации и спеть какую–нибудь русскую или малороссийскую песню. Мы не решились, и сам Базен запел малороссийскую простонародную песню с очень простым мотивом:
Наварила, напекла Не для Гришки, для Петра, Ой лих мой Петрусь, Бело личко, черноусь!Глинка опять поклонился своим выразительным, почтительным манером и сел за рояль. Можно себе представить, но мудрено описать моё удивление и восторг, когда раздались чудные звуки блистательной импровизации; я никогда ничего подобного не слыхала, хотя и удавалось мне бывать в концертах Фильда{38} и многих других замечательных музыкантов; но такой мягкости и плавности, такой страсти в звуках и совершенного отсутствия деревянных клавишей я никогда ни у кого не встречала!
У Глинки клавиши пели от прикосновения его маленькой ручки. Он так искусно владел инструментом, что до точности мог выразить всё, что хотел; невозможно было не понять того, что пели клавиши под его миниатюрными пальцами.
В описываемый вечер он сыграл, во–первых, мотив, спетый Базеном, потом импровизировал блестящим, увлекательным образом чудесные вариации на тему мотива, и всё это выполнил изумительно хорошо. В звуках импровизации слышалась и народная мелодия, и свойственная только Глинке нежность, и игривая весёлость, и задумчивое чувство. Мы слушали его, боясь пошевелиться, а по окончании оставались долго в чудном забытьи.
Впоследствии Глинка бывал у меня часто; его приятный характер, в котором просвечивалась добрая, чувствительная душа нашего милого музыканта, произвёл на меня такое же глубокое и приятное впечатление, как и музыкальный талант его, которому равного до тех пор я не встречала. <… >
Он был один из приятнейших и вместе добродушнейших людей своего времени, и хотя никогда не прибегал к злоречию насчёт ближнего, но в разговоре у него было много весёлого и забавного. Его ум и сердечная доброта проявлялись в каждом слове, поэтому он всегда был желанным и приятным гостем, даже без музыки. <… >
Глинка был чрезвычайно нервный, чувствительный человек, и ему было всегда то холодно, то жарко, чаще всего грустно… Являясь ко мне, он просил иногда позволения надеть мою кацавейку и расхаживал в ней, как в мантии, или, бывало, усаживался в угол на диване, поджавши ножки. Летом, кажется, в 1830 году, когда я жила с Дельвигом на даче у Крестовского перевоза, Глинка бывал у нас очень часто и своей весёлостью вызывал на разные parties de plaisir ( увеселительные прогулки). <… >
Михаил Иванович Глинка был такого милого, любезного характера, что узнавши его коротко, не хотелось с ним расставаться, и мы пользовались всяким случаем, чтобы чаще его видеть. Однажды… он пригласил весь наш кружок к себе на чай. Когда мы приехали к нему, он тотчас повёл нас в сад и там угощал фруктами, чаем и своей музыкой. Много мы шутили и долго смеялись над одною из надписей на беседке его садика: «Не пошто далече и здесь хорошо». В конце этого счастливого лета мы ещё сделали поездку в обществе Глинки в Ораниенбаум. Там жила в то лето нам всем близкая по сердцу, дорогая наша О. С. Павлищева (сестра А. С. Пушкина. – В. С), она была больна и лечилась морским воздухом и купаньями. <…>
Ради правды нельзя не признаться, что вообще жизнь Глинки была далеко не безукоризненна. Как природа страстная, он не умел себя обуздывать и сам губил своё здоровье, воображая, что летние путешествия могут поправить зло и вред зимних пирушек; он всегда жаловался, охал, но между тем всегда был первый готов покутить в разгульной беседе. В нашем кружке этого быть не могло, и потому я его всегда видела с лучшей его стороны, любила его поэтическую натуру, не доискиваясь до его слабостей и недостатков».
По поводу знаменитого романса, шедевра двух гениев – поэтического и музыкального – Анна Петровна вспоминала: «Он взял у меня стихи Пушкина, написанные его рукою: „Я помню чудное мгновенье…“, чтоб положить их на музыку, да и затерял их, Бог ему прости! Ему хотелось сочинить на эти слова музыку, вполне соответствующую их содержанию, а для этого нужно было на каждую строфу писать особую музыку, и он долго хлопотал об этом».
Никогда больше Анна Петровна не жила такой насыщенной и в духовном, и в чувственном плане жизнью, как в обществе членов кружка Дельвига.
8 сентября 1826 года привезённый с фельдъегерем из Михайловского Пушкин после более чем часовой беседы с Николаем I в московском Чудовом дворце получил, наконец, освобождение от ссылки. Через несколько дней о радостном событии узнали в Петербурге. Первой 11 сентября откликается на это известие Анна Николаевна Вульф. Она сообщает поэту: «Анет Керн принимает живейшее участие в вашей судьбе. Мы говорим только о вас; она одна понимает меня, и только с ней я плачу». А 15 сентября А. А. Дельвиг пишет Пушкину в Москву: «Поздравляем тебя, милый Пушкин, с переменой судьбы твоей. У нас даже люди прыгают от радости. Я с братом Львом развёз прекрасную новость по всему Петербургу. Плетнёв, Козлов, Гнедич, Слёнин, Керн, Анна Николаевна [Вульф] все прыгают и поздравляют тебя. Как счастлива семья твоя, ты не можешь представить…
Между тем позволь мне завладеть стихами к Анне Петровне» (стихотворение «К***» будет напечатано Дельвигом в «Северных цветах на 1827 г.». – В. С.).
На следующий день, 16 сентября, Пушкину снова отправляет письмо А. Н. Вульф: «…радуюсь вашему освобождению и горячо поздравляю вас с ним… А. Керн вам велит сказать, что она бескорыстно радуется вашему благополучию», – после чего Анна Петровна собственноручно добавляет: «…и любит искренно без затей».
Не после этих ли напоминаний об Анне Керн перед Пушкиным вновь возникает её образ? Во всяком случае, в октябре—декабре 1826 года рождается ещё одно послание «К**» – только на этот раз без одной звёздочки в посвящении и явно противоположного содержания:
Ты богоматерь, нет сомненья, Не та, которая красой Пленила только дух святой, Мила ты всем без исключенья; Не та, которая Христа Родила, не спросясь супруга, Есть бог другой земного круга — Ему послушна красота, Он бог Парни, Тибулла, Мура, Им мучусь, им утешен я. Он весь в тебя – ты мать Амура, Ты богородица моя!Современный исследователь творчества Пушкина М. В. Строганов прокомментировал его следующим образом: «Стихотворение явно рассчитано на то, что адресат его серьёзно считает себя „богоматерью“, и поэтому его убеждают в том, что она – другая „богоматерь“. Таким адресатом Пушкина в 1826 году могла быть только Керн. И даже если стихотворение не предназначалось для передачи ей, она как героиня–адресат всё же учитывалась Пушкиным. Идеал „гения чистой красоты“ не был поколеблен, но Пушкину стало ясно, что кумир выбран неверно. Если в июле 1825 года ему казалось, что Керн – это первая в его жизни мадонна, то через год (а может быть, и раньше – сразу же на другое утро, когда он передавал стихи) он уже понял, что она последняя „вакханка“ в его жизни. Грозной инвективы „вакханке“ он еще не высказал, но на место её в жизни уже указал: „не та…“»[34]
Стихотворение «К**» при жизни Пушкина не публиковалось.
25 декабря 1826 года в Петербурге в Зимнем дворце в присутствии высочайшего двора и всех генералов, офицеров и солдат гвардейских полков, расквартированных в столице и его окрестностях, награждённых медалями за участие в кампании 1812 года и за взятие Парижа, была торжественно открыта Военная галерея. В ней было вывешено более трёхсот портретов военачальников русской армии – участников кампании 1812—1814 годов, написанных английским портретистом Д. Доу и его русскими помощниками А. В. Поляковым и В. А. Голике. В их числе, между портретом М. Б. Барклая–де–Толли и выходом из галереи, во втором ряду находился портрет Ермолая Фёдоровича Керна, мужа Анны Петровны.
На портрете Керн изображён в общегенеральском вицмундире образца 1817 года. На правой стороне груди – звезда ордена Святой Анны 1–й степени, а на левой – крест ордена Святого Георгия 4–й степени, золотой крест за взятие Праги, серебряная медаль участника Отечественной войны 1812 года и крест шведского Военного ордена Меча 4–й степени. На шее – кресты ордена Святого Владимира 3–й степени и прусских орденов Красного орла и Пур ле Мерит.
20 июля 1827 года генерал Керн оставил должность рижского коменданта, ему было «повелено состоять по армии с сохранением содержания, какое он получал в Риге».
15 марта 1827 года после тяжёлой горячки, в бреду повторяя имя Дельвига, умер Дмитрий Владимирович Веневитинов – поэт–философ, испытывавший к Анне Петровне «нежное участие и дружбу». Он любил её общество, вёл с ней беседы, «полные той высокой чистоты и нравственности, которыми он отличался», и даже хотел нарисовать её портрет, говоря, что «любуется ею, как Ифигенией в Тавриде, которая, мимоходом сказать, прекрасна».
А. А. Дельвиг сочинил стихотворение на смерть поэта и сначала вписал его в альбом А. П. Керн, а потом напечатал в «Северных цветах»:
На смерть Веневитинова
ДЕВА
Юноша милый! На миг ты в наши игры вмешался! Розе подобной красой, как филомела, ты пел. Сколько любовь потеряла в тебе поцелуев и песен, Сколько желаний и ласк новых, прекрасных, как ты.РОЗА
Дева, не плачь! Я на прахе его в красоте расцветаю. Сладость он жизни вкусив, горечь оставил другим; Ах! И любовь бы изменою душу певца отравила! Счастлив, кто прожил, как он, век соловьиный и мой!«КАК МОЖНО НЕ СОЙТИ С УМА…»
Пушкин, освобождённый царём из ссылки, не торопился в столицу – в течение семи месяцев (до мая 1827 года), лишь ненадолго отлучившись в Михайловское, он оставался в Москве.
«С Пушкиным я опять увиделась в Петербурге, – вспоминала А. П. Керн, – в доме его родителей, где я бывала почти всякий день, и куда он приехал из своей ссылки в 1827 году (22 мая. – В. С.), прожив в Москве несколько месяцев. Он был тогда весел, но чего–то ему недоставало. Он как будто не был так доволен собою и другими, как в Тригорском и Михайловском. <… > Тотчас по приезде он усердно начал писать, и мы его редко видели. Он жил в трактире Демута{39}, его родители – на Фонтанке, у Семёновского моста, я с отцом и сестрою близ Обухова моста, и он иногда заходил к нам, отправляясь к своим родителям. <…>
Именины свои (2 июня. – В. С.), праздновал он в доме родителей, в семейном кружку, и был очень мил. Я в этот день обедала у них и имела удовольствие слушать его любезности. После обеда Абрам Сергеевич Норов, подойдя ко мне с Пушкиным, сказал: «Неужели вы ему сегодня ничего не подарили, а он так много вам писал прекрасных стихов?» – «И в самом деле, – отвечала я, – мне бы надо подарить вас чем–нибудь: вот вам кольцо моей матери, носите его на память обо мне». Он взял кольцо, надел его на свою маленькую, прекрасную ручку и сказал, что даст мне другое. В этот вечер мы говорили о Льве Сергеевиче, который в то время служил на Кавказе, и я, припомнив стихи, написанные им ко мне, прочитала их Пушкину. Вот они:
Как можно не сойти с ума, Внимая вам, на вас любуясь; Венера древняя мила, Чудесным поясом красуясь, Алкмена, Геркулеса мать, С ней в ряд, конечно, может стать, Но, чтоб молили и любили Их так усердно, как и вас, Вас спрятать нужно им от нас, У них вы лавку перебили!{40}Пушкин остался доволен стихами брата и сказал очень наивно: «И он тоже очень умён».
Упомянутый Анной Петровной Абрам (Авраам) Сергеевич Норов (1795—1869) – участник войны 1812 года, в Бородинской битве потерял ногу, в Москве попал в плен к французам, после их отступления был вывезен в своё саратовское имение, где лечился в течение 1813—1814 годов. Продолжая службу в армии, Норов в 1820 году был произведён в полковники. 11 февраля 1827 года он стал чиновником по особым поручениям в Министерстве внутренних дел. Софья Михайловна Дельвиг писала подруге А. Н. Карелиной 13 октября 1824 года: «Норов… всё так же добр и мил, но невозможно рассеян. Мне рассказывали, что вчера он вошёл в один дом, ни с кем не поздоровавшись, даже с хозяйкой, и просто–напросто уселся, ничего не говоря; затем вспомнил, как он поступил, и был очень этим смущён; однако ему по простоте сердечной простили его промах, так как всем известна его рассеянность».
С 1841 года А. С. Норов являлся почётным членом Российской академии наук по отделению русского языка и словесности, с 1851 года – ординарным академиком, а в 1854 году был назначен министром народного просвещения. При нём были сняты ограничения на приём в университеты, разрешено выписывать из–за границы научные книги без цензурного досмотра. Позже Норов стал действительным тайным советником, сенатором, членом Государственного совета. Он известен и как писатель, переводчик, собиратель рукописей; состоял членом Общества любителей словесности, наук и художеств, Вольного общества любителей российской словесности, Русского географического общества. Он является автором книг «Путешествия по Сицилии в 1822 г.» (СПб., 1828), «Путешествие по Святой земле в 1835 г.» (СПб., 1854. Ч. 1, 2) и «Исследование об Атлантиде» (СПб., 1854).
«На другой день, – вспоминала Анна Петровна, – Пушкин привёз мне обещанное кольцо с тремя бриллиантами и хотел было провести у меня несколько часов; но мне нужно было ехать с графинею Ивелич, и я предложила ему прокатиться к ней в лодке. Он согласился, и я опять увидела его почти таким же любезным, каким он бывал в Тригорском. Он шутил с лодочником, уговаривал его быть осторожным и не утопить нас. Потом мы заговорили о Веневитинове, и он сказал: „Pourquoi Tavez vous laissemourir? Il etait aussi amoureux de vous, rTest ce pas?“ (Отчего вы позволили ему умереть? Он ведь тоже (выделено мной. – В. С.) был влюблён в вас, не правда ли?). На это я отвечала ему, что Веневитинов оказывал мне только нежное участие и дружбу, и что сердце его давно уже принадлежало другой. Тут, кстати, я рассказала ему о наших беседах с Веневитиновым, полных той высокой чистоты и нравственности, которыми он отличался; о желании его нарисовать мой портрет и о моей скорби, когда я получила от Хомякова его посмертное изображение. Пушкин слушал мой рассказ внимательно, выражая только по временам досаду, что так рано умер чудный поэт. <… > Вскоре мы пристали к берегу, и наша беседа кончилась… »
Близкая знакомая А. П. Керн графиня Екатерина Марковна Ивелич (Анна Петровна называла её «Екатерина Маркович») была оригинальной личностью. Дочь сенатора и родственница Пушкиных через свою мать – урождённую Турчанинову, в 1820–х годах она жила в Петербурге на Фонтанке близ Калинкина моста, рядом с Пушкиными. Поэт часто бывал у Ивелич, в годы ссылки переписывался с нею. В 1824 году в письме к брату Льву Александр Сергеевич назвал её «милой кузиной» и отметил её ум и любезность. «Некрасивая лицом, – вспоминал современник, – она отличалась замечательным остроумием; её прозвища и эпиграммы действовали как ядовитые стрелы». В её манерах и поведении было много мужского, она носила мужское платье и… влюблялась в женщин.
B 1824 году с Е. М. Ивелич познакомилась будущая жена Дельвига C. M. Салтыкова. Графиня сразу же возмутила её своим вульгарным тоном. Софья Михайловна писала своей подруге А. Н. Карелиной: «Она больше походит на гренадера самого дурного тона, чем на барышню. Что за походка, что за голос, что за выражения! К тому же она нюхает табак и курит, когда никого нет; выкурила пять или шесть трубок при мне в течение одного вечера. Какова девица?»
Однако познакомившись с Екатериной Марковной ближе, Софья Михайловна совершенно переменила мнение о ней. «Я никак не предполагала, – поделилась она с Карелиной, – что у неё столько ума и такая благородная страсть к поэзии. Ужасно досадно, что у неё, из–за её манер, вид мужчины. Она сама пишет русские стихи, и вовсе неплохие. Она уверяла меня, что Пушкин совсем не такой плохой человек, как о нём говорят, что этой репутации он не заслуживает, что он очень хороший малый и т. д.».
Графиня была другом Ольги Сергеевны Пушкиной. Однако эта «старая девушка» имела неосторожность передавать матери Пушкина все дурные слухи о сыне, за что поэт отомстил Ивелич, выведя её в пятой песне «Руслана и Людмилы» в образе суровой Дельфиры:
…под юбкою гусар, Лишь дайте ей усы да шпоры! …блажен и тот, Кто от Дельфиры убегает И даже с нею не знаком.В описываемое Анной Петровной время (в 1827 году) в том же доме генеральши Штерич, в котором снимала квартиру Керн, проживал 23–летний студент Петербургского университета Александр Васильевич Никитенко – в будущем известный литератор, профессор русской словесности Петербургского университета, впоследствии академик, а с августа 1833 года – цензор. Его отец был крепостным графа Д. Н. Шереметева – сначала певчим крепостной капеллы, затем писарем, управляющим имениями, ходатаем по делам, учителем. Александр Васильевич закончил Воронежское уездное училище, но путь в университет для крепостного был закрыт. Его освобождению от зависимости, которое произошло в октябре 1824 года, способствовали будущие декабристы К. Ф. Рылеев, граф З. Г. Чернышёв и А. М. Муравьёв. Сразу же после получения вольной Никитенко поступил в Петербургский университет на философско–юри–дический факультет.
В своём дневнике А. В. Никитенко поведал о «романе» с Анной Петровной, ни к чему существенному, однако, не приведшем. В этих записях содержится много ценных сведений для понимания характера и поведения нашей героини, её манеры общения, её отношения к Пушкину.
«Несколько дней тому назад, – записал он 23 мая 1827 года, – г–жа Штерич праздновала свои именины. У ней было много гостей и, в том числе, новое лицо, которое, должен сознаться, произвело на меня довольно сильное впечатление. Когда я вечером спустился в гостиную, оно мгновенно приковало к себе моё внимание. То было лицо молодой женщины поразительной красоты (выделено мной. – В. С.). Но меня всего более привлекла в ней трогательная томность в выражении глаз, улыбки, в звуках голоса.
Молодая женщина эта – генеральша Анна Петровна Керн, рождённая Полторацкая.
Отец её, малороссийский помещик, вообразил себе, что для счастья его дочери необходим муж генерал. За неё сватались достойные женихи, но им всем отказывали в ожидании генерала. Последний, наконец, явился. Ему было за пятьдесят лет. Густые эполеты составляли его единственное право на звание человека. Прекрасная, и к тому же чуткая, чувствительная Анета была принесена в жертву этим эполетам. С тех пор жизнь её сделалась сплетением жестоких горестей. Муж её был не только груб и вполне недоступен смягчающему влиянию её красоты и ума, но ещё до крайности ревнив. Злой и необузданный, он истощил над ней все роды оскорблений. Он ревновал её даже к отцу. Восемь лет промаялась молодая женщина в таких тисках, наконец, потеряла терпение, стала требовать разлуки и в заключение добилась своего. С тех пор она живёт в Петербурге очень уединённо. У неё дочь, которая воспитывается в Смольном монастыре.
В день именин г–жи Штерич мне пришлось сидеть около неё за ужином. Разговор наш начался с незначительных фраз, но быстро перешёл в интимный, задушевный тон. Часа два времени пролетели как один миг. <… > Я и после именинного вечера уже не раз встречался с ней. Она всякий раз всё больше и больше привлекает меня не только красотой и прелестью обращения, но ещё и лестным вниманием, какое мне оказывает. Сегодня я целый вечер провёл с ней у г–жи Штерич. Мы говорили о литературе, о чувствах, о жизни, о свете. Мы на несколько минут остались одни, и она просила меня посещать её.
– Я не могу оставаться в неопределённых отношениях с людьми, с которыми сталкивает меня судьба, – сказала она при этом. – Я или совершенно холодна к ним, или привязываюсь к ним всеми силами сердца и на всю жизнь.
Значение этих слов ещё усиливалось тоном, каким они были произнесены, и взглядом, который их сопровождал. Я вернулся к себе в комнату отуманенный и как бы в состоянии лёгкого опьянения.
24 [мая]. Вечером я зашёл в гостиную Серафимы Ивановны [Штерич], зная, что застану там г–жу Керн… Вхожу. На меня смотрят очень холодно. Вчерашнего как будто и не бывало. Анна Петровна находилась в упоении радости от приезда поэта А. С. Пушкина, с которым она давно в дружеской связи. Накануне она целый день провела с ним у его отца и не находит слов для выражения своего восхищения. На мою долю выпало всего два–три ледяных комплимента, и то чисто литературных.
26 [мая]. Она… пригласила меня к себе. Часа три пролетели в оживлённой беседе. Сначала я был сдержан, но она скоро меня расшевелила и опять внушила к себе доверие. Нельзя же, в самом деле, говорить так трогательно, нежно, с таким выражением в глазах – и ничего не чувствовать. Я совсем забыл о Пушкине в то время. Она говорила, что понимает меня, что желает участвовать в моих литературных трудах, что она любит уединение, что постоянна в своих чувствах, что её понятия почти во всём сходны с моими. <…> Наконец, просила меня дня на три приехать в Павловск, когда она там будет.
После 24–го я держал сердце на привязи и решился больше не видаться с ней, но она сама позвала меня к себе. <…>
29 [мая]. Сегодня я хотел идти к ней, подошёл почти к самым дверям её и вернулся назад.
8 [июня]. Г–жа Керн переехала отсюда на другую квартиру. Я порешил не быть у неё, пока случай не сведёт нас опять. Но сегодня уже я получил от неё записку с приглашением сопровождать её в Павловск. Я пошёл к ней: о Павловске больше и речи не было. Я просидел у неё до десяти часов вечера. Когда я уже прощался с ней, пришёл поэт Пушкин. Это человек небольшого роста, на первый взгляд не представляющий из себя ничего особенного. Если смотреть на его лицо, начиная с подбородка, то тщетно будешь искать в нём до самых глаз выражения поэтического дара. Но глаза непременно остановят вас: в них вы увидите лучи того огня, которым согреты его стихи – прекрасные, как букет свежих весенних роз, звучные, полные силы и чувства. Об обращении его и разговоре не могу сказать, потому что я скоро ушёл».
Уже из этих строк видно, что отношение Никитенко к Пушкину было сдержанно–недоброжелательным, и одной из причин тому была Анна Петровна, её явно выраженное предпочтение Пушкина.
Продолжаем читать дневник А. В. Никитенко: «12 [июня]. Сегодня мы с Анной Петровной Керн обменялись письмами. Предлогом были книги, которые я обещался доставить ей. Ответ её умный, тонкий, но не уловимый. Вечером я получил от неё вторую записку: она просила меня принести ей мои кое–какие отрывки и вместе с нею прочитать их. Я не пошёл к ней за недостатком времени.
22 [июня]. Сегодня г–жа Керн прислала мне часть записок своей жизни, для того, чтобы я принял их за сюжет романа, который она меня подстрекает продолжать. В этих записках она придаёт себе характер, который, мне кажется, составила из всего, что почерпнуло её воображение из читанного ею. <… >
23 [июня]. Вечером читал отрывки своего романа г–же Керн. Она смотрит на всё исключительно с точки зрения своего собственного положения, и потому сомневаюсь, чтобы ей понравилось что–нибудь, в чём она не видит самоё себя. Она просила меня оставить у неё мои листки.
Не знаю, долго ли я уживусь в дружбе с этой женщиной. Она удивительно неровна в обращении и, кроме того, малейшее противоречие, которое она встречает в чувствах других со своими, мгновенно отталкивает её от них. Это уж слишком переутончённо.
Вчера, говоря с ней о человеческом сердце, я сказал:
– Никогда не положусь я на него, если с ним не соединена сила характера. Сердце человеческое само по себе беспрестанно волнуется, как кровь, его движущая: оно непостоянно и изменчиво.
– О, как вы недоверчивы, – возразила она, – я не люблю этого. В доверии к людям всё моё наслаждение. Нет, нет! Это не хорошо!
Слова сии были сказаны таким тоном, как будто я потерял всякое право на её уважение.
24 [июня]. Я не ошибся в своём ожидании. Г–жа Керн раскритиковала, как говорится, в пух отрывки моего романа. По её мнению, герой мой чересчур холодно изъясняется в любви и слишком много умствует, а не просто умничает».
Анна Петровна написала Никитенко: «Посылаю вам отрывки ваши и – если позволите – скажу вам мнение об оных и чувства, возбуждённые сим чтением: я нахожу, что ваш Герой – не влюблён! – что он много умствует и что после холодного, продолжительного рассуждения как бы не у места несколько страстных и пламенных выражений. <… > Глубокое чувство – не многоречиво. <… > Вы желаете сделать впечатление на чувства и чтоб изображаемые вами были найдены естественны и сильны? – заставьте любить вашего Героя, – он не любит, он холоден, как лёд! – Поверьте, что я не ошибаюсь, и чтение, и опытность – позволяют мне судить о сей статье».
Никитенко признавался, что был обескуражен напором А. П. Керн.
«Я готов бы её уважать за откровенность, – записал он в дневнике, – тем более что по самой задаче моего романа главное действующее лицо в нём должно быть именно таким. Но требовательный тон её последних писем ко мне, настоятельно выражаемое желание, чтобы я непременно воспользовался в своём произведении чертами её характера и жизни, упрёки за неисполнение этого показывают, что она гневается просто за то, что я работаю не по её заказу.
Она хотела сделать меня своим историографом, и чтобы историограф сей был бы панегиристом. Для этого она привлекала меня к себе и поддерживала во мне энтузиазм к своей особе. А потом, когда выжала бы из лимона весь сок, корку его выбросила бы за окошко, – и тем всё кончилось бы. Это не подозрения мои только и догадки, а прямой вывод из весьма недвусмысленных последних писем её.
Женщина эта очень тщеславна и своенравна. Первое есть плод лести, которую, она сама признавалась, беспрестанно расточали её красоте, её чему–то божественному, чему–то неизъяснимо в ней прекрасному, – а второе есть плод первого, соединённого с небрежным воспитанием и беспорядочным чтением.
В моём ответе на её сегодняшнее письмо я высказал кое–что из этого, но, конечно, в самой мягкой форме».
Кажется, претензии Никитенко к нашей героине больше похожи на самооправдания неудачливого поклонника.
Приведём ещё несколько его дневниковых записей.
«26 [июня]. Сегодня получил от г–жи Керн в ответ на моё письмо записку следующего содержания: „Благодарю вас за доверие. Вы не ошиблись, полагая, что я умею вас понимать“.
4 [июля]. Был у г–жи Керн. Никто из нас не вспоминал о нашей недавней размолвке, за исключением разве маленького намёка в виде мщения с её стороны. Я застал её за работой.
– Садитесь мотать со мной шёлк, – сказала она.
Я повиновался. Она надела мне на руки моток, научила как держать его, и принялась за работу. <…> После пошли мы гулять в сад герцога Виртембергского. Народу было множество. В двух местах гремела музыка. Но мне гораздо приятнее было слушать малороссийские песни, которые пела сестра г–жи Керн по нашем приходе с гулянья. У ней прелестный голос, и в каждом звуке его чувство и душа. Слушая её, я совсем перенёсся на родину, к горлу подступали слёзы…»
В начале 1828 года Никитенко окончил университет и поступил на должность младшего чиновника в канцелярию попечителя Петербургского учебного округа. Затем он преподавал в университете сначала курс политической экономии и русскую словесность и одновременно исполнял обязанности цензора отдельных книг и периодических изданий.
Потерпев фиаско в негласном соперничестве за благосклонность красавицы Анны Керн, Никитенко затаил обиду на Пушкина и стал ждать случая отквитаться. С приходом нового министра народного просвещения С. С. Уварова и председателя цензурного комитета М. В. Корсакова такая возможность представилась. С подачи Никитенко Уваров исключил из поэмы Пушкина «Анджело» восемь стихов и приказал впредь подвергать цензуре сочинения поэта на общих основаниях, а не отсылать их на просмотр императору. Никитенко также подверг тщательной цензуре «Поэмы и повести А.С.Пушкина» (1835. Ч. 1, 2), «Стихотворения Александра Пушкина» (1835. Ч. 4), его стихи в «Библиотеке для чтения» (1834, 1835) и даже «Сказку о золотом петушке», в которую внёс свои «исправления». Все эти действия вызвали резкое недовольство Пушкина. В письме к П. А. Плетнёву поэт назвал цензора «ослёнком».
Среди соискателей благосклонности Анны Петровны были двоюродные братья А. А. Дельвига Андрей и Александр Ивановичи. Младший, Андрей Дельвиг (1813—1887), в 1821—1826 годах воспитывался в пансионе Д. Н. Лопухиной в Москве, с октября 1826 года жил в Петербурге, где обучался сначала в Военно–строительном училище, затем в Институте корпуса инженеров путей сообщения, директором которого был П. П. Базен. Он принимал участие в дельвиговских литературных вечерах и, по словам Алексея Вульфа, в начале 1829 года «начинал за ней (нашей героиней. – В. С.) волочиться».
Андрей Иванович Дельвиг окончил в 1832 году Институт корпуса инженеров путей сообщения и в течение тридцати лет являлся одним из руководителей строительства важнейших инженерных сооружений Центральной России (реконструкция московского водопровода, строительство Тульского оружейного завода, соединение верховий рек Москва и Волга, устройство набережной на Москве–реке), председательствовал в Архитектурном совете комиссии по постройке храма Христа Спасителя. Он – автор фундаментального труда «Руководство к устройству водопроводов» (М., 1856), один из основателей и первый председатель Русского технического общества, сенатор.
В 1872—1878 годах А. И. Дельвиг написал «Мои воспоминания», которые завещал опубликовать только после 1910 года (четырёхтомное издание, с цензурными купюрами и редакционной правкой, вышло в Москве в 1912—1913 годах)[35]. В этих мемуарах, охватывающих период 1820—1870–х годов и основанных, вероятно, на дневниковых записях, содержатся исключительно объективные и точные – и с хронологической и с исторической точек зрения – сведения интимно–биографического, исторического и политического характера. Много страниц в них посвящено литературной жизни 1820–х годов, А. А. Дельвигу, А. С. Пушкину, П. А. Плетнёву, О. М. Сомову, а также встречам автора с П. Я. Чаадаевым, М. Ю. Лермонтовым, А. И. Герценом, Н. А. Некрасовым. Андрей Иванович рассказал в воспоминаниях много нового и интересного и о жизни Анны Петровны:
«А. П. Керн, дочь Петра Марковича Полторацкого, была отдана 15–ти лет от роду замуж за старого генерал–лейтенанта Керна, человека не очень умного. Она с ним жила недолго, имела от него дочь, которая в 1827 году была уже в Смольном монастыре. Разойдясь с мужем, А. П. Керн жила несколько времени у Прасковьи Александровны Осиповой, по первому мужу Вульф, в с. Тригорском, по соседству с с. Михайловским, в котором Пушкин проводил время своего изгнания. <…> Жена Дельвига, несмотря на значительный ум, легко увлекалась, и одним из этих увлечений была её дружба с А. П. Керн, которая наняла небольшую квартиру в одном с Дельвигами доме и целые дни проводшта y них, а в 1829 году переехала к ним и на нанятую ими дачу. Мне почему–то казалось, что она (Анна Петровна. – В. С.) с непонятною целию хочет поссорить Дельвига с его женою, и потому я не был к ней расположен. Она замечала это и меня недолюбливала. Между тем она свела интригу с братом моим Александром{41} (прапорщиком лейб–гвардии Павловского полка, которому в 1828 году было только 18 лет и который был на десять лет её моложе. – В. С.) и сделалась беременною. Вскоре они за что–то поссорились. В 1829 году, когда А. П. Керн была уже в ссоре с братом Александром, она вдруг переменилась ко мне, часто зазывала в свою комнату, которую занимала на даче, нанятой Дельвигом, ласкала меня, заставляла днём отдыхать на её постели».
Алексей Вульф в дневнике также отметил этот факт: «По несколько вечеров провёл я наедине почти с нею (С. М. Дельвиг. – В. С.), за Анной Петровной в другой комнате обыкновенно волочился Андрей Иванович Дельвиг». Вероятно, это был первый любовный опыт молодого человека.
«Я, ничего не зная об её связи с братом Александром, – писал Андрей Иванович, – принимал эти ласки на свой счёт, что, конечно, нравилось мне, тогда 16–ти летнему юноше, но эти ласки имели целию через меня примириться с братом, что однако же не удалось. Возбуждённые во мне её ласками надежды также не имели последствий». С дачи
A. П. Керн переехала на квартиру, ею нанятую далеко от Дельвигов, и они более не виделись. «Я продолжал у неё бывать, – вспоминал Вульф, – но очень редко; впрочем, произведённый в 1830 г. в прапорщики, был у неё у первой в офицерском мундире.
Впоследствии я у неё бывал в 1831 и 1832 гг., когда она была в дружбе с Флоранским, о котором говорили, что он незаконнорождённый сын Баратынского, одного из дядей поэта. В её старости я её встречал в 60–х гг. в Петербурге у Николая Николаевича Тютчева и в последний раз в декабре 1868 г. в Киеве, где она жила со вторым мужем, уволенным от службы учителем гимназии, Виноградским, в большой бедности».
В 1828 году Анна Петровна возобновила близкие отношения со своим кузеном. Алексей Николаевич Вульф в дневниках поведал о многих пикантных эпизодах его романа с Анной Петровной (кстати, именно так, по имени–отчеству он всегда и называл её). Приведём некоторые записи:
«1828 год, 25—26 августа. От Анны Петровны получил очень нежное письмо. Елизавета Петровна (сестра А. П. Керн. – B. С.) эти дни была мила, несравненно веселее прежнего и говорит, что опять по–прежнему любит.
2 и 3 сентября. Лиза эти дни немного ревновала меня к Анне Петровне, но вообще была нежна и верила в мою любовь.
30 сентября. Утро я ездил с визитами и обедал у Бегичевых; потом был с Анной Петровной.
18 октября. Поутру я зашёл к Анне Петровне и нашёл там, как обыкновенно, Софью (С. М. Дельвиг, за которой Вульф также довольно активно ухаживал. – В. С.). <… > Вечером я нашёл её там же. Анна Петровна заснула, и мы остались одни. <…> Она мне предложила дружбу; я отвечал, что та не существует между мужчиною и женщиною… – «Что же вы чувствуете к Анне Петровне, когда не верите в дружбу?» – спросила она. «Это следствие любви, – отвечал я, – её ко мне!»
23 октября. Анна Петровна сказала мне, что вчера поутру у ней было сильное беспокойство: ей казалося чувствовать последствия нашей дружбы. Мне это было неприятно и вместе радостно: неприятно ради её, потому что тем бы она опять (выделено мной. – В. С.) приведена была в затруднительное положение, а мне радостно, как удостоверение в моих способностях физических. – Но, кажется, она обманулась.
26 октября. Обедал я у Пушкина, потом был у Княжеви–ча, а вечером зашёл к Анне Петровне. Она, бедная, страдает болью в груди, и прогнала меня от себя.
28 ноября. Пётр Маркович у меня остановился; к нему сегодня приходила Анна Петровна, но, не застав его дома, мы были одни. Это дало мне случай её жестоко обмануть; мне самому досаднее было, чем ей, потому что я уверял её, что я ранее кончил, а в самом деле не то было, я увидел себя бессильным, это досадно и моему самолюбию убийственно. Но зато вечером мне удалось так, как ещё никогда не удавалось.
1829 год, 16 января. Софья [Дельвиг] и Анна Петровна были очень рады меня видеть. <…> Вечером я провожал (Анну Петровну. – В. С.) до её комнаты, где прощальным, сладострастным её поцелуям удавалось иногда возбудить мою холодную и вялую чувственность. Должно сознаться, что я с нею очень дурно себя вёл».
Такие родственно–любовные отношения между ними продолжались на протяжении четырёх лет. При этом они не стесняли друг друга в иных сердечных увлечениях: Алексей Вульф одновременно «не платонически» развращал сестру Анны Петровны Лизу Полторацкую{42} и активно ухаживал за женой Дельвига, а Анна Петровна «водила дружбу» и с членами литературного кружка Дельвига, и с молодыми прапорщиками.
«Зимой (вероятно, в октябре—ноябре. – В. С.) 1828 года, – вспоминала Анна Петровна, – Пушкин писал Полтаву и, полный её поэтических образов и гармонических стихов, часто входил ко мне в комнату, повторяя последний, написанный им стих; так, он раз вошёл, громко произнося:
Ударил бой, Полтавский бой!Он это делал всегда, когда его занимал какой–нибудь стих, удавшийся ему, или почему–нибудь запавший ему в душу… »
Саратовская пушкинистка Л. А. Карваль в работе «Портрет Анны Керн»[36] , используя святцы{43} в качестве ключа к атрибуции набросков портретов и текстов, сделанных рукою поэта, пришла к довольно неожиданным открытиям.
По её предположению, летом 1828 года (вероятно, 26 июля), в день именин Ермолая Фёдоровича Керна, на 23–й странице рукописи «Полтавы» Пушкин набросал портрет оставленного мужа Анны Петровны, а ей самой адресовал расположенные под портретом стихотворные строки:
Мила очам, как вешний цвет, Взлелеянный в тени дубравной — Странна…Это – отрывок из поэтической характеристики дочери Кочубея, но они во многом соответствуют Анне Петровне, выросшей в Лубнах под Полтавой в тени дубовых рощ. И эта отмеченная Пушкиным странность, о которой она и сама писала: «Я ведь не похожа на других!» Перед нами ещё один образ пушкинской поэзии, навеянный встречами с Анной Керн.
«Посещая меня (вероятно, в начале 1829 года. – В. С.), – писала наша героиня в «Воспоминаниях о Пушкине», – он рассказывал иногда о своих беседах с друзьями… Пушкин много шутил. Во время этих шуток ему попался под руку мой альбом – совершенный слепок с того уездной барышни альбома, который описал Пушкин в Онегине и он стал в нём переводить французские стихи на русский язык и русские на французский.
В альбоме было написано:
Oh, si dans L'immortelle vie Il existait un etre parfait, Oh, mon aimable et douce amie, Comme toi sans doute il est fait – etc. etc.Пушкин перевёл:
Если в жизни поднебесной Существует дух прелестный, То тебе подобен он. Я скажу тебе резон: Невозможно!»По мнению М. В. Строганова, в этих строках Пушкин, в шутливой форме развивая тему явления «гения чистой красоты», заявляет: «…если на земле возможно воплощение „гения чистой красоты“, то таким воплощением должна бы быть ты, но это невозможно»[37].
«Под какими–то весьма плохими стихами, – цитируем дальше воспоминания Анны Петровны, – было написано: „Ecrit dans mon exil“{44}. Пушкин приписал:
Amour, exil!{45} — Какая гиль!{46}»Строганов так комментирует эти строчки: «Первый стих говорит о любви в изгнании – о встрече в Тригорском, о прогулке в Михайловском… Но всё ушло в прошлое и уже подверглось переоценке: „Какая гиль!“
«Дмитрий Николаевич Барков{47}, – вспоминает далее А. П. Керн, – написал одни, всем известные стихи не совсем правильно, и Пушкин, вместо перевода, написал следующее:
Не смею вам стихи Баркова Благопристойно перевесть И даже имени такова Не смею громко произнесть!Так несколько часов было проведено среди самых живых шуток, и я никогда не забуду его игривой весёлости, его детского смеха, которым оглашались в тот день мои комнаты».
Альбом А. П. Керн, в который были занесены эти стихотворения, постигла печальная участь. Об этом в 1937 году рассказала Любовь Павловна Полторацкая, племянница Анны Петровны:
«У меня, Любови Павловны, был один случай в жизни, о котором и ныне, через полстолетия вспоминаю с болью.
В то время мне было всего 13 лет от роду. Учили меня, как всех девочек дворянских сословий, «чему–нибудь и как–нибудь». Главным образом – языкам, игре на фортепиано и танцам, так что общее развитие было, конечно, слабое. Однако читать я любила и частенько рылась в нашей старой библиотеке. Уж не знаю, от кого остались эти книги, кем они были собраны и кто их читал. Там имелось богатое собрание романов на французском языке и много непонятных мне книг, переплетённых в жёлтую кожу с тиснениями, и пачки тетрадей и писем. Всё это было в ту пору свалено за ненадобностью в «коморе» – чистом амбарчике из толстых брёвен с дощатым полом и низким потолком. Тут же лежала и всякая хозяйственная рухлядь, накопившаяся за много лет. Замыкалась «комора» на железные винтовые болты и висячий замок.
Однажды осенью, когда наша домоправительница Олимпиада Васильевна отлучилась в наш соседний хутор за курами, утками и гусями и прочей живностью (такая отлучка производилась периодически несколько раз в год), я забралась в её комнатку, завладела связкой ключей, всегда висевших в её отсутствие на большом костыле под изголовьем её постели, и забралась в «комору». Мы всегда любили рыться в кучах старых вещей, безмолвных свидетелей прошлого – старинных изломанных ларцах и несессерах, во всяких домашних рукоделиях, рамочках и миниатюрах.
Я распахнула двери. Косые лучи солнца ярко озарили внутренность этого своеобразного хранилища, где наряду со всяким хламом груды книг заполняли в беспорядке широкие полки, завалили все углы. Вскоре я разыскала «Детское чтение» в новиковском, кажется, ещё издании. А может быть «Друг детей», или ещё как–нибудь по иному именовался этот журнал, уже позабыла. Его отложила в сторону, чтобы забрать с собой. Потом привлекло внимание литературное издание Вольтера, обильно украшенное чудесными гравюрами на дереве. Одна гравюра заставила покраснеть. Я быстро засунула старого философа на прежнее место и, весело чихая от пыли, которая струилась столбиком в полосках солнечных лучей, продолжила свои поиски.
Вскоре привлёк моё внимание старый альбом; то была довольно объёмистая тетрадь в четверть листа в кожаном переплёте тёмно–зелёного сафьяна с золотым обрезом, довольно толстая. В то время все мы, девочки–подростки, чувствовали слабость к альбомам со стишками и всякими сувенирами и старались, обычно, обзаводиться собственными альбомчиками, куда на листочках сиреневой или бледно–розовой бумаги мы списывали любимые стихи, и весьма гордились, если кто–нибудь из кузенов или приятелей заносил сюда продукты своего творчества, большей частью, конечно, явно подражательного характера. Я зачиталась найденной тетрадью, не без тайной мысли списать что–нибудь для себя.
При всей своей неопытности я с первых строк почувствовала, что это не наши наивные полуребяческие писания, а что–то очень сильное и смелое. Смущаясь и краснея, дочитала до конца несколько отрывков и увидела под одним из них подпись Пушкина. Об этом имени так часто говорила в нашем доме наша взрослая молодёжь, и это усилило интерес. Особенно, когда приметила, что все стихотворения написаны одной рукой, как мне показалось, рукой подписи.
Обыкновенно, мои кузины и кузены и молодые тётушки, наше старшее поколение молодёжи, занятые своими беспрестанными романами, со смехом отгоняли нас, подростков, в минуты своих игривых бесед. И этим, конечно, будили острое любопытство к запретному. Из разговоров дворовых девушек, которые бывали более откровенными, я уже, должна сознаться, была осведомлена о многом. И вот, горя от нетерпения вкусить скорее от запретного плода, я унесла тетрадь к себе в мезонин. Засунула её за зеркало и несколько дней перечитывала украдкой. Ещё на нескольких страницах увидела подпись Пушкина. Ещё были подписи Родзянко, Вульфа и, кажется, Языкова. В последнем, однако, не уверена – может быть, что запамятовала или перепутала.
Эти дни были заполнены тревогой. Я замечала, что от этого чтения моя безмятежная детскость нарушается и тает как льдинка от горячего прикосновения солнца. Было жутко, и сладко, и страшно от ощущения соблазна и греха. За несколько дней я осунулась и побледнела. Старшие стали примечать. Начались тревожные расспросы. В конце концов я не выдержала.
В одно осеннее утро, когда наша горничная девушка, закончив уборку мезонина, спустилась по лестнице вниз, и заглохли звуки её шагов, я прислушалась к воцарившейся тишине и извлекла из–за зеркала свою заветную тетрадь. Крепко прижала её к груди, где сильно колотилось сердце… Наконец решилась и… бросила её в пылающий камин. Пламя сразу охватило горячими языками старые пожелтевшие листки. Они быстро коробились от жара, свёртываясь в трубочки и превращаясь в пепел. Сафьяновый переплёт противился дольше. Он долго не поддавался огню. Но через несколько минут уступил и он разрушительному действию пламени, и вскоре от тетради, которая так волновала меня стыдом и страхом, осталось лишь изваяние полуразвёрнутой тетради из хрупкого серого пепла. Я глядела с сожалением и чувством смутного раскаяния. Потом прикоснулась к пепельной книге железной кочергой, и тетрадь тронулась, зашевелилась, как живая, и быстро распадаясь, поднялась клочками пепла и вылетела в трубу.
Так закончился мой первый соблазн и первый девичий стыд»[38].
В конце января 1828 года А. А. Дельвиг, состоявший чиновником особых поручений в Министерстве внутренних дел, был командирован в Харьков для проведения следствия о заготовке провианта для войск по завышенным ценам. Жена поехала с ним.
«Пока барон (Дельвиг. – В. С.) был в Харькове, – писала Анна Петровна исследователю творчества Пушкина П. В. Анненкову, – мы переписывались с его женою, и она мне прислала из Курска экспромт барона:
Я в Курске, милые друзья, И в Полторацкого таверне{48} Живее вспоминаю я О деве Лизе, даме Керне!»«Когда Дельвиг с женою уехали в Харьков, – вспоминала Анна Петровна, – я с отцом и сестрою перешла на их квартиру (Загородный проспект, дом Кувшинникова. – В. С.).
Пушкин заходил к нам узнавать о них и раз поручил мне переслать стихи к Дельвигу, говоря: «Да смотрите, сами не читайте и не заглядывайте».
Я свято исполнила и после уже узнала, что они состояли в следующем:
Как в ненастные дни собирались они Часто. Гнули, Бог их прости, от пятидесяти На сто. И отписывали, и приписывали Мелом. Так в ненастные дни занимались они Делом{49}.Эти стихи он написал у князя Голицына (Сергея Григорьевича. – В. С.), во время карточной игры, мелом на рукаве. Пушкин очень любил карты и говорил, что это его единственная привязанность. Он был, как все игроки, суеверен (считалось, что, отдавая выигрыш, можно спугнуть удачу. – В. С.), и раз, когда я попросила у него денег для одного бедного семейства, он, отдавая последние 50 руб., сказал: «Счастье ваше, что я вчера проиграл»».
«АХ, ДАЙТЕ АННУ МНЕ НА ШЕЮ»
В конце 1827–го и в 1828 году у Анны Петровны был роман с Сергеем Александровичем Соболевским (1803—1870), незаконнорожденным сыном знатного екатерининского вельможи А. Н. Соймонова и внучки обер–коменданта Петербурга С. Л. Игнатьева А. И. Лобковой. Соболевский был однокашником Л. С. Пушкина, П. В. Нащокина и М. И. Глинки по Благородному пансиону при Главном педагогическом институте, библиофилом и библиографом, автором ряда талантливых эпиграмм и экспромтов. С 1822 года он служил в московском архиве Министерства иностранных дел, жил весёлой, рассеянной жизнью – блистал на балах и великосветских раутах, устраивал холостяцкие попойки, прославился многочисленными любовными приключениями.
С Александром Сергеевичем Пушкиным Соболевский знаком с 1818 года, выполнял некоторые его поручения, вместе с Львом Сергеевичем готовил к печати «Руслана и Людмилу», издавал «Братьев–разбойников», а после возвращения поэта из ссылки стал его ближайшим другом и доверенным лицом – знакомил с московскими писателями и поэтами, в том числе с кругом «любомудров» и Адамом Мицкевичем; улаживал ссоры, предотвращал дуэли, ведал издательскими и финансовыми делами Пушкина.
Некоторое время (с 19 декабря 1826–го по 19 мая 1827 года) Пушкин даже жил в Москве на квартире Соболевского, которая находилась на Собачьей площадке в доме Ринкеви–ча. Здесь поэт впервые читал «Бориса Годунова», здесь было написано его знаменитое послание «В Сибирь». Вместе они задумывали издание собрания народных песен. Именно Соболевский осуществил выпуск весной 1827 года поэмы Пушкина «Цыганы». В знак благодарности и особого расположения Пушкин напечатал один экземпляр этой поэмы на пергаменте и преподнёс его Сергею Александровичу. Пушкин ценил незаурядность его натуры, живость характера, хотя и переходившую иногда в бонвиванство и бесцеремонность; его остроумие в разговорах и стихотворных экспромтах и щепетильность в вопросах этики. Соболевский называл себя «Пушкиным кверху ногами». Именно ему поэт подарил свой портрет, созданный в январе—феврале 1827 года художником В. А. Тропининым. В день отъезда Пушкина в Петербург Сергей Александрович устроил ему проводы на своей даче, близ Петровского дворца.
Узнав о горе, постигшем Соболевского (умерла его мать), Пушкин в письме от 15 июля 1827 года пригласил его в Петербург: «Мне бы хотелось с тобой свидеться да поговорить о будущем. Перенеси мужественно перемену судьбы твоей…» 23 августа 1827 года Сергей Александрович приехал в Северную столицу. На вечерах у Дельвига, блистая эрудицией, остроумием, отпуская едкие эпиграммы, он сразу обратил на себя внимание Анны Петровны Керн.
«Сколько мне помнится, – писал о Соболевском в уже цитировавшихся „Моих воспоминаниях“ Андрей Иванович
Дельвиг, – он тогда не был еще так близок с Пушкиным и другими современными поэтами, но был очень нахален, и потому, так сказать, навязывался на дружбу известных тогда людей. Нахальство его не понравилось жене Дельвига, и потому, дабы избегнуть частых его посещений, она его не принимала в отсутствии мужа. Но это не помогло: он входил в кабинет Дельвига, ложился на диван, который служил мне кроватью, и читал до обеда, а когда Дельвиг возвращался домой, то он входил вместе с ним и оставался обедать.
Читая лежа на диване, Соболевский часто засыпал. Раз он заснул, читая песни Беранжера. Книга выпала из его рук и была объедена большою собакою Дельвига. По этому случаю за обедом была сочинена песня с припевом:
Собака съела Беранжера, А Беранжер собаку съел;т. е. Беранжер большой мастер писать песни, он на этом, как выражаются в простонародье, собаку съел. <…>
В 1827 году, не помню по какому случаю, был у Дельвигов ужин, тогда как обыкновенно у них не ужинали. За ужином был Соболевский, который шутками своими оживлял всё общество… За ужином была Анна Петровна Керн <…>.
В 1827 году А. П. Керн была уже менее хороша собою, и Соболевский, говоря за упомянутым ужином, что на Керн трудно приискать рифму, ничего не мог придумать лучшего, как сказать:
У мадам Керны Ноги скверны».У Петра Ивановича Бартенева находился листок с собственноручно записанными шуточными стихами Соболевского к баронессе Дельвиг и Анне Петровне, из которых, видимо, А. И. Дельвиг по памяти и процитировал их окончание:
Ну, скажи, каков я? Счастлив беспримерно: Баронесса Софья Любит нас наверно. – «Что за простота! Ведь она не та! Я ж нежней кота, Легче всякой серны — К ножкам милой Керны. Ах, как они скверны!»Соболевский утверждал, что «стихотворение это беспрестанно твердил Пушкин».
Одну «альбомную шутку» Соболевского, обращенную к Анне Петровне, привёл Н. Н. Голицын в 1880 году в статье, посвященной нашей героине[39]:
Чтоб писать хвалу Вам сносную, Добрый гений мне шепнул: В радугу семиполосную Ты перо бы обмакнул, Из Эдема взял бы лилию, Песнь на ней бы начертил И посыпал лёгкой пылию С мотыльковых крыл.А. В. Марков–Виноградский впоследствии записал в своём дневнике – разумеется, со слов Анны Петровны – ещё один экспромт Соболевского:
Что Анна в табели честей?.. Всех ниже, и по регламенту Предпочитал, как должно ей. Я Александровскую ленту… А теперь я думать смею: «Ах, дайте Анну мне на шею!»Сам Сергей Александрович поместил в альбом А. П. Керн шуточный экспромт–эпитафию её сестре Елизавете:
Ах, смерть курносая, дурацкая Похитила тебя, о Лиза Полторацкая!Он посвятил эпитафию также самой Анне Петровне:
Под камнем сим, Что кроет свежий дерн, Предпочивает ввек Анна Петровна Керн.В начале ноября 1827 года Соболевский возвратился в Москву, где занимался перепечатыванием второй главы «Евгения Онегина», и… засыпал Анну Петровну любовными посланиями, о которых стало известно и Пушкину. По этому поводу в ноябре 1827 года поэт писал приятелю: «Безалаберный! Полно тебе писать глупости Анне Петровне; напиши мне слово путное. Где „Онегина“ 2–я часть?..»
Вероятно, поток восторженных излияний в адрес нашей героини продолжался; раздражённый этим Пушкин во второй половине февраля 1828 года довольно грубо и цинично (в манере самого Соболевского) сообщил ему о своей победе над Анной Петровной:
«Безалаберный!
Ты ничего не пишешь мне о 2 100 р. мною тебе должных, а пишешь о M–de Керн, которую с помощию Божией я на днях вы…б».
Вероятно, это произошло в то время, когда Анна Петровна проявила самое сердечное участие в замужестве сестры поэта.
27 января 1828 года Ольга Сергеевна Пушкина против воли родителей тайно обвенчалась с бывшим однокашником брата Льва по Благородному пансиону при Царскосельском лицее, чиновником Департамента народного образования Николаем Ивановичем Павлищевым{50}. Надежда Осиповна, узнав об этом и желая хотя бы формально соблюсти обряд благословения на брак, попросила Александра Сергеевича и Анну Петровну стать посажёными родителями и благословить новобрачных.
Согласно христианскому обычаю, в посажёные родители (в случае, если нет настоящих родителей) приглашают кого–либо из старших родственников или близких друзей. В роли посажёного отца обычно выступает женатый мужчина, в роли посажёной матери – замужняя женщина. Посажёные родители благословляют наречённых сына и дочь перед отправлением в церковь, а после венчания встречают их дома. Посажёная мать подносит новобрачным хлеб–соль, затем посажёный отец благословляет их образом. Как видим, в связи с тем, что этот обряд был условным, здесь нарушено сразу несколько его основных положений.
Анна Петровна описала этот эпизод в «Воспоминаниях о Пушкине, Дельвиге и Глинке»:
«Другое воспоминание моё о Пушкине относится к свадьбе сестры его. Дельвиг был тогда в отлучке. В его квартире я с Александром Сергеевичем встречала и благословляла новобрачных. Расскажу подробно это обстоятельство.
Мать Пушкина, Надежда Осиповна (28 января, на следующий день после тайного венчания дочери. – В. С.), вручая мне икону и хлеб, сказала: «Remplacez moi, chere amie, aves cette image, gue je vous confie pour benir ma fille!» (Замените меня, мой друг, вручаю вам образ, благословите им мою дочь от моего имени!). Я с любовью приняла это трогательное поручение и, расспросив о порядке обряда, отправилась вместе с Александром Сергеевичем в старой фамильной карете его родителей на квартиру Дельвига, которая была приготовлена для новобрачных. Был январь месяц, мороз трещал страшный, Пушкин, всегда задумчивый и грустный в торжественных случаях, не прерывал молчания. Но вдруг, стараясь показаться весёлым, вздумал заметить, что ещё никогда не видел меня одну: «Voila pourtant la premiere fois, que nous sommes seuls, madame» (А ведь мы с вами в первый раз одни, сударыня): мне показалось, что эта фраза была внушена желанием скрыть свои размышления по случаю важного события в жизни нежно любимой им сестры; а потому, без лишних объяснений, я сказала только, что этот необыкновенный случай отмечен сильным морозом. «Vous avez raison, 27 degres» (Вы правы, 27 градусов), – повторил Пушкин, плотнее закутываясь в шубу. Так кончилась эта попытка завязать разговор и быть любезным. Она уже не возобновилась во всю дорогу. Стужа давала себя чувствовать, и в квартире Дельвига, долго дожидаясь приезда молодых, я прохаживалась по комнате, укутываясь в кацавейку; по поводу её Пушкин сказал, что я похожа в ней на царицу Ольгу. Поэт старался любезностью и вниманием выразить свою благодарность за участие, принимаемое мною в столь важном событии в жизни его сестры».
В «Письме П. В. Анненкову при посылке воспоминаний о Глинке» Анна Петровна повествует о своём пребывании наедине с Пушкиным в ожидании сестры поэта и Павлищева в несколько ином тоне: между фразами поэта «А ведь мы с вами в первый раз одни, сударыня» и «Вы правы, 27 градусов» она приводит свою: «И очень зябнем, не правда ли?» А заканчивает она этот свой рассказ таким образом: «Несмотря на озабоченность, Пушкин и в этот раз был очень нежен, ласков со мною… »
Некоторые пушкинисты, правда, считают, что упомянутая близость между Анной Керн и Пушкиным произошла в день её рождения, 11 февраля 1828 года. Но в конечном итоге точная дата не столь уж важна.
Видный исследователь творчества поэта Б. Л. Модзалевский в своей первой статье об А. П. Керн высказал предположение, что Пушкин в письме Соболевскому, «поддаваясь циничному тону последнего», выразился так цинично о предмете своего восторженного поклонения лишь «для красного словца». «Мы не допускали тогда возможности, – писал Модзалевский позднее, – столь грубого выражения о „гении чистой красоты“, о женщине молодой и несчастной, которая с таким добродушием и симпатией рассказывает о Пушкине в „Воспоминаниях“ своих, относящихся именно к зиме 1827—1828 гг. Но теперь, после опубликования М. Л. Гофманом дневников А. Н. Вульфа[40] , раскрывших совершенно невероятный любовный быт и взаимные отношения тогдашней молодёжи обоих полов, – а также с очевидностью показавших интимную близость А. П. Керн и её сестры с их двоюродным братом А. Н. Вульфом, – остаётся допустить полную вероятность того, что Пушкин не прихвастнул перед своим чувственным приятелем».
Несмотря на то, что экстаз поэтической влюблённости и восхищение Пушкина по отношению к Анне Петровне давно прошли, у него осталось вполне естественное чувство к красивой женщине – желание обладать ею. Это желание при удобно представившемся случае он и удовлетворил – просто так, без любви и пылкой страсти; возможно, отсюда и цинизм в письме Соболевскому. Ведь сам Пушкин написал о себе: «Быть может, я изящен и порядочен в моих писаниях, но сердце моё совсем вульгарно, и все наклонности у меня совсем мещанские».
Нелишне будет напомнить читателю, незнакомому с подробностями интимной жизни поэта, что конец 1820–х годов был для Пушкина временем не только необыкновенного взлёта таланта, но и бесконечного сватовства, что не мешало ему с тем же Соболевским часто посещать бордели. Содержательница одного из этих заведений Софья Астафьевна даже жаловалась полиции на то, что «безнравственный» Пушкин «развращает её овечек».
Об этом периоде жизни поэта Анна Ахматова писала: «Пушкин не только влюблялся и разлюблял и, как никогда, расширил свой „донжуанский список“», – и сетовала, что «исследователю грозит опасность заблудиться в прелестном цветнике избранниц, когда Оленина и Закревская совпадают по времени, Пушкин хвастает своей победой у Керн, несомненно как–то связан с Хитрово и тогда же соперничал с Мицкевичем у Собаньской»[41].
Донжуанский список А. С. Пушкина
В Пушкине – гениальном поэте и любвеобильном мужчине – возвышенные и нежные чувства к юным девушкам, потенциальным невестам и жёнам сочетались с настоящей сексуальной агрессией по отношению к свободным и доступным женщинам.
В развитие предыдущего эпизода Анна Петровна на склоне лет в письме П. В. Анненкову приводит следующее рассуждение о душевных качествах Пушкина: «Я заметила в этом и ещё в нескольких других случаях, что в нём было до чрезвычайности развито чувство благодарности: самая малейшая услуга ему, или кому–нибудь из его близких, трогала его несказанно. Так я помню, однажды, потом, батюшка мой, разговаривая с ним на… квартире Дельвига, коснулся этого события, т. е. свадьбы его сестры, мною нежно любимой, сказал ему, указывая на меня: «А эта дура в одной рубашке побежала туда через форточку». В это время Пушкин сидел рядом с отцом моим на диване, против меня, поджавши по своему обыкновению ноги и, ничего не отвечая, быстро схватил мою руку и крепко поцеловал: красноречивый протест против шуточного обвинения сердечного порыва! Помню ещё одну особенность в его характере, которая, думаю, была вредна ему: думаю, что он был более способен увлечься блеском, заняться кокетливым старанием ему нравиться, чем истинным глубоким чувством любви. Это была в нём дань веку, если не ошибаюсь; иначе истолковать себе не умею! Un bon mot, la repartie vive (Острота, быстрый и находчивый ответ) всегда ему нравились. Он мне однажды сказал – да тогда именно, когда я ему сказала, что не хорошо меня обижать, – moi, qui suis si inoffensive ( Меня, такую безобидную), выражение ему понравилось, и он простил мне выговор, повторяя: «C'est reellement cela, Vous etes si inoffensive» (Это в самом деле верно, вы такая безобидная), – потом сказал: «Да с вами и не весело ссориться; voila Vorte cousine, c'est toute autre chose: et cela fait plaisir, on trouve a' qui parler» (Вот ваша двоюродная сестрица – совсем другое дело, и это приятно: есть с кем поговорить). Причина такого направления – слишком невысокое понятие о женщине, опять–таки – несмотря на всю гениальность, печать века. Сестра моя сказала ему однажды: «Здравствуй, Бес!» Он её за то назвал божеством в очень милой записке. Любезность, остроумное замечание женщины всегда способны были его развеселить. Однажды он пришёл к нам и сидел у одного окна с книгой, я у другого; он подсел ко мне и начал говорить мне нежности a' propos de bottes ( под пустым предлогом) и просить ручку, говоря: «C'est si satin»; я ему отвечала «satan» ( здесь – игра слов: «Такой атлас» – «Сатана». – В. С.), а сестра сказала шутя: «Не понимаю, как вы можете ему в чём–нибудь отказать!» Он от этой фразы в восторг пришёл и бросился перед нею на колени в знак благодарности. Вошедший в эту патетическую минуту брат Алексей Николаевич Вульф аплодировал ему от всего сердца.
И, однако ж, он однажды мне говорил, кстати о женщине, которая его обожала и терпеливо переносила его равнодушие: «Rien de plus insipide que la patience et la resignation» (Ничего нет пошлее терпенья и самоотречения; в другом переводе – Нет ничего безвкуснее долготерпения и безропотности. – В. С.)». Может быть, Пушкин адресовал эту фразу и самой А. П. Керн?..
А в отношении любви… Анна Петровна в одном из своих воспоминаний уверенно заявила: «Я думаю, он никого истинно не любил, кроме няни своей и потом сестры».
Другая муза поэта, дочь генерала Н. Н. Раевского М. Н. Волконская – умная, чуткая и проницательная женщина – наверное, лучше других выразила суть отношений Пушкина с женщинами: «Как поэт, он считал своим долгом быть влюблённым во всех хорошеньких женщин и молодых девушек, с которыми встречался… В сущности, он обожал только свою музу и поэтизировал всё, что видел…»
18 октября 1828 года С. А. Соболевский выехал из Москвы за границу. Вернувшись в Россию 22 июля 1833 года, он провёл несколько дней в Петербурге, где встретился с Пушкиным и подарил ему привезённое из–за границы запрещённое в России издание сочинений Мицкевича. 17 августа Соболевский с Пушкиным ехали вместе из Петербурга до Торжка.
Наиболее интенсивное общение Пушкина и Соболевского происходило в 1834—1835 годах в Петербурге. О. С. Павлищева писала в это время, что без приятеля «Александр жить не может». Вероятно, в это время Сергей Александрович встречался и с А. П. Керн. До нас дошло стихотворное послание Льва Пушкина, в котором сообщается об одном неудавшемся визите к ней вместе с Соболевским:
Приехавший на берег Невский Лев Пушкин нынче был у вас, А вместе с ним и Соболевский Прождали здесь вас целый час.В августе 1836 года Соболевский вновь уехал за границу, где его и застало известие о смерти Пушкина. По мнению В. А. Соллогуба (с ним был согласен и петербургский приятель Пушкина Павел Муханов), Соболевский, «по влиянию его на Пушкина, один мог бы удержать его» от дуэли с Дантесом. Сохранились девять писем Пушкина Соболевскому и четыре письма Соболевского Пушкину. Ему адресована и так называемая «подорожная» поэта «У Гальони иль Кальони».
Соболевский очень много знал о личной жизни Пушкина и Анны Петровны, но не поведал об этом даже после смерти поэта, ибо считал, что «неприлично пользоваться, для увеселения публики, дружескою доверенностию покойного». Небольшое письмо–воспоминание, написанное им в 1867 году историку М. П. Погодину, да статья «Таинственные приметы в жизни Пушкина», опубликованная в 1870 году в «Русском архиве», – вот всё, что он счёл возможным предать публичной огласке. Но одна данная им характеристика заменит несколько страниц иных воспоминаний: «Отличительною чертою Пушкина была память сердца; он любил старых знакомых и был благодарен за оказанную ему дружбу, особенно тем, которые любили в нём его личность, а не его знаменитость; он ценил добрые советы, данные ему вовремя, не в перекор первым порывам горячности, проведённые рассудительно и основанные не на общих местах, а сообразно с светскими мнениями о том, что есть честь, и о том, что называется честью…»
«Я ЕХАЛ К ВАМ…»
19 октября 1828 года Пушкин приехал на квартиру Дельвигов, чтобы засвидетельствовать своё почтение Софье Михайловне, у которой 20 октября был день рождения. У Дельвигов, как всегда, находилась Анна Керн. Был обед, а потом задушевная беседа. Разговор шёл о предстоящем отъезде поэта в Тверскую губернию, в Малинники, к Прасковье Александровне Осиповой. С собой Пушкин привёз двухтомник римского поэта Стация во французском переводе «L' Achil–leide et les Sylves de Stece» (Ахиллеида и Сильвы Стация), издания 1802 года; на обороте предтитульного листа первого тома он набросал:
Вези, вези, не жалей, Со мной ехать веселей.Созвучные этой встрече шутливые строки из стихотворения Стация:
Жалкие вы, знатоки, кому важно отличье фазана От журавлей, на родине зимующих; потрох какого Гуся жирней; чем тусский кабан благородней умбрийских, Или нежней на каких студенистая устрица травах! Hac – радушный приём, разговор, с Геликона идущий, — Шутки и радостный смех скоротать побудили приятно Ночь в середине зимы и сладостным сном не забыться…навеяли Пушкину шутливый экспромт:
Мне изюм Нейдёт на ум, Цукерброт Не лезет в рот, Пастила не хороша Без тебя, моя душа.На основании собственноручной приписки, сделанной под стихотворением Анной Петровной: «А. К. 19 окт. 1828–го года, С. П–г.», можно утверждать, что оно или было посвящено ей, или является плодом их совместного с Пушкиным творчества.
Вечером, распрощавшись с дамами, Пушкин вместе с Дельвигом отправился в гостиницу Демута, где в номере лицеиста А. Д. Тыркова происходило празднование очередной, 17–й годовщины Царскосельского лицея. Пушкин вёл протокол встречи, в конце которого записал следующее четверостишие:
Усердно помолившись Богу, Лицею прокричав ура, Прощайте, братцы: мне в дорогу, А вам в постель уже пора.В ночь на 20 октября поэт на целых шесть недель уехал в Малинники. Спустя неделю в письме Алексею Вульфу, уже из тверского имения его матери Пушкин почтительно приветствовал оставшихся в Петербурге друзей: «Здравствуйте; поклонение моё Анне Петровне, дружеское рукопожатие Баронессе… »
Надпись, сделанная А. С. Пушкиным и А. П. Керн на книге Стация. 1828 г.
«По отъезде отца и сестры из Петербурга (25 сентября 1828 года. – В. С.), – цитируем далее воспоминания Анны Петровны о Пушкине, – я перешла на маленькую квартирку в том же доме, где жил Дельвиг{51}, и была свидетельницею свидания его с Пушкиным. Последний, узнавши о приезде Дельвига, тотчас приехал, быстро пробежал через двор и бросился в его объятия; они целовали друг у друга руки и, казалось, не могли наглядеться один на другого. Они всегда так встречались и прощались: была обаятельная прелесть в их встречах и расставаниях.
В эту зиму (1828/29 года. – В. С.) Пушкин часто бывал по вечерам у Дельвига, где собирались два раза в неделю лицейские товарищи его: Лангер{52}, князь Эристов{53}, Яковлев{54}, Комовский{55} и Илличевский. Кроме них, приходили на вечера Подолинский, Щастный, молодые поэты, которых выслушивал и благословлял Дельвиг, как патриарх. Иногда также являлся Сергей Голицын{56} и Михаил Иванович Глинка, гений музыки, добрый и любезный человек, как и свойственно гениальному существу».
Сколько имён, сколько интереснейших личностей в кругу общения Анны Керн!
По мнению некоторых исследователей, одним из поклонников Анны Керн был упомянутый Алексей Дамианович Илличевский (1798—1837), и она отвечала ему взаимностью. Однокурсник Пушкина и Дельвига по Лицею, в ученические годы он по лёгкости пера превосходил товарищей и на равных соперничал с Пушкиным. Лицеисты даже называли его «Державиным». Особенно силён Илличевский был в эпиграммах, некоторые из них впоследствии даже приписывали Пушкину. В 1817—1821 годах он служил при томском генерал–губернаторе, затем в Министерстве государственных имуществ. После возвращения Пушкина из ссылки в Петербург Илличевский продолжил общение с ним. В 1827—1828 годах Пушкин подарил ему вторую главу «Евгения Онегина» с посвящением «Другу Олёсеньке от Француза». Впоследствии он превратился в посредственного поэта, выпустил книгу стихов «Опыты в антологическом роде» (1827). Обычно остроумный и приятный в беседе, Илличевский временами становился вспыльчивым и сварливым, а мнительный и самолюбивый характер мешал его сближению с товарищами.
«Илличевский написал мне, – вспоминала Анна Петровна, – следующее (шуточное, но с большим подтекстом. – В. С.) послание:
Без тебя в восторге нем, Пью отраду и веселье. Без тебя я жадно ем Фабрики твоей изделье{57}. Ты так сладостно мила, Люди скажут небылица, Чтоб тебя подчас могла Мне напоминать горчица. Без горчицы всякий стол Мне теперь сухоеденье; Честолюбцу льстит престол — Мне ж – горчичницей владенье. Но угодно так судьбе, Ни вдова ты, ни девица, И моя любовь к тебе После ужина горчица.Он называл меня:
Сердец царица, Горчичная мастерица!»«На вечера к Дельвигу, – продолжаем цитировать воспоминания Анны Петровны, – являлся и Мицкевич. Вот кто был постоянно любезен и приятен. Какое бесподобное существо! Нам было всегда весело, когда он приезжал. Не помню, встречался ли он часто с Пушкиным, но знаю, что Пушкин и Дельвиг его уважали и любили. Да что мудрёного? Он был так мягок, благодушен, так ласково приноровлялся ко всякому, что все были от него в восторге. Часто он усаживался подле нас, рассказывал сказки, которые он тут же сочинял, и был занимателен для всех и каждого».
Польский поэт Адам Мицкевич (1798—1855) в 1823 году был арестован по делу о тайных обществах в Польше и Литве и сначала заключён в тюрьму в помещении униатского монастыря, а затем в апреле 1824 года выслан из Польши в Центральную Россию под надзор полиции. Мицкевич был широко образован, говорил на многих языках, кроме русского, но, приехав в Россию, очень скоро научился и ему и общался без акцента.
С ноября 1827 года он жил в Петербурге и был постоянным посетителем дельвиговских литературных собраний. Он всегда был корректен, чрезвычайно вежлив, держался, как истинный джентльмен, с благородной простотой. Стройный, с густыми тёмными волосами, с задумчивыми карими глазами, с доброй, затаённо–грустной улыбкой – женщины от него были без ума. Когда Мицкевич воодушевлялся разговором, глаза его загорались, он был остроумен, скор на меткие слова.
Мицкевич присутствовал у Дельвига на чтении Пушкиным «Бориса Годунова» и вместе с хозяином квартиры посоветовал поэту исключить из текста замедляющую действие сцену разговора Отрепьева со злым чернецом. После выхода поэмы Мицкевича «Конрад Валленрод» Жуковский сказал Пушкину: «Знаешь, брат, ведь он заткнёт тебя за пояс». «Ты не так говоришь,– ответил Пушкин, – он уже заткнул меня». В мае 1829 года Мицкевичу удалось получить заграничный паспорт, и он покинул Петербург.
«Сказки в нашем кружке были в моде, – вспоминала Анна Петровна, – потому, что многие из нас верили в чудесное, в привидения и любили всё сверхъестественное. Среди таких бесед многие из тогдашних писателей читали свои произведения. Так, например, Щастный читал нам Фариса (стихотворение Мицкевича. – В. С.), переведённого им тогда, и заслужил всеобщее одобрение. За этот перевод Дельвиг очень благоволил к нему, хотя вообще Щастный как поэт был гораздо ниже других второстепенных писателей».
Непременный участник «дельвиговских вечеров», поэт, переводчик и журналист Василий Николаевич Щастный (1802 – после 1854) был хорошо знаком с А. Мицкевичем, перевёл, кроме «Фариса», его «Крымские сонеты». Он сотрудничал в «Северных цветах», «Невском альманахе», «Подснежнике», «Царском Селе» и «Литературной газете».
Два стихотворения Щастного, датированные 1829 годом, по–видимому, адресованы Анне Петровне:
К*
Напрасно ты печаль твою скрываешь: Я разгадал тоску души твоей. Как?.. на заре твоих весенних дней Ты бедствия предчувствовать дерзаешь? Взойдёт ли день на небе голубом Иль неба свод ночная мгла оденет, — Не трепещи: беда тебя крылом В губительном полёте не заденет.РЕВНОСТЬ
Когда, подсев к тебе наедине, Речей твоих вкушаю упоенье, Зачем порой в душевной глубине Является преступное сомненье? Ты хочешь знать, зачем, как демон злой, Я иногда тебя глазами мерю? Какой–то страх одолевает мной, И полноте блаженства я не верю… Так иногда при блеске торжества, Случается, уничиженье бродит; Так иногда во храме божества Мысль грешная нам в голову приходит.В. Н. Щастный вместе с М. Л. Яковлевым и другими литераторами, участниками дельвиговских собраний, после смерти их гостеприимного хозяина разбирал архив покойного и, опасаясь вмешательства Третьего отделения, уничтожил значительную его часть.
«Среди других, второстепенных поэтов дельвиговского кружка видное место занимал Подолинский{58}, – писала Анна Петровна, – и многими его стихами восхищался Пушкин. Особенно нравились ему следующие:
ПОРТРЕТ{59}
Когда стройна и светлоока Передо мной стоит она, Я мыслю: Гурия Пророка{60} С небес на землю сведена. Коса и кудри тёмно–русы. Наряд небрежный и простой, И на груди роскошной бусы Роскошно зыблются порой. Весны и лета сочетанье В живом огне её очей Рождают негу и желанье В груди тоскующей моей.И окончание стихов под заглавием: К ней.
Так ночью летнею младенца, Земли роскошной поселенца, Звезда манит издалека, Но он к ней тянется напрасно… Звезды златой, звезды прекрасной, Не досягнёт его рука».А. И. Подолинский писал в воспоминаниях «По поводу статьи г. В. Б. „Моё знакомство с Воейковым в 1830 году“»: «У Дельвига… Пушкин стал, шутя, сочинять пародию на моё стихотворение:
Когда стройна и светлоока Передо мной стоит она, Я мыслю: Гурия Пророка С небес на землю сведена… – и пр.Последние два стиха он заменил так:
Я мыслю: в день Ильи Пророка Она была разведена…Не лишнее, однако же, заметить, – продолжал Подолинский, – что к этой, будто б в день Ильи разведённой, написаны и самим Пушкиным стихотворения:
Я помню чудное мгновенье…И другое:
Я ехал к вам, живые сны…Вдохновительница этих стихов показывала мне последнее стихотворение в подлиннике, не знаю почему, изорванном в клочки, на которых, однако ж, можно было рассмотреть, что эти три, по–видимому, так легко вылившиеся строфы стоили Пушкину немалого труда. В них было такое множество переделок, помарок, как ни в одной из случившихся мне видеть рукописей поэта»[42].
Продолжим цитировать воспоминания Анны Петровны.
«Пушкин в эту зиму бывал часто мрачным, рассеянным и апатичным. В минуты рассеянности он напевал какой–нибудь стих и раз был очень забавен, когда повторял беспрестанно стих барона Розена:
Неумолимая, ты не хотела жить, —передразнивая его и голос и выговор…
Он раз пришёл ко мне (во второй половине января – начале февраля 1829 года. – В. С.) и, застав меня за письмом к меньшей сестре моей в Малороссию, приписал в нём:
Когда помилует нас Бог, Когда не буду я повешен, То буду я у ваших ног В тени украинских черешен{61}.В этот самый день я восхищалась чтением его «Цыган» в Тригорском и сказала: «Вам бы следовало, однако ж, подарить мне экземпляр 'Цыган' в воспоминание того, что вы их мне читали». Он прислал их в тот же день с надписью на обёртке всеми буквами: «Её Превосходительству А. П. Керн от господина Пушкина, усердного её почитателя. Трактир Демут № 10».
Несколько дней спустя он приехал ко мне вечером и, усевшись на маленькой скамеечке (которая хранится у меня как святыня), написал на какой–то записке:
Я ехал к вам. Живые сны За мной вились толпой игривой, И месяц с правой стороны Осеребрял мой бег ретивый. Я ехал прочь. Иные сны… Душе влюблённой грустно было, И месяц с левой стороны Сопровождал меня уныло! Мечтанью вечному в тиши Так предаёмся мы, поэты. Так суеверные приметы Согласны с чувствами души.Писавши эти строки и напевая их своим звучным голосом, он при стихе:
И месяц с левой стороны Сопровождал меня уныло! —заметил, смеясь: Разумеется, с левой, потому что ехал назад/ Это посещение, как и многие другие, полно было шуток и поэтических разговоров.
В это время он очень усердно ухаживал за одной особой, к которой были написаны стихи: «Город пышный, город бедный… " и «Пред ней, задумавшись, стою… " (А. А. Олениной. – В. С.). Несмотря, однако ж, на чувство, которое проглядывает в этих прелестных стихах, он никогда не говорил об ней с нежностию и однажды, рассуждая о маленьких ножках, сказал: «Вот, например, у ней вот какие маленькие ножки, да черт ли в них?» В другой раз, разговаривая со мною, он сказал: «Сегодня Крылов просил, чтобы я написал что–нибудь в её альбом». – «А вы что сказали?» – спросила я. «А я сказал: Ого!» В таком роде он часто выражался о предмете своих воздыханий…
Зима прошла. Пушкин уехал в Москву (в начале марта 1829 года. – В. С.) и, хотя после женитьбы и возвратился в Петербург, но я не более пяти раз с ним встречалась».
Вот так, довольно коротко и, разумеется, деликатно (поскольку это касалось собственной репутации), Анна Петровна рассказала и о своей жизни, и о дружбе с Пушкиным и другими замечательными современниками в период с 1827 по 1829 год.
Имя ещё одного поклонника нашей героини назвал Алексей Вульф в дневниковой записи от 16 января 1829 года: «…у Анны Петровны я встретился с генерал–майором Свечиным, моим земляком по Тверской губернии, знавшим коротко моего отца, и мне сватом по сестре его [Вере Александровне], которая была за моим дядей [Фёдором Ивановичем Вульфом], а ко всему этому вдобавок, несмотря на 50 лет и 10 человек детей, волочившимся за Анной Петровной». В комментариях к дневнику Вульфа говорится, что имеется в виду Пётр Александрович Свечин. Но он к этому времени состоял только в чине полковника и, самое главное, был холостым и бездетным. Единственным из Свечи–ных, кто подходит под описание Вульфа, является генерал–майор Алексей Александрович Свечин{62} (1781—1835): ему в начале 1829 года шёл 48–й год, он был женат на Федосье Петровне, урождённой Корицкой, и имел, по крайней мере, пятерых детей. И ещё одна немаловажная деталь: заочным восприемником при крещении его старшего сына Александра согласился стать император Александр Павлович, а во время самого таинства монаршее место занимал дивизионный генерал Ермолай Фёдорович Керн, муж Анны Петровны.
Уже после описываемой Алексеем Вульфом встречи, 8 декабря 1832 года А. А. Свечин был произведён в генерал–лейтенанты, а 7 февраля 1834 года назначен начальником 4–й дивизии. Хотя позднее в мемуарах Анна Петровна неблагосклонно отзывалась о военных, справедливости ради надо сказать, что Алексей Александрович мало походил на грибо–едовского полковника Скалозуба: он был прекрасно образованным человеком, владел тремя иностранными языками[43].
С весны 1829 года Дельвиги для поправки здоровья Антона Антоновича переселились на дачу, которая располагалась на Петербургской стороне, «в Колтовской, у Крестовского перевоза», близ дачи Нарышкиных. А. П. Керн в июне переехала к ним. 28 июня – 1 июля 1829 года вместе с Глинкой, четой Дельвигов и О. М. Сомовым Анна Петровна совершила незабываемую поездку в Финляндию на водопад Иматру на реке Вуоксе, с восторгом описанную ею в «Воспоминаниях о Пушкине, Дельвиге и Глинке»:
«Подорожная для предотвращений задержки в лошадях была взята на моё имя, как генеральши, а барон и прочие играли роль будущих [сопровождающих]. <…> Мудрено было придумать для приятного путешествия условия лучше тех, в каких мы его совершили: прекрасная погода, согласное, симпатичное общество и экипаж, как будто нарочно приспособленный к необыкновенно быстрой езде по каменистой гладкой дороге, живописно извивающейся по горам, над пропастями, озёрами и лесами вплоть до Иматры, делали всех нас чрезвычайно весёлыми и до крайности довольными. <… > Таким образом мы приехали в Выборг. <… > Имея привычку не спать летом по ночам, я и эту ночь просидела у окна, любуясь видом на залив, прислушиваясь к плеску тихих волн его <…>. На заре <…> наша компания собралась в дорогу и, напившись горячего, отправилась к цели нашей поэтической прогулки. Пополудни, часу в 4–м или в 5–м, мы услышали гул и шум Иматры».
Наша героиня была заворожена величественной красотой природы: «По предложению барона Дельвига, не доезжая до станции, вышли из экипажа и направились пешком в ту сторону, откуда несся шум водопада, чтоб при ясном дне взглянуть на это чудо природы – на великолепную Иматру. Тропинка, ведущая к водопаду, извивается по густому дикому лесу, и мы с трудом пробирались по ней, беспрестанно цепляясь за сучья. По мере приближения нашего к водопаду его шум и гул всё усиливались и наконец дошли до того, что мы не могли расслышать друг друга; несколько минут мы продолжали подвигаться вперёд молча, среди оглушительного и вместе упоительного шума… и вдруг очутились на краю острых скал, окаймляющих Иматру! Пред нами открылся вид ни с чем не сравненный; описать этого поэтически, как бы должно, я не могу, но попробую рассказать просто, как он мне тогда представился, без украшений, тем более что этого ни украсить, ни улучшить невозможно. Представьте себе широкую, очень широкую реку, то быстро, то тихо текущую, и вдруг эта река суживается на третью часть своей ширины серыми, седыми утёсами, торчащими с боков её, и, стеснённая ими, низвергается по скалистому крутому скату на пространстве 70 сажен в длину. Тут, встречая препятствия от различной формы камней, она бьётся о них, бешено клубится, кидается в стороны и, пенясь и дробясь о боковые утёсы, обдаёт их брызгами мельчайшей водяной пыли, которыми покрывает, как легчайшим туманом, её берега. Но, с окончанием склона, оканчиваются её неистовства: она опять разливается в огромное круглое озеро, окаймлённое живописным лесом, течёт тихо, лениво, как бы усталая; на ней не видно ни волнения, ни малейшей зыби. <…> Мы то опускались, то подымались, то прыгали на утёсы, орошаемые освежительною пылью, и долго восхищались чудным падением алмазной горы, сверкающей от солнечных лучей разнообразными переливами света».
По извечной традиции, сохранившейся до наших дней, экскурсанты оставляют автографы на достопримечательностях. Участники вояжа на Иматру увидели такую же картину на прибрежных камнях; причём среди надписей они обнаружили имя хорошо знакомого всем присутствовавшим поэта Е. А. Баратынского. Компания не удержалась от искушения запечатлеть там и свои фамилии.
Анна Петровна даёт удивительно поэтичное описание завершения путешествия: «Настал вечер, взошла луна, и мы, запив свой голод чаем, наняли тележки и поехали берегом к Иматре. У самого водопада луна выбралась из облаков и осветила прямо кипящие, бушующие волны. Эффект был неописанный! Иматра, осеребрённая её лучами, казалась чем то фантастическим; невозможно было оторвать от неё глаз! Долго ходили мы по тропинке, усыпанной песком и грациозно извивающейся между деревьев, над клокочущей пучиной: заманчивость и обаяние такой бездны были невыразимы. <…> Мы приехали в Выборг под вечер, но Дельвиг не дал нам перевести духа и потащил осматривать редкости Выборга и сад барона Николаи… »
Михаил Иванович Глинка в «Записках» гораздо более скупыми красками нарисовал так запомнившуюся нашей героине поездку: «…Я часто посещал барона Дельвига; кроме его милой и весьма любезной жены, жила там также любезная и миловидная барыня Керн. В июне барон с женою, г–жою Керн и Орестом Сомовым… отправились в четырёхместной линейке в Иматру. Мы с Корсаком{63} поехали вслед за ними на тележке; съехавшись в Выборге, вместе гуляли в прекрасном саду барона Николаи. Вместе видели Иматру и возвратились в Петербург. <…> Помнится, что вскоре по возвращении из Иматры мы угостили Дельвигов, Керн и Сомова Колмаковым{64} и Огинским{65}, и удачно».
В августе Анне Петровне «представился случай достать выгодную квартиру». Она поселилась на Васильевском острове, вдали от Дельвигов, которые сняли квартиру вновь на Загородном проспекте – в доме купца Тычинкина, напротив Владимирской церкви.
2 октября 1829 года, в день памяти святой Анны Кашинской, на черновике статьи, содержащей протест против самовольной публикации его стихов М. А. Бестужевым–Рюминым в альманахе «Северная звезда», Пушкин изобразил силуэт прекрасной женской головки. Большинство пушкинистов считают его портретом Анны Петровны Керн. Известный искусствовед и исследователь рисунков поэта А. М. Эфрос, атрибутировавший этот портрет, писал: «На листе изображена склонённая голова молодой дамы, с гладкой, прикрывающей виски причёской и высоким шиньоном на макушке. В ушах – длинные на подвесках серьги. Рисунок сделан скупым и строгим очерком. Он передаёт округлые черты миловидной, почти красивой женщины, в расцвете лет и потому несколько располневшей. У неё большие, непропорционально широкие глаза, как бы вплотную надвинувшиеся на тонкий прямой нос, чуть короткий, но изящно очерченный; на нижней части лица – большие мягкие губы и немного тяжёлый, но нежно–округлый подбородок»[44].
Столько нежности и кротости в этом лице – кажется, Мадонна с картины Рафаэля перенеслась на страничку пушкинской рукописи… Самое лирическое стихотворение и самый одухотворённый пушкинский рисунок – не лучшие ли это памятники Анне Петровне Керн?
«ТВОИ НЕБЕСНЫЕ ЧЕРТЫ»
Здесь мы, несколько нарушая хронологию, ненадолго отступим от канвы нашего повествования, чтобы рассказать о немногочисленных сохранившихся изображениях нашей героини.
Единственным достоверным живописным портретом её считается миниатюра неизвестного художника, переданная в 1904 году в Пушкинский Дом внучкой Анны Петровны А. А. Кулжинской и находящаяся теперь в экспозиции Всероссийского музея Пушкина в Санкт–Петербурге. Однако этот портрет, написанный в конце 1820–х – начале 1830–х годов малоискусным мастером, не только не передаёт красоты модели, но даже разочаровывает. В изображённой на нём женщине нет ничего ослепительного и чарующего, художнику не удалось передать ни «трогательной томности в выражении глаз», ни её живого ума, ни поэтичности натуры.
К достоверным изображениям Анны Петровны можно отнести также её теневой силуэт, созданный в 1825 году в Тригорском.
В 1970—1980–х годах в трудах некоторых пушкинистов были сделаны попытки адресовать Анне Петровне, кроме пушкинского рисунка, сделанного 2 октября 1829 года, ещё несколько портретных зарисовок поэта и работ других художников.
Л. Ф. Керцелли, автор книги «Тверской край в рисунках Пушкина», высказала предположение, что два женских профиля, изображённых в левом нижнем углу листа с фразой «В одной из южных губерний наших…» (вариант начала повести «Барышня–крестьянка»), а также женская фигура в полный рост рядом с профилем Алексея Вульфа и самого Пушкина принадлежат А. П. Керн.
Ещё один предполагаемый портрет Анны Петровны, выполненный в технике литографии с акварели художника А. Деверо (A. Deveria), датируется тем же годом, что и знаменитый пушкинский рисунок. На нём изображена сидящая в кресле миловидная молодая женщина с гладко зачёсанными и слегка спущенными на уши волосами, уложенными на затылке узлом. У женщины на рисунке Пушкина та же причёска, такой же задумчивый взгляд, вероятно, свойственный Анне Петровне. В целом этот портрет статичен и маловыразителен, хотя его героиня, несомненно, красива. Несмотря на определённое сходство этого портрета с чертами Анны Петровны, многие исследователи не склонны признавать его изображением Керн.
В Государственном Русском музее находится небольшой «Портрет молодой женщины в чёрном платье» работы А. Арефова–Багаева, крепостного художника тверских помещиков Бегичевых, датированный 1840 годом. На нём изображена уже не молодая, но довольно миловидная женщина в простом тёмном платье и такого же цвета чепце, с цепочкой на груди. Н. И. Грановская, атрибутировавшая этот портрет, считает – и с ней согласен автор этой книги, – что на нём изображена наша героиня. Действительно, у женщины с портрета Арефова–Багаева много сходства и с единственным достоверным акварельным изображением Анны Петровны, и с многочисленными портретами прусской королевы Луизы{66}, на которую она была очень похожа, и с её словесными описаниями в стихах Пушкина и записках А. В. Маркова–Виноградского: высокий и открытый лоб, красиво очерченные брови, большие серо–карие глаза, светло–русые волосы, прямой нос, слегка выпяченная верхняя губа и чуть удлинённый, как у всех представителей рода Полторацких, овал лица. Грановская пишет: «Дама, изображённая на портрете, уже не столь молода, на лбу и у рта морщинки (они не видны на репродукции портрета. – В. С.). Но лицо её одухотворено, а глаза смотрят молодо. Весь облик женщины кажется нам очаровательным, милым, привлекательным… Портрет написан художником с присущей ему теплотой и задушевностью».
Рисунок А. С. Пушкина. Предположительно два профиля внизу и женская фигура – изображения А. П. Керн
Невольно вспоминается полувыцветший пастельный портрет Анны Петровны в 28–летнем возрасте, виденный и описанный И. С. Тургеневым: «…беленькая, белокурая, с кротким личиком, с наивной грацией, с удивительным простодушием во взгляде и улыбке».
Между «тургеневской» пастелью и портретом кисти Аре–фова–Багаева пролегли очень трудные для Анны Петровны 12 лет. За эти годы она потеряла мать и двух дочерей, умер Дельвиг, был убит Пушкин, муж отказал ей в какой бы то ни было материальной поддержке… Потери, горе, неустроенность жизни, неопределённое будущее – казалось бы, впору впасть в отчаяние, погрузиться в тоску и мрачность. Но на портрете – всё те же наивная грация, открытость, простосердечие; сквозь лёгкую печаль во взгляде проступает надежда, губы готовы сложиться в улыбку… Несмотря ни на что, благодаря наконец–то обретённому счастью взаимной любви и недавнему материнству она сохранила свою пленительную женственность и одухотворённость.
Однако видный современный пушкинист академик В. П. Старк, исходя из того, что женщина на портрете Аре–фова–Багаева изображена в траурном наряде – чёрном шёлковом платье (на цветной репродукции платье выглядит коричневым) и креповом чепце с чёрными лентами, предположил, что здесь изображена владелица крепостного художника, помещица А. И. Бегичева (1807—1879) в трауре по своей матери, скончавшейся 19 января 1840 года[45]. Думается, это недостаточно аргументированное предположение не может являться основанием для переатрибуции портрета.
Если учесть, что кисти того же живописца принадлежат портреты Алексея Николаевича Вульфа и его сестры Ев–праксии Николаевны, в замужестве Вревской, датированные 1841 годом, а также портрет неизвестного молодого человека, вероятно, также имеющего отношение к семье Вульфов (возможно, Валериана Николаевича Вульфа), то напрашивается предположение, что художник писал интересующий нас портрет по заказу Алексея Николаевича Вульфа с какого–нибудь другого, более раннего изображения Анны Петровны – может быть, даже с того, о котором упоминает Тургенев.
В 1841 году второй муж Анны Петровны А. В. Марков–Виноградский создал её бесподобный словесный портрет:
«Лагерь под Лубнами. 24 мая 1841 г. Вечер, освещенный луною. Суббота. „Взойдёт она, звезда пленительного счастья…“ И эти глазки блестящие – эти нежные звёздочки – отразятся в душе моей радостью. Краса их светлая заиграет во мне восторгом, так тепло от них! Их ласковый цвет, их свет нежный целуют в сердце меня своими лучами! От них так ясно в душе, при них всё живёт радостию.
У моей душечки глаза карие. Они в чудной своей красе роскошествуют на круглом личике с веснушками. Волоса, этот шёлк каштановый, ласково обрисовывают его и оттеняют с особой любовью. Щёчки скрываются за маленькими, хорошенькими ушками, для которых дорогие серьги лишнее украшение: они так богаты изяществом, что залюбуешься. А носик такой чудесный, такая прелесть; с изысканною правильностью грациозно раскинулся меж пухленьких щёчек и таинственно оттеняет губки, эти розовые листочки… Но вот они зашевелились. Мелодические звуки, с грустью оставляя свой роскошный алтарь, летят прямо в очарованное моё сердце и разливают наслаждение. Ещё губки трепещут сладостною речью, а уже глаза хотят восхищаться зубками… И всё это, полное чувств и утончённой гармонии, составляет личико моей прекрасной»[46].
Вероятно, во время последней беременности нашей героини были сделаны ещё два рисунка, которые изображают её довольно полной и почти утратившей былое очарование. На одном, созданном художником И. Ф. Жереном в 1838 году (вероятно, в конце его), она предстаёт круглолицей, с расплывшимися чертами, с завитыми в круглые локоны волосами. Другой – рисунок неизвестного художника, ныне находящийся в отделе изобразительных фондов Государственного литературного музея, в правом нижнем углу имеет надпись: «1839 г. А. П. Керн». Женщина на нём, одетая в простое будничное платье с белым воротничком, по мнению атрибутировавшей портрет научного сотрудника музея С. Бойко, имеет много общего с другими изображениями Анны Петровны: овал лица, разрез глаз, форма бровей, линии лба, носа и подбородка, вырез ноздрей и даже характерный излом верхней губы[47]. И тот же задумчивый взгляд: она вся ушла в себя, в свои мысли, в свои проблемы…
В 1864 году в имении Митино был сделан коллективный дагеротипный портрет, на котором Анна Петровна сидит с книгой на крыльце дома своих родственников Львовых. Известен ещё более поздний фотоснимок Анны
Петровны, относящийся к концу 1870–х годов: на закате жизни на старческом лице от прежней красоты не осталось ничего.
Анализируя дошедшие до нас изображения Анны Петровны, можно подтвердить, что она не обладала классической красотой, черты которой обычно сохраняются до старости. Зато ей было присуще редкостное женское обаяние. Видимо, загадка очарования Анны Керн кроется не столько в красоте лица и стройности фигуры, изящных ручках и маленьких ножках, сколько в потрясающей женственности, тонкой чувствительности и уме.
«В ТРЕВОГАХ ШУМНОЙ СУЕТЫ»
Вскоре после возвращения из михайловской ссылки Пушкин стал думать о женитьбе и перебирать невест. Все кандидатки были совсем юные, из хорошего московского или петербургского общества, образованные, превосходно воспитанные – и невинные: Софья Пушкина, Александра Римская–Корсакова, Екатерина Ушакова, Анна Оленина и, наконец, Наталья Гончарова. Анна Петровна никак не соответствовала запросам поэта: она была уже далеко не юной – почти ровесницей Пушкина, родила трёх дочерей, к тому же официально не была разведена с мужем и имела длинный шлейф любовных связей и сплетен.
Но и в этот период Пушкин постоянно вспоминал Анну Керн.
В течение второй половины марта и весь апрель 1829 года поэт почти ежедневно бывал в московском доме Ушаковых на Пресне. Среди сотни его рисунков в альбоме Елизаветы Николаевны Ушаковой есть один, на котором изображена прекрасная дама, похожая на Анну Петровну и лицом, и фигурой; она ожидает на балконе своего возлюбленного, продев «сквозь чугунные перила» ножку, а к двери, в которую нарочно вставлен огромный ключ, крадётся любовник, очень похожий на С. А. Соболевского. На другом рисунке – из белового варианта поэмы «Домик в Коломне», переписанного в начале октября 1830 года в Болдине, – изображена кухарка Маврушка, обликом напоминающая ещё одного поклонника Анны Петровны, А. В. Никитенко. Вероятно, в таком виде пером поэта были перенесены на бумагу доходившие до него слухи об очередных романах Анны Петровны, действующими лицами которых были его друзья или знакомые. А сама героиня «Домика в Коломне», по мнению уже упоминавшейся Л. А. Карваль, имеет несомненное сходство с Керн. При создании образа «простой и доброй моей» Параши Пушкин даже использовал – конечно же переработав – приведённый выше мадригал А. И. Подолинского «Портрет», адресованный Анне Петровне. Строки Подолин–ского:
Коса и кудри тёмно–русы, Наряд небрежный и простой, И на груди роскошны бусы Роскошно зыблются порой. —Пушкин превращает в:
Коса змией на гребне роговом, Из–за ушей змиею кудри русы, Косыночка крест–на–крест иль узлом, На тонкой шее восковые бусы — Наряд простой, но пред её окном Всё ж ездили гвардейцы черноусы, И девушка прельщать умела их Без помощи нарядов дорогих.«Незадолго до женитьбы Пушкина (21 июля 1830 года. – В. С.), – рассказывала Анна Петровна в «Воспоминаниях о Пушкине, Дельвиге, Глинке», – Софья Михайловна Дельвиг писала ко мне с дачи в город «Александр Сергеевич est arrife hier. Il est, dit–on, plus amoureux que jamais, cependant il ne parle Presque pas d'elle. La nose se fera en septembre» ( вернулся вчера. Говорят, влюблён больше, чем когда–нибудь, между тем почти не говорит о ней. Свадьба будет в сентябре).
Действительно, в этот период, перед женитьбою своей, Пушкин казался совсем другим человеком. Он был серьёзен, важен, молчалив, заметно было, что его постоянно проникало сознание великой обязанности счастливить любимое существо, с которым он готовился соединить свою судьбу, и, может быть, предчувствие тех неотвратимых обстоятельств, которые могли родиться в будущем от серьёзного и нового его шага в жизни и самой перемены его положения в обществе. Встречая его после женитьбы всегда таким же серьёзным, я убедилась, что в характере поэта произошла глубокая, разительная перемена. <…>
Сам он почти никогда не выражал чувств; он как бы стыдился их и в этом был сыном своего века, про который сам же сказал, что чувство было дико и смешно. Острое красное словцо – la repartie vive – вот что несказанно тешило его. Впрочем, Пушкин увлекался не одними остротами; ему, например, очень понравилось однажды, когда я на его резкую выходку отвечала выговором: «Pourauoi vouc attaguez a moi, qui suis si inoffensive!» (Зачем вы на меня нападаете, ведь я такая безобидная). И он повторял: «Согшпе c'est reellement cela: si inoffensive!» ( Как это верно сказано: действительно, такая безобидная!) Продолжая далее, он заметил: «Да, с вами не весело и ссориться, voila votre cousine, avec elle on trouve a qui s'en prendre!» (То ли дело ваша кузина, вот тут есть с кем ссориться!)
Причина того, что Пушкин скорее очаровывался блеском, нежели достоинством и простотою в характере женщин, заключалась, конечно, в его невысоком о них мнении, бывшем совершенно в духе того времени».
Читателю может показаться, что второй раз на страницах нашей книги приводится (в несколько изменённом виде) мнение Анны Петровны об отношении Пушкина к женщинам. Нет, это не автор, а Анна Петровна, придавая большое значение правильному пониманию данного вопроса, изложила своё мнение дважды – в «Воспоминаниях о Пушкине, Дельвиге, Глинке» и в письме литературоведу П. В. Анненкову.
К концу 1830–го – началу 1831 года относится работа Пушкина над повестью, от которой до нас дошёл только отрывок, начинающийся словами «На углу маленькой площади…». Замысел её связан с сюжетом другого неоконченного прозаического произведения «Гости съезжались на дачу». Считается, что прототипом главной героини этих повестей являлась А. Ф. Закревская. На страницах рукописи «На углу маленькой площади…» имеется женский портрет: исследовательница Л. И. Певзнер предположила, что это изображение Д. Ф. Фикельмон. Но сюжет, воспроизведённый в этом коротеньком наброске, очень близок к жизненной ситуации, в которой находилась А. П. Керн: героиня оставила мужа и пытается удержать возле себя молодого возлюбленного…
«В комнате, убранной со вкусом и роскошью, на диване, обложенная подушками, одетая с большой изысканностию, лежала бледная дама, уж не молодая, но ещё прекрасная. Перед камином сидел молодой человек лет 26–ти, перебирающий листы английского романа.
Бледная дама не спускала с него своих чёрных и впалых глаз, окружённых болезненной синевою…» Не правда ли, это напоминает сцены из жизни Анны Петровны, виденные
Пушкиным и описанные в воспоминаниях Андрея Дельвига и дневниках Алексея Вульфа, а сам молодой возлюбленный героини – самого Вульфа?
Вот сколько тем и отдельных сюжетов подсказала Пушкину жизнь Анны Керн!
С осени 1830 года Анна Петровна была увлечена неким Флоранским – незаконнорожденным сыном одного из дядьёв поэта Баратынского (вице–адмирала Богдана Андреевича или контр–адмирала Ильи Андреевича Баратынского). К сожалению, нам не удалось найти никаких сведений о нём. Дружба – а точнее, связь – А. П. Керн с Флоранским продолжалась до 1832 года.
Алексей Вульф, находившийся в это время на военной службе, узнав из письма Анны Петровны о её новом страстном увлечении, не переставал удивляться этой женщине, силе её страсти. Он записывал в дневнике:
«[1830] 1 сентября. Анна Петровна всё ещё в любовном бреду, и до того, что хотела бы обвенчаться со своим любовником. – Дивлюсь ей!..
2 октября. Анна Петровна сообщает мне приезд отца своего и, вдохновлённая своей страстью, велит благоговеть пред святынею любви!!
Сердце человеческое не стареется, оно всегда готово обманываться. Я не стану разуверять её, ибо слишком легко тут сделаться пророком…
17 октября. Вот два дня как я живу, окружённый присланными мне матерью «Литературной газетой» и «Северными цветами» на этот год, «Телеграфом» и письмами из дому и от Анны Петровны. <…> С Анной Петровной я говорю об её страсти, чрезвычайно замечательной не столько потому, что она уже не в летах пламенных восторгов, сколько по многолетней её опытности и числу предметов её любви. Про сердце женщин после этого можно сказать, что оно свойства непромокаемого – опытность скользит по ним. Пятнадцать лет почти беспрерывных несчастий, уничижения, потеря всего, чем в обществе ценят женщину, не могли разочаровать это сердце или воображение? – по сю пору оно как бы в первый раз вспыхнуло».
«[1831] 5 марта: Голубинин, оставшийся в Сквире, привёз мне письма от Анны Петровны и сестры. Первая пишет, что она чрезвычайно счастлива тем, что родила себе сына… » Если эта запись верна, то Анна Петровна родила от Флоран–ского ребёнка, который, очевидно, вскоре умер.
ЧЕРЕДА ПОТЕРЬ И НЕВЗГОД
«Отдавая меня замуж, – писала в воспоминаниях Анна Петровна, – мне дали 2 деревни из приданого моей матери и потом, не прошло году, попросили позволения заложить их для воспитания остальных детей. Я по деликатности и неразумию не поколебалась ни минуты и дала согласие. На вырученные деньги заведены были близ Лубен фабрики: экипажная, суконная и горчичная… Все они вместе сделали то, что я осталась без имения, а отец мой – с большими долгами. Чтобы вознаградить меня и обеспечить будущность других детей, было завещано бабушкою 120 душ, 50 000 и дана нам другими наследниками движимость Грузин и 60 душ. Всё это должно было разделить между мною, двумя моими сестрами и братом. Но батюшка устроил так, что мы отдали ему и это на покупку имения княгини Юсуповой. Покупка не состоялась по неаккуратности отца, потому что мало было денег, и я опять осталась ни с чем».
Вот фрагмент духовного завещания бабушки Анны Петровны Агафоклеи Александровны Полторацкой, умершей 12 октября 1822 года:
«Чувствуя преклонность лет своих и воображая час смертный могущий и нечаянно последовать, за нужное постановляю сделать положительное распределение о имении моём, дабы между оставшимися после меня наследниками не могли об оных выйти каких–либо распрей или прошений жалобных тяжб в местах судебных, и для того к непреложному по смерти моей исполнению постановляю следующее:
<…> Сына моего надворного советника Петра Марковича детям, а моим внукам Старицкого уезда деревню Кушни–ково, в коей по последней 7–й ревизии состоящих 120 душ крестьян со всем их имуществом и со всеми принадлежащими к оной деревне землями и крестьянским разным строением, а сверх того деньгами 50 000 рублей. Управление ж оным имением и самое распоряжение деньгами до совершеннолетия тех внучат моих отдаю избранным моим душеприказчикам тайному советнику Дмитрию Борисовичу Мертваго и действительному статскому советнику Алексею Марковичу»[48].
Однако в конце 1829 года Пётр Маркович решил продать завещанную его детям деревню, а также истребовать от душеприказчиков матери 50 тысяч рублей и израсходовать все эти средства на покупку у княгини Татьяны Васильевны Юсуповой (урождённой Энгельгардт) имения
Яблоново, располагавшегося недалеко от Лубен. Для этого ему потребовались соответствующие разрешения от детей. 5 декабря в Лубенском поветовом земском суде были оформлены доверенности «дражайшему родителю» от двух дочерей «девиц Елизаветы и Варвары Полторацких» и сына Петра.
Доверенность, составленная 30 января 1830 года в Петербурге от имени Анны Петровны Керн, выглядела следующим образом:
«Милостивый родитель мой.
По силе духовного завещания родной бабки моей действительной статской советницы Агафоклеи Александровны Полторацкой, принадлежит мне, двум сестрам моим Елизавете и Варваре{67}, да брату Павлу Полторацким в Тверской губернии Старицкого уезда деревня Кушниково, заключающая в себе 120 душ мужского пола, и по продаже в Санкт–Петербурге дома и дачи по кончине её через три года 50 тысяч рублей. А как уже более 7 лет проходит тому, и мы не приняв настоящим образом сказанной деревни в своё ведение и денег 50 тысяч рублей не получали поныне, то посему я покорнейше прошу вас, почтеннейший родитель мой, взять на себя труд следуемое мне на часть по законам в упомянутой деревне Кушниково имение с крестьянами, за меня справить, отписать и отказать, и взять в совершенное ваше ведение, и в случае найдёте необходимость, то оное продать или заложить, равно и сумму всем нам, то есть мне, сестрам и брату моим, бабкою назначенную, от душеприказчика действительного статского советника Алексея Марковича Полторацкого истребовав с подлежащими процентами, следующую же мне часть принять в своё распоряжение и по таковым предметам, в случае надобности, имеете право и просьбы куда следовать будет, за своим подписом подавать и решений окончательных доходить, и весь указанный обряд выполнять, предоставляю при том право и от себя другому кому переверить, в чём вам верю, и что учините, спорить и прекословить не буду.
Имею честь быть с отличным почтением и совершенною преданностью
покорная дочь Анна Керн жена генерал–лейтенанта, урождённая Полторацкая.
Санкт–Петербург. Генваря 30 дня. 1830 г.»[49].
Между прочим, А. А. Дельвиг предупреждал Анну Петровну о возможных последствиях этой «спекуляции» Полторацкого: «Милая жена, трудно давать советы; предложения Петра Марковича могут удаться, и нет. И в том и в другом случае вы будете раскаиваться, как бы вы ни поступили. Повинуйтесь сердцу. Это лучший совет мой…»[50] А Софья Михайловна Дельвиг советовала подруге для начала не торопиться с ответом: «Тебе бы написать отцу, что у тебя нет ни ума, ни времени, ни здоровья, чтобы отвечать скоро. Эту спекуляцию надобно обдумать; тут и в самом деле надобно более думать, нежели чтобы отвечать на то, что людей не на что отправлять и что ты остаёшься без человека». Вероятно, от Анны Петровны, кроме согласия на продажу, отец требовал ещё возврата в имение числившихся за ним дворовых людей, которые находились при ней в услужении. Однако она не посмела отказать отцу.
Если верить воспоминаниям А. П. Керн, отец всё же получил завещанные его детям деньги и, присовокупив к ним сумму, вырученную от продажи деревни Кушниково, внёс их в качестве задатка для покупки Яблонова; однако из–за нехватки средств и неаккуратности Петра Марковича сделка не была доведена до конца. Его более предприимчивый сын Павел, по свидетельству Анны Петровны, «доплатил ей (Юсуповой. – В. С.) при помощи займа и удачных оборотов сколько причиталось за него (отца. – В. С.) и стал обеспеченным человеком – а про мою жертву, помогшую ему составить себе состояние, забыл».
Об этом же писал и А. В. Марков–Виноградский: «… в уплату вошли 120 тысяч ассигнациями, данные Агафоклеей Александровной всем четырём внукам, в том числе и Анне Петровне, которая уступила ему свою часть в надежде на вознаграждение».
Деревня Кушниково в начале 1830–х годов была продана Петром Марковичем Полторацким Варваре Александровне Бакуниной и принадлежала ей до её смерти в 1864 году[51].
В Государственном архиве Российской Федерации хранится завещание В. А. Бакуниной от июля 1845 года, согласно которому после её смерти «благоприобретённое мною имение в Старицком уезде деревня Кушниково, в которой значится земли по плану одна тысяча двести двадцать шесть десятин 220 сажен, а крестьян мужского пола ревизских сто шестьдесят душ», должно было достаться её дочери Варваре Александровне Дьяковой в обмен на отказ её от четырнадцатой части отцовского имения. К сожалению, дата приобретения Кушникова в завещании не указана[52].
В 1832 году, вскоре после смерти матери, Анна Петровна начала хлопотать о возврате старицкого имения, состоявшего из сельца Иевлево с 68 крепостными крестьянскими душами мужского пола и деревни Сенчуково с 141 душой (по данным девятой ревизии 1850 года), а также 1 144 десятин 932 саженей земли при них, проданных в 1825 году Екатериной Ивановной Д. Н. Шереметеву{68} по требованию мужа[53]. «Я интересовалась этим имением, – писала она, – по воспоминаниям моего счастливого детства, хотя и в финансовом отношении оно не могло быть не интересно, потому что иметь что–нибудь или не иметь ничего всё–таки составляет громадную разницу».
Как вспоминала Анна Петровна, на мысль выкупить без денег проданное имение матери её навело одно обстоятельство: «Однажды утром ко мне явился гвардейский солдат. „Не узнаёте меня, ваше превосходительство?“ – сказал он, поклонившись в пояс. „Извини, голубчик, не узнаю тебя, припомни мне, где я тебя видела“. – „А я из вашей вотчины, ваше превосходительство. Я помню вас, как вы изволили из ваших ручек потчевать водкой отца моего, и жили тогда в нашей чистой избе, а в другой, чистой же, ваш батюшка и матушка“. – „Помню, помню, мой милый, – сказала я (хотя вовсе его–то самого не помнила). – Так ты пришёл со мной повидаться, это очень приятно“. – „Да кроме того, – сказал он, – я пришёл просить вас, нельзя ли вам, матушка, откупить нас опять к себе; мне пишут мои старики, сходил бы ты к нашей прежней госпоже, к генеральше такой–то, да сказал бы ей, что вот, дескать, мы бы рады–радёшеньки ей опять принадлежать, что при ревизии теперь в двух селениях прибавилось много против прежнего, что мы и теперь помним, как благоденствовали у дедушки их, у матушки и у них самих потом; скажи ей, что мы даже согласны графу Шереметеву внести половину цены за имение и сами за свой счёт выстроим ей домик, коли вы согласны нас у него откупить опять“. Это предложение было так трогательно и вместе так соблазнительно, что я решилась его сообщить Елизавете Михайловне Хитровой вскоре после кончины матери моей, и она по доброте своей взялась хлопотать».
Пушкин тоже участвовал в этих хлопотах. Сохранились три небольшие записки поэта и Е. М. Хитрово, адресованные Анне Петровне.
«Первая записка от Хитрово, – цитируем снова воспоминания А. П. Керн, – содержала следующее:
«Вчера утром я получила Ваше хорошее письмо, сударыня, я бы тотчас приехала Вас навестить, но серьёзная болезнь дочери меня задержала. Если Вы свободны приехать ко мне завтра в полдень, я с большой радостью Вас приму. Ел. Хитрова».
Вследствие этой–то записки Александр Сергеевич приехал ко мне в своей карете и в ней меня отправил к Хитровой.
2–я записочка Хитрово, написанная рукою Александра Сергеевича. Вот она:
«Дорогая г–жа Керн, у нашей малютки корь, и с нею нельзя видеться, как только моей дочери станет лучше, я приеду вас обнять» – а её рукой – «Ел. Хитрова».
Опять рукою Александра Сергеевича: «У меня такое скверное перо, что г–жа Хитрова не может им пользоваться, и мне выпала удача быть её секретарём. А.».
Следует ещё одна записочка от Елизаветы Михайловны Хитрово её рукой: «Вот, дорогая моя, письмо Шереметева – скажите мне его содержание. Я собиралась вам нести его сама, но, на моё несчастье, идёт дождь. Е. Хитрова».
Потом за неё ещё рукою Александра Сергеевича об этом неудавшемся деле:
«Вот ответ Шереметева. Желаю, чтобы он был благоприятен – г–жа Хитрова сделала всё, что могла. Прощайте, прекрасная дама. Будьте покойны и довольны и верьте моей преданности».
Самая последняя была уже в слишком шуточном роде, – я на неё подосадовала и тогда же уничтожила. Когда оказалось, что ничего не могло втолковать доброго господина, от которого зависело дело, он писал мне (между прочим):
«Раз вы не могли ничего добиться, вы, хорошенькая женщина, то что уж делать мне – ведь я даже и не красивый малый… Всё, что могу посоветовать, это снова обратиться к посредничеству… "
Меня это огорчило, и я разорвала эту записку. Больше мы не переписывались».
Таким образом, хлопоты Анны Петровны закончились неудачей, и она на всю жизнь осталась без собственных средств существования. В 1870 году она констатировала: «Я по восторженной мечтательности своей, вере в брата и родных и по деликатности жертвовала родным, не спрашивая, обеспечат ли они меня за это, и вот около половины столетия перебиваюсь в нужде… Ну да Бог с ними».
В конце 1830 года А. А. Дельвиг попал в немилость к всесильному начальнику Третьего отделения собственной Его Императорского Величества канцелярии А. X. Бенкендорфу. Причиной очередного разноса стала публикация в «Литературной газете» стихотворения К. Делавиня, в котором восхвалялись революционеры, погибшие во время Июльской революции в Париже.
«В ноябре Бенкендорф потребовал к себе Дельвига, – писал в своих мемуарах Андрей Иванович Дельвиг, – который введён был к нему в кабинет в присутствии жандармов. Бенкендорф самым грубым образом обратился к Дельвигу с вопросом: „Что ты опять печатаешь недозволенное?“ Выражение ты вместо общеупотребительного вы не могло с самого начала этой сцены не подействовать весьма неприятно на Дельвига. Последний отвечал, что о сделанном распоряжении не печатать ничего относящегося до последней французской революции он не знал и что в напечатанном четверостишии, за которое он подвергся гневу, нет ничего недозволительного для печати. <…> Бенкендорф сказал, что ему всё равно, что бы ни было напечатано, и что он троих друзей: Дельвига, Пушкина и Вяземского уже упрячет, если не теперь, то вскоре, в Сибирь. Тогда Дельвиг спросил, в чём же он и двое других названных Бенкендорфом могли провиниться до такой степени, что должны подвергнуться ссылке… Бенкендорф отвечал, что Дельвиг собирает у себя молодых людей, причём происходят разговоры, которые восстановляют их против правительства. <…> Дельвиг возразил, что собирающееся у него общество говорит только о литературе, что большая часть бывающих у него посетителей или старее его, или одних c ним лет. <…> Бенкендорф раскричался, выгнал Дельвига со словами: «Вон, вон, я упрячу тебя с твоими друзьями в Сибирь»».
Вскоре «Литературная газета» была запрещена. Неприятности, связанные с внушениями Бенкендорфа и закрытием газеты, безусловно, сказались на здоровье Дельвига. В ту зиму его одолевала простуда, которой он всегда был подвержен. Плохому самочувствию содействовала и неудачно сложившаяся семейная жизнь Дельвига.
Анна Петровна, наверное, не только лучше других знала нюансы семейных отношений ближайшего друга Пушкина, но и во многом способствовала их созданию – вспомним замечание племянника Дельвига о бросившемся ему в глаза желании Анны Петровны поссорить того с женой… Видимо, здесь имелось в виду, что Анна Петровна, к этому времени уже привыкшая к свободной жизни, небезуспешно настраивала на такое поведение и Софью Михайловну – дневники Алексея Вульфа являются тому подтверждением. Дельвиг ничего не мог поделать – увлечения жены следовали одно за другим… И даже рождение дочери не заставило Софью Михайловну успокоиться. Недаром одно из последних стихотворений Дельвига было адресовано жене и начиналось словами:
За что, за что ты отравила Неисцелимо жизнь мою?Так что вина за неурядицы в семье А. А. Дельвига отчасти лежит и на А. П. Керн.
«Здоровье Дельвига, – вспоминал его кузен, – в ноябре и декабре 1830 года плохо поправлялось. Он не выходил из дома. Только 5–го января 1831 года я с ним был у Сленина и в бывшем магазине казённой бумажной фабрики, ныне Полякова, где Дельвиг имел счета. На этих прогулках он простудился и 11–го января почувствовал себя нехоро–шо.<… > Когда в этот день Дельвигу сделалось хуже, послали за его доктором Саломоном, а я поехал за лейб–медиком Арендтом. Доктора эти приехали вечером, нашли Дельвига в гнилой горячке и подающим мало надежды к выздоровлению. <…> 14–го января, придя по обыкновению в 8 часов вечера к Дельвигу, я узнал, что он за минуту перед тем скончался. <…> 17–го января в день именин Дельвига были его похороны… »
Анна Петровна довольно небрежно сообщила о смерти Дельвига Алексею Вульфу: «Забыла тебе сказать новость; барон Дельвиг переселился туда, где нет ревности и воздыханий». Даже циника Вульфа покоробил такой её отзыв о недавнем друге и поклоннике, и он записал в своём дневнике: «Вот как сообщают о смерти тех людей, которых за год перед сим мы называли своими лучшими друзьями».
Софья Михайловна горевала недолго – как уже говорилось, недостатка в поклонниках она не испытывала. Уже через два месяца после смерти мужа получила письменное предложение руки и сердца от лицейского товарища Дельвига и Пушкина М. Л. Яковлева, на которое ответила отказом, «будучи огорчённой и оскорблённой» (вероятно, за несоблюдение приятелем мужа процедуры траура); однако в июне того же года она тайно обвенчалась с Сергеем Абрамовичем Баратынским – братом поэта, постоянно бывавшим у Дельвигов в 1828—1831 годах. После нового замужества она с дочерью переехала в тамбовское имение Баратынских Мара, прихватив с собой архив покойного первого мужа{69}.
2 марта 1832 года умерла мать Анны Петровны Екатерина Ивановна Полторацкая. Пушкин в это время очень поддержал её: «Когда я имела несчастие лишиться матери и была в очень затруднительном положении, то Пушкин приехал ко мне и, отыскивая мою квартиру, бегал, со свойственною ему живостью, по всем соседним дворам, пока наконец нашёл меня. В этот приезд он употребил всё своё красноречие, чтобы утешить меня, и я увидела его таким же, каким он бывал прежде. Он предлагал мне свою карету, чтобы съездить к одной даме, которая принимала во мне участие; ласкал мою маленькую дочку Ольгу, забавляясь, что она на вопрос: „Как тебя зовут?“ – отвечала: „Воля!“ – и вообще был так трогательно внимателен, что я забыла о своей печали и восхищалась им, как гением добра».
Как потом вспоминала Анна Петровна, в то время она «вела жизнь довольно уединённую и по вкусу, и по средствам своим»; её изредка навещали друзья или родственники, но зато «когда отпирались двери Академии художеств, я не пропускала ни одного дня». После смерти Екатерины Ивановны она часто болела. «Семейная хроника» Е. А. Масаль–ской–Суриной зафиксировала: «1832 год, 21 апреля. После обеда поехала к Анне Петровне Керн, где просидела часа два. Напилась чаю, она нездорова»[54].
Пользовал её лейб–медик императора Николай Фёдорович Арендт, который позже руководил лечением раненого на дуэли Пушкина. В бумагах А. П. Керн, хранящихся в Пушкинском Доме, есть две записки доктора к ней, свидетельствующие о их близком знакомстве. Знал об этом и Пушкин; когда заболевал кто–то из его детей, поэт обращался к посредничеству Керн. Сохранилась коротенькая записка Пушкина: «Прошу Вас, милая Анна Петровна, прислать ко мне Арендта, но только не говорите об этом бабушке и дедушке (имеются в виду Н. О. и С. Л. Пушкины. – В. С.)».
В августе 1833 года Анну Петровну постигло ещё одно горе – умерла её младшая дочь. Надежда Осиповна Пушкина 24 августа писала дочери: «В качестве новости скажу тебе, что бедная г–жа Керн только что потеряла свою маленькую Олиньку, она поручила Аннет сообщить тебе про её горе, будучи уверена, что ты пожалеешь свою крестницу…»[55]
Алексей Николаевич Вульф, 9 июля 1833 года вышедший в отставку и сначала возвратившийся в родное Тригорское, а затем поселившийся в Малинниках, в начале февраля 1834 года приехал в Петербург и 3 февраля{70}, в день именин Анны Петровны, навестил её. После встречи он записал в дневнике, что имел «удовольствие обнять Анну Петровну после пятилетней разлуки и найти, что она меня не разлюбила», однако «не возвращался с нею к прежнему нашему быту», то есть не возобновил близких отношений.
Со смертью Антона Дельвига и вторичным замужеством его вдовы оборвалась связь Анны Петровны с кругом столичных литераторов. Перестал её навещать и Пушкин – после женитьбы он старался не поддерживать отношений с дамами, с которыми в прежнее время имел романы.
Анна Петровна виделась с четой Пушкиных всего несколько раз: «В первый это было в другой год, кажется, после женитьбы. Прасковья Александровна была в Петербурге и у меня остановилась; они вместе приезжали к ней с визитом в открытой колясочке, без человека. Пушкин казался очень весел, вошёл быстро и подвёл жену ко мне прежде (Прасковья Александровна была уже с нею знакома, я же её видела только раз у Ольги одну). Уходя, он побежал вперёд и сел прежде её в экипаж; она заметила, шутя, что это он сделал оттого, что он муж. Потом я его встретила с женою у матери, которая начинала хворать. Наталия Николаевна сидела в креслах у постели больной и рассказывала о светских удовольствиях, а Пушкин, стоя за её креслом, разводя руками, сказал шутя: „Это последние штуки Натальи Николаевны: посылаю её в деревню“. Она, однако, не поехала, кажется, потому, что в ту же зиму Надежде Осиповне сделалось хуже».
Однажды Керн встретила поэта у родителей без жены: «Это было раз во время обеда, в четыре часа. Старики потчевали его то тем, то другим из кушаньев, но он от всего отказывался и, восхищаясь аппетитом батюшки, улыбнулся, когда отец сказал ему и мне, предлагая гуся с кислою капустою: „Cest un plat ecossais“ (Это шотландское блюдо), заметив при этом, что он никогда ничего не ест до обеда, а обедает в 6 часов».
Надо отдать должное Анне Петровне – безусловно испытывая досаду и ревность к удачливой сопернице, она, тем не менее, замечала перемены, произошедшие с Пушкиным после женитьбы, и считала его чувства к Наталье Николаевне искренними: «Потом я его ещё раз встретила с женою у родителей, незадолго до смерти матери и когда она уже не вставала с постели, которая стояла посреди комнаты, головами к окнам; они сидели рядом на маленьком диване у стены, и Надежда Осиповна смотрела на них ласково, с любовью, а Александр Сергеевич держал в руке конец боа своей жены и тихонько гладил его, как будто тем выражал ласку к жене и ласку к матери. Он при этом ничего не говорил… Наталья Николаевна была в папильотках: это было перед балом… Я уверена, что он был добрым мужем, хотя и говорил однажды, шутя, Анне Николаевне, которая его поздравляла с неожиданною в нём способностью себя вести, как прилично любящему мужу: „Се n'est que de 1'hypocrisie“ ( Это только хитрость). Вот ещё выражение века: непременно, во что бы то ни стало, казаться хуже, чем он был».
Теперь они виделись с поэтом очень редко. Вероятно, в июле 1835 года семейство Пушкиных нанесло визит Прасковье Александровне Осиповой. «Этой последней, – снова цитируем Анну Петровну, – вздумалось состроить partie fine ( увеселительную поездку), и мы обедали вместе все у Дюме, а угощал нас Александр Сергеевич и её сын Алексей Николаевич Вульф. Пушкин был любезен за этим обедом, острил довольно зло, и я не помню ничего особенно замечательного в его разговоре. Осталось только в памяти одно его интересное суждение. Тогда только что вышли повести Павлова, я их прочла с большим удовольствием, особенно „Ятаган“. Брат Алексей Николаевич сказал, что он в них не находит ровно никакого интересного достоинства. Пушкин сказал: „Entendons–nous (Попробуем понять друг друга). Я начал их читать и до тех пор не оставил, пока не кончил. Они читаются с большим удовольствием“».
Давно оставленный супруг Анны Петровны, назначенный в феврале 1828 года комендантом Смоленска, продолжал успешное восхождение по карьерной лестнице. 14 апреля 1829 года за отличие по службе он был произведён в генерал–лейтенанты (3–й чин по Табели о рангах). До него постоянно доходили сведения об очередных любовных приключениях жены.
Современному читателю, воспринимающему семейные отношения с высоты нынешних реалий, возможно, непонятно, почему Керны не развелись официально. Во–первых, обе стороны не стремились к разводу: Ермолай Фёдорович хотел добиться возвращения беглянки–жены в лоно семьи; к тому же бракоразводный процесс мог отразиться на карьере генерала. Нашу же героиню, по–видимому, устраивал статус «её превосходительства госпожи генеральши», дававший ей не только определённый вес в обществе, но и ощутимые привилегии – к примеру, возможность быть приглашённой во дворец или занятие почётного места на официальном обеде. В перспективе – с учётом возраста ненавистного мужа – она становилась генеральской вдовой с приличной пенсией. К тому же инициатором развода мог выступать только Ермолай Фёдорович в качестве пострадавшей стороны; Анне Петровне, с точки зрения тогдашних семейных норм, упрекнуть его было не в чем.
Во–вторых, сама процедура развода в николаевской России была очень сложной. Будучи военным, муж должен был получить на него санкцию вышестоящего начальства. Развод был делом очень длительным, осуществлялся судом церковного ведомства – Духовной консистории, который выносил решение на основании строго определённых доказательств. Например, при измене недостаточно было признания супругом своей вины – необходимы были показания не менее двух свидетелей. Но в итоге женщину по закону признавали падшей, что влекло за собой запрет на свидания с детьми и на новый брак. Если бы Ермолай Фёдорович, чтобы освободить жену от унизительных судебных процедур, по–джентльменски взял вину на себя, тогда ему после развода пришлось бы подать в отставку.
В–третьих, существовали негласные ограничения для разведённых чиновников в продвижении по служебной лестнице и занятии высоких постов. С учётом возраста генерала Керна его не могла устраивать перспектива потерять денежную и престижную должность.
Поэтому, как и многие дворянские семьи того времени, Керны, не разводясь, много лет жили «в разъезде».
После смерти младшей дочери Ермолай Фёдорович совсем перестал посылать супруге деньги. Анна Петровна, находясь в крайне стеснённых материальных обстоятельствах, решила возобновить былые опыты литературных переводов с французского и начала с Жорж Санд.
До нас дошла демонстративно грубая фраза Пушкина, брошенная им в адрес бывшей возлюбленной в письме от 29 сентября 1835 года жене: «Ты мне переслала записку от m–me Керн; дура вздумала переводить Занда и просит, чтоб я сосводничал её со Смирдиным. Чёрт побери их обоих! Я поручил Анне Николаевне [Вульф] отвечать ей за меня, что если перевод её будет так же верен, как она сама верный список с m–me Sand{71}, то успех её несомнителен, а что со Смирдиным дела я никакого не имею».
Столь нелюбезный отзыв поэта о бывшем предмете его страстного обожания можно объяснить, помимо боязни вызвать ревность жены, пребыванием Пушкина в дурном расположении духа, а также действительным нежеланием иметь с издателем никаких дел. Кстати, самого Смирдина в письме П. В. Нащокину от 10 января 1836 года Пушкин также назвал «дурой» (именно в женском роде).
Об этом же эпизоде рассказала Ольга Сергеевна Павлищева в письме мужу от 9 ноября 1835 года: «Угадай, что делает Анета Керн? Она переводит, но что бы ты думал? – Жорж Санд!! Но не ради удовольствия, а ради денег. Она попросила Александра замолвить за неё слово у Смирдина, но Александр не церемонится, когда надо отказать. Он сказал ей, что совсем не знаком со Смирдиным… »
Манеру Пушкина иногда в сердцах бросаться резкими словами и даже фразами отмечала в воспоминаниях и сама Анна Петровна: «Пушкин говорил часто: „Злы только дураки и дети“. Несмотря, однако ж, на это убеждение, и он бывал часто зол на словах, но всегда раскаивался. Так, однажды, когда он мне сказал какую–то злую фразу, и я ему заметила: „Ce n'est pas bien de s'attaquer a' une personne aussi inofensive“ (Нехорошо нападать на такого беззащитного человека), – обезоруженный моею фразою, он искренно начал извиняться. В поступках он всегда был добр и великодушен».
Ранее уже говорилось о спектре мнений Пушкина о, так сказать, моральном облике нашей героини: от «гения чистой красоты» до «вавилонской блудницы». Теперь мы видим такой же разброс в оценке её интеллектуальных способностей: в одном случае он признаёт – «у неё гибкий ум», в другом – называет дурой. Почему так диаметрально противоположны оценки, данные им одному человеку?
Один из лучших знатоков пушкинской эпохи Ю. М. Лот–ман, сравнивая такие разные высказывания поэта в адрес А. П. Керн, писал: «Пушкинская личность столь богата, что переживания её не могут выразиться только в какой–либо одной жанрово–стилистической плоскости. Он одновременно живёт не одной, а многими жизнями: его Керн – и „гений чистой красоты“, и „одна прелесть“, и „милая, божественная“, и „мерзкая“, и „вавилонская блудница“, и женщина, имеющая „орган полёта“, – всё верно и всё выражает истинные чувства Пушкина. Такое богатство переживаний могло существовать лишь при взгляде на жизнь, перенесённом из опыта работы над страницей поэтической рукописи»[56].
Исследователь абсолютно справедливо указал: «Нельзя… смешивать жанры романтической поэзии и эпистолярного стиля, которым пользовался Пушкин в своих письмах к женщинам и друзьям мужчинам». Действительно, в своём знаменитом стихотворении, посвященном Анне Керн, Пушкин воспользовался поэтическим условным образом «гения чистой красоты» для передачи своего восхищения очарованием этой женщины, которую любил, хоть и очень короткое время, но искренне и страстно. Он не скупился на комплименты в адрес Керн в посланиях и к ней самой, и к её тётке П. А. Осиповой, и к кузине Анет Вульф. Но одновременно отзывы Пушкина о ней в письмах друзьям–мужчинам были другими – иногда пренебрежительными, иногда развязными, а иногда даже откровенно грубыми. Пушкин всегда разделял поэтический и эпистолярный жанры; с присущей ему способностью «попадать в стиль» отвечал своим корреспондентам в манере их собственных писем, в соответствии с их характером. А в те годы в светском обществе среди мужчин было принято амикошонство (от фр. ami – друг и cochon – свинья) – бесцеремонный, грубовато–циничный тон, особенно в разговорах о женщинах. Зачастую мужской бравадой прикрывались истинные серьёзные чувства.
Суммируя все нелестные слова в адрес А. П. Керн, промелькнувшие в письмах поэта друзьям и жене, необходимо к сказанному выше добавить существенный момент: это для наших современников Пушкин – «наше всё»: гений, величайший поэт России, личность легендарная, почти памятник; в описываемое же время это был человек, чья жизнь была насыщена событиями, богата чувствами. Он жил страстями, предавался порокам, не оглядываясь на посмертную славу. Думал ли он о том, что всё, к чему прикоснулось его перо – не только рукописи, но и рисунки на полях, даже мелкие записки и счета, – со временем будет тщательно изучаться и осмысливаться; что дотошные пушкинисты станут буквально вгрызаться в каждое написанное им слово, учитывать любое мнение, высказанное им о ком бы то ни было? Думал ли он о том, что даже сугубо личные его письма друзьям и жене будут со временем также опубликованы; что нелестные отзывы о женщине, которую разлюбил, будут потом собраны воедино и дадут пищу для различных толкований? Вероятно, если бы Пушкин мог предвидеть такую реакцию потомков, то не написал бы этих нелестных слов. Но история не знает сослагательного наклонения…
В марте 1836 года дочь Анны Петровны Екатерина, с детских лет воспитывавшаяся в Обществе благородных девиц при Смольном монастыре, окончила его с отличием.
При выпуске крестница Александра I получила от имени его царственного брата Николая Павловича «за службу отца, на приданое» 10 тысяч рублей и уехала к нему в Смоленск.
9 марта 1836 года Анна Николаевна Вульф писала из Петербурга, где проживала в это время в квартире Анны Петровны{72}, своей сестре Евпраксии: «Керн забирает свою дочь в один из этих дней, но не хочет брать (в Смоленск. – В. С.) свою жену. Я право, не знаю, что будет с этой несчастной женщиной и куда она зайдёт в своих поступках? Антипов сообщает мне, что она уже 300 рублей у него взяла на счёт Алексея (Вульфа. – В. С.). Она спросила у меня денег, но я ей не могла дать ничего, кроме сущего пустяка, потому что моя тётя живёт на мой счёт. Я нашла ей сто рублей, но она продолжает занимать у меня каждый день. Если этот порядок вещей будет сохраняться дальше, я не смогу у неё оставаться, но ни слова об этом мамаше».
Анна Петровна не считала зазорным брать деньги на свои нужды и у родственников, и у поклонников.
Евпраксия Николаевна Вульф, в 1831 году вышедшая замуж за барона Бориса Александровича Вревского{73}, рассказала брату Алексею в письме от 10 сентября 1836 года ещё один интересный эпизод из жизни нашей героини: «Она никак не могла противостоять любезности Пав[ла] Алек с андровича] (брата Б. А. Вревского. – В. С.), которому она очень дорого стоила во время его пребывания в Пет[ербурге], а перед отъездом своим, заняв 10 т[ысяч], он должен был 1,5 т[ысячи] отдать ей по её просьбе. Ты постигаешь, как такой поступок должен был охолодить его любовь к ней, если б она и существовала человеческая, а не собачья. А он, кажется, к первой не склонен и кроме последней, не испытывал». Из этого письма также становится ясно, что ошибаются те исследователи, которые полагают, что роман у Анны Петровны был не с Полем Вревским, а с Борисом.
Очередной удачливый поклонник Анны Петровны был личностью примечательной. Павел Александрович Вревский (1809—1855) являлся побочным сыном князя Александра Борисовича Куракина. В 1828 году, по окончании школы гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, он был выпущен прапорщиком в лейб–гвардии Измайловский полк, участвовал в Русско–турецкой войне 1828—1829 годов и получил контузию в живот под Варной. В 1830 году Вревский вышел в отставку, однако через год вернулся на службу, в составе Овидиопольского гусарского полка принимал участие в подавлении Польского восстания 1830—1831 годов: в боях под пригородами Варшавы Прагой, Гроховым, Остроленкой и взятии самой польской столицы. По окончании кампании он был назначен адъютантом к начальнику Главного штаба его императорского величества. В 1833 году Вревский был переведён в лейб–гвардии Гродненский гусарский полк, в 1834—1838 годах участвовал в военных экспедициях на Кавказе и в Черногории. В начале 1836 года, находясь в Петербурге, Павел Александрович на балах встречался с Пушкиным и его женой. Он занимался переводами произведений поэта на французский язык – сохранились переведённые им отрывки из поэмы «Полтава» и стихотворения «Клеветникам России». В 1838 году Вревский стал начальником I отделения канцелярии Военного министерства, в 1841 году был произведён в полковники, в 1842 году назначен флигель–адъютантом императора Николая I. В 1848 году П. А. Вревский получил чин генерал–майора и вступил в должность директора канцелярии военного министерства, а в 1854 году стал генерал–адъютантом императора. Он был награждён многими орденами, в том числе орденом Святого Георгия 4–й степени. По воспоминаниям декабриста Н. И. Лорера, он «был красивой наружности и отличался большой храбростью», дружил с «армейским капитаном Львом Сергеевичем Пушкиным».
Вревский был женат дважды: первый раз на дочери будущего министра внутренних дел России С. С. Ланского Марии (1819—1844), второй – на Настасье Сергеевне Щербатовой – дочери егермейстера, действительного тайного советника С. Г. Щербатова.
Во время Крымской войны Вревский находился в осаждённом Севастополе и попал 4 августа 1855 года в гущу сражения на Чёрной речке: одним ядром под ним убило лошадь, другим контузило, третьим сорвало фуражку, а следующим смертельно ранило в голову. Он был похоронен в Бахчисарайском Успенском монастыре.
10 августа 1836 года Анна Петровна вынуждена была письменно обратиться к Николаю I: «Августейший монарх, Всемилостивейший Государь! Отчаяние, безнадёжное состояние и жесточайшая нужда повергают меня к стопам Вашего Императорского Величества. Кроме Вас, Государь, мне некому помочь! Совершенное разорение отца моего, надворного советника Полторацкого, которое вовлекло и мою всю собственность, равно отказ мужа моего, генерал–лейтенанта Керна, давать мне законное содержание лишают меня всех средств к существованию. Я уже покушалась работою поддерживать горестную жизнь, но силы мне изменили, болезнь истощила остальные средства, и мне остаётся одна надежда – милосердное воззрение Вашего Императорского Величества на мои страдания. Я не расточила своего достояния – это внушает мне смелость взывать к милосердию Вашего Императорского Величества. Вы ли не будете снисходительны к дочернему усердию, через которое я ввержена в нищету».
При содействии начальника царской Военно–походной канцелярии генерал–адъютанта В. Ф. Адлерберга в ответ на своё прошение она получила единовременную материальную поддержку в размере 2 тысяч рублей; Керну был послан запрос, почему он отказывается содержать жену.
Ермолай Фёдорович 13 ноября 1836 года ответил государю длинным письмом, в котором во всём происшедшем обвинял жену; он писал, что женившись почти без приданого и «имея одну любовь и дружбу жены в предмете», не доискивался помощи тестя. «Увидя же вскоре к себе её равнодушие и холодность, – оправдывался генерал, – поздно уже познал своё несчастие. Она, невзирая на все мои и общих родных наших убеждения и просьбы, оставила меня с двумя дочерьми самовольно в первый раз на четыре года, расстроив меня совершенно сделанными для неё, при начале супружества и при неоднократных потом возвращениях ко мне в скудном виде после продолжительных отлучек, долгами… Но я, как надлежало супругу, вызвал её после четырёхлетней разлуки с взрослыми детьми, не вспомнив прошедшие неприятности, принял её с прежнею любовью, хотя она, смею доложить, прибыла ко мне, не имея даже и необходимого платья… Моё снисхождение не послужило к добру: она забылась, изъявив мне желание, чтобы я детей определил на казённое содержание… Наконец, моя жена оставила меня в другой раз, объявив мне, что не желает со мною жить… Десять лет провёл я в разлуке с женою моею, не имев даже никакой переписки. В нынешнем году, прибыв в столицу, я принял дочь мою из Института… В это время… жена моя объявила родным своим, что она желает быть вместе со мною и дочерью, но не с тем, чтобы быть мне женою, а дочери – матерью, а только в обязанности гувернантки. После данного дочери моей воспитания, какою может быть ей моя жена гувернанткою, привыкшая к беззаконной жизни и, осмеливаюсь доложить, виновница нищеты дочернего состояния? За всем тем, убеждаясь просьбами дочери моей, основанными на истинной любви к родителям, я неоднократно и в прошедших месяцах, оставляя для себя даже необходимое в житейском быту, помогал неблагодарной жене, посылая ей по возможности деньги».
Керну в ответ на представленные объяснения было высочайше указано, что на основании законов он должен обеспечивать жену приличным содержанием, «чем самым и избегнет с её стороны справедливой на него жалобы».
Выйдя 17 ноября 1837 года в возрасте 72 лет в отставку «с мундиром и полным пенсионом», Е. Ф. Керн поселился в Петербурге и «по уважению к его недостаточному состоянию удостаивался получать от Монарших щедрот денежные пособия». Однако до конца жизни он не смирился с уходом жены и пытался отстаивать свою правоту: в письме военному министру графу А. И. Чернышёву от 3 декабря 1837 года он, обвиняя жену в том, что она «предалась блудной жизни и, оставив его более десяти лет тому назад, увлеклась совершенно преступными страстями своими, – умолял об одной милости – заставить её силою закона жить совместно». Дело было передано министру юстиции, но Ермолай Фёдорович умер, так и не дождавшись его решения.
27 января 1837 года А. С. Пушкин был смертельно ранен на дуэли Дантесом и через день скончался. 1 февраля Анна Петровна с дочерью Екатериной присутствовала на отпевании Пушкина в церкви Спаса Нерукотворного образа на Конюшенной площади в Петербурге. «Весьма многие из наших знакомых друзей и все иностранные министры были в церкви, – писал В. А. Жуковский отцу Пушкина Сергею Львовичу 15 февраля 1837 года. – Мы на руках отнесли гроб в подвал, где надлежало ему остаться до вывоза из города. 3 февраля в 10 часов вечера собрались мы в последний раз к тому, что ещё для нас оставалось от Пушкина; отпели последнюю панихиду; ящик с гробом поставили на сани; сани тронулись; при свете месяца несколько времени я следовал за ними; скоро они поворотили за угол дома; и всё, что было земной Пушкин, навсегда пропало из глаз моих»[57].
Часть III. «И ЖИЗНЬ, И СЛЁЗЫ, И ЛЮБОВЬ»
ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ
В 1838 году Сергей Львович Пушкин предпринял попытку соединить свою судьбу с А. П. Керн. 21 августа 1838 года он писал ей: «Дорогая АНна Петровна, я ещё не влюблён в вас, но именно с вами хотелось бы мне прожить оставшиеся мне ещё последние печальные дни. Вы примирили бы меня с этой жизнью, которая причиняет мне одни страдания и продлить которую, как бы ни был мал отпущенный мне ещё срок, я не испытываю ни малейшей охоты. <…> Я кажусь вам, должно быть, очень смешным, что пишу вам всё это в моём возрасте, но моя ли вина, что сердце моё осталось молодо. Неужто Всевышний покарает меня за то, что я не могу жить без любви…»
Однако наша героиня осталась безучастной к этому безрассудному порыву Сергея Львовича; её сердце уже принадлежало другому – троюродному брату Александру Васильевичу Маркову–Виноградскому (1820—1879).
Его отец Василий Терентьевич Марков–Виноградский (1786—1829) с молодых лет и до самой смерти находился на военной службе, участвовал во многих войнах и дослужился до чина полковника. В 1826 году он был награждён орденом Святого Георгия 4–й степени. Мать А. В. Виноградского – Дарья Петровна, урождённая Полторацкая (около 1780– 1837), по словам Александра Васильевича, «жизнь свою прожила тихо, с упованием на Бога, с любовью к близким, которым всегда непритворно и дружески улыбалась, стараясь делать им что могла приятное или полезное». Род Марковых–Виноградских был внесён во вторую часть дворянской родословной книги Черниговской губернии[58].
Александр Васильевич родился в городе Кричеве Черниговской губернии. Первые годы вместе с родителями он жил в Очакове, Херсоне, Николаеве, Златополье и других провинциальных городах, куда отца забрасывала военная служба. Затем Александр был отдан на воспитание своей тётке Феодосии Петровне Полторацкой, считавшейся в его семье «образованною и способною учить других», и жил вместе с ней в Соснице – небольшом черниговском имении своей бабушки Екатерины Васильевны Полторацкой. В юности он интересовался литературой, искусством, историей, пробовал рисовать и мечтал стать художником. Но родители, не считаясь с желанием подростка, решили определить его на военную службу. 12 апреля 1834 года двоюродный дядя Г. И. Лисенко{74} привез 13–летнего Александра в Петербург, и после ходатайства Агафоклеи Марковны Сухаревой он был определён в 1–й Кадетский корпус.
Анна Петровна знала своего кузена ещё с его детского возраста; она по просьбе родственников стала часто его навещать в корпусе и приглашать к себе во время вакаций. 19 апреля 1834 года Дарья Петровна писала сестре Татьяне в имение Митино: «Саша теперь с Григорием, и часто бывает у доброй нашей Керновой, которая его приняла как самая искренняя родственница»[59].
Постепенно Анна Петровна увлеклась красивым юношей; он, в свою очередь, безумно влюбился в свою довольно моложавую кузину, к тому времени ещё сохранившую значительную долю былой неотразимой красоты.
24 декабря 1837 года умерла Дарья Петровна Маркова–Виноградская. За пять дней до смерти она составила духовную: «Я, вдова полковника и кавалера Василия Маркова–Виноградского Дарья Петровна, дочь Полторацких, Виноград–ская, будучи слаба здоровьем, но совершенно в здравом рассудке и твёрдой памяти, на случай смерти моей, могущей последовать иногда внезапно, с сим моим добровольным духовным завещанием, всякому присутственному месту и кому только знать будет о чём нужно, объявляю, что зная по долговременному моему опыту к родной сестре моей, умершего бунчукового товарища Петра Полторацкого дочери девице Феодосии Петровне Полторацкой, ко мне нежное родственное расположение, усердие и преданность, а к детям моим – сыну Александру, поступившему в Кадетский корпус, и дочери Елизавете{75}, нежность и привязанность, свойственную одной лишь сердобольной матери, поручаю ей оных детей моих в совершенно полную единственную её волю и с сим усерднейше прошу оную сестру мою не отказаться принять их под свой покров и попечение, напутствуя их, как и при мне всегда бывало, своим примером и наставлениями к добродетели, равно с сим упрашиваю сестру мою и всё имение моё, какое по мне останется, недвижимое с крестьянами и движимое, состоящее в городе Соснице и уезде Сосницком, без всякого исключения и ограничения принять также в полное своё управление и распоряжение оным до самых совершенных лет детей моих, не отдавая ни им, и ни кому другому ни для опеки, ни в управление оным ни в приходы, ни в расходы никаких отчётов.
Я совершенно уверена, что сестра моя в сей милости мне не откажет, и потому, если Богу милосердному угодно будет прекратить жизнь мою, я остаюсь в полном уповании, что дети мои под благодетельным попечением её не будут тогда совершенными сиротами, и будут вести себя, как благородному их званию прилично, и имение им по мне следующее, сбережёт для них целостно, что доставит мне утешение и за пределами гроба.
Писал: канцелярист Иван Захарьев сын Котляревский.
Свидетели: коллежский асессор Потап Пантелеймонов сын Гончаревский,
отставной артиллерии подпоручик Степан Александров сын Полторацкий. Духовник завещательши Марковой–Виноградской: Сосницкой Воскресенской церкви священник Лев Аврамеев сын Борзиловский.
19 декабря 1837 года»[60].
А в день смерти, 24 декабря 1837 года, Дарья Петровна продиктовала письмо, непосредственно обращенное к сестре:
«Бесценный друг и благодетельница, сестра Федосья Петровна!
Прошу тебя и умоляю беречь своё здоровье для дорогих детей моих, заступи им место матери. Капитал, который у Варвары Марковны (Мертваго, урождённой Полторацкой, тётки А. П. Керн. – В. С.) 2 000 рублей, назначаю моей дорогой Лизиньке, Сашеньке моему бесценному 800, да два года прошу тебя, моя благодетельница и истинный друг сестра, скопить процентовые, что составит ему, моему другу, 1000. Наличного капитала, находящегося у меня 700 [рублей] ассигнациями, вручить ему при выпуске для одеяния. Марьи отдай долгу 50 [рублей] ассигнациями. Лизиньки дюжина серебряных столовых ложек, две соусных, одна разливная, полдюжины десертных, дюжина чайных ложечек и молошник. Сашиньки полдюжины столовых, полдюжины чайных и одна разливная. Бельём, как хочешь, друг мой, распорядись. Не имею духу больше писать. Ещё упрашиваю и умоляю, сбереги своё здоровье для детей моих. Чувства мои всегда были велики к тебе, с ними и умираю, друг твой верный Дарья Виноградская. 1837 год, декабря 24 дня.
Благословляю детей моих образами, которые ты, друг мой, назначишь, пусть их Бог благословит на все добрые дела. С прискорбием их оставляю, я не достойна ими утешиться. Всевышний лучше нас знает!»[61]
Вероятно, Дарья Петровна знала о начавшихся к тому времени близких отношениях её сына с Анной Петровной, так как после кончины матери Александр Васильевич оставил в своём дневнике запись: «Неужели известие о счастье сына могло убить мать?» К моменту сближения с Керн ему было 17 лет, а ей – 37.
Это была взаимная любовь – именно та, которую Анна Петровна так долго искала. Основываясь на богатом жизненном опыте, она понимала, что в любви – возможно, последней в её жизни – промедление и нерешительность недопустимы, и положила на алтарь этого чувства всё, что имела: и возможность достичь, наконец, материального благополучия, выхлопотав после смерти мужа вдовью пенсию, и положение в свете, и благосклонность родных.
Позже Марков–Виноградский в дневнике возвращался к романтической атмосфере их первых свиданий, поэтично описывая свои тогдашние ощущения, которые были свежи в памяти и через много лет семейной жизни с нашей героиней:
«Я помню приют любви, где мечтала обо мне моя царица <…>, где поцелуями пропитан был воздух, где каждое дыхание её было мыслью обо мне. Я вижу её улыбающуюся из глубины дивана, где она поджидала меня… Когда сходил я с лестницы той квартирки, где осознал я жизнь, где была колыбель моих радостей <…> по мере удаления моего от заповедных дверей, грусть больнее и сильнее вкрадывалась в сердце, и на последней ступеньке невольно всплыли слёзы на отуманенных глазах… Никогда я не был так полно счастлив, как на той квартире! Из этой квартиры выходила она и медленно шла мимо окон корпуса, где я, прильнувши к окну, пожирал её взглядом, улавливал воображением каждое её движение, чтоб после, когда видение исчезнет, тешить себя упоительной мечтой! Она повернула за угол… кончик чёрного вуаля мелькнул из–за угла и нет её… О, как жадно порывалось сердце вслед за нею… хотелось броситься на тротуар… чтобы и след её не истёрся посторонним, казалось, и в нём была ласка и завидовал я тротуару!.. А суббота настанет… в чаду мечты летишь по проспекту, не замечая ничего и никого, превратившись весь в желание скорее дойти до серенького домика, где её квартира… И вот уже взгляд отличает то, к чему сквозь здания, сквозь деревья и дом… Уже обозначилось в доме окно… и она выглядывала из него, освещенная заходящим солнцем… И вот поцелуй сливает нас, и мы счастливы, как боги!.. Так я царствовал в сереньком домике на Васильевском острове!..
А эта беседка в Петергофе, среди душистых цветов и зелени в зеркалах, когда её взгляд, прожигая меня, воспламенял… И мы под песню соловья, в аромате цветов, любовались друг другом, смотря в зеркальные стены беседки. <…> Она так чудно хороша, что я был в счастливом забытьи…»
28 апреля 1839 года в селе Мацковцы Лубенского уезда Анна Петровна родила от кузена сына, которого в честь молодого возлюбленного назвала Александром. Рожала 39–летняя Керн очень тяжело – мучилась ещё неделю после того, как отошли воды. Она словно отдала все силы этому позднему ребёнку и после его рождения долго хворала.
В 1839 году Марков–Виноградский был выпущен из корпуса и направлен для продолжения военного образования в офицерские классы Артиллерийского училища; не закончив их, в 1840 году он определился на службу в 7–ю артиллерийскую бригаду, базировавшуюся в Полтавской губернии: Лохвице, Лубнах и Хороле. По пути к месту назначения в конце августа 1840 года он заехал в Тверскую губернию навестить сестру Лизу, жившую у тётки Татьяны Петровны Львовой (в дальнейшем и он, и Анна Петровна поддерживали тесные связи с хозяевами имения Митино).
В начале 1839 года дочь Анны Петровны Екатерина возвратилась в Смольный институт в качестве классной дамы. 28 марта состоялось знакомство Екатерины Ермолаевны с Михаилом Ивановичем Глинкой у Дмитрия Степановича
Стунеева, ведавшего хозяйством в Институте благородных девиц и женатого на сестре Глинки Марии. 34–летний композитор недавно разошёлся с женой, но никак не мог добиться развода; Екатерине же исполнился 21 год.
«Она была нехороша собой, – писал позже Глинка об этой встрече, – нечто страдальческое выражалось на её бледном лице… Мой взор невольно остановился на ней; её ясные выразительные глаза, необычайно стройный стан (elance), и особенного рода прелесть и достоинство, разлитые во всей её особе, всё более и более меня привлекали. Оправясь несколько после сытного обеда и подкрепив себя добрым бокалом шампанского, я нашёл способ побеседовать с этой милой девицей, и как сейчас помню, чрезвычайно ловко высказал тогдашние мои чувства. <… > Вскоре чувства мои были вполне разделены милою Е. К., и свидания с нею становились отраднее. <…> Мне гадко было у себя дома, зато сколько жизни и наслаждений с другой стороны: пламенно–поэтические чувства к Е. К., которые она вполне понимала и разделяла…»
Композитор посвятил Екатерине Ермолаевне романс «Если встречусь с тобою», слова которого, по воспоминаниям Глинки, «Е. К. выбрала из сочинений Кольцова и переписала для меня». Для неё же написал он и фортепианный Valse–Fantaisie, поражающий проникновенной красотой, а также романс на стихи Пушкина «Где наша роза, друзья мои».
В начале зимы 1839/40 года Екатерина Ермолаевна тяжело заболела и переехала к матери на Дворянскую улицу. Михаил Иванович стал приходить к ней туда.
«…Глинка снова ожил, – вспоминала Анна Петровна. – Он бывал у меня почти каждый день; поставил у меня фортепиано и тут же сочинил музыку на 12 романсов Кукольника, своего приятеля. <…> Моя маленькая квартира была в нижнем этаже на Петербургской стороне, в Дворянской улице. Часто народ собирался кучкой у окна, заслышавши Глинку. <…> Он часто играл нам свою Камаринскую, но когда хотел меня разутешить, то пел песнь Финна, на известный нам мотив, усвоенный им во время поездки на Иматру».
Весной 1840 года Глинка создал свой музыкальный шедевр на стихи Пушкина, адресованные А. П. Керн. «Е. К. выздоровела, – вспоминал композитор, – и я написал для неё вальс на оркестр B–dur. Потом, не знаю по какому поводу, романс Пушкина „Я помню чудное мгновенье“».
Вероятно, чувство поэта к Анне Петровне, выраженное в этих стихах, совпало с чувством композитора к её дочери – и родился этот замечательный, наполненный нежностью и
страстью, бессмертный романс. Музыка в нём настолько органично слилась с текстом, что когда мы читаем стихи, то слышим музыку, а когда раздаются чудесные звуки этого романса, в памяти сразу возникают бессмертные пушкинские строки. Это происходит из–за того, что Глинка тонко уловил песенную основу и музыкальную гармонию этого стихотворения, его интонационно–синтаксические подхваты и повторы, создающие ритмико–мелодическое единство, романсную напевность стиха.
Наверное, лучше певца о романсе не скажет никто. Блестящий исполнитель лирического репертуара Олег Погудин пишет: «В музыке [этого] романса – нежность и страсть расцвета влюблённости, горечь разлуки и одиночества, восторг новой надежды. В одном романсе, в нескольких строчках – вся история любви, которая повторяется из века в век. Но никто и никогда уже не сможет выразить её так, как это сделали Пушкин и Глинка».
Существует, однако, версия, основанная на воспоминаниях племянника А .С. Пушкина Л. Н. Павлищева{76}, что романс на стихи «Я помню чудное мгновенье» Глинка написал ещё в начале 1830 года и впервые исполнил в доме Павлищевых в присутствии поэта и Анны Петровны. Шурин Пушкина Н. И. Павлищев якобы аккомпанировал на гитаре, а Глинка пел. «Дядя (А. С. Пушкин. – В. С), выслушав романс, – писал Павлищев, – бросился обнимать обоих исполнителей, а Анна Петровна сконфузилась, прослезилась от радости». В сноске к этому фрагменту воспоминаний их автор добавил: «Появился этот романс Глинки в печати действительно в 1839 году, значит 9 лет спустя, и появился уже в другом виде. А что всего замечательнее, Глинка тогда его написал не для Анны Петровны, а для дочери её – Екатерины Ермолаевны Керн, на которой он хотел жениться».
После выздоровления Екатерины Ермолаевны продолжились её любовные свидания с Глинкой. Летом 1840 года она забеременела. Беременность держалась в глубочайшей тайне – не прошло и года, как Анна Петровна родила сына от молоденького кузена, теперь незамужняя дочь ждет ребёнка… Под предлогом якобы угрожавшей дочери чахотки и «для перемены климата» Анна Петровна собралась увезти её в Лубны. Глинка не стал противиться этому решению. Екатерина Ермолаевна была вынуждена подчиниться матери, но её негодование по поводу малодушия любовника выплеснулось кучей претензий в его адрес. В дневниковых записях в конце июля он отметил, что младшая Керн «в припадке ревности жестоко огорчила меня незаслуженными, продолжительными упрёками… Я был не то чтобы болен, не то чтобы здоров: на сердце была тяжёлая осадка от огорчений, и мрачные неопределённые мысли невольно теснились в уме…».
Михаил Иванович выпросил у матери затребованные Анной Петровной 7 тысяч рублей, купил карету для Екатерины Ермолаевны и её матери, заказал дорожную коляску для себя. 10 августа 1840 года Анна Петровна с годовалым сыном и дочерью выехала из Петербурга на Полтавщину. В Гатчине они встретились с Глинкой, который сопровождал их до станции Катежна. «На станциях, – вспоминала Анна Петровна, – я расплачивалась (деньгами Глинки. – В. С.) за лошадей, заказывала обед или завтрак, и прочее, а он [Глинка], выйдя из кареты, тотчас садился в угол станционного дивана и ни во что не вмешивался. Во время же переездов от станции до станции разговаривал, пел из… оперы «Руслан и Людмила» и особенно восхищал нас мотивом, который так ласково звучит в арии:
О Людмила, Рок сулил нам счастье! Сердце верит… »Из Катежны дамы направились сначала в Тригорское к Прасковье Александровне Осиповой, затем – через Витебск в Полтавскую губернию, а Глинка – в смоленское имение матери Новоспасское. 17 августа он уже писал Анне Петровне:
«Вы можете представить себе, как тягостно мне было, расставшись с вами, продолжать моё путешествие. Когда ваша карета скрылась от моих взоров, я почувствовал себя как бы осиротелым и сел в коляску в самом грустном и мрачном расположении духа. Лошади тащили шагом по раскалённому песку, и на каждой станции меня держали по три или четыре часа, так что едва уже в вечеру я добрался до Порхова, сделав менее 60 вёрст в день. От Порхова же зато решился ехать день и ночь, и, приехав в Смоленск днем ранее предположенного, хотя и чувствую усталость, однако же, слава Богу, здоров и крепок.
Как вы поживаете в Тригорске? Сообщите мне подробное описание вашего там пребывания, в особенности о месте, где покоится прах Пушкина. Душевно сожалею, что обязанности к матушке не позволили мне вам сопутствовать. <… >
Вы у меня требовали маршрута, теперь сообщу вам его: из Тригорска вам надобно отправиться на Великие Луки, от этого города до Витебска около 160 вёрст. В Витебске отдохните сутки, потом в Могилёве, где рекомендую то же сделать, из Могилёва в Чернигов, а там уже сами знаете, как добраться до Лубен. <…>
Вы также, надеюсь, будете ангелом–хранителем для вашей дочери, и, наблюдая за нею со свойственной вам про–ницательностию, изгладите и последние остатки её недугов».
Приехав к отцу, Анна Петровна с дочерью и сыном поселилась в небольшом имении Лучка, недалеко от Лубен. Можно понять «немилости» Петра Марковича Полторацкого, когда к нему, под родительский кров, подальше от осуждений столичного «света», приехали 40–летняя (не молодая уже, по представлениям того времени) дочь с годовалым сыном, рождённым от 20–летнего кузена, и 22–летняя незамужняя беременная внучка…
В Лубнах на деньги Глинки произошло избавление Екатерины Ермолаевны от бремени. Каким именно образом это случилось, из доступных нам переписки и воспоминаний участников событий понять невозможно. Даже в узком кругу посвященных в эту историю высказываются очень туманно: «освобождение», «известная цель». Поэтому мы не берёмся строить предположения, а оставляем место для проницательности читателя.
22 августа 1840 года Глинка писал В. Ф. Ширкову: «Из последнего письма ты должен был заключить, что все мои планы разрушились – долг дружбы, хотя вкратце, объяснить тебе это. Тебе известно, что требовалась значительная сумма для освобождения (Екатерины Ермолаевны от последствий любви или Глинки от упрёков матери и дочери Керн? – В. С.). <…> Невзирая на голод, матушка выслала мне эту сумму, но её сердце высказалось в письме (противу её воли, как из слога я мог заметить) столь сильно, что ясно для меня стало, что её согласие на мои планы было вынужденное. <…> Идеал мой разрушился, – делился Глинка своим разочарованием в Екатерине Ермолаевне с приятелем, – свойства, коих я долгое время и подозревать не мог, высказались неоднократно столь резко, что я благодарю Провидение за своевременное их открытие». 15 сентября композитор возвратился в Петербург. Во время разлуки с Е. Е. Керн он продолжал переписку с ней. Одновременно, анализируя их отношения, он всё более убеждался в том, что «счастие невозможно на столь непрочных основаниях, на каковых я предполагал устроить его». В немалой степени к этому выводу его подтолкнуло навязчивое властное участие Анны Петровны.
Ермолай Фёдорович Керн в августе 1839 года побывал на поле Бородинской битвы. Несмотря на возраст (ему исполнилось 74 года), он держался молодцом: «Бодрым старцем казался он на сём поле, кровью его омоченном». Но возвратившись в Петербург, генерал начал чувствовать припадки водяной болезни в груди (в современной медицине эта болезнь именуется «гидроторакс», а причинами её могли быть как сердечная недостаточность, так и болезнь лёгких. – В. С.) и вскоре слёг. 8 января 1841 года он умер, не оставив состояния. Тело боевого генерала было предано земле в Санкт–Петербурге на Смоленском кладбище «на сумму, пожалованную Государем Императором»[62] .
«Известие о смерти г. Керн, – писал М. И. Глинка Анне Петровне 30 января из Петербурга, – огорчило меня тем сильнее, что я могу живо представить себе горе, причинённое вашей дочери. Большое счастье, что вы были там (в Лучке. – В. С.), чтобы осушить её слёзы и разделить с нею её печаль, – отсутствующие лишены этого сладкого утешения, их нет в те минуты, когда присутствие их было бы хоть чем–нибудь полезно, а письменные утешения приходят обыкновенно слишком поздно».
В марте 1841 года Анна Петровна, приехав в Петербург хлопотать о материальных делах, остановилась в Серапин–ской гостинице. 28 марта Глинка писал своей сестре Е. И. Флёри: «Мать К[ерн] здесь, но одна – я её еще не видел, так как лёгкое нездоровье не позволяло мне выходить. Ты представляешь себе, как много страданий причинит мне эта встреча, ибо сердце моё не изменилось и по некоторым выражениям моего друга (Екатерины Ермолаевны. – В. С.) я догадываюсь, сколь она далека от того, чтобы быть счастливой, – таким образом, я страдаю выше всякого выражения. <…> Если бы подруга моя была одна, всё бы шло хорошо, ибо я достаточно знаю свет, чтобы найти способ устроиться лучше, чем это может показаться, но у неё бесчисленная родня… родственники, родственники – вот бич всех чувствительных людей». Примерно то же Глинка писал и Ширкову: «Мои чувства не изменились, но печальный опыт и холодный ум убили надежды – вижу теперь несообразность моих намерений: мы слишком связаны обстоятельствами – в особенности она – у неё родных без конца».
Михаил Иванович собирался летом уехать или за границу, или в Малороссию: сначала в Харьковскую губернию – навестить Ширкова, затем в Полтавскую – встретиться с Екатериной Ермолаевной. Но его скандальный бракоразводный процесс был в разгаре (жена ушла от Глинки к Василь–чикову и даже тайно обвенчалась с ним), и он не мог покинуть Петербург. «Матушка пишет, – признавался Глинка сестре Екатерине, – чтобы я умерял свои страсти – разве ты не знаешь, что моя привязанность к ней (Е. Е. Керн. – В. С.) составляет потребность сердца, а когда сердце удовлетворено, можно не опасаться страстей».
Следующее за этим его письмо матери полно обид и даже резких выражений:
«Я скор и пылок и поэтому отвечал вам слишком поспешно, а может быть, и резко на письмо ваше. Сегодня я спокойнее и, <…> теперь буду отвечать обстоятельнее и подробнее… Я должен навестить Ширкова – посудите сами, будучи в Малороссии, в силах ли моих будет не повидаться с ней?
Ещё раз повторяю, я готов ехать, но, если что–либо помешает, спешу уведомить вас: если буду в Малороссии, буду весьма осторожен не ради сплетников и недоброжелателей, но единственно, чтобы не огорчить вас. <… >
Теперь несколько слов в моё оправдание: вы пожертвовали в трудный прошедший год 7 000 р. для известной цели – если бы вы этого не сделали и она бы погибла, – я бы не пережил её – следственно, вы пожертвовали этой суммой для спасения вашего сына. <…> Моё сердце не изменилось. Ваше письмо прошедшего году отравило моё блаженство (я не ропщу на это), угрызение совести при мысли покинуть вас возмутило мою душу до такой степени, что я не мог разобрать чувств моего сердца. Вот почему по приезде к вам я казался равнодушным и старался отыскивать и увеличивать недостатки К[ерн]. Но тайная грусть закралась в сердце, я занемог и по возвращении в Петербург едва не умер. Письма её воскресили сердце».
В Петербурге Анна Петровна пыталась оформить свою долю в купленном когда–то братом, в том числе и на её деньги, имении княгини Юсуповой; но до нас не дошло никаких документов по этому делу. Кроме того, после смерти Ермолая Фёдоровича она начала хлопотать о назначении пенсии за умершего мужа. Будучи неопытной в таких делах, вдова обратилась за советом и помощью к Глинке. Он сообщил своей матери: «Матушка К[ерн] здесь, она хлопочет о пенсионе – я помогаю ей умом и связями, но отнюдь не кошельком – не могу, да и вовсе не намерен».
В письмах от 1 и 28 марта 1841 года он в первую очередь посоветовал ей поставить в известность о предстоящих хлопотах сына Керна от первого брака Александра Ермолаеви–ча и подать прошение на имя императора: «Так как все дела у нас совершаются по форме, спешу сообщить вам форму прошения. Оно должно быть написано, как и все просьбы на высочайшее имя, на двухрублёвых листах. Одним словом по приложенному образцу. Вы, без сомнения, найдёте кого–нибудь, кто вам всё это устроит, тогда отошлите просьбу в инспекторский департамент Военного министерства и с тою же почтою известите меня о том, чтобы я имел время хлопотать. Дело зависит от Клейнмихеля, и к нему у меня есть верный путь». Глинка подробно объяснил Анне Петровне, какие бумаги покойного мужа она должна, как того требовали формальности, приложить к прошению:
«1) указ об отставке (который вы должны вытребовать от вашего сына) (имеется в виду пасынок Анны Петровны. – В. С.),
2) формулярный список (я это беру на себя и изготовлю вам просьбу),
3) свидетельство о смерти вашего мужа (об этом похлопочите чрез хозяина дома, где жил ваш муж, чтобы узнать доктора, который лечил, и священника, который хоронил его, от них и возьмите свидетельства).
Когда эти документы будут в порядке, тогда вы можете свободно ехать по подании просьбы, передав хлопоты кому–нибудь из моих или ваших друзей». Старания Анны Петровны закончились успешно – ей была назначена хорошая пенсия (к сожалению, не удалось выяснить её размер; обычно вдовье содержание составляло около трети пенсии покойного мужа). Однако А. П. Керн получала пенсию только полтора года – после вступления во второй брак потеряла право на неё.
В конце мая 1841 года Анна Петровна покинула Петербург и возвратилась в Лучку. Глинка продолжал следить за её имущественными делами – в письме от 2 июня 1841 года спрашивал:
«Горю нетерпением знать, как кончили вы ваше дело с Юсуповой? Получили ли ответ от Адлерберга?
Не поленитесь подробно известить меня о вас, о вашем милом семействе, о вашем чудесном малютке. Как он должен быть мил – ещё раз прошу все подробности о вас и ваших. Вы знаете по опыту, сколько они важны для отсутствующих. Прошу вас передать от меня тысячу приветов Александру Васильевичу и попросить его продолжать писать мне. <… >
Я уверен, что как по собственным вашим чувствам, так и по чувству дружбы, которое вы питали ко мне, вы будете беречь дорогое дитя; воспользуйтесь хорошим временем года, чтобы укрепить её хрупкое здоровье».
1 июля – через месяц после получения ответного послания, в котором Анна Петровна сообщала о том, как доехала до Лучки, и о нервной болезни Екатерины Ермолаевны, – Глинка снова писал ей: «Я счастлив узнать, дорогой и прекрасный друг, что вы уже у себя. Как должно было успокоиться ваше сердце в присутствии всех ваших, после столь же продолжительной, как и тягостной разлуки. Дай Бог, чтобы вам не пришлось более подвергаться подобному испытанию. Несмотря на обольстительные надежды, которые представляет мне будущее, и на развлечения прекрасного времени года, столь благоприятного для моего здоровья, – сердце моё страдает. Только близ вас и в вашем милом семействе надеюсь я найти утешение и забыть все мои горести. Я одинок, совершенно одинок в настоящую минуту, но одиночество – не единственная причина моих страданий. Я не могу скрыть от вас, что только что пережил живейшую тревогу по поводу здоровья мадемуазель Екатерины. Леченье железистыми ваннами как раз то, которое наиболее противоречит её физическим данным. <…> Поэтому, во имя всего, что вам дорого, не поднимайте более вопроса об этом пагубном способе лечения; скорее наоборот – нервное состояние вашей дочери может быть улучшено лишь правильным образом жизни, свежим воздухом, диетой, а особенно – душевным спокойствием. Верьте моему долгому и тяжкому опыту.
В течение восьми дней я надеюсь положительно сообщить вам о времени своего приезда. В ожидании же этого благоволите передать мою благодарность вашему отцу за сердечное письмо, которым он почтил меня, и уверить его, что я поспешу лично доказать ему, как сильно растроган вниманьем, которое он изволил мне оказать. <… >
Что вы поделываете? Каковы ваши планы? Ваши дела? В конце концов, я надеюсь узнать всё это от вас самих, так как сомневаюсь, что у вас будет время отвечать на эти вопросы ранее моего отъезда отсюда».
Михаил Иванович уже собрался было выехать в Малороссию, когда в конце июля пришло предписание из Духовной консистории, где рассматривалось дело о его разводе, о необходимости его личного присутствия на процессе. А дело это продолжалось уже три месяца, и конца ему не было видно. У Глинки появилась сыпь и возобновилась нервная болезнь. 20 декабря он пишет Ширкову: «С Малороссией у меня ссора через мать. Не требуй подробностей…» Как сообщил сын Екатерины Ермолаевны Ю. М. Шокальский в письме А. Н. Римскому–Корсакову от 24 сентября 1929 года, «разрыв произошёл… по старании Людм[илы] Ив[ановны] [Шестако–вой] (сестры Глинки. – В. С.)… Людм[ила] Ив[ановна], очевидно, воспользовалась горячим характером моей матери… вызвала закулисно маму на вспышку. В чём она состояла, я хорошо знаю от мамы…» К сожалению, о подробностях этой истории внук Анны Петровны не поведал.
ЖИЗНЬ НА ПОЛТАВЩИНЕ
26 апреля 1842 года Александр Васильевич Марков–Виноградский, с 1840 года служивший в артиллерийской бригаде, базировавшейся в Полтавской губернии, «решив, что бивуак и поле битвы не такие места, на которых вырабатываются мирные семейные достоинства», вышел в отставку с чином подпоручика. Возможно, на его решение повлияли намерение жениться на А. П. Керн и то обстоятельство, что он должен был испрашивать разрешение на брак у непосредственного начальства и не был уверен в положительном ответе. А может статься, что именно полученный им отказ послужил причиной отставки. Так или иначе, согласно дневниковой записи, он «занялся хозяйством по данной доверенности Петра Марковича в милой нашей ласковой Лучке. Когда бы удержалась она за нами!».
Анна Петровна поддержала его решение оставить военную службу. В письме А. А. и Е. В. Бакуниным от 25 марта 1852 года она высказала своё отношение к армии и к военным учебным заведениям: «Я боюсь корпусов и не люблю офицеров, из которых 9 /ю – всегда пошлость, кутилы, хорошие товарищи (т. е. пустые люди) и лентяи. Удивляюсь маменькам, которые радуются офицерским эполетам», – вероятно, уже подзабыв, что в молодости принимала ухаживания многих офицеров.
Спустя три месяца, 25 июля 1842 года, в Лубнах состоялась свадьба Маркова–Виноградского и Анны Петровны. Со стороны Александра Васильевича в жертву этому браку были принесены военная карьера с неплохим жалованьем и расположение родных, а со стороны Анны Петровны – солидная материальная обеспеченность в виде пенсии за умершего мужа, а также статус «генеральши» и поддержка отца. С обеих сторон это был смелый шаг, сделанный во имя любви. Анна Петровна наконец–то избавилась от ставшей ей ненавистной фамилии Керн и на протяжении всей оставшейся жизни с гордостью подписывалась: «Анна Виноград–ская».
Вскоре после венчания благодаря помощи совершавшего обряд священника Михаила Бернадского Марковым–Вино–градским удалось, наконец, узаконить рождённого до брака сына Александра. Он был вписан в метрическую книгу церкви села Золотуха Лубенского уезда 22 сентября 1842 года, и на протяжении целых десяти лет датой его рождения считалось именно это число. Только в 1852 году Александру Васильевичу удалось оформить свидетельство о рождении сына с указанием подлинной даты – 28 апреля 1839 года.
Дочь Анны Петровны Екатерина Керн в 1842 году возвратилась в Петербург. Глинка часто виделся с ней; однако по собственному признанию, сделанному в «Записках», с его стороны «уже не было прежней поэзии и прежнего увлечения». Его любовь постепенно переросла в дружескую привязанность. В 1844 году композитор уехал из Петербурга в своё смоленское имение Новоспасское, а через десять лет по просьбе Екатерины Ермолаевны возвратил её письма.
В 1842 году теперь уже в Екатерину Керн влюбился, стал публично выражать свои «неумеренные восторги» и предложил руку и сердце вдовый отец А. С. Пушкина Сергей Львович. Несмотря на то, что ему в это время шёл 72–й год, Екатерина довольно серьёзно отнеслась к его предложению, «была в раздумье и очень внимательна к нему». Её отчим писал по этому поводу: «Он (отец поэта. – В. С.) был… влюблён накануне смерти в дочь моей жены и хотел на ней жениться. Он в припадке слюнявой нежности к ней ел тихонько кожицу от клюквы, которую она выплёвывала на блюдечко… » В эту ситуацию неожиданным образом вмешалась Наталья Николаевна Пушкина – она стала уговаривать младшую дочь Прасковьи Александровны Осиповой 23–летнюю Машу, на которой до Екатерины Керн собирался жениться Сергей Львович, выйти за него, «говоря, что она не хочет Катрин Керн в belle–me're ( свекровь)»[63].
7 января 1844 года дочь П. А. Осиповой от второго брака Мария Ивановна Осипова писала сестре Евпраксии Николаевне, в замужестве Вревской: «Кажется, Екатерина Керн
не против выйти за Сергея Львовича… Она обхаживает его, а когда он изъявляет мне хоть несколько больше внимания, то старается ещё пуще того». Со стороны Сергея Львовича попытки добиться руки Екатерины Ермолаевны продолжались до самой его смерти в 1848 году. О серьёзности его намерений говорит и фраза из письма Льва Сергеевича Пушкина жене, написанного вскоре после смерти отца: «Не знаю, оставил ли он завещание, но мне говорят, что он дал госпоже Керн заёмное письмо на 50 тысяч рублей»[64].
22 сентября 1842 года А. В. Марков–Виноградский записал в дневнике: «Мы сошлись с братом и сестрою{77}, с которыми были не в ладах по тому обстоятельству, что отец оказал нам предпочтение перед ними, доверив нам, а не им управление Лучкою, когда уехал год назад в Петербург сбивать крупяное масло… О, зависть!»
Брат Анны Петровны Павел Петрович Полторацкий (1810—1876) в своё время учился вместе с Н. В. Гоголем в Нежинской гимназии высших наук. В тот период, о котором идёт речь, он проживал в имении Яблоново в Лубенском уезде Полтавской губернии, купленном у княгини Юсуповой. Из записок второго мужа Анны Петровны можно почерпнуть кое–какие сведения о жизни «почтенного братца, одного из подонков Полторацких»: «Мне рассказывали, как брат моей милой жены, П. П. Полторацкий, считающий себя образованным, сёк при помощи своих крепостных девок свою жену, из фамилии Гриневичей, за какие–то промахи относительно хозяйства, за несоблюдение каких–то приличий и прочее… Что мудрёного, когда он при мне бил девку по щекам, державшую ему урильник (горшок. – В. С.), когда он мочился…»
В 1855 году за Полторацким в Яблонове числилась 81 крепостная душа, в 1859 году в Лубенском уезде у него появилась ещё 31 десятина земли – местечко Большая Левада, оформленное в 1816 году купчей на мать Александра Васильевича Дарью Петровну Маркову–Виноградскую, а затем обманным путём, через Квитку (племянника Анны Петровны) купленное Павлом Петровичем всего за 300 рублей, в то время как настоящая цена этой земли, по мнению А. В. Маркова–Виноградского, составляла не менее 2 тысяч рублей.
Впоследствии Павел Петрович продал имение. «Одна половина Яблонова, – по словам второго мужа нашей героини, – была проедена, пропита и прокурена Павлом Петровичем вместе с Любою (его сожительницей. – В. С.) и их последом, другая израсходована на покупку дома в Киеве [стоимостью 30 тысяч рублей] на имя Любы, приносящего ей [годовой] доход в 3 000 рублей серебром».
В начале 1844 года, через два года после второго замужества дочери, Пётр Маркович Полторацкий был вынужден продать Лучку. Вероятно, ему пришлось это сделать после неудачно закончившейся «аферы» с крупяным маслом.
Оставшись в буквальном смысле без крова, Марковы–Ви–ноградские вынуждены были переселиться в городок Сосни–цы Черниговской губернии, в маленькую прадедовскую городскую усадьбу с 15 душами крепостных крестьян. Она, как уже упоминалось, досталась Александру Васильевичу по наследству после смерти матери, однако фактически находилась во владении его тётки Феодосии Петровны{78}. Ранее, 22 сентября 1842 года, Марков–Виноградский сделал дневниковую запись: «Писал сегодня тётке Федосье Петровне Полторацкой, владеющей моим именьицем, что пора бы мне прислать из него что–нибудь, что я уже не Сашенька в углу, нуждающийся больше в наставлениях, чем в деньгах».
Александр Васильевич оставил описание имения: «Усадьба вместе со стоящею против её ворот, на другой стороне площади, каменной церковью Воскресения построена была для деда моей матери, протоиерея Ф[ёдора Филипповича] П[олторацкого], сыном его (Марком Фёдоровичем Полторацким. – В. С.), любимцем императрицы Елизаветы. Одноэтажный деревянный дом усадьбы, осенённый роскошными липами и клёнами, был так близок к церкви, что с его крыльца, покрытого навесом на четырёх колонках, можно было слышать церковную службу. Колонки эти остряки называли «тасканскими», так как их таскали по лесу и притащили на место, немного употребив усилий на отделку… Церковь была о трёх куполах самой простой архитектуры… Она была разбита громом и так долго стояла без крыши, что на ней выросла берёза… Она реставрировалась уже, по моей памяти, стараниями моей бабушки, долго собиравшей пожертвования по книжке, выданной из консистории…»
После переезда, состоявшегося 20 февраля 1844 года, Александр Васильевич, обуреваемый тревогой, записал в дневнике: «Вот мы и в Соснице… Что–то будет? Чем–то будем жить?! Разумеется, службою! Но как найти место?.. Увидим!.. Бог не без милости, казак не без счастья!..»
В Соснице Марковым–Виноградским пришлось жить вместе с их общей тёткой Феодосией Петровной Полторацкой – той самой, которой почти 25 годами ранее Анна Петровна адресовала свой «Дневник для отдохновения». Теперь из экзальтированной дамы она превратилась в желчную скупую старуху, очень неодобрительно относившуюся к любовному союзу своей зрелой племянницы и молоденького племянника и всячески отравлявшую им жизнь. «Под мучительным игом» этой капризной, тщеславной и завистливой женщины они прожили более десяти лет – до конца 1854 года.
«Тётка ненавидит мою жену, – писал Марков–Виноградский. – Отчего же она и меня не так же ненавидит? Это меня огорчает! Она, стерва, думает, что жена управляет мною. Между тем, мы живём согласно, и одна любовь наполняет нашу жизнь и управляет нашими действиями и мыслями…»
Александр Васильевич в течение пяти лет (с 20 марта 1846–го по 1851 год) избирался на должность заседателя в Сосницком уездном суде. «Выборы дворянские наши, – писал он в дневнике, – составлены большей частию из людей, до которых образование не коснулось, которые не имеют простых понятий ни о добре, ни о зле, у которых совесть свободна, как старый разношенный сапог, и от этих выборов зависит судьба моя! Если я буду причиною решения дела не в пользу означенных господ, то меня не выберут, и я при чистой совести своей всё–таки буду нищим. Положение, кажется, незавидное!.. Когда–то я мечтал об идеальной честности и уверен был в возможности осуществить эти мечты. Настало время действовать… и что же? Необходимость породила долги, бедность замедлила уплату их… И что сталось с честностью? Начал служить… и стали появляться у меня подарки. Не принять – значит обидеть дающего, и потом жалованье мало, а потребностей много!.. Я также беру подарки, как и другие, хотя и без вынуждения: всё же это взятки!»
Именно «за взяточничество и укрывательство» супруг нашей героини вместе с другими заседателями угодил под суд. Произошло это, по его словам, так: в Сосницах под следствием находился целый табор цыган, подозреваемых в воровстве, а четверо из них даже сидели в остроге. Александр Васильевич, не разобравшись и даже не читая, подписал решение об отдаче всех подсудимых на поруки какому–то канцелярскому чиновнику. Возвращённые таким образом на свободу цыгане вскоре были вновь уличены в воровстве; губернатор П. И. Гессе приказал за освобождение преступников, а заодно и за медлительность в производстве судебных дел всех заседателей отдать под суд. Решением Сената они были лишены должностей.
Анна Петровна была потрясена этими событиями. После судебного скандала самой высокой выборной должностью, на которую мог претендовать Александр Васильевич, оказалась должность попечителя хлебных магазинов, которую он и получил 7 июня 1851 года. Эта служба – как, впрочем, и предыдущая – не давала возможности материально обеспечить семью.
Жили Марковы–Виноградские настолько бедно, что Анне Петровне приходилось иногда даже зарабатывать шитьём рубашек для мастеровых и вязанием чулок, а Александру Васильевичу – карточной игрой. Иногда появлялись слабые намёки на улучшение их жизни. «Скажу тебе ещё нечто радостное, – поделилась Анна Петровна надеждой со своей золовкой Е. В. Бакуниной 17 августа 1851 года, – но так как всё радостное неверно и всё ожидаемое редко сбывается, то я и боюсь полагаться: мужу обещают дать какое–то значительное имение в опеку; и он будет получать 10 копеек с рубля, что, говорят, составит 250 рублей серебром в год. Если это сбудется, то можно будет чай пить по утрам и вечерам и иногда кофе. Теперь же, признаюсь тебе, один преферанс поддерживает наше существование».
Но ни хроническое безденежье, ни косые взгляды, а иногда и прямое осуждение их союза со стороны родных и близких не могли разрушить тех трогательных отношений любви, взаимного уважения и согласия. Оба были счастливы. Вероятно, залогом этого стали безграничная любовь Александра Васильевича и его жертвенность. Он терпеливо выносил все капризы стареющей жены.
Их сын Александр рос хилым и болезненным мальчиком, и на поддержание его здоровья, а также на обучение тратилось много денег. В 1847 году А. В. Марков–Виноградский записал в дневнике: «Моему сыну я хочу дать воспитание кроме общего ещё и торговое, так, чтобы он мог быть всегда полезным членом общества и богатым; в нём я замечаю деятельность и наклонности к хозяйству».
Любимым времяпрепровождением Марковых–Виноград–ских было чтение – обычно Александр Васильевич читал вслух. Среди прочитанного были романы Диккенса и Текке–рея, Бальзака и Жорж Санд, повести Панаева и Барона Брамбеуса (Сенковского), журналы «Современник», «Отечественные записки», «Библиотека для чтения». Привитая с детства любовь к чтению позволяла Анне Петровне в молодости в мечтах уходить от реальности, а во времена невзгод и в старости – сохранять спокойствие духа.
Письма супругов к родным и многочисленные дневниковые записи Маркова–Виноградского полны суждений о прочитанных книгах и сообщений о текущих событиях и проникнуты нежными чувствами друг к другу.
«Какое высокое наслаждение, – писал Александр Васильевич в то время в дневнике, – после тяжких трудов, в самом жалком изнурении, упасть на роскошную грудь жены, утонуть в нежности её ласки, жарких поцелуях и забыться чудным, спокойным сном. Улыбка высокого удовольствия и умиления… на устах спящего счастливца! И как радостно его пробуждение. Ласковый голос жены лепечет ему нежности: душистые губки её смывают с глаз, отуманенных сном, ночные грёзы и освещают их зарёю своей милой улыбки!»
Подчас мужу приходилось терпеливо сносить ситуации, подобные описанной им 3 ноября 1845 года: «Жена или сидит с тёткою и играет в преферанс в угождение ей, и я один, или сидит со мною и молчит, потому что неприятные обстоятельства так стиснули нашу жизнь, что язык не хочет шевелиться».
При чтении тетрадей с дневниковыми записями Александра Васильевича создаётся впечатление, что он нисколько не ревновал жену к предметам прошлых её увлечений – наоборот, гордился тем, что она вдохновляла многих поэтов на создание прекрасных лирических стихов.
«Теперь я сижу в уютной нашей спальне, – писал он. – Она, моя голубушка, уже легла в постель и ей может быть уже и снится что–нибудь, а я пишу и хочу сказать несколько слов о Пушкине, о котором мы с нею часто беседуем и перечитываем его „Цыган“… Она была знакома с ним, и он её воспел в двух стихотворениях: „Я помню чудное мгновенье“ и „Я ехал к Вам“. Она вдохновляла также Подолинско–го. <…> Да, кто не восхищался её внутренней и внешней красотою?.. „Сын Отечества“ вздумал уверять, что Пушкин не мировой гений!! Мне это досадно!.. В его произведениях воспроизведены общечеловеческие мысли, чувства и действия и затронуты общечеловеческие нравственные интересы, которые для всех людей и всегда занимательны… Музыка стихов его отчётливо, верно изображает чувства и, читая их, кажется, что Пушкин и мыслил стихами, так они естественны!.. Ни одна строка не написана им для рифмы… Его стихи подобны дождю, лились из сердца и западают в сердце каждого…
Многие женщины, воспаляемые огнём его речей и стра–стию его взглядов и манер, увлекались им до цинизма… Некоторые, разумеется, весьма немногие, допускали даже непозволительные ласки – персидские или содомские удовольствия… И он их не уважал, кроме тех, которые держали себя вдали от него, как например, моя жена и некоторые другие. Она, моя голубка, светлым, чистым взглядом, своими скромными манерами и речами, своею простотою, исполненною невинности сердечной, своим поэтическим идеализмом и высшими воззрениями на жизнь исключала возможность грязных поползновений и была воспета Пушкиным как «гений чистой красоты»».
Очень интересен взгляд Маркова–Виноградского на отношения Анны Петровны с Алексеем Николаевичем Вуль–фом: «Жена моя помогала ему, когда он учился, и ласкала его на заре жизни».
Анна Петровна, вероятно, реально ощущала разницу в возрасте и боялась потерять молодого мужа. В 1849 году Марков–Виноградский оставил запись в дневнике: «Жена. Она, моя голубушка, боится, чтобы я не разлюбил, не изменил ей. В начале нашей связи она этого же боялась. И опасения в течение девяти лет преследовали её, как необходимый спутник счастья! Но моя любовь срослась со всем моим организмом и сделалась необходимым элементом моей жизни. Я извиняю её ревнивые выходки, но в себе уверен, потому что знаю себя – моя любовь к ней неизменная, как свет солнца.
Я люблю её, мою душечку! Люблю со всей нежностью, и нет сил в природе, которые бы могли разрушить мою горячую привязанность к ней! Всё, что есть во мне, всё принадлежит ей! Её теплота насквозь проникает меня и производит во мне сладостные ощущения, каждый мой нерв всасывает её… я счастлив от её прикосновений <…> её голос, мягкий и мелодический, чарует меня. Я весь любовь, весь счастие, и нет для меня радости за чертой моей семейной жизни. Боже, благослови нас, улучши наше состояние во всех отношениях!.. О, как жестоки внешние обстоятельства, нас окружающие! Они убивают нас!»
8 февраля 1850 года супруг Анны Петровны отправился из Сосниц в Тверскую губернию к сестре Лизе, которая жила у тётки Татьяны Петровны Львовой в Митине. Побывал он и в Прямухине у Бакуниных – Александр Александрович Бакунин был влюблён в Лизу и собирался на ней жениться. Возвратившись 3 марта, Александр Васильевич записал в дневнике: «Побывал я в разумной беседе трезвых людей – разумных Бакуниных! Сколько ума, знаний, сколько доблести в этом чудном семействе!.. »
Львовы и Бакунины, увидев, какое благостное впечатление произвела на гостя митинская и прямухинская атмосфера, предложили Марковым–Виноградским перебраться с семьёй в Тверскую губернию и пообещали помочь главе семьи занять какую–нибудь выборную должность в Новоторжском уезде. Однако и Александр Васильевич, и Анна Петровна, при всей заманчивости этого предложения, не решились покинуть Сосницы. «Нас призывают родные служить в Торжке, – записал в дневнике Марков–Виноградский, – а нам так хорошо по временам в своём мирном приюте… Но, может, я там пойду в ход и буду иметь деньги!.. Да жаль покинуть своё и уехать на чужое…»
Анна Петровна в письме Лизе Марковой–Виноградской от 12 августа 1850 года также высказала свои колебания и даже страх перед возможным переездом, не в последнюю очередь вызванный необходимостью затрат на его осуществление: «Долго мы с мужем тосковали о мечте жить и служить в Торжке! Почти было решено, что нельзя нам подняться; дорого будет стоить… и всё одолжаться?! Это страшно мучительно! Притом же говорят, по выборам иначе служить нельзя, как надо иметь свою собственность, хоть маленькую, в том уезде. Потом, подумай ты сама: если нам здесь трудно прожить, т. е. промаяться, [на] 700 р. в год, то там ещё труднее будет; там всё дороже, здесь же у нас хлеб, соль, дрова и все овощи зимой и летом не покупные… Обсуди всё хорошенько… Напиши, моя душечка, обо всём подробно брату, потолкуй со всеми и пусть общий совет решит. Мне – страшно!.. Вот если бы дядюшка Константин Маркович на меня обратил милостивое внимание; или если б что–нибудь вышло из наших писем с тобою к Татьяне Борисовне{79}, смело бы можно ехать».
11 января 1852 года Елизавета Васильевна Маркова–Виноградская вышла замуж за Бакунина и поселилась в Прямухине.
Сохранилась большая переписка Анны Петровны и Александра Васильевича с Е. В. Бакуниной, из которой опубликована только малая часть. Наша героиня делилась с золовкой воспоминаниями о детстве в Бернове и, не боясь быть непонятой и не стесняясь, рассказывала трепетные истории о семейном счастье с «Василичем»: «Муж сегодня поехал по своей должности на неделю, а, может быть, и дольше. Ты не можешь себе представить, как я тоскую, когда он уезжает! Вообрази и пожури меня за то, что я сделалась необыкновенно мнительна и суеверна; я боюсь, – чего бы ты думала? Никогда не угадаешь! Боюсь того, что мы оба никогда ещё не были, кажется, так нежны друг к другу, так счастливы, так согласны! На стороне только и слышно, что ставят в пример нас. Говорят молодые, новые супруги: „Нам только бы хотелось быть так счастливыми, как Анна Петровна и Александр Васильевич!..“ Все видят, что мы счастливы, все завидуют, может быть; а никому не придёт в голову, как мы его выработали, и что, может быть, на это надо было и уменья? Я думаю, что кто счастлив, тот и мудр, и должно этому учиться».
Она попросила Александра Бакунина, неплохо рисовавшего, сделать копию с карандашного портрета дедушки, И. П. Вульфа, а по получении её написала ему: «Благодарю вас, добрый брат, за ваши труды. Портрет очень похож и прекрасно сделан. Один мой глаз мог только отличить его от подлинника. Завидный талант у вас».
13 апреля 1852 года Анна Петровна переписала и отправила Елизавете Васильевне вычитанную где–то понравившуюся ей фразу о тонкостях супружеских отношений: «Если бы женщины понимали, что нужно стараться всегда нравиться своему мужу, – их мужья вели бы себя лучше; некоторые из мужей единственно потому изменяют своему долгу, что жёны их не стараются поддерживать в них супружеской привязанности». Ах, как она была с этим согласна!
В августе 1852 года Марков–Виноградский вместе с сыном на 500 рублей, присланные сестрой, отправился в Прямухи–но навестить её[65]. Анна Петровна страдала в разлуке с близкими. «Я осталась больная совсем, – писала она Елизавете Васильевне, – а уж какая грустная, ты себе этого и представить не можешь. Пока я их знала в дороге, я мучилась несказанно и боялась ужасно… Я не переставала томиться и беспокоиться, пока не получила письма из Митина».
7 сентября, возвратившись в Сосницы, Александр Васильевич записал в дневнике: «Ездил к милой своей сестре, Лизе Бакуниной, за 900 вёрст в Торжок видеть её, моего дружочка, – жил несколько дней её жизнью и, истомившись мрачными мыслями о том, что делается у меня дома, возвратился 30 августа в объятия своей жены… Я ездил с Сашею, хотел ознакомить его с лучшим миром, нежели тот, в котором он прозябает. И он насмотрелся на многое, что и во сне не видел прежде».
В 1853 году Маркову–Виноградскому снова пришлось поехать с сыном в Прямухино, на этот раз – на похороны Елизаветы Васильевны. 20 января она родила сына Алексея, а спустя три с небольшим месяца, 5 мая, так и не оправившись после родов, умерла. Похоронили её в семейном склепе Бакуниных возле церкви. Александр Васильевич пробыл у Бакуниных с 9 по 31 мая.
После возвращения «в объятия жены» Марков–Виноград–ский безуспешно пытался получить место городничего в Подольской или Волынской губерниях[66].
Анна Петровна также делала попытки пристроить мужа на службу. 27 февраля (к сожалению, в письме год не указан) она собственноручно написала своему прежнему поклоннику А. И. Подолинскому в Одессу:
«Вот уже год, как я писала к вам, любезнейший, добрейший Андрей Иванович!.. Ваш ответ тронул меня до глубины души, но я не ответила вам, посчитав, что ваше отсутствие продлится на неопределённое время, и моё письмо будет гулять по России.
Дядюшка не обратил внимания на мою просьбу и скорбное воззвание помочь мне, несмотря на прежние обещания. Я не упрекаю в этом ни его, ни ещё менее вас, зная вашу душу и благородное стремление обязать меня. Я вам за всё это благодарна!
Несмотря на неудачную попытку с этой стороны, мне на днях ещё выпало на мысль одно средство извлечь себя из стеснённого положения, в котором мы находимся. Это средство почти зависит от вас, и я беру смелость о нём вас утруждать просьбою.
Скажите мне, как вы думаете, нет ли какой возможности получить место в Одессе? Вы спросите: какого роду? По каким его способностям? Какого чина, может быть? Что до чинов, кто об этом теперь думает? Деньги – вот рычаг единственный, и я полагаю, что муж мой согласен бы занять всякую должность, лишь бы она могла доставить средства содержать его семью, т. е. меня и нашего сына, и дать ему приличное воспитание.
Я слыхала, что места на конторах у негоциантов весьма прибыльны и спокойны. Напишите мне об этом и ваше мнение. <… > Скажите, что это возможно, что вы не откажете похлопотать об месте в Одессе и напишете мне какого роду – какое жалованье, и я буду стараться в средствах туда приехать – может быть, и дядюшка, познакомившись с мужем моим, которого покамест рекомендовать заочно я поручаю вашему доброжелательству, соблаговолит обратить на нас милостивое внимание и подаст нам руку помощи».
Одесса привлекала её не только с точки зрения службы мужа: «С этим бы осуществилась давнишняя мечта моя пожить в Одессе, подышать южным воздухом, полежать на берегу моря, пожить хоть немножко настоящей жизнью! <…> Я хочу перезвать из Петербурга дочь мою, которой петербургский климат вреден, к нам присоединится ещё одна чета супругов, желающих там поселиться и служить. Одним словом, я вам обещаю маленькую колонию людей очень образованных, любезных и любящих, и готовых вас любить по–прежнему всем сердцем, т. е. как я, которую вы знали и понимали. С нетерпением и трепетом буду ждать ответа вашего.
Не разрушите сладкой мечты моей, дайте взглянуть на ваше синее небо, и пожать вам руку с благодарностью и умилением.
До свидания. Поручая себя вашему нежному дружескому расположению, пребываю к вам с искренним усердием и преданностью
Ваш покорный слуга
Анна Виноградская»[67].
Этим планам не суждено было сбыться – семейству предстоял переезд в столицу.
СНОВА В ПЕТЕРБУРГЕ
В конце 1854 года Александру Васильевичу удалось, благодаря рекомендации управляющего акцизным откупом в Соснице Леонида Егоровича Раковича, получить, наконец, место домашнего учителя детей действительного статского советника, члена комиссии прошений Министерства иностранных дел князя С. А. Долгорукова.
Сергей Алексеевич Долгоруков (1809—1891) был представителем древней аристократической фамилии, третьим сыном бывшего министра юстиции князя А. А. Долгорукова от первого брака его с Марией Ивановной, урождённой Апай–щиковой. Он обучался в Пажеском корпусе, затем служил в
Государственной коллегии иностранных дел, Государственной канцелярии и Министерстве финансов, в 1842 году «состоял за обер–прокурорским столом по 5–му департаменту Правительствующего Сената». С 1845 по 1848 год Долгоруков «по расстроенному здоровью и семейным обстоятельствам» находился в отставке, а после возвращения на службу занимал посты сначала ковенского, затем витебского губернатора. С 1849 по 1857 год он являлся членом Комиссии прошений. Второй раз Сергей Александрович находился в отставке (с чином тайного советника) с 1857 по 1862 год, затем продолжил карьеру в качестве члена Комиссии прошений, а с 1864 года, получив почётное звание статс–секретаря, дававшее право личного доклада императору, состоял членом совета министра финансов, а затем, до 1884 года, – «у принятия прошений, на Высочайшее имя приносимых». Кроме того, в 1867 году он был избран почётным мировым судьей Новохопёрского уезда Воронежской губернии. В 1871 году Долгоруков был назначен членом Государственного совета, а в следующем году – почётным членом совета министра финансов по Департаменту мануфактур и торговли. Его женой была Мария Александровна, происходившая также из древнего рода Апраксиных. У них было десять детей. Одна из их дочерей, Александрина (1836—1913), была фавориткой императора Александра II. По воспоминаниям С. Д. Шереметева, «умная, вкрадчивая, проницательная и властная, она владела волею и сердцем самодержца, но не в ущерб приличию и порядочности». В 1860–х годах, в период великих реформ, она, обладая ясностью ума и твёрдостью характера, поддерживала государя в трудном деле преобразований. В 1862 году она вышла замуж за пожилого свитского генерала П. П. Альбединского и переехала в Варшаву, куда муж был назначен губернатором.
Марков–Виноградский считал С. А. Долгорукова «очень мрачным, злым и ограниченным аристократом».
10 декабря 1854 года умерла Феодосия Петровна Полторацкая. В течение восьми лет она пользовалась доходами с находившегося в её управлении после смерти сестры Дарьи Петровны имения в Сосницах, которое в год приносило чистого дохода более 500 рублей ассигнациями, за всё это время выделив А. В. Маркову–Виноградскому, по его словам, только 350 рублей.
Александр Васильевич после её смерти – что уж скрывать, долгожданной – записал в дневнике: «Тётка успокоилась навсегда. Наследство получил и поручил его в управление окружному Стаханову и его горбатой жене. Они дали денег взаймы – и я на днях еду в Петербург к Долгорукову в дом, везу к нему сына, воспитывавшегося, чтобы не разленился, в глуши у Тихомандритного в Новгородсеверске».
24 января 1855 года, оставив своё небольшое имение на попечение – не Стаханова, как планировали ранее, а собственного крестьянина Фёдора Столбцова, – Марковы–Вино–градские всей семьёй прибыли в Петербург.
Анна Петровна получила возможность навещать дочь, которая в 1854 году вышла замуж за юриста Михаила Осиповича Шокальского, и возобновила дружеские отношения с Глинкой.
«Приехавши из Малороссии в 1855 году, – вспоминала она, – я тотчас осведомилась о Глинке, и когда мне сказали, что здоровье его сильно расстроено, я не решилась просить его к себе, а послала сына узнать, когда он может меня принять.
Обласкав сына, которого видел в колыбели и сам учил петь кукуреку, играя с ним на ковре, он усердно звал меня к себе. Когда я вошла, он меня принял с признательностью и тем чувством дружества, которым запечатлелось первое наше знакомство, не изменяясь никогда в своём свойстве. В большой комнате, в которой мы уселись, посредине стоял раскрытый рояль, заваленный беспорядочно нотами, а подле ломберный стол, тоже с нотами, и я радовалась, что любимым занятием Глинки по–прежнему была музыка. При этом свидании он не говорил о невозвратных прошлых мечтах и предположениях, которые так весело улыбались ему при отъезде моём в Малороссию. Вообще он избегал говорить о себе и склонял разговор к моему тогдашнему незавидному положению, расспрашивал о моих делах с живым участием и только мельком касался своих обстоятельств и намерений. Когда я ему сказала, что предполагаю приняться за переводы, чтобы облегчить мужу бремя забот о средствах существования, то он усердно предложил свои услуги и при этом употребил такие выражения: «Le jour ou* pourrai faire quelque chlose pour vous sera un bienbeau jour pour moi» (День, когда я смогу для вас что–нибудь сделать, будет прекрасным для меня). <…>
Несмотря на опасение слишком сильно его растревожить, я не выдержала и попросила (как будто чувствовала, что его больше не увижу), чтоб он пропел романс Пушкина «Я помню чудное мгновенье…», он это исполнил с удовольствием и привёл меня в восторг!..
При расставании он обещал посвятить мне целый вечер и просил прийти к нему с близкими моими, когда он уведомит, что в состоянии принять».
Анна Петровна снова занялась переводами (французский язык она, разумеется, знала с детства, а в 1830 году вместе с С. М. Дельвиг брала у В. П. Лангера уроки итальянского). Она перевела повесть «Не шути с горем» и взялась за какой–то роман, главу из которого отправила Глинке. Михаил Иванович, прочитав присланное, отвечал: «Перевод ваш мне кажется очень натуральным, что, по–моему, весьма не дурно, и, хотя я не знахарь в литературе (в особенности новейшей, которую вовсе не люблю), но полагаю, что переводы ваши могут занять не последнее место между другими, появляющимися у нас теперь». Он посоветовал отправить переводы в Санкт–Петербургскую типографию «Королёва и комп.», которая с января 1856 года начала выпускать «Собрание иностранных романов, повестей и рассказов в переводе на русский язык». Одна рукопись Анны Петровны в 61 тетрадный лист – вероятно, сделанный ею перевод – находится в Рукописном отделе Пушкинского Дома. Она датирована 19 ноября 1855 года и начинается словами: «Один известный обольститель искал однажды себе работы…»[68]
17 октября 1856 года дочь Анны Петровны Екатерина Ермолаевна, по мужу Шокальская, родила сына Юлия. Это был третий ребёнок Шокальских – предыдущие умирали вскоре после рождения. А. В. Марков–Виноградский стал его крёстным отцом.
Через девять лет после замужества Е. Е. Шокальская овдовела. Оставшись с ребёнком на руках без средств к существованию, она была вынуждена уехать из Петербурга в Тригорское, которым в это время владела её двоюродная тётка Мария Ивановна Осипова. Здесь Шокальские прожили почти безвыездно более трёх лет, пока Екатерине Ермо–лаевне не удалось выхлопотать пенсию за мужа. Немалое влияние на Юлия оказал сын великого поэта Григорий Александрович Пушкин, постоянно живший по соседству, в Михайловском. B 1906 году в статье, помещённой в сборнике «Пушкин и его современники», Ю. М. Шокальский писал: «Многим, очень многим я ему обязан в своём воспитании, в утверждении правил чести и нравственности. Он меня и физически укрепил на охоте, верховой езде, пешей ходьбе и сельской работе».
С 1867 года Екатерина Ермолаевна с сыном жили в Ковно, а осенью 1868 года переехали в Петербург. Чтобы иметь возможность дать сыну образование, она была вынуждена служить гувернанткой в богатых домах. Её усилия были вознаграждены: в 1874 году после окончания четырёх классов прогимназии Юлий поступил в Морское училище, которое окончил в 1877 году с Нахимовской премией. Затем была учёба на гидрографическом отделении Морской академии, а с 1880 года для 24–летнего офицера началась самостоятельная жизнь – служба в Главном гидрографическом управлении, затем в Главной физической обсерватории, где он заведовал секцией морской метеорологии.
Свою первую научную работу «О предсказаниях вероятной погоды и штормов» Шокальский напечатал в 1882 году в «Морском сборнике». Тогда же он был избран действительным членом Русского географического общества. С 1883 года Юлий Михайлович преподавал в Морском корпусе, одновременно занимая должности библиотекаря Морского министерства (1887—1907) и заведующего метеорологической частью Главного гидрографического управления (1907—1912).
Начиная с 1893 года Шокальский был одним из рьяных сторонников освоения Северного морского пути. При его активной помощи адмирал С. О. Макаров добился постройки ледокола «Ермак». Прекрасное владение английским и французским языками позволяло ему следить за состоянием зарубежной науки и общаться с иностранными учёными. С 1895 года он принимал участие во всех международных географических конгрессах, выступая на каждом с докладами. После смерти П. П. Семёнова–Тян–Шанского Юлий Михайлович был избран президентом Русского географического общества. Его труд «Исчисление площадей бассейнов административных подразделений Азиатской России» (1903) с картой бассейнов был удостоен первых премий Российской и Парижской академий наук. В 1905 году под редакцией Шокальского вышел Большой географический атлас. Законченная тогда же работа «Исчисление поверхности Азиатской России» в 1909 году также была удостоена премии Российской академии наук, а в 1911 году – Парижской академии наук. В 1917 году он выпустил своё выдающееся исследование «Океанография». Всего же к началу 1920–х годов Шокальским было написано более 400 научных работ, в основном по проблемам гидрологии и океанографии. На протяжении почти четырёх лет (1924—1927) организованная им черноморская экспедиция на специально оборудованном корабле занималась гидрологическим обследованием Чёрного моря.
Ю. М. Шокальский к концу жизни являлся почётным членом Академии наук СССР, заслуженным деятелем науки, доктором географических наук, доктором ряда зарубежных университетов, почётным председателем Русского географического общества, почётным членом многих академий мира, почти всех географических обществ и учреждений земного шара. Его именем назван пролив на юго–востоке Земли Александра I в Антарктике, открытой экспедицией Ф. Ф. Беллинсгаузена, а в Арктике – небольшой остров в проливе Карские Ворота, ледник в западной части северного острова Новая Земля, пролив между двумя островами в архипелаге Северная Земля, озеро на полуострове Канин, остров при входе в Обскую губу и тёплое течение, идущее вокруг архипелага Шпицберген в Баренцевом море.
С 1881 года Юлий Михайлович был женат на Л. И. Скворцовой, которая всю жизнь посвятила заботам о муже. Их дочь Зинаида Юльевна Шокальская много лет работала директором Центрального музея почвоведения имени В. В. Докучаева Академии наук СССР.
Екатерина Ермолаевна до конца дней своих жила в семье сына в квартире на Английском проспекте и умерла 6 февраля 1904 года. На этом доме теперь установлена мемориальная доска, посвященная академику Шокальскому. После смерти матери Юлий Михайлович обнаружил в кладовке её портрет работы неизвестного художника, изрядно помятый и поцарапанный. Один из лучших учеников Репина отреставрировал портрет, и он долго висел в кабинете Шокальского. Зинаида Юльевна хранила его до самой смерти (24 января 1961 года); сейчас портрет Е. Е. Шокальской–Керн находится в экспозиции Пушкинского музея–заповедника в Тригорском.
Академик Шокальский писал о матери музыковеду А. Н. Римскому–Корсакову: «Она скончалась в 86 лет и до последнего момента была ясна в мыслях и вспоминала Михаила Ивановича постоянно всегда с глубоким горестным чувством. Очевидно, она его любила до конца своей жизни». Год её смерти совпал со 100–летним юбилеем великого русского композитора. «Страдая какой–то манией истребления, – сообщил Юлий Михайлович в 1905 году Б. Л. Модзалевско–му, – она в конце жизни сожгла свою переписку с Глинкою».
Михаил Иванович Глинка умер 3 февраля 1857 года. Анна Петровна присутствовала на панихиде в Конюшенной церкви. «Его отпевали в той же самой церкви, – вспоминала она, – в которой отпевали Пушкина, и я на одном и том же месте плакала и молилась за упокой обоих!»
Анна Петровна вместе с мужем часто навещала свою старинную подругу, сестру Пушкина Ольгу Сергеевну. В письме сыну от 19 мая 1857 года О. С. Павлищева упоминает об одном таком визите: «Виноградский неизбежный читал свои поэтические произведения, которые совсем не дурны»[69].
Осенью 1857 года князь С. А. Долгоруков вышел в отставку и отправился со всей семьёй за границу. Домашнему учителю его детей Маркову–Виноградскому было предложено последовать с ними, но без жены и сына, на что он, разумеется, не согласился. Правда, Александр Васильевич в дневнике изобразил ситуацию несколько иначе – написал, что 30 сентября Долгоруковы просто «отказали ему в продолжении занятий, не вознаградив за трёхлетний труд ничем». Между тем Александрина Долгорукова пыталась пристроить его на государственную службу и рекомендовала его сначала М. Н. Мусину–Пушкину, затем князю П. А. Вяземскому и А. С. Норову; но ничего не удалось сделать, поскольку в послужном списке Александра Васильевича была запись о его судимости.
Оставшись, таким образом, снова без средств к существованию, в январе 1858 года супруг Анны Петровны вынужден был продать своё сосницкое имение. Некоторое время он перебивался частными уроками у своих родственников Львовых. Наконец 21 февраля 1858 года благодаря хлопотам правителя дел Министерства государственных имуществ Василия Матвеевича Лазаревского, с которым Маркова–Вино–градского свёл по дружбе харьковский помещик Розалион Сошальский, а также старому знакомству и отдалённому родству Анны Петровны с М. Н. Муравьёвым–Виленским Александр Васильевич получил место в Департаменте уделов с годовым жалованьем в 600 рублей.
Михаил Николаевич Муравьёв (1796—1866) 16–летним офицером сражался на Бородинском поле, где получил тяжелое ранение в ногу, участвовал в Заграничном походе русской армии. Он сыграл довольно заметную роль в декабристском движении: участвовал в Священной артели, в 1817 году вступил в Союз спасения, основателем которого был его брат Александр; затем стал членом Союза благоденствия и являлся одним из авторов его устава – «Зелёной книги». Но после московского съезда 1821 года он отошёл от организации. По меткому замечанию историка и литературоведа П. Е. Щёголева, Муравьев «притаился в своём имении в глуши Рославльского уезда Смоленской губернии»; тем не менее в январе 1826 года он был арестован.
Показания Муравьёва, данные Следственному комитету, несмотря на внешне покаянный характер, представляют собой блестящий образец скрытности. Из целей Союза благоденствия он назвал только «помощь бедным, противоборство пороку и распространение просвещения». Много рассказал он о борьбе с голодом в 1820 году в Смоленской губернии – эта крупная общественная акция Союза благоденствия показала его возможности и крайне обеспокоила правительство. В июне 1826 года М. Н. Муравьёв после полугодового содержания в Петропавловской крепости был освобождён с оправдательным аттестатом.
С тех пор он верно служил самодержавной власти: был витебским вице–губернатором, могилёвским гражданским губернатором, участвовал в подавлении Польского восстания 1830—1831 годов, потом назначался курским военным губернатором, директором Департамента податей и сборов, сенатором, членом Государственного совета. В 1856 году он получил чин генерала от инфантерии, затем занял должность председателя Департамента уделов, а позже – министра государственных имуществ. В 1863 году, во время очередного Польского восстания, Михаил Николаевич был назначен виленским, гродненским, ковенским и минским генерал–губернатором, командующим войсками Виленского военного округа. После подавления восстания получил в 1865 году от императора титул графа и прибавление к фамилии «Муравьёв–Виленский», а от народа – прозвище «вешатель» (ему приписывается фраза «Я не из тех Муравьёвых, которых вешают; я из тех, которые вешают»).
Анна Петровна (в ту пору 12–летняя девочка) познакомилась с 16–летним прапорщиком Михаилом Муравьёвым в конце 1812 года во Владимире, где семья Полторацких, переселявшаяся из Тверской губернии в Полтавскую в объезд захваченной французами Москвы, остановилась на отдых. Муравьёв, раненный в Бородинском сражении и вывезенный слугами с поля боя, был доставлен туда для лечения. Анна помогала своей тётушке Анне Ивановне Понафидиной (урождённой Вульф) готовить для него перевязочный материал{80}. «Однажды она (тётушка. – В. С), – вспоминала Анна Петровна, – забыла у него свои ножницы и послала меня за ними. Я вошла в комнату и застала там ещё двух молодых людей. Я присела и сказала, что пришла за ножницами. Один из них вертел их в руках и с поклоном подал мне их. Когда я уходила, кто–то из них сказал: elle est charmante! (она очаровательна!)».
Новая встреча нашей героини с М. Н. Муравьёвым произошла через 45 лет. Вот как она описала её: «Я сидела в Петербурге, у двоюродной моей сестры Безобразовой (Елизаветы Павловны, в девичестве Полторацкой. – В. С.) среди других родственниц, как доложили, что приехал Михаил Николаевич Муравьёв. Вся компания ждала этого визита с нетерпением. Когда он вошёл, раскланялся с нами со всеми, то хозяйка представила меня ему. И когда я ему сказала, что мы старые знакомые и что не припомнит ли он, как я делала ему корпию во Владимире, то он всплеснул руками, сделал несколько шагов ко мне, взял обе мои руки, стал их целовать и всё повторял: «Ах, Боже, это Анна Петровна… Я долго вас искал… " Он так был нежен и ласков со мной, что возбудил ко мне зависть в присутствующих».
После получения мужем Анны Петровны, при посредничестве генерала Муравьёва, места на государственной службе семейство поселилось в Петербурге в доме Казакова (дом 59) на углу улиц Знаменской и Итальянской. Сначала Александр Васильевич служил чиновником в Комитете для пересмотра Свода удельных постановлений, в 1860 году стал столоначальником, а в 1862–м – секретарём Общего присутствия Департамента уделов. Его новая должность принесла Марко–вым–Виноградским долгожданную относительную обеспеченность. У них появилась, наконец, возможность для любимых занятий: муж Анны Петровны стал посещать театры, музеи и художественные выставки, бывать на музыкальных вечерах; сама она большую часть времени посвящала написанию и публикации своих «Воспоминаний о Пушкине».
Используя многочисленные рукописные материалы, сохранившиеся у неё после общения со многими знаменитыми современниками (письма, записки, альбомные записи, стихотворения и шуточные экспромты, посвященные ей), она смогла создать мемуары большой научно–познавательной и литературно–художественной ценности. Достоверность и точность приводимых фактов и событий сочетаются в них с тонкой наблюдательностью и живостью изложения. Именно из них читатели впервые узнали о многих событиях и деталях биографии Пушкина, которые впоследствии стали хрестоматийными: о том, как юный Пушкин рассыпал остроты в петербургском салоне Олениных или скакал «верхом, без седла, на почтовой лошади» с ближайшей станции в имение старого приятеля Родзянко; как, будучи сосланным в псковскую деревню, он каждый день являлся из своего Михайловского в гостеприимный тригорский дом Оси–повых–Вульф, чтобы побыть среди друзей, развлечься и отдохнуть; как, вернувшись после шести лет ссылки, трогательно–нежно встречался в столице с любимым Дельвигом, вёл «поэтические разговоры» на его литературных вечерах или на квартире у Керн.
Анна Петровна сохранила в памяти многие эпизоды из жизни Пушкина, многие детали их встреч. Кажется, что в некоторых сюжетах – о чтении поэтом в Тригорском своих «Цыган», или о пении им «своим звучным голосом стихов „Я ехал к вам“», ей посвященных, или о беспрестанном напевании в минуты рассеянности «Неумолимая, ты не хотела жить… » – она смогла даже передать пушкинские интонации…
Законченные мемуары Анна Петровна отдала известной тогда поэтессе Екатерине Наумовне Пучковой, обращением к которой они и начинаются: «Вам хотелось, почтенная и добрая Е. Н., узнать некоторые подробности моего знакомства с Пушкиным. Спешу исполнить ваше желание». Пучко–ва обещала помочь опубликовать воспоминания, но, продержав некоторое время, и исключив из текста без ведома мемуаристки «некоторые очень характерные анекдоты, …которые очень кстати бы пришлись», возвратила автору. Тогда Анна Петровна передала свою рукопись издателю первого Собрания сочинений А. С. Пушкина Павлу Васильевичу Анненкову, а тот, в свою очередь, после некоторой обработки, направил их редактору журнала «Библиотека для чтения» А. В. Дружинину. Впервые они были напечатаны на страницах апрельского номера «Библиотеки для чтения» за 1859 год с приложением четырёх писем Пушкина на французском языке с переводом.
Редакция сопроводила эту публикацию подзаголовком «Сообщено П. В. Анненковым» и примечанием: «С чувством истинного удовольствия спешим представить читателям нашим заметки о Пушкине, составленные одною из особ, близко знавших великого нашего поэта. Заметки эти имеют свой собственный интерес, помимо драгоценных писем Пушкина, к ним приложенных; что же касается до означенных писем, их невыразимая прелесть сказывается сама, без всяких указаний. Мы перевели письма Александра Сергеевича с возможной простотой и отчетливостью для читателей, не знающих французского языка, но очень хорошо знаем, что перевод наш бледен и недостаточен. Долгом считаем выразить живейшую признательность Павлу Васильевичу Анненкову за доставление писем и „Воспоминаний“».
П. В.Анненков (1813—1887), выпускник историко–филологического факультета Санкт–Петербургского университета, был одним из ближайших друзей В. Г. Белинского. Он долго жил за границей, присылая для публикации в «Отечественных записках» свои «письма»; в Риме познакомился с Гоголем. Первая критическая статья Анненкова «Заметки о русской литературе 1848 г.» была напечатана в первом номере «Современника» за 1849 год. В дальнейшем он публиковал свои материалы в «Русском вестнике», «Атенее», «Библиотеке для чтения», «Санкт–Петербургских ведомостях» и «Вестнике Европы».
Купив у вдовы Пушкина Натальи Николаевны за 5 тысяч рублей право на издание его сочинений тиражом в пять тысяч экземпляров, Анненков в 1855 году выпустил Собрание сочинений А. С. Пушкина в шести томах, а в 1857 году – седьмой, дополнительный том. Это издание явилось первым, достойным имени великого поэта, и было признано выдающимся общественным явлением своего времени. В первом его томе была помещена работа самого Анненкова «А. С. Пушкин. Материалы для его биографии и оценки произведений», в которой он на основании выписок из бумаг поэта и устных рассказов лиц, его знавших, проследил этапы творчества Пушкина буквально по дням{81}.
Наша героиня обратилась к Павлу Васильевичу с просьбой об оказании помощи в издании её «Воспоминаний о Пушкине» вскоре после выхода Собрания сочинений…; после напечатания мемуаров началась переписка Анны Петровны с Анненковым. В письме, написанном в апреле—мае 1859 года, она поблагодарила издателя за «появление нашей статьи», довольно подробно, на нескольких страницах, ответила на его вопрос, «что такое была Прасковья Александровна Осипова» и, между прочим, поинтересовалась его мнением: «Итак, скажите мне – последовать ли мне совету Николая Николаевича Тютчева (которого я знаю только по словам мужа, а лично не имею счастья знать) и написать ли мне нечто в роде дополнения к Воспоминаниям о Пушкине, т. е. об нём ещё кое–что, о Дельвиге, Веневитинове, Глинке и проч. – Попрошу мужа привести это в порядок и, если позволите, доставлю вам. Я сама ничего не умею сделать, ничего никогда не переписывала и не перечитывала, и теперь уж не выучиться».
В ответном письме она получила следующий отзыв о написанных ею воспоминаниях: «Только одна умная женская рука способна так тонко и превосходно набросать историю отношений, где чувство своего достоинства вместе с желанием нравиться и даже сердечною привязанностью отливаются разными и всегда изящными чертами, ни разу не оскорбившими ничьего глаза и ничьего чувства, несмотря на то, что иногда слагаются в образы, всего менее монашеского или пуританского свойства… »
Действительно, надо отдать должное такту и выдержке этой женщины: несмотря на различные до противоположности оценки, даваемые ей Пушкиным, на порой нелицеприятные отзывы поэта о ней, она не изменила своего взгляда на него. Она сумела в своих воспоминаниях сохранить для потомков живой образ Пушкина, со всеми его слабостями и недостатками, присущими ему как ярчайшему представителю своей эпохи (вспомним её ёмкую характеристику: «Он был сыном своего века…»).
8 апреля 1859 года умерла Прасковья Александровна Осипова, являвшаяся одной из самых значительных фигур в истории жизни Анны Керн. Приходясь родственницей и Анне Петровне, и Пушкину (для поэта она была ещё и гостеприимной соседкой), она принимала в судьбе обоих живейшее участие. «Бедняжка скончалась 8 апреля, в среду, на Святой неделе, – сообщила наша героиня Анненкову. – Минуты прощания были очень печальны, я плакала и от души за неё молилась!..»
Марковы–Виноградские вскоре свели знакомство с семьёй сослуживца Александра Васильевича по Департаменту уделов Н.Н.Тютчева (1815—1878). Николай Николаевич в прошлом занимался литературным творчеством и переводами, являлся сотрудником «Отечественных записок» и членом кружка Белинского. Он воспитывался в Германии, в школе гернгутеров близ Дрездена, в 1840 году окончил Дерптский университет. В Москве Тютчев познакомился с членами литературно–философского кружка Н. В. Станкевича и с Иваном Сергеевичем Тургеневым. Совместно со Станкевичем он подготовил и издал книгу «Нравы и обычаи всех народов». Вместе с историком Т. Н. Грановским он принял деятельное участие в похоронах Белинского и изыскивал способы оказать материальную помощь его семье. В 1841 году Тютчев женился на дочери российского адмирала датского происхождения Александре Петровне де Додт. В 1851– 1853 годах Николай Николаевич управлял имениями И. С. Тургенева и проживал с женой Александрой Петровной и свояченицей Констанцией Петровной в господском доме в Спасском–Лутовинове. Однако управляющим он оказался плохим. Владелец усадьбы писал Анненкову: «При всей своей отличной честности это человек самый непрактичный – и в два года довёл дело до того, что доходов моих (за исключением платежа в опекунский совет) не хватало на его жалованье, а на мой прожиток не приходилось ни копейки. <… > Мы дали друг другу бумагу, в которой свидетельствуем, что остались оба совершенно довольны. Моё состояние не позволяет мне содержать управляющего с жалованьем 2 000 рублей серебром в год и большим семейством».
После этого фиаско Николай Николаевич служил правителем дел организованного в Петербурге комиссионерства. Однако предприятие вскоре обанкротилось, а на Тютчева был произведён начёт в 10 тысяч рублей. Дело рассматривал третейский суд, на котором в защиту Тютчева выступил И. С. Тургенев. После его вдохновенной речи Николай Николаевич был оправдан. Во время Крымской войны 1853– 1856 годов Тютчев служил столоначальником в Инспекторском департаменте военного министерства. В Департамент уделов он попал, как и Марков–Виноградский, благодаря протекции его председателя М. Н. Муравьёва, приходившегося Тютчеву свойственником (его жена, как и мать Николая Николаевича, происходила из рода Шереметевых). В 1870–х годах Тютчев уже имел чин тайного советника, входил в состав Совета Департамента уделов и получал содержание до 10 тысяч рублей в год. Он являлся одним из разработчиков проекта нового «Положения об акцизе с питей», а также автором статьи «Моё знакомство с В. Г. Белинским», опубликованной в 1914 году в третьем томе «Писем Белинского».
Анна Петровна подружилась с Александрой Петровной Тютчевой, прекрасной музыкантшей и своей дальней родственницей (через Муравьёвых), а также с её сестрой Констанцией Петровной де Додт.
В 1861 году наша героиня снова стала вести дневник. Её записи, сделанные в период с 20 ноября по 18 декабря 1861 года в форме писем С. Н. Цвету{82}, повествуют о студенческих волнениях, произошедших той осенью в столице. Они были опубликованы только через 30 лет после её смерти Б. Л. Модзалевским в журнале «Минувшие годы» (№ 10 за 1908 год) под названием «Петербург в конце 1861 г. (Дневник А. П. Марковой–Виноградской)».
Эти весьма любопытные записи, обойдённые вниманием исследователей (за исключением короткого комментария А. М. Гордина при опубликовании их в составе воспоминаний, дневников и переписки А. П. Керн), характеризуют отношение Анны Петровны к правлению Александра II в 1860–е годы, сильно отличающееся от мнения множества его современников.
События, о которых рассказывает в дневнике Анна Петровна, начались вскоре после введения новых правил для студентов Санкт–Петербургского университета, запрещавших сходки, отменявших бесплатное обучение для «недостаточных» студентов и вольнослушателей; в соответствии с ними из рук выборных представителей студенчества изымалось заведование библиотекой, кассой и другими учреждениями. 18 сентября, вскоре после начала нового учебного года, в университете состоялась многолюдная студенческая сходка, на которой было решено не подчиняться этим правилам. После этой акции правительство временно закрыло университет. В ответ 25 сентября несколько сотен студентов и солидарная с ними неучащаяся молодёжь направились по Невскому проспекту и Владимирской улице к дому попечителя Санкт–Петербургского учебного округа. Там манифестантов ждали полицейские и жандармы, несколько «зачинщиков» были арестованы. С 11 октября правительство, решив, что студенты после арестов организаторов акций протеста успокоились, распорядилось возобновить занятия. Однако на следующий день возле университета собралась большая толпа. Студенты и присоединившиеся к ним сочувствующие требовали освобождения своих товарищей и отмены жёстких правил. К университету были стянуты полицейские и рота Преображенского полка, аресту подверглись около 300 человек.
В строках дневника А. П. Марковой–Виноградской, посвященных этим событиям, отразился её взгляд на эту бестолковую вначале и бессмысленно–жестокую в финале акцию царского правительства. Анна Петровна писала о разгоне последней манифестации и условиях содержания арестованных участников её: «Тут жандармы с лошадьми и преобра–женцы со штыками вышли на сцену кровавым пятном на русскую честь и правительство. <… > Человек шесть было ранено штыками и прикладами. <… > Их гнали в крепость, подгоняя отставших прикладами. В крепости же они были 5 дней без постелей и при гнусной пище. <… > Когда их повезли в Кронштадт (они не знали ещё куда), то один из пароходов зацепился за плашкоут моста и чуть было не погиб; в это время на берегу стояли и смотрели [великие князья] Михаил и Николай Николаевичи… В Кронштадте же, где нам говорили, что их так хорошо содержат, им давали чай (из пожертвованного им) в оловянных кружках, от которых постоянно тошнило, потому что грязные и после больных. <… > Однажды у них по всем камерам сделалась тошнота и корчи… Кроме того, от спёртого воздуха и прочих условий тюремной жизни разразился тиф. <…> Я сама, узнавши это, чуть не написала царю послание или Александре Сергеевне Долгоруковой. Но, к счастью, меня уведомили, что дело решено… 45 ссылаются в отдалённые губернии, а остальные освобождаются!.. Значит, признаются совершенно невиновными?? Да? А за то, что их били, и за то, что они и в голоде и в холоде сидели, лишённые свободы около 2–х месяцев, – за это что?.. Студентам объявили милостивое избавление от тюрьмы 6 декабря – в день тезоименитства наследника!.. Как мило!.. Думала ли я, что доживу до такой безобразной обстановки?.. »
В её мнении Александр II явно проигрывал дяде, Александру I: «А не правда ли, что мой–то царь Александр I был лучше ваших, несмотря на то, что 60 лет назад царствовал?.. Бедная, бедная Россия!.. Я ненавижу его и всё это!.. Что касается меня, я ему совершенно не верю!» Анна Петровна отпускает множество нелестных эпитетов в адрес царя–реформатора, который одобрял, а в некоторых случаях даже сам координировал репрессивные действия правительства в отношении студентов:
«Так легко было властию, Богом нам дарованною (подразумевается император – «помазанник Божий». – В. С.), рассечь этот гордиев узел – всех их выпустить, хоть на поруки, а потом судить и рядить. <…> Самое простое никогда на ум не всходит дуракам! <…>
У меня всегда вертится один характеристический факт об нём (Александре II. – В. С.). <…> После 8–летнего заключения Михаила Бакунина в Шлиссельбургской крепости мать (Варвара Александровна Бакунина. – В. С.), старуха лет около 70, приехала сюда (отец 90–летний умер, не дождавшись); ей сказали, чтобы она попробовала ещё одно средство: встретясь с царём в Петергофском саду, попросить лично царя о помиловании преступного сына. Она, бедная, это и исполнила. Подошла к нему с видом умоляющим и сказала, на вопрос его, кто она, что она мать кающегося сына и проч. и проч. Он остановился, вспомнил, о ком речь, скорчил, вероятно, николаевскую гримасу (она всегда была хорошей физиономисткой и сама признавала, что это «её конёк». – В. С.) и сказал: «Перестаньте заблуждаться, ваш сын никогда не может быть прощён!» И только. Она как стояла, так и повалилась, как сноп, на стоящую тут скамейку. Удивляюсь, как её, бедную, толстую, тучную женщину, не пристукнуло тут же! Он постоял немножко, посмотрел на неё и – пошёл дальше!.. Матери–то, надеющейся на милосердие, каково должны были прозвучать адские слова: «Lasciate ogni speranza» (Оставь всякую надежду – ит.) Дантовы. А вот он теперь в Лондоне, говорят. Желаю ему от всего сердца иметь возможность отблагодарить за прочувствованное его матерью в эти минуты!.. »
Из этого короткого дневника Анны Петровны, охватывающего совсем небольшой период – меньше месяца, можно тем не менее многое узнать и о её мировоззрении, сложившемся за прожитые 60 лет, и о характере, и о взглядах на семейную жизнь, и об отношении к деньгам. В частности, она высказала своё убеждение, что «пожилой человек когда женится, редко бывает удачно»; говоря об одной весьма богатой вдове, собиравшейся выйти замуж за графа Стейнбока, наша героиня решительно заявила: «…Будь я на её месте, не пожелала бы никакого графа, ни князя даже присоединить к этому богатству, а пользовалась бы им с любовию и желанием – поскорее его уничтожить». После получения приглашения нанести визит от генерала Н. Н. Анненкова, женатого на двоюродной племяннице Анны Петровны Вере Ивановне Бухариной, она записала: «Последнему я вовсе не буду рада, потому что церемонные визиты давно оставила. J'ai rompu avec le monde depuis bien longtemps (Я уже давно порвала со светом), да, кажется, никогда и не жила с ним в ладу, слава богу!» Добавим небольшой штрих к её интеллектуальным занятиям: она по–прежнему интересовалась литературными новинками, читала «Современник» и рекомендовала Цвету прочесть повесть семинариста Помяловского «Молотов». И при всём том Анна Петровна оставалась женщиной, с её маленькими слабостями. «Привезите мне духов из Англии непременно, иголок и ножницы», – просила она адресата своего дневника–письма С. Н. Цвета.
17 октября 1862 года Н. Н.Тютчев записал в дневнике: «Третьего дня минуло 20 лет со дня нашей свадьбы. Мы никого не звали, но у нас собралось много гостей, как к обеду, так и к вечернему чаю. А. П. Виноградская подарила нам пару канареек…»[70]
Через Тютчева Анна Петровна познакомилась с И. С. Тургеневым. В письме Полине Виардо тот так описал встречу с нашей героиней, состоявшуюся 3 февраля 1864 года, в день её именин:
«Вечер провёл у некой m–me Виноградской, в которую когда–то был влюблён Пушкин. Он написал в честь её много стихотворений, признанных одними из лучших в нашей литературе. В молодости, должно быть, она была очень хороша собой, и теперь ещё, при всём своём добродушии (она не умна), сохранила повадки женщины, привыкшей нравиться. Письма, которые писал ей Пушкин, она хранит как святыню; мне она показала полувыцветшую пастель, изображающую её в 28 лет: беленькая, белокурая, с кротким личиком, с наивной грацией, с удивительным простодушием во взгляде и улыбке… немного смахивает на русскую горничную вроде Варюши. На месте Пушкина я бы не писал ей стихов. Ей, по–видимому, очень хотелось познакомиться со мной, и, как вчера был день её ангела, мои друзья преподнесли ей меня вместо букета. У неё есть муж, на двадцать лет моложе её: приятное семейство, немножко даже трогательное и в то же время комичное». Во время этой встречи Тургенев подарил Анне Петровне свой портрет с дарственной надписью, который теперь находится в Пушкинском Доме.
Примерно в это же время встречавшийся с супругами Виноградскими П. А. Ефремов{83} составил о них такое впечатление: «Мужа она совсем подчинила себе, без неё он был развязнее, веселее и разговорчивее, сама же она – невысокая, полная, почти ожиревшая и пожилая, старалась представляться какою–то наивною шестнадцатилетнею девушкой, вздыхала, закатывала глаза и т. п.».
Своё желание написать дополнение к воспоминаниям о Пушкине и рассказать в нём о своих встречах с Дельвигом, Веневитиновым, Глинкой и другими литераторами и музыкантами, высказанное в письме П. В. Анненкову в 1859 году, Анна Петровна смогла осуществить только пятью годами позже. О намерении опубликовать расширенный вариант воспоминания о Пушкине и его ближайшем окружении она известила Ольгу Сергеевну Павлищеву. Сестра поэта 28 сентября 1864 года в письме сыну высказала явное недовольство и раздражение: «Виноградская издаёт историю об Александре Сергеевиче и хочет у меня просить позволения её напечатать – а мне до этого дела нет. Так много и без неё о нём врали, что несколько глупостей и выдумок лишнего дела не изменят… лишь бы моего имени она туда не приплела – вот всё, о чём я её попрошу».
В эти воспоминания Анна Петровна её «не приплела», но после смерти Ольги Сергеевны кое–какие подробности из её личной жизни поведала мужу, а тот 20 мая 1868 года зафиксировал их в своих «Записках» в сюжете о Баратынском:
«Его (E. A. Баратынского. – В. С.) муза всегда мне была симпатична, и под звуки её брало меня раздумье и грустно мечталось. Всё прошло!.. И Баратынский прошёл, и мы пройдём. Проходил Баратынский тернистый путь жизни с умною и богатою женою, рождённою Энгельгардт. Когда спросили его раз, как он на ней женился, и когда он отвечал, нас случай свёл, то остроумная графиня Ивелич заметила: «Экой сводник!..» После этого всякого сводника называли в кружке Дельвига и Пушкина – случаем!.. Эта графиня имела в себе много мужского и влюблялась в женщин… Она была друг сестры Пушкина Ольги Сергеевны, вышедшей впоследствии за Павлищева. На Ольге Сергеевне хотел было жениться Баратынский, но братья его отговорили, находя, что она вовсе не соблазнительна и совсем глупа»[71] .
«Воспоминания о Пушкине, Дельвиге и Глинке» были впервые напечатаны в десятом номере журнала «Семейные вечера» (старший возраст) за 1864 год.
В этих мемуарах Анна Петровна впервые привела многие факты из жизни Дельвига и Глинки, опубликовала несколько дотоле неизвестных шуточных стихотворений Дельвига. С необыкновенным душевным волнением и трепетом вспоминала она то время, «которое ознаменовалось поэтической деятельностью Пушкина и отметилось в жизни общества страстью к чтению, литературным занятиям и, если не ошибаюсь, необыкновенною жаждою удовольствий». Множество чётких, ёмких характеристик адресовала она членам весёлого, беспечного кружка известнейших поэтов той эпохи, живших грёзами о счастье.
СКИТАНИЯ
Спокойное течение, казалось бы, наладившейся жизни Марковых–Виноградских стало часто нарушаться ухудшением здоровья Александра Васильевича: у него обнаружилось хроническое заболевание желудка – прямое следствие бедности, неустроенности, тревог и волнений. Несколько раз за счёт Департамента уделов он выезжал для лечения водами за границу: летом 1861 и 1865 годов в Баден–Баден вместе с Анной Петровной, в 1862 году – один. На курорте болезни на короткое время отступали, но при возвращении в сырой Петербург «злобно разыгрывались вновь». Да и возраст его супруги стал давать о себе знать.
В неопубликованном дневнике Н. Н. Тютчева несколько записей касаются семейства Марковых–Виноградских:
«15 марта [1865 года]. Бедная А. П. Виноградская всю зиму серьёзно хворала, и я боялся за её жизнь.
12 августа. Вчера был у нас А. В. Виноградский, возвратившийся с женой из Швейцарии и поселившийся теперь у Раковича в Зем (неразб.){84}. Сашу они пристроили в Ковно на службу к Ник (неразб.).
22 августа. Саша (Александра Петровна Тютчева, жена Николая Николаевича. – В. С.) ездила на дачу в Зем (не– разб.) к Анне Петр. Виноградской, которая страшно изменилась»[72].
Действительно, наша героиня, долго выглядевшая молодо, за короткое время резко постарела – об этом свидетельствуют и отзывы других современников.
20 ноября 1865 года Александр Васильевич Марков–Ви–ноградский в связи с болезнью вышел в отставку с чином коллежского асессора (VIII класс по Табели о рангах) и небольшим пособием – 300 рублей в год. На такие деньги в столице жить семьёй было невозможно; сына отправили в Ковно, а сами с тех пор стали вести «страннический» образ жизни.
В 1866 году они четыре месяца гостили у своих родственников Львовых в усадьбе Митино Тверской губернии. Т. С. Львова{85}, приходившаяся Анне Петровне троюродной сестрой, позднее писала пушкинисту Б. Л. Модзалевскому: «Анна Петровна была чрезвычайно ласкова, кротка, читала много или, скорее, ей читали вслух. Муж её окружал её самым нежным вниманием, готов был на всякий труд, чтобы доставить ей желаемое. Видала я у них портрет её в молодости, но на этом портрете она была представлена довольно полной – эфирного ничего не было; но я всегда слыхала от тех, которые знали её прежде, что она была очень привлекательна»[73].
Кстати, Татьяна Сергеевна сообщила Модзалевскому также интересную фразу, слышанную ею якобы от самой Анны Петровны, которая незадолго до роковой дуэли – может быть, даже накануне, – встретившись где–то с Пушкиным, спросила его: «Pourquoui etesvous si mal dispose?» (Почему Вы в таком дурном настроении?) – на что получила ответ: «Je n'aime pas qu'on mange dans mon assiette» (Я не люблю, чтобы другие ели с моей тарелки).
На Масленой неделе Марковы–Виноградские ездили в находившееся неподалёку от Митина имение Понафидиных Курово–Покровское. Хозяйкой его была одна из тёток Анны Петровны Анна Ивановна, в девичестве Вульф, вышедшая замуж за Павла Ивановича Понафидина. Их внучка Анна Николаевна Понафидина, видавшая Анну Петровну в Курово–Покровском, в воспоминаниях писала, что в то время это была «несимпатичная, неинтересная циничная старуха, все мысли которой были направлены только на еду. Анна Петровна каждый день объедалась, страдала несварением желудка. Все ухаживали за ней, переносили все её прихоти и капризы, а муж, ещё молодой, симпатичный и интеллигентный, с полным самоотвержением ухаживал за ней».
В 1930–е годы Павел Дмитриевич Львов, проживавший после революции в Торжке, передал Государственному литературному музею большое количество документов, среди которых находились письма Л. Ф. Достоевской, детей А. С. Хомякова, земских и общественных деятелей Ново–торжского уезда Тверской губернии, а также портреты С. Д. Львова и А. М. Языкова и несколько десятков фотоснимков находившихся в уезде дворянских усадеб. На одной из фотографий, сделанной в Митине, на парадном крыльце дома Львовых запечатлены хозяева усадьбы и их гости. Из сопроводительной записи Львова следует, что на дрожках восседает Николай Сергеевич Львов, а женщина, сидящая справа у окна и подпирающая подбородок рукой, – Анна Петровна Маркова–Виноградская; рядом с нею с книгой в руках – Александр Васильевич. Фото Львов датирует 1864 годом; значит, и в этом году Марковы–Виноградские гостили здесь[74].
В письмах О. С. Павлищевой сыну, посланных в конце 1866 года, уже не слышно раздражения по поводу старой приятельницы – напротив, они проникнуты грустью:
12 декабря: «Я тебе говорила, кажется, что старые Вино–градские жили в агрономической школе в 10 верстах отсюда, но время от времени они сюда приезжали и заходили ко мне всякий раз; мне так всегда было приятно видеть эту добрую Анну Петровну, а теперь они устраиваются на жительство в окрестностях Твери, в деревне Львовых. Эта новость меня так огорчила, что насилу я удержала слёзы, когда мне сказал об этом Александр; она придёт ко мне для того лишь, чтоб попрощаться, – и наверняка уж нам не свидеться – он в отставке получает полный пенсион 2 000 рублей (однако сильно прихвастнул! – В. С.), слава богу, что обеспечены, вот что значит протекция, без неё куда плохо бедным людям».
18 декабря: «У меня была Виноградская и обещала ещё побывать на днях, чтоб проститься, лучше бы не приезжала, она меня так любит, что грустно думать, что мы с ней больше, вероятно, не увидимся…»
24 декабря: «20–го г–жа Виноградская приезжала со мной попрощаться и сидела до моего обеда, я дала ей прочесть твоё письмо, в котором ты говоришь такие приятные ей вещи, это доставило ей большое удовольствие, и она хотела писать тебе, чтобы тебя поблагодарить; как добры они все со мной, мои старые подруги, душа моя всегда с ними отдыхает, потому что я знаю, что они меня любят»[75].
В 1867–м – начале 1868 года Марковы–Виноградские жили вместе с сыном Александром, овдовевшей в 1861 году дочерью Анны Петровны Екатериной Ермолаевной Шокальской и внуком Юлием в Ковно в доме Синайского, но чувствовали себя там не слишком комфортно. Сын Марко–вых–Виноградских летом 1867 года ездил на лечение в Эмс. Супруг нашей героини в начале 1868 года записал в дневнике: «Единственный дом в Ковно, с которым мы были близко знакомы, дом вице–губернатора Фёдора Ильича Львова, распался, и у нас с Ковно нет никаких связей».
С «домом Львова» произошла история, с одной стороны, трагическая, с другой – совершенно в духе романов. Ф. И. Львов, с 1865 года служивший ковенским вице–губернатором, был женат на Аглае Николаевне, урождённой Толстой, и имел пятерых детей. В 1867 году в губернском городе появился Владимир Дмитриевич Рокотов, имевший за плечами училище правоведения, службу в лейб–гвардии Преображенском полку, а после выхода в отставку – пост предводителя дворянства Великолукского уезда. Умный и широкообразованный, с блестящими актёрскими данными, он произвёл на вице–губернаторшу сильное впечатление. Их любви не помешало даже наличие у Рокотова жены и троих детей в Псковской губернии. Когда Львову стало известно о романе жены, он вызвал Рокотова на дуэль. Узнав о предстоящем поединке, Аглая Николаевна бросилась к Рокото–ву, умоляя не стреляться. Тот послал вице–губернатору записку: «На дуэль явлюсь, но стрелять не буду, стрелять можете вы, я – противник убийства». В результате 28 января 1868 года Львов застрелился. Аглая Николаевна переехала с Рокотовым в Киев, но не могла вступить с ним в брак до смерти его супруги.
Летом 1868 года через Андрея Николаевича Муравьёва, проживавшего в Киеве, Марковы–Виноградские стали хлопотать о новой должности для сына Александра. 13 августа 1868 года на занятые у Рокотова 592 рубля семейство переехало из Ковно, «несчастного для нас места», в Киев к брату Анны Петровны Павлу, а Екатерина Ермолаевна с сыном уехала в Петербург.
Павел Полторацкий за восемь лет до того оставил жену и жил в Киеве с Любовью Львовной Прокофьевой. Историю их взаимоотношений ехидно пересказал в дневнике муж Анны Петровны: «Павел Петрович Полторацкий, снюхавшись при посредстве лубенских барышень–прелюбодетельниц с девицею Прокофьевою, поручил доктору Котлубовскому выкрасть её с хутора родительского и доставить к нему». Доктор привёз Любу в Хорол и сдал с рук на руки кавалеру. На некоторое время парочка укрылась в Петербурге на квартире в Затибененом переулке, где жила сестра Полторацкого Елизавета Петровна Решко со своим племянником, кадетом Павлом Квиткой. Затем влюблённые перебрались в Киев, где Полторацкий купил на имя Любы дом.
Через два месяца после пребывания в семье шурина А. В. Марков–Виноградский с горечью отметил в своих записках: «Досадно, что они (родственники жены. – В. С.) не понимают моей поэтической, симпатично оригинальной, любящей и умудрённой мышлением старушки, нашей милой мамаши. Они ей оказывают почтение, снисхождение, а ей нужна только любовь. Какие глупцы! Они не соболезнуют тому, что она почти ничего не видит и очень этим несчастлива, так как не может читать, писать, работать, что наполняло её жизнь и чем она была счастлива, и смотрят на неё как на капризную старуху. Бессердечные пошляки! Я заметил: кто не понимает, не любит моей жены и не сочувствует ей, тот очень пошлый, бездушный, сухой, холодный эгоист».
Не ужившись с братом Анны Петровны, семейство вынуждено было перебраться к Владимиру Дмитриевичу Роко–тову. После смерти первой жены от холеры он получил обратно в качестве наследства оставленное ей когда–то при разъезде состояние; на эти средства он открыл в Киеве народный общедоступный театр, где ставил пьесы Шекспира, Мольера, Островского, и стал издавать газету «Киевский вестник». 19 апреля 1871 года Рокотов, наконец, официально зарегистрировал брак с Аглаей Николаевной.
Позже Рокотов переехал с семьёй в Новочеркасск и организовал там театр. Однако вскоре это начинание Владимира Дмитриевича прогорело, после чего он стал колесить по России. С 1886 года он являлся режиссёром Псковского общества любителей музыкально–драматического искусства, ставил спектакли и сам принимал в них участие. В 1888 году Рокотов дебютировал в Александринском театре, после чего прослужил в нём с мизерным окладом в 68 рублей до конца своих дней.
Итак, в 1869 году Анна Петровна с мужем и сыном жили в Киеве в доме В. Д. Рокотова на Левашёвской улице – как писала в воспоминаниях «Памятные встречи» дочь хозяев Маргарита Владимировна Алтаева–Ямщикова (литературный псевдоним «Ал. Алтаев»), «в ожидании каких–то будущих благ».
«Старая дама в кружевной наколке, нетерпеливая, с деспотическими замашками, немного жеманная, – описывает Анну Петровну мемуаристка, – …она критиковала и вышивку, и рисунок (предложенный художником А. А. Аги–ным в качестве образца для вышивания. – В. С.). Цвета не те. Шерсть не та. Канва слишком крупна. Оттенки никуда не годятся. Сюда нужен шёлк, а не гарус и не берлинская шерсть. И шёлк не «шемаханский», а непременно «фило–зель». Сорок лет назад у неё было вышито таким шёлком бальное платье, и она была восхитительна, – сам Пушкин это находил… Она никак не может забыть, что когда–то была обаятельна и вдохновляла самого Пушкина, и любит напоминать об этом каждому к месту и не к месту.
Бок о бок с нею её верный раб – муж, на двадцать лет моложе её, но всё ещё влюблённый в этот памятник пушкинской эпохи. На морщинистом лице жены он видит прежнее очарование, во всём ей поддакивает».
Мемуаристка привела несколько историй о том, как окружающие иронизировали над Анной Петровной. Известный тенор Фёдор Петрович Комиссаржевский{86}, гастролировавший в это время в Киеве и приглашённый в гости к Рокотовым, жестоко поиздевался над уже плохо слышавшей старушкой:
«Вот замирает последняя нота (Комиссаржевский исполнил арию из оперы Глинки „Жизнь за царя“. – В. С.), раздаются рукоплескания. И вдруг томный голос:
– Милый Фёдор Петрович, спойте романс, посвящён–ный мне…
– Ну, села на своего конька! – бормочет на ухо матери (А. Н. Рокотовой. – В. С.) Комиссаржевский и прикидывается непонимающим. – Это какой же, уважаемая Анна Петровна?
– «Я помню чудное мгновенье… " Вы его так божественно поёте.
Комиссаржевский преувеличенно почтительно раскланивается и снова придвигается к фортепиано. Мать разворачивает ноты… Когда за первыми аккордами аккомпанемента прозвучала первая фраза:
Я помню чудное мгновенье…на лицах слушателей застыло недоумение. Чёрные глаза Горчаковой с каждой нотой выражали всё больший и больший ужас. От конфуза плечи матери ёжились и пригибались к клавишам. Массивная фигура длинноволосого Лярова, баса из (киевской) оперы Бергера, склонилась к Агину; слышался его театральный шёпот:
– Голубонька моя, Александр Алексеич, что же это он? Зачем же детонирует{87}?
У Агина был прекрасный слух, и ему ли не знать этого романса. Сколько раз у Брюллова, на пирушках «братии», слышал он его в исполнении самого Глинки!
– Я шептала Комиссаржевскому, – говорила мать, – я умоляла его: «Фёдор Петрович, не надо так жестоко шутить». Но он продолжал. Оборачиваясь к Анне Петровне своим красивым лицом с ястребиным профилем, невероятно буффоня (паясничая. – В. С.), он выражал нарочитое чувство восторга и обожания. Прижав руки к груди, закатывая прекрасные синие глаза, он безбожно детонировал: «Как гений чистой красоты!» А у бедной вдохновительницы Пушкина по морщинистым щекам текли слёзы. Она ничего не замечала и восторженно улыбалась…
Возле Анны Петровны сидели её муж и сын, оба долговязые, рыжеватые, с лошадинообразными неумными лицами. Я слышала шёпот «Шурона», как нежно называла его мать: «Папаша, мамаша так расчувствовалась, что завтра же начнёт гонять нас с тобою по всему Киеву искать ей розовую конфетку, точь–в–точь такую, как получила она когда–то из рук самого Пушкина»».
Неприятно читать эти строки, но что было – то было… И такое отношение к Анне Петровне и её близким, и такие язвительные характеристики присутствуют в некоторых мемуарах. Б. Л. Модзалевский – вероятно, чтобы не разрушить образ «гения чистой красоты», – в своей работе не стал их приводить – наверное, напрасно.
Но самое интересное для нас в этом сюжете – реакция Анны Петровны на романс: она улыбалась и плакала, слыша (пусть только частично) такие знакомые ей слова и чудесную музыку, написанные в её честь. Думается, в эти минуты перед её внутренним взором снова возникли михайловский парк, «приют задумчивых Дриад» с длинными аллеями старых деревьев, корни которых, сплетаясь, вились под ногами; лунная июньская ночь, дышавшая прохладой и ароматом полей; и Пушкин, нежно поддерживавший её при каждой попытке споткнуться…
А. В. Марков–Виноградский также оставил запись о встречах в Киеве с Комиссаржевским, но в ней нет и намёка на фальшивое исполнение романса «Я помню чудное мгновенье…», хотя он и почувствовал недоброе отношение певца к Анне Петровне:
«1869 г. 17 февраля. Целый месяц знаменитый тенор Комиссаржевский наполнял наши головы, сердца, нашу квартиру очень занимательною, талантливою, хотя и несколько капризною личностью; своим мелодическим, вполне художественным пением, своими делами, знакомствами и прочее; и сбил нашу жизнь с её обычной колеи. Он жил с нами как приятель Рокотова и сделался нашим приятелем.
Вчера он уехал, давши здесь три концерта и увезя 800 рублей и несколько сердец здешних барынь, падавших на него как собака на стервь…
Его страстное, выразительно отчётливое, мелодическое и вполне эстетическое пение так оживляло и восхищало нас, что воспоминание о счастии, какое мы испытывали в его концертах, неизгладимо запечатлелось в наших сердцах. Жаль, что он отказался петь у нас на именинах и рождении жены. Её, бедную, больную, очень это огорчило! Сух сердцем, тщеславен и не особенно умён».
В восьмом номере журнала «Семейные вечера» (старший возраст) за 1868 год был опубликован небольшой отрывок из воспоминаний А. В. Маркова–Виноградского о его детских годах под названием «Из записок и журнала неизвестного человека». В одной из тетрадей «Записок» он выразил надежду, что потомки осуществят их полное издание: «Я их завещаю сыну или кому другому, чтоб их напечатать, если признаются они достойными печати тогда, когда находящиеся в них очерки нравов, характеристики и биографии не могут никого задеть и сделаются занимательными и поучительными, как безыскусственное сказание о прошлом».
2 апреля 1869 года Марковы–Виноградские заняли у Л. Е. Раковича 150 рублей и в тарантасе, одолженном у Берга, отправились из Киева в Лубны. Приехали 4–го, переезд обошёлся в 70 рублей. В родительском доме, который после смерти Петра Марковича достался брату Анны Петровны Павлу, их встретила экономка Олимпиада Васильевна.
«Все мы рады, – записал в дневнике Александр Васильевич, – что избавились от Рокотова и Львовой, пустых людей, живущих внешней жизнью (но, между прочим, предоставивших им приют. – В. С.) и не ищущих счастья ни в себе самих, ни в милых детях, которые почти заброшены». Вероятно, для отрицательного мнения Маркова–Виноград–ского о людях было достаточно того, что они не разделяли его благоговейного отношения к супруге.
Марковы–Виноградские сначала жили в Лубнах – но не в самом господском доме, а в небольшом флигеле, располагавшемся рядом, а с 1 октября – в квартире, нанятой у казначея Середина–Сабатини, при переезде на которую брат отказал им даже в мебели. Затем, вплоть до 1874 года, они проживали зимой в усадьбе Павла Петровича Полторацкого Яблоново, а летом – в небольшом имении, принадлежавшем Дмитрию Константиновичу Квитке, сыну сестры Анны Петровны Варвары, – деревеньке Березоточи. Младший Марков–Виноградский непродолжительное время управлял этим имением, но, не обладая ни хозяйской хваткой, ни опытом, не справился с делами. В феврале 1870 года он получил место почтового служащего в Лубнах с годовым жалованьем в 350 рублей и квартирными.
Племянница Анны Петровны Вера Павловна Полторацкая вспоминала:
«С тётушкой мы всегда поддерживали родственные связи. Уже она была глубокою старушкой, когда мне пришлось гостить у неё в имении её племянника Квитки. Это имение называлось „Березоточа“. Маленькая деревушка, окружённая лесами на много вёрст вокруг, а в центре её – барская усадьба на высоком берегу Сулы. Я помню огромный старинный заброшенный парк с небольшим фруктовым садом у самой усадьбы. Здесь жила на склоне лет Анна Петровна – в полном одиночестве вместе с супругом своим Александром Васильевичем Виноградским. Она была ласковая старушка маленького роста, всегда ко всем доброжелательная и приветливая. Когда я выросла и прочитала „Старосветских помещиков“, то узнала в некоторых чертах Пульхерии Ивановны свою старую тётушку. Правда, лишь в некоторых чертах, потому, что в ней характер тёплого гостеприимства и милого провинциализма сочетался с большой культурностью. В отличие от Пульхерии Ивановны она всегда шла наравне с веком, очень живо интересовалась современностью, любила молодёжь и верила в неё. Голова – белая как лунь, и лицо старенькое, всё в лучиках морщин, и только глаза сохранили почти юношескую свежесть.
В ту пору она жила на покое благодаря заботам своего племянника Дмитрия Константиновича Квитки, служившего в Полтаве директором банка.
Помню в одной из зал деревенского дома большой портрет А. С. Пушкина. Тётушка свято хранила его, так же как и все реликвии, связанные с его памятью. Был у Анны Петровны один заветный альбом большого формата в тёмном кожаном сафьяновом переплёте. В нём листы были переложены разными сувенирами и множеством высушенных цветов: роз, незабудок и осенних астр, прикреплённых выцветшими ленточками к небольшим листкам почтовой бумаги.
Часто она перелистывала свой альбом, с любовью перебирала его потемневшие страницы, любовалась цветами и, вспоминая старину, часто задумывалась, качая головой. Мне было в то время немного лет, и я скучала этими воспоминаниями и разговорами, мало мне понятными. Много раз говорила мне тётушка, лаская:
– Глупенькая ты ещё, Верочка. Вот вырастешь – узнаешь, какой великий человек писал эти слова своей рукой.
Она часто читала стихи, всё перечитывала. И ещё какие–то письма. Не знаю, почему Анна Петровна меня, девчонку, избрала собеседницей в своих воспоминаниях. Вероятно потому, что очень уж была одинока в те годы своей жизни. Дядя Александр Васильевич в этих разговорах никогда участия не принимал. Не ревновал ли он к прошлому?»
В. П. Полторацкая приводит многие подробности трогательных отношений четы Марковых–Виноградских и интересные детали их незатейливого быта:
«Жили они дружно, как два голубка. Александр Васильевич был моложе Анны Петровны чуть ли не на 20 лет. У нас говаривали в семье, что когда он родился, то тётя его, новорождённого, носила на руках. Когда он подрос и поступил в кадетский корпус, она встретилась с ним в Петербурге. Каждую неделю по отпускным дням брала его к себе домой, кормила кадетика блинами и пышками, ласкала его по–матерински, растила и берегла… Вырос и сам Александр Васильевич, возмужал, они подружились и наконец стали мужем и женой. Впоследствии они как–то сравнялись годами.
Дядя Саша был высокий худощавый старичок с козлиной бородкой, как у Некрасова, очень болезненный. Страдая болью в желудке, он всегда носил подушечку на животе, а на ней обе руки. Звали они друг друга «папаша» и «мамаша», никогда по имени.
Когда стемнеет на дворе, хозяева приказывали девушкам позакрыть все ставни в доме, железками заложить изнутри и опустить на окна шторы. Наступала тишина, только сторож мерно стучит в чугунную доску. Удары гулко проносятся в тишине. На столе шумит самовар: уютно и тепло. Через всю скатерть дядя с тётушкой раскладывали большой пасьянс и ссорились порою. Только беззлобно, никогда не держали зла и обращались друг с другом с изысканной вежливостью, всегда на «Вы». Ухаживал дядюшка за Анной Петровной трогательно нежно и всегда с какой–то особою деликатностью. Усядется она в кресло, сейчас дядя Саша подойдёт, скамеечку пододвинет под ноги и пледом укутает, и так ласково, любезно. За вечерним чаем он всегда присаживался к самовару и сам разливал чай. Ей, тётушке, конечно, первой в большой старинной чашке.
Обычно долго сидели за столом. Я копошусь на ковре, занятая своими ребячьими делами, а тётушка за пасьянсом. Потом она смешает карты и прикажет подать книжку или всё тот же альбом. Начнёт читать стихи. К сожалению, их содержания не помню в точности. Но после, читая Пушкина, я сразу узнала его чудный гимн «Я помню чудное мгновенье…». Были и другие стихи в альбоме – тётушка говорила, что ей писались. Очень звучные стихи, красивые, как музыка…» [76]
Здесь, в Березоточах, Анна Петровна надиктовала мужу свои новые воспоминания «Три встречи с императором Александром Павловичем». К этому времени она стала плохо видеть: болезнь глаз – катаракта, – которой страдала её бабушка Любовь Фёдоровна Муравьёва, проявилась и у неё. Эти её воспоминания начинаются словами: «Теперь, когда я ослепла, и мне прочли чрезвычайно замечательное произведение графа Л. Н. Толстого „Война и мир“, где, между прочим, говорится о страстном, благоговейном чувстве, ощущавшемся всеми молодыми людьми к императору Александру Павловичу в начале его царствования, мне так ясно, так живо, так упоительно представилась та эпоха, и воротились те живые, никогда не забываемые мною воспоминания, о которых мне захотелось рассказать».
Анна Петровна всегда с большой теплотой, трепетом и благоговением отзывалась об Александре I, буквально обожествляя его. Она даже ставила ему в заслугу михайловскую ссылку Пушкина. «Я полагаю, – писала Анна Петровна ещё ранее, в „Воспоминаниях о Пушкине“, – что император Александр I, заставляя его жить долго в Михайловском, много содействовал развитию его гения. Там, в тиши уединения, созрела его поэзия, сосредоточились мысли, душа окрепла и осмыслилась».
«Три встречи…» были напечатаны в журнале «Русская старина» (№ 3 за 1870 год) со следующим комментарием редактора: «Приведённый рассказ сообщён нам по поручению его составительницы Анны Петровны Марковой–Виноградской, в первом замужестве генеральши Керн, рождённой Полторацкой. Госпожа Керн была предметом любви Пушкина, и этой страсти русская литература обязана несколькими прелестными стихотворениями, таковы: „Я помню чудное мгновение…“, „Я ехал к вам. Живые сны…“ и нек. др. … Печатая ныне рассказ г–жи Марковой–Виноградской (Керн), мы не позволили себе смягчить тот порывистый, полный неостывшего увлечения тон, которым проникнут весь рассказ; уже сам по себе, помимо некоторых, хотя и мелких, но небезынтересных подробностей для обрисовки русского общества двадцатых годов, самый этот тон рассказа ныне преклонных лет представительницы тогдашнего общества весьма характеристичен».
Редактор журнала Михаил Иванович Семевский заплатил Анне Петровне 30 рублей. «Какая была радость», – отметил в дневнике Марков–Виноградский после получения денег. А в октябре 1870 года она продала Семевскому за 45 рублей самую дорогую свою реликвию – девять писем Пушкина, хранившихся у неё. «Думал ли Пушкин, – писал супруг Анны Петровны, – что его поэтическая, исполненная чувства и игривого остроумия любезность поможет предмету его на старости лет сшить себе кое–что и купить вина и лакомств?» Между прочим, Александр Васильевич далеко не лестно отозвался об издателе в своих записках: «Упомянутый выше Семевский кажется мне очень ловким литературным аферистом. Он хватает где только может исторические материалы и печатает их с весьма жидкими комментариями и собственными замечаниями и указаниями, понижающими иногда ценность материалов и выставляющими исторические лица в свете не совсем верном». Письма Пушкина Анне Керн были напечатаны в 1879 году в XXVI томе журнала «Русская старина», а их подлинники долго хранились в архиве Семев–ского. После смерти вдовы Михаила Ивановича Е. С. Семевской они были проданы на петроградском антикварном рынке.
В октябре 1870 года Анна Петровна заканчивает работу над своими последними воспоминаниями «Сто лет назад». Согласно пометке на первом листе рукописи, хранящейся в Рукописном отделе Пушкинского Дома, начала она их писать ещё собственноручно в феврале 1870 года, причём эпиграф взяла из трагедии Пушкина «Борис Годунов»: «Ещё одно, последнее сказанье – и летопись окончена моя…» Первоначальный вариант в дальнейшем дополнялся, обрабатывался и переписывался начисто уже Александром Васильевичем.
«Целые два месяца я писал, – отметил Марков–Вино–градский 22 октября 1870 года, – писал сначала под диктовку воспоминание моей доброй старушки А[нны] П[етров–ны], потом переписывал его и, наконец, усиленно работал над своими „Записками“. Так устал, что несколько дней не мог взяться ни за перо, ни за книгу». А на следующий день, 23 октября, появилась новая запись в дневнике: «Моя старушка послала вчера в „[Русскую] старину“ воспоминания о своём детстве». Они не были напечатаны там, а появились только в 1884 году в журнале «Радуга» в 18, 19, 22, 24 и 25–м номерах, а затем – с незначительными, главным образом стилистическими, поправками – под названием «Из воспоминаний о моём детстве» были перепечатаны в «Русском архиве» (№ 3 за 1884 год).
Уже в начале этих воспоминаний Анна Петровна изложила свой взгляд на место детского воспитания в формировании личности: «Не думайте, почтенный мой читатель (если я удостоюсь такового иметь), что начало ничего не значит; напротив, я убедилась долгим опытом, что оно много и много значит! Роскошная обстановка и любовь среды, окружающей детство, благотворно действуют на всё существо человека, и если вдобавок, по счастливой случайности, не повредят сердца, то выйдет существо, презирающее всё гадкое и грязное, не способное ни на что низкое и отвратительное, не понимающее подкупности и мелкого расчёта. Дайте только характер твёрдый и правила укрепите; но, к несчастию, пока все или почти все родители и воспитатели на это–то и хромают; они почти сознательно готовы убивать, уничтожать до корня всё, что обещает выработаться в характер самостоятельный в их детях. Им нужна больше всего покорность и слепое послушание, а не разумно проявляющаяся воля…»
Многие фрагменты «Из воспоминаний о моём детстве» воспроизводились в тексте нашей книги, и мы не будем останавливаться на них подробно. Завершались же мемуары Анны Петровны выстраданной фразой, относящейся к её первому замужеству: «Моё несчастие в супружестве не таково, чтобы возможно его писать теперь, когда я уже переживаю последние листки моего собственного романа и когда мир и всепрощение низошли на мою душу, а потому я этим и кончу своё последнее сказание…»
Весной 1870 года Марковы–Виноградские побывали в тверском имении Львовых Митино, где встречались с многочисленной роднёй. 14 мая, возвратившись в Лубны, Александр Васильевич пишет Татьяне Александровне Бакуниной: «Проколесив из Митина через Ковно, Киев, мы теперь на родине – в Лубнах. Живём тихо, мирно, дочитываем последние страницы собственного романа. Жена, хоть и очень постарела и весьма плохо видит, но кое–как держится, благодаря живительному воздуху Украины. <…> Я порядочно себя чувствую… продолжаю заниматься понемногу педагогикой… оба мы живём книгами… в них наши радости и горе…»[77]
Нужда заставляла нашу героиню обращаться за помощью к старым знакомым, в первую очередь – к Алексею Николаевичу Вульфу.
Известно, что этот верный друг Анны Петровны, выйдя в 1833 году в отставку в чине штаб–ротмистра, поселился в имении Малинники Старицкого уезда Тверской губернии, где за ним числилось 202 крепостные крестьянские души мужского пола. Ему также принадлежали сельцо Нивы и деревни Бибиково, Сосенка (Копылово) и Негодяиха с 359 душами[78]. Изредка на непродолжительное время он выезжал по делам в столицы или в Тригорское, встречался с Пушкиным и навещал Анну Петровну. «Со времени моего приезда сюда (в Малинники. – В. С.), – записал Вульф в дневнике 8 декабря 1836 года, – я ездил два раза к матери в Псковскую губернию и по пути заезжал в Петербург. Кроме того, в 1835 году я был летом там же по делам опекунского совета и в феврале этого года прожил две недели по той же причине в Москве. Эти поездки и кратковременное пребывание в столицах замечательны только для меня тем, что ввели в значительные издержки, но пользы и, следовательно, удовольствия, мало мне принесли». 11 апреля 1836 года Вульф вместе с Пушкиным ездил на Псковщину хоронить мать поэта.
В своём поместье Алексей Николаевич в основном занимался делами по управлению имением и чтением. «Довольно однообразная, воздержная жизнь, – писал далее Вульф, – свежий воздух, здоровый климат и телесная деятельность, сопряжённая с надзором за хозяйством, предохранили меня от всяких болезней. <…> От других я совершенно отлучился – более от лени, чем по другой какой–либо причине. Поэтому я стал ещё реальнее прежнего и вовремя почти оставил идеализм, с которого прежде всё начинал. Это господствующее направление заметно и в нравственном состоянии моём. Страсти мои вещественны: я не увлекаюсь надеждами славы, ни даже честолюбия. Я почти ограничиваюсь минутным успехом. Женщины – всё еще главный и почти единственный двигатель души моей, а может быть, и чувственности. Богатство не занимает меня, и жажда его не возрастёт во мне до страсти. <…>
Занятия мои ограничивались одним распоряжением хозяйства моего. Успехи в них не соответственны ожиданиям, какие следовало бы иметь. И причины тому ясны: это лень и слабость характера. Знания в деле достаточны бы были, но исполнение недостаточно. Особенно нынешний год понёс я убытки значительные от беспечности и нерадения… Я читаю больше, чем следовало бы, романов и журналов, потом всё, что выходит из печати по части главного предмета моих занятий, но не довольно его изучаю.
На выборах дворянских нынешнего года взял я на себя обязанность непременного члена губернской комиссии народного продовольствия – место, которое не требовало много занятий, но в 14–тиклассной табели наших чинов занимало шестое место, то есть в чине полковника или коллежского советника. Я то сделал, чтобы показать, что я не чуждаюсь ни светской, ни служебной черни. И я не сожалею о том, тем более что через месяц потом этой должности, бывшей без жалованья, назначен был соответственный чину 1500–рублёвый оклад жалованья. Этот случай можно мне назвать счастливым, точно так и всё начало моей дворянской службы…»
B 1858 году А. Н. Вульф был избран членом Тверского губернского дворянского комитета по улучшению быта помещичьих крестьян и занимал в нём довольно прогрессивную позицию. Однако одно дело – рассуждать об освобождении крестьян, совсем другое – реально заниматься им. Истинное лицо этого «крестьянского реформатора» проявилось весной 1861 года, вскоре после обнародования «Положения 19 февраля». Когда крестьяне его имения после ликвидации крепостного права отказались от непосильной барщины (они должны были работать на помещика до перехода на выкуп), Вульф направил в губернское правление несколько писем с просьбами прислать к нему военную экзекуцию для того, чтобы устрашить их и принудить выполнять ренту. 29 декабря 1861 года губернское правление постановило отправить в имение Вульфа воинскую команду для усмирения крестьян. Однако исполнявший в то время обязанности губернатора Михаил Евграфович Салтыков (Щедрин) не утвердил это решение. 2 января 1862 года он поручил советнику губернского правления Д. С. Львову отправиться на место и произвести «формальное» (то есть по всей форме) следствие о беспорядках, возникших в имении. В докладе о результатах следствия чиновник признал, что барщина у помещика Вульфа действительно отяготительна для крестьян. Но дальше заступаться за крестьян стало некому – Салтыков к этому времени ушёл в отставку, а губернское правление, не решившись всё же выслать военную экзекуцию в поместья Вульфа, тем не менее признало доклад Львова «не основательным». Алексей Николаевич пожаловался «на бездействие местных властей» в Правительствующий сенат, который после долгого рассмотрения своим определением от 18 апреля 1864 года распорядился взыскать с крестьян в пользу помещика по 12 рублей с тягла за невыполнение работ в марте—апреле 1861 года[79].
«Последние 40 лет жизни А. Н. Вульфа, – сообщает первый издатель его дневников М. Л. Гофман, – прошли очень однообразно в заботах о хозяйстве, в удовлетворении своей чувственности и в непомерной скупости, доходившей до того, что он питался одною рыбою, пойманной им самим в речке. До сих пор (писалось в 1915 году. – В. С.) местные крестьяне сохраняют память о строгом и скупом барине–кулаке, рассказы же тверских помещиков о гаремных идеалах
A. Н. Вульфа находят себе и документальные подтверждения»[80]. Умер Вульф 17 апреля 1881 года.
А. Н. Вульф – несмотря на свою непомерную скупость – наверное, был единственным, кто не отказывал Анне Петровне в просьбе и присылал денег. 1 апреля 1871 года Мар–ков–Виноградский оставил следующую дневниковую запись:
«Добрый кузен жены Алексей Николаевич Вульф прислал ей 100 рублей (солидную по тем временам сумму. – B. С.), и мы могли расплатиться с мелкими долгами. Спасибо ему большое! Он хоть и консерватор, но исполнен доброты и честности. Он был другом Пушкина, и отчасти верен пушкинскому духу времени и не последовал за веком. Многим он был обязан моей доброй старушке и помнит старое добро».
В Рукописном отделе Пушкинского Дома находятся три письма, присланные Марковыми–Виноградскими из Лубен Вульфу.
Самое раннее послание, от 15 июля 1871 года, написано рукою Александра Васильевича:
«Спешим поделиться с Вами, многоуважаемый и горячо любимый брат Алексей Николаевич, нашею радостью… Сын наш помолвлен с очень милою особою, дочерью всеми уважаемых и любимых людей по фамилии Аксамитных… Венчаться предполагают 16 августа и тот же час приехать жить к нам из Ромнов, где живёт теперь невеста… Она умна, добра, но не хороша… Годовой доход её с аренды простирается до 600 рублей – мы обрели и очень счастливы, что можем сообщить Вам, наконец, приятное… Скажите об этом родным и пожелайте счастья молодым – не пишем больше потому, что много ещё предстоит писать, да и жара нестерпимая… Лето благодатное… Ждут урожая…
Будьте здоровы… Обнимаем Вас с чувством искренней и горячей преданности, просим не забывать нас и хоть изредка извещать о себе.
А. П. и А. В. Виноградские»[81].
(Интересно, что вопреки принятым правилам, своё имя супруг ставит после имени Анны Петровны.)
Согласно записи в дневнике А. В. Маркова–Виноградско–го, венчание сына Александра с Елизаветой Васильевной, дочерью мирового судьи из небольшого городка Ромны Черниговской губернии Василия Фёдоровича Аксамитного и его жены Авдотьи Прохоровны, состоялось 30 июля 1871 года. Некоторое время новобрачные жили в Киеве, где Елизавета служила в библиотеке у В. Д. Рокотова за 20 рублей в месяц «со столом и квартирой».
Другое письмо написано весной 1872 года (к сожалению, число и месяц на нём не указаны) от имени Анны Петровны, но рукою её невестки:
«Милый брат Алексей! Ты верно обо мне ничего не знаешь, а я тебе писала в Малинники, и верно ты не получил, я тебя извещала о женитьбе моего сына и рекомендовала новую дочь, которая тебе и пишет, они теперь разъезжают – она к родителям, а он в Петербург хлопотать об обещанном ему уже месте. Не подосадуй, мой друг, на меня, что я при сей верной оказии прибегаю к тебе опять за помощью, мой верный друг и моя всегдашняя опора! Помоги мне ещё раз, вероятно в последний, потому, что я очень уж на тонкую гряду раза два нынче зимой чуть было не отправилась, и одолжи, пожалуйста, в этот последний раз, вышли мне пожалуйста, 100 в Петербург на имя Констанции Петровны Де–Додт, часть я ей должна, а на остальные она подновит мой гардероб, потому, что мой гардероб мыши съели.
Адрес Констанции Де–Додт: дом Овсянниковой, Итальянская улица, квартира Тютчевых. И жилось бы мне здесь хорошо, если бы я смогла жить в своём доме, но брат не пускает, и даже оттягал и мою собственность, ту, которую мне отец завещал. Ну Бог с ним! Это за то, что я ему отдала часть свою, которую получила от бабушки. Прощай, мой милый друг! Весна так хороша, что и я тебе подобной желаю, напиши хоть словечко и прости, что я тебе надоедаю, и будь так добр, не откажи в моей просьбе и вышли как можно скорей.
Преданная тебе друг и сестра
Анна Виноградская»[82].
Третье письмо Вульфу от 16 сентября 1872 года из Лубен написано снова Александром Васильевичем:
«Вчера мы были обрадованы оказанною нам помощью Вами, многоуважаемый Алексей Николаевич, и приносим Вам за неё живейшую признательность. Бедная моя старушка прослезилась и поцеловала радужную бумажку, так она пришлась кстати.
Я на днях получил отказ в пособии, которое просил у Департамента уделов, и был очень огорчён, не зная, где добыть презренного тряпья, чтобы сделать необходимый запас дров, и моя добрая голубушка сказала мне, что она давно уже по секрету хлопочет у Вас о помощи… Я несколько успокоился и вот вчера был несказанно обрадован Вашей помощью… Родной брат ограбил… двоюродный помогает. Да помогут последнему силы небесные на всё доброе, да простит первого Бог!
Здоровье наше плохо. <…> Мы думали поправиться летом, но лето было испорчено таскавшеюся у нас в течение 3–х месяцев подлою потаскухою холерою! Дети наши служат в Одессе{88}… но чем живут в таком дорогом месте, получая 55 рублей в месяц, и как живут, мы не знаем!
Наш городишко несколько оживился… В нём открылась гимназия… на улицах встречаешь теперь кроме свиней, телят и собак ещё и гимназистов… по случаю открытия был дан обед на земские деньги и над осетром и персиками говорили речи: попечитель хвалил земство, а земство попечителя… На днях откроется мостовая через гору, по которой во время грязи не было прохода в течение столетий. <…>
Обнимаем Вас, наш добрый родной, и просим писать нам хоть изредка.
Кланяйтесь усердно сестрам и племянницам.
Скорбные вести из родных берновских сторон (в конце 1869 года умер дядя Анны Петровны П. И. Понафидин – хозяин имения Курово–Покровское, где в 1866 году гостили Марковы–Виноградские. – В. С.) очень огорчили нашу старушку, но отдалённые воспоминания, которым предалась она, стушевали скорбь, и она уснула вчера покойно и сегодня вновь бодра. А всё Вы!»[83]
Записи в дневнике А. В. Маркова–Виноградского свидетельствуют, что члены семейства едва сводили концы с концами, перебиваясь подачками от знакомых и казны, но нищенское существование не ослабило их взаимных нежных чувств:
«4 мая 1871 года. Опять новая квартира. Она находится в саду моего покойного дяди Голованова, страстного любителя и знатока цветов и плодов земных и умного доктора. Она в доме Александра Павловича Кучерова. Вид из неё на холмы, по которым хаты, вишнёвые садики и красивые рощи сбегают к Суле. Мы так рады, что выбрались из кабака, в котором томились 11 месяцев».
«1872 г. Беспомощная, слабая моя родная, моя полуслепая старушка жила на 100 рублей в год. 450 рублей – долги. Втянулись в долги в связи со свадьбой сына».
Тютчев прислал им 75 рублей на покупку дров.
«1873 г. 15 февраля. В день рождения моей голубки родной обедали у нас: друг наш милый Сарандо с женой и Павликом, Чечулин с Бочкарёвым и кн. Гагарин.
Накануне Констанция Де–Додт известила нас о назначении нам пособия в 300 рублей. По окончании обеда я сказал речь, в которой старался выразить, как моя добрая старушка родилась вместе с веком, как она всегда сочувствовала всему прогрессивному, и вследствие этого 48 лет оплакивает великодушных представителей прогресса, мучеников добра, правды и красоты, как она была всегда гуманна, и вследствие этого лечила своих крестьян, и прочее. Недавно один из них при встрече с нею после 30–летней разлуки сказал: «Как нам не помнить и не любить ту, которая делилась с нами своим сердцем!!!» Высказав всё это, я пожелал моей милой старушке дожить до тех пор, пока новое поколение, родившееся после уничтожения крепостного права, которым она пользовалась гуманно, не заменит старое всюду: в законодательстве, администрации, земстве и суде!!!
Друзья наши были довольны речью, а она плакала, и мы тепло обнялись. Нам вспомнилась потом теплота первых наших объятий, и мы грустно вздохнули!!! <…>
1873 г. 10 марта. Из Департамента уделов прислали 300 рублей, исходатайствованных Тютчевым, из них уплатили долги – 250 рублей, 21 рубль послали детям, и кое–что сделали из платьев».
Под датой «26 мая 1873 г.» в дневнике Александра Васильевича Маркова–Виноградского даётся описание Ниццы – вероятно, в это время он находился там на лечении.
«С 18 ноября 1873 года по 25 мая 1874 года мы с мамашей гостили у доброго барона Мангдена (Менгдена, в Ром–нах. – В. С. ) и устали от сытой, монотонной жизни среди богатого комфорта», – записал в дневнике Александр Васильевич. Поистине, угодить Марковым–Виноградским было невозможно – бедность и убогость обстановки их угнетали, богатство и комфорт – вызывали отвращение…
В конце мая 1874 года они снова вернулись в Березоточи, а 1 ноября 1874 года переехали в Лубны, в дом Екатерины Ивановны Шлихтер: «Не по силам нашим отапливать дом в Березоточи. Теперешнее помещение наше очень мало и отличается разнообразием температур; близ печи жарко, у стен холодно, а в середине с одной стороны – тепло, с другой прохладно. Не знаю, как выдержим зиму… »
Судя по всему, это была семья потомственных неудачников. Карьера сына Марковых–Виноградских также не задалась. 21 декабря 1874 года Александр Васильевич записал в дневнике. «Саша бросает почтовое ведомство, хочет служить по акцизу с вина, а пока думает устроиться с Лизой в Киеве, куда переехали из Казятина, где маялись с марта»; запись от 17 января 1876 года сообщала: «Саша оставил службу в Елизаветграде и соединился со своей семьёй в Новочеркасске». Опять же В. Д. Рокотов по просьбе Анны Петровны пригласил его в созданный им драматический театр, и Александр Александрович переехал на Кубань вместе с женой и дочерью. Он помогал работать над декорациями, пробовал участвовать в массовых сценах, однако всё это давалось ему с большим трудом; через полтора года он с семьёй перебрался в Москву, где поступил на службу на московский почтамт чиновником в экспедицию приёма посылок.
Некто К. Б., лично знавший чету Марковых–Виноград–ских во время их жизни в Лубнах, в статье–некрологе «Вдохновительница Пушкина»[84] , напечатанной уже после смерти обоих супругов, в 1880 году, писал (с поправкой на жанр), что они представляли редкое явление: жили меньше для себя, чем для других; людское горе, несчастье у них могли встретить сочувствие и посильную помощь; они учили грамоте девочек, дочерей бедных родителей; по их инициативе в Лубнах устроено ссудосберегательное товарищество; Лубенская публичная библиотека имела их чуть не единственными абонентами. Всё свежее, честное, появлявшееся в литературе, встречало тёплый привет и искреннее сочувствие со стороны всесторонне образованной, чуть не наизусть знавшей всех европейских классиков Анны Петровны, до последних дней жизни остававшейся мыслящей и активной.
Однако на деле возраст и болезни всё чаще давали о себе знать; тяжело было переживать и скорбные известия о потере близких знакомых и родных:
«1876 г. 19 апреля. Что за ужасные были две ночи и день! Моя бедная мамаша так страдала и стонала, что я приходил в ужас! Её томила желчная рвота и тоска смертельная! Домашние снадобья кое–как облегчили. Но теперь томит её Констанция{89}. Она, голубка моя милая, всё металась и говорила о смерти. Меня грызла скорбь, неисходная мука безнадёжности. Ничего не может быть ужаснее, как быть в глухом, беспомощном одиночестве, лицом к лицу с мучительною болезнью своего друга, которым живёшь!»
5 июля 1876 года в день святых Петра и Павла Марковы–Виноградские были в Киеве у Павла Петровича Полторацкого. Он чувствовал себя очень плохо – еле дышал, так как у него работала только часть лёгкого. В августе 1876 года он умер. Его второй жене Любови Львовне Прокофьевой{90} достались дом в Киеве, приносивший ежегодный доход в 3 тысячи рублей серебром, и много долгов, в том числе и Анне Петровне. 5 июля 1877 года вдова уладила денежные взаимоотношения с сестрой мужа погашением лубенских долгов Марковых–Виноградских и выплатила ещё 130 рублей в обмен на отказ Анны Петровны и её наследников от претензий на долю наследства умершего брата. Ради получения наличных денег, крайне необходимых в данный момент, Анна Петровна шла иногда на совершенно неравноценные договорённости[85].
ПОСЛЕДНИЙ ПРИЮТ
Расплатившись с долгами, 2 августа 1877 года Марковы–Виноградские выехали в Москву. Они поселились в заранее приготовленной сыном квартире № 20 на верхнем, третьем этаже дома Гуськовых на углу улиц Тверской и Грузинской. Сын Александр с женой и дочерью Аглаей проживал в этом же доме в меблированных комнатах. Вскоре приехал из Петербурга и навестил их Николай Николаевич Тютчев. Увидев, в каком бедственном состоянии находятся Марковы–Виноградские, он подарил Александру Васильевичу пальто, а маленькой Аглае – три платья.
Здесь уместно будет привести воспоминания артиста московского Малого театра Осипа Андреевича Правдина{91}:
«В 1878 году Анна Петровна жила с семьёй неких Семев–ских на Тверской–Ямской, у самой Тверской заставы, на углу Кузнечного переулка, – жила и умерла в комнате 3–го этажа. Есть люди, утверждающие, что она умерла в бедности, – это неправда: в момент, который я описываю, Вино–градские жили хотя и не роскошно, но ни в чём не нуждались. Старушку, по возможности, холили и оберегали. Жена моя, Мария Николаевна, знавшая знаменитое прошлое Анны Петровны и какую она играла роль в жизни нашего великого поэта, очень заинтересовалась старушкой, и в один прекрасный день её представили ей. Анна Петровна была очень любезна и внимательна, много говорила, конечно, вспоминала и Пушкина, и Дельвига <…>; она принимала довольно часто мою жену, беседовала с ней, довольно долго вспоминала, как в Полтаву приезжал император Александр, танцевал с ней на балу <…>. Я совершенно отчётливо вспоминаю теперь то впечатление, которое охватило меня, когда я увидел её в первый раз. Конечно, я не ожидал встретить тот образ красавицы Керн, к которой наш великий поэт обращал слова „Я помню чудное мгновенье“, но, признаюсь, надеялся увидеть хоть тень прошлой красоты, хотя намёк на то, что было когда–то…
И что же? Передо мною в полутёмной комнате, в старом вольтеровском кресле, повёрнутом спинкой к окну, сидела маленькая–маленькая, сморщенная, как печёное яблоко, древняя старушка в чёрной кацавейке, белом гофреном чепце, с маленьким личиком, и разве только пара больших, несколько моложавых для своих 80–ти лет глаз, немного напоминала о былом, давно прошедшем. Я был настолько удручён тем, что увидел, что когда меня представили, не нашёлся даже о чём говорить, ограничился двумя–тремя фразами о её здоровье, простился и ушёл… Передо мной сидел точно не живой человек, и прощание моё было скорее с существом, принадлежавшим уже другому миру… »
В Москве Марковых–Виноградских навещали родственники из Тверской губернии: двоюродная сестра Анны Петровны Анна Павловна Ржевская (урождённая Понафидина), её брат Николай Павлович Понафидин с женой Серафимой Николаевной (в девичестве Юргеневой), жена Павла Александровича Бакунина Наталья Семёновна (Корсакова). Все они обещали устроить Марковых–Виноградских на лето 1878 года у себя в имениях: или в Курово–Покровском у Пона–фидиных, или в Прямухине у Бакуниных.
Их сын Александр получил место журналиста в конторе движения Брестской дороги с жалованьем 30 рублей в месяц.
11 февраля 1878 года семейство отметило очередной день рождения Анны Петровны. «Именины голубки нашей милой, – записал в дневнике её супруг, – начались пирогами с осетриной и гостями со шлейфами и без оных, а закончились в Сашином номере водкой и стукалкой{92}».
6 апреля Н. Н. Тютчев прислал Александру Васильевичу денежное пособие, а через две недели Марковы–Виноград–ские отправились в Тверскую губернию. С 19 апреля 1878 года они поселились в Торжке на съёмной квартире, которую организовала для них Н. С. Бакунина. За 33 рубля в месяц они получили пять комнат и переднюю, дрова, воду, молоко, прислугу и обед в два или три блюда. Их навещали Т. С. Львова и М. С. Оленина, Н. С. Бакунина, Д. Д. Романов{93}, Е. П. Безобразова. Сами Марковы–Виноградские также нанесли несколько визитов: 2 мая – к Львовым в Митино и Прутню, через неделю – в Выставку (Ново–Спасское) к Николаю Петровичу Оленину и его жене Вере Аполлонов–не (урождённой Уваровой).
Но Марковы–Виноградские жильём и особенно питанием были недовольны: «Кормят хозяева плохо, не умеючи… Чай отзывается селёдками, кофе отдаёт кожами…» Пришлось Евгении Андреевне Львовой, вдове троюродного брата Анны Петровны Ивана Сергеевича, подыскивать для них новую квартиру – в доме протоиерея Платона Родионовича (Иеродионовича) Бравчинского на Дворцовой улице (ныне улица С. Разина). Бравчинские на протяжении длительного времени являлись духовниками семьи Пожарских – владельцев знаменитой гостиницы, воспетой Пушкиным в его «Подорожной» и нескольких письмах и славящейся прозванными в честь её хозяев котлетами. Так судьба на закате жизненного пути ещё раз вывела Анну Петровну на пушкинский след. 15 мая Марковы–Виноградские переезжают «в чистые комнаты чистой семьи почтенного протоиерея», расположенные напротив женского монастыря, игуменья которого Мартирия «удостоила их знакомством и ласками». За квартиру с дровами платили 11 рублей; за обед, которого хватало и для горничной Маши Лушаковой, – 24 рубля. Рядом находился городской бульвар, по которому всегда было приятно прогуляться.
На новой квартире их посетили П. А. Бакунин, Т. С. Львова, М. С. Оленина, барон Мирбах, казначей Жемчужников, бухгалтер Терликов, Александр Александрович Бакунин с племянницей Ольгой Николаевной Повало-Швейковской, Николай Сергеевич Львов, директор учительской гимназии Алексей Григорьевич Баранов. В течение лета сами Марковы–Виноградские побывали в Митине и Прут–не, в Василёве у Дмитрия Сергеевича Львова, в Селихове у Татьяны Ивановны Загряжской. «Мы утопали 8 дней в усладах деревенской, барской жизни среди ласк, внимания добрых родных, угощавших нас с самым широким радушием и даже баловством», – записал Марков–Виноградский.
Александр Васильевич один съездил в Прямухино, где «купался в философии и ласковом гостеприимстве». Однако он заметил, «что коммунная жизнь в нём не приходится по вкусу женщинам, тоскующим по семейному очагу»: у Бакуниных, хотя и обращавшихся со знакомыми дамами любезно, принято было подтрунивать над женским умом и женской логикой. Этот стиль общения задевал Маркова–Виноградского, для которого жена была высшим авторитетом: «…Обращаются с ними шутя, подсмеиваются, хотя и очень любезно, над их мышлением, часто не согласным с философскою строгостию и точностию, которою Бакунины проникнуты до излишества; и, вообще, постоянно почти играют с ними. Мало беседуют с женщинами и слишком много посвящают часов на утехи эгоизма. Так, мой милый, добрый Александр (Бакунин. – В. С.) все свои досуги от службы проводит на устроенных им горке и болотце, любуясь насаженными на них растениями из разных стран. А Лиза грустит в одиночестве. Павел больше уделяет себя Наташе, чаще отрываясь для неё от философских вопросов, на которые пишет ответы. Более других семейно живёт Алексей. Но он очень болезнен, и его прекрасное лицо, напоминающее средневекового учёного, поседевшего и исхудавшего над изучением пыльных летописей, как бы прозрачно, от бледности и выражения чего–то неземного. А такое лицо приятно ли созерцать молодой жене его, Марье Николаевне Мордвиновой, сияющей весёлой добротой? Все они любят философские разговоры, споры и чтения, а это не особенно занимательно для их жён».
17 августа А. В. Маркову–Виноградскому исполнилось 58 лет. «Чтобы сделать этот день приятным, – записал в дневнике именинник, – я купил моей доброй старушке винограду и платок на шею. Потом водил к Ефрему{94}, и она была очень довольна, особенно когда удался пирог с грибами. Рано утром дети наши обрадовали нас поздравительной телеграммой». Обратим внимание: в свой день рождения он хочет прежде всего порадовать супругу.
29 августа Александр Васильевич послал сыну письмо, в строках которого были и осознание старческой немощи, и просьба о помощи, и обещание не быть обузой:
«Мы не в силах хозяйничать… хозяйство слишком истощает скудный остаток наших сил… и нам необходимо приютиться в добром и честном семействе, живущем порядочно. <… > Похлопочи, друг наш родной, об устройстве нас вблизи себя на хлебах… Если же этого нельзя и вы найдёте удобным пригреть нас у своего очага, с тем, однако же, что вы приспосабливаетесь вполне к жизни с нами, то мы будем очень счастливы! Вы единственные близкие нашим сердцам и вам стоит любить нас не тайно, а явно, чтобы отношения между нами были прочны… А при таких отношениях совместная жизнь сулит счастье. <…> Мы враги пошлостей, суетности, мелочей, пустых развлечений, но отнюдь не против изящных наслаждений, возвышающих душу и делающих человека лучше…»[86]
10 сентября Марков–Виноградский отметил в дневнике: «Дождь второй день. Вчера вернулись из Митина, от суеты, от беспорядка которого бежали как угорелые. Несмотря на ласки, внимание и любезности милых, добрых родных, несмотря на здоровый воздух и красоту Митинского парка и леса, нам тяжела митинская суетливая, рассеянная жизнь, зависящая от прислуг, гостей и разных внешних случайностей».
25 и 26 сентября Александр Васильевич присутствовал на заседании новоторжского земского собрания, где «наслушался умных речей». После собрания он ездил на два дня (с 28 по 30 сентября) вместе с Александром и Павлом Бакуниными в Прямухино, где было принято решение о переезде туда Марковых–Виноградских на жительство: «Это нам будет выгодно и приятно, и здорово для наших организмов и сердец, требующих разумного покоя и осмысленной здоровой жизни, основы которых прочно заложены в Прямухи–не с давних времён».
Татьяна Александровна Бакунина записала в дневнике: «13 октября – приехали Александр Васильевич и Анна Петровна Виноградские и водворились в бывшей Алёшиной комнате»[87]. Подробности переезда в Прямухино сохранили дневниковые записи, сделанные Александром Васильевичем:
«Провожали нас наши добрые хозяева, очень трогательно угощая завтраком, добрыми пожеланиями и благословениями. Мы прожили у них покойно и приятно, пользуясь их вниманием, ласками и одолжениями, пять месяцев. Кроме хозяев наших Бравчинских, провожали нас Марья Сергеевна Оленина с внучкой Катей Мамоновой и Татьяна Сергеевна.
Дорога была ужасная: глубокие ямы, рытвины, лужи, камни и дурные мосты. Мы 35 вёрст ехали 5 часов и до того устали, что шатались, когда вытащили нас из коляски. Но Александр и Лиза Бакунины так радушно и тепло встретили нас, так гостеприимно угостили ужином и чаем, что мы скоро ободрились и глубоко признательны божественной силе, выбросившей нас на лесные и красивые берега быстрой Осуги, в кущи прямухинского парка, в старую усадьбу Бакуниных, схожую с аббатством и таящую в своих покоях, сумрачных коридорах и закоулках много воспоминаний из разумной, честной жизни, исполненной правды, гуманности, духовной красоты и всего прекрасного бывших и настоящих владельцев её. Сколько в ней перебывало исторических людей! Сколько раздавалось философских, учёных, поэтических и шаловливых бесед! Сколько разлилось из неё добра, разума и благотворений! И вот и нам пришлось приобщиться к почтенной, гуманной жизни Бакуниных. Помоги нам, неведомый, быть достойными этой жизни и докончить в Прямухине век свой».
Анна Петровна с детских лет была знакома с хозяевами Прямухина – Александром Михайловичем Бакуниным и его женой Варварой Александровной, урождённой Муравьёвой. Она видела их в Бернове вскоре после венчания и так рассказывала об этом в мемуарах:
«Я его (Александра Михайловича. – В. С.) помню, когда он после свадьбы приезжал в Берново, и мы любовались детьми умению его жить и любить свою жену. Она была молодая, весёлая, резвая девушка, он – серьёзный, степенный человек, и, однако, на них было приятно смотреть. Я помню их сидящими дружно рядом, когда он её кругом обнимет своими длинными руками, и в выражении её лица видно было, как она довольна этой любовью и покровительством. Иногда она его положит на полу и прыгает через него, как резвый котёнок. Его положение тогда не было ни странно, ни смешно. И тут являлись с любовью покоряющая сила и доброта – идеал доброты! Помню ещё раз бальный вечер; они сошлись в нашей общей комнате с маминькой; он лежал на её кровати, она, в белом воздушном платье, прилегла подле него, и как он, шутя, уверял её, что кольцо, надетое на его палец, не скинется, врастёт в него; она беспокоилась, снимала его, велела подать воды, мыла, а он улыбался и, наконец, успокоил её, что это была шутка».
Она собиралась вставить в мемуары стихотворный экспромт, написанный А. М. Бакуниным по случаю своей женитьбы, но по какой–то причине не сделала этого. Историю его создания и само стихотворение записал её супруг 23 октября 1870 года в своём дневнике: «И сегодня [Анна Петровна] вздумала, что можно было бы поместить в нём (воспоминании о своём детстве. – В. С.) экспромт Александра Михайловича Бакунина, учёного мудреца, добрейшего человека, почтенного отца замечательных во всех отношениях сыновей и дочерей, бывшего смыслом всего общества, в котором расточал сокровища своего ума, знаний и сердца. Экспромт написан по случаю женитьбы его на Варваре Александровне, дочери Алек[сандра] Фёдоровича Муравьёва и Варвары Михайловны Мордвиновой, вышедшей впоследствии за Пав[ла] Марковича Полторацкого. Варв[ара] Алек[сандровна] была умна, любезна, добра, жива и грациозна. Она отказала было Александру Михайловичу, так как он был вдвое старше её, и она была влюблена в своего двоюродного брата, Александра Николаевича Муравьёва. Но Алексан[др] Михай[лович] пришёл в такое отчаяние, что решился было застрелиться. Сестры, с которыми он жил в Прямухине, в 35 в[ерстах] от Торжка, подсмотрели, как он, запершись в кабинете, готовился покончить с собою, и дали знать Варваре Александровне. Она испугалась и уведомила, что тронута любовью Александра Михайловича, и он сделался счастливым мужем прелестной женщины. Вот экспромт по случаю их брака, сказанный счастливым молодым:
Хоть не яйцом Её лицо, Но под венцом, Когда кольцо Я отдал ей, — То из бывших там людей Не случилось и одного, Который счастья б моего Не прочитал у ней».Погода в Прямухине стояла по–настоящему осенняя: дожди, ветры… 31 октября снежок закрыл слегка замёрзшую грязь. Зимний путь установился на Николу. У Бакуниных каждый день бывали новые гости: соседи–помещики Николай Алексеевич Беер (его имение Попово находилось в трёх верстах от Прямухина), мировой судья Евграф Иванович Стогов (владелец имения Почайно в 20 верстах от Торжка), Дмитрий Васильевич Николаевский, доктор Александр Алексеевич Синицын, Дмитрий Иванович Рихтер, Анна Константиновна Ржевская, Надежда Николаевна Мордвинова. 8 ноября по первому снегу приехали Николай Сергеевич и Мария Карловна Львовы с главным садовником Московского ботанического сада Густавом Фёдоровичем Вобстом.
3 декабря Александр Васильевич вместе с А. А. Бакуниным поехал в Торжок в розвальнях «по убийственной дороге»: «Колотились мы по замёрзшим глыбам семь часов, и поздно вечером дотащились до города совершенно разбитые… 5 декабря я вернулся домой в страшную вьюгу, пронизывавшую меня своим свирепым холодом до самых тайных закоулков моих больных кишок». После этой поездки Мар–ков–Виноградский сильно занедужил. Бакунины послали за докторами: 8 декабря больного посетил Зорин, а 12–го – Богоявленский. Казалось, в состоянии больного наступило облегчение.
23 декабря 1878 года Анна Петровна продиктовала кому–то из женской половины прямухинского общества (вероятно, Елизавете Александровне Бакуниной) письмо для Алексея Николаевича Вульфа:
«Видишь, где я очутилась, мой добрый друг и брат? В доме, где я бывала в детстве и где мне так хорошо на старости, и где ты бывал в прошлые годы нередко, и где надеюсь видеть тебя, может быть, даже в это лето… А как мы с мужем были бы рады этому!.. Добрейшие хозяева наши Александр и его жена Лиза Бакунины так с нами ласковы и внимательны, что мы испытываем полное довольство и покой…
Из Москвы мы переехали в Торжок ещё в апреле, по случаю дороговизны и потому что утомились от суеты и грязи номерной жизни… В половине же октября переехали в Прямухино по влечению сердца и в видах экономии… Но эти виды пока не осуществились по случаю тяжкой болезни мужа, из которой он едва выздоравливает и которая сильно подорвала его финансы, а также физические силы… Прямухино всё то же, что и было 70 лет назад и это мне очень приятно; – а между тем, милое наше Берново уже далеко не то!.. {95}
Дети наши в Москве и мы надеемся, что доставят нам радость свидания в скором времени…
Моё здоровье не дурно, но болезненная тоска по временам опять одолевает меня… и память очень плоха… Вследствие этого напомни мне о всех наших родных и утешь подробною грамоткою о себе, старый и неизменный друг и брат.
Будь здоров и люби – хоть немножко – неизменно преданного тебе друга Анну Виноградскую»[88].
Это письмо Анны Петровны, не предвещавшее трагических событий, оказалось последним…
В первый день рождественского праздника Александр Васильевич почувствовал себя очень плохо, «доходил до отчаяния, известили об этом Сашу в Москве».
Дневник Т. А. Бакуниной даёт хронику болезни А. В. Маркова–Виноградского:
«27 декабря – приехал Александр Виноградский.
28 декабря Александру Васильевичу получше.
29 декабря – Александр Александрович Виноградский уехал обратно в Москву».
Но жизнь шла своим чередом, съезжались гости на новогодние праздники:
«31 декабря – во время обеда приехали Мария Карловна, Сашенька, Варя и Александр Вульфы, а вечером – маскированные Опели (Борис Сергеевич и Ольга Ивановна, их имение Ямки–Сидорово находилось недалеко от Прямухина. – В. С.), и разыгрывали сцены из Фауста, танцевали и весело встретили новый год. Разъехались все по домам в 3 часа»[89].
2 января Александру Васильевичу снова стало плохо. Вызвали доктора Богоявленского.
5 января в Прямухино пришла весть о кончине 15 декабря Н. Н. Тютчева. Теперь к телесной боли у Маркова–Вино–градского добавилась душевная – умер надёжный опекун семьи, один из самых преданных и верных друзей.
12 января к больному приезжал земский врач Павел Николаевич Алянчиков. «Уехал в сумерках», – записала в дневнике Т. А. Бакунина.
Последняя запись в дневнике А. В. Маркова–Виноград–ского сделана его рукою 23 января: «Раннее утро. Завывает ветер, и печи трещат и пылают по коридору, согревая наше аббатство. Тяжкие недуги мои как будто смягчаются после 40–дневных страданий… »
Через пять дней, «в ночь с 27 на 28 [января 1879 года] в два часа пополуночи» Александр Васильевич скончался. 29 января в Прямухино приехал сын Александр, а 1 февраля Мар–кова–Виноградского похоронили в семейном склепе Бакуниных возле Троицкой церкви.
Надо отдать должное А. В. Маркову–Виноградскому: именно его забота и хлопоты, а самое главное – беззаветная любовь к Анне Петровне значительно продлили ей жизнь. Он взвалил на себя обязанность разбирать её небрежно написанные воспоминания, переписывать их и редактировать. Он сохранил целый ряд разрозненных эпизодов, которые жена или не смогла в своё время опубликовать по цензурным либо этическим соображениям, или вспомнила уже после выхода мемуаров. Наконец, он сам оставил «Записки», содержащие очерки нравов того времени, биографии и характеристики многих известных его современников; ценность этих сведений нам ещё предстоит осознать.
На следующий день после похорон сын увёз Анну Петровну в Торжок, а оттуда поездом – в Москву. 5 февраля он писал А. Н. Вульфу:
«Многоуважаемый Алексей Николаевич!
С грустью спешу уведомить, [что] отец мой 28 генваря умер от рака в желудке при страшных страданиях в доме Бакуниных в селе Премухине. После похорон я перевёз старуху–мать несчастную к себе в Москву, где надеюсь её кое–как устроить у себя и где она будет доживать свой короткий, но тяжёлогрустный век! Всякое участие доставит радость бедной сироте–матери, для которой утрата отца незаменима.
Пожелав вам всего хорошего, остаюсь уважающий вас ваш слуга
А. Виноградский».
В Москве, в скромных меблированных комнатах на углу улиц Тверской и Грузинской, пережив мужа ровно на четыре месяца, 27 мая 1879 года Анна Петровна умерла от паралича.
Согласно пожеланию Анны Петровны, похоронить её должны были в Прямухине, рядом с мужем. Однако раскисшие от дождей дороги не позволили этого сделать, и она обрела вечный покой на семейном кладбище Львовых на погосте Прутня Новоторжского уезда Тверской губернии.
Актовая запись о её смерти гласит:
«Скончалась 27 мая, погребена 1 июня 1879 года, умершего коллежского асессора Александра Васильевича Маркова–Виноградского вдова Анна Петровна.
Умерла от паралича 79 лет от роду.
Совершали погребение: священник Дмитрий Ильинский с диаконом Сергеем Ветринским, дьячком Андреем Повед–ским и пономарём Иваном Масловым.
Тело умершей вдовы Анны Петровны привезено из Москвы по открытому листу, данному на село Прямухино, Московским генерал–губернатором от 30 мая 1879 года за № 2618, а по желанию её родного сына, губернского секретаря Александра Александровича Маркова–Виноградского, погребена на церковно–приходском погосте села Прутня»[90].
С подачи редактора журнала «Русский архив» П. И. Бартенева по страницам многих изданий долго кочевала легенда о якобы произошедшей встрече гроба с прахом А. П. Керн и памятника Пушкину, ввозимого в Москву. Эту красивую легенду развеял уже упоминавшийся актёр московского Малого театра О. А. Правдин, поведав о действительном случае, послужившем поводом к её возникновению: «Года за два до смерти Анна Петровна сильно захворала, так что за ней усилили уход и оберегали от всего, что могло бы её встревожить. Это было, кажется, в мае. Был очень жаркий день, все окна были настежь. Я шёл к Виноградским. Дойдя до их дома, я был поражён необычайно шумливой толпой. Шестнадцать крепких битюгов, запряжённых по четыре в ряд, цугом везли какую–то колёсную платформу, на которой была помещена громадная, необычайной величины гранитная глыба, которая застряла и не двигалась. Эта глыба была пьедесталом памятника Пушкину. Наконец среди шума и гама удалось–таки сдвинуть колесницу, и она направилась к Страстному.
Больная так встревожилась, – рассказывал дальше Осип Андреевич, – стала расспрашивать, и когда после настойчивых её требований (её боялись волновать) ей сказали, в чём дело, она успокоилась, облегчённо вздохнула и сказала с блаженной улыбкой: «А, наконец–то! Ну, слава богу, давно пора!»»
Почти все исследователи утверждают, что вскоре после похорон матери Александр Александрович Марков–Вино–градский застрелился.
Однако О. А. Правдин написал Б. Л. Модзалевскому 19 февраля 1908 года:
«Александр Александрович был очень милый, добродушный и жизнерадостный человек, но непонятно в силу каких обстоятельств не сумел примениться к какому–нибудь делу и часто материально бывал в тисках. Чего–чего он только не предпринимал, не попробовал; в юности он попал даже в казённую школу при Императорских Петербургских театрах; учился на драматическом отделении, но, сыграв неудачно несколько ролей, покинул её и бросил мысль о сцене. В школе, однако, долго держалась память о нём, ибо мальчишки–школьники сочинили о нём какую–то нелепую песенку, которая передавалась из поколения в поколение. Если мне память не изменила, то эта белиберда распевалась так:
Марков – «Чацкий»
Виноградский, «Де–Лагарди»,
«Де–Ламом»,
Deux fois{96} «Угар»!
Этим высчитывалось, что он сыграл неудачно: Чацкого, Де–Лагарди, Де–Ламома и два раза какую–то роль Угара; хотя вообще нельзя было сказать о нём, что он был человеком неспособным, – даже напротив… Но он был в полном смысле неудачник. Даже смерть его была какая–то неожиданная и не совсем ясная: у дочери его, Аглаи, был дифтерит… Неизвестно, заразился ли он от неё, или неудачно отравился, но в один прекрасный день он ушёл с вечера спать, а на утро был найден мёртвым, причём, оказалось, что за ночь он для чего–то принял громадную дозу бертолетовой соли… Врачи так и не объяснили, и он унёс эту тайну в могилу. Жена его, Елизавета Васильевна, оставшись без всяких средств, служила в провинции кассиршей в театрах, дала образование своей дочери Аглае и сделала из неё дельную актрису…»[91]
Внучка Анны Петровны Аглая Александровна (1874– 1941/42) вышла замуж за Митрофана Николаевича Кулжинского, в 1900–х годах была драматической актрисой, выступала в частных провинциальных театрах под фамилией Дараган. Именно у неё хранился оригинальный миниатюрный портрет А. П. Керн 1820—1830–х годов, выполненный на слоновой кости, который в середине октября 1904 года был ею пожертвован в Пушкинский Дом, а ныне экспонируется во Всероссийском музее А. С. Пушкина. Она же передала Модзалевскому через своего дальнего родственника Н. Д. Романова записки своего деда. В 1937 году Аглая Александровна Кулжинская–Дараган передала Государственному литературному музею столик А. П. Керн[92].
По некоторым сведениям, умерла внучка Анны Петровны в блокадном Ленинграде. Её портрет работы художника В. В. Гундобина находится в Самарском художественном музее.
В столицах смерть Анны Петровны осталась незамеченной, и только на следующий год о ней вспомнили по случаю торжеств, сопровождавших открытие памятника Пушкину в Москве, и некоторые периодические издания поместили краткие некрологи. Один из них, написанный известным библиографом, историком и публицистом, автором трудов по генеалогии князем Николаем Николаевичем Голицыным, заканчивался словами: «Теперь уже смолкли печаль и слёзы, и любящее сердце перестало уже страдать. Помянем покойную сердечным словом, как вдохновлявшую гения–поэта, как давшую ему столько „чудных мгновений“. Она много любила, и лучшие наши таланты были у ног её. Сохраним же этому „гению чистой красоты“ благодарную память за пределами его земной жизни».
Послесловие «НЕ ЗАРАСТЁТ НАРОДНАЯ ТРОПА»
Завершено описание жизни одной из замечательных женщин XIX века из ближайшего пушкинского окружения, построенное на основе как ранее опубликованных работ, так и вновь обнаруженных автором документов.
Эта книга рождалась нелегко. Порой автор даже сожалел о том, что взялся за этот неблагодарный труд, навлёкший множество упрёков тех, кто прочитал её в рукописи: от мнения, что книгу об Анне Керн должна написать женщина, до риторических вопросов: «За что же вы так Анну Петровну – не по–рыцарски, не по–джентльменски, не по–мужски?!» Уважаемые специалисты высказали много замечаний, и автор решил отложить рукопись, на некоторое время дистанцироваться от темы, а позже поглядеть на написанное свежим взглядом. Прошёл год, но в авторском понимании образа Анны Керн мало что изменилось. Были только добавлены новые материалы, более деликатно построены некоторые комментарии интимных моментов, а в иных случаях – они были и вовсе убраны, чтобы читатели могли делать собственные выводы. В таком виде мы и представляем биографию Анны Петровны Керн на суд широкой аудитории.
Однако в биографии нашей героини осталось ещё много «белых пятен» и неясных моментов. Конечно, с одной стороны, хотелось бы во всех разобраться, везде внести ясность… Но надо ли к этому стремиться? В жизни любой женщины полно тайн и загадок – этим–то она и интересна. Оставим же некоторые тайны Анны Петровны при ней.
Благодаря пушкинскому шедевру «Я помню чудное мгновенье…» имя музы величайшего русского поэта известно и по всей России, и за рубежом – везде, где читают Пушкина. Память о ней хранят во многих городах.
В Орле дом губернатора, в котором родилась Анна Керн, не сохранился – на его месте сейчас находится гостиница «Русь». Но на её фасаде красуется мемориальная доска с надписью: «Здесь находился дом, в котором родилась Анна Петровна Керн».
В Риге, на территории крепости возле церкви Петра и Павла, которую когда–то посещала А. П. Керн, в начале 1990 года, накануне 190–летия со дня её рождения, был сооружён памятник вдохновительнице величайшего русского поэта (автор бюста – скульптор Лигита Улмане). Сейчас памятник включён в список достопримечательностей города и в состав туристических маршрутов.
В Великих Луках на Смоленской улице стоит двухэтажный дом с четырёхколонным портиком на парадном фасаде, который все старожилы называют «Домом Анны Керн». Может быть, и занесла судьба нашу героиню в трудные годы скитаний в этот город; историкам ничего об этом не известно, но в народе сохранилась память о её пребывании.
В Бернове, в доме Вульфов, где прошли детские годы Анны Керн, открыт музей А. С. Пушкина. В его экспозиции представлены портреты нашей героини и материалы, рассказывающие о её жизни и встречах с поэтом.
В Михайловском всем экскурсантам непременно показывают «Аллею Керн», по которой гулял Пушкин с Анной Петровной.
В экспозициях других пушкинских музеев страны ей также уделено внимание.
А на могилу Анны Петровны Керн на старинном погосте Прутня до сих пор приносят цветы, на скамеечке рядом с оградкой появляются посвященные ей стихи – даже почти через 130 лет после смерти она является источником вдохновения! В 1988 году композитором Владимиром Быстряковым на слова Владимира Гоцуленко был написан романс «Анна Керн», исполнявшийся Николаем Караченцовым и вошедший в его альбом «Предчувствие любви».
Думается, что эта женщина достойна того, чтобы и по прошествии длительного времени разыскивали новые свидетельства о её судьбе, открывали новые факты её биографии и рассказывали о них читателю.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Государственный архив Тверской области (далее – ГАТО). Ф. 645. Оп. 1. Ед. хр. 713.
2 Цит. по: Орловские губернаторы. Орёл, 1998.
3 См.: Российский государственный исторический архив (далее – РГИА). Ф. 1285. Оп. 2. Ед. хр. 135.
4 См.: РГИА. Ф. 1281. Оп. 1. Ед. хр. 10.
5 См.: Там же. Ед. хр. 25.
6 См.: ГАТО. Ф. 310. Оп. 1. Ед. хр. 18325.
7 См.: Рукописный отдел Российской национальной библиотеки (далее РО РНБ). Ф. 609. Ед. хр. 292.
8 Российский государственный архив литературы и искусства (далее – РГАЛИ). Ф. 1337. Оп. 1. Ед. хр. 183.
9 Там же.
10 См.: Центральный государственный исторический архив Санкт–Петербурга. Ф. 19. Оп. 111. Д. 158. Л. 27.
11 Михайловский–Данилевский А. И. Военная галерея Зимнего дворца. Император Александр I и его сподвижники в 1812, 1813, 1814 и 1815 годах. СПб., 1846.
12 Gallet de Kulture A. Le Tzar Nicolas et la Sainte Russie. Paris, 1855.
13 Цит. по: Вацуро В. Э. Пушкин и Аркадий Родзянка (Из истории гражданской поэзии 1820–х годов) // Временник пушкинской комиссии. 1969 г. Л., 1971.
14 Распопов А. П.Встреча с А. С. Пушкиным в Могилёве в 1824 г. // А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1985. Т. 1. С. 399—401.
15 Виноградов В. В. О стиле Пушкина//Литературное наследство. 1934. < 16—18. С. 156—160.
16 Томашевский Б. В. Пушкин. Книга вторая. Материалы к монографии (1824—1837). М.—Л., 1961. С. 336.
17 См.: Анненков П. В. Материалы для биографии А. С. Пушкина. М., 1984. С. 153.
18 Степанов Н.Л. Лирика Пушкина. М., 1974. С. 301.
19 Маймин Е. А. Пушкин. Жизнь и творчество. М., 1981. С. 96.
20 Городецкий Б. П. Лирика Пушкина. М.—Л., 1962. С. 296—297.
21 Белецкий А. И. Из наблюдений над стихотворными текстами Пушкина // Филологический сборник Киевского госуниверситета. 1953. < 5. С. 90.
22 Строганов М. В. Пушкин и Мадонна // А. С. Пушкин. Проблемы творчества: Межвузовский тематический сборник научных трудов. Калинин, 1987. С. 22.
23 Фомичёв С. А. Поэзия Пушкина: творческая эволюция. Л., 1986. С. 100—101.
24 См.: Грехнев В. А. Мир пушкинской лирики. Н. Новгород, 1994. С. 420—424.
25 Чумаков Ю. Н. Стихотворение Пушкина «К***» («Я помню чудное мгновенье…»; форма как содержание) // Чумаков Ю. Стихотворная поэтика Пушкина. СПб., 1999. С. 346—355.
26 Перфильева Л. А. «К***» («Я помню чудное мгновенье…») //Лирика Пушкина. Комментарий к одному стихотворению. М., 2006. С. 114—122.
27 Бройтман С. Н. «Я помню чудное мгновенье…»: К вопросу о вероятностно–множественной модели в лирике Пушкина // Болдинские чтения. Н. Новгород, 1997. С. 72—78.
28 Черняев Н. И. Послание «К А. П. Керн» Пушкина и «Лалла–Рук» Жуковского // Критические статьи и заметки о Пушкине. Харьков, 1900. С. 54.
29 Тромбах С. М. «Всё в жертву памяти твоей» // Временник Пушкинской комиссии. Вып. 23. Л., 1989. С. 98—102.
30 Волъперт Л. И. Пушкин в роли Пушкина. Творческая игра по моделям французской литературы. Пушкин и Стендаль. М., 1998.
31 Тромбах С. М. «Цветы последние милей» // Временник Пушкинской комиссии. Вып. 23. С. 103—104.
32 Л. С. Пушкин в кругу современников. СПб., 2005. С. 93.
33 Афанасъев С. И. «Друзья мои…»//Временник Пушкинской комиссии. Вып. 29. СПб., 2004. С. 160.
34 Строганов М. В. О Пушкине: Статьи разных лет. Тверь, 2003. С. 25—26.
35 Полный текст мемуаров содержится в издании: Делъвиг А. Я.Пол–века русской жизни. Т. 1. М.—Л., 1930.
36 См.: Карвалъ Л. А. Портрет Анны Керн //Христианская культура и пушкинская эпоха: Сборник статей. СПб., 1996. Вып. 11. С. 30—35.
37 См.: Строганов М. В. О Пушкине. С. 26.
38 РГАЛИ. Ф. 1337. Оп. 1. Ед. хр. 183.
39 Варшавский дневник. 1880. 25 июля. № 159.
40 Дневники А. Н. Вульфа были впервые опубликованы в сборнике: Пушкин и его современники: Материалы и исследования. Пг., 1915. Вып. 21—22.
41 Ахматова А. А. О Пушкине. Статьи и заметки. М., 1989. С. 224– 225.
42 Русский архив. 1872. Кн. 3, 4. С. 856—865.
43 ГАТО. Ф. 645. Оп. 1. Ед. хр. 3673.
44 Эфрос А. М. Пушкин–портретист. М., 1946. С. 179—183.
45 См.: Старк В. ДПортреты и лица. Л., 1995.
46 Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук (далее – РО ПД). Ед. хр. 14342. Т. 2.
47 См.: Бойко С. А. «И вот опять явилась ты»: Неизвестный портрет А. П. Керн // Советский музей. 1984. № 4.
48 Рукописный отдел Российской государственной библиотеки (далее – РО РГБ). Ф. 233. К. 6. Ед. хр. 75.
49 РО ПД. Ф. Р. I. Оп. 12. Ед. хр. 42.
50 Там же. Ф. 93. Оп. 4. Ед. хр. 22.
51 РГИА. Ф. 577. Оп. 41. Ед. хр. 3561.
52 Государственный архив Российской Федерации (далее – ГАРФ). Ф. 825. Оп. 1. Ед. хр. 292.
53 ГАТО. Ф. 310. Оп. 1. Ед. хр. 54624.
54 РГАЛИ. Ф. 318. Оп. 1. Ед. хр. 55.
55 Письма С. Л. и Н. О. Пушкиных к их дочери О. С. Павлищевой. 1828—1835: Серия «Мир Пушкина». Т. 1. СПб., 1993. С. 175.
56 Лотман Ю. М. Пушкин. СПб., 2005.
57 А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 2.
58 РО ПД. Шифр 27258.
59 Там же. Шифр 27228.
60 Там же. Шифр 27254.
61 Там же. Шифр 27227.
62 См.: Михайловский–Данилевский А. И. Указ. соч.
63 См.: Письма М. И. Осиповой А. Н. Вульфу от 15.10. и 16.11.1843 г. // Л. С. Пушкин в кругу современников. С. 203.
64 Письмо Л. С. Пушкина Е. А. Пушкиной от 19—20.09.1848 г. // Там же. С. 216.
65 См.: РО ПД. Ф. Р. I. Оп. 2. № 410.
66 См.: Там же. Ф. 16. Оп. 9. Ед. хр. 38.
67 РО РГБ. Ф. 232. К. 3. Ед. хр. 23.
68 РО ПД. Шифр 14340.
69 Там же. Ф. 221. Оп. 2. Ед. хр. 6.
70 РГАЛИ. Ф. 505. Оп. 1. Д. 204.
71 А. К. Михайлова, Л. К. Хитрово, А. П. и А. В. Марковы–Виноград–ские и их окружение // Ежегодник РО ПД. 2002 год. СПб., 2006. С. 22.
72 РГАЛИ. Ф. 505. Оп. 1. Д. 204, 205.
73 Модзалевский Б. Л. Анна Петровна Керн: По материалам Пушкинского Дома//Любовный быт пушкинской эпохи. М., 1994. Т. 2. С. 67.
74 См.: РГАЛИ. Ф. 612. Оп. 1. Ед. хр. 1294.
75 РО ПД. Ф. 221. Оп. 2. Ед. хр. 6.
76 РГАЛИ. Ф. 1337. Оп. 1. Ед. хр. 183.
77 РО ПД. Ф. 16. Оп. 9. Ед. хр. 37.
78 См.: ГАТО. Ф. 108. Оп. 1. Ед. хр. 56.
79 См.: Документы, написанные М. Е. Салтыковым–Щедриным в защиту крестьян в период его службы тверским вице–губернатором (1860– 1862 гг.) // Из истории Калининской области: Статьи и документы. Калинин, 1960. С. 133.
80 Пушкин и его современники: Материалы и исследования. Вып. 21—22. С. 395.
81 РО ПД. Шифр 22922.
82 Там же. Шифр 22920.
83 Там же. Шифр 22922.
84 См.: Неделя. 1880. № 34.
85 В 1920–х годах директор Государственного литературного музея В. Д. Бонч–Бруевич обращался к Вере Павловне и Любови Павловне Полторацким, проживавшим в Лубнах, с просьбой сообщить имевшиеся у них сведения о пребывании А. П. Керн на Украине. Присланные ими воспоминания, хранящиеся в рукописи и нигде ранее не публиковавшиеся, приведены на страницах нашей книги. См.: РО РГБ. Ф. 869. К. 192. Ед. хр. 13.
86 РО ПД. Шифр 14319.
87 ГАРФ. Ф. 825. Оп. 1. Ед. хр. 355.
88 РО ПД. Шифр 22920.
89 ГАРФ. Ф. 825. Оп. 1. Ед. хр. 355.
90 РО ПД. Шифр 27251.
91 Письма Н. Д. Романова к Б. Л. Модзалевскому / Публикация Л. К. Хитрово // Ежегодник РО ПД. 1996. СПб., 2001. С. 500.
92 РГАЛИ. Ф. 612. Оп. 1. Ед. хр. 3061.
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ А. П. КЕРН
1800, 11 февраля – рождение в доме орловского губернатора И. П. Вуль–фа у его дочери Екатерины Ивановны, в замужестве Полторацкой, дочери Анны.
Конец года – переезд в имение отца, Петра Марковича Полторацкого, в городе Лубны Полтавской губернии.
1801 – рождение сестры, прожившей менее двух лет.
1802(?) – рождение сестры Елизаветы.
1802—1803 – жизнь с матерью и сестрой в тверском имении Вульфов селе Бернове.
1803 – переезд в Лубны. Рождение сестры (умерла в 1808 году).
1808 – рождение сестры Варвары. Переезд в Берново.
1808—1812 – жизнь с матерью в Бернове, знакомство и начало дружбы с кузиной Анной Вульф, домашнее обучение под руководством гувернантки Бенуа. Посещение тверских имений родственников: Львовых (Митино), Бакуниных (Прямухино), Полторацких (Грузины, Красное и Баховкино), Вульфов (Малинники).
1810, 28 июня – рождение брата Павла.
1812, лето – жизнь в тверской деревне Полторацких Кушниково.
Осень – перевоз отцом семьи в объезд захваченной французами Москвы, через Владимир и Тамбов в Лубны. Знакомство во Владимире с М. Н. Муравьёвым.
1817, 8 января – свадьба с генералом Е. Ф. Керном.
15 сентября – первая встреча Анны Керн с императором Александром I в Полтаве во время смотра корпуса Ф. В. Сакена. Ноябрь – поездка с матерью и мужем в Киев, знакомство с семьёй генерала Н. Н. Раевского.
1818 – рождение дочери Екатерины.
10 мая – отстранение Е. Ф. Керна от должности; определён «состоять по армии».
Конец года – поездка в Липецк к брату мужа, посещение в Москве тёток В. М. Мертваго и А. П. Полторацкой. 1819, весна – поездка с мужем и отцом в Петербург, первая встреча с А. С. Пушкиным в салоне Олениных.
10 марта – Е. Ф. Керн назначен командиром 2–й бригады 25–й пехотной дивизии, которая стояла в Дерпте. 6 апреля – посещение на Пасху родных в Тверской губернии. Сентябрь – встреча с Александром I на балу во время манёвров в Риге.
1820 – проживание с мужем в Пскове.
17 августа – генерал Керн назначен командиром 2–й дивизии, квартировавшей под Могилёвом.
30 августа – рождение будущего второго мужа А. В. Маркова–Виноградского.
Сентябрь – переезд в Лубны к родителям.
1821, начало года – рождение дочери Анны, прожившей четыре года.
1823, 26 сентября – Е. Ф. Керн получил должность коменданта Риги. Проживание с мужем в Риге.
1824 – отъезд к родителям в Лубны, знакомство и сближение с соседом по имению А. Г. Родзянко.
8 декабря – появление в переписке Пушкина с Родзянко вопроса: «Объясни мне, милый, что такое А. П. Керн?..»
1825 – продажа матерью по требованию отца старицкого имения, со–стоявшего из деревень Иевлево и Сенчуково, Д. Н. Шереметеву. 10 мая – впервые делает приписки в письме Родзянко Пушкину. Июнъ – первый приезд в Тригорское, встреча с Пушкиным.
18 июля – получение от Пушкина стихотворения «К***».
19 июля – отъезд вместе с П. А. Осиповой и ее дочерьми Анной и Евпраксией в Ригу.
21 июля – 22 сентября – интенсивная любовная переписка с Пушкиным.
Начало октября – второй приезд (вместе с мужем) в Тригорское, встречи с Пушкиным.
1826, начало или 1825, конец – беременность, окончательный разрыв с мужем и отъезд в Петербург. Проживание сначала у родителей Пушкина, затем вместе со своими родителями и сестрой Елизаветой в доме генеральши Штерич на набережной Фонтанки у Обухова моста.
1826 – знакомство с М. И. Глинкой.
Весна – смерть дочери Анны.
7 июля – рождение дочери Ольги.
9 июля – крещение дочери в церкви Вознесения Господня при Адмиралтейских слободах.
8 сентября – приезд А. С. Пушкина из Михайловского в Москву, его встреча с императором Николаем I и освобождение из ссылки.
1827, май – знакомство с А. В. Никитенко.
23 мая – встреча с приехавшим в Петербург Пушкиным в доме его родителей.
Начало июня – переезд в дом Кувшинникова на Загородном проспекте, по соседству с Дельвигами.
20 июля – назначение генерала Керна «состоять по армии».
1828 – дружба с Александром Дельвигом.
29 января – вместе с Пушкиным благословляет его сестру на замужество с Н. И. Павлищевым.
Конец января или начало февраля – сближение с Пушкиным, о котором он сообщает в письме С. А. Соболевскому. Февралъ – переезд с отцом и сестрой Елизаветой в квартиру Дельвигов, уехавших в Харьков.
29 февраля – назначение Е. Ф. Керна комендантом Смоленска. Конец сентября – отъезд отца с сестрой в Малороссию, переезд в меньшую квартиру в том же доме. 7 октября – возвращение Дельвигов из Харькова. 19 октября – встреча на квартире Дельвига с Пушкиным, получение от него в подарок книги «L l Achilleide et les Sylves de Stece».
Зима 1828/29 – стихотворение А. И. Подолинского, адресованное А. П. Керн.
1829, начало весны – проживание на даче у Крестовского перевоза, снятой Дельвигами.
14 апреля – Е. Ф. Керн произведён в генерал–лейтенанты. 28 июня – 1 июля – путешествие вместе с Дельвигами, О. М. Сомовым, М. И. Глинкой и А. Я. Римским–Корсаковым на водопад Иматра.
Август – возвращение в Петербург и поселение на Васильевском острове, вдали от Дельвигов, встречи с которыми с тех пор становятся редкими.
2 октября – на странице рукописи А. С. Пушкин рисует профиль
А. П. Керн.
1830, 30 января – выдача отцу доверенности на право владения своей долей завещанных бабушкой деревни Кушниково и денежного капитала.
1830—1832 – увлечение Флоранским.
1831, 14 января – смерть А. А. Дельвига.
1832, 2 марта – смерть матери.
1833, август – смерть младшей дочери Ольги.
1834, апрель – начало заботы о кузене А. В. Маркове–Виноградском, учившемся в 1–м Кадетском корпусе.
1835, сентябрь – занятие переводами Ж. Санд.
1836, март – окончание дочерью Екатериной Смольного института.
10 августа – письменное обращение к Николаю I с просьбой о материальной помощи.
Август—сентябрь – выдача по царскому повелению 2 тысяч рублей, Е. Ф. Керн получил письмо с указанием на необходимость содержать жену.
13 ноября – ответ генерала Керна государю с обвинениями в адрес жены.
1837 – проживание на 14–й линии Васильевского острова в доме 28.
27января – смертельное ранение А. С. Пушкина на дуэли с Дантесом.
29 января – кончина А. С. Пушкина.
1 февраля – присутствие с дочерью Екатериной на отпевании Пушкина в Конюшенной церкви.
17 ноября – отставка 72–летнего Е. Ф. Керна «с мундиром и полным пенсионом» и переезд его в Петербург.
24 декабря – смерть Д. П. Марковой–Виноградской.
Конец года – начало близких отношений с А. В. Марковым–Ви–ноградским.
1838 – создание И. Жереном карандашного портрета А. П. Керн.
1839 – проживание в Петербурге на Петроградской стороне на Дворян–ской улице, в маленькой квартире на первом этаже. Окончание А. В. Марковым–Виноградским Кадетского корпуса и поступление в артиллерийское училище.
28 апреля – рождение сына Александра в селе Мацковцы Лубен–ского уезда.
1840 – А. В. Марков–Виноградский определён на службу в 7–ю ар–тиллерийскую бригаду, базировавшуюся в Полтавской губернии.
Создание А. Арефовым–Багаевым портрета А. П. Керн. 10 августа – переезд с годовалым сыном и дочерью из Петербурга в Лубны.
1841, 8 февраля – смерть Е. Ф. Керна.
1842, 26 апреля – выход А. В. Маркова–Виноградского в отставку в чине подпоручика, начало его управления имением тестя Лучка.
25 июля – венчание в Лубнах с А. В. Марковым–Виноградским. 1844, начало – продажа П. М. Полторацким имения Лучка.
20 февраля – переселение с семьёй в Сосницы.
1846, 20 марта (по 1851) – служба А. В. Маркова–Виноградского заседателем в Сосницком уездном суде. 1848, начало – поездка в Прилуки к Коленковым.
1850, 8 февраля – 3 марта – поездка А. В. Маркова–Виноградского в Тверскую губернию: в имения Митино к сестре Елизавете и Пря–мухино к Бакуниным.
1851, 7 июня – получение А. В. Марковым–Виноградским должности попечителя хлебных магазинов Сосницкого уезда.
Август – поездка А. В. Маркова–Виноградского с сыном в Пря–мухино.
1852, 11 января – свадьба Е. В. Марковой–Виноградской с А. А. Бакуниным и поселение её в Прямухине.
Конец августа – остановка императора Николая I проездом в Лубнах в доме Полторацкого.
1853, 5 мая – смерть в Прямухине Е. В. Бакуниной.
9—31 мая – поездка А. В. Маркова–Виноградского с сыном на похороны сестры. 1854 – свадьба дочери, Е. Е. Керн, и М. О. Шокальского.
Конец года – получение А. В. Марковым–Виноградским места домашнего учителя детей князя С. А. Долгорукова.
1855, 24 января – переезд с семьёй в Петербург.
1856, 17 октября – рождение внука Юлия.
1857, 3 февраля – смерть М. И. Глинки.
30 сентября – после отъезда за границу князя С. А. Долгорукова семейство Марковых–Виноградских осталось без источников доходов.
1858, январь – продажа А. В. Марковым–Виноградским имения в Со–сницах.
21 февраля – получение А. В. Марковым–Виноградским места в Департаменте уделов с годовым окладом в 600 рублей. Работа над «Воспоминаниями о Пушкине».
1859, апрель – публикация «Воспоминаний о Пушкине» в журнале «Библиотека для чтения».
8 апреля – смерть П. А. Осиповой.
Апрель—май – переписка Анны Петровны с П. В. Анненковым. Июнь—июль – переезд в дом Казакова на углу Знаменской и Итальянской улиц.
Середина года – знакомство с Н. Н. Тютчевым и его семьёй. 1860 – назначение А. В. Маркова–Виноградского столоначальником в
Комитете для пересмотра Свода удельных постановлений. 1861, лето – поездка с мужем в Баден.
20ноября – 18 декабря – ведение дневника в форме писем
С. Н. Цвету.
1862 – назначение А. В. Маркова–Виноградского секретарём Общего присутствия Департамента уделов.
Поездка А. В. Маркова–Виноградского на лечение в Баден.
1864, 3 февраля – визит И. С. Тургенева.
Конец года – публикация в журнале «Семейные вечера» (1864. № 10) «Воспоминаний о Пушкине, Дельвиге и Глинке».
1865, лето – поездка с мужем на лечение в Швейцарию.
20 ноября – А. В. Марков–Виноградский вышел в отставку.
1866, лето – проживание с семьёй в Тверской губернии, в гостях у Львовых в Митине и у Понафидиных в Курово–Покровском.
1867 – проживание с мужем, дочерью и внуком Юлием в Ковно.
1868, 13 августа – переезд с мужем в Киев к брату П. П. Полторацкому, а дочери с внуком – в Петербург.
1869 – проживание в Киеве у В. Д. Рокотова.
Январъ—февралъ – знакомство с певцом Ф. П. Комиссаржевским. 4 апреля – переезд в Лубны в усадьбу Полторацких. Сентябръ – опубликование в журнале «Семейные вечера» (№ 8 за 1868 год) отрывка из воспоминаний А. В. Маркова–Виноград–ского о его детских годах под названием «Из записок и журнала неизвестного человека».
1 октября – переезд в квартиру Середина–Сабатини. Осенъ—зима – диктовка мужу воспоминаний «Три встречи с императором Александром Павловичем».
Зима – проживание в усадьбе П. П. Полторацкого Яблоново под Лубнами.
1870, весна (до 14 мая) – поездка с мужем в тверское имение Львовых Митино. Публикация в журнале «Русская старина» (1870. № 3) воспоминаний «Три встречи с императором Александром Павловичем».
Лето – проживание в имении племянника Д. К. Квитки Березо–точи.
22 октября – окончание работы над последними воспоминаниями «Сто лет назад» и отсылка их в «Русскую старину» (напечатаны в 1884 году в № 18, 19, 22, 24, 25 журнала «Радуга» и в № 3 «Русского архива» под названием «Из воспоминаний о моём детстве»).
1871, весна – продажа М. И. Семевскому девяти писем Пушкина за 45 рублей.
30 июля – женитьба сына Александра на Е. В. Аксамитной.
1873, февралъ – назначение А. В. Маркову–Виноградскому денежного пособия от Департамента уделов в сумме 300 рублей в год.
18 ноября (по 25 мая 1874) – проживание в гостях у барона Менг–дена в Ромнах.
1874, конец мая – переезд в Березоточи.
20 августа – рождение внучки Аглаи.
1 ноября – переезд в Лубны в дом Е. И. Шлихтер.
1876, август – смерть брата П. П. Полторацкого.
1877, 2 августа – переезд из Лубен в Москву, поселение в квартире № 20 на верхнем этаже трёхэтажного дома Гуськовых на углу улиц Тверской и Грузинской.
1878, 6 апреля – присылка Н. Н. Тютчевым денежного пособия.
19 апреля – поездка по приглашению родственников в Торжок, поселение на съёмной квартире.
15 мая – переезд в Торжке в дом протоиерея Бравчинского.
Лето – визиты многочисленных родственников.
28—30 сентября – поездка А. В. Маркова–Виноградского в Пря–мухино.
13 октября – переезд на жительство в Прямухино. 3 декабря – поездка А. В. Маркова–Виноградского и А. А. Бакунина в Торжок, простуда на обратном пути.
23 декабря – диктовка последнего письма (А. Н. Вульфу).
25 декабря – обострение хронической желудочной болезни А. В. Маркова–Виноградского.
1879, 23 января – последняя запись в дневнике Маркова–Виноградского.
28 января, в 2 часа ночи – смерть А. В. Маркова–Виноградского от рака желудка.
29 января – приезд в Прямухино сына Александра.
1 февраля – похороны А. В. Маркова–Виноградского в Прямухи–не в семейном склепе Бакуниных.
2 февраля – отъезд с сыном через Торжок в Москву.
27 мая – кончина в Москве в меблированных комнатах от паралича в возрасте 79 лет.
1 июня – похоронена на погосте Прутня, на семейном кладбище Львовых Новоторжского уезда Тверской губернии.
БИБЛИОГРАФИЯ
Александрова О. Над страницами «Ахиллеиды» // Альманах библиофила. Вып. XXIII. Венок Пушкину. М., 1987. Алтаев Ал. Памятные встречи. М., 1955.
Аронсон М, Рейсер С. Литературные кружки и салоны. СПб., 2001. Балязин В. Н. Император Александр I. М., 1999. Бартенев П. И. С. А. Соболевский про мадам Керн // Русский архив. 1884. № 6.
Библиография пушкинской библиографии. 1846—2001. СПб., 2001. Быт пушкинского Петербурга: Опыт энциклопедического словаря. СПб., 2003—2005. Т. 1—2.
Василъев Б. А. Духовный путь Пушкина. М., 1994.
Вацуро В. Э. С. Д. П.: Из истории литературного быта пушкинской
поры. М., 1989.
Вересаев В. В. Пушкин в жизни. М., 2001. Т. 1—2. Вересаев В. В. Спутники Пушкина. М., 2001. Т. 1—2. Вересаев В. В. Тебе один остался друг // Про любовь и не только. 1994. № 1/12.
Веселовский С. В. Предки и потомки А. С. Пушкина в истории. М., 1990.
Военная галерея 1812 г. СПб., 1912.
Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия. Именные списки. 1769—1920: Библиографический справочник. М.,
2004.
Волъперт Л. И. Загадка одной книги из библиотеки Пушкина (Пометы на романе Ю. Крюденер) // Пушкинский сборник: Учёные записки ЛГПИ им. А. И. Герцена. Псков, 1973.
Временник Пушкинской комиссии. Вып. 29. СПб., 2004.
Таевский В. ДДельвиг // Современник. 1853. Т. 37. № 2.
Галерея мастеров Малого театра. М., 1935.
Талушко Т. К. Пушкин и братья Раевские (К истории отношений) // Пушкин. Исследования и материалы. Л., 1989. Т. XIII.
Терасимов В. «Я помню чудное мгновенье…» // Правда. 1978. 10 февраля.
Тлинка М. И. Письма и документы. Литературное наследие. М.; Л.,
1952—1953. Т. 1—2.
Тордин А. М. Пушкин в Псковском крае. Л., 1970. Трановская Н. И. Вольноотпущенный госпожи Колзаковой // Нева. 1985. № 2.
Трановская Н. И. Друзья Пушкина в портретах крепостного художника Акима Арефова–Багаева // Временник Пушкинской комиссии. 1974. Л., 1977.
Троссман Л. ДПушкин в театральных креслах. СПб., 2005.
Тубер П. К. Дон–Жуанский список Пушкина. М., 1990.
Тузевич Д. Ю., Тузевич И. Д. Пётр Петрович Базен (1786—1838). СПб., 1995.
Тусляров Е. И жизнь, и слёзы, и любовь // Простор. 1988. № 4. Два века с Пушкиным: Материалы об А. С. Пушкине в фондах Отдела рукописей Российской национальной библиотеки: Каталог. СПб., 2004.
Делъвиг А. А. Полное собрание стихотворений. Л., 1959.
Денисенко С. В., Фомичёв С. А. Пушкин рисует. Графика Пушкина. СПб., 2001.
Дружников Ю. Узник России. М., 1997.
Друзья Пушкина: Переписка. Воспоминания. Дневники: В 2 т. М., 1986.
Жизнь Анны Петровны Керн, рассказанная ею самой и её современниками / Сост. Н. А. Лопатина // Краеведческий альманах. Торжок, 2006. № 6.
Жизнь Пушкина: Переписка. Воспоминания. Дневники: В 2 т. М., 1988.
Жуйкова Р. Г.Портретные рисунки Пушкина: Каталог атрибуций. СПб., 1996.
Зарин А. Е. Увлечения А. С. Пушкина. СПб., 1901. Иванов Вс. Н. Александр Пушкин и его время. Историческое повествование. М., 1977.
Карваль Л. А. Рисунки Пушкина как графический дневник. М., 1997.
Кашкин Н. Н. Родословные разведки / Под ред. Б. Л. Модзалевского. СПб., 1912. Т. 1—2.
Кашкова В. Ф. «Я к вам лечу воспоминаньем…». Тверь, 1997. Керн А. П. Воспоминания / Вступ. ст. Ю. Н. Верховского. Л., 1929. Керн А. П. Воспоминания. Дневники. Переписка. М., 1989. Керцелли Л. «Что за прелесть эти уездные барышни…»//Огонёк. 1982. № 6.
Керцелли Л. Ф. Мир Пушкина в его рисунках. М., 1988.
Кишкин Л. С. Чехословацкие находки: Из зарубежной Пушкинианы. М., 1985.
Краеведческий альманах. Торжок, 2001. № 2.
Лажечников и Тверской край: Сборник. Тверь, 2005.
Лебедева Э. Вдохновительница поэта // Нева. 1986. № 6.
Левашова О. Е. Музыка в кружке А. А. Дельвига (Из истории музыкально–общественной жизни пушкинской эпохи) // Вопросы музыкознания. М., 1956.
Левкович Я. Л. Автобиографическая проза и письма Пушкина. Л., 1988.
Лермонтовская энциклопедия. М., 1999.
Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина: В 4 т. М., 1999.
Любовные похождения и военные походы А. Н. Вульфа. Дневник 1827—1842 годов. Тверь, 1999.
Любовный быт пушкинской эпохи. М., 1994. Т. 1—2.
Майков Л. Н. Пушкин. Биографические материалы и историко–литературные очерки. СПб., 1899.
Милорадович В. П. Житьё–бытьё лубенского крестьянина. Киев, 1904.
Милорадович В. П. К вопросу о колонизации Посулья в XVI и XVII веках. Киев, 1899.
Милорадович В. П.Лесная Лубенщина: Историко–этнографический очерк. Киев, 1900.
Милорадович В. П. Степная Лубенщина. Киев, 1900.
Милорадович Г. А. Родословная книга Черниговского дворянства. СПб., 1901. Т. 1—2.
Милорадович Г. А. Список губернских и уездных предводителей дворянства Черниговской губернии. 1782—1893 гг. Чернигов, 1893.
Миниатюра из собрания Всероссийского музея Пушкина. СПб., 1996.
Михайлова А. К., Хитрово Л. К. А. П. и А. В. Марковы–Виноградские и их окружение. По страницам «Записок» А. В. Маркова–Виноградско–го // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома. 2002. СПб., 2006.
Модзалевский Б. Л. К биографии М. И. Глинки // Музыкальная летопись. Л., 1923. Вып. II.
Модзалевский Б. Л. Пушкин и его современники. Избранные труды (1898—1928). СПб., 1999.
Незеленов А. И. Александр Сергеевич Пушкин в его поэзии. СПб., 1903.
Никитенко А. В. Дневник. Л., 1955. Т. 1. Оленина А. А. Дневник. Воспоминания. СПб., 1999. Отечественная война 1812 года: Энциклопедия. М., 2004. П. В. Анненков и его друзья. СПб., 1892. Т. 1.
Павлищев Л. Н. Из семейной хроники: Воспоминания о Пушкине // Семейные предания Пушкиных. СПб., 2003.
Панфилов Д. Т. Анна Петровна Керн, которую мы не знали // А. С. Пушкин в Подмосковье и Москве: Материалы IX Пушкинской конференции, посвященной 200–летию со дня приезда Пушкина в усадьбу Захарово. 16—17 октября 2004 г. Большие Вязёмы, 2005.
Певзнер Л. Рисунки Пушкина // Наше наследие. 1989. № 6.
Переписка А. С.Пушкина. М., 1982. Т. 1—2.
Перкин Е. Н. Люди Александровской эпохи на портретах О. А. Кипренского. М., 2004.
Петербургские встречи Пушкина. Л., 1987.
Письма Анны Николаевны Вульф к баронессе Е. Н. Вревской и П. А. Осиповой // Пушкин и его современники. Пг., 1915. Вып. 21/22.
Письма женщин к Пушкину с приложением воспоминаний о Пушкине. М., 1928.
Поэты пушкинского круга. М., 1983.
Прийма Ф. Я. Пушкин и кружок А. Н. Оленина // Пушкин: Исследования и материалы. М.; Л., 1958. Т. 2.
Приютинский сборник. № 1—3. СПб., 1999—2002.
Пружанский А. М. Отечественные певцы. 1755—1917: Словарь. М., 1991. Т. 1.
Пушкин в переписке родственников / Публикация В. Враской // Литературное наследство. М., 1934. Т. 16—18.
Пушкин и его современники: Материалы и исследования. Вып. 26—27. Пг., 1915.
Пушкин и Торжок: Сборник статей. Тверь, 2002.
Пушкин А. С. Письма / Ред. и прим. Б. Л. Модзалевского. Т. 1, 2. М.; Л., 1928.
Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: В 10 т. М., 1962—1966. Пушкин А. С. Собрание сочинений / Под ред. С. А. Венгерова. СПб., 1909. Т. III.
Пушкинская энциклопедия. М., 1999.
Пушкинский музеум: Альманах. СПб., 1999. Вып. 1.
Русские писатели. 1800—1917: Биографический словарь. М., 1989– 1994. Т. 1—4.
Русские портреты XVIII и XIX веков: Иллюстрированный справочник–путеводитель. М., 2003.
Русский биографический словарь. СПб., Пг., 1896—1918. Т. 1—25. Русский провинциальный некрополь. М., 1914. Т. 1.
Рябцев Е.А. 113 прелестниц поэта. Ростов н/Д., 2004.
Салимов А. М., Салимова М. А. В поисках пушкинской гостиницы. Торжок—Тверь, 2003.
Семанова М. Л. Лирические стихотворения Пушкина о любви // Се–манова М. Л. Творческая история произведений русских писателей. М.,
1990. Семевский М. И. Прогулка в Тригорское. Псков, 1999.
Серков А. И. Русское масонство: Энциклопедический словарь. М., 2001.
Синдаловский Н. А. Пушкинский круг. Легенды и мифы. М., 2007. Скатов Н. Н. «Гений чистой красоты» // Литература в школе. 1992. №2.
Словарь русских генералов, участников боевых действий против армии Наполеона Бонапарта в 1812—1815 гг. // Российский архив. М., 1996. Т. VII.
Смирнов–Сокольский Н. Рассказы о книгах. М., 1959. Соколовский Е. М. 50–летие Института Корпуса инженеров путей сообщения. СПб., 1859.
Сочинения П. А. Плетнёва. СПб., 1885. Т. 1.
Справочник по истории дореволюционной России / Под ред. П. А. Зайончковского. М., 1978.
Сысоев В. И.Бакунины. Тверь, 2002. Театральная энциклопедия. М., 1965. Т. 4. Тимофеев Л. В. В кругу друзей и муз. Л., 1983.
Томашевский Б. В., Шлионский Л. И., Назарова Л. Н., Медер–ский Л. А. Пушкинский Петербург. СПб., 2000.
Тургенев И. С. Полное собрание сочинений и писем. Письма. М., 1963. Т. 5.
Тынянов Ю. Н. Пушкин и его современники. М., 1968.
Фарыно Е. «Я помню чудное мгновенье…» А. С. Пушкина//Учебный материал по анализу поэтических текстов. Таллин, 1982.
Фёдоров С. И. По следам легенд и утрат. Орёл, 1993.
Фёдоров Ф. П.Пространственно–временная структура стихотворения А.С.Пушкина «К***» («Я помню чудное мгновенье…»)//Пушкин и русская литература: Сборник трудов Латвийского государственного университета. Рига, 1986.
Фризман Л. Г.Семинарий по Пушкину. Харьков, 1995.
Хроника жизни и творчества А. С. Пушкина: В 3 т. 1826—1837. М., 2000—2001.
Цявловский М. А. Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина. 1799—1826. 2–е изд. Л., 1991.
Черейский Л. В доме Анны Керн // Нева. 1972. № 7. Черейский Л. А. Пушкин и его окружение. Л., 1989. Чижова И. Б. «Души волшебное светило…». Л., 1988. Чудинов В. А. Тайнопись в рисунках А. С. Пушкина. М., 2007. Шубин В. Ф. Поэты пушкинского Петербурга. Л., 1985. Щербаченко В. И. Белгородская пушкиниана. Минск, 1997. Эткинд Е. Г. Симметрические композиции у Пушкина. Париж, 1988.
Я ехал к вам…: Сборник статей о пребывании А. С. Пушкина на Старицкой земле. Тверь, 1997.
Комментарии
1
Тайный советник – гражданский чин III класса (здесь и далее чины приводятся по Табели о рангах 1722 года), соответствовавший воинскому чину генерал–лейтенанта.
(обратно)2
Капитан–поручик гвардии – воинский чин VIII класса, соответствовавший армейскому чину майора.
(обратно)3
Бригадир – армейский чин V класса, располагавшийся между полковником и генералом.
(обратно)4
Гражданский чин IV класса, соответствовавший воинскому чину генерал–майора.
(обратно)5
Понафидины: Павел Иванович (1784—1869) и его супруга Анна Ивановна, урожденная Вульф (1784—1873), их дети – Иван (родился в 1817 году), Михаил (1818), Николай (1819), Анна (1820), Екатерина (1822), Наталья (1824).
(обратно)6
Привилегии на изобретение (теперь они называются патентом) закрепляли за автором монопольное право на пользование им в течение определённого времени, оговорённого в этом документе, устанавливали запрет на его применение другими лицами, а также представляли автору право продавать его.
(обратно)7
Голландский червонец – «золотая монета [достоинством] около трёх рублей на серебро» (В. И. Даль).
(обратно)8
«Записки» Александра Васильевича Маркова–Виноградского, которые он вёл с 28 апреля 1840 года по 28 января 1879 года, составляющие 33 тетради большого формата, хранятся в Рукописном отделе Пушкинского Дома, и в данный момент, как упоминалось в предисловии, готовятся к публикации научными сотрудниками отдела Л. К. Хитрово и А. К. Михайловой.
(обратно)9
«Октавия» – роман Анны Марии Портер; «Фелиция и Флорестина» (фр.).
(обратно)10
Стефани Фелисите Жанлис (1746—1830) – французская романистка и автор нравоучительных книг для детей, пользовавшаяся в начале XIX века большой популярностью в России.
(обратно)11
Франсуа Гийом Дюкре–Дюмениль (1761 – 1819) – французский романист сентиментального направления.
(обратно)12
Кстати, в это время (до 22 июля 1817 года) командовал 37–м егерским полком и проживал в Сосницах будущий декабрист, полковник Михаил Александрович Фонвизин, под его руководством служил (до 1 февраля 1818 года) штабс–капитан Иван Дмитриевич Якушкин, один из основателей Союза спасения, в будущем – член Союза благоденствия, участник подготовки восстания в Москве в декабре 1825 года. В 1816 году Якушкин именно в Сосницах принял Фонвизина в члены Союза спасения. Как знать, возможно, они тоже входили в число обожателей Анны Полторацкой?
(обратно)13
В XVIII веке существовала практика записи в полки дворянских детей, числившихся в долгосрочном отпуску и получавших чины за выслугу лет. Она была прекращена только при Павле I.
(обратно)14
Прусская королева Луиза, признанная европейская красавица, посетила Петербург в 1808 году.
(обратно)15
Леонтий Васильевич Дубельт (1792—1862) в описываемое время был подполковником, адъютантом Н. Н. Раевского, впоследствии (с 1835 года) являлся начальником штаба корпуса жандармов, а с 1839 года – управляющим Третьим отделением собственной Его Императорского Величества канцелярии. Его невеста, а с 1818 года жена Анна Николаевна, в девичестве Перская (1800—1853), в это время тоже жила с родителями в Киеве и часто бывала в доме Раевского. Родовое имение Перских Ры–скино находилось в Тверской губернии. В 1853 году сын Л. В. и А. Н. Дубельтов Михаил стал первым мужем дочери А. С. Пушкина Натальи.
(обратно)16
Фролова – вероятно, Елизавета Михайловна Фролова–Багреева (1799—1857) – единственная дочь графа М. М. Сперанского. В это время она проживала в Киеве у родственников умершей матери–англичанки, урождённой Стевенс. Она прекрасно владела английским, французским и немецким языками и впоследствии стала писательницей.
(обратно)17
Феодосия Петровна Полторацкая (?—1854) – младшая дочь Петра Фёдоровича, брата деда Анны Петровны М. Ф. Полторацкого. Воспитывалась в доме последнего, одно время была секретарём Агафоклеи Александровны и переняла от неё многие взгляды на жизнь. Впоследствии проживала в имении Сосницы.
(обратно)18
Состоять по армии – означало находиться не в отставке или в запасе, а в резерве, то есть в кадрах, но без должности.
(обратно)19
После возмущения, произошедшего в Семёновском полку 16—18 октября 1820 года, Александр Полторацкий был переведён в Бутырский пехотный полк капитаном. Однако незаживающая рана не давала ему возможности продолжать службу; он был вынужден, «состоя в комплекте», то есть продолжая числиться на службе, фактически проживать в тамбовском родительском имении Рассказово. 24 февраля 1822 года он был, наконец, уволен от службы «за совершенною неспособностью к оной по болезни», причём в чине капитана, без обычного в таких случаях производства в следующий ранг. Вскоре Александр Александрович женился на дочери тамбовского дворянина Андрея Васильевича Тулино–ва Елизавете (1803—1824). После смерти молодой супруги он на целых десять лет остался бездетным вдовцом. 30 апреля 1834 года А. А. Полторацкий женился вторично – на сей раз на предмете первой лицейской любви Пушкина Екатерине Павловне Бакуниной (1795—1869). У них родилось трое детей: Павел, Александр и Екатерина, однако первый сын вскоре после рождения умер. Всю оставшуюся жизнь Полторацкий прожил в Рассказове, избирался уездным предводителем дворянства.
(обратно)20
Древнегреческий историк Плутарх писал, что последней египетской царице Клеопатре, пожелавшей после поражения в войне с Римом принять смерть, в корзине, прикрытой цветами, принесли ядовитых змей, и она приложила их к груди.
(обратно)21
Анна Фёдоровна Фурман (1791—1850) – после смерти матери воспитывалась в доме Олениных. Ею был увлечён Н. И. Гнедич, К. Н. Батюшков посвятил ей несколько стихотворений. С 1816 года она жила в Дерпте у отца, в 1821 году вышла замуж за В. А. Оома.
(обратно)22
Мария Андреевна Мойер, урождённая Протасова (1793—1823) – дочь Екатерины Афанасьевны Протасовой, единокровной сестры Василия Андреевича Жуковского, предмет его многолетней любви и источник поэтического вдохновения. Её муж Иван Филиппович Мойер (1786—1858) являлся профессором хирургии Дерптского университета. Планируемую поездку к нему, якобы для лечения «аневризма», Пушкин хотел использовать для побега за границу вместе с Алексеем Вульфом.
(обратно)23
Фермуар – застёжка, пряжка, ожерелье; в данном случае, возможно, заколка для волос.
(обратно)24
От тех времён, когда Анна Петровна блистала на балах, сохранилась её бальная записная книжка с обложкой из слоновой кости, в которую она карандашом записывала кавалеров, ангажировавших её. Ныне она находится в экспозиции Государственного музея А. С. Пушкина.
(обратно)25
Дарья Петровна Маркова–Виноградская, урождённая Полторацкая (1780–е—1837) – двоюродная тётка и будущая свекровь Анны Петровны. Её муж, подполковник Василий Терентьевич Марков–Виноградский (1786—1828), в это время служил в Могилёвском пехотном полку, квартировавшем в Старом Быхове.
(обратно)26
Карл Людвиг Занд (1795—1820) – немецкий студент, в 1819 году со словами «вот изменник отечества!» заколовший кинжалом в Мангей–ме писателя Августа Коцебу, которого ошибочно считал автором «Записки о нынешнем положении Германии», направленной против университетской свободы. По приговору суда Занд был казнён, после чего стал объектом поклонения либерально настроенной молодёжи. А. С. Пушкин воспел его в стихотворении «Кинжал»:
О юный праведник, избранник роковой, О Занд, твой век угас на плахе; Но добродетели святой Остался глас в казнённом прахе. В твоей Германии ты вечной тенью стал, Грозя бедой преступной силе — И на торжественной могиле Горит без надписи кинжал. (обратно)27
Пьер Луи Лувель (1783—1820) – ремесленник, убивший 13 февраля 1820 года по политическим соображениям племянника французского короля Людовика XVIII, наследного принца герцога Карла Беррий–ского, за что был осуждён на смерть.
(обратно)28
Иван Матвеевич Рокотов (1782—1840–е) – богатый помещик, сын псковского губернского предводителя дворянства (1799—1802) Матвея Евстигнеевича Рокотова, поклонник всех тригорских дам, человек добродушный, но недалёкий. Имение Рокотовых Стехново находилось в 40 верстах от Тригорского на дороге в Остров.
(обратно)29
Benedetta (ит.) – блаженная.
(обратно)30
Анна Петровна ошиблась: к этому времени вторая глава «Евгения Онегина» ещё не вышла из печати (она появилась только в октябре 1826 года), и Пушкин мог вручить ей только первую главу, опубликованную в феврале 1825 года.
(обратно)31
Провиденциальность (от слова «провидение») – Промысел Божий, высшее помышление, предопределение, управление миром, вселенною, людьми и всею природою (В. И. Даль).
(обратно)32
Пометы под текстом автографа стихотворения «1825. Тригорское. 22. 23.» указывают на год, место написания и числа – не обозначен только месяц.
(обратно)33
Комендантский дом, в котором Е. Ф. Керн жил с возвратившейся из «побега» супругой, был снесён в 1970–х годах, а на его месте построено здание «Агропрома».
(обратно)34
Напомним, что А. П. Керн через П. А. Осипову приходилась дальней родственницей матери Пушкина.
(обратно)35
Этот трёхэтажный каменный дом на Фонтанке между Семёновским и Обуховским мостами ранее принадлежал тётке Анны Петровны Елизавете Марковне Олениной. Именно в нём произошла первая встреча нашей героини с Пушкиным.
(обратно)36
Илья Александрович Болтин (1795—1856) – приятель Е.А.Баратынского, А. А. Дельвига и Н. М. Коншина, с 1819 года служил в лейб–гвардии Уланском полку. В 1830 году он вышел в отставку подполковником и жил в своём имении в Холмском уезде Псковской губернии, в 1834 году имел чин коллежского асессора. Лев Сергеевич Пушкин в 1833 году проиграл ему в карты 10 тысяч рублей ассигнациями.
(обратно)37
Вероятно, имелся в виду не Александр Сергеевич, а Лев Сергеевич Пушкин – поэта в это время не было в Петербурге. Ошибку в имени мог допустить А. В. Марков–Виноградский, переписывавший рукопись воспоминаний Анны Петровны.
(обратно)38
Джон Филд (Field) (1782 —1837) – ирландский композитор и пианист. Более 30 лет прожил в России, преподавал и концертировал в Петербурге и Москве.
(обратно)39
«Он жил в гостинице Демута, – вспоминал К. Полевой, – где занимал бедный номер, состоявший из двух комнаток, и вёл жизнь странную. Оставаясь дома всё утро, начинавшееся у него поздно, он, когда был один, читал, лёжа в своей постели, а когда к нему приходил гость, он вставал, усаживался за столик с туалетными принадлежностями и, разговаривая, обыкновенно чистил, обтачивал свои ногти, такие длинные, что их можно назвать когтями. Иногда я заставал его за другим столиком – карточным, обыкновенно с каким–нибудь неведомым мне господином».
(обратно)40
«У них вы лавку перебили» – это позаимствованное и несколько переиначенное выражение из письма А. С. Пушкина к А. Г. Родзянко: «Не перебивай моей романтической лавочки».
(обратно)41
Александр Иванович Дельвиг (1810—1831) обучался сначала в Смоленском, затем в Московском кадетском корпусе, а после выпуска в 1828 году служил прапорщиком в лейб–гвардии Павловском полку, квартировавшем в Петербурге. В 1828—1830 годах он был постоянным посетителем литературного кружка своего кузена Антона Дельвига, публиковал в «Подснежнике» и «Царском Селе» свои повести, стихотворения и переводы. В 1831 году Александр Иванович в составе Павловского полка участвовал в подавлении Польского восстания, был ранен при штурме пригорода Варшавы и умер после ампутации ноги.
(обратно)42
Часто упоминавшаяся в дневнике А. Н. Вульфа Елизавета Петровна Полторацкая (около 1802 – после 1868) – средняя сестра А. П. Керн. Она воспитывалась в доме родителей в Лубнах, в 1827 году приехала с отцом в Петербург и прожила здесь вместе с Анной Петровной до сентября 1828 года. Елизавета была знакома с Пушкиным, но страстно влюблена в своего кузена Алексея Вульфа и находилась с ним в близких отношениях. Три последних месяца 1828 года она жила с матерью в Малинниках и Старице, где к ней неудачно сватался барон Меллер–Закомельский; затем уехала вместе с отцом в Лубны. В 1830 году её руки просил полтавский помещик А. С. Райзер, но замужество не состоялось по причине чахотки жениха. Впоследствии Е. П. Полторацкая вышла замуж за майора Решко.
(обратно)43
Святцы – месяцеслов, с полным означеньем на всяк день памяти святым (В. И. Даль).
(обратно)44
Написано в моём изгнании (фр.).
(обратно)45
Любовь, изгнание (фр.).
(обратно)46
Гиль – вздор, чепуха.
(обратно)47
Дмитрий Николаевич Барков (1796—1855) – поэт–дилетант, театральный критик и переводчик театральных пьес. Происходил из дворян Тверской губернии. Имение его отца, сельцо Никольское, находилось в Старицком уезде. В 1819 году, будучи поручиком лейб–гвардии Егерского полка, Д. Н. Барков являлся участником «Зелёной лампы». Он был членом Санкт–Петербургской масонской ложи Избранного Михаила. В 1823 году «по домашним обстоятельствам» Дмитрий Николаевич вышел в отставку с чином капитана, с 8 февраля 1826 года служил по ведомству Департамента внешней торговли Министерства финансов в Санкт–Петербургской таможне. Автор порнографических стихов Иван Барков (1732—1768) – его однофамилец.
(обратно)48
Дядя Анны Петровны Фёдор Маркович Полторацкий построил в центре Курска два доходных дома, в одном из которых располагалась гостиница.
(обратно)49
А. П. Керн допустила некоторую неточность в изложении стихотворения: оно начиналось со слов «А в ненастные дни…», а вторая строка содержала нецензурную фразу.
(обратно)50
Николай Иванович Павлищев (1802—1879) в 1829 году вместе с М. И. Глинкой издавал альманах «Лирический альбом на 1829 г.», сотрудничал в «Литературной газете» Дельвига. Он – автор первого русского перевода романов Манцони «Обручённые» (1831) и Фан дер Фельда «Патриции» (1830). B 1831 году Павлищев перевёлся в Варшаву управляющим канцелярией генерал–интенданта царства Польского. Оставшись здесь на 40 лет, он сделал солидную карьеру – дослужился до тайного советника и сенатора. Он является автором многих научных трудов: «Польская история», «Исторический атлас России», «Поездка в Червонную Русь», «Учебное руководство по географии», «Гербовник дворянских родов Царства Польского» в двух томах, «Польская анархия при Яне Казимире и война за Украину». В Варшаве Павлищев основал газеты «Русский Варшавский вестник» и «Польский всеобщий дневник». Николай Иванович сотрудничал в «Москвитянине» и «Северной пчеле».
(обратно)51
На Загородном проспекте в доме Кувшинникова.
(обратно)52
Валериан Платонович Лангер (1802—1870–е) был лицеистом второго курса (1814—1820). С ранних лет у него проявились способности к рисованию; уже в 1820 году он выпустил «Альбом двенадцати видов Царского Села», благодаря которому мы имеем представление об этом пригороде Петербурга и многих памятных местах пушкинской поры. После окончания Лицея Лангер поступил на службу в Министерство народного просвещения. В 1820—1830–х годах общался с Пушкиным и Дельвигом, посещал дельвиговские вечера и в качестве переводчика и художественного критика принимал участие в издании «Литературной газеты». Анна Петровна писала в воспоминаниях, что вместе с С. М.Дельвиг училась у Лангера итальянскому языку (в 1827 году он посетил Италию). Им выполнены шесть фронтисписов к «Северным цветам». Летом 1829 года он вместе с Дельвигами и Сомовым побывал в Финляндии на водопаде Иматра; результатом этой поездки стал превосходно исполненный альбом «Шесть видов Финляндии». С 1841 года Лангер являлся «почётным вольным общником» Академии художеств. В этом же году выпустил он труд «Краткое руководство к познанию изящных искусств, основанных на рисунке».
(обратно)53
Грузинский князь Дмитрий Алексеевич Эристов (1797—1858) также был воспитанником Царскосельского лицея (второго за пушкинским выпуска 1820 года). Он служил чиновником в Комиссии составления законов, затем – в образованном из неё Втором отделении собственной Его Императорского Величества канцелярии и одновременно – переводчиком в Канцелярии департамента Министерства юстиции, а потом – в морском министерстве; дослужился до чина тайного советника и должности генерал–аудитора флота. С 1828 года Эристов – постоянный посетитель дельвиговских вечеров, где вместе с М. Л. Яковлевым и самим Дельвигом исполнял романсы и песни, а также «делал разные штуки, фокусы», чревовещал. Он являлся автором многих эпиграмм и шуточных стихотворений; вместе с Яковлевым составил «Словарь о святых, прославленных в российской церкви», рецензию на который написал А. С. Пушкин и опубликовал без подписи в «Современнике» (1836. № 3). Академия наук удостоила этот словарь Демидовской премии.
(обратно)54
Михаил Лукьянович Яковлев (1798—1868), лицеист первого выпуска, большой весельчак и балагур, с лицейских времён имел прозвища «Паяц» и «Комедиант». Он известен как композитор–дилетант и певец: написал более двадцати романсов на стихи Пушкина и Дельвига, которые сам, имея хороший голос, и исполнял. Являясь постоянным посетителем литературных вечеров на квартире Дельвига, он на них не только пел, но показывал фокусы и чревовещал. Яковлев был хранителем лицейских традиций и архива первого курса Лицея, устроителем празднования годовщин 19 октября. По окончании Лицея он служил в Министерстве юстиции в Москве, затем перевёлся в Петербург, где занимал пост директора типографии Второго отделения собственной Его Императорского Величества канцелярии. Окончил жизнь М. Л. Яковлев тайным советником и сенатором.
(обратно)55
Сергей Дмитриевич Комовский (1798—1880), также однокурсник Пушкина и Дельвига по Лицею, запомнился всем своей навязчивостью и нестерпимо надоедливыми нравоучениями. Лицейские прозвища Комов–ского – «Лиса» и «Лисичка–проповедница». В 1829 году бывший однокурсник М. Л. Яковлев характеризовал его следующим образом: «Комов–ский – надворный советник, Анны 2 ст. и Владимира 4 ст. кавалер. На всех публичных гуляниях является в светло–гороховом сюртуке с орденскою лентою в петлице, а обыкновенно ездит в кабриолете на казённой водовозной лошади; впрочем, всегда добрый и услужливый товарищ». После окончания Лицея Комовский служил чиновником Департамента народного просвещения, затем правителем канцелярии совета Воспитательного общества благородных девиц (Смольного института) и дослужился до чина действительного статского советника. Он – автор воспоминаний о лицейских годах Пушкина. Поэт подарил Комовскому свою «Историю Пугачёвского бунта» с дарственной надписью.
(обратно)56
Князь Сергей Григорьевич Голицын (1803—1868) в обществе был известен под именем «Фирс», так как родился в День святого Фирса. Он приходился двоюродным братом В. А. Соллогубу. С 1825 года Голицын служил в Коллегии иностранных дел, имел придворный чин камер–юнкера. Потом он находился на военной службе, участвовал в Русско–турецкой войне 1828—1829 годов. По отзывам современников, Голицын выделялся среди тогдашней петербургской молодёжи. «Роста и сложения атлетического, – писал о нём Соллогуб, – весёлости неистощимой, куплетист, певец (обладал прекрасным басом), рассказчик, балагур, – куда он ни являлся, начинался смех, и он становился душою общества…» Сергей Григорьевич находился в дружеских отношениях с М. И. Глинкой, который написал на его слова романсы «Поцелуй», «Разочарование», «Забуду ль я», «Скажи, зачем…» и «К ней». Анекдот о его бабушке Наталье Петровне Голицыной и известной ей «тайне трёх карт», рассказанный Голицыным, Пушкин положил в основу сюжета «Пиковой дамы».
(обратно)57
Здесь намёк на то, что отец А. П. Керн владел горчичной фабрикой. Её продукцию в виде порошка он при каждом удобном случае привозил в Петербург. Возможно, и сама Анна Петровна у себя в квартире разводила горчицу.
(обратно)58
Андрей Иванович Подолинский (1806—1886) – поэт романтического направления, по выражению И. В. Киреевского, – «замечательнейший из подражателей Пушкина», в 1820—1830–х годах пользовался большой известностью. После окончания в 1824 году Благородного пансиона при Петербургском университете он служил секретарём при директоре Почтового департамента и принимал участие в литературных собраниях, проходивших у его сокурсника Римского–Корсакова. На этих собраниях бывали преподаватель русской словесности пансиона В. И. Кречетов, выпускники этого учебного заведения М. И. Глинка, И. И. Панаев и С. А. Соболевский. В 1829 году стал появляться на них и А. А. Дельвиг. Он, вероятно, и пригласил молодого поэта на свои литературные вечера. Здесь Подолинский познакомился с Пушкиным, Мицкевичем и другими выдающимися литераторами. Подолинский – автор поэм «Див и Пери» (1827), «Борский» (1829), «Нищий» (1830). После выхода последнего произведения Дельвиг опубликовал в «Литературной газете» резкую, обидно–насмешливую критику, после чего Андрей Иванович перестал бывать у него, а в 1831 году вообще покинул Петербург и переселился в Одессу. Некоторые исследователи приписывают ему авторство скандального, написанного «под Пушкина» порнографического стихотворения «Первая ночь брака». В 1837 году он напечатал сначала в «Библиотеке для чтения», а затем выпустил отдельным изданием поэму «Смерть Пери». Тогда же вышло двухтомное собрание его стихотворений и поэм. Анна Петровна Керн в течение многих лет поддерживала переписку с Подолинским.
(обратно)59
Стихотворение А. И. Подолинского «Портрет», записанное в 1828 году в альбом А. П. Керн и посвященное ей, было в 1829 году опубликовано в альманахе «Подснежник».
(обратно)60
Гурии Пророка – по Корану – вечно юные красавицы в мусульманском раю.
(обратно)61
В это время Пушкин обдумывал возможность поездки в Полтаву с целью навестить опального друга, соперничавшего с ним за благосклонность Е. К. Воронцовой, А. Н. Раевского. Младшая сестра Керн Елизавета жила в это время в Лубнах под Полтавой. Возможно, Пушкин, несмотря на высочайший запрет, и заезжал в Полтаву, однако свидетельств этому нет, а есть только косвенные намёки.
(обратно)62
Алексей Александрович Свечин родился в Твери. Детство его проходило в Торжке и в родовом имении Дубровка. По окончании Морского кадетского корпуса он начал служить на флоте, а в 1805 году перешёл на службу в лейб–гвардии Егерский полк. В звании подпоручика он принимал участие в антифранцузской кампании 1807 года, за проявленное мужество был награждён орденом Святого Владимира с бантом и золотой шпагой с надписью «За храбрость». В 1808—1809 годах поручик Свечин участвовал в Русско–шведской войне, 16 июля 1808 года за отличие получил орден Святого Георгия 4–й степени. (См.: Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия. Именные списки. 1769—1920: Библиографический справочник. М., 2004.) В начале Отечественной войны 1812 года лейб–гвардии Егерский полк, в котором служил штабс–капитан Свечин, входил в состав 5–го пехотного корпуса 1–й армии М. Б. Барклая–де–Толли, принимал участие в сражении за Смоленск, потом отошёл к Бородину. В Бородинском сражении полк потерял около половины личного состава; выбыли из строя тридцать офицеров, в том числе получивший ранение в ногу Свечин. Наградой за Бородино ему стал орден Святой Анны 2–й степени. После выздоровления капитан Свечин принял участие в Заграничном походе русской армии. За сражения под Лющеном и Бауценом он получил ещё один орден Святой Анны 2–й степени с алмазами и чин полковника. 28 февраля 1817 года Алексей Александрович стал командиром 19–го Егерского полка, через три года был произведён в генерал–майоры и назначен командиром бригады. Некоторое время он по семейным обстоятельствам находился в отставке – «с мундиром и пенсионом полного жалованья», а 5 января 1829 года вернулся на службу в качестве командира бригады. За участие в Русско–турецкой войне 1828—1829 годов и подавлении Польского восстания 1830—1831 годов он был награждён орденами Святой Анны 1–й степени и Святого Станислава 1–й степени.
(обратно)63
Корсак – Александр Яковлевич Римский–Корсаков, поэт, товарищ Глинки по Благородному пансиону при Главном педагогическом институте. В 1825—1826 годах Глинка жил с ним на одной квартире в доме Нечаевой на Загородном проспекте.
(обратно)64
Иван Екимович Колмаков – один из друзей Глинки, подинспек–тор Благородного пансиона, которого композитор называл «нашим утешением»: «Когда он появлялся, мы всегда приходили в весёлое расположение. Его забавные выходки, сопровождаемые морганием и странными ужимками, сделались известны многим, не знавшим его личности. Соболевский сочинил на него стихи, кои начинаются так:
Подинспектор Колмаков Умножает дураков; Он глазами всё моргает И жилет свой поправляет». (обратно)65
Глинка в «Записках» дал Алексею Григорьевичу Огинскому такую характеристику: «Переводчик Гольдсмита, Гиллиса и других английских историков, – муж учёный и трудолюбивый… Алексей Григорьевич был роста высокого, чрезвычайно лыс, лицо его несколько походило на обезьяну. Говорил он важно, протяжно, в нос, густым басом, причём воздвигал торжественно правую руку для большего убеждения слушателей».
(обратно)66
Интересно, что королеву Луизу в Пруссии величали почти теми же эпитетами, что и Пушкин Анну Петровну в знаменитом стихотворении: «божественное явление», «небесное видение».
(обратно)67
Варвара Петровна Полторацкая (ок. 1808 – между 1830 и 1868) – младшая сестра А. П. Керн, жившая в Лубнах. Вышла замуж за Константина Квитку, который, по словам А. В. Маркова–Виноградского, «хотя и умный, честный и добрый, но ревущий, кутящий, кашляющий зверь». Имение Квиток – хутор Березоточи в Лубенском уезде. Варвара Петровна родила четверых сыновей и дочь, но, по отзывам, мало занималась ими: «Добрейшая, ласковая, всегда улыбающаяся, … она была светская женщина и гостеприимная хозяйка. Она вся тратилась на гостей, и детям мало перепадало её доброты и теплоты».
(обратно)68
Дмитрий Николаевич Шереметев (1803—1871) – граф, известный благотворитель. В 1830–х годах служил в чине штаб–ротмистра, а затем ротмистра лейб–гвардии Кавалергардского полка. Дмитрий Николаевич находился в приятельских отношениях с А. С. Пушкиным; один из лучших портретов поэта, по преданию, был создан О. А. Кипренским в Шереметевском дворце на Фонтанке. Предпринятая во время болезни Д. Н. Шереметева в 1835 году попытка мужа его двоюродной сестры С. С. Уварова завладеть его имением послужила Пушкину темой для памфлета «На выздоровление Лукулла». С 1838 года Шереметев находился в отставке, но числился по Министерству внутренних дел. Первым браком он был женат на своей дальней родственнице, фрейлине императрицы Александры Фёдоровны Анне Сергеевне Шереметевой, а вторым – на Александре Григорьевне Мельниковой.
(обратно)69
Сестра Пушкина Ольга Сергеевна Павлищева в письме мужу от 31 августа 1835 года поведала о том, как жилось Софье Михайловне с новым супругом: «…говорят, что она очень счастлива, что живёт в деревне со своей свекровью и золовками, но дело в том, что она с мужем живёт как кошка с собакой и что он под предлогом посещения больных ездит по деревням и отсутствует целые месяцы; затем возвращается, делает сгоряча свою жену брюхатой и снова уезжает. Это мне брат сказал…» (Вероятно, Пушкин не мог простить, что она быстро забыла его любимого друга.) Однако по свидетельству их соседа по имению, музыканта и композитора Ю. К. Арнольда, Баратынские производили впечатление дружной, сплочённой семьи, «стоявшей на высоте интеллектуальной культуры». В 1866 году Софья Михайловна вторично овдовела. Скончалась она в Маре в возрасте 82 лет, до глубокой старости сохранив, по словам лично её знавшего профессора филологии Я. К. Грота, живой ум и горячее сердце.
(обратно)70
Третье февраля – день праведницы Анны Пророчицы. Кстати, в «Альбоме Онегина» есть запись: «День щастья – третье февраля».
(обратно)71
Пушкин, как известно, не проявлял интереса к творчеству Жорж Санд: в 1832 году он даже не включил её произведения в список новейших французских романов, о которых собирался писать статью. Поэт, вероятно, разделял принятое в петербургском светском обществе мнение о её вызывающе свободном поведении и нравственном облике. Единственное упоминание о ней встречается в его наброске «Мы проводили вечер на даче…»: «Этот предмет должно бы доставить маркизе Жорж Занд, такой же бесстыднице, как и ваша Клеопатра. Она ваш египетский анекдот переделала бы на нынешние нравы».
(обратно)72
Согласно «Книге адресов Санкт–Петербурга на 1837 год», Анна Петровна Керн в это время проживала на 14–й линии Васильевского острова в доме 28. На месте этого серого деревянного дома находится теперь дом 24.
(обратно)73
Борис Александрович Вревский (1805—1888) – однокашник Л. С. Пушкина и М. И. Глинки по Благородному пансиону при Главном педагогическом институте, отставной гвардейский поручик. Некоторое время он с молодой женой Евпраксией Николаевной жил в Петербурге; затем они переселились в Голубово – псковское имение Вревского, расположенное в восьми верстах от Тригорского. Анна Петровна, увидев Б. А. Вревского в 1836 году в Петербурге, куда он приехал вместе с Анной Николаевной Вульф, нашла его «даже лучше Поля» (его брата Павла).
(обратно)74
Григорий Иванович Лисенко (1784—1842) – племянник бабки А. В. Маркова–Виноградского Елизаветы Васильевны, урожденной Лисенко, сын дворянского заседателя Сосницкого нижнего земского суда Ивана Васильевича Лисенко и его жены Прасковьи Фоминичны, в девичестве Грановской. Родовое имение Лисенко – село Дягово – находилось в Сосницком уезде Черниговской губернии.
(обратно)75
Елизавета Васильевна Маркова–Виноградская (1827—1853) – сестра Александра Васильевича, с 11 января 1852 года —жена Александра Александровича Бакунина.
(обратно)76
Лев Николаевич Павлищев (1834—1915) – сын сестры А. С. Пушкина Ольги. После окончания юридического факультета Петербургского университета служил чиновником в Департаменте уделов, редактировал газету «Варшавский дневник». Его «Воспоминания о Пушкине» представляют собой компиляцию уже опубликованных материалов с частичными извлечениями из неопубликованной семейной переписки и добавлением собственных домыслов. Вполне вероятно, что и приведённый выше эпизод является его вымыслом; сам он по малолетству помнить этих событий не мог.
(обратно)77
Имеются в виду родственники Анны Петровны – Павел Петрович Полторацкий и Елизавета Петровна, в замужестве Решко.
(обратно)78
Напомним, что мать Александра Васильевича Дарья Петровна Маркова–Виноградская перед смертью завещала своей младшей сестре заботиться об оставшихся сиротами детях и управлять сосницким имением.
(обратно)79
Вероятно, имеется в виду Татьяна Борисовна Потёмкина, урождённая княжна Голицына (1801—1869) – сестра Софьи Борисовны, жены К. М. Полторацкого, игравшая видную роль в высшем свете.
(обратно)80
Вместо марлевых бинтов и ваты тогда для перевязки ран использовали разделённую на нити хлопковую или льняную ветошь – корпию; юная Анна Полторацкая занималась её щипанием.
(обратно)81
С конца 1860–х годов Анненков жил в основном за границей, только изредка приезжая в Россию для устройства своих дел. В это время он написал несколько весьма интересных статей о Пушкине: «А. С. Пушкин в Александровскую эпоху», «Литературные проекты А. С. Пушкина» и «Общественные идеалы А. С. Пушкина». Остальное его творчество представляет собой литературные воспоминания: «Замечательное десятилетие» (1838—1848) – о Белинском и литературном движении 1840–х годов, «Идеалисты 30–х годов» – о Герцене и Огарёве, «Художник и простой человек» – о Писемском, «Молодость Тургенева», «Шесть лет переписки с Тургеневым» и «Из переписки с Тургеневым».
(обратно)82
Семён Николаевич Цвет – свойственник Н. Н. Тютчева (муж его племянницы Екатерины Алексеевны Тютчевой). В 1861 году он принимал участие в плавании из Кронштадта в Японское море трёх русских корветов под началом адмирала А. А. Попова в качестве секретаря экспедиции, но за «либеральные речи» и протесты против телесных наказаний матросов был высажен в Англии и возвратился в Россию. Служа председателем Московской казённой палаты и будучи сам исключительно порядочным человеком, он удалял со службы всех, кто был неразумен или нечестен. Когда после очередной чиновничьей проверки Цвет был уволен, известие об этом всколыхнуло всю Москву.
(обратно)83
Пётр Александрович Ефремов (1830—1908) – публикатор и комментатор сочинений русских писателей, библиограф. Он разыскал и напечатал ряд затерянных или запрещённых текстов Пушкина, написал статью «Мнимый Пушкин в стихах, прозе и изображениях», в которой опроверг принадлежность поэту некоторых приписываемых ему произведений; редактировал пять изданий Собраний сочинений Пушкина (1880—1881, 1882, 1887, 1900, 1903).
(обратно)84
Вероятно, речь идет об «агрономической школе», которую упоминала О. С. Павлищева в письме сыну от 12 декабря 1866 года (см. ниже).
(обратно)85
Татьяна Сергеевна Львова (1822—1903) – дочь Татьяны Петровны (урождённой Полторацкой) и Сергея Дмитриевича Львова; была организатором, преподавательницей и попечительницей земской школы в деревне Владенино, дружила с писательницей Марко Вовчок.
(обратно)86
Фёдор Петрович Комиссаржевский (1838—1905) – певец, режиссёр, педагог, отец знаменитой русской драматической актрисы Веры Фёдоровны Комиссаржевской. В 1863—1880 годах он являлся солистом Ма–риинского театра, был первым исполнителем партий Дон Жуана («Каменный гость»), Самозванца, Синодала, Вакулы («Кузнец Вакула»), в 1882—1887 годах – служил профессором Московской консерватории. Фёдор Петрович был одним из основателей Общества искусства и литературы в Москве (1888).
(обратно)87
Детонировать – петь фальшиво (от фр. detonner – отклонение (повышение или понижение) звука от необходимой высоты).
(обратно)88
В 1872 году Александр Александрович служил в Одессе разъездным чиновником.
(обратно)89
Констанция Петровна де Додт умерла 18 декабря 1875 года.
(обратно)90
У Любови Львовны были от Павла Петровича дочери Любовь (родилась в 1862 году) и Вера (в 1868 году). Как пишет А. В. Марков–Виноградский, после смерти мужа вдова родила ещё трёх дочерей: от доктора Котлубовского, от Жадимировского и от офицера Бартеньева.
(обратно)91
Осип Андреевич Правдин (Оскар Августович Трейлебен) (1849– 1921) – актёр и педагог, из обрусевших немцев. На сцену впервые вышел в 1869 году; играл в полупрофессиональной труппе, возглавляемой М. Е. Рапопортом и Н. Е. Вельде, затем в профессиональном театре в Гельсингфорсе, Новочеркасске и Тифлисе. В 1875 году он дебютировал в Александринском театре, а с 1878 года состоял в труппе Малого театра. Игра Правдина отличалась жизненной достоверностью, он продумывал каждый жест, интонацию и деталь костюма своего персонажа, умел ярко представить его социальное и бытовое положение и национальное своеобразие. Особенно прославился он исполнением ролей «русских немцев», находя для них особую мелодию речи и своеобразные манеры (Шааф в пьесе Тургенева «Месяц в деревне», Остерзаузен в пьесе Сумбатова–Южина «Джентльмен»). Осип Андреевич с успехом сыграл роли Недыхляева («Кручина» Шпажинского), Тарелкина («Не было ни гроша, да вдруг алтын» Островского), Репетилова («Горе от ума» Грибоедова), Растаковского и Городничего («Ревизор» Гоголя), Кучумова («Бешеные деньги» Островского), Льва Гурыча Синичкина (одноимённая пьеса Ленского), Гарпагона и Сганареля («Лекарь поневоле» Мольера). Выступал он и как чтец. С начала 1880–х годов Прав–дин стал заниматься преподаванием: с 1889 года заведовал драматическими классами Музыкально–драматического училища Московского филармонического общества, в 1888—1893 годах преподавал на драматических курсах Московского театрального училища. С 1883 года он организовывал поездки артистов Малого театра по провинции, способствуя подъёму провинциального театра. В 1917 году он являлся управляющим Малым театром.
(обратно)92
Стукалка – азартная карточная игра.
(обратно)93
Дмитрий Дмитриевич Романов (1851 – 1916) – внук Татьяны Петровны Полторацкой. В 1877—1900 годах он состоял членом Новоторж–ской земской управы, являлся организатором кустарного отдела Ново–торжского земства и учебной золотошвейной мастерской.
(обратно)94
В Новоторжском Борисоглебском монастыре находились мощи его основателя святого Ефрема.
(обратно)95
Вероятно, Анна Петровна здесь имела в виду то же, что и А. М. Бакунин в дневниковых записях, относящихся к началу 1812 года: «…Уже Берново совсем не то, как при тётушке Анне Фёдоровне. Согласие между родных исчезло…» После смерти в 1810 году А. Ф. Муравьёвой, бабушки А. П. Керн, которая была душой берновского общества, атмосфера тамошней жизни изменилась; в Прямухине же и в 1879 году все жили душа в душу.
(обратно)96
Дважды (фр.).
(обратно)Примечания
1
Государственный архив Тверской области (далее – ГАТО). Ф. 645. Оп. 1. Ед. хр. 713.
(обратно)2
Цит. по: Орловские губернаторы. Орёл, 1998.
(обратно)3
Российский государственный исторический архив (далее – РГИА). Ф. 1285. Оп. 2. Ед. хр. 135.
(обратно)4
РГИА. Ф. 1281. Оп. 1. Ед. хр. 10.
(обратно)5
См.: Там же. Ед. хр. 25.
(обратно)6
ГАТО. Ф. 310. Оп. 1. Ед. хр. 18325.
(обратно)7
Рукописный отдел Российской национальной библиотеки (далее РО РНБ). Ф. 609. Ед. хр. 292.
(обратно)8
Российский государственный архив литературы и искусства (далее – РГАЛИ). Ф. 1337. Оп. 1. Ед. хр. 183.
(обратно)9
Там же.
(обратно)10
См.: Центральный государственный исторический архив Санкт–Петербурга. Ф. 19. Оп. 111. Д. 158. Л. 27.
(обратно)11
Михайловский–Данилевский А. И. Военная галерея Зимнего дворца. Император Александр I и его сподвижники в 1812, 1813, 1814 и 1815 годах. СПб., 1846.
(обратно)12
Gallet de Kulture A. Le Tzar Nicolas et la Sainte Russie. Paris, 1855.
(обратно)13
Цит. по: Вацуро В. Э. Пушкин и Аркадий Родзянка (Из истории гражданской поэзии 1820–х годов) // Временник пушкинской комиссии. 1969 г. Л., 1971.
(обратно)14
Распопов А. П.Встреча с А. С. Пушкиным в Могилёве в 1824 г. // А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1985. Т. 1. С. 399—401.
(обратно)15
Виноградов В. В. О стиле Пушкина//Литературное наследство. 1934. С. 16—18. С. 156—160.
(обратно)16
Томашевский Б. В. Пушкин. Книга вторая. Материалы к монографии (1824—1837). М.—Л., 1961. С. 336.
(обратно)17
См.: Анненков П. В. Материалы для биографии А. С. Пушкина. М.,1984. С. 153
(обратно)18
Степанов Н.Л. Лирика Пушкина. М., 1974. С. 301.
(обратно)19
Маймин Е. А. Пушкин. Жизнь и творчество. М., 1981. С. 96.
(обратно)20
Городецкий Б. П. Лирика Пушкина. М.—Л., 1962. С. 296—297.
(обратно)21
Белецкий А. И. Из наблюдений над стихотворными текстами Пушкина // Филологический сборник Киевского госуниверситета. 1953. С. 5. С. 90.
(обратно)22
Строганов М. В. Пушкин и Мадонна // А. С. Пушкин. Проблемы творчества: Межвузовский тематический сборник научных трудов. Калинин, 1987. С. 22.
(обратно)23
Фомичёв С. А. Поэзия Пушкина: творческая эволюция. Л., 1986.С. 100—101.
(обратно)24
См.: Грехнев В. А. Мир пушкинской лирики. Н. Новгород, 1994.С. 420—424.
(обратно)25
Чумаков Ю. Н. Стихотворение Пушкина «К***» («Я помню чудное мгновенье…»; форма как содержание) // Чумаков Ю. Стихотворная поэтика Пушкина. СПб., 1999. С. 346—355.
(обратно)26
Перфильева Л. А. «К***» («Я помню чудное мгновенье…») //Лирика Пушкина. Комментарий к одному стихотворению. М., 2006. С. 114—122.
(обратно)27
Бройтман С. Н. «Я помню чудное мгновенье…»: К вопросу о вероятностно–множественной модели в лирике Пушкина // Болдинские чтения. Н. Новгород, 1997. С. 72—78.
(обратно)28
Черняев Н. И. Послание «К А. П. Керн» Пушкина и «Лалла–Рук» Жуковского // Критические статьи и заметки о Пушкине. Харьков, 1900. С. 54.
(обратно)29
Тромбах С. М. «Всё в жертву памяти твоей» // Временник Пушкинской комиссии. Вып. 23. Л., 1989. С. 98—102.
(обратно)30
Вольперт Л. И. Пушкин в роли Пушкина. Творческая игра по моделям французской литературы. Пушкин и Стендаль. М., 1998.
(обратно)31
Тромбах С. М. «Цветы последние милей» // Временник Пушкинской комиссии. Вып. 23. С. 103—104.
(обратно)32
Л. С. Пушкин в кругу современников. СПб., 2005. С. 93.
(обратно)33
Афанасъев С. И. «Друзья мои…»//Временник Пушкинской комиссии. Вып. 29. СПб., 2004. С. 160.
(обратно)34
Строганов М. В. О Пушкине: Статьи разных лет. Тверь, 2003.С. 25—26.
(обратно)35
Полный текст мемуаров содержится в издании: Делъвиг А. Я.Пол–века русской жизни. Т. 1. М.—Л., 1930.
(обратно)36
См.: Карвалъ Л. А. Портрет Анны Керн //Христианская культура и пушкинская эпоха: Сборник статей. СПб., 1996. Вып. 11. С. 30—35.
(обратно)37
См.: Строганов М. В. О Пушкине. С. 26.
(обратно)38
РГАЛИ. Ф. 1337. Оп. 1. Ед. хр. 183.
(обратно)39
Варшавский дневник. 1880. 25 июля. № 159.
(обратно)40
Дневники А. Н. Вульфа были впервые опубликованы в сборнике: Пушкин и его современники: Материалы и исследования. Пг., 1915.
(обратно)41
Ахматова А. А. О Пушкине. Статьи и заметки. М., 1989. С. 224—225.
(обратно)42
Русский архив. 1872. Кн. 3, 4. С. 856—865.
(обратно)43
ГАТО. Ф. 645. Оп. 1. Ед. хр. 3673.
(обратно)44
Эфрос А. М. Пушкин–портретист. М., 1946. С. 179—183.
(обратно)45
См.: Старк В. ДПортреты и лица. Л., 1995.
(обратно)46
Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук (далее – РО ПД). Ед. хр. 14342. Т. 2.
(обратно)47
См.: Бойко С. А. «И вот опять явилась ты»: Неизвестный портрет А. П. Керн // Советский музей. 1984. № 4.
(обратно)48
Рукописный отдел Российской государственной библиотеки (далее – РО РГБ). Ф. 233. К. 6. Ед. хр. 75.
(обратно)49
РО ПД. Ф. Р. I. Оп. 12. Ед. хр. 42.
(обратно)50
Там же. Ф. 93. Оп. 4. Ед. хр. 22.
(обратно)51
РГИА. Ф. 577. Оп. 41. Ед. хр. 3561.
(обратно)52
Государственный архив Российской Федерации (далее – ГАРФ). Ф. 825. Оп. 1. Ед. хр. 292.
(обратно)53
ГАТО. Ф. 310. Оп. 1. Ед. хр. 54624.
(обратно)54
РГАЛИ. Ф. 318. Оп. 1. Ед. хр. 55.
(обратно)55
Письма С. Л. и Н. О. Пушкиных к их дочери О. С. Павлищевой. 1828—1835: Серия «Мир Пушкина». Т. 1. СПб., 1993. С. 175.
(обратно)56
Лотман Ю. М. Пушкин. СПб., 2005.
(обратно)57
А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 2.
(обратно)58
РО ПД. Шифр 27258.
(обратно)59
Там же. Шифр 27228.
(обратно)60
Там же. Шифр 27254.
(обратно)61
Там же. Шифр 27227.
(обратно)62
См.: Михайловский–Данилевский А. И. Указ. соч.
(обратно)63
См.: Письма М. И. Осиповой А. Н. Вульфу от 15.10. и 16.11.1843 г. // Л. С. Пушкин в кругу современников. С. 203.
(обратно)64
Письмо Л. С. Пушкина Е. А. Пушкиной от 19—20.09.1848 г. // Там же. С. 216.
(обратно)65
См.: РО ПД. Ф. Р. I. Оп. 2. № 410.
(обратно)66
См.: Там же. Ф. 16. Оп. 9. Ед. хр. 38.
(обратно)67
РО РГБ. Ф. 232. К. 3. Ед. хр. 23.
(обратно)68
РО ПД. Шифр 14340.
(обратно)69
Там же. Ф. 221. Оп. 2. Ед. хр. 6.
(обратно)70
РГАЛИ. Ф. 505. Оп. 1. Д. 204.
(обратно)71
А. К. Михайлова, Л. К. Хитрово, А. П. и А. В. Марковы–Виноград–ские и их окружение // Ежегодник РО ПД. 2002 год. СПб., 2006. С. 22.
(обратно)72
РГАЛИ. Ф. 505. Оп. 1. Д. 204, 205.
(обратно)73
Модзалевский Б. Л. Анна Петровна Керн: По материалам Пушкинского Дома//Любовный быт пушкинской эпохи. М., 1994. Т. 2. С. 67.
(обратно)74
См.: РГАЛИ. Ф. 612. Оп. 1. Ед. хр. 1294.
(обратно)75
РО ПД. Ф. 221. Оп. 2. Ед. хр. 6.
(обратно)76
РГАЛИ. Ф. 1337. Оп. 1. Ед. хр. 183.
(обратно)77
РО ПД. Ф. 16. Оп. 9. Ед. хр. 37.
(обратно)78
См.: ГАТО. Ф. 108. Оп. 1. Ед. хр. 56.
(обратно)79
См.: Документы, написанные М. Е. Салтыковым–Щедриным в защиту крестьян в период его службы тверским вице–губернатором (1860– 1862 гг.) // Из истории Калининской области: Статьи и документы. Калинин, 1960. С. 133.
(обратно)80
Пушкин и его современники: Материалы и исследования.Вып. 21—22. С. 395.
(обратно)81
РО ПД. Шифр 22922.
(обратно)82
Там же. Шифр 22920.
(обратно)83
Там же. Шифр 22922.
(обратно)84
См.: Неделя. 1880. № 34.
(обратно)85
В 1920–х годах директор Государственного литературного музея В. Д. Бонч–Бруевич обращался к Вере Павловне и Любови Павловне Полторацким, проживавшим в Лубнах, с просьбой сообщить имевшиеся у них сведения о пребывании А. П. Керн на Украине. Присланные ими воспоминания, хранящиеся в рукописи и нигде ранее не публиковавшиеся, приведены на страницах нашей книги. См.: РО РГБ. Ф. 869. К. 192. Ед. хр. 13
(обратно)86
РО ПД. Шифр 14319.
(обратно)87
ГАРФ. Ф. 825. Оп. 1. Ед. хр. 355.
(обратно)88
РО ПД. Шифр 22920.
(обратно)89
ГАРФ. Ф. 825. Оп. 1. Ед. хр. 355.
(обратно)90
РО ПД. Шифр 27251.
(обратно)91
Письма Н. Д. Романова к Б. Л. Модзалевскому / Публикация Л. К. Хитрово // Ежегодник РО ПД. 1996. СПб., 2001. С. 500.
(обратно)92
РГАЛИ. Ф. 612. Оп. 1. Ед. хр. 3061.
(обратно)


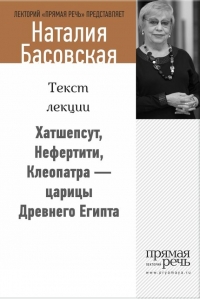
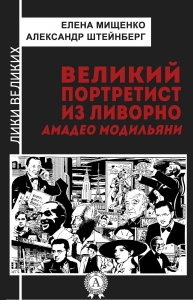

Комментарии к книге «Анна Керн: Жизнь во имя любви», Владимир Иванович Сысоев
Всего 0 комментариев