Н. Я. Эйдельман Вьеварум
ОТ АВТОРА
За последние годы мне посчастливилось немало путешествовать, пережить невероятные, по крайней мере для меня, приключения, познакомиться с удивительнейшими людьми.
Только путешествия, приключения и встречи увели меня на 150–200 лет назад: научные путешествия, научные приключения. Однако одному странствовать скучно, а рассказывать о своих странствиях — тем более. Вот почему хочется отправиться на охоту за историческими тайнами вместе с читателем, причем тайны эти будут не в дальних землях и тысячелетиях, а среди, казалось бы, давно знакомых людей и событий родной истории. Мы проникнем на секретные сходки декабристов и заглянем в зашифрованные страницы потаенных пушкинских стихов; вместе с учеником Чернышевского отправимся на край света, в Полинезию, а в поисках бесследно исчезнувших людей — в Забайкальские и Нерчинские рудники; мы спокойно прочитаем документ, некогда спрятанный в железный сундук Государственного архива, а после по высочайшей воле уничтоженный; наконец, признаемся и в том, что еще пока не всс знаем. Итак, в путь по едва протоптанным научным тропам, а по сторонам — неизвестность, манящая, но терпеливая.
ЕЩЕ ОТ АВТОРА
Книга называется «Вьеварум» в честь Вьеварума. Впрочем, о человеке с таким именем в книге ничего или почти ничего не будет. Почему же?
А потому, что ВЬЕВАРУМ — тайна, и книга — про научные тайны: автору кажется, что он имеет право поместить в заглавие такой книги любое загадочное, секретное, зашифрованное, таинственное слово; а Вьеварум к тому же совсем не чужой человек героям повествования, и в школьных учебниках истории о нем написано, и позже, может быть, мы вернемся к загадке самого Вьеварума, а пока что речь пойдет о средней школе, в которой когда-то учился автор и его ближайшие друзья…
Дело в том, что примерно с 9-го класса мы до одурения терзали друг друга викторинами или, как у нас выражались, "матчами на эрудицию" (после уроков выкрикивали вопросы-ответы, а на уроках конспирировали — писали).
— А ну-ка, братец, назови самое старое здание Москвы… Кремль? Врешь! Андроников монастырь на сто лет старше.
— Теперь скажи быстро: какая звезда — альфа Лебедя?
— Где и когда жил Черный принц? Разумеется, тоже не знаешь?
— Извини, позабыл, что такое таксофон. (Оказалось, что обычный телефон-автомат)
— А столица Мальдивских островов?
— Кто построил Эйфелеву башню? (Оказалось — Эйфель.)
Особенно много автор этих строк, собиравшийся в историки, сражался с другом-физиком под насмешки и презрительные шуточки будущего хирурга и при непременном судействе и личном вмешательстве будущего моряка Игоря.
Я не называю своих друзей по именам, за одним исключением. Нашего Игоря больше нет на свете. Сейчас пойдут воспоминания о прошедшем и давно прошедшем — те воспоминания, которые он очень любил и, наверное, прочитав, был бы доволен и припомнил бы ценные подробности. Но — не прочтет. И не припомнит.
Так вот, вернемся к тем временам, в которые игрались матчи на эрудицию. Воюющие стороны впервые устыдились и усомнились в ценности своих познании только тогда, когда историк выиграю у физика матч по астрономии, а физик, в свою очередь, реваншировался на Древнем Риме: в решающем раунде внезапно ошеломил противника и судью знанием того, что император Траян (98–117) был испанец (и откуда узнал и зачем это ему?).
В общем, бросили детские забавы, по мнению друга-хирурга, с некоторым опозданием… Но историк через несколько лет пришел учителем в школу, и все началось сызнова.
— А ну-ка, Валерик, вычисляй: от года Грюнвальдской битвы отнять год Куликовской и прибавить результат к дате открытия Америки Колумбом. Получил год, в котором — что было?
— Магеллан завершил первую кругосветку.
— Молодец! Пять с минусом: Магеллана ведь по дороге убили!
До сих пор несколько бывших отличников, а ныне солидных отцов и матерей семейств не могут простить мне один эпизод: была обещана пятерка, даже две пятерки сразу тому, кто установит самое важное в мире событие, происшедшее 7 июля 1810 года. Ребята перевернули справочники, притащили сведения об окончательном присоединении Голландии к наполеоновской империи, о смерти могучего мадагаскарского монарха Андрианам Пойнимерина; один даже прочитал "Санкт-Петербургские ведомости" и принес целый список происшествий, награждений и высочайших распоряжений.
— Нет, — говорю, — ребята, не эти события были самыми важными в тот день. 7 июля 1810 года, по сообщению Николая Васильевича Гоголя, поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем…
Так мы жили и шутили. Но даты на календаре прибавлялись, XXI век делался все ближе. Ребята вырастали, да и учитель начал задумываться: задачи, фокусы по датам — весело, но не слишком ли? Однажды принес в класс "Дерсу Узала".
— Вот, ребята, строки про нас с вами. Дерсу упрекает Арсеньева:
"Какой народ! — Так ходи, головой капай, все равно как дети. Глаза есть, посмотри нету".
— А мы при чем?
— Да ведь вам кажется ясным и простым множество вещей самых таинственных. Подумаешь, порадовали меня и родителей — выучили годы правления царя Хаммурапи! А вот скажите лучше, отчего полтора века назад в России за кратчайший срок появилась великая литература? Вам ясно, отчего? А мне вот многое неясно в этом необыкновенном взлете тогдашней культуры. И кстати, о других цивилизациях. Посмотрите-ка на карту: почему древнейшие культуры, первые государства — все расположились примерно между 20 и 40 градусами северной широты: Египет, Двуречье, Греция, Рим, Индия, Китай, Центральная Америка!.. К северу, говорите, было холодно и голодно? Но к югу от них еще теплее и зачастую обильнее; отчего же первые пирамиды не на экваторе?
И мы все вместе сетовали, что в учебниках рассказывается только об известном, найденном, безусловном. А я все больше убеждался, что отличная приправа к истине — это загадка, тайна. "Евгений Онегин" будет лучше освоен, если хорошо рассказать о зашифрованной десятой главе. Вольная печать Герцена будет лучше понята, если появятся тайные корреспонденты «Колокола», чьи имена мы не всегда знаем и сто лет спустя.
Как раз в эту пору наш Игорь из военного моряка превратился в океанолога и вернулся с Дальнего Востока. Лучшего слушателя и сочувствователя, чем он, не было и не будет. Поэтому именно ему я жалуюсь долго и нудно, что мало рассказываем и пишем про тайны и жить как-то не очень интересно.
А Игорь дарит мне ученую свою статью с солидным названием "Батиметрическая карта северо-западной части Тихого океана". Дарит и надписывает: "Много странного в этой работе — и открытия, и загадки, и вообще ее появление. Как раз для тебя…"
Потом Игорь много путешествовал на «Витязе», «Курчатове», «Менделееве» и время от времени подавал голос то из Занзибара, то "из Марианской впадины", то с Галапагосских островов.
Последний рейс его был, наверное, самым необыкновенным, о чем свидетельствовала, например, такая радиограмма: "Видел якорь Астролябии порту Вили прошли мимо Ваникоро на непуганой Эроманге были деревне идем Сидней…"
Названия эти нетрудно найти в любом приличном атласе, но разве мы не понимали, что Астролябия и Ваникоро — это из печального и еще до сей поры таинственного финала экспедиции Жана Лаперуза — путешествия, о котором мы так много толковали в далекие годы, когда еще не угасли матчи на эрудицию…
Тут как раз случилась осенняя "Неделя книги", в ходе которой автор, хирург и океанолог Игорь оказались по доброй воле за семь тысяч километров от дома, в известном приамурском «электрическом» городке Зея. Милейшая и добрейшая учительница Эрна Петровна сообщила, что первое выступление наше — в школе имени Пушкина. Мы, конечно, не против и возлагаем главные надежды на Игоря, обладателя роскошных цветных слайдов, запечатлевших его дальние плавания — от Сейшельских до Антильских островов… И вот нас вводят в большой зал, после чего цепенеем от ужаса: на скамейках множество ребят всех возрастов — от 1-го до 7-го класса включительно. Как же с ними объясняться? Ведь требуется по меньшей мере два разных языка!
Глядим, наш хирург нашел выход: он будет председательствовать, вести собрание, предоставлять слово… Неплохо! Смотрим на Игоря. Он шепчет на весь зал:
— Сейчас я по ним слайдами шарахну, но нужно минут пятнадцать сортировки, подготовки.
— А что ж ты раньше не отсортировал?
— Так кто ж знал, что такие шмакадявки наползут?
И тут хирургия объединяется с океанологией — кричат мне хором:
— Тяни время, загни что-нибудь — ты ведь учитель старый, опытный, а мы молодые, зеленые…
Оказываюсь на трибуне и что-то говорю… Друзья утверждают, будто я, хохотнув, закричал на детей:
— Вы — школа имени Пушкина?
Ребята замерли и ждали, что им за это будет.
— Так вот смотрите: кругом тайны, загадки, а вы не видите. А стоит обернуться (все оборачиваются) или присмотреться (присматриваются) — и везде обнаружатся следы самых древних и необыкновенных тайн!.. Вот три слова — школа имени Пушкина. (Соображаю, умеют ли первоклассники считать до трех.) «Школа» — чье слово? Древнегреческое… Это память о тех временах, когда делали уроки и получали пятерки и взбучку ребята такие же, как вы, но немного постарше… ну, скажем, на две или три тысячи лет. (Смех в зале, Игорь щелкает слайдами.) Приободрившись, продолжаю:
— Имени Пушкина, но Пушкин — это ведь не имя, а фамилия… Не правильнее ли было бы — школа фамилии Пушкина? Отчего же так не говорят?
Я забылся, задал риторический вопрос, и тут же поднялось сто пятьдесят рук, желавших объяснить, что имя было тогда, когда фамилии еще не было.
— Да-да, ребята… Имя… Например, если есть в зале Вася (старый, безошибочный прием), то это по-древнегречески «царь» (возня в зале — несколько Василиев отбиваются от льстивых придворных), а каждый Виктор — из Древнего Рима: победитель! (Несколько Вить, кажется, испытывают тут же горечь поражения.) Третье слово — Пушкин. Сейчас расскажу о загадках Пушкина. (Хирург сквозь зубы: "Они еще Пушкина не проходили…") Вот загадка: где Лукоморье, знаете? Не знаете… А там, где дубы растут и зеленеют, значит — в умеренном поясе…
Меня оттаскивают, Игорь "шарахает слайдами", на экранеэкзотические острова, океанские загадки. Потом ребята выходят, и мы успеваем подслушать.
— Федя! А вот еще загадка: что я сейчас с тобой сделаю?
— Небось по уху съездишь…
— Ох, Федя, от тебя ничего не укроется…
— Ну, вот видишь, — утешает меня Игорь, — и тайны открываешь, и даже кое-что про них прокричать можешь. Давай, давай!
На моей полке места много… У Игоря специальная полка, где стоят книжки и статьи, сочиненные друзьями. Друзья упражняются в посвящениях: "Дорогому моему Михалычу", "Милому питекантропу от его гейдельбергской челюсти… Щелк-щелк…"
Мне трудно, почти невозможно представить, что больше я ничего не сумею ему подарить.
10 июля 1972 года Игорь, как с давних времен принято говорить о моряках, ушел в тот последний рейс, из которого нет возврата. Это был самый хороший человек, которого я знал, и его нет на свете. Вместо того чтобы однажды подкинуть к нему на полку новенькую книжку и надписать что-нибудь "на добрую память" или посмешнее, вместо всего этого мне остается только одно — посвятить эту книгу моему дорогому, милому, незабвенному другу Игорю Михайловичу Белоусову.
* * *
Последний рассказ в той зейской школе был о Пушкине. С него и начнем.
ЧАСТЬ I
Прости! Где б ни был я: в огне ли смертной битвы,
При мирных ли брегах родимого ручья,
Святому братству верен я.
И пусть (услышит ли судьба мои молитвы?),
Пусть будут счастливы все, все твои друзья!
Пушкин, 1817 годПируйте же, пока еще мы тут!
Увы, наш круг час от часу редеет;
Кто в гробе спит, кто дальный сиротеет;
Судьба глядит, мы вянем; дни бегут;
Невидимо склоняясь и хладея,
Мы близимся к началу своему…
Кому ж из нас под старость в день Лицея
Торжествовать придется одному?
Несчастный друг! Средь новых поколений
Докучный гость и лишний, и чужой,
Он вспомнит нас и дни соединений,
Закрыв глаза дрожащею рукой…
Пускай же он с отрадой хоть печальной
Тогда сей день за чашей проведет,
Как ныне я, затворник ваш опальный,
Его провел без горя и забот.
Пушкин, 1825 годПрощайте, друзья!
Пушкин — к своим книгам. 29 января 1837 годаГлава 1 ЧТО НАШИ, ЧТО ДРУЗЬЯ?
Скажи, куда девались годы,
Дни упований и свободы —
Скажи, что наши, что друзья?..
ПушкинЧетвертого мая 1798 года в Москве у генерал-лейтенанта Ивана Петровича Пущина родился пятый ребенок — сын Иван.
Ровно через два месяца, 4 июля 1798 года, в Гапсале у генерал-майора Михаила Сергеевича Горчакова родился второй ребенок — сын Александр, которого вскоре перевозят в Москву.
Еще через одиннадцать без малого месяцев, 26 мая 1799 года, в Москве у майора Сергея Львовича Пушкина родился второй ребенок — сын Александр.
Императором был Павел I, но во второй столице, несмотря на управление губернатора Архарова (оставившего русскому языку словцо "архаровец"), было сравнительно спокойно. Пока мальчики достигли, не ведая друг о друге, лицейского возраста, павловские дни сменились александровскими, Наполеон завоевал полмира, русское войско побило шведов, турок и персов, Крылов написал «Квартет» и "Демьянову уху", Державин бросил оды и принялся за драмы, Радищев отравился…
Потом мальчики покинули дома-теплицы, надели синие мундиры, белые панталоны, треугольные шляпы, познакомились — и началось их время.
Эти трое будут сейчас нашими героями. Следуя за ними, мы коечто узнаем, а также остановимся перед некоторыми тайнами…
Самые ранние из всех известных строк, написанных рукою Пушкина, находятся в альбоме тринадцатилетнего Александра Горчакова.
"Вы пишете токмо для вашего удовольствия, а я, который вас искренне люблю, пишу, чтоб вам сие сказать. А. Пушкин".
Одноклассник выразил чувства переводом из старинного французского сочинения.
Горчаков нравился многим лицейским, им гордились: везде первый, умен, хорош, князь — Рюрикович, — но свой, не чванится. Кто же не встречал таких первых учеников — красивых повес, лидеров, тех, кто в укромном уголке описывает свои невероятные приключения и фантастические победы, однокашники же посмеиваются, притворяются, будто не верят, и завидуют!..
Но дадим слово третьему лицеисту:
"Я слышу: Александр Пушкин! — Выступает живой мальчик, курчавый, быстроглазый, тоже несколько сконфуженный. По сходству ли фамилий или по чему другому, несознательно сближающему, только я его заметил с первого взгляда".
Позже сходство фамилий "Пущин — Пушкин" стало угрожающим. После 14 декабря следователи не раз спотыкались об это созвучие, интересовались: "Не Пущин ли Пушкин?" Ведь Иван Пущин и его брат Михаил сидели в крепости.
До крепости пока что было пройдено только полдороги. Впрочем, уже смеялись над несчастливым номером комнаты: "Над дверью была черная дощечка с надписью: № 13 Иван Пущин; я взглянул налево и увидел № 14 Александр Пушкин". В числа любили играть — всю жизнь подписывали письма друг другу лицейскими номерами. Начальство же обожало выстраивать их сообразно успехам: № 1-й (из 30 возможных) Горчаков или Вольховский. Пущин шел 18-м, Пушкин — 19-м, а иногда и ниже.
Пускай опять Вольховский сядет первой, Последним я, иль Брольо, иль Данзас…Но эту "Табель о рангах" лицейская «скотобратия» порою отвергает решительно и демократически:
Этот список сущи бредни, Кто тут первый, кто последний, Все нули, все нули, Ай люли, люли, люли…Когда же Пущин, Пушкин и Малиновский за незаконную пирушку смещены на последние места за столом, их жизненная философия обогащается внезапно великим открытием — "чем хуже, тем лучше": именно здесь, в конце стола, дежурный гувернер раздает еду —
Блажен муж, иже Сидит к каше ближе; Как лексикон, Растолстеет он. Не тако с вами — С первыми скамьями, Но яко скелет Будете худеть…Стихи неведомого и совсем не гениального лицейского сочинителя.
Если кинуть на Лицей современный, стporo научный педвзгляд, то Лицей — это черт знает что! Прежде всего — вообще неясно, что это такое. Лучшее определение дано было петербургским генерал-губернатором графом Милорадовичем: "Лицей — это не то, что университет, не то, что кадетский корпус, не гимназия, не семинария, это… Лицей!"
Два-три дельных воспитателя (Малиновский — отец, Куницын), несколько образованных, безразличных педантов, дядька Фома с выпивкой, служитель Сазонов — убийца, инспектор и временный директор полковник Фролов — солдафон.
Если бы лицейские узнали, что Горчаков как-то написал домой: "У нас новый инспектор Степан Степанович Фролов, кавалер ордена св. Анны 2-й степени и св. Владимира 4-й степени, почтенный человек, очень ко мне благосклонный", — если бы лицейские узнали, то веселились бы сильно и князю, дабы не оплошать, пришлось бы участвовать в «Звериаде» и подпевать куплетам:
Ты был директором Лицея, Хвала, хвала тебе, Фролов. Теперь ты ниже стал Пигмея, Хвала, хвала тебе, Фролов!..(Новым директором прислан Егор Антонович Энгельгардт, Фролов понижен; «Пигмей» один из наставников.)
Аккуратнейший лицеист Модест Корф (он же «Модинька» или "Дьячок Мордан") много позже признавался, что не понимает, каким образом из такого заведения вышло столько достойных людей и как из такого букета шалостей и пороков вышло столько дельного…
Вот портрет Пущина, "Большого Жанно" или "Ивана Великого", составленный только по лицейским пушкинским стихам: Жанно — "ветреный мудрец", мудрость же в том, что он прост, здоров ("ты вовсе не знаком с зловещим Гиппократом"), что
…счастлив, друг сердечный, В спокойствии златом течет твой век беспечный.В отличие от многих Пущин не "марает листы", не сочиняет стихов. Пожалуй, главный «знак» его — чаша: "мой брат по чаше", "старинный собутыльник", но притом он один из самых чистых и честных. Кажется, пущинская прямота порою бесит молодого Пушкина, не всегда готового к признанию правдивой критики:
Нередко и бранимся, Но чашу дружества нальем И тотчас помиримся!Этот переход от ссоры к миру, видимо, бывал особенно хорош, и при расставании Пушкин снова припомнит "размолвки дружества и сладость примиренья".
Так же вычисляем Горчакова ("Князь", «Франт», впрочем, твердого прозвища как-то не было): "приятный льстец, язвительный болтун", "остряк небогомольный", "философ и шалун". Ему адресованы три послания Пушкина, и хотя они очень разные и отделены друг от друга целыми эпохами (время от 15 лет до 18 и от 18 до 20 важнее целых десятилетий зрелости и старости), однако один мотив слышится во всех трех: Горчаков — умный, блестящий, добьется многого, но эти успехи пусть воспоет какой-нибудь "поэт, придворный философ", который "вельможе знатному с поклоном подносит оду в двести строк…".
Грядущие "кресты, алмазны звезды, лавры и венцы" — пустяк:
Дай бог любви, чтоб ты свой век Питомцем нежным Эпикура Провел меж Вакха и Амура!"Знак Горчакова" — стрела Амура…
Пушкин как будто боится, что Горчаков изменит любви и оттого будет не Горчаков.
О, скольких слез, предвижу, ты виновник! Измены друг и ветреный любовник. Будь верен всем…Горчаков же определил свое будущее еще задолго до окончания Лицея. Дядюшке Пещурову пишет:
"Без сомнения, если бы встретились обстоятельства, подобные тем, кои ознаменовали 12-й год… тогда бы и я, хотя не без сожаления, променял перо на шпагу. Но так как, надеюсь, сего не будет, то я избрал себе статскую и из статской, по вашему совету, благороднейшую часть — дипломатику".
Еще через месяц:
"Директор наш г. Энгельгардт, который долго служил в дипломатическом корпусе, взял на себя несколько приготовить нас к должности… По сие время нас четыре — он будет задавать нам писать депеши, держать журнал, делать конверты без ножниц, различные формы пакетов и пр. и пр., словом, точно будто мы в настоящей службе; приятно знать даже эти мелочи, как конверты и пр., прежде нежели вступить в должность".
А Пущин в это же время готовится к будущему несколько иначе:
"Еще в лицейском мундире я был частым гостем артели, которую составляли тогда Муравьевы (Александр и Михаило), Бурцев, Павел Колошин и Семенов. С Колошиным я был в родстве. Постоянные наши беседы о предметах общественных, о зле существующего у нас порядка вещей и о невозможности изменения, желаемого многими втайне, необыкновенно сблизили меня с этим мыслящим кружком: я сдружился с ним, почти жил в нем. Бурцов, которому я больше высказывался, нашел, что по мнениям и убеждениям моим, вынесенным из Лицея, я готов для дела… Эта высокая цель жизни моей самой своей таинственностию и начертанием новых обязанностей резко и глубоко проникла в душу мою — я как будто вдруг получил особенное значение в собственных своих глазах…"
Пушкин, как известно, не был посвящен в тайну первых декабристских сходок: "Подвижность пылкого его нрава, сближение с людьми ненадежными пугали…" Пушкин подозревал, но полной уверенности не имел: Большой Жанно, конечно, говорил "о зле" и "возможности изменения…", но при этом готовился к военной службе и, вероятно, разговоры о будущем сводил к тому, что мечтает быть дельным, полезным для службы и солдат офицером.
И, разумеется, в Пущина (хотя и не в него одного) метят прощальные насмешки из № 14:
Разлука ждет нас у порогу, Зовет нас дальний света шум, И каждый смотрит на дорогу С волненьем гордых, юных дум. Иной, под кивер спрятав ум, Уже в воинственном наряде Гусарской саблею махнул — В крещенской утренней прохладе, Красиво мерзнет на параде, А греться едет в караул…И не в Горчакова ли следующие строки:
Другой, рожденный быть вельможей, Не честь, а почести любя, У шута знатного в прихожей Покорным шутом зрит себя…А сам о себе:
Лишь я, судьбе во всем послушный, Счастливой лени верный сын, Душой беспечный, равнодушный, Я тихо задремал один… Равны мне писари, уланы, Равны законы, кивера, Не рвусь я грудью в капитаны И не ползу в асессора…Если пофантазировать, легко представить спор троих товарищей перед выходом в большой свет — о счастье, смысле жизни. Горчаков и Пущин в этой воображаемой сцене говорят о благородной, честной службе, причем Пущин намекает и на особенное служение отечеству. Оба упрекают поэта за легкомыслие, и Горчаков, пожалуй, заметит что-нибудь вроде: "Пушкину хорошо, он полагается на свой талант, мы же — только на самих себя".
Пушкин охотно соглашается с упреками:
Среди толпы затерянный певец, Каких наград я в будущем достоин И счастия какой возьму венец?Но потом начинает шутить, задираться и, как бывало, грозить друзьям, что сделает их виноватыми, если появится грозный наставник… Потом Пушкин уйдет, и Пущин обязательно намекнет князю-франту насчет тайного общества. Однако Горчакову это не подходит — он скажет, что нужно делать карьеру, то есть выдвигаться вперед: не для корысти, а для более полного выявления своих способностей во благо общее. Горчаков мог бы, смеясь, попросить друга Жанно, чтобы в случае успеха его партии было сделано снисхождение лицейским — все назначены на приличные должности или, на худой конец, отправлены в какую-нибудь ссылку потеплее… Потом потолковали бы о Пушкине — станет серьезнее или нет? — и, скорее всего, Пущин вспомнит, что Горчаков торжественно конфисковал озорную поэму «Монах» и уничтожил как не достойную пушкинского таланта.
Ах, как легко и небрежно летели в камин, в корзину, терялись те листки, на розыски которых в наше время ученые тратят тысячи, десятки тысяч «человеко-часов» и дней!
Сохранился отзыв Жуковского об адресованном ему лицейском послании юного Пушкина: "Прекрасное… лучшее произведение". Отзыв сохранился, а послание исчезло…
Существовала стихотворная речь, обращенная к друзьям из литературного общества «Арзамас». Арзамасцы запомнили только первую строчку: "Венец желаниям! Итак, я вижу вас…" — остальное неизвестно…
Была сочинена целая драма "Фатам, или Разум человеческий", от которой чудом уцелели четыре стиха. Или дерзкие эпиграммы, из которых, кажется, половины не знаем; регулярно сочинялись опасные ноэли, рождественские песенки, сохранился же только один (да и то в списках) — о царе Александре I: "Ура! В Россию скачет кочующий деспот!" Впрочем, это уже не те листки, которые терялись, исчезали от беспечной небрежности… Тут начинается конспирация: спасение от жандарма, крепости, Сибири. Устав первой декабристской тайной организации — "Союза Спасения"; "Зеленая книга" — секретная программа другого декабристского общества, "Союза благоденствия"; о них мы знаем понаслышке, по уклончивым, приблизительным рассказам тех, кто читал, а после спрятал или сжег…
Еще удивительно, как много таких листков, тетрадей, книг уцелело, пережило свой век. Иван Пущин, например, собрал и берег десятки лицейских гимнов — «пэанов», поэм, куплетов Пушкина, Дельвига, Кюхельбекера и других милых друзей, не устоявших перед "грехом рифмоплетства". Но однажды к той лицейской стопе бумаг он прибавил несколько иных, весьма потаенных, — конституцию, приготовленную для будущей освобожденной России тем самым товарищем по тайному союзу, кто иногда подписывался Вьеварум.
Большому Жанно вряд ли по душе был смертный приговор, вынесенный князем Горчаковым пушкинскому "недостойному Монаху"…
Впрочем, пройдет больше ста лет — и 18 ноября 1928 года в вечернем выпуске ленинградской "Красной газеты", а затем еще в десятках газет и журналов появится сенсационное известие: в особняке, некогда принадлежавшем князьям Горчаковым, обнаруживается и передается в Государственный архив солидная кипа бумаг, и среди них — три тетради рукою Пушкина:
Хочу воспеть, как дух нечистый Ада Оседлан был брадатым стариком; Как овладел он черным клобуком, Как он втолкнул Монаха грешных в стадо…"Монах"! Рассказывают, что, когда находку показали специалистам, известный пушкинист Павел Щеголев начал наскоро записывать строки «Монаха» на своих манжетах: а вдруг «видение» — несгораемая рукопись — исчезнет?..
Князь Горчаков перехитрил четыре поколения!
Но пока что вернемся к 1817 году, последним лицейским разговорам, прощаниям…
Много ли мы на самом деле знаем о тех разговорах?
Поговорим о бурных днях Кавказа, О Шиллере, о славе, о любви…Конечно, те юноши были похожи на любых своих сверстников, расстающихся после школы — неважно где и когда: в Меланезии, Древнем Египте. Да и было это, в общем, недавно. Многие историки, работники Государственного исторического музея, хорошо помнят престарелого ученого-нумизмата Александра Александровича Сиверса (1866–1954); через него имелась прямая связь с Горчаковым, которого хорошо знал юный Сиверс. Итак, от нас до Пушкина — всего два человеческих звена, причем второе — одноклассник, даже старший товарищ поэта.
Недавно! Но все же это было до телеграфа, телефона, радио, фото, паровоза, парохода — более пятидесяти тысяч дней назад…
"Примерное благонравие, прилежание и отличные успехи по всем частям наук, которые оказывали вы во время шестилетнего пребывания в Императорском Лицее, соделали вас достойным получения второй золотой медали, которая и дана вам с высочайшего его императорского величества утверждения. Да будет вам сей первый знак отличия, который получаете вы при вступлении вашем в общество граждан, знаком, что достоинство всегда признается и награду свою получает, да послужит он вам всегдашним поощрением к ревностному исполнению обязанностей ваших к государю и отечеству".
Эти строки записаны в похвальный лист, унесенный Горчаковым из Лицея. Много позже он расскажет:
"В молодости я был так честолюбив, что носил в кармане яд, если обойдут местом".
Честолюбивому Горчакову важно окончить лицей первым, но еще более он радуется (это известно) своему второму месту: первым будет Вольховский (по кличке "Суворочка.") — и такой результат расширяет будущие служебные шансы этого небогатого и без связей одноклассника. Для такого честолюбия, как у князя, очень часто лучшее место — второе, иногда даже последнее (но на пути к самому первому!).
А потом была прощальная лицейская клятва: "И последний лицеист один будет праздновать 19 октября". Так поименно и расписались.
И вдруг сделались прошедшим и оттого милым ссоры с Пущиным, несколько высокомерные поучения Горчакова, занудства Модиньки, и даже Фролов, который "ниже стал Пигмея", -
Хвала, хвала тебе, Фролов…Кто не слыхал школьных клятв на выпускных вечерах, а затем — холодные, случайные встречи на улице, неузнавание или на ходу: "Как жизнь, старик?" Но в день окончания школ-лицеев все иначе. В альбоме Пущина записано рукою Пушкина:
Ты вспомни первую любовь, Мой друг, она прошла… Но с первыми друзьями Не резвою мечтой союз твой заключен; Пред грозным временем, пред грозными судьбами, О милый, вечен он…Но все это не сразу и не просто подтвердится: "Пред грозным временем, пред грозными судьбами".
На прощанье директор Энгельгардт подарил всем чугунные кольца — символ крепкой, как металл, дружбы, и они станут чугунники:
Пущин — офицер гвардейской конной артиллерии;
Горчаков — чиновник в коллегии иностранных дел с чином титулярного советника;
Пушкин — тоже в коллегии иностранных дел, но из-за худшей успеваемости одним чином ниже — коллежским секретарем.
* * *
Много позже станут допрашивать арестованного Пущина:
"Принадлежали ли тайному обществу? Кем в оное были приняты?"
Ответ:
"Состою я в обществе… Принят в оное служившим в Киевском гренадерском полку капитаном Беляевым".
Николай I и следственная комиссия ищут Беляева по всей стране, нету такого… Новый допрос:
"Еще раз Комитет требует от вас истинного показания, когда именно, кем и где вы были приняты в члены тайного общества, и притом, где находится сказанный вами Беляев, как его имя и чин?"
Ответ:
"По требованию Комитета сим честь имею ответствовать, что действительно в 1817 году принят я был полковником Бурцевым здесь, в Петербурге, в члены общества. Признаюсь откровенно, что не хотел объявить сего, полагая его совершенно отклонившимся от общества. К крайнему стыду моему, объявляю, что Беляев есть вымышленное лицо, которое мною при начале упомянуто. Сие отклонение от истины, употребленное из некоторого чувства сострадания к Бурцеву, теперь слишком кажется мне гнусным, чтоб еще продолжать тяжкую для меня о сем переписку. К сему показанию коллежский асессор Пущин руку приложил".
Это написано лишь после того, как сам Бурцев на очной ставке с Пущиным объявил, что именно он принял когда-то лицеиста в тайное общество…
Но эти неприятности будут после, лет через восемь-девять. Пока же Пущин только начинает… В своих воспоминаниях рассказывает, как уже после Лицея несколько раз чуть не открылся Пушкину, но тут как раз следовала некая выходка, шалость — и Пущин воздерживался.
Впрочем, казалось, что эта возможность не уйдет, — зачем торопиться? Пушкин же своим путем приближался к декабризму — уже написал «Вольность», «Деревню», "Послание к Чаадаеву", много опасных эпиграмм.
Самому Пушкину заговорщики, кажется, доверяли меньше, чем его строчкам.
Пущин. "Круг знакомства нашего был совершенно розный. После этого мы как-то не часто виделись". Где же князь, франт?
Питомец мод, большого света друг, Обычаев блестящий наблюдатель, Ты мне велишь оставить мирный круг, Где, красоты беспечный обожатель, Я провожу незнаемый досуг.Это — начало третьего "Послания к князю Горчакову", через два года после Лицея. Очевидно, в ту пору были встречи, разговоры, когда Горчаков поучал Пушкина ("Ты мне велишь…").
Пушкин же не слушается и, наоборот, зовет собеседника назад, в прошлое, к лицейским выходкам и забавам:
И признаюсь, мне во сто крат милее Младых повес счастливая семья.Повеса — это ведь прошлое Горчакова (пять лет назад его обозвали "сиятельный повеса").
И ты на миг оставь своих вельмож И тесный круг друзей моих умножь, О ты, Харит любовник своевольный…(Хариты — в греческой мифологии грации, воплощение красоты и прелести.)
Пять лет назад Горчаков был "мой друг" ("Что должен я, скажи, сейчас желать от чиста сердца другу?"), теперь же еще неизвестно-он вне круга "моих друзей", ему только предлагается тот круг умножить. Амур, хариты еще связывают их, но вельможи — разделяют.
"1819, декабря 12-го князь Александр Михайлович Горчаков пожалован в звание камер-юнкера" — первый придворный чин.
Александра Сергеевича Пушкина пожалуют в камер-юнкеры "1833, декабря 29-го", и он найдет этот чин неподходящим, смешным для тридцатичетырехлетнего поэта. Однако для Горчакова на двадцать втором году жизни камер-юнкерство настолько высокая ступень, что министр иностранных дел канцлер Нессельроде сперва воспротивится: "Молодой человек уже метит на мое место". И еще тридцать семь лет быть канцлером Нессельроде (он же «Кисельвроде» из "Левши"), но сменит его именно Горчаков. Однако в 1819-м юный князь, кажется, крепко нажал на министра через влиятельных ходатаев — да ему ничего другого и не оставалось: "…в кармане лежал яд, и если откажут в месте…"
Мой милый друг, мы входим в новый свет, Но там удел назначен нам не равный, И розно наш оставим в жизни след…Позже, через восемь лет, будет повторено:
Вступая в жизнь, мы рано разошлись…Но вот одна секретная записка — донос, составленный позже Фаддеем Булгариным:
"В свете называется лицейским духом, когда молодой человек не уважает старших, обходится фамильярно с начальником… Какая-то насмешливая угрюмость вечно затемняет чело сих юношей, и оно проясняется только в часы буйной веселости… В Лицее едва несколько слушали курс политической науки, и те именно вышли не либералы, как, например, Корф и другие".
Записка-донос Булгарина, поданная после восстания декабристов, метит в «либералов», то есть вольнодумцев, — и в Пушкина, и в членов тайных обществ, и в «насмешливо-угрюмого» Горчакова (хоть он слушал "курс политической науки").
Достоинство, сдержанность, ирония… Может быть, не так уж сильно они разошлись, вступая в жизнь?
Меж тем одним апрельским днем на квартиру Пушкина в отсутствие хозяина приходит некий поклонник поэзии и предлагает слуге Никите Козлову громадные деньги, пятьдесят рублей, если тот разрешит почитать рукописные стихотворения барина. Никита решительно отказывает и сообщает обо всем Пушкину. Тот смекает, что за любитель явился, сжигает часть рукописей, а на другой день получает приглашение явиться на Невский проспект, в дом генерал-губернатора графа Милорадовича. О том, что произошло дальше, сохранилось несколько воспоминаний современников:
"Милорадович приказывает полицеймейстеру ехать в квартиру [Пушкина] и опечатать все бумаги. Пушкин слышит это приказание, говорит ему: "Граф! Все мои стихи сожжены! — у меня ничего не найдете на квартире; но если вам угодно, все найдется здесь (указал пальцем на свой лоб). Прикажите подать бумаги, я напишу все, что когда-либо писано мною (разумеется, кроме печатного), с отметкою, что мое и что рукопись под моим именем".
Милорадович, тронутый этой свободной откровенностью, торжественно воскликнул: "c'est chevaleresque!" — "А! Это по-рыцарски!" — и пожал ему руку. Подали бумаги. Пушкин сел и писал, писал… и написал целую тетрадь. Милорадович расхаживал по комнате, перечитывал стихи по мере того, как Пушкин писал их, прерывал чтение хохотом и даже пожалел, что в эпиграммах ничего нет против Государственного совета или сената (Пушкин записал все, кроме одной эпиграммы — такой опасной, что ее нельзя было показывать самому добродушному генерал-губернатору). Поэта отпустили домой и велели ждать дальнейшего приказания. На другой день тетрадь была доставлена государю.
— А что же ты сделал с автором? — спрашивает Александр I.
— Я, — сказал Милорадович, — я объявил ему от имени вашего величества прощение!
Помолчав немного, государь сказал:
— Не рано ли?
Пройдет сто семнадцать лет, и 14 февраля 1937 года на специальной сессии Академии наук СССР будет принято постановление — о разыскании "тетради Милорадовича", рукописного сборника, заканчивая который автор не знал, чем дело кончится — улыбкой губернатора, крепостью, Сибирью или чем-то еще. Известная исследовательница Пушкина Татьяна Григорьевна Цявловская писала о попытках опытнейших специалистов решить "задачу академии":
"Тетрадь (целая тетрадь!) противоправительственных стихов Пушкина… Тетрадь эту искал в свое время П. Е. Щеголев в архивных фондах Зимнего дворца в Ленинграде, искал ее М. А. Цявловский в фондах II отделения в Архиве древних актов (в Москве). Искала тетрадь и я — среди части бумаг Милорадовича, именно за 1820 год, оказавшихся в фонде его адъютанта Муханова (в Отделе письменных источников в Историческом музее в Москве). Эти поиски не привели пока ни к каким результатам. Но на этом успокаиваться нельзя. Розыски надо продолжать".
Скажем сразу: постановление Академии наук от 14 февраля 1937 года не выполнено до сих пор, тетрадь не найдена — и каждый, кому попадутся на глаза эти строки, еще может попытать счастья…
Но вернемся в петербургскую весну 1820 года, к главному герою, которому не хватает еще нескольких недель до двадцати одного года. Александр I недоволен чрезмерным добродушием Милорадовича, но отменять слово, данное генералом, считает неудобным; к тому же о Пушкине хлопочут друзья — Чаадаев, Карамзин, лицейский директор Энгельгардт. В конце концов выбирается среднее между тюрьмой и полным помилованием — ссылка в Кишинев. Быстро составляется бумага, по которой коллежскому секретарю Пушкину выдается на проезд тысяча рублей ассигнациями. Некогда даже проститься с друзьями. Впрочем, их не так просто доискаться: Пущин, например, давно в служебной командировке в той самой Бессарабии, куда следует ехать Пушкину, а Горчаков — на каком-то заграничном конгрессе. Да и стоит ли докучать другим своею персоной? "Мой милый, — напишет Пушкин с дороги Чаадаеву, — я заходил к тебе, но ты спал; стоило ли будить тебя из-за такой безделицы?" 6 мая 1820 года — в путь. Дельвиг и Яковлев провожают до Царского Села… Как раз в эти дни Пущин возвращается из южных краев в Петербург:
"Белорусский тракт ужасно скучен. Не встречая никого на станциях, я обыкновенно заглядывал в книгу для записывания подорожных и там искал проезжих. Вижу раз, что накануне проехал Пушкин в Екатеринослав. Спрашиваю смотрителя: "Какой это Пушкин?" Мне и в мысль не приходило, что это может быть Александр. Смотритель говорит, что это поэт Александр Сергеевич, едет, кажется, на службу, на перекладной, в красной русской рубашке, в опояске, в поярковой шляпе (время было ужасно жаркое). Я тут ровно ничего не понимал — живя в Бессарабии, никаких вестей о наших лицейских не имел. Это меня озадачило…"
В той необыкновенной тревожной ситуации их встреча на какой-нибудь станции Белорусского тракта была бы важна и памятна обоим, но, увы, российская география развела на разные концы пути, между которыми ехать две недели, — и не видеться им еще пять лет.
"Проезжай Пушкин сутками позже до поворота на Екатеринослав, я встретил бы его дорогой, и как отрадно было бы обнять его в такую минуту! Видно, нам суждено было только один раз еще повидаться".
Лицейский директор Энгельгардт вскоре сообщит Горчакову:
"Пушкин в Бессарабии и творит там то, что творил всегда: прелестные стихи, и глупости, и непростительные безумства. Посылаю вам одну из его последних пьес, которая доставила мне безграничное удовольствие: в ней есть нечто вроде взгляда в себя. Дал бы бог, чтобы это не было только на кончике пера, а в глубине сердца. Когда я думаю, чем этот человек мог бы стать, образ прекрасного здания, которое рушится раньше завершения, всегда представляется моему сознанию…"
Один из лучших советских режиссеров Сергей Эйзенштейн мечтал еще до войны о цветном фильме про Пушкина. Вторая половина фильма (Петербург, последние годы жизни, дуэль) представлялась ему преимущественно черно-белой, но первая, кишиневско-одесская часть, — цветной.
Обитая в другом мире и даже другом цвете, Пушкину не просто было найти общий язык с чугунниками в их черно-белой столице. Между ним и Горчаковым переписки совсем не было, но почти не было ее в южные годы и с Пущиным —
Из края в край преследуем грозой, Запутанный в сетях судьбы суровой, Я с трепетом на лоно дружбы новой, Устав, приник ласкающей главой…Наступила классическая ситуация, опасная, но необходимая для юной дружбы: расхождение, удаление, чтобы после вернуться — или не вернуться… Впрочем, Пушкин изъяснялся со многими приятелями печатно, вместо писем являясь к ним с "Бахчисарайским фонтаном", "Кавказским пленником", первыми строфами «Онегина»; или рукописно-крамольными сочинениями ("Кинжал", "Послание к цензору", новые эпиграммы). Отношения не прекращались, но слишком далеки пушкинские Кишинев, Одесса от пущинского Петербурга и горчаковского Лондона…
И тут мы прервем на время, на одну главу, повествование о трех приятелях и последуем за поэтом на Юг, в 1820-е годы.
Глава 2 САРАНЧА ЛЕТЕЛА…
Несколько лет назад в редакции журнала "Знание — сила" толковали о научных экспедициях:
— Давайте организуем экспедицию журнала.
— Давайте, давайте! А что делать надо? Открывать звезды, античастицы или химические элементы?
— Хорошо бы, да не откроем. Нужны темы, особые темы, где мы можем развернуться без смешной конкуренции с институтами и лабораториями. Ведь Генри Стэнли открыл в свое время неведомые страны и спас экспедицию Ливингстона, находясь в служебной командировке от газеты "Нью-Йорк геральд", очень просто: получил от газеты задание — открыть! Понимаете, не описать чужие достижения, а открыть самому. Открыл — и описал…
— Ну что ж, в любой редакции найдется пяток-другой Стэнли, но где же пропавшие Ливингстоны?
— Ах, вы даже не догадываетесь, как много Ливингстонов еще не спасено!.. Представьте, в каком-то сибирском озере появляется дракон, обыкновенный мезозойский дракон. Ученые смеются и не едут, мы тоже смеемся, но едем — и совершаем одно из двух возможных научных открытий: "дракон есть" или "дракона нет"…
— Понятно: первый возможный тип нашей экспедиции — проверка правдивых легенд и невероятных былей. Журналист, не менее крепкий и отчаянный, чем коллега Мелоун из "Затерянного мира", готов последовать за любым Челленджером или заменить последнего…
— Кроме легенд, есть еще пропавшие библиотеки, исчезнувшие рукописи, сундуки, из которых торчат не прочитанные никем (кроме авторов) гениальные стихи, трактаты, мемуары и афоризмы.
Кроме старых рукописей, есть еще географические названия, происхождения которых пока никто не понял, и есть наскальные знаки и рисунки, которые никто не расшифровал… Да что толковать — обратимся к нескольким археологам, натуралистам, текстологам и путешественникам; обратимся и скажем: "Поделитесь горстью-другой "неразгрызенных орешков", пошлите нас хотя бы к одной из ваших загадок — не обязательно к самой трудной, но, пожалуйста, и не к самой легкой. «Нас» — это сотрудников и друзей журнала, то есть журналистов и ученых-журналистов!"
Так случилось, что в одну из первых пробных экспедиций пришлось отправиться автору этих строк…
Отправиться в командировку от журнала, да не в простую, а в научную, было, конечно, заманчиво, тем более что для начала предлагали открыть не бассейн Конго или десятую главу «Онегина», а нечто полегче.
В редакции хранился уже список кое-каких объектов, на которые "хорошо бы двинуться"; у меня же была своя тетрадка исторических и литературных тайн. Стали обсуждать. Говорили о коллекции Строгановых в Томском университете, где "может найтись что угодно…", о бесценной библиотеке пушкинского приятеля Ивана Липранди, давно исчезнувшей, но недавно "мелькнувшей в Кишиневе", о сундуке сибирского купца Пестерева, близкого к Чернышевскому и Герцену, "а в том сундуке…".
В конце концов первую экспедицию решено было направить в Одессу и если времени хватит, то и в Кишинев (времени не хватило).
Почему в Одессу? Во-первых, город хороший… Во-вторых (и "в главных"), из-за одной страницы в тетради-дневнике двух первоклассных пушкинистов — Мстислава Александровича и Татьяны Григорьевны Цявловских.
22 декабря 1928 года М. А. Цявловский сделал следующую запись:
"У меня Александр Михайлович де Рибас (Дерибас){1} сделал сообщение: Александр Сергеевич Сомов (сын той самой Ольги Александровны, рожд. Тургеневой, в которую были влюблены в свое время И. С. Тургенев и Л. Н. Толстой), служив по дипломатической части, был близко знаком с дипломатом Антоном Антоновичем Фонтоном (1780–1864), который был дружен с графом Михаилом Семеновичем Воронцовым. Этот Фонтон, будучи холостым, завещал свой архив или часть его А. С. Сомову{2}. Разбирая этот архив, А. С. Сомов нашел в нем много писем разных лиц, в том числе два письма М. С. Воронцова к А. А. Фонтону. Письма эти привлекли внимание Сомова тем, что в них много говорилось о Пушкине. Сомов списал их, приготовляя к печати. Во время войны (1914–1918 гг.) архив погиб. Но А. С. Сомов по памяти записал текст этих писем (подлинники были написаны на французском языке), приводя местами и французские фразы. Эти записи Сомов хотел отдать де Рибасу для публикации, но не успел это сделать и умер. Спустя некоторое время сын А. С. Сомова, Александр Александрович Сомов, в 1928 году прислал де Рибасу эти записи отца, которые тот привез в Москву. Текст записей представляет совершенно исключительный интерес. Возможно, что Сомов что-нибудь прибавил и «закруглил», но мне кажется, в общем, записи верно передают как содержание писем Воронцова, так и тон их. В частности, этими письмами считающийся в последнее время легендой рапорт Пушкина в стихах о саранче подтверждается".
На этой же странице — две приписки, сделанные через одиннадцать и пятнадцать лет после смерти Мстислава Александровича Цявловского:
"Прошло тридцать лет. А. М. де Рибаса давно нет в живых. Он ничего из этого не опубликовал. Так все это и кануло".
Т. Цявловская. З.Х11.1958.
"Впрочем, его бумаги находятся в Одесской научной библиотеке. Видела данные об этом в каталоге личных фондов, изданных Ленинской библиотекой".
Т. Цявловская. 24.1V.62.
Записи в тетради Цявловских были причиной, наша экспедиция — следствием. Цель была проста и ясна: отправиться в Одессу и всего только найти сгоревшие, а после того еще раз пропавшие письма. Как полагается, путешественник вел дневник, который воспроизводится с некоторыми добавлениями, сделанными уже после того, как "все было кончено"…
ОДЕССА
Четвертое мая. Поздно вечером в гостинице «Красная» на Пушкинской улице восстанавливаю впечатления прошедшего дня. Майская Одесса, по литературе, должна быть зелена, весела, "бульвар французский весь в цвету…", "слишком рано женятся у нас в Одессе…" и т. п.
Но показалась она хмурой и пыльной. С аэродрома — в такси и к городу по степи. Въехали мы в Одессу. Завернули на Дерибасовскую, оттуда на Пушкинскую. Гостиница «Красная». Бросив чемодан, — в город.
Солнце вышло, но ветер и холодно, а холод в теплых местах много грустнее, чем в холодных. Улицы переполнены, и кажется странным, как много людей, для которых Москва столь же чужая, как мне Одесса. В голове вдруг складывается странный расчет: в городе около миллиона жителей, значит, одна минута целой Одессы складывается из миллиона человеко-минут, что составляет примерно два человеко-года: за минуту город в совокупности проживает столько же, сколько один человек за двухлетие, а за 175 лет, что стоит Одесса, все обитатели ее прожили сообща не меньше 20 миллионов человеко-лет. Если бы попытался один человек идти вверх, по своей персональной родословной, то, для того чтобы пережить все одесские перипетии, пришлось бы ему шагать до ранних третичных обезьян… Из этих 20 миллионов одесских лет интересовали меня сегодня неполных два пушкинских года да еще несколько столетий, суммарно занятых пушкинскими друзьями, врагами, соседями и их потомками. Но выловить несколько сотен из 20 миллионов никогда не было легкой задачей…
Расчеты заканчиваются перед дверью адресного стола. В окошко — за двумя справками. Одна, которую прошу в каждом городе, где бываю:
Фамилия — Липранди.
Имя, отчество, возраст, место рождения, род занятий — не знаю.
Нужен любой человек с такой фамилией.
Морщатся, однако запрос принимают. Фамилия Липранди редкостная. У Ивана Липранди, одесско-кишиневского приятеля Пушкина, были богатейшие дневники о тех годах, были копии двух пушкинских повестей, и все это исчезло. Но ведь были прямые потомки!..
Затем запрос о Сомове: у Цявловских в тетради сказано, что письма Воронцова о Пушкине принадлежали Александру Сергеевичу Сомову, передал же их Дерибасу Александр Александрович Сомов, сын Александра Сергеевича. Старшего Сомова не было в живых уже в 1928-м, о младшем же пытаюсь узнать:
"Сомов Александр Александрович. Год рождения — около 1890–1900. Скорее всего уроженец Одессы…"
Выдают бумажки: "Липранди — нет и Сомова — нет".
Тогда выхожу из адресного стола и направляюсь к областному архиву…
* * *
В архиве не могло быть того, за чем я приехал в Одессу, но туда, где меня ждут или не ждут "пушкинские бумаги", туда я пойду завтра. Сегодня — отдых, а где же лучше отдохнуть, как не над старой рукописью! Книжка, газета — это уже кто-то "отдыхает вместе с тобой": кто-то за тебя, для тебя поработал. А в архиве — будто на море или в горящий камин глядишь: между тобой и стихией — никаких посредников. Вот ты, а вот — отпечаток той жизни на желтой, белой или еще какой-то бумаге, а на бумаге: "Сослать в Восточную Сибирь на вечное поселение…" Или: "Милая Аннушка, никому не показывай этого письма…"
Перебираю в памяти: Черниговский архив, Саратовский, Смоленский, Псковский. Стоит только как-нибудь войти в тихий, прохладный зал (снаружи позванивают трамваи, а в окно лезет провинциальная ветка), и вдруг над тем городом, где ты только что ходил и глядел, возникает полумираж-полуреальность: чудо прошедшего.
Человек, никогда не дышавший "пылью затерянных хартий", — тот только и делает, что удивляется: ах, старинный почерк — ер, ять! Ах, водяные знаки! Зато для историка, филолога, архивиста все это — будни. Он уже насмотрелся, он уже наглотался и давно разучился изумляться.
Но иногда наступает третья стадия: архивист-прозаик, давно забывший поэзию удивления, и вдруг снова — перворадость, усиленная, а не убитая знанием… С такими-то мыслями оказался я впервые в прохладном, просторном и сумрачном здании Одесского областного архива, после войны утратившего много старины, но все же достаточно сохранившего…
И тут-то, забыв про Одессу за стеной, вдруг впервые чувствую себя земляком ушедших одесситов.
Прежде всего — фамилии… Что за набор "истинно одесских" фамилий в этом архиве! Ксантаки, Кицис, Андре Рипер, Пистоленко, Фабиани, Галаган, Ралли, Кречунец, Кантакузен…
Архивные дела, которые я не смотрел и никогда, наверное, не посмотрю, но что за заглавия у этих архивных дел!
"Дело об Карле Деазерте, преданном нашему правительству как по интересу, так и по убеждению".
"Дело о Симе Шапошниковой, обвиняемой за незаписку ни к какому классу людей" (как хорошо: не запишешься, так пропишем!).
Старая Одесса… "Все блещет югом и пестреет…" "И жадной черни лай свободный…"
Но я не должен забывать, зачем я в этом городе! Мне нужен в основном один, всего один человек — чиновник канцелярии новороссийского генерал-губернатора, числящийся по министерству иностранных дел, "10-го класса Александр Пушкин".
Пушкин настолько одессит, что уже никто почти не знает, как называлась раньше Пушкинская улица. О других — пожалуйста: улица Чкалова была прежде Большой Арнаутской, улица Карла Либкнехта — Греческой, а улица Ласточкина — Ланжероновской…
— А как раньше называлась Пушкинская?
— Мосье! (Наконец-то я дождался настоящего обращения!) Пушкинская всегда была Пушкинской.
И я ухожу, стыдливо скрыв, что во времена Пушкина эта улица, естественно, не называлась Пушкинской, а была Итальянской.
Разумеется, одесские историки за сто лет в этом архиве нашли немало фактов и о Пушкине и вокруг Пушкина. Но канцелярия хозяев Южного края, губернаторов и генерал-губернаторов, — ведь тут она, и если уж я приехал за письмами Воронцова, за кишиневскими и одесскими друзьями поэта, то грех не перелистать десяток-другой архивных дел о тех годах и тех местах, где было сложено:
Проклятый город Кишинев, Тебя бранить язык устанет……Архив собирался закрываться, а у меня как раз пошла «саранча», кипы синих листов, все — о саранче. Весна 1824 года. "Рапорты о мерах, предпринятых во истребление саранчи".
Страшное бедствие. Мы посмеиваемся: есть легенда, что сочинил Пушкин — "саранча летела, все съела…", а ведь действительно все съела… Впрочем, строк о саранче сейчас не найти в полном Собрании Пушкина — специалисты не верят в их существование, нет доказательств…
Перелистываю приказы Воронцова.
Многим чиновникам ведено отправиться в различные уезды, покрытые саранчой. И тут попадается мне давно опубликованная бумага — о посылке на саранчу самого поэта:
"№ 7976, 22 мая 1824 года. Одесса, отделение 1-е.
Состоящему в штате моем ведомства иностранных дел коллежскому секретарю Пушкину.
Желая удостовериться о количестве появившейся в Херсонской губернии саранчи, равно и о том, с каким успехом исполняются меры, преподанные мною к истреблению оной, я поручаю вам отправиться в уезды Херсонский, Елизаветградский и Александровский. По прибытии в города Херсон, Елизаветград и Александрию явитесь в тамошние уездные присутствия и потребуйте от них сведений: в каких местах саранча возродилась, в каковых количествах, какие учинены распоряжения к истреблению оной и какие средства к тому употребляются. После чего следует вам осмотреть важнейшие места, где саранча наиболее возродилась, и обозреть, с каким успехом употребляемы к истреблению оной средства и достаточны ли распоряжения, учиненные уездными присутствиями. О всем, что по сем вами найдено будет, рекомендую донести".
Подпись.
За приказами начинаются отчеты о практических действиях: командир корпуса Сабанеев бросает на саранчу роту солдат. Чиновник Михаил Сабаньский отправляется "на теоретическую конференцию" — о лучших методах борьбы с саранчой. Длинные, многостраничные отчеты; выводы примерно одинаковы: "За всей деятельностью военных чинов при пособии поселян саранча уменьшилась весьма незначительно"; "Херсонская губерния покрыта саранчой, и обширность мест, ею занимаемых, превозмогает все труды…"
Все рапорты одинаковы, пушкинский рапорт, единственный, в деле отсутствует. Тут архив закрывается. Прошлое — под замком до завтрашнего утра.
5 мая.
На улицу Пастера, мимо застывшего в зеленой бронзе графа Воронцова. Одесская государственная публичная библиотека, где наверху — Отдел редкой книги и рукописей и где служил в 20-х годах Александр Михайлович Дерибас. День летний, окна открыты, корешки книг из библиотеки графа Строганова, одного из одесских губернаторов, шкаф с надписью «Одессика» — все книги про Одессу.
Подробно рассказываю обо всем, показываю запись Цявловских, развертываю «цепочку»: Пушкин — Воронцов — Фонтон — Сомовы — Дерибас…
— Александр Михайлович Дерибас работал в нашем отделе, в этой самой комнате. Он умер тридцать лет назад.
— Неужели столь славная фамилия совсем прекратилась в Одессе?
— Анна Николаевна Дерибас, вдова Александра Михайловича, умерла всего несколько лет назад. Жаль, что вы не приехали раньше… Умерла в доме для престарелых — она была много моложе Александра Михайловича. А знаете ли, что в первом браке красавица Анна Цакни была за писателем Иваном Алексеевичем Буниным? Сейчас мы вам дадим все, но только никаких писем Воронцова у нас нет…
Тут мне приносят папку рукописей, и улица Пастера делается моложе ровно на сорок лет.
I. А. С. Сомов — А. М. Дерибасу. Конец 1927 года
"Глубокоуважаемый Александр Михайлович!
Прошу извинить мне, человеку Вам незнакомому, это обращение. Смягчением ему может служить лишь надежда, что фамилия моя, может быть. Вам не неизвестна и что Вы встречались с отцом моим С. И. Сомовым, около 30 лет прожившим в Одессе.
У меня каким-то чудом уцелели воспоминания об А. С. Пушкине бабушки моей Надежды Мих. Еропкиной (внучки Петра Дмитр. Еропкина, отличившегося при Екатерине II в Москве во время чумы). Воспоминания эти записаны были мною в 1882 году с ее слов еще студентом. Сделал это я по настоянию недавно почившего академика Кони, большого почитателя бабушки, который находил воспоминания ее в высшей степени интересными. Того же мнения был и академик Я. К. Грот.
Перед самой революцией, выйдя в отставку, я поселился в своем маленьком хуторе в Ямпольском уезде Подольской губернии и здесь в тиши начал подготовлять к печати сокровища из двух архивов: 1) деда моего Александра Михайловича Тургенева (часть его воспоминаний я поместил в "Русской старине" 1886 и 87 гг.) и 2) из архива одессита Антона Фонтона. Архив этот был мне подарен сыном его, с которым я прослужил 8 лет в Бухаресте и который полюбил меня, как родного сына. В конце 1917 года на хутор мой нагрянули солдаты, уходившие с румынского фронта, разграбили и сожгли дом. Погибли оба архива. Уцелела лишь незначительная часть, переданная на прочтение знакомым…
Из архива Антона Фонтона сохранились лишь выписки из писем Воронцова к А. Фонтону по поводу Пушкина и об известном рапорте в стихах о саранче…
Моя просьба — дать добрый совет, в какое издание мне обратиться для помещения моих рукописей за скромный гонорар. Если они могут заинтересовать Вас, попрошу разрешения выслать их для ознакомления с просьбой вернуть мне их или, что легче, передать сестре моей Екатерине Сергеевне Иловайской в Одессе, Казарменный переулок, д. № 4…
Александр Сергеевич Сомов"II. Письмо от 3 января 1928 года
"Глубокоуважаемый Александр Михайлович!
Искренне благодарю Вас за хлопоты. Конечно, буду очень рад, если Вы найдете возможность сделать в Пушкинской комиссии, не только в закрытом, но и публичном заседании, сообщение по содержанию воспоминаний Н. М. Еропкиной. Записанные мною воспоминания ее имеются только в одном экземпляре и никогда напечатаны не были. Записал я их по настоянию покойного академика Кони, большого почитателя Н. М., к которой он часто забегал поболтать.
Однажды он обратился ко мне — студенту с упреком:
— То, что рассказывала мне сегодня Н. М. о Жуковском, — золото. Что стоит Вам взять карандашик и записать? Умрет она — все погибнет…
Я так и сделал. Она прочла и нашла все правильным. Читал мое писание и большой друг ее Яков Карлович Грот. Он настаивал, чтобы воспоминания эти тогда же напечатали. Но у меня наступили выпускные экзамены, воинская повинность, дипломатический экзамен и 30 лет заграничной службы. Вернулся я в Россию перед самой войной…
Заметку об архиве Фонтона с выдержками из писем гр. Воронцова о Пушкине и саранче переписываю и вышлю Вам для ознакомления.
Искренне преданный Вам А. Сомов".В той же папке, которую я разбирал, уже сорок лет Хранились записки Надежды Михайловны Еропкиной… Перелистываю нежданные мемуары неизвестной мне женщины: Пушкин, Вяземский, Наталья Николаевна, опять Пушкин — что за наваждение? Неопубликованные воспоминания о Пушкине!.. Но ведь не за этими же воспоминаниями я ехал… Моя цель — письмо Воронцова про саранчу, однако ни строчки Воронцова не видно!
— Нет, к сожалению, ничего у нас больше не найти. Вот старинные деловые бумаги нашей библиотеки. Видите, счет, выписанный Сомову за воспоминания Еропкиной, но в счете не упомянуты какие-либо письма Воронцова о Пушкине и саранче. Записками Еропкиной интересовались когда-то одесские пушкинисты, да где они? Михаил Павлович Алексеев теперь в Ленинграде, академик; Сергей Петрович Шестериков погиб в 1941-м. Кажется, он этим всем и занимался…
Снова достаю выписку из тетради Цявловских: в декабре 1928 года Дерибас в Москве читал или пересказывал им письма Воронцова. Значит, между 3 января 1928 года (дата последнего письма А. С. Сомова) и концом того же года произошли следующие события: 1. А. С. Сомов умирает. 2. Текст обещанных писем передает Дерибасу сын покойного, Александр Александрович Сомов. Но именно этого текста нет… Может быть, библиотека не приобрела рукописи, которая вернулась к хозяевам, Сомовым? Да и без того в семье Сомовых, вероятно, осталась копия. Вспоминаю:
"Сестра моя Екатерина Сергеевна Иловайская, в Одессе, Казарменный переулок, дом 4"…
Сорок лет назад по этому адресу жила старая женщина, родная сестра того, кто владел интересующей меня рукописью. Она же была посредницей в переговорах, ей рукопись была переслана и у нее, может быть, осталась!
Но… 1928–1967; той женщины не может быть в живых… Благодаря «Одессике» легко нахожу, как теперь называется Казарменный переулок: переулок Некрасова ("Казарменный" — из-за казарм Суворова, а Некрасов, кажется, и в Одессе-то не бывал!).
На время откладываю соблазнительные записки Еропкиной и выхожу из библиотеки. Вдруг навстречу старичок, такой старичок, которого сразу захотелось спросить, где находится переулок Некрасова. Старичок, глядя на меня с грустным презрением, поясняет, что Казарменный, где и он сам проживает, начинается в десяти шагах от места нашего разговора…
Старинный двухэтажный дом, переулок Некрасова, № 4. Вхожу. Предстаю перед хмурым человеком, моющим собственный автомобиль. Как спросить о Екатерине Сергеевне Иловайской?
Художественная литература учит, что все обо всех знают только дворники.
— Будьте любезны, как найти дворника?
— А што, мы уже такие люди, што не знаем чего-нибудь такого, об чем знает ваш дворник?
— Видите ли, мне надо узнать о Екатерине Сергеевне Иловайской, которая жила в этом доме много лет назад…
Невидимый хор:
— Пожалуйста! Пожалуйста!
Поднимаю голову: изо всех окон высунулись женщины, и на их лицах написано желание освободиться от избытка информации. Тут меня подхватывают, стремительно проводят по сумрачной лестнице и осторожно вталкивают в маленькую полутемную комнату.
Слышу за спиной:
— Вот Мария Ивановна вам все и расскажет.
Маленькая женщина, приветливая и седая, приглашает меня сесть и начинает расспрашивать, кто я и зачем я. Понимаю, что предстоящий разговор во многом зависит от того, кто я и зачем. Мы неспешно разговариваем, и, когда приходим к общим взглядам, тогда я узнаю, что опытнейшая операционная сестра Мария Ивановна может мне кое-что рассказать.
— В этом самом доме живу я с 1915 года. Вообще-то дом принадлежал Екатерине Сергеевне Иловайской, урожденной Сомовой, но еще до революции часть дома занимал князь Трубецкой (потом уехал, а после этой войны дети его вернулись, культурные люди, инженеры, работают сейчас на Украине). После революции чего только в нашем доме не происходило: братья и сестры Екатерины Сергеевны уехали за границу, в России остался только Александр Сергеевич Сомов, о котором вы спрашиваете, да Екатерина Сергеевна. Ей платили пенсию за мужа, профессора Иловайского, кончившего еще в 1907 году жизнь самоубийством, может быть, от ревности. Между прочим, по его книгам о финансах учились в советское время. Екатерина Сергеевна была женщина бессребреная: во-первых, отдала часть дома мадам Витте… Вы не знаете мадам Витте? Жена родного брата знаменитого министра. Она жила вот за этой кухней до самой смерти… Потом Екатерина Сергеевна помогала девушкам писать французские письма: вы понимаете, что, когда французы в 1920-м ушли отсюда, многим девушкам ничего не оставалось, как писать французам воспоминательные письма, а Екатерина Сергеевна переводила их на тот язык. Кстати, помогала она еще тем людям, кто снимал в Одессе кинофильм "Петр I", потому что те люди не знали, как там и что было, а Екатерина Сергеевна отдала им свое длинное платье и бусы, и они это использовали…
Вы спрашиваете про Александра Сергеевича Сомова. Я хорошо помню его — перед смертью он как-то приезжал сюда из того села, где работал, усы у него уж свисали, а в молодости-то как топорщились!.. Нет, о письмах и бумагах точно я вам не скажу. Знаю, что какие-то бумаги Екатерина Сергеевна посылала в Ленинград, помнится, не о Пушкине, а о Тургеневе: вы ведь знаете, что знаменитый писатель Тургенев был влюблен в мать Екатерины Сергеевны…
— Да, я об этом знаю. Но что с нею произошло дальше?
— А дальше… В конце войны Екатерина Сергеевна умерла…
— Но ведь племянники были: у Александра Сергеевича был сын, Александр Александрович Сомов?
— Да, был такой. Гимназию успел только закончить, а большего образования не получил. Сначала они в деревне жили, потом, после смерти Александра Сергеевича, перебрались в Одессу, к тетушке Екатерине Сергеевне. Профессор Филатов их пригрел, и где-то при его институте Александр Александрович Сомов и состоял. В 1941-м он ушел на фронт, рядовым — по образованию в офицеры не вышел, — и погиб вскоре. Хоть и офицеры погибали тоже, но как-то преследовало его всю жизнь отсутствие диплома…
— Но, может быть, у Александра Александровича осталась семья и сохранились бумаги отца и деда?
После паузы Мария Ивановна сообщает:
— Давайте съездим сейчас к ним. Я бы дала вам адрес, да они испугаются, чего доброго.
И вот мы садимся в трамвай и бесконечно долго едем и разговариваем. Разговор идет о родословной Сомовых. Первое поколение, которое нас занимает, — это Александр Михайлович Тургенев (родственник писателя Ивана Тургенева и декабриста Николая Тургенева). Его единственной дочерью была Ольга Александровна, которой увлекался Тургенев-писатель — он с нее писал Татьяну в романе «Дым». Она вышла за уланского офицера Сергея Николаевича Сомова. Александр Сергеевич, Екатерина Сергеевна — это ее дети, которых после смерти матери воспитывала лучший друг этой семьи Надежда Михайловна Еропкина, Александр Александрович Сомов, погибший в 1941-м, — это четвертое поколение…
Трамвай везет нас к пятому и шестому.
Квартира находилась на Малой Арнаутской, где, по утверждению Остапа Вендора, делалась вся одесская контрабанда (улица после называлась еще Суворовской, затем — Малиновского и Воровского). На нас удивленно глядят три женщины: у пожилой — спокойные и очень добрые глаза. Еще в трамвае я узнал, что в деревне, после революции, дворянский сын Сомов женился на милой крестьянской девушке, которая вела все хозяйство не очень приспособленной, растерявшейся в новой жизни семьи. Это ее муж, Александр Александрович, не вернулся с войны…
Пятое поколение представляла женщина энергичная, живая, но тоже, видимо, хлебнувшая невеселого житья.
Но одесские мамы желают добра своим детям, и поэтому симпатичная девушка (шестое поколение), как я узнал, "играет на скрипке в музыкальной школе, но бывает, что ленится".
Мария Ивановна объясняет, зачем мы пришли, и я спрашиваю о Сомовых, но тут же и меня спрашивают о Сомовых.
— А знаете ли, — обращаюсь к музыкальной девочке, — что в вашу прапрабабушку влюблен был Тургенев и, может быть. Лев Толстой?
Тут мама, пятое поколение, сладко уронив голову на руки, говорит:
— Теперь я хоть понимаю, отчего мне с таких приличных предков никогда не хочется работать!
Старшая из трех женщин между тем начинает рассказывать:
— Жили мы в двадцатых годах в деревне Цекиновке Ямпольского уезда, сейчас это Винницкая область. Александр Сергеевич состоял при метеостанции и все писал, все работал, целый чемодан после него остался бумаг и книг. А потом умер он, и решили мы в Одессу податься, к тетушке Екатерине Сергеевне, взяли самое необходимое, а книги, бумаги оставили у наших хозяев, чтоб потом за всем этим вернуться… Через два года приехали — оказывается, хозяин зарыл чемодан с бумагами в саду, а сам уехал и не вернулся никогда… Так и лежит уже сорок лет в саду, в селе Цекиновке, чемодан с бумагами Александра Сергеевича Сомова, а в том чемодане, может быть, о Пушкине и еще мало ли о ком… Напишите в журнале — может, кто (хоть пионеры цекиновские!) и найдет тот чемодан. Жалко, места, где он зарыт, точно никто не знает, хотя тот сад сохранился.
Мы прощаемся и выходим на Малую Арнаутскую, затем сквозь хмурый дождик долго едем обратно, и я жалуюсь Марии Ивановне, что вот были люди и были ценные рукописи, пусть не рукою Пушкина, но о Пушкине, — и вот никого и ничего нет: нет ни старших Сомовых, ни Дерибасов.
Ночью возвращаюсь в гостиницу по Пушкинской, бывшей Итальянской, улице. Дождь льет, а город спит миллионами человеко-часов…
6 мая.
Целый день — в научной библиотеке. Копирую записки Еропкиной. Знакомлюсь с приятнейшими людьми, одесскими историками Вадимом Сергеевичем Алексеевым-Поповым и Саулом Яковлевичем Боровым. Их адреса дали в Москве (мой пароль: "Пушкин, Цявловские, Еропкина, Сомовы").
7 мая.
С утра в библиотеке, все копирую записки Еропкиной. Затем новый визит к историкам. Они мне сочувствуют. О записках Еропкиной, конечно, слыхали: у них дурная слава, будто бы фальшивые, написанные Сомовым, так сказать, "задним числом". Но, кажется, никто ничего не публиковал — ни «за», ни «против». Работал над ними Сергей Петрович Шестериков, но погиб… В. С. Алексеев-Попов — коллекционер. Он показывает мне портрет Надежды Михайловны Еропкиной очень недурной работы. Разговор заходит об искусстве, и вдруг С. Я. Боровой предлагает отправиться на одну старую квартиру. Если уж там ничего не скажут о Воронцове и саранче, то не скажут нигде в Одессе.
Поход назначается на вечер. Наконец час наступает, и мы входим в старую квартиру, где среди множества жильцов разыскиваем семидесятипятилетнего старика, назовем его С. (мне объясняют: "Он для форсу распустил седую бороду и хочет выглядеть на все девяносто…"). После какой-то немыслимой лестницы и зловещих чуланов вдруг открываем дверь и видим небольшой квадрат пола, стиснутый мощными шкафами и полками, давно отогнавшими от стен хозяина. Как только увидал он нас, так, прежде чем сказать "мое почтение", машинальным, очень хорошо отработанным движением достал из углубления в одной из полок желтоватый графинчик…
Меня представляют как московского гостя, снова говорят о Дерибасах, Сомовых, при каждой фамилии хозяин кивает, но не просто кивает, а вспоминает этих почтенных людей.
Он думает… Он говорит, что головой отвечает за Одессу, но только за Одессу. За Херсон или Ленинград он не отвечает. Нет, кроме известного ему портрета Еропкиной и некоторых воспоминаний о Дерибасе, в Одессе ничего не найти по интересующему нас сюжету…
— Вы говорите, письма Воронцова, где он жалуется на Пушкина? Очень, очень интересно…
При имени Пушкина хозяин молодеет. И борода его — уже не «девяностолетняя», а не больше как лет на двадцать пять, которые исполнились ему когда-то, в начале нынешнего столетия. Он говорит, что если б имел средства, то имел бы немало настоящей Пушкинианы.
Мои спутники возражают:
— Мы, одесситы, вас знаем. Конечно, вы человек искусства, но на хлеб и даже на селедку ведь хватает?
— Э, разве это работа? Люди делали состояние на античности, на золоте, на кладах, на скифах: когда власть менялась, то все эти клады, вазы и скифы шли в оборот, и я знал людей — ого, каких я знал людей!.. Я же не гонялся за цифрой. Мое дело — книга, живопись, инкунабула, Пушкин…
И тут я увидел, как любит Пушкина человек, с которым я познакомился десять минут назад. Он знает все адреса его и знает, как прежде называлась Пушкинская улица, и у него (только у него!) есть несколько видов тех зданий, куда заходил Пушкин, — а теперь в тех зданиях "уже не тот интерьер", — и есть у него (и только у него) журнал "с пушкинского времени".
Он знает о Пушкине все, но… Пушкина не читал. Он любит его и без этого. Пушкин ему очень импонирует своим характером: человек хороший…
— Да, кстати, есть тайна, но я вам расскажу лишь при условии, что вы не вывезете эту вещь из Одессы.
— Нет, я не вывезу эту вещь из Одессы.
— Тогда слушайте: я продал человеку (ну да, тому, у которого отдельная комната только для коллекций, а посреди комнаты кровать, а на кровати спит или не спит мадам, и, если кто войдет, она садится на кровать и вместо «здравствуйте» смотрит, чтобы вы чегонибудь не сперли или муж чего-нибудь не продал), так я продал этому человеку одну доску, а на той доске несколько медальонов с пушкинскими друзьями. Тайна ее в том, что можно каждый медальон поддеть ножом и в ячейке прочесть имя изображенного. Там все друзья Пушкина, кажется, и этот… Липранди.
Свят, свят, думаю я, Липранди!.. Всего один портрет его известен, но совсем не достоверен. Пушкин любил рисовать своих друзей. В его рукописях много неопознанных портретов, а если бы мы знали Липранди в лицо, многое можно было бы угадать!.. Мои спутники надеются узнать все, что возможно, про "эту вещь". Разговор подходит к концу. Одесситы смущены, что ничего не узнали о письмах Воронцова. Я же восхищен происходящим. Мы прощаемся с хозяином:
— Будьте здоровы!
— Таки покажите мне в этом пример!..
8 мая.
В аэропорт. Самолет — вверх, город — вниз. Город, у которого я выпросил немного чужих человеко-лет, не нашел, чего искал, нашел, чего не искал, и вот еду домой — думать и еще искать и почему-то очень доволен.
МОСКВА
Четырнадцатое мая. У Татьяны Григорьевны Цявловской делаю отчет о поездке. Хозяйка дома пригласила нескольких опытных пушкинистов. Читаю воспоминания Еропкиной (записанные Сомовым), о которых все присутствующие слыхали, знают отрывки, но никто не видел их полностью…
Сначала — о жене поэта. Воспоминания очень интересные, как-то не похожие на другие отзывы современников. Обычно все, как один, повторяли: "Наталия Николаевна красива… красива…" Как-то было неясно, что еще было в ней, кроме этой знаменитой красоты. Я, кажется, впервые стал понимать «секрет» очарования Гончаровой, прочитав несколько страничек Еропкиной. Судите сами:
"Наташа была, действительно, прекрасна, и я всегда восхищалась ею. Воспитание в деревне на чистом воздухе оставило ей в наследство цветущее здоровье. Сильная, ловкая, она была необыкновенно пропорционально сложена, отчего и каждое движение ее было преисполнено грации. Глаза добрые, веселые, с подзадоривающим огоньком из-под длинных бархатных ресниц. Но покров стыдливой скромности всегда вовремя останавливал слишком резкие порывы.
Но главную прелесть Натали составляли отсутствие всякого жеманства и естественность. Большинство считало ее кокеткой, но обвинение это несправедливо. Необыкновенно выразительные глаза, очаровательная улыбка и притягивающая простота в обращении, помимо ее воли, покоряли ей всех.
— Федька, принеси самовар, — скажет она и так посмотрит, что Федька улыбнется во весь рот, точно рублем его подарили, и опрометью кинется исполнять приказание.
— Мерси, мсье, — произнесет она, благодаря кавалера за какуюнибудь услугу, и скажет это совершенно просто, но так мило и с такой очаровательной улыбкой и таким окинет взглядом, что бедный кавалер всю ночь не спит, думает и ищет случая еще раз услыхать это "мерси, мсье". И таких воздыхателей была у Наташи тьма. Не ее вина, что все в ней было так удивительно хорошо. Но для меня так и осталось загадкой, откуда обрела Наталия Николаевна такт и умение держать себя? Все в ней самой и манера держать себя было проникнуто глубокой порядочностью. Все было "comme il faut" (Настоящее, благородное [франц. ])) — без всякой фальши. И это тем более удивительно, что того же нельзя было сказать о ее родственниках… Наталия Николаевна появилась в этой семье удивительным самородком.
Пушкина пленила и ее необычайная красота, и не менее, вероятно, прелестная манера держать себя, которую он так ценил. Для него была она той волшебницей-Музой, которую призывал он. И вот во всей красе спустилась она на землю, и он, как сам выразился, "богомольно преклонился перед нею".
Большего Наталия Николаевна дать не могла. Быть в настоящем смысле подругой жизни такого человека, как Пушкин, превышало ее силы. Вряд ли в состоянии была она оценить и восхищаться произведениями его. Образование ее очень хромало. Любила она его, как любила бы всякого другого мужа, выбранного матерью, и мне кажется, что не раз пожалела, что Пушкин писатель, а не блестящий гусар.
Многие обвиняют бедную Наталию Николаевну в неверности мужу, из-за которой он будто бы и погиб. Зная Натали, готова поручиться, что, кроме легкого кокетства, ничего не было.
Многие обвиняют ее и за то, что, по кончине Александра Сергеевича, она скоро утешилась и вышла замуж за другого. Но нельзя больше требовать, чем что кому дано. Насколько Наталия Николаевна была прекрасна по внешности, настолько же неглубока. Пушкин был для нее "обыкновенный муж". Она искренне горевала и плакала, сколько полагается, затем утешилась и с чистой совестью вышла за другого.
Пушкин, как видно из писем его, был глубоко счастлив и до последней минуты влюблен в свою жену.
Кто знает? Может быть, другая женщина, хотя бы и с более глубокими чувствами, не сумела бы дать ему полного счастья… Наталии Николаевне это удалось.
Будем благодарны ей и за это.
А. Сомов".
В конце своей записи А. С. Сомов поставил дату: "8 апреля 1883 года".
Много любопытного было и в записках "бабушки Еропкиной" о самом Пушкине.
"Пушкина нельзя было назвать красивым, — замечает она, — но и в тысячной толпе каждый отметил бы его. Глаза были замечательные — красивые и необыкновенно выразительные. Они приковывали. Я встречала много людей с пронзительным взглядом. Смотрят они на вас и как бы хотят без спроса все сокровенные мысли ваши узнать. Невольно от таких глаз замкнешься — в себя уйдешь. Пушкин смотрел прямо в глаза, но никакой тяжести или неловкости от этого не ощущалось. Напротив, глаза его манили, притягивали. Они как бы говорили:
— Будьте откровенны с нами, хозяин наш хороший человек. И действительно, так смотреть мог только человек с чистой совестью, не способный ни на что дурное. Так же смотрел и Василий Андреевич Жуковский, но глаза его были меньше, сидели глубже, но в них отражалась та же чистая совесть. Оттого, может быть, и были они такими друзьями.
Глаза Пушкина во время спора разгорались, метали молнии; казалось, что сейчас вырвется слишком резкое выражение, но вместо этого слышалось опровержение меткое, но в самой деликатной и вежливой форме. Это производило чарующее впечатление.
Когда мне приходилось говорить с Пушкиным, все внимание мое сосредотачивалось на его глазах, и они как бы прикрывали все остальное. А это — все остальное — было изящно".
Еропкина встречалась с Пушкиным в Москве весною 1830 года: "Я пожаловалась Александру Сергеевичу, как трудно читать "Евгения Онегина", который выходит кусочками. Появится продолжение, а начало уже частью забыто. Хочешь перечитать первую часть, а ее не достанешь.
— Увидит Онегин еще раз Таню и какой будет конец? — полюбопытствовала я.
— Я понимаю, что читать «Онегина» отрывками неприятно, и, конечно, здесь моя вина. Но пишу я «Онегина» для себя. Это моя прихоть, мое развлечение. Не следовало печатать до окончания, но такие были обстоятельства… Почему художник может написать картину не для продажи, а для себя и может любоваться ею, когда хочет, а писатель менее свободен в этом отношении? Конечно, Онегин увидится с Таней, но конец, конец…
…Пушкин долго молчал. Неожиданно поднял он голову и, взглянув мне прямо в глаза, быстро и решительно произнес:
— Конец-развязка произойдут или очень скоро, или долго придется их ждать. Таня и Евгений будут стареть со мною, и я долго не расстанусь с ними. Все зависит от того, женюсь я или нет. Если да, то какая жизнь будет Тане? Молодая жена, сцены ревности. Мало времени бедной Тане придется уделить… А Евгений, наверно, обидится и, пожалуй, назло рассыплется на кусочки… Лучше покончить. Не женюсь я, другое дело…
…Вскоре он женился, уехал в Петербург, и больше я его не видела ".
Кроме воспоминаний о поэте, Еропкина и Сомов сообщали также копию какого-то неизвестного стихотворения о Москве и Петербурге, которое они считали пушкинским…
Все это было прочтено на том вечере у Т. Г. Цявловской. Пушкинисты внимательно выслушивают все; потом обмениваются мнениями, находят в тексте воспоминаний "аромат подлинности": "Так не подделывают". Однако стихотворение о Москве и Петербурге единогласно отвергается: не Пушкин! Пушкин не писал так плохо и так длинно. Но как же тогда совместить несовместимое? Присутствующие говорят, что раньше мы требовали от исторического и литературного источника слишком много и порой чересчур поспешно отбрасывали документ, верный наполовину или на треть: "Мы слишком избалованы. Слышали бы нас историки древности, у которых часто все сведения о целом историческом периоде сводятся к рассказам человека, жившего 500 лет спустя". Почтенное собрание соглашается, что встречи и разговоры Еропкиной с Пушкиным были на самом деле, что, возможно, и стихи Пушкин действительно написал, но совсем не эти. Либо Еропкина что-то напутала много лет спустя, либо Сомов что-то придумал. К 1883 году, когда записывались воспоминания Еропкиной, успело выйти много статей и книг о Пушкине; Еропкина и Сомов, разумеется, их читали и, может быть, невольно соединили чужие впечатления со своими…
Но тут разговор возвращается к «саранче», с которой ведь все началось. Гости сожалеют, что текст писем Воронцова о Пушкине так и не удалось найти и вряд ли удастся.
Но тут вдруг Ксения Петровна Богаевская просит слова и сообщает, что у нее сохранились письма мужа, Сергея Петровича Шестерикова, и собственные ответные послания. Сергей Петрович, талантливый и неутомимый исследователь, автор многих статей и публикаций о Пушкине, Лескове, декабристах, как уже говорилось, погиб на войне.
Вот что мы слышим вскоре в чтении Ксении Петровны. 7 августа 1938 года. С. П. Шестериков пишет Ксении Петровне из Одессы в Москву, что пошлет через несколько дней "рукопись Сомова о Пушкине (Фонтон). Подарил мне ее Александр Михайлович Дерибас (ныне покойный)… О Сомове я дал справку на обложке. Может быть, Музей Пушкина соблазнится и приобретет".
Из других писем было ясно, что Шестерикова и других смутили подозрительные стихи из записок Еропкиной, бросавшие свою «тень» и на письма Воронцова.
Но все же из сообщения Ксении Петровны следовало, что те самые рукописи, которые я так настойчиво искал в Одессе, были еще тридцать лет назад приобретены Музеем Пушкина и, стало быть, перешли затем в рукописное хранилище Ленинградского Пушкинского дома. Там и должны они храниться, никем пока не опубликованные.
Значит, прав был старый одесский букинист: он отвечал только за Одессу, но за Ленинград он не отвечал…
ЛЕНИНГРАД
Все дни в Ленинграде была не просто плохая погода, а замечательно плохая погода. Туман, дождь, снег, грязь, угроза наводнения… Именно в такую погоду пришло когда-то сообщение о смерти Александра I и начале междуцарствия. Именно в такие дни, неотличимые от вечеров, являлся к царским дворцам призрак Петра.
Мне кажется, что именно в такие дни особенно славно, пройдя по Дворцовому мосту и Стрелке Васильевского острова, скрыться от непогоды за дверь, на которой написано: "Институт русской литературы Академии наук СССР (Пушкинский дом)". Тот Пушкинский дом, который девять человек из десяти путает с другим Пушкинским домом, последней квартирой поэта на Мойке… И еще славно, войдя в уютную читальную комнату Отдела рукописей, глянуть за окна и угадать контуры Петропавловской крепости. А потом непременно поглядеть направо и увидеть темно-красный шкаф с выдвижными ящиками, а на нем — портрет человека с длинной бородой: Борис Львович Модзалевский, один из основателей Пушкинского дома, и его единственная в мире картотека, где на каждой карточке — различные сведения о тех лицах, что встречались Модзалевскому в книгах и журналах, и не счесть, сколько за свою жизнь этот человек одолел книг и журналов…
Рукописный отдел Пушкинского дома — величайшее хранилище рукописей: от пергамена XII века до машинописи последней трети XX столетия. Здесь я сразу выкладываю главный мой вопрос:
— Еще перед войной С. П. Шестериков передал в Музей Пушкина рукопись Сомовых о Пушкине, Воронцове и саранче. Я понимаю — война, блокада, эвакуация, возвращение, а этот документ не первой ценности, всего лишь копия, да еще неясно, насколько достоверная. Но, может быть, она у вас сохранилась?
— Пожалуйста, вот рукопись: фонд 244 (архив А. С. Пушкина), опись 17, единица хранения 123.
Желанный берег… Те самые тетради, ради которых предпринималась экспедиция в Одессу!
Три ученические тетради — по-украински «зошит», — с индустриальными пейзажами на обложках. Заглавие: "А. С. Сомов. Письма Воронцова Фонтону о Пушкине". Почерк сына Сомова — Александра Александровича, погибшего на фронте в последнюю войну. По-видимому, он писал под диктовку отца. Открываю тетрадь и вижу:
"В числе ценных документов, погибших при ограблении и поджоге дома нашего в имении "Новая Швейцария" Ямпольского уезда, к крайнему сожалению, оказался почти целиком и архив Фонтона".
Пачка писем графа Нессельроде… Письма князя Горчакова, графа Киселева, графа Дибича и многих из наших представителей за границей. Большая пачка писем князя Воронцова, новороссийского наместника. Видно, что князь находился с Фонтоном в близких, дружеских отношениях. Начинаются они или "Mon cher Fonton" или "Моп cher Antoin".
Большая часть писем из Одессы в Петербург касается местных дел. Князь Воронцов справляется или просит совета у Фонтона, как знатока Востока, по делам карантина и т. д.
Среди писем князя Воронцова Антону Фонтону невольно обратили на себя мое внимание несколько писем, в которых речь идет о Пушкине. Первое письмо, очень большое, начинается с жалоб на Пушкина.
"Каждый из нас, — пишет князь Воронцов, — должен уплатить свою дань молодости, но Пушкин уже слишком удлинил свою молодость. Попал он в общество кутил: женщины, карты, вино. Нужно отдать ему справедливость, что все кутежи эти сходят у него благородно, без шума и огласки. Поэтому, будь это кто иной, нечего было бы и сказать. Но его величество живо интересуется Пушкиным, и в мою обязанность входит и заботиться о его нравственности. В Одессе задача эта не легкая. Если бы и удалось уберечь его от местных соблазнов, то вряд ли удастся сделать то же по отношению прибывающих путешественников, число которых все увеличивается и среди которых у него много друзей и знакомых. Все эти лица считают долгом чествовать его и чрезмерно превозносят его талант. Пушкина я тут не виню: такое отношение вскружило бы голову человеку и постарше. А талант у него, конечно, есть. Каюсь, но я только недавно прочел его знаменитый «Руслан», о котором столько говорили. Приступил я к чтению с предвзятой мыслью, что похвалы преувеличены. Конечно, это не Расин, но молодо, свежо и занятно. Что-то совсем особое. Кроме того, надо отдать справедливость Пушкину, он владеет русским языком в совершенстве. Положительно звучен и красив наш язык. Кто знает, может быть, и мы начнем вскоре переписываться по-русски…
Если Вы не читали, прочитайте «Руслана» — стоит".
Вообще по тетради Сомова видно, что он припоминает французские письма, потому что все время чередует русские и французские обороты. Но продолжим чтение:
"В последующих письмах князь Воронцов заявляет, что Пушкин по отношению к нему ведет себя возмутительно и что по городу ходят эпиграммы на него. Конечно, Вы их уже знаете, такие произведения расходятся быстро. Остроумно, но зло, и последнее огорчает меня.
Князь Воронцов указывает, что он сделал все, чтобы облегчить положение Пушкина, а тот, по-видимому, этого не сознает. Так как чиновника из него выработаться не может, то ему делали всякие снисхождения и работой не тревожили. Но такое безделье вредно для молодого человека, и поэтому князь хотел воспользоваться Пушкиным для командировок по разным поручениям в пределах наместничества. Для пробы Пушкин был отправлен на саранчу. И что же вышло?
Полковник X. (фамилию не помню) явился ко мне с докладом крайне возмущенный и показал мне рапорт Пушкина о своей командировке. Мой милый Фонтон. Вы никогда не угадаете, что там было. Стихи, рапорт в стихах!
Пушкин писал:
Саранча летела, летела И села. Сидела, сидела — все съела И вновь улетела.Полковник метал гром и молнию и начал говорить мне о дисциплине и попрании законов. Я знал, что он Пушкина терпеть не мог и пользовался случаем. Он совсем пересолил и начал уже мне указывать, что мне делать следует…
Принесите мне закон, который запрещает подавать рапорты в стихах, осадил я его. Кажется, такого нет. Князь Суворов Италийский, граф Рымникский, отправил не наместнику, а самой императрице рапорт в стихах: "Слава Богу, слава Вам, Туртукай взят, и я там".
Когда удивленный полковник вышел, я начал думать, что же сделать с Пушкиным. Конечно, полковник был глубоко прав. Подобные стихи и такое легкомысленное отношение к порученному делу недопустимо. Меня возмутила только та радость, с которою полковник рыл яму своему недругу. И вот я решил на другой день утром вызвать Пушкина, распечь или, вернее, пристыдить его и посадить под арест. Но ничего из этого не вышло. Вечером начал я читать другие отчеты по саранче. На этот раз серьезные, подробные и длинные- предлинные. Тут и планы, и таблицы, и вычисления. Осилил я один страниц в 30 и задумался — какой вывод? Сидела, сидела, все съела и вновь улетела, — другого вывода сделать я не мог. Прочел вторую записку, и опять то же — все съела и вновь улетела… Мне стало смешно, и гнев мой на Пушкина утих. По крайней мере он пощадил мое время. Действительно, наши средства борьбы с этим бичом еще слишком первобытны. Понял ли он это или просто совпадение?
Три дня не мог я избавиться от этой глупости. Начнешь заниматься, а в ушах все время: летела, летела, все съела, вновь улетела. Положительно хорошо делают, что не пишут рапорты в стихах… Пушкина я не вызывал, но поручил Раевскому (кажется, так?) усовестить его. Из всего мною сказанного ясно, что место Пушкина не в Одессе и что всякий другой город, исключая, конечно, Кишинев, окажется более для него подходящим. Вот и прошу я Вас, мой дорогой Фонтон, еще раз проявить во всем блеске Ваши дипломатические способности и указать мне, во-первых, кому написать и, вовторых, как написать, чтобы не повредить Пушкину. Мне не хочется жаловаться на Пушкина, но нужно изобразить дело так, что помимо его все в Одессе таково, что может оказаться гибельным для его таланта. Но довольно, заплатив долг поэзии, перейдем к прозе и более существенному и ближе нас всех касающемуся — к вопросу о замощении Одессы…"
В конце письма подчеркнуто: "сожгите это послание".
Последнее письмо отправлено много позднее, в августе 1824 года. Князь Воронцов благодарит Фонтона за совет, которому он последовал в точности. Написал он графу Нессельроде (министру), и мягко. Пушкин отправлен в имение под опеку родителей. Но удивительно, что кара эта была не последствием письма князя, а вызвало ее письмо самого Пушкина. Легкомысленно писал (он) одному из приятелей, что склоняется к атеизму под влиянием заезжего англичанина-философа. Письмо было перехвачено…
"Мне жаль его, — пишет кн. Воронцов, — неужели не догадывался он, что за ним следят. Думаю, что с его стороны это была шутка, конечно, неуместная. Мне говорили, что Пушкина не один раз видели в церкви и что он заказывал даже обедню. Рад, впрочем, что не мое письмо причина этой невзгоды. Странно, несмотря на то, что молодой поэт считал меня своим врагом и поступил со мною не хорошо, я продолжаю питать к нему хорошее чувство. Мне кажется, что разврат, которому он здесь предавался, скользил, не затрагивая его хороших природных качеств. Если бы он был развратником, то вряд ли удалось ему дойти до той поразительной тонкости и деликатности в мыслях и чувствах, которые находятся в некоторых из его произведений. Поэтому искренне желаю, чтобы вдали от шума он развил свой талант и избавился от подражания неудавшемуся лорду" {3}.
Внизу опять просьба сжечь письмо. "Но умница Фонтон, — замечает Сомов. — не сжигал письма наместника, а приобщал их к своему архиву. И хорошо сделал".
* * *
Последняя тетрадь закрыта. Конечно, хорошо, если бы это была старинная бумага, выцветшие чернила, «екатерининский» или «александровский» почерк… Но на последней обложке замечаю заповедь юных пионеров: "Пiонер не лаеться, не палить цигарки i не пе".
На окнах — слезы северного неба, но непогоды на севере не столь грустные, как у Черного моря. В Отделе рукописей тепло и свободно. Я кладу рядом выписку из тетради Цявловских и три тетрадки Сомовых. Экспедиция окончена: вот то, из-за чего я надоедал сотрудникам Одесской публичной библиотеки, зачем ходил в бывший Казарменный переулок, зачем потревожил столько симпатичных одесситов. Вот — то, о чем говорилось в Москве, за чем — в Ленинград.
Но как хорошо, что я не нашел эту рукопись сразу, прозаически! Что же я делал бы тогда в Одессе?
Впрочем, закончена ли экспедиция? Надо понять, насколько верно вспомнил Сомов письма Воронцова.
Довод "против" (так хочется, чтобы было «за», что совесть требует самообуздания). Подлинника нет. Владельцы утверждают, что он сгорел. Но такие письма легко можно было бы составить, сочинить "по литературе". Ведь к 1918 году о Пушкине и Воронцове было опубликовано уже немало.
Довод "за". Сходство с литературой может служить одновременно и доказательством правдивости. К тому же в этих письмах не один пушкинист чувствует "аромат подлинности".
Довод "против". Сомов в 20-х годах нуждался в деньгах и, может быть, подсочинил какие-то подробности к реальному «ядру». К тому же Воронцов не слишком ли хорош? Мы ведь привыкли к "полумилорду, полуневежде, полукупцу и полуподлецу"!
Довод "за". Странно было бы искать в 20-х годах заработка, сообщая факты, как-то обеляющие Воронцова: скорее, наоборот — тогда имела бы успех подделка, предельно очерняющая этого сановника. Между тем Воронцов был человеком со своими понятиями о чести. Не нужно представлять его ни лучше, ни хуже, чем он был; суть его конфликта с Пушкиным в том, что Воронцов — человек, более или менее честно державшийся своей системы взглядов, но просто Пушкин жил совсем по другой системе… К тому же не все так просто в «добродушных» письмах Воронцова; всесильному губернатору, пожалуй, стыдно было перед своим аристократическим кругом грубо расправляться с коллежским секретарем Пушкиным. Столь примитивная месть уронит его в глазах общества. Поэтому граф избирает другой план: пишет Фонтону о своих симпатиях к Пушкину, желании уберечь его и для того — убрать из Одессы (не станет же Воронцов писать, что он еще, не без оснований, ревнует Пушкина к своей жене!). Убрать поэта из Одессы, но не роняя своей чести, — вот чего хотел наместник, но чего все-таки не добился: вскоре вся читающая публика узнала, кто и за что мстил Пушкину.
Тут уместно вспомнить и о том, что в одесских отчетах рапорт Пушкина о саранче — единственный, которого не хватает: понятно, нельзя было подшить стихотворный отчет к другим официальным делам.
Но — довольно…
О многом — думать, во многом — разобраться. Искать. Еще не расшифрованы тысячи пушкинских часов — московских и петербургских, одесских и кишиневских, михайловских и болдинских. Они дожидаются других экспедиций и иных описаний…
Не пора ли опять хоть в Одессу или лучше в Михайловское, где сойдутся надолго, на целую главу, оставленные нами пути трех лицеистов?
Глава 3 ГДЕ Ж ЭТИ ЛИПОВЫЕ СВОДЫ?
Итак, в один прекрасный день Пушкина выключают из службы и отправляют из теплой одесской ссылки в прохладную михайловскую…
…я еще Был молод, но уже судьба и страсти Меня борьбой неравной истомили. Я зрел врага в бесстрастном судии, Изменника — в товарище, пожавшем Мне руку на пиру, — всяк предо мною Казался мне изменник или враг. Утрачена в бесплодных испытаньях Была моя неопытная младость, И бурные кипели в сердце чувства И ненависть и грезы мести бледной. Но здесь меня таинственным щитом Святое провиденье осенило, Поэзия, как ангел-утешитель, Спасла меня, и я воскрес душой…Эти строки, не вошедшие в окончательный текст стихотворения "Вновь я посетил…" — целая глава из мемуаров Пушкина. Ему вряд ли бывало прежде так плохо, как в первые михайловские месяцы: унижение ссылки, бессильный гнев, возможное предательство близких людей, тирания отца, усталость, даже мысли о самоубийстве.
19 октября 1824 года, на исходе второго Михайловского месяца, он, кажется, и не вспомнил о лицейских, до которых всего 280 верст: душой — еще на Юге. Да не он один — многие уже давно не виделись, не пишут, лень писать… К счастью, всегда находится один или несколько одноклассников, верных, постоянных носителей традиций, которые ведут счет товарищам. Таким был, например, Миша Яковлев с лицейским прозвищем «Паяс». Как раз 19 октября 1824 года несколько «скотобратцев» собрались у него в Петербурге и решили по прошествии десяти лет после окончания (то есть 19 октября 1827 года) праздновать серебряную дружбу, а через двадцать лет — золотую. Золотая будет 19 октября 1837 года.
Но когда поэзия, "как ангел-утешитель, спасла" и спасенный "воскрес душой", тогда воскрес он и для старой дружбы. На Юге —
...с трепетом на лоно дружбы новой, Устав, приник ласкающей главой… С мольбой моей печальной и мятежной, С доверчивой надеждой первых лет, Друзьям иным душой предался нежной, Но горек был небратский их привет.Двадцать пять лет — классический возраст для возвращения к одноклассникам, в Царское Село. У иных этого не происходит — время пропущено, удаление превысило некую черту, и к детству не вернуться.
Молодые еще люди — "пред грозным временем, пред грозными судьбами" радостно кидаются друг к другу за братским приветом. Вряд ли они сошлись бы и подружились, если б познакомились позже, а теперь им уж не раздружиться, теперь —
Нам целый мир чужбина; Отечество нам Царское Село.Теперь —
Пора, пора! Душевных наших мук Не стоит мир; оставим заблужденья! Сокроем жизнь под сень уединенья!В это самое время, в конце 1824 года, на вечере у московского генерал-губернатора Голицына молодой судья Иван Пущин сообщает некоторым приятелям, что собирается в гости к Михайловскому узнику. Доброжелатели решительно не советуют: "Как! Вы хотите к нему ехать? Разве не знаете, что он под двойным надзором — и полицейским и духовным?"
Несколько страниц из воспоминаний Пущина о встрече 11 января 1825 года до того нам привычны, что они почти входят в полное собрание пушкинских сочинений…
Около восьми утра Большой Жанно приезжает в Михайловское, по пути в городке Острове добыв на рассвете три бутылки клико. За полночь друзья простились. "Среди всего этого много было шуток, анекдотов, хохоту от полноты сердечной. Уцелели бы все эти дорогие подробности, если бы тогда при нас был стенограф".
Разумеется, вспоминая этот эпизод через треть века, Пущин не мог быть совершенно точен и по разным причинам не все сказал, задав немало работы любознательным потомкам. "Незаметно коснулись опять подозрений насчет общества. Когда я ему сказал, что не я один поступил в это новое служение отечеству, он вскочил со стула и вскрикнул: "Верно, все это в связи с майором Раевским, которого пятый год держат в Тираспольской крепости и ничего не могут выпытать". Потом, успокоившись, продолжал: "Впрочем, я не заставляю тебя, любезный Пущин, говорить. Может быть, ты и прав, что мне не доверяешь. Верно, я этого доверия не стою — по многим моим глупостям". Молча я крепко расцеловал его; мы обнялись и пошли ходить: обоим нужно было вздохнуть".
Со следующего абзаца Пущин начинает новую тему: "Вошли в нянину комнату, где собрались уже швеи…", то есть если буквально следовать за этим текстом, то получается, будто декабрист только признался в "новом служении отечеству", но, в ответ на пушкинское "я этого доверия не стою", беседу о том не продолжал ("молча расцеловал…"). Однако исследователи давно заподозрили, что вокруг опасных «сюжетов» тогда было еще немало говорено. За обедом — Пущин не скрывает — шли тосты за Русь, за Лицей, за отсутствующих друзей и за нее — то есть, очевидно, за свободу.
При расставании "мы крепко обнялись в надежде, может быть, скоро свидеться в Москве. Шаткая эта надежда облегчила расставание". Разумеется, о возможном освобождении Пушкина из ссылки говорилось, и трудно вообразить, чтобы Жанно не сказал что-нибудь вроде: "действия тайного общества, коренные перемены принесут тебе освобождение". Пушкин же, в то время особенно обозленный на Александра I, конечно, не скрывает своих чувств. Т. Г. Цявловская полагает, что Пущин обещал предуведомить поэта, когда начнется Дело. Через два месяца, 12 марта 1825 года, декабрист отправляет в Михайловское письмо и специально подчеркивает дату — "марта 12-го. Знаменательный день". День был 24-й годовщиной цареубийства, возведшего на престол вместо Павла I ныне царствующего Александра. Тут, скорее всего, отзвук январского разговора друзей о близящемся повторении 12 марта: тогда, в 1801-м, почти все павловские узники вышли на волю. Пушкину же очень желалось на волю.
Но, кажется, тот январский разговор Пушкина и Пущина о грядущей свободе прошел не без дружеского спора:
...нередко и бранимся, Но чашу дружества нальем — И тотчас помиримся…Перед нами — следующие строки: "Общеизвестно, что Пушкин, автор "Руслана и Людмилы", был всегда противником тайных обществ и заговоров. Не говорил ли он о первых, что они крысоловки, а о последних, что они похожи на те скороспелые плоды, которые выращиваются в теплицах и которые губят дерево, поглощая его соки?"
Так будто бы отвечал Пущин во время первого его допроса Николаем I (17 декабря 1825 года). Цитата заимствована из книги "История жизни и царствования Николая I", написанной весьма осведомленным французским историком Полем Лакруа. Почти нет сомнения, что Пущин действительно нечто подобное говорил царю, но, конечно, нелегко выяснить, слышал ли декабрист такие слова от поэта или просто выгораживал друга. Лаконичная остроумная фраза звучит «по-пушкински», но когда же это могло быть сказано? До ссылки поэта на Юг? Но ведь Пущин не открылся тогда Пушкину насчет тайного общества. Скорее всего, эти мысли мелькнули где-то во время последней встречи…
Если бы мы знали все, о чем говорили, спорили 11 января 1825 года с восьми утра до трех ночи!
Пушкин писал в ту пору свои воспоминания, которые позже — по собственному признанию — сжег; однако некоторые исследователи в это сожжение не верят и находят доказательства, что поэт многое сохранил, спрятал от "дурного глаза", и — надо искать… Семен Степанович Гейченко, многолетний директор Пушкинского заповедника, иногда с улыбкою, чаще очень серьезно говорит о том, что "не слишком удивится", если в саду Михайловской усадьбы, или близ домика няни, или где-нибудь на скате тригорского холма вдруг однажды будет вырыта шкатулка, а в той шкатулке…
Ведь не вызывает никаких сомнений, что искателя потаенной Пушкинианы обязательно ждут необыкновенные приключения: если одна из тетрадей с пушкинскими стихами попала в токийское землетрясение 1923 года, если связка интереснейших пушкинских писем буквально выпала из тайника в стене во время ремонта одного дворца на Фонтанке, если в сохранившихся листках вдруг угадываются новые фрагменты сожженной автобиографии, — если так, то отчего же не быть ларцу, кладу, шифру на берегу псковской речки Сороть или у Черного моря, Невы, Москвы-реки, в Болдине, на уральских заводах, сибирских рудниках, наконец, в Японии, Англии, Южной Африке (заметим, кстати, что последние географические названия взяты не случайно…).
Пущин уезжает из Михайловского. Кажется, всегда при нем портфель сокровенных бумаг: лицейские листки, множество первых пушкинских рифм и рядом — секретные документы тайных обществ. Один из них — конституция, проект важнейших перемен в стране после победы восстания. Автор мог бы расписаться так же, как он сделал однажды на другой важной рукописи, — Вьеварум. Но на этот раз Никита Муравьев не считает нужным шутить, намекать. Конституция в портфеле его друга и единомышленника Ивана Пущина угрожает обоим эшафотом, Сибирью.
До решительного экзамена, "грозного времени, грозных судеб", оставалось одиннадцать месяцев и три дня.
* * *
Тем временем ничего обо всем этом не ведающий надворный советник Горчаков едет из Лондона на родину лечиться. Протрясясь немало верст по псковскому бездорожью, он прибывает к дядюшке Пещурову в село Лямоново, что в восемнадцати верстах от Михайловского. Там он узнает немало подробностей о Пушкине, потому что дядюшка — губернский предводитель дворянства и в его обязанности, между прочим, входит надзор за ссыльным и опальным. Горчаков дает о себе знать в Михайловское, и сентябрьским днем 1825 года Пушкин отправляется в гости: шесть лет не виделись.
Если Пущина пугали близкие к поэту люди — "не встречайтесь", — то Горчакова, наверное, и подавно. Князь, однако, знал, какими путями ходить не следует: лучше вторым, чем слишком первым…
Сохранилось письмо, которое Пушкин написал близкому другу, Петру Вяземскому, очевидно, в присутствии Горчакова:
"Горчаков доставит тебе мое письмо. Мы встретились и расстались довольно холодно — по крайней мере, с моей стороны. Он ужасно высох — впрочем, так и должно: зрелости нету нас на севере, мы или сохнем, или гнием, первое все-таки лучше. От нечего делать я прочел ему несколько сцен из моей комедии ("Бориса Годунова")".
Пушкин что-то скрывает, его самолюбие чем-то уязвлено ("от нечего делать"…).
Горчаков же глубоким старцем вспомнит: "Пушкин вообще любил читать мне свои вещи, как Мольер читал комедии своей кухарке. В "Борисе Годунове" было несколько стихов, в которых проглядывала какая-то изысканная грубость и говорилось что-то о слюнях…" Горчаков попросил: "Вычеркни, братец, эти слюни, ну к чему они тут?" — "А посмотри, у Шекспира, и не такие еще выражения попадаются", — возразил Пушкин. "Да, но Шекспир жил не в XIX веке и говорил языком своего времени". Пушкин подумал и переделал свою сцену".
Князь, кажется, был доволен, что вел критику с самых современных позиций (что хорошо для XVI, негоже для XIX!). Пушкин же, возможно, сказал про себя: "Слюни заметил, да многого поважнее не увидал…"
Вяземскому о Горчакове сообщена правда, только правда, но не вся правда. Казалось бы, все просто и ясно: поэт — и умный, сухой карьерист. Но в схему вторгается прошлое: 19 октября. Правда, Горчаков ни разу на лицейских праздниках не бывал, но, видно, дело не в этом.
Ты, Горчаков, счастливец с первых дней, Хвала тебе — фортуны блеск холодный Не изменил души твоей свободной: Все тот же ты для чести и друзей. Нам разный путь судьбой назначен строгой; Вступая в жизнь, мы быстро разошлись: Но невзначай проселочной дорогой Мы встретились и братски обнялись.Так написано через месяц после той не слишком удачной встречи, и это — тоже правда.
19 октября 1825 года Пушкин посвятил несколько строф шестерым лицейским: Корсакову (первому умершему), Матюшкину, Пущину, Горчакову, Дельвигу, Кюхельбекеру и еще одному —
Кому ж из нас под старость в день Лицея Торжествовать придется одному?Пушкин предчувствует. Лицейское "пред грозными судьбами" сменяется "судьбой строгой". Через год он скажет: "Судьба рукой железной…"
Время пришло. 19 ноября, ровно через месяц после лицейской годовщины 1825 года, в Таганроге умирает император Александр I, и Пущин говорит единомышленникам: "Случай удобен; ежели мы ничего не предпримем, то заслужим во всей силе имя подлецов". Затем с каждым из трех происходят важные события.
Горчаков полвека спустя рассказывает посетившему его историку:
"Достойно внимания, что перед самым 14 декабря 1825 года я был в Москве. Здесь [губернатор] князь Дмитрий Владимирович Голицын, между прочим, весьма мне хвалил моего товарища по Царскосельскому лицею, Ивана Ивановича Пущина, служившего в то время в Москве, в уголовной палате, и воевавшего против взяток.
Князь Голицын, между прочим, предложил мне, зная, что я еду в Петербург, ехать в одной коляске с Пущиным, туда, как впоследствии оказалось, спешившего по делам тайного общества, о чем, то есть о настоящей цели поездки Пущина, князь Голицын, конечно, ничего не знал.
Совершенно случайно я выехал из Москвы не с Пущиным, а с графом Алексеем Бобринским. Поезжай я в одном экипаже с Иваном Ивановичем Пущиным, конечно, так либо иначе, но я оказался бы в числе прикосновенных: по крайней мере меня бы, наверное, за знакомство в эти дни с Пущиным, одним из главнейших заговорщиков, привлекли бы к допросу. Но этого, как видите, не случилось".
Той поздней осенью 1825 года Пущин и Горчаков виделись в Москве, но беседы их нам почти не слышны. В записках Пущина о них — ничего, Горчаков специальных записок не вел да и вообще с годами все реже писал и чаще диктовал.
Конечно, они говорили о лицейских и Пушкине (до которого, кроме них, сумел добраться только Дельвиг — да он в Петербурге).
Но заметим: Голицын "ничего не знал" о настоящей цели Пущина. А Горчаков? "Во время моих приездов в Петербург был, однако, случай, когда один из членов тайного общества заговорил со мной о необходимости такого общества. Я, ничего еще, впрочем, не подозревая, дал понять мое твердое убеждение, что благие цели никогда не достигаются тайными происками, и недосказанное предложение само собой замерло на устах моего собеседника".
Через несколько десятилетий только открылось, что "один из членов тайного общества" был опять же Пущин. Князь что-то знал, хотя и не был посвящен до конца…
Торопясь в столицу. Большой Жанно пишет в Михайловское, и, хотя письмо не сохранилось, мы знаем о его существовании из надежного источника: там было извещение, что Пущин едет в столицу и очень бы желал там увидеться с Пушкиным…
Пушкин тут же собрался в дорогу, но не поехал: его собственные рассказы о несчастливой встрече с попом, зайцем и т. п. означают, что колебался — надо ли ехать? В этих случаях любая мелочь перетягивает весы и устанавливает определенность. Недавно открылась еще одна запись о том же событии, сделанная одним из приятелей за самим Пушкиным: "Пушкин сказал: "Не судьба быть". После говорил, что "его судьба хранила". Сиречь он бы не остался праздным при варении "каши"…
"Варение каши" — Сенатская площадь… 14 декабря. Пушкин в Михайловском, не зная, конечно, что именно происходит в Петербурге, но о многом догадываясь, заканчивает начатого накануне "Графа Нулина". Позже задумается над датой: "бывают странные сближения…" Озорная легкая поэма настолько далека от петербургских событий того дня, что невольно приходит на ум — не близка ли к нам она с какой-то другой, не видной сразу стороны, как обычно бывает у слишком удаленных друг от друга обстоятельств. "Граф Нулин" и Сенатская площадь; мятеж, стрельба — и звучные, жизнерадостные строфы… Разные пути к свободе?
Пущин же — один из первых на площади, шутит, бодрит солдат. Когда нужно было остановить мятежное каре, рванувшееся было в погоню за неприятелем, декабристы-офицеры растерялись, их команды не слышны за шумом… Но отставной артиллерист и надворный судья догадался забить отбой в барабаны и вернул порядок. Зато, возвращаясь с площади, нашел в полушубке следы картечи. Рядом с ним стоял, стрелял, кричал Кюхля, Вильгельм Кюхельбекер: Царскосельский лицей представлен на Сенатской площади двумя выпускниками. Внезапно появляется третий…
Горчаков. "В день 14 декабря 1825 года я был в Петербурге и, ничего не ведая и не подозревая, проехал в карете цугом с форейтором в Зимний дворец для принесения присяги новому государю Николаю Павловичу. Я проехал из дома графа Бобринского, где тогда останавливался, по Галерной улице через площадь, не обратив внимания на пестрые и беспорядочные толпы народа и солдат. Я потому не обратил внимания на толпы народа, что привык в течение нескольких лет видеть на площадях и улицах Лондона разнообразные и густые толпы народа. Как теперь помню, приехал я в Зимний дворец в чулках, сильно напудренный…"
Николай I, вероятно, принял его за сумасшедшего: только что восставший лейб-гренадерский полк мог спокойно занять дворец, но прошел мимо — на площадь. Каждую секунду может появиться цареубийца; при первом пушечном залпе молодая императрица затрясла головой, и эти нервные припадки сохранятся у нее на всю жизнь — и вдруг этот напудренный молодой человек в очках (при дворе же ношение очков строго запрещено)…
Первая встреча нового императора с надворным советником Горчаковым не сулит последнему ничего хорошего.
Картечь, восставшие рассеиваются. Вечером 14-го несколько человек, и Пущин среди них, сходятся ненадолго у Рылеева, после идут домой ждать своей доли. Один Кюхельбекер пускается в бегство и попадется лишь в Варшаве.
Рылеев — дома, и Пущин — дома. Решили — "умел грешить, умей ответ держать". Впрочем, мы не знаем, где блуждал Пущин в тот страшный вечер. Обратим внимание на одно более позднее его письмо, с каторги, посланное с оказией лицейскому директору Энгельгардту:
Иркутск, 14 декабря 1827 года.
"Вот два года, любезнейший и почтеннейший друг Егор Антонович, что я в последний раз видел вас… Я часто вспоминаю слова ваши, что не трудно жить, когда хорошо, а надобно быть довольным, когда плохо…"
Выходит как будто, что 14 декабря 1825 года Пущин зашел к своему директору? Когда же? На рассвете он был на площади, вечером — у Рылеева…
За Рылеевым жандармы явились ночью и увезли на допрос. Рылеев называет царю главных деятелей общества, тех именно, которые "за все в ответе", настаивая, что других искать и брать не нужно. Называет и Пущина. Но петербургское начальство не помнит московского судью, и нужно время для розыска.
Горчаков же, вернувшись с присяги, уже ясно понял, что к чему. Бунт, мятеж ему чужды, но ведь свои, лицейские, особенно Жанно Пущин, в смертельной опасности! Что сделает человек, недавно готовый принять яд, "если обойдут местом"?
"Рано утром, 15 декабря, к Пущину приехал его лицейский товарищ князь Горчаков. Он привез ему заграничный паспорт и умолял его ехать немедленно за границу, обещаясь доставить его на иностранный корабль, готовый к отплытию. Пущин не согласился уехать: он считал постыдным избавиться бегством от той участи, которая ожидает других членов общества: действуя с ними вместе, он хотел разделить и их судьбу".
Это записано много лет спустя Евгением Ивановичем Якушкиным, сыном декабриста и одним из самых близких людей к Пущину-старику. Именно Евгений Якушкин буквально заставил Пущина приняться за воспоминания. Сведения его, как правило, точны и основательны. К тому же эпизод подтверждается и некоторыми другими надежными свидетельствами.
Выходит, встреча Пущин — Горчаков была, и Горчаков, конечно, молодец! Если бы явились жандармы, дипломату пришлось бы плохо: арест, возможно, отставка, высылка из столиц… Но в состав горчаковского честолюбия, как видно, входит самоуважение: если не за что себя уважать, то незачем и карьеру делать — и коли так, то нужно встретиться с Пущиным и предложить ему заграничный паспорт.
В свидетельстве Евгения Якушкина (опубликованном впервые в 1881 году) не следует искать буквальной точности. Например, корабли в такую зимнюю пору не шли — и, может быть, речь просто шла о бегстве из Петербурга, чтобы в каком-нибудь другом порту сесть на корабль? Возможно также, что встреча была не утром 15-го, а еще 14 декабря. В тот день Пущин ведь, кажется, виделся с директором Лицея. Вполне вероятно, что к Энгельгардту после присяги во дворце явился Горчаков, очень почитавший своего наставника, и еще какие-то лицейские.
Если так, то в сумерках того дня происходит примечательная лицейская встреча — эпилог к 19 октября.
Тут-то, возможно, Энгельгардт и сказал, что не трудно жить, когда хорошо, а надобно быть довольным, когда плохо. Здесь-то Горчаков и мог предложить паспорт, а Пущин, отказавшись, ушел домой.
В том же письме Энгельгардту, написанному ровно через два года, Пущин, очевидно, намекает на ту, последнюю встречу:
"Душевно жалею, что не удалось мне после приговора обнять вас и верных друзей моих, которых прошу вас обнять: называть их не нужно — вы их знаете; надеюсь, что расстояние 7 тысяч верст не разлучит сердец наших".
Верные друзья — здесь, кажется, не просто обычная формула. Вечером 14-го, а возможно, и утром 15-го, Пущин не раз, конечно, думал о своем портфеле. Разумеется, мелькало побуждение — сжечь, но жалко…
Сто сорок семь лет спустя я однажды попадаю на занятия со студентами-историками, которые проводит в Отделе рукописей Ленинской библиотеки профессор П. А. Зайончковский. По его просьбе приносят тетрадку из 34 больших листов. Вначале:
"1. Русский народ, свободный и независимый, не есть и не может быть принадлежностью никакого лица и никакого семейства.
2. Источник Верховной власти есть народ".
Переписано рукою Рылеева, сочинено тем, кто однажды, на другом документе, подписал свою фамилию наоборот: Никита Михайлович Муравьев.
Сколько лет хранятся отпечатки пальцев? Вообразим, что полтора века: и тогда — рука автора, «Вьеварума», Рылеева, затем пальцы Большого Жанно. Затем тех, кого Пущину было "называть не нужно…" Горчаков, Энгельгардт, еще кто-то… После того шестнадцать лет тишины, затаенности. В 1841-м — отпечатки младшего Пущина, Михаила, декабриста, возвратившегося из ссылки раньше брата. Вероятно, постаревший лицейский директор вручит ему портфель своего старинного ученика. Но жизнь полупрощенного Михаила Пущина ненадежна — и вот портфель уж у Петра Вяземского; старинный друг первых лицеистов, он был в 1840-х человеком благополучным, крупным, преуспевающим чиновником… Каждый, кто прикасался к заветному портфелю, находил рядом с суровой политической прозой Вьеварума легкие, беззаботные рифмы:
Вот здесь лежит больной студент, Его судьба неумолима. Несите прочь медикамент, Болезнь любви неизлечима!Это вполне безобидно — но опасно соседство лицейских посланий и декабристских проектов… Опасны также и мысли, которые родятся там, наверху: "Не Пущин ли Пушкин?"
Через два дня после того, как портфель ускользнет от ареста, за Пущиным приходят жандармы. 17 декабря допрашивает царь, затем еще полгода крепости, следствия, очных ставок… Затем:
"Коллежский асессор Иван Иванович Пущин по приговору верховного уголовного суда приговорен к смертной казни. По высочайшей конфирмации осужден к лишению чинов и дворянства и к ссылке в каторжную работу вечно. Высочайшим же указом 22 августа 1826 года повелено оставить его в работе 20 лет, а потом обратить на поселение в Сибири".
Эти строки читают в Михайловском, Петербурге, Москве… Потрясенный Горчаков торопится прочь из России — к своему посольству в Лондоне. Но нет покоя: вчера он пытался переправить за границу Пущина, а сегодня ему приказано свыше добиться возвращения на родину эмигранта-декабриста Николая Тургенева, заочно приговоренного к смерти. Горчаков на службе: едет в Эдинбург уговаривать самого Тургенева, выясняет у английских властей возможность выдачи государственного преступника.
Ничего из этого не вышло, хотя в Россию приполз слух, будто Тургенева схватили и везут.
Пушкина же вдруг выпускают из ссылки, он возвращается в Москву, снова едет, уже вольный, в свое Михайловское, близ Пскова, опрокидывается, ушибается, лежит в номере, вспоминает:
Скажи, куда девались годы, Дни упований и свободы, Скажи, что наши, что друзья? Где ж эти липовые своды? Где Горчаков, где ты, где я? Судьба, судьба рукой железной Разбила мирный наш Лицей…Черновые строки стихотворения, обращенного к Пущину, — "Мой первый друг, мой друг бесценный"… Стихотворение было закончено в псковской гостинице, ровно через год (без одного дня) после восстания — 13 декабря 1826 года.
Прекрасные строки о "наших" и "друзьях", может быть, оттого исчезли, что в стихах, называющих государственного преступника первого разряда "мой первый друг, мой друг бесценный", не следует называть еще чьи-либо имена?
В тот день Пущин был недалеко, всего триста с небольшим верст, — в Шлиссельбургской крепости, откуда его повезут на восток, за семь тысяч верст, только следующей осенью.
"В самый день моего приезда в Читу, — вспомнит он, — призывает меня к частоколу Александра Григорьевна Муравьева (жена Никиты Муравьева-"Вьеварума") и отдает листок бумаги, на котором неизвестною рукой написано было:
Мой первый друг, мой друг бесценный! И я судьбу благословил, Когда мой двор уединенный, Печальным снегом занесенный, Твой колокольчик огласил. Молю святое провиденье: Да голос мой душе твоей Дарует то же утешенье, Да озарит он заточенье Лучом лицейских ясных дней!Отрадно отозвался во мне голос Пушкина! Преисполненный глубокой, живительной благодарности, я не мог обнять его, как он меня обнимал, когда я первый посетил его в изгнанье. Увы! я не мог даже пожать руку той женщине, которая так радостно спешила утешить меня воспоминанием друга; но она поняла мое чувство без всякого внешнего проявления, нужного, может быть, другим людям и при других обстоятельствах; а Пушкину, верно, тогда не раз икнулось".
Строки же о "липовых сводах" так и не пошли ни в Читу ни в Лондон:
Где ж эти липовые своды? Где Горчаков, где ты, где я?ГДЕ ГОРЧАКОВ?
Умудрился слишком громко отозваться о своем начальнике князе Ливене: "Вы не можете себе представить такое положение: быть живым, привязанным к трупу". За это Горчакова из Лондона переводят первым секретарем в Рим; по-тогдашнему — сильное понижение.
1828. Апрель 17 — переведен в Берлин советником посольства.
1828. Декабря 3 — пожалован в звание камергера.
1828. Декабря 30 — назначен поверенным в делах во Флоренции и Лукке.
1831 — пожалован в коллежские советники.
1834 — пожалован в статские советники, исправляет должность поверенного в делах в Вене, заменяет отсутствующего посла.
Чины идут, но не быстро. Ему уже под сорок, а еще не генерал. Служба в новом царствовании как-то не весела: нужно еще самому себе доказать, что карьера и честь совместимы. Горчаков часто болеет, друзьям пишет редко. Впрочем, не забывает, даже спорит… Пушкин в 1825-м помянул рано умершего и похороненного во Флоренции лицейского Корсакова:
Под миртами Италии прекрасной Он тихо спит, и дружеский резец Не начертал над русского могилой Слов несколько на языке родном, Чтоб некогда нашел привет унылый Сын ceвepa, бродя в краю чужом.А через десять лет директор Энгельгардт напишет: "Вчера я имел от Горчакова письмо и рисунок маленького памятника, который поставил он бедному нашему трубадуру Корсакову под густым кипарисом близ церковной ограды во Флоренции. Этот печальный подарок меня очень обрадовал".
Может быть, и до сей поры маленький памятник сохраняется "под густым кипарисом"?
ГДЕ ТЫ…
Пущин — Энгельгардту.
(Из Петровского Завода в Петербург. Каторжникам не разрешается писать, и послание выполнено рукою Анны Васильевны, сестры лицейского друга Ивана Малиновского и жены декабриста Розена, последовавшей за мужем в ссылку.)
"Милостивый государь Егор Антонович! Вы знаете слишком хорошо Иван Ивановича, чтоб нужно было уверять вас в участии, которое он не перестает принимать во всем, касающемся до вас; время, кажется, производит над ним действие, совершенно противное обыкйовенному. — вместо того, чтобы охлаждать его привязанности дружбы, оно еще более их укрепляет и развертывает… Грустно ему было читать в письме вашем о последнем 19 октября. Прискорбно ему, что этот день уже так мало соединяет людей около старого директора. Передайте дружеский поклон Иван Ивановича всем верным Союзу, дружбы; охладевшим попеняйте. Для него собственно этот день связан с незабвенными воспоминаниями; он его чтит ежегодно памятью о всех старых товарищах, старается, сколько возможно, живее представить себе быт и круг действия каждого из них. Вы согласитесь, что это довольно трудно после столь продолжительной и, вероятно, вечной разлуки. — Воображение дополняет недостаток существенности. При этом случае Иван Иванович просит напомнить вам его просьбу, о которой, по поручению его, писала уже к вам: он желал бы иметь от вас несколько слов о каждом из его лицейских товарищей. Вы, верно, не откажете исполнить когда-нибудь его желание, — это принесет ему истинное удовольствие.
Про себя он ничего не может вам сказать особенного. Здоровье его постоянно хорошо — это не безделица при его образе жизни. Время, в котором нет недостатка, он старается сократить всякого рода занятиями. Происшествий для него нет — один день, как другой, — следовательно, рассказывать ровно нечего. Благодаря довольно счастливому его нраву он умеет найтись и в своем теперешнем положении и переносить его терпеливо. — В минуты и часы, когда сгрустнется, он призывает на помощь рассудок и утешается тем, что всему есть конец! — Так проходят дни, месяцы и годы…"
На каторге ему достался пушкинский номер -14; прежнее несчастливое тринадцатое число уже сработало. Сотни писем, получаемых в Сибири от разных ссыльных, — знак того, что он едва ли не самый деятельный и популярный человек среди своих.
На 14-м году заточения еще напишет: "Главное — не надо утрачивать поэзии жизни".
Из лицейских прямо ему пока никто не пишет — лишь директор сообщает обо всех да бывший однокашник Мясоедов, не очень близкий на воле, взял да вдруг написал за Байкал.
И не в том, наверное, дело, что писать страшновато — на заметку возьмут, — а в том, что писать скучно и нелепо, если письма идут месяцами и читаются в нескольких инстанциях. Пушкин не слал писем, но не забывал.
За четыре дня до 19 октября 1827 года (лицейского десятилетия, серебряной дружбы) на глухой станции Залазы, между Новгородом и Псковом, проиграв от скуки 1600 рублей офицеру, он вдруг увидел Кюхлю в толпе перегоняемых арестантов:
"Мы кинулись друг другу в объятья. Жандармы нас растащили. Фельдъегерь взял меня за руку с угрозами и ругательством. Я его не слушал. Кюхельбекеру сделалось дурно. Жандармы дали ему воды, посадили в тележку и ускакали. Я поехал в свою сторону. На следующей станции узнал я, что их везут из Шлюссельбурга, но куда же?"
Через четыре дня, в лицейский день, Пушкин — в Петербурге. Было сочинено:
Бог помощь вам, друзья мои, В заботах жизни, царской службы, И на пирах разгульной дружбы, И в сладких таинствах любви^ Бог помощь вам, друзья мои, И в бурях, и в житейском горе, В краю чужом, в пустынном море И в мрачных пропастях земли!Стихи дошли благодаря Энгельгардту и до "мрачных пропастей".
Пущин. "И в эту годовщину в кругу товарищей-друзей Пушкин вспомнил меня и Вильгельма, заживо погребенных, которых они не досчитывали на лицейской сходке".
ГДЕ Я?
Пушкин предчувствовал свою гибель, и никакой мистики в том нет. Гений, нервный, превосходно знающий себя и мир, ощущает близость "черного человека" (Моцарт) или "белого человека" (Пушкин), котооый непоеменно убьет его.
Гибнет на дуэли поэт Ленский, убивают гения — Моцарта, Пушкин встречает по пути в Арзрум убитого Грибоедова; казнят Андре Шенье, Рылеева; перед смертью вспоминается самоубийство Радищева. Кругом гибнут поэты, пророча живым и «подсказывая» убийцам.
Пущин. "Впоследствии узндл я об его женитьбе и камер-юнкерстве; и то и другое как-то худо укладывалось во мне: я не умел представить себе Пушкина семьянином и царедворцем; жена красавица и придворная служба пугали меня за него. Все это вместе, по моим понятиям об нем, не обещало упрочить его счастия".
Меж тем прошло 19 октября 1836 года, и уж немолодые одноклассники, отцы семейства, составили по сему случаю подходящий протокол:
"Праздновали двадцатипятилетие Лицея (на Екатерининском канале, в бывшем Библейском доме, возле Михайловского дворца, на квартире Яковлева): П. Юдин, П. Мясоедов, П. Гревениц, М. Яковлев, Мартынов, Модест Корф, А. Пушкин, Алексей Илличевский, С. Комовский, Ф. Стевен, К. Данзас.
Собрались выше упомянутые господа лицейские в доме у Яковлева и пировали следующим образом:
1) Обедали вкусно и шумно,
2) выпили три здравия (по-заморскому toasts).
____а) за двадцатипятилетие Лицея,
____б) за благоденствие Лицея,
____в) за здоровье отсутствующих.
3) Читали письма, писанные некогда отсутствующим братом Кюхельбекером к одному из товарищей.
4) Читали старинные протоколы, песни и проч. бумаги, хранящиеся в архиве лицейском у старосты Яковлева.
5) Поминали лицейскую старину.
6) Пели национальные песни.
7) Пушкин начинал читать стихи на 25-летие Лицея, но всех стихов не припомнил и. кроме того, отозвался, что он их не докончил; но обещал докончить, списать и приобщить в оригинале к сегодняшнему протоколу.
Примечание. Собрались все в половине 5-го часа, разошлись в половине десятого".
Рассказывали также, будто Пушкин сорвался, подступили слезы, и он не смог дочитать:
Была пора: наш праздник молодой Сиял, шумел и розами венчался, И с песнями бокалов звон мешался, И тесною сидели мы толпой. Тогда, душой беспечные невежды, Мы жили все и легче и смелей, Мы пили все за здравие надежды И юности и всех ее затей. Теперь не то; разгульный праздник наш С приходом лет, как мы, перебесился, Он присмирел, утих, остепенился, Стал глуше звон его заздравных чаш; Меж нами речь не так игриво льется, Просторнее, грустнее мы сидим, И реже смех средь песен раздается, И чаще мы вздыхаем и молчим. Всему пора…Через шестнадцать дней начнется дуэльная история, а через сто два дня Пушкин погибнет.
Глава 4 ЕДИНСТВЕННЫЙ СУДЬЯ
Перебираю в Москве большой архив Горчакова, внезапно явившийся из небытия в 1928 году. Письма, дипломатические сюжеты, «сожженная» пушкинская поэма «Монах» (правда, в копии: подлинник, как полагается, перешел в Ленинград, в рукописное собрание Пушкинского дома); несколько листков по-французски — сборник документов о гибели Пушкина…
Я прежде не видел этой рукописи в архиве Горчакова, однако уж наперед знаю, с каких слов она начинается, какие там тексты (их двенадцать, иногда — тринадцать) и в каком порядке… Уже около сорока таких сборников попадалось мне в разных архивах, коллекциях, собраниях. И если не считать небольших отклонений, пропусков, ошибок, то все они абсолютно одинаковы; только большая часть владельцев предпочитала иметь тексты на языке подлинника (почти все по-французски), а некоторые сохраняли перевод…
В начале первого документа из собрания Горчакова читаем, как и в других случаях:
"Два анонимных письма к Пушкину, которых содержание, бумага, чернила и формат совершенно одинаковы. второе письмо такое же, на обоих письмах другою рукою написан адрес: Александру Сергеевичу Пушкину".
Эти строчки довольно точно излагают дело.
Утром 4 ноября 1836 года семь или восемь человек (почти всех мы можем теперь назвать) получили странные послания. Их доставила петербургская городская почта, пересылавшая корреспонденцию внутри столицы. Правда, один дипломат позже утверждал, будто некоторые письма пришли из провинции, но пока это не поддается проверке…
Адрес на конверте надписывался каким-то затейливым, по выражению Вяземского — «лакейским» почерком. Анонимные же послания, вложенные в конверт, явно были выполнены другою рукою — измененным почерком, печатными буквами, по-французски. Лживые, оскорбительные строки, намекавшие на то, что жена Пушкина предпочитает поэту царя…
Но откуда к Горчакову и десяткам других современников попал текст анонимного пасквиля на семью Пушкина?
Поскольку все "дуэльные сборники" совершенно одинаковы, ясно, что кто-то однажды составил первоначальный свод из 12–13 документов об этой ужасной истории, и от первого сборника постепенно произошли все остальные.
Но кто же и когда проделал важную работу, имевшую цель — извлечь из тайников, распространить правду о причинах и обстоятельствах дуэли, в то время как о трагедии было велено молчать, не писать, забыть?
Напрашивается ответ, что работал кто-то из семи или восьми лиц, получивших по почте анонимные письма. Но заметим, что, судя по начальным строкам сборника, некто проделал своего рода "текстологическую работу": располагая двумя экземплярами пасквиля, он их сравнил, отметил полное сходство, а также разницу почерков «диплома» и конверта.
Пушкин писал о "семи или восьми" экземплярах пасквиля, распространенных 4 ноября 1836 года в Петербурге. Три экземпляра вскоре оказались в его руках, но он их, очевидно, уничтожил: во всяком случае, среди бумаг, зарегистрированных жандармами при "посмертном обыске" в пушкинском архиве, ни одного экземпляра не значится. Один «диплом» получил (и уничтожил, сняв копию) П. А. Вяземский. Судьба остальных известна менее отчетливо, однако нелегко представить, кто имел возможность сопоставить два экземпляра пасквиля; между тем именно два подлинных «диплома» сохранились до наших дней. Случайное ли это совпадение? Не располагал ли неизвестный современник Пушкина как раз двумя уцелевшими экземплярами? Для ответа на этот вопрос надо было выяснить, где хранились прежде эти два «диплома». Один был обнаружен еще полвека назад пушкинистом А. С. Поляковым в секретном архиве III отделения, зловеще знаменитой тайной полиции, возглавляемой шефом жандармов графом Бенкендорфом ("диплом" был отправлен в конверте на имя приятеля Пушкина, известного музыканта графа М. Ю. Виельгорского, а тот, вероятно, передал документ властям).
Еще раньше другой образчик «диплома» поступил в Лицейский Пушкинский музей. Откуда поступил? В информационном листке Пушкинского лицейского общества от 19 октября 1901 года сообщается, что получено "за истекшие 1900–1901 годы подлинное анонимное письмо, бывшее причиной предсмертной дуэли Пушкина, — из Департамента полиции".
Департамент полиции, учрежденный в 1880 году, был прямым наследником III отделения. Отсюда следует, во-первых, что ведомство Бенкендорфа располагало двумя экземплярами анонимного пасквиля. Во-вторых, что скорее всего в этом ведомстве находился "таинственный доброжелатель", стремившийся сохранить документ, важный для истории последних дней Пушкина.
Но подождем пока размышлять о «доброжелателе» и пойдем вслед за событиями. Оскорбленный поэт пришел к выводу, что анонимный пасквиль — дело рук голландского посланника Геккерна и его приемного сына, гвардейского офицера Дантеса, ухаживавшего за женой поэта. У Пушкина были какие-то очень серьезные данные против этих людей, но какие именно, мы почти не знаем. Поэт ушел в могилу с твердой уверенностью в вине тех двух, особенно Геккерна, и это одна из тайн, которой уже скоро полтора века.
"Адские козни опутали Пушкиных и остаются еще под мраком. Время, может быть, раскроет их…" Это слова близкого друга поэта, князя Петра Вяземского.
Но и в нашем столетии П. Е. Щеголев, первооткрыватель важнейших материалов о последних днях Пушкина, признавался, что не может понять существенных обстоятельств трагедии.
В 1927 году известный ленинградский криминалист Сальков по просьбе Щеголева произвел экспертизу почерка анонимного пасквиля и пришел к выводу, что он написан рукою девятнадцатилетнего отпрыска богатейшего и знатнейшего рода князя Петра Владимировича Долгорукова. Это был уже известный своими скандальными выходками, злой, мстительный, очень умный человек (о нем еще пойдет речь на других страницах этой книги).
Однако и сегодня вопрос далек от окончательного решения: та экспертиза не может пока считаться "последним словом" — скорее первым. Мы ничего не знаем о связях Геккерна с молодым Долгоруковым н не имеем оснований утверждать, что они выступали сообща в заговоре против поэта…
Так или иначе, но Пушкин, получив пасквиль, тотчас вызвал Дантеса на дуэль, а друзья две недели старались погасить конфликт, и к 17 ноября 1836 года им это как будто удалось. Дантес спешно посватался к сестре жены Пушкина, Екатерине Гончаровой. Пушкин, удовлетворенный этим трусливым отступлением, взял вызов обратно, но одному из друзей объявил: "С сыном уже покончено… Вы мне теперь старичка подавайте".
21 ноября он готовит страшную месть послу Геккерну и, между прочим, составляет письмо к царю Николаю I о происходящих событиях. Пушкин ясно понимал, что Николай, граф Бенкендорф и тайная полиция хорошо осведомлены об анонимных письмах и многом другом. Поскольку же прямо к царю не полагалось обращаться с такими посланиями, какое вышло изпод пушкинского пера 21 ноября, то оно адресовано не к первой персоне империи, а ко второй, — поэт не сомневался, что Бенкендорф тут же покажет Николаю I следующий документ:
"Граф!
Считаю себя вправе и даже обязанным сообщить Вашему сиятельству о том, что недавно произошло в моем семействе. Утром 4 ноября я получил три экземпляра анонимного письма, оскорбительного для моей чести и чести моей жены. По виду бумаги, по слогу письма, по тому, как оно было составлено, я с первой минуты понял, что оно исходит от иностранца, от человека высшего общества, от дипломата. Я занялся розысками. Я узнал, что семь или восемь человек получили в один и тот же день по экземпляру того же письма, запечатанного и адресованного на мое имя под двойным конвертом. Большинство лиц, получивших письма, подозревая гнусность, их ко мне не переслали.
В общем, все были возмущены таким подлым и беспричинным оскорблением; но, твердя, что поведение моей жены было безупречно, говорили, что поводом к этой низости было настойчивое ухаживание за нею г-на Дантеса.
Мне не подобало видеть, чтобы имя моей жены было в данном случае связано с чьим бы то ни было именем. Я поручил сказать это г-ну Дантесу. Барон Геккерн приехал ко мне и принял вызов от имени г-на Дантеса, прося у меня отсрочки на две недели.
Оказывается, что в этот промежуток времени г-н Дантес влюбился в мою свояченицу, мадемуазель Гончарову, и сделал ей предложение. Узнав об этом из толков в обществе, я поручил просить г-на д'Аршиака (секунданта г-на Дантеса), чтобы мой вызов рассматривался как не имевший места. Тем временем я убедился, что анонимное письмо исходило от г-на Геккерна, о чем считаю своим долгом довести до сведения правительства и общества.
Будучи единственным судьей и хранителем моей чести и чести моей жены и не требуя вследствие этого ни правосудия, ни мщения, я не могу и не хочу представлять кому бы то ни было доказательств того, что утверждаю.
Во всяком случае, надеюсь, граф. что это письмо служит доказательством уважения и доверия, которые я к вам питаю.
С этими чувствами имею честь быть, граф,
ваш нижайший и покорнейший слуга Александр Пушкин.
21 ноября 1836".
О загадочности этого послания писали и говорили не раз. Первая загадка опять та же, что и загадка пасквиля-"диплома": откуда мы знаем этот текст? Щеголев много лет искал его подлинник и сообщал, что в "секретном досье III отделения такого письма к Бенкендорфу не оказалось", в бумагах Пушкина сохранились лишь клочки черновика. Однако во всех рукописных сборниках дуэльных документов текст письма помещается на втором месте (после пасквиля-"диплома") под заглавием "Письмо Пушкина, адресованное, кажется, графу Бенкендорфу", и нелегко понять происхождение этого "кажется".
Специалисты спорили, отправил ли Пушкин это послание или нет, ломали голову над тем, куда оно делось… И еще труднее было понять, каким образом через 17 дней после кончины Пушкина, 14 февраля 1837 года, копия этого письма Бенкендорфу и царю уже оказалась в руках друзей поэта…
Пушкина спасти не удалось, но кто-то сумел спасти и огласить важнейшие, секретнейшие строки, содержавшие смелые до дерзости выпады против царя. Слова "мне не подобало видеть, чтобы имя моей жены было в данном случае связано с чьим бы то ни было именем" явно относятся не только к Дантесу; в том же духе звучат строки "будучи единственным судьей и хранителем моей чести и чести моей жены и не требуя вследствие этого ни правосудия, ни мщения, я не могу и не хочу представлять кому бы то ни было доказательства того, что утверждаю".
Тут вспомним еще раз, что после смерти Пушкина текст пасквиля-"диплома" скорее всего был добыт доброжелателем поэта из недр III отделения, ведомства Бенкендорфа. Кажется, та же рука тогда же скопировала и пустила в обращение второй секретный и важный документ, тоже находившийся среди бумаг шефа жандармов.
Имя этого смелого, странного человека, служившего где-то вблизи от шефа жандармов, было впервые названо еще в прошлом веке среди осторожных намеков и глухих, неточных слухов… Павел Миллер.
* * *
Легко вообразить, какие предания и легенды рассказывались в Лицее 1831 года о знаменитом первом, пушкинском курсе, выпускниках 1817-го, среди которых одни служат в дальних посольствах и миссиях, другие содержатся в "мрачных пропастях земли", третьи живут где-то рядом, но разве их увидишь?
И вот вечером 27 июля 1831 года в лицейском саду появляется Пушкин, и ученики VI курса (то есть шестого по счету выпуска со времени основания Лицея) оробели; один из них, Яков Грот, будущий известный академик, историк литературы и пушкинист, рискнул подобрать и спрятать лоскуток, оторвавшийся от пушкинской одежды; подойти же и заговорить решился только восемнадцатилетний Павел Миллер. Эту сцену он запомнит на всю жизнь:
"За несколько шагов сняв фуражку, я сказал взволнованным голосом: "Извините, что я вас останавливаю, Александр Сергеевич, но я внук вам по Лицею и желаю вам представиться".
"Очень рад, — отвечал он, улыбнувшись и взяв меня за руку, — очень рад".
Непритворное радушие видно было в его улыбке и глазах. Я сказал ему свою фамилию… и курс. "Так я вам не дед, даже не прадед, а я вам пращур…"
Многие расставленные по саду часовые ему вытягивались, и если он замечал их, то кивал им годовою. Когда я спросил — отчего они ему вытягиваются? — он отвечал: "Право, не знаю. Разве потому, что я с палкой".
Семья Пушкина задерживается в Царском Селе до октября — в столице опасно, холера. Миллер рад услужить знаменитому «земляку» и добывает для него книги и журналы из лицейской библиотеки. Поэт благодарит, немножко подтрунивает. Однажды Миллер приходит и видит на столе "Повести Белкина". Пушкин мистифицирует юношу, рассуждая о писателе Иване Белкине, и замечает, между прочим, что "вот так надо писать, кратко, сжато". Потом Миллер узнает истину и пишет Пушкину, обращаясь — "г-н Белкин". Пушкин смеется и дарит молодому человеку книжку повестей.
Вскоре Миллер оканчивает Лицей, и важнейшей бумагой, определившей его судьбу, становится документ, подписанный Бенкендорфом 19 февраля 1833 года:
"На основании высочайше утвержденного штата корпуса жандармов, я определил выпущенного из Царскосельского лицея с чином 9 класса воспитанника Павла Миллера на имеющуюся при мне вакансию секретаря".
Личный секретарь второй персоны в стране, Миллер попал на такую должность, вероятно, благодаря хлопотам матери, сестры одного из помощников Бенкендорфа. Отныне Павел Миллер, разумеется, получал доступ к секретнейшим материалам и обязан был исполнять то, что ему предписывалось главою страшных и всемогущих карательных учреждений николаевской империи (так, среди бумаг семьи Мухановых сохранился вежливый французский ответ, составленный Миллером от имени Бенкендорфа и извещавший о невозможности существенного улучшения в положении ссыльного декабриста Петра Муханова). Шеф был, по-видимому, доволен своим секретарем, который прослужил у него двенадцать лет. После смерти Бенкендорфа (1844) Павел Миллер числился некоторое время по почтовому ведомству, а затем вышел в отставку, уехал в Москву и жил там около сорока лет, до самой смерти… Но случилось так, что личный секретарь Бенкендорфа, исправно исполняя свои обязанности, сохранил в своем внутреннем мире потаенную область, в которую не мог заглянуть даже всевидящий шеф. В той области царил Пушкин.
Служба при Бенкендорфе не может погасить любовь и интерес к Пушкину, но наступит день, когда эти две жизненные сферы столкнутся — и тогда Миллер выберет сторону Пушкина.
В конце апреля 1834 года московская почта перехватывает опасное письмо Пушкина к жене. Там говорилось, между прочим: "К наследнику являться с поздравлениями и приветствиями не намерен; царствие его впереди; и мне, вероятно, его не видать. Видел я трех царей: первый велел снять с меня картуз и пожурил за меня мою няньку; второй меня не жаловал; третий хоть и упек меня в камер-пажи под старость лет, но променять его на четвертого не желаю; от добра добра не ищут…"
О том, что произошло дальше, сейчас известно более или менее точно: Миллер (по должности читавший секретные письма, поступавшие к Бенкендорфу) увидел, как шеф положил копию опасного пушкинского письма в отдел бумаг "для доклада государю". Зная рассеянность Бенкендорфа, Миллер переложил документ в "обыкновенные бумаги", а также предупредил Пушкина об опасности. Миллер, очевидно, тогда же дерзко присвоил себе некоторые другие документы, относящиеся к Пушкину.
Царь все же узнал от Бенкендорфа суть дела, но без впечатляющих "вещественных доказательств".
Возмущенный вторжением власти в его семейную переписку, Пушкин негодовал, пытался уйти в отставку и покинуть Петербург. Лишь угроза, что ему не позволят работать в архивах, и уговоры друзей заставили поэта переменить решение. В те дни он писал жене: "Мысль, что кто-нибудь нас с тобой подслушивает, приводит меня в бешенство a la lettre [буквально (франц.)].Без политической свободы жить очень можно; без семейственной неприкосновенности… невозможно: каторга не в пример лучше. Это писано не для тебя…" (то есть Пушкин объясняется здесь с наглыми «читателями» чужих писем).
Как и ожидал секретарь, начальник забыл о потерянной бумаге: "Я через несколько дней вынул ее из ящика вместе с другими залежавшимися бумагами". Интересуясь всем, к Пушкину относящимся, Миллер уносил из канцелярии Бенкендорфа пушкинские бумаги, и уносил не раз.
Именно Павлу Миллеру легче всего было положить рядом два экземпляра пасквиля, поступившие в III отделение, и снять копию, сопроводив ее пояснениями, что почерк «дипломов» одинаковый, но адрес на конверте написан другою рукою. Доступно ему "по должности" было и письмо Пушкина к Бенкендорфу от 21 ноября 1836 года.
Итак, ученым давно была ясна ценность пушкинской коллекции, собранной Миллером. Но что же из этого? Мало ли пропало таких коллекций? Разве не исчезло почти без следа изумительное собрание запретных стихотворений поэта, составленное в Кишиневе и Одессе другом Пушкина Николаем Степановичем Алексеевым?
Однако насчет Миллера у пушкинистов сохранились кое-какие надежды…
Все в той же тетради Цявловских "Вокруг Пушкина" (с которой начиналось путешествие автора в Одессу, описанное две главы назад) находилась волнующая запись, сделанная еще 25 февраля 1947 года. В тот день Татьяна Григорьевна Цявловская зафиксировала рассказ Ксении Петровны Богаевской (чье указание помогло мне найти тетрадку с записями Сомова о саранче). Оказывается, в музей приходила владелица архива Миллера: "Она химик. Назвалась, сказала, что у нее письма Пушкина… письмо к Бенкендорфу, еще кое-что. Живет в районе Кропоткинской улицы. К сожалению, больше не приходила…"
Разумеется, делались попытки разыскать ту женщину. Безуспешные поиски велись в документах Литмузея, в адресном столе… Автор этих строк старался почаще в максимально широких аудиториях толковать о пушкинских загадках. Наконец Т. Г. Цявловская опубликовала отрывки из дневников "Вокруг Пушкина" (и в том числе строчки об архиве Миллера) в журнале "Наука и жизнь". Была надежда, что один из трех с половиной миллионов номеров этого журнала попадет на глаза владелицам миллеровских бумаг или их друзьям. Как-то раз мелькнул след некоего Юрия Миллера, как будто дальнего родственника того Миллера, жившего прежде на Кропоткинской. Однако путь этот оказался тупиком…
Прошло больше полугода, и вдруг однажды мне предложили срочно зайти в Отдел рукописей Ленинской библиотеки.
На длинном столе в кабинете заведующей отделом С. В. Житомирской лежали тридцать семь страниц, исписанных рукою Пушкина и не числившихся ни в одном научном описании рукописей поэта. Эту картину невозможно забыть. Пушкин — строчку, крохотный обрывок страницы которого ищут годами, десятилетиями; поэт, столь изучаемый и любимый, что любая находка кажется едва ли не сверхъестественной, поражающей самой возможностью еще что-то находить в наши дни, через полтора века… И вот — тридцать семь страниц; девять писем и одна творческая рукопись! Оказывается, в отдел пришла художница-пенсионерка Олимпиада Петровна Голубева. И самое необыкновенное — что она пришла, не зная про обращенные к ней слова из "Науки и жизни"!
Совпадение. Оно казалось бы невозможным, если бы речь шла не о Пушкине, но с Пушкиным — все бывает!
Во всяком случае, обращение в печати и поиски Миллера все же усиливали молву, говор, поиск вообще, и, может быть, если не прямо, то косвенно это ускорило замечательное событие — обретение такого большого числа пушкинских рукописей…
О. П. Голубева сообщила, что ее старшая сестра, химик Анастасия Петровна, четверть века назад действительно приходила в Литературный музей, но потом раздумала отдавать рукописи, автографы же достались ей от близких друзей, внучатых племянников Павла Миллера. Недавно Анастасия Петровна скончалась… В ее бумагах сестра нашла скромную папку, на которой карандашом (как выяснилось, рукою Павла Миллера) было начертано: "Литературные мелочи". Среди мелочей — 37 страниц пушкинских рукописей… четыре клочка бумаги — записочки поэта юному лицеисту Миллеру; большой автограф секретных пушкинских примечаний к "Истории Пугачева", предназначенных только для царя; еще несколько писем, в основном к Бенкендорфу. Нам, конечно, понятно, каким путем они оказались у секретаря шефа жандармов…
Наконец, самый поздний по времени документ — 4 голубых листочка, несколько протершихся на сгибах. Почерк Пушкина, более взволнованный, «встревоженный», чем в любом из других девяти автографов той же коллекции…
"Monsieur ie comte!
Je suis en droit… "
и т. д.
"Граф!
Считаю себя вправе и даже обязанным сообщить Вашему сиятельству о том, что недавно произошло в моем семействе…"
Письмо Бенкендорфу от 21 ноября 1836 года; то самое, копии которого находятся на втором месте во всех сборниках дуэльных материалов.
Но, может быть, самое удивительное в этих четырех голубых листках не текст (который, в общем, довольно точно воспроизводился прежними копиями), но судьба этого документа, которая понастоящему открывается только теперь.
Пушкину много раз приходилось писать шефу жандармов: тот стоит на третьем месте среди пушкинских корреспондентов, уступая по числу полученных от поэта писем только Наталье Николаевне и близкому другу Петру Вяземскому. Напомним, что Бенкендорф был тем адресом, по которому Пушкин вынужден был сноситься с царем.
Первое письмо Пушкина к шефу жандармов было отправлено в конце 1826-го. Здесь перед нами — последнее: конец 1836 года. Но отправлено оно не было… У верхнего края первой страницы письма находится довольно стершаяся карандашная запись рукою П. И. Миллера: "Найдено в бумагах Пушкина и доставлено графу Бенкендорфу 11 февраля 1837 года".
Мы имеем все основания тут поверить Миллеру. Пушкин был ему очень дорог, и чиновник не мог ошибиться. Позже он записал: "Некоторые подробности смерти Пушкина останутся всегда интересными для тех, кто обожал его как поэта и любил как человека". Мы, в общем, без особого труда можем теперь понять некоторые тайны последнего послания поэта к шефу жандармов. 21 ноября 1836 письмо было составлено, но не отправлено. Пушкин собирался в тот же день отправить другое письмо — смертельное оскорбление послу Геккерну ("Вы мне теперь старичка подавайте!"). Собирался, но не послал. Иначе дуэль была бы в ноябре 1836-го, а не в январе 1837-го… Отчего Пушкин тогда сдержался, можно гадать. Кажется, друзья, прежде всего Жуковский, сумели опять удержать поэта… Но, не послав письма-пощечины, письма-вызова, Пушкин не стал посылать и другого письма, где открывался во всем верховной власти: или два письма сразу, или ни одного!.. Иначе получалось бы, что Пушкин жалуется, просит царя заступиться за него. Между тем царь и так почти все знал, и Пушкин в том не сомневался…
Итак, два страшных, взрывчатых письма — одно Геккерну, другое Бенкендорфу и царю — 21 ноября 1836-го были написаны, но не отосланы. Как тяжко было такому человеку, как Пушкин, загнать внутрь такой заряд ненависти, презрения! Мы и без того знаем, как мучился поэт в последние месяцы своей жизни, и вот подробность об еще одной пытке…
В конце концов дуэль состоялась, Пушкина не стало. И тогда его бумаги были перевезены на квартиру Жуковского, и самому хозяину под контролем жандармского генерала Дубельта, помощника Бенкендорфа, было ведено произвести у Пушкина "посмертный обыск". Сохранился «журнал», протокол этого разбора. Из него мы узнаем, что 9 и 10 февраля 1837 года бумаги Пушкина были осмотрены и разделены на 36 категорий, среди которых под ь 12 значатся "Письма Пушкина", а под ь8 "Бумаги генерал-адъютанта графа Бенкендорфа". Вероятно, неотправленное письмо от 21 ноября было обнаружено в эти дни под одним из этих номеров. На другой день, 11 февраля, письмо было доставлено самому шефу, — может быть, через посредство его личного секретаря, во всяком случае, миновать Миллера этот документ не мог. Бенкендорф «ознакомился»… Миллер, вероятно, через некоторое время убедился, что шеф забыл о голубых листках, и, как прежде, взял письмо Пушкина себе…
11 февраля 1837 года письмо было еще на столе у шефа. А 14-го его текст был уже в руках Вяземского и других друзей Пушкина, составлявших тот самый "дуэльный сборник", который пойдет по рукам — в столицы, провинцию, в декабристскую Сибирь, к дипломату Горчакову.
Павел Миллер, рискуя головой, отдавал последний долг великому лицеисту… Странный был человек Павел Иванович Миллер. Может быть, на своей должности при всемогущем и устрашающем шефе он разучился бояться?
Миллер не был в числе близких друзей Пушкина. Поэта он не смог спасти.
Но и ближайшие друзья — не смогли…
"Как жаль, что нет теперь здесь ни Пущина, ни Малиновского", — сказал умирающий Пушкин Данзасу.
Федор Матюшкин из Севастополя: "Пушкин убит! Яковлев! Как ты это допустил? У какого подлеца поднялась на него рука? Яковлев, Яковлев! Как мог ты это допустить?"
Действительно, как допустили? Иван Пущин до конца дней был уверен, что, живи он в столице, — не допустил бы: "Если бы при мне должна была случиться несчастная его история… я бы нашел средство сохранить поэта-товарища, достояние России". И живший в Москве Павел Воинович Нащокин, лучший друг последних пушкинских лет, не сомневался, что не дал бы поэту умереть, если б находился рядом.
Близкие друзья в Петербурге не сумели ничего предотвратить — они, любили Пушкина, но, наверное, надо было еще сильнее любить, — как Матюшкин, Нащокин, Пущин.
Знакомых тьма — а друга нет!
Пущин. "Размышляя тогда и теперь очень часто о ранней смерти друга, не раз я задавал себе вопрос: что было бы с Пушкиным, если бы я привлек его в наш союз и если бы пришлось ему испытать жизнь, совершенно иную от той, которая пала на его долю. Вопрос дерзкий, но мне, может быть, простительный! Положительно, сибирская жизнь, та, на которую впоследствии мы были обречены в течение тридцати лет, если б и не вовсе иссушила его могучий талант, то далеко не дала бы ему возможности достичь того развития, которое, к несчастию, в другой сфере жизни несвоевременно было прервано.
Одним словом, в грустные минуты я утешал себя тем, что поэт не умирает и что Пушкин мой всегда жив для тех, кто, как я, его любил, и для всех, умеющих отыскивать его, живого, в бессмертных его творениях".
Глава 5 ВМЕСТО ЭПИЛОГА
Пришлось жить без Пушкина, а николаевского времени впереди еще восемнадцать лет.
В первое десятилетие ссылки декабристы — по их собственным рассказам — надеялись на скорое освобождение; во второе надеялись уже меньше, а в третье уверились, что никогда не вернутся.
Пущин однажды спросил одноклассника — моряка Матюшкина: "Памятная книжка Лицея… Верно, там есть выходка на мой и Вильгельма счет, и сестра церемонится прислать".
Выходка была обыкновенная: в числе выпускников 1817 года Пущин и Кюхельбекер не значились, как будто их никогда не было. Пущин — директору Энгельгардту, из западносибирского городка Ялуторовска, 26 февраля 1845 года:
"Горько слышать, что наше 19 октября пустеет: видно, и чугунное кольцо истирается временем. Трудная задача так устроить, чтоб оно не имело влияние на здешнее хорошее. Досадно мне на наших звездоносцев: кажется, можно бы сбросить эти пустые регалии и явиться запросто в свой прежний круг".
Главным звездоносцем был статс-секретарь Модест Андреевич Корф, 30–50-е годы были его временем. Очень способный, знающий — и характер вполне в николаевском духе, так что способности его и знания приняты и в ходу: он считает время хорошим и сам метит на место министра просвещения (его прозвали "любовник каждого министерского портфеля"), но попадает в "бутурлинский комитет" — самое суровое цензурное учреждение, которое знала до того Россия; Корф, по выражению одного ядовитого сановника, сделался с того момента уже доносителем не скрытым, а явным и вскоре докладывал Николаю I: "Повешенный над журналистами дамоклов меч, видимо, приносит добрые плоды".
Горчаков служит в одной упряжке с Корфом, но как-то все невпопад: честолюбие — любит честь… Его карьера была однажды приостановлена следующим документом: "Высочайшим именным указом от 25 июля 1838 года князь Александр Михайлович Горчаков уволен, согласно с прошением его, вовсе от службы с пожалованием в действительные статские советники".
Дело было вот в чем (рассказ самого князя):
"Как-то однажды в небольшой свите императора Николая Павловича приехал в Вену граф Александр Христофорович Бенкендорф. За отсутствием посланника я, исполнявший его должность в качестве старшего советника посольства, поспешил явиться, между прочим, и к графу Бенкендорфу.
После нескольких холодных фраз он, не приглашая меня сесть, сказал: "Потрудитесь заказать хозяину отеля на сегодняшний день мне обед". Я совершенно спокойно подошел к колокольчику и вызвал мэтр д'отеля гостиницы. — Что это значит? — сердито спросил граф Бенкендорф.
— Ничего более, граф, как то, что с заказом об обеде вы можете сами обратиться к мэтр д'отелю гостиницы.
Этот ответ составил для меня в глазах всесильного тогда графа Бенкендорфа репутацию либерала".
Вскоре на Горчакова было заведено дело, где значилось: "Князь Горчаков не без способностей, но не любит Россию".
Хотя Бенкендорф вскоре умер, но дело осталось. Лишь через несколько лет Горчаков не без труда получил скромную должность посланника в маленьком германском королевстве Вюртемберг, где пробыл тринадцать лет.
Ему уж за пятьдесят, из них служит более тридцати; служить бы рад, прислуживаться тошно. Жизнь и карьера — к закату. Пушкин предсказывал блестящую служебную фортуну, но, узнав о красавице княгине Марии Александровне, двух сыновьях и бледной карьере князя, — узнав это, Пушкин, возможно, порадовался бы. Княгиня, однако, вдруг заболевает и умирает…
О Пущине же еще четверть века назад было сказано:
Но ты счастлив, о друг любезный, На избранной стезе твоей…И 19 октября 1850-го Большой Жанно "счастлив… на стезе", только уж очень давно за Уралом и стареет.
А как с горчаковским счастьем? Почему дарование Пушкина, пусть в мучительной и краткой жизни, но раскрылось и проявилось; почему Пущин, как рассказывает лицейский директор, весел и бодр? Для чего служить? Может быть, для того. чтобы потом вспоминали, каковы были друзья у Пушкина… 22 апреля 1863 года Петр Андреевич Вяземский, близкий друг Пушкина и приятель Пущина, пишет комплименты Горчакову: "Я особенно дорожу вашим мнением… К вам можно применить восточный аполог: "Вы не поэт, но выросли с поэтом и ваши суждения отзываются благоуханием Пушкина". Как был бы задет юный, самодовольный Горчаков, если бы услыхал такое в Лицее, да и позже и, может быть, сейчас?..
Впрочем —
Где Горчаков, где ты, где я?И все же времена хоть медленно, но менялись. 18 февраля 1855 года Николай I умирает, на престоле Александр II, порядки смягчаются. Заканчивается Крымская война, начинается освобождение крестьян, раздается вольный голос Герцена из Лондона. Для трех героев нашего повествования это имеет важные последствия.
Пушкина выпускают в свет: первое научное издание, выполненное Павлом Анненковым, куда вошли многие сочинения и биографические сведения, прежде совершенно запретные.
Пущина и его друзей собираются выпустить из Сибири.
Горчакова гразу же извлекают из небытия. Дипломатия его шефа Нессельроде потерпела полный крах, Крымская война проиграна, Россия изолирована, срочно нужны настоящие, а не лакированные дипломаты, способные делать дело. Пятидесятилетнего Горчакова неожиданно делают послом в Вене, где он блестяще нейтрализует Австрию у финиша Крымской войны; затем новый император его приглашает в Петербург, и апрельским днем 1856 года князь выходит из царских апартаментов министром иностранных дел России.
Был славный обычай: когда некто становился министром, секретная полиция подносила ему подарок — вручала дело, заведенное на него в прежние времена. Один из старых сановников возмущался назначением Горчакова: "Как можно делать министром человека, знавшего заранее о 14 декабря!" (Что-то разузнали про беседы с Пущиным?) Но царь уж распорядился, дело же изъято, и в нем, видно, Горчаков вычитал про себя: "…не любит Россию…"
Много лет спустя престарелый Горчаков утверждал: "Моему совету государю Александру Николаевичу обязаны декабристы полным возвращением тех из них, которые оставались еще в живых в 1856 году". Конечно, тут преувеличивается роль одного советника в таком деле — об амнистии говорили и писали многие и в России, и за границей, и при дворе, — но Горчаков, на исходе пятого десятка вдруг сделавшийся одной из главных персон в государстве, конечно, знал не только внешнюю дипломатию, но и придворную. Слова о несчастных, старых, более не опасных людях были, очевидно, произнесены им кстати. Разумеется, министр не мог притом не подумать о Кюхле, Жанно и не вспомнить длинный ряд поступков, которыми был вправе гордиться перед лицейскими: встреча с Пушкиным в 1825-м, попытка помочь Пущину 14-го или 15 декабря, независимая служба, ответ Бенкендорфу…
26 августа 1856 года в Москве на коронации нового царя присутствовали, между прочим, брат декабриста, друг семьи Пущиных, прославленный генерал Николай Муравьев-Карский и состоящий при нем крестник Пущина и сын декабриста Михаил Волконский.
Вскоре Пущин запишет: "3 сентября был у нас курьер Миша, вестник нашего избавления. Он прискакал в семь дней из Москвы. Николай Николаевич человек с душой! Возвратясь с коронации, в слезах обнял его и говорит: скачи за отцом… Спасибо ему!"
Три четверти товарищей не дождались амнистии и остались в сибирской или кавказской земле. Немногие возвратились без права надолго задерживаться в столицах. В декабре 1856 года Пущин вновь увидел Москву, из которой выехал 372 месяца назад, одним давним декабрьским днем, и только по случайности не в одной карете с Горчаковым.
"Видел возвратившихся декабристов, — записал один современник, — и удивлен, что, так много и долго пострадавши, могли так сохранить свои силы и свежесть чувства и мысли. Матвей Ив. Муравьев-Апостол и Пущин возбудили общую симпатию. По приезде своем в Москву Пущин был весел и остроумен; он мне показался гораздо моложе, чем на самом деле, а его оживленная беседа останется надолго в памяти: либеральничающим чиновникам он сказал: "Ну, так составьте маленькое тайное общество!"
Проходит еще немного времени, Пущину разрешили ненадолго приехать и в столицу. 8 января 1857 года он написал очень интересное письмо другому старику, декабристу Евгению Оболенскому:
"В Петербурге… 15 декабря мы в Казанском соборе без попа помолились и отправились в дом на Мойку. В тот же день лицейские друзья явились. Во главе всех Матюшкин и Данзас. Корф и Горчаков, как люди занятые, не могли часто видеться, но сошлись как старые друзья, хотя разными дорогами путешествовали в жизни… Все встречи отрадны и даже были те, которых не ожидали. Вообще не коснулися меня петербургские холода, на которые все жалуются. Время так было наполнено, что не было возможности взять перо".
В письме этом много смысла.
15 декабря 1856-го — 31 год и один день после того 14 декабря. Непонятно, кто это «мы», которые прошли в Казанский собор: очевидно, Пущин с братом и, возможно, еще кто-то из возвратившихся. Молитва старых людей в громадном соборе, недалеко от того места, молитва без попа — в 31-ю годовщину события, изменившего их жизнь, но не переменившего Россию (однако "подлецы будем, если пропустим случай")… Раньше мы ничего не знали об этом эпизоде.
На Мойке, у родственников, Пущин остановился в Петербурге, но, разумеется, знал, что на этой же улице была последняя квартира Пушкина.
"В Петербурге навещал меня, больного, Константин Данзас. Много говорил я о Пушкине с его секундантом. Он, между прочим, рассказал мне, что раз как-то, во время последней его болезни, приехала У. К. Глинка, сестра Кюхельбекера; но тогда ставили ему пиявки. Пушкин просил поблагодарить ее за участие, извинился, что не может принять. Вскоре потом со вздохом проговорил: "Как жаль, что нет теперь здесь ни Пущина, ни Малиновского!"
Вот последний вздох Пушкина обо мне. Этот предсмертный голос друга дошел до меня с лишком через 20 лет!.."
У Вяземского, товарища министра, важного придворного, сильно изменившегося, но не совсем разлюбившего свою молодость, — у Петра Вяземского Пущин получил портфель с заветными бумагами, когда-то взятыми из рук в руки, вероятно, Энгельгардтом в присутствии Горчакова.
В портфеле, как тридцать один год назад, конституция Вьеварума, Никиты Михайловича Муравьева, о ком говорили, что он один стоит целого университета. Могила его — уж четырнадцать лет — в селе Урик близ Иркутска… Тут же лицейские стихотворения того, кто уже двадцать лет лежит у Святогорского монастыря.
В этот приезд Иван Пущин увиделся и с Горчаковым.
"Пущин теперь в Петербурге, — сообщает один из друзей, — и болен, виделся с Горчаковым, и тот был любезен со своим старым лицейским товарищем".
Министр — известно — принимал лицейских вне очереди, и, возможно, случалось, что некий дипломат дожидался окончания беседы его высокопревосходительства с изюмским уездным предводителем дворянства Иваном Малиновским, или с отставным военным Константином Данзасом, или даже с бывшим государственным преступником Иваном Пущиным.
Услышим ли беседу Горчаков — Пущин?
Расцеловались? Вряд ли… Конечно, главная тема — Лицей, лицейские. Может быть, вскользь о той, последней встрече в 1825-м, когда Горчаков предлагал способ бегства. Конечно — о Пушкине; может быть, впервые — о необходимости поставить ему памятник, но Горчаков вряд ли поддержал эту тему… Зато, как человек деликатный, поздравил Пущина с недавней женитьбой — на вдове декабриста Наталье Дмитриевне Фонвизиной; и, вероятно, были приличествующие шутки о любви, которой "возрасты покорны". Пущин же мог заметить, что пушкинские пророчества о крестах алмазных и чинах хоть не скоро, но сбылись — и князь, как видно, достиг предела карьеры. Горчаков не смог бы с этим согласиться, потому что, во-первых, была еще должность выше, чем министерская, — канцлера (но и ее он скоро займет!), а во-вторых, существовало высшее честолюбие, которое еще не совсем удовлетворено… Общих вопросов, «политики» — собеседники, конечно, могли коснуться и согласиться, что начавшееся освобождение крестьян — это хорошо. Горчаков полагал, что при новом государе все пойдет хорошо, Пущин же, конечно, не сказал министру всего, что подумал. За него сказал Лев Толстой; эти слова опубликованы совсем недавно (в "Литературной газете" 1 сентября 1971 года): "Освободил крестьян не Александр II, а Радищев, Новиков, декабристы. Декабристы принесли себя в жертву".
Потом пройдет еще два года, и 22 июля 1859 года в «Колоколе», революционной газете Герцена и Огарева, выходящей в Лондоне, появятся следующие строки: "Мы только теперь получили известие о кончине в подмосковной деревне 3/15 апреля Ивана Ивановича Пущина. Мы упрекаем наших корреспондентов, что они так поздно известили нас. Все касающееся до великой, передовой фаланги наших вождей, наших героических старцев, должно быть отмечено у нас".
Больше, понятно, ни одного некролога не появится нигде.
Так окончилась жизнь Большого Жанно, Ивана Ивановича Пущина; 13 лет беззаботного детства, 6 лет Лицея, 8 лет службы и тайных обществ, 31 год тюрьмы и ссылки, да три без малого года в подмосковной усадьбе жены, без права постоянного жительства в столицах. Когда-то Пушкин желал ему встретить с друзьями "сотый май", Ивану Ивановичу не хватило месяца до 61-го…
А Горчаков крепок. Больше четверти века ведет внешнюю политику страны, и ему есть чем гордиться: "Я первый в своих депешах стал употреблять выражение "Государь и Россия". До меня для Европы не существовало другого понятия по отношению к нашему отечеству, как только император. Граф Нессельроде даже прямо мне говорил с укоризною, для чего я это так делаю. "Мы знаем только одного царя, говорил мой предместник: нам дела нет до России".
В 1870-м, когда Наполеон III разбит Пруссией, канцлер точно рассчитывает момент и объявляет, что Россия больше не признает старых, унизительных трактатов, предписывавших ей (после крымских поражений) не иметь на Черном море флота и крепостей… Англия и Франция на этот раз были бессильны. Горчаков сказал лицейским, что гордится датой своего успеха — 19 октября 1870 года…
В следующие же годы он переиграл и "железного Бисмарка". Когда тот попытался еще больше ослабить разбитую прежде Францию, услышал от русского министра: "Я вам говорил и повторяю — нам нужна сильная Франция".
Сначала Горчаков выиграл, поставив против Франции, потом еще раз — за Францию…
Высшее честолюбие удовлетворяется — он по праву может считать себя лучшим дипломатом.
Пятидесятилетие его службы отмечает все тот же Вяземский — на этот раз стихами:
С поэтом об руку, в питомнике Лицея Его товарищ с ним умом и духом зрея, Готовился в тени призванием судьбы Стяжать иной успех ценой другой борьбы.Без Пушкина, как видно, слава Горчакова не обходится… К старости имеет, кажется, все! В 14-ти классах "Табели рангов" достиг 1-го. Его полный титул, звание и список орденов занимает целый газетный столбец. Дальше карьера, собственно, идти не могла вообще. Это был потолок, выше которого — только члены царствующего дома. Спокоен, доволен, счастлив…
Несколько тревожит только Пушкин.
С годами чувство к нему усложнилось. Грубой зависти или ревности, конечно, не было. Но появилась некоторая неприязнь. Пушкин как бы существовал в двух системах отсчета. По одной — его месго некогда определил председатель цензурного комитета Дундуков-Корсаков ("князь Дундук"): "Пушкин скончался в середине своего великого поприща!" Какое это такое поприще? Разве Пушкин был полководец, военачальник, министр, государственный муж?! Писать стишки не значит еще, как выразился Сергей Семенович (Уваров — министр просвещения), проходить великое поприще?"
Заметим, сам Сергей Семенович признает, что Пушкин — не совсем обычный камер-юнкер и титулярный советник: "Писать стишки не значит еще…" — то есть кое-что это значит, только "не значит еще…". "Великое поприще" — не стишки, а Бенкендорф, Нессельроде, Горчаков…
Горчаков живет по этой системе. Он "министр, государственный муж"… Если б он был Дундуком — не беспокоился бы. Но он много умнее Дундука. Он, в общем, представляет, что такое Пушкин. А что такое он сам?
И что действительно важно на этом свете? На одной чаше весов — канцлер, дипломатия, договора… На другой — лицейские посвящения Пушкина, строчки из "19 октября", встреча в псковской деревне осенью 1825 года…
Подобные размышления нарушают то внутреннее равновесие, которым обязан отличаться государственный муж. Он решительно отказывается войти в комитет для сооружения московского памятника Пушкину (где сотрудничали почти все старые лицеисты), зато вносит 16 000 рублей для увековечения памяти лицейского директора Егора Антоновича Энгельгардта. В ответ благодарили: "Императорский Александровский лицей гордится тем, что списки его воспитанников начинаются с вашего имени". Горчаков когда-то второй, теперь — первый…
Пушкин снова нарушал порядок самим фактом существования. Он числился по какой-то совсем другой иерархии. "Беззаконная комета в кругу расчисленном светил". Светила беспокоились. "Если бога нет, то какой же я капитан?" — вопрошал один из героев Достоевского. Действительно, без бога — какой он капитан?..
Но между тем все меньше лицеистов первого выпуска, чугунников. Яковлев умирает в 1868 году, Мясоедов — 1868, Данзас — 1871, Матюшкин — 1872, Малиновский — 1873, Корф — 1876 год.
"Наш круг час от часу редеет", — было сказано еще пятьдесят лет назад.
19 октября 1877-го, в шестидесятилетие первого выпуска, телеграмму Горчакову от имени первых семи курсов подписал Сергей Комовский.
"Лисичка" — Комовский и Горчаков, последние два. "Кому же… день Лицея торжествовать придется одному?"
Памятник Пушкину в Москве скоро будет готов, и в его обсуждении участвуют многие. Наверное, странно и страшно видеть памятник однокласснику, с кем проказничали и веселились. Возможно, эти чувства охватили восьмидесятилетнего Комовского.
"Как ни рассматривал я со всех сторон, ничего напоминающего — никакого восторженного нашего поэта я, к сожалению, не нашел вовсе в какой-то грустной, поникшей фигуре, в которой желал изобразить его потомству почтенный художник".
Комовский не знал и знать не хотел грустного и поникшего Пушкина.
Канцлер же Горчаков в обсуждении не участвовал, и отзывы его неизвестны. Но в его биографии чем дальше, тем больше и причудливей реализуются пушкинские пророчества. Все больше "крестов алмазных" и все больше "любви". Видя, как престарелый Горчаков ухаживает за молоденькой Олсуфьевой, Петр Андреевич Вяземский, старший Горчакова шестью годами, меланхолически замечает: "Помнится, 67 лет назад я имел куда больший успех у бабушки этой девицы". (Какая прелесть! — Н.Э.) Действительно, в 1810-х годах Вяземский был столь же неотразим для тогдашней Олсуфьевой, как тогдашний Горчаков — для милых, эфирных и затем давно истлевших созданий…
Великий канцлер дел сердечных, О дипломации уж я не говорю…Так начиналось одно из последних стихотворений, записанных усталой, старческой рукою Вяземского…
Уж после смерти Пушкина прошло больше лет, чем Пушкин прожил, а разговоры поэта с министром все не прекращаются!
Перед отъездом в Москву на пушкинские торжества (открытие памятника) академик Грот получил аудиенцию у восьмидесятидвухлетнего Горчакова.
Грот: "Он был не совсем здоров; я застал его в полулежачем положении на кушетке или длинном кресле; ноги его и нижняя часть туловища были окутаны одеялом. Он принял меня очень любезно, выразил сожаление, что не может быть на торжестве в честь своего товарища, и, прочитав на память большую часть послания его — "Пускай, не знаясь с Аполлоном…", распространился о своих отношениях к Пушкину. Между прочим, он говорил, что был для нашего поэта тем же, чем кухарка Мольера для славного комика, который ничего не выпускал в свет, не посоветовавшись с нею; что он, князь, когда-то помешал Пушкину напечатать дурную поэму, разорвав три песни ее; что заставил его выбросить из одной сцены Бориса Годунова слово слюни, которое тот хотел употребить из подражания Шекспиру; что во время ссылки Пушкина в Михайловское князь за него поручился псковскому губернатору… Прощаясь со мною, он поручил мне передать лицеистам, которые будут присутствовать при открытии памятника его знаменитому товарищу, как сочувствует он оконченному так благополучно делу и как ему жаль, что он лишен возможности принять участие в торжестве".
Вот что сказал Горчаков. Но притом он не сказал академику, мечтавшему узнать хоть крупицу нового о Пушкине, что в его архиве хранится неизвестная озорная лицейская поэма «Монах» и коечто другое из Пушкина. И академик Грот не сказал лишнего, не потребовал том Пушкина и не стал декламировать:
Девичье поле. Новодевичий монастырь.
Народ просит Бориса принять царство.
Один.
Все плачут. Заплачем, брат, и мы.
Другой.
Я силюсь, брат. Да не могу.
Первый.
Я также. Нет ли луку?
Потрем глаза.
Второй.
Нет, я слюней помажу.
Что там еще?
Первый.
Да кто их разберет?
Народ.
Венец за ним! Он царь! Он согласился!
Борис наш царь! Да здравствует Борис!
Поэма «Монах», уничтоженная Горчаковым, была у Горчакова. Уничтоженные Горчаковым строки из "Бориса Годунова" жили в "Борисе Годунове". Пушкин обещал в 1825 году выбросить строку про «слюни» — и оставил, а Горчаков не узнал про обман. Первому слушателю «Бориса», видно, не довелось его прочесть.
Если б Горчаков узнал то, что знал Грот, возможно, воскликнул бы: "Ну вот, Александр, с ним всегда так — несерьезен!"
Но беседы Пушкина с Горчаковым не обрываются и в 1880 году. Вскоре после открытия памятника в Москве умирает Комовский… Пушкин не знал, кому посвящает последние строки "19 октября", а Горчаков, единственный, узнал.
Кому ж из нас под старость день Лицея Торжествовать придется одному? Несчастный друг! Средь новых поколений Докучный гость и лишний, и чужой, Он вспомнит нас и дни соединений, Закрыв глаза дрожащею рукой… Пускай же он с отрадой хоть печальной Тогда сей день за чащей проведет, Как ныне я, затворник ваш опальный, Его провел без горя и забот.Князь заслужил последнюю награду — еще десять пушкинских строк. Но мало того — министр совсем не считал себя "несчастным другом". Кажется, он с отрадою провел не один, а многие дни 1880, 1881, 1882, и так — до 28 февраля 1883 года. Те дни, когда он был последним лицеистом. Исполнилось все, о чем он мечтал, — он был счастлив. "Пред грозным временем, пред грозными судьбами…"
Однако даже и это его состояние Пушкин предвидел: графиня в "Пиковой даме" была "погружена в холодный эгоизм, как и все старые люди, отлюбившие в свой век и чуждые настоящему…". Так и не прочитал никогда Горчаков опубликованные уже после его смерти черновые пушкинские строки:
Где ж эти липовые своды? Где Горчаков, где ты, где я?Часть II
Так-то, Огарев, рука в руку входили мы с тобой в жизнь! Шли мы безбоязненно и гордо, не скупясь, отвечали всякому призыву, искренне отдавались всякому влечению. Путь, нами избранный, был нелегок, мы его не покидали ни разу; раненые, сломанные, мы шли, и нас никто не обгонял. Я дошел… Не до цели, а до того места, где дорога идет под гору, и невольно ищу твоей руки, чтоб вместе выйти, чтоб пожать ее и сказать, грустно улыбаясь: "Вот и все"…
Жизнь… жизни, народы, революции, любимейшие головы возникали, менялись и исчезали между Воробьевыми горами и Примроз-Гилем; след их уже почти заметсн беспощадным вихрем событий. Все изменилось вокруг: Темза течет вместо Москвы-реки, и чужое племя около… И нет нам больше дороги на родину… Одна мечта двух мальчиков — одного 13 лет, другого 14 — уцелела!
Пусть же "Былое и думы" заключат счет с личной жизнию и будут ее оглавлением. Остальные думы — на дело, остальные силы — на борьбу.
Таков остался наш союз…
Опять одни мы в грустный путь пойдем,
Об истине глася неутомимо, —
И пусть мечты и люди идут мимо!
Герцен, "Былое и думы"Глава 6 ВАЛЬС ГЕРЦЕНА
С чего проснулось дней былых
Душе знакомое волненье?
Н. П. ОгаревХотя с той поры прошло почти 5000 дней, но мне кажется (может быть, самообман?), что помню буквально все. Сначала сажусь на электричку и еду 57 километров на северо-запад от столицы. Со станции шагаю еще километра два к своей новой (после школы) работе. У входа близ Дамасской башни бросаю взгляд на желто-красный лес, покрывающий гору Фавор, замечаю за воротами подземную церковь, где вниз ведут тридцать три ступени (по числу лет Иисуса Христа) и читаю объявление: "В воскресенье пионерский слет в Гефсиманском саду"{4}: те, кто бывали в Истре, в Новоиерусалимском монастыре (где расположен Московский областной музей), вероятно, запомнили красоту и странное своеобразие этих мест; меня, во всяком случае, редко оставляло чувство некой тайны, рядом с которой мы, научные сотрудники, ходим и только случайно с ней не сталкиваемся.
Архитектурные формы монастыря уводили воображение на Восток, в первые века нашей эры; в библиотеке музея старинные западноевропейские фолианты соседствовали с прижизненными пушкинскими изданиями и комплектом журнала «Современник» времени Чернышевского и Некрасова; подземный ход, который начинался в монастыре, удалось пройти до плотного завала, где прежние проходчики, очевидно монахи, оставили свою «памятку» — водочные бутылки с этикеткой "1886 год"; сабли с восточными надписями (дворянские военные трофеи времени Румянцева и Суворова) перемежались с вещами, регулярно доставляемыми в музей окрестными жителями; монетами, обломками изразцов, медалями.
Когда стемнеет, директор музея, ныне покойный Дмитрий Вербанович Петков, поведет нас, нескольких своих сотрудников, в обход. Громадным ключом размыкается замок — и мы входим в древний храм, полуразрушенный страшным фашистским взрывом 1941 года. Свод провалился, и снизу мы видим звезды, к которым тянутся синебелые стены — память о Бартоломео Растрелли и других мастерах, два века назад добавивших к прежней архитектуре свое дворцовое барокко. Из щелей и выбоин в стенах лезет трава и даже небольшие кусты. Несколько шагов в сторону — и вдруг возникает начало XIX столетия, строгий, изящный классицизм, рука великого Казакова, но там и сям в полумраке поблескивают цветные изразцы, выполненные задолго до всех прочих украшений по приказу того страшного и могучего владельца, который триста лет назад велел здешним лесам, горкам и речкам называться по-евангельски, который однажды согнал тысячи мужиков, и они удвоили естественный холм над рекой Истрой (нареченной Иордан), который в безумной гордыне велел затем воздвигнуть на этом холме храм по подобию самого главного для христиан храма гроба господня в Иерусалиме.
Потом, когда патриарх всея Руси Никон был низвергнут и сослан царем Алексеем Михайловичем, среди разных прегрешений ему вспомнили и сам замысел Нового Иерусалима, поставивший "человеческое выше божеского". Достроенного храма патриарх так и не увидел, скончавшись на обратном пути из северной ссылки.
Мы же входим в склеп — гробницу Никона, зажигаем свечу, и вдруг саркофаг странно и страшно начинает светиться сотнями огоньков: это слюда, вкрапленная в гранит, отозвалась на стеариновое пламя. Тут же сверху доносится ни на что не похожий жуткий гул, и мы вздрагиваем, хотя знаем, что это встревоженные голуби в уцелевших сводах плюс необыкновенное эхо; мы знаем, но черный кот, сидевший на плече у Льва Алексеевича, вдруг спрыгивает и как сумасшедший несется по склепу, ударяясь о стены и слюдяные искры, — тот самый кот Черныш, который поражал всех необыкновенным спокойствием и глухонемой молчаливостью.
— Да, друзья, — сказал хозяин кота, — тут два пути: или страх, или воспарение души…
Василий Васильевич, не любивший столь замысловатых изречений, выразил охватившее его чувство иначе и сказал, чуть гнусавя:
— А пойду-ка я в поля…
Это означало, что ему захотелось в глубинные районы, отдаленные деревни, где научный сотрудник музея, сильно смахивающий на древнего странника, легко добывал из старых прабабушкиных сундуков, чемоданов, амбаров то деревянную утварь позапрошлого века, то вдруг редчайший печатный листок — отречение Константина в пользу брата Николая Первого, то подшивку «Бедноты» за 1920 год…
В эту торжественную минуту ответственных решений только Петр Герасимович, охотник и биолог, ведавший отделом природы, не сказал ничего. Он решительно зашагал к выходу. Ему еще работать и работать — обещал сегодня немного помочь директору: ведь на квартире Петкова каждого входящего обязательно приветствовал угрюмый питекантроп или интеллектуальный синантроп; над котелками и тазами висели, кипели или сохли веселые динозавры и свеженькие мастодонты, а на бельевой веревке вниз головой дремали птеродактили… Дмитрий Вербанович был умелым художником-муляжистом, и, с тех пор как музейное начальство решило, что бронтозавр — существенный элемент антирелигиозной пропаганды, — мезозойские и палеозойские гости не переводятся в его кабинете и квартире…
Запирая собор полупудовым ключом, директор подытоживает наши ощущения: "Да, ребята, тут еще тайны и тайны для нас и после нас…" Сказал — и пошел к своим питекантропам, оставив нас в сомнении и размышлении: что за тайны?
То ли несметные клады Никона, зарытые на Фаворе и под монастырской стеной (разумеется, в округе мало кто сомневается в их реальности), то ли библиотека царя Ивана Грозного, которую будто бы патриарх вывез и тоже схоронил перед опалою, и, может быть, за тем завалом, где лежали бутылки с этикеткой 1886 года…
— А пойду-ка я в поля, — повторил Василий Васильевич и тут же, конечно, пошел…
Что он разыскал в тот выход, не помню. Но очень хорошо помню, что на другой день я отыскал свою тайну — небольшую, но для меня удивительную… Это совпадение: ночь, гробница, разговор о таинственном и на другой день находка — неестественно, фантастически; но мы там, в стенах старинного монастыря-музея, где под полом лежали пустые гробы, приготовленные впрок для монахов, где было так тихо, что невозможно было уснуть, где на каждом столе можно было взять случайную книгу и прочесть, — именно в этом месте необыкновенное казалось столь нормальным, что было бы более странным, если бы на другой день никто ничего не открыл.
* * *
— Там у нас в фондах, — сказал наутро Дмитрий Вербанович, — много всякой редкой запретной литературы прошлого века. Коли интересуетесь, так разберитесь.
Я тут же взялся за дело и через час с помощью почтенной фондохранительницы Анны Николаевны обнаружил редкое обилие герценовского «Колокола». Тогда еще не вышло научное факсимильное издание этой газеты, ныне осуществленное Академией наук, и даже в Ленинской библиотеке «Колокол» выдавался только в Отделе редких книг. Позже, когда я узнал, что тираж газеты не превышал двух-трех тысяч экземпляров, причем некоторая часть их захватывалась и уничтожалась российскими властями, а смелые читатели обычно после ознакомления спешили расстаться с опасной уликой, позже я не переставал изумляться нашему кладу: несколько десятков герценовских газет!
Если бы можно было узнать, откуда, через чьи руки прошли они, прежде чем осесть в фондах подмосковного музея! Но это почти не представлялось возможным…
Так перекладывал я сшитые (кем-то!) и разрозненные номера знаменитейшего издания Вольной русской типографии, бившего сто лет назад из Лондона по петербургским властям, воспитывавшего целое поколение, будившего спящих, "звавшего живых"… И вдруг на моем столе оказывается экспонат, внесенный в инвентарную книгу под номером 10 277: сборник в переплете, на яркой зелени которого золотым тиснением — изображение обыкновенного колокола и герб с инициалами ЮГ ("Юрий Голицын"). Под переплетом — белоснежный титульный лист, на котором карандашом набросано: Leicester Square, Waterlow station, Waterlow bridge, offset в 12 ч. 45 мин. Tinkler's house" (то есть: "Лейчестер сквер, вокзал Ватерлоо, мост Ватерлоо, 12 ч. 45 мин. Тинклер Хауз"), здесь же план, очевидно — «памятка» для приезжего.
С лондонского вокзала Ватерлоо более ста лет назад отправлялись на пригородном поезде те, кто стремились в назначенное время попасть в Тинклер Лаурел Хауз: именно по этому адресу в пригороде Лондона Путней жили в 1856–1860 годах Герцен и Огарев.
Александр Иванович Герцен, великий Искандер (этим восточным «переводом» имени Александр он любил подписывать свои работы).
На шестом месяце своей жизни он улыбался огненной иллюминации московского пожара 1812 года.
Четырнадцатилетним, сдерживая слезы, наблюдал на Красной площади салют и молебен в честь вступающего на престол Николая I и клялся отомстить за пятерых казненных и 120 сосланных.
Еще через год на Воробьевых горах повторит клятву вместе с другом Ником Огаревым.
А потом — в течение многих лет — будет писать и печатать в полную меру таланта и знания.
Такого счастья было лишено несколько поколений русских литераторов. Но за такую исключительность Герцен заплатит сполна.
Вот «мартиролог», то есть список главных потерь, которые пришлось пережить: 20 июля 1834 года — арест и ссылка на пять лет.
7 декабря 1840 года Герцена забирают в Петербурге в III отделение.
"Жену я застал в лихорадке. Она с этого дня занемогла и, испуганная еще вечером, через несколько дней имела преждевременные роды. Едва через три или четыре года оправилась она".
Февраль 1841 года — раньше срока родился сын Иван (второй ребенок после сына Саши), но умер через неделю. 20 февраля — в письме к Огареву:
"Десять дней с тех пор, как начато письмо, — и десять лет жизни. С тех пор у меня родился малютка, умер малютка, Наташа была несколько дней в опасности и — и жизнь опять взошла в свое обычное русло. Но прошедшее не гибнет, оно внутри вечно живо, на душе новые чувства, на теле новые морщины…"
Июль 1841 года — Герцена более чем на год ссылают в Новгород.
24 декабря 1841 года — прожив два дня, умер третий ребенок, дочь Наталья ("на днях я лишился второго малютки, лишиться двух детей в один год более нежели ужасно; жена моя больна, и я чувствую, как силы мои уничтожаются"). 30 декабря 1843 года у Герцена родился четвертый сын, Коля, глухонемой.
6 мая 1846 года — смерть отца, Ивана Алексеевича Яковлева.
27 ноября 1846 года умирает после мучительной болезни Лиза Герцен, шестой ребенок (за два года до нее родилась дочь Тата). Девочка прожила около одиннадцати месяцев, уже имела прозвище «Лика», уже успела получить от отца из Петербурга гумипластиковый мяч.
Январь 1847 года — отъезд за границу. Больше увидеть Россию не довелось.
1848–1849 годы — Герцен наблюдает западноевропейские революции, потрясен их поражением, зрелищем крови и ликующих убийц, переживает тяжелое разочарование во многих прежних идеалах и надеждах.
23 сентября 1850 года Герцен отказывается исполнить повеление Николая I о возвращении в Россию, в 1851 году лишен всех прав состояния и считается "изгнанным из пределов государства".
Январь 1851 года — Герцен узнает о любви жены Натальи Александровны к близкому другу, немецкому поэту и эмигранту Георгу Гервегу. Тяжелая, унизительная семейная драма (Наталья Александровна остается с Герценом, но втайне сохраняет чувство к Гервегу).
16 ноября 1851 года — у Иерских островов в Средиземном море гибнет пароход, на котором находились мать Герцена Луиза Ивановна Гааг и его восьмилетний сын Коля. Беременная жена Герцена после этого тяжело заболевает.
С 1850 года испуганные друзья в России не одобряют многих мыслей и действий Герцена и фактически прерывают с ним отношения.
16 января 1852 года в письме к близкому другу, М. К. Рейхель: "И я что-то старею, голова болит чаще и чаще. Скука такая, тоска, что, наконец, если б не дети, то и все равно, впереди ничего, кроме скитаний, болтовни и гибели за ничто. Если б в Москве не было так бесконечно глупо, проситься бы домой <…> Finita la Comedia, матушка Марья Каспаровна. Укатал меня этот 1851 год…"
30 апреля 1852 года рождается восьмой ребенок, сын Владимир (раньше, в 1850 году, родилась дочь Ольга), через два дня, 2 мая 1852 года, новорожденный умирает. В тот же день, не прожив и 35 лет, умирает и жена Герцена Наталья Александровна.
"Все погибло — и общее и частное": нет семьи, родины, друзей, идеалов.
Для многих этого было бы достаточно. Дальше, если не умереть, то лишь существовать.
Но, заплатив страшную цену, Герцен начинает два главных дела: "Былое и думы" (с 1852 года) и Вольную типографию (в 1853 году). С 9 апреля 1856 года рядом лучший друг Николай Огарев.
Но судьба не оставляла его, потребовав вскоре новой и новой платы… Однажды меня потрясла молитва, произнесенная почти уж неверующим Герценом при рождении первого сына, 14 июня 1839 года (в письме к архитектору Александру Витбергу):
"Вчера в 12 утра явился на свет Александр Герцен II. Все до сих пор чрезвычайно легко и благополучно. Вы знаете очень хорошо чувства, которые волнуют душу отца при рождении особенно первенца. Я плакал, я стоял на коленях перед распятием, я дрожал от страха, и этот страх происходил не от одного вида ее страданий, а от огромности дела отцовского. Господи, помоги нам исполнить великое дело воспитания, помоги наставить на путь правдивый, хотя бы с этим и были сопряжены тяжелые несчастья земной жизни (Молю тебя!)".
Знал ли Герцен, чего просит?
"Александр Герцен II", Александр Александрович (Саша) получил в Англии и Швейцарии великолепное воспитание, преуспел в науке, был человеком достойным, Россией интересовался, но помнил ее только по детским годам, прожил жизнь почти без потрясений, был довольно крупным профессором-физиологом.
"Путь правдивый — ценой тяжелых несчастий земной жизни" Александр Иванович не сыну — себе самому выпросил. Зато и достигал такою ценою часов и дней высшего счастья.
* * *
Трудно представить, как в 1853 году Герцен решился создать Вольную типографию в Лондоне. Со средствами, помещением, русским шрифтом было, конечно, нелегко, но дело даже не в этом. Как на такое решиться?
Начнут выходить свободные русские издания — многие скажут: "Предатель, враг царю и отечеству!" А Герцен не смутится и ответит, что отечеству его меньше всего нужны рабы, а больше всего — свободные люди.
Увидят в России обратный адрес Вольной типографии — «Лондон», подумают: "Россия с Англией в войне, идут сражения под Севастополем, а он на вражеской территории скрывается". Герцен же возразит, что с английскими министрами союза не заключал, так же как с русскими, и пусть сами читатели судят о чистоте его намерений.
Прочтут друзья первые главы "Былого и дум" и другие сочинения Герцена — станут запугивать изгнанника, что из-за него близкие люди могут пострадать, а великий актер Михаил Семенович Щепкин, тайно приехав в Лондон, будет сердиться на старого приятеля и требовать, чтобы не печатал, а каялся. Но Герцен не станет каяться, а будет печатать.
Найдутся, конечно, сочувствующие, но они скажут: Россия не услышит, не поймет; гигантскую империю не сотрясет "глас вопиющего". Печатал ведь против Николая эмигрант Головин и еще кое-кто — в Петербурге почти не заметили, о провинции и говорить нечего… Но тут Герцен спросит, что лучшего, нежели вольная печать, могут предложить его сочувствователи: "Основание русской типографии в Лондоне является делом наиболее практически революционным, какое русский может сегодня предпринять в ожидании исполнения иных, лучших дел".
И тогда будет использован последний довод: в Лондоне, за два моря, нельзя держать руку на российском пульсе, а без знания народных потребностей печатать что-либо бесполезно и даже вредно. На этот серьезный довод Герцен возразит: нужны или не нужны вольные издания, будет решено "тайным голосованием". Отзывы и корреспонденции с родины можно принять за "вотум доверия", и в этих-то отзывах и корреспонденциях будет легко ощущатьсяи движение крови и биение пульса…
В дальнейшем все получилось "по Герцену".
Обвинения в предательстве, в том, что Россия не поймет его, а он — Россию, через несколько лет уже не употреблялись даже самыми непримиримыми врагами. На втором году вольного книгопечатания стала выходить "Полярная звезда", а с 1857 года — газета «Колокол», и нам трудно сейчас вообразить, что такое был «Колокол» в русской жизни 1850–1860 годов, то есть в то самое время, когда некий обладатель сборника в зеленом переплете, поглядывая на карандашный план, садился на вокзале Ватерлоо и отправлялся в Путней, Тинклерс Хауз.
Итак: тисненый колокол на переплете, адрес Герцена — на титуле, а с первой страницы — Колокол-газета, 16 номеров: с 1 июля 1857 года по 1 июля 1858 года. На полях тою же рукою, что и на титульном листе, сделаны многочисленные пометки, следы внимательного чтения.
Однако главный сюрприз — в конце. Отдав переплести опасную, крамольную газету, владелец не побоялся добавить к ней еще три рукописных документа: два письма князя Юрия Голицына к Герцену и автограф самого Герцена: ответ Юрию Голицыну от 15 августа 1858 года!..
Несмотря на вчерашний разговор о тайнах, у меня в тот миг было представление, что научные открытия делаются не так — на полке в фондах, а в необычайной обстановке и чаще всего в нерабочее время… Поэтому я не поверил, что обнаружил нечто новое, и обратился к Полному собранию сочинений А. И. Герцена. Так и есть! Письмо Герцена к князю Голицыну опубликовано еще в 1925 году со следующим примечанием: "Нигде напечатано не было, сверено с подлинником, хранящимся у Ф. И. Витязева".
Ферапонт Иванович Витязев — издательский работник 20–30-х годов. Очевидно, у него в руках и был когда-то весь этот сборник.
Однако письмо Герцена во многом непонятно без существующих посланий Голицына, а они-то нигде не печатались!
Получилось, что открытие, пусть небольшое, все же состоялось. Оно имело самое прямое отношение к одному известному и любопытнейшему эпизоду.
"...Подъехала к крыльцу богатая коляска, запряженная парой серых лошадей в яблоках. Сколько я ни объяснял моей прислуге, что, как бы человек ни приезжал, хоть цугом, и как бы ни назывался, хоть дюком, все же утром не принимать, — уважения к аристократическому экипажу и титулу я не мог победить. На этот раз встретились оба искусительных условия, и потому через минуту огромный мужчина, толстый, с красивым лицом ассирийского бога-вола, обнял меня.
— Дорого у вас здесь, в Англии, б-берут на таможне, — сказал он, слегка заикаясь.
— За товары, может, — заметил я, — а к путешественникам очень снисходительны.
— Не скажу — я заплатил шиллингов пятнадцать за крок-кодила.
— Да это что такое?
— Как что? Да просто крок-кодил.
Я сделал большие глаза и спросил его:
— Да вы, князь, что же это: возите с собой крокодила вместо паспорта — стращать жандармов на границах?
— Такой случай. Я в Александрии гулял, а тут какой-то арабчонок продает крокодила. Понравился, я и купил.
— Ну, а арабчонка купили?
— Ха-ха! Нет!"
Так на страницах "Былого и дум" Герцен представляет читателям Юрия Николаевича Голицына, тамбовского душевладельца и серьезного, талантливого музыканта, камергера, отца пятерых «незаконнорожденных» детей, а также ярого поклонника "государственного преступника" — изгнанника Герцена.
"Такого крупного, характеристического обломка всея Руси, — писал Герцен, — такого образчика нашей родины я давно не видал". "Здесь теперь князь Ю. Н. Голицын, уехавший без паспорта, — сообщал своему сыну. — Красавец, как Аполлон Бельведерский, музыкант, как я не знаю кто. Он рассорился с правительством".
Как же князь и камергер "дошел до жизни такой", как сделался эмигрантом (или, по выражению одного из его людей, "изволил бежать за границу")?
Герцен:
"Он мне сразу рассказал какую-то неправдоподобную историю, которая вся оказалась справедливой: как он давал кантонисту переписывать статью в «Колокол» и как он разошелся со своей женой; как кантонист донес на него, а жена не присылает денег; как государь его услал на безвыездное житье в Козлов, вследствие чего он решился бежать за границу…"
Я снова обращаюсь к сборнику в зеленом переплете из фондов музея: кажется, он является вещественным комментарием к этой главе герценовской книги. Какой-то кантонист-переписчик, какая-то статья в «Колокол»… Не об этих ли письмах речь идет?
Много лет спустя дочь Ю. Голицына напечатала воспоминания о том, как ее отец оказался в Лондоне:
"Голицын завел с Герценом переписку… Все же сочинения Герцена отдал переплести одному из придворных переплетчиков, велев сделать переплет революционного (!) цвета, а в середине книги большой золотой герб князей Голицыных".
Вот оно! Наивный князь полагал, что ему, представителю избранного аристократического рода, все дозволено: не только сноситься с "главнейшим государственным преступником" и изгнанником, но и еще переплетать при дворе свою переписку с ним, а также комплект запретного «Колокола». Правда, цвет переплета вовсе не самый революционный, но зато изображение колокола, даже медного, «церковного», было достаточно символично и вполне заменяло недостающую окраску…
И еще один документ, опубликованный много лет назад. 19 ноября 1858 года директор канцелярии военного министерства сообщил в III отделение, что писарь канцелярии Григорьев переписывал для Голицына статьи из «Колокола» и для «Колокола».
Действительно, письма Голицына к Герцену переписаны не его, а писарской рукою…
Сколько исторических линий сошлось сразу у сборника с голицынским гербом! Здесь и глава из "Былого и дум", и воспоминания дочери князя-музыканта, и секретный документ III отделения…
Трудно сказать, кто донес на князя — придворный переплетчик или писарь Григорьев, но поздней осенью 1858 года вот этот самый зеленый сборник, без сомнения, лежал на столе шефа жандармов и, возможно, был предъявлен царю (Голицын — слишком важная персона, чтобы с ним расправиться обыкновенным полицейским способом). Сто с лишним лет назад листали этот сборник высочайшие лица империи и без удовольствия читали, как князь Голицын приветствует жестокие, ядовитые герценовские разоблачения властей, крепостников, пресмыкающихся журналистов.
"В моих глазах, — писал Голицын Герцену, — ваши строгие, неподкупные, иногда смертельные приговоры могут быть сравнены только с властию средневековых тайных судилищ. Только ваши казни — страшнее. С физической смертью стыд для человека оканчивается, а подпавший под ваш приговор имеет завидное удовольствие переживать свою собственную смерть, оставаться моральным трупом".
Первое послание Голицына кончается так:
"Звони же, «Колокол», на всю святую Русь, — звони сильнее над главою самого царя, пробуждай спящих, — сзывай громким набатом своим всех русских на общее, великое дело, — сбратай нас с просвещенным миром!"
Затем — листок, написанный самим Герценом:
"Позвольте мне, почтенный князь, усердно поблагодарить вас за ваше письмо и за ваш добрый отзыв о «Колоколе». Мне принадлежит только мысль сделаться пономарем и труд звона — самые же звуки идут из России".
Следующие страницы "снова от Голицына" прекрасно подтверждали герценовское — "сами звуки из России". Князь посылает в Лондон (сохранив копию!) подробную корреспонденцию о крепостниках, «плантаторах» Тамбовской губернии, мечтающих помешать даже урезанному освобождению крестьян. Подробности эти были вскоре напечатаны в «Колоколе», — разумеется, без указания имени автора.
В общем, осенью 1858 года Голицын попался "с поличным": вот его письма, вот его взгляды, а вот сведения, сообщенные им для Вольной русской типографии. Если бы не титул и связи, разоблаченного ожидали тюрьма и Сибирь. Голицына же только удалили, без права выезда, в Козлов, то есть в собственное имение, находившееся поблизости.
Зеленый сборник, конечно, остался то ли у шефа жандармов, то ли у кого-то повыше.
Голицын, которому не понравилось, как с ним обходятся, вскоре бежит из Тамбовской губернии за границу, покупает нильского крокодила и рассказывает Герцену о своих злоключениях.
Несколько лет Голицын живет в эмиграции и считается на родине вне закона; его концерты русской музыки в Лондоне пользуются фантастическим успехом (он ведь еще в возрасте семнадцати лет успешно руководил хором из 132 человек!).
"Мы всей душой, — писал Герцен, — желаем успеха русским концертам князя Голицына. И тем более, что князь Голицын ими начинает новую жизнь — из камергеров он делается художником. До сих пор он жил, как все русское барство, чужим трудом, значением по службе и царской милостью; теперь он начинает, как всякий независимый артист, жить своим трудом, значением своего таланта; высочайшее благоволение заменяется рукоплесканиями свободной аудитории, а крестьянский оброк — платой за билеты. Мы приветствуем князя на этом человеческом поприще…"
Между прочим, Голицын сочинил "Вальс Герцена", "Кадриль Огарева", а в связи с освобождением крестьян — симфонию (или фантазию) «Освобождение».
О дальнейших приключениях князя знают все, кто читал главу "Апогей и перигей" из седьмой части "Былого и дум". Голицын ссорится с хором (пришедшим своими путями за хормейстером из Тамбова в Лондон!), и хористы, поднявшие "спартаковское восстание", приглашают Герцена "третейским судьей", а гневный князь ревет "гласом контрбомбардосным" и страдает "от внутрь взошедших, то есть не вышедших в действительный мир, зуботычин, пинков, треухов, которыми бы он отвечал инсургентам в Тамбовской губернии".
"Последние деньги князя пошли на усмирение спартаковского восстания, и он все-таки наконец попал, как и следовало ожидать, в тюрьму за долги. Другого посадили бы, и дело в шляпе, — с Голицыным и это не могло сойти просто с рук.
Полисмен привозил его ежедневно в Cremorn garden, часу в восьмом; там он дирижировал, для удовольствия лореток всего Лондона, концерт, и с последним взмахом скипетра из слоновой кости незаметный полицейский вырастал из-под земли и не покидал князя до кеба, который вез узника в черном фраке и белых перчатках в тюрьму. Прощаясь со мной в саду, у него были слезы на глазах. Бедный князь! Другой смеялся бы над этим, но он брал к сердцу свое в неволе заключенье. Родные как-то выкупили его. Потом правительство позволило ему возвратиться в Россию — и отправили его сначала на житье в Ярославль, где он мог дирижировать духовные концерты".
Позже, заглаживая вину, Голицын усердно дирижирует концертами в Москве, прославляя своих бывших врагов, и Герцен грустно замечает, что вальс в его честь, так же как "Кадриль Огарева" и симфония «Освобождение», — это "пьесы, которыми и теперь, может, чарует князь москвичей и которые, вероятно, ничего не потеряли при переезде из Альбиона, кроме собственных имен: они могли легко перейти на "Вальс Потапова", "Вальс Мины", а потом и в "Партитуру Комиссарова"{5}.
Голицын прожил недолго и скончался на сорок девятом году жизни. После него осталось немалое музыкальное наследство, но до сих пор не удалось обнаружить в нем сочинений, некогда посвященных Герцену, Огареву, Свободе… Что же касается зеленого сборника с колоколом на переплете, то он, очевидно, пролежал в каком-то правительственном сейфе около семидесяти лет, затем неведомыми путями попал в 1920-х годах к Ферапонту Витязеву, позже еще пропутешествовал по разным музеям и хранилищам, наконец (как выяснилось — это было в 1953 году) оказался в подмосковном городке Истра, в Московском областном краеведческом музее, где каждый может теперь его увидеть в экспозиции…
Нечаянная находка увлекла меня. Повторяя восклицание коллеги "А пойду-ка я в поля", стал серьезно заниматься Герценом и его вольными изданиями, "ушел в науку". Но надеюсь никогда не забыть черного кота, испуганного засветившимся саркофагом, и голубиного эха, и подсыхающего над электроплиткой питекантропа, и пионерского слета в Гефсиманском саду. И того ожидания тайны, которое, может быть, даже более необыкновенно, чем сама тайна, особенно разгаданная…
К счастью, герценовских да и всяких иных секретов оставалось еще неимоверное количество…
Глава 7 ИЩУ ЧЕЛОВЕКА
Оставьте мертвым хоронить мертвых… Их не воскресите. Звать надобно живых… Откликнитесь же — есть ли в поле жив человек?
А. И. ГерценЮрий Голицын считал, что «Колокол» страшнее тайных судилищ, ибо может казнить стыдом. Другие современники находили, что эта газета сильнее царя, потому что царь ее боится, а она царя — не боится.
В шиллеровской "Поэме о колоколе" было:
Свободны колокола звуки…В самом деле, абсолютно свободны, летят куда хотят… За первый год — 18 номеров «Колокола», за десять лет — 245. Редакция газеты получала письма, которые никогда бы не были написаны, если б их авторы не смели нарушать законы Российской империи и не сочувствовали поставленным вне этих законов Александру Герцену, а затем и Николаю Огареву. За полтора года в 25 первых номеров попали 133 нелегальные корреспонденции, в среднем 6–7 на номер. Впоследствии их стало еще больше.
Вспоминается оборванная строфа из зашифрованной десятой главы "Евгения Онегина":
И постепенно сетью тайной… Узлы к узлам…Если представить себе "сеть тайную", соединяющую редакцию «Колокола» со всей Россией, станет ясно, что газета и ее корреспонденты составляли мощное антиправительственное объединение. Власть была фактически парализована, потому что никогда не сталкивалась с таким явлением и не умела с ним бороться. Почти никого не удалось схватить и ничего перехватить, не было даже средств на перехват, и еще в 1862 году почтовый департамент не в состоянии был поставлять "регулярные сведения о лицах, ведущих заграничные корреспонденции, с обозначением времени получения писем и места, откуда посланы, а также о времени отправления писем за границу и куда именно".
Тема о тайных корреспондентах Герцена бесконечна, разнообразна, не изучена, интересна…
Список эпитетов можно и расширить: тема сложна, неожиданна, важна, трудна…
Обо всем, даже о многом, исследователю не рассказать. Автор вслед за другими специалистами лелеял надежду найти если не всех, то хотя бы большинство неизвестных сотрудников Герцена и Огарева. Однако история (далеко, конечно, не полная) корреспондентов только 25 (из 245) номеров газеты заняла больше 500 машинописных страниц. Предварительный труд обо всем «Колоколе» должен, исходя из этой пропорции, превышать 5 тысяч страниц. Можно лишь представить несколько коротких типичных историй о том, как высматривается тайная сеть и «узлы» "Колокола".
ПЕРВЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ
В августе 1857 года второй номер «Колокола» был отпечатан и двинулся в Россию почтовыми, контрабандными, торговыми, багажными и иными путями. На восьми страницах помещались три большие статьи:
1. "Революция в России". Автор — Искандер, то есть Герцен.
2. "Из Петербурга (письмо к Издателю)".
3. "Москва и Петербург". Старая статья, которую Герцен написал еще в России, текста в Англии долго не имел, но однажды получил копию, присланную таинственным доброжелателем.
Заголовки статей как бы перекликаются между собой: Россия… Петербург… Москва и Петербург…
Что две трети материала вышли из-под пера Герцена, не должно удивлять: из 2 тысяч статей, составивших все 245 номеров «Колокола», Герценом написано около 1200. Однако между двумя работами Искандера находится большая статья "Из Петербурга (письмо к Издателю) " — первая крупная корреспонденция, опубликованная на страницах газеты. Имя первого корреспондента «Колокола», понятно, под статьей не обозначено.
Оно могло быть в архиве газеты, но большая часть его до сих пор не обнаружена. Время от времени всплывает слух, что тайный архив Герцена и Огарева "где-то в Англии" или "где-то в Швейцарии". У потомков сохранилась лишь часть бумаг Герцена и Огарева, они попали в СССР после Великой Отечественной войны в составе так называемых Пражской и Софийской коллекций (впрочем, даже это собрание заняло при публикации более 3 тысяч печатных страниц). Сведения о корреспондентах могли быть также в архиве Трюбнера: книготорговец Николай Трюбнер издавал и распространял печатную продукцию Вольной типографии, позже фирма перешла к его детям, затем к внукам и существует в Англии и поныне. К несчастью, по свидетельству одного из Трюбнеров, в помещение, где хранился старый архив, во время последней войны попала бомба, и все бумаги, относящиеся к XIX веку, погибли.
В уцелевших частях секретного архива «Колокола» почти ничего не имеется об авторе второй статьи второго номера газеты. Понятно, этот корреспондент пожелал остаться неизвестным, и его пожелание сбывалось в течение более чем столетия. Был единственный способ разыскать его — внимательно вчитаться в статью и узнать писавшего "по почерку": у каждого писателя, журналиста, даже непрофессионала, имеются индивидуальные черты, свой стиль, который позволяет многое узнать об авторе. Способ этот — разгадывать автора по стилю — не считается, однако, слишком надежным. Текстология может многое, но все же еще не выработала математически точной формулы стиля, так, чтобы можно было, например, вложить текст в машину, а машина тут же выбросила бы ответ: «Добролюбов», «Гомер», "Демьян Бедный"… Хорошо, если стиль так индивидуален, что его ни с каким другим не спутаешь (Герцен, например, уже из-за границы пытался печататься инкогнито в русском легальном журнале, — к редактору со всех сторон посыпались вопросы, как это он отважился опубликовать беззаконного Искандера).
Но вот перед нами «Колокол» № 2. Стиль анонимного "Письма к Издателю" самый обыкновенный. Возможно, писал человек, фамилия которого никаких эмоций у нас бы не вызвала.
В 1857 году, дней через десять после выхода газеты в Лондоне, эксперты III отделения уже изучали ее в своей штаб-квартире близ Цепного моста в Петербурге, но, поскольку автор остался неизвестным, можно сказать, что жандармское чтение особых плодов не дало.
Шутки об историке XX века, состязающемся в текстологии с жандармами XIX столетия, не замедлили появиться на устах моих колдег, и я хорошо сознавал, до какой высоты поднимутся их сатирические упражнения, если розыск завершится находкой… Итак, дано: письмо в «Колокол». Требуется найти: автора.
Начинается присланное из Петербурга "Письмо к Издателю" такими словами: "В какое странное положение стала Россия с окончанием последней войны! Севастопольский пожар разогнал немного тот мрак, в котором мы бродили ощупью в последние годы незабвенного царствования{6}. Многие приняли военное зарево за возникшую зарю новой жизни и в словах манифеста о мире думали слышать голос скорого пробуждения. Но вот прошло уже два года нового царствования. Что же у нас изменилось?"
Из этих строй ясно, что письмо и его публикация не разделены слишком большим промежутком времени ("два года нового царствования", то есть царствования Александра II, минуло в марте 1857 года, а второй номер «Колокола» вышел в августе). Значит, автор письма пользовался каким-то удобным и надежным каналом "Петербург — Лондон".
Перечисление того, что сделало и чего не сделало «потеплевшее» правительство Александра II, пришедшее на смену непробиваемому деспотизму Николая I, открывает политические взгляды автора: он одобряет "отмену дикого налога на заграничные паспорта и возвращение из ссылки тех декабристов, кому судьба отпустила почти библейское долголетие", но не видит в этих мерах ничего, "чтобы восхищаться, кричать о наших быстрых успехах, о неизреченной деятельности и кротости молодого правительства… Неужели же эти нелепые гонения и преследования могли продолжаться, когда даже коронованный юнкер в Вене дает амнистию?"
Как видно, автора письма не удовлетворяют отдельные послабления, он пародирует тех, кто "восхищается неизреченной деятельностью и кротостью…" Запомним реплику о "коронованном юнкере", то есть австрийском императоре Франце-Иосифе: среди недовольных петербургской властью многие полагали, что венская еще хуже. Что же корреспондент «Колокола» считает для России главным? Крестьянский вопрос. Освобождения крепостных он требует зло и решительно, обвиняет в "тупой оппозиции двух-трех глупцов в Государственном совете и тех помещиков-Коробочек, которые до второго пришествия Пугачева не поймут, в чем дело". Так впервые в письме появляется Пугачев, и это тоже заметим. Чем дальше, тем резче становится статья.
Автор сообщает, что стихи поэта Некрасова вызвали гнев "аристократической сволочи". Можно отсюда заподозрить, что он сам никак не аристократ. Но кто же? Бывают эпохи — и в конце 50-х годов была именно такая эпоха, — когда люди довольно разные говорят довольно сходно, временно соединяются в общем стремлении. Так писать Герцену, как это делал первый корреспондент его газеты, мог в 1857 году и крайний революционер и либеральный профессор… Автопортрет того, кто писал, пока еще слишком расплывчат.
Однако уже следующие строки обнаруживают важные подробности:
"Оставят ли, наконец, преследования раскольников?.. Или правительство думает, что Пугачевский бунт был таков, каким представляет его Пушкин в своей сказочной истории? Неужели оно не знает, что это кровавое восстание вызвано вовсе не волнениями яицких казаков, а отчаянным порывом крепостных крестьян к воле, да раскольников, у которых Петр III был последним воплощением спасителя? Кто знает хорошо, что до сих пор делается в помещичьих имениях, и читал раскольничьи дела в архиве министерства внутренних дел, тому известно, что эти элементы существуют еще и постепенно усиливаются. Вот где истинная опасность правительства, а оно как будто не хочет знать ее".
Читая приведенные строки, я имел право серьезно заподозрить автора, что он знаком с раскольничьими делами по долгу службы. Получать строго засекреченные материалы о гонениях на старообрядцев могло только лицо, "облеченное доверием": материалы о раскольниках, как и сведения о том, "что делается в помещичьих имениях", концентрировались в министерстве внутренних дел. Автор снова напоминает о своей государственной службе, когда в конце письма цитирует секретный протокол, подписанный пятью видными сановниками (в протоколе была печальная фраза: "хотя справедливость требовала бы, однако…").
И снова отметим — вспомянут Пугачев, причем брошен даже упрек Пушкину: автор хорошо знает историю и подлинные причины этого восстания — может быть, знакомился с пугачевскими делами по секретным архивным делам или знает о них по семейным преданиям? Во всяком случае, размышления о втором пришествии Пугачева не оставляют его, и из этих размышлений выводится своеобразный парадокс: "настоящие революционеры" — это самодержавное правительство, митрополит Филарет, цензура и т. п. Никто так не способствует восстанию, второму изданию пугачевщины, как эти люди и учреждения!..
Запомним «приметы» первого корреспондента: чиновник министерства внутренних дел размышляет о пугачевщине, коронованном юнкере, правительственных революционерах… Все это пригодится в дальнейшем.
Понятно, все эти приметы не укрылись от Фердинанда Фердинандовича Кранца, Александра Карловича Гедерштерна и других ответственных «тузов» III отделения. Кстати, об этом учреждении в "Письме к Издателю" тоже не забыто: "Неужели же государь, окруженный "стаей славных николаевских орлов", совсем не видит, что делается, совсем не слышит народного голоса? Впрочем, как же ему и знать правду! Не ходить же ему, как Гарун-аль-Рашиду, переодетым по улицам Петербурга. Да при том такое инкогнито хорошо было в Багдаде, но едва ли повело бы к чему-нибудь у нас в Петербурге. Кто же у нас говорит о чем-нибудь на улицах, зная, что в корпусе жандармов есть много господ, которых не отличишь по платью".
Трудно было служить в III отделении в 1857 году: время неопределенное, ясных и простых инструкций, как при Николае, пока что не поступает, упреков и насмешек много, а штаты малы. В дневнике одного из современников находится следующая запись: "Вчера в Знаменской гостинице собралось все III отделение, вероятно, чествовали кого-то из начальства. Выпили на 30 человек 35 бутылок шампанского, кричали ура".
Тридцать человек, даже умеющих пить шампанское и восклицать, — конечно, не те силы, которыми можно обезвредить Искандера и его корреспондентов.
Редакторы «Колокола» сопроводили письмо из Петербурга следующими строками: "Дружески благодарим мы неизвестного корреспондента, приславшего нам это письмо. Мы просим его во имя общего дела и общей любви к России связующих нас, продолжать корреспонденцию. Путь, им избранный, совершенно безопасен".
"Путь… безопасен". В этих словах новое оскорбление тайной полиции.
Пафос, несколько несвойственный редакционным откликам «Колокола» ("во имя общего дела и во имя общей любви к России…"), можно объяснить ясным пониманием издателей, какой опасности подвергал себя доброжелатель "с петербургских высот". Возможно, Герцен и Огарев знали его имя, но конспирировали ("неизвестный корреспондент").
Фраза "Путь, им избранный, совершенно безопасен" — обычная для «Колокола» форма извещения корреспондента о надежности нелегального канала связи.
После окончания Крымской войны десятки тысяч русских устремились за границу — путешествовать, учиться, тратить деньги или их добывать. Несколько старинных приятелей Герцена и Огарева с осени 1856 года обосновались в Париже и других европейских городах и, не опасаясь больше чрезмерного любопытства российского почтового ведомства, дали о себе знать лондонским друзьям.
В конце 1856 года надолго обосновался в Париже и Николай Александрович Мельгунов. Имя это, давно забытое всеми, кроме немногих специалистов, в свое время было довольно популярно.
Мельгунов недурно писал повести, романы, статьи и музыку, был близок с Чаадаевым, Погодиным, Тургеневым, Герценом. Но по двум причинам не получилось из него ничего значительного. Первой и главной причиной было то, что этому человеку, в сущности, нечего было сказать, сказать своего. Не имея глубоких, оригинальных убеждений, он довольно рано растворился среди массы способных, прогрессивных, но обыкновенных, "как все", литераторов. Вторая причина упадка Мельгунова — недостаток денег и другие неблагоприятные обстоятельства, особенно убийственные для такого типа людей. Попав за границу, Мельгунов решительно сел на мель и начал бомбардировать Герцена, Тургенева и других приятелей мольбами о займе. Среди денежных просьб и заверений Мельгунов сообщал Герцену разные политические новости, которые слышал в Париже. Кроме того, как человек с фантастически обширным кругом знакомств, он получал много русских писем, а в письмах — сплетни вперемежку с серьезной информацией.
Получив от Герцена деньги (которые, заметим, никогда не были возвращены), Мельгунов считал себя вдвойне обязанным поставлять новости для «Колокола» и других вольных изданий. Поставлял регулярно, а кроме того, делал для Герцена переводы и выполнял некоторые поручения.
Сорок писем Мельгунова к Герцену уцелели, попали в Пражскую коллекцию, после войны были перевезены в СССР и в 1955 году, почти через сто лет после того, как были написаны, появились в печати — в 62-м «герцено-огаревском» томе "Литературного наследства". Из этих писем стало ясно, что Мельгунов, сам того не слишком желая, сделался значительной фигурой в истории русской вольной печати. В 1856–1858 годах он, кажется, держит безусловное первенство по количеству корреспонденций в «Колоколе» и других герценовских изданиях.
В письмах Мельгунова находятся, между прочим, и некоторые подробности, существенные для нашего рассказа.
15 мая 1857 года, то есть за три месяца до выхода второго номера «Колокола», Мельгунов спрашивал Герцена:
"Скажите, что это не пишете вы ничего о статейках: "С чего начать?" и "Письмо к Издателю"? Или Франк еще не доставил? Уж бог знает как давно отправлено… Там вложен листок, где автор просит исправить похвалы Саше. Он находит сам, что хвалить еще рано и не за что. Еще несколько помилований в Польше, а также кое-кого из друзей Петрашевского. По кусочкам милует; доберется ли до остальных? Австрийский должен пристыдить его".
Через неделю Мельгунов — снова о том же:
"Наконец Тургенев, кажется, едет к вам сегодня вечером. Пользуюсь случаем, чтобы попросить меня уведомить, получены ли две статьи, через Франка… До сих пор ты мне ни слова, а давно бы пора прийти".
Судьба статьи "С чего начать?" до сих пор неясна: такого материала нет в герценовских изданиях. Другое дело — "Письмо к Издателю". Мельгунов сообщает приметы этого документа: сначала чересчур много похвал "Саше", то есть Александру II, затем автор переменил мнение, но, не желая переписывать приготовленный текст, вложил дополнительный листок, где упрекает царя в чахлой амнистии "по кусочкам" и стыдит его «австрийским», то есть "коронованным юнкером".
Без сомнения, Мельгунов говорит о том самом "Письме к Издателю", что появилось в «Колоколе». Техника его доставки, значит, была такова: сначала — в Париж, к Мельгунову. Разумеется, письмо мог вручить и сам автор и какой-нибудь общий приятель. Затем Мельгунов отправляется на улицу Ришелье к Альберту Франку, крупному парижскому издателю и книготорговцу. Как Трюбнер в Лондоне, Франк занимается распространением вольных изданий Герцена. Кажется, Франк с симпатией относится к взглядам своих клиентов (с переходом его фирмы в другие руки ее контакты с эмигрантами прекратились), но нельзя забывать, что продажа «Колокола» и других заграничных русских изданий была в то время делом очень прибыльным: заключив контракт с Герценом, мощная фирма Франка, имевшая свои отделения в разных странах, охотно выполняла поручения редакторов «Колокола» и их корреспондентов. Коммерческая тайна, неприкосновенность собственности служила отличной гарантией. Деловые связи дружественных книготорговцев были немалым подспорьем в движении по "сети тайной"…
Итак, еще весной 1857 года письмо из Петербурга с «листком» попало в Лондон. Вероятно, корреспондент спрашивал Герцена, можно ли и впредь посылать информацию таким же путем, а Герцен, печатая письмо в своей газете, подчеркнул, что избранный путь "совершенно безопасен".
Естественно предположить, что смелый аноним, засевший в сердцевине вражеского лагеря — российском министерстве внутренних дел, — должен еще не раз выступить в «Колоколе», и мы с ним, конечно, встретимся; но не сразу.
ПРЕДАТЕЛЬ
Я у всех прошу пощады. Но доносчиков не надо. Не у них прошу пощады… Фр. ВийонВ начале октября 1857 года секретнейшие бумаги III отделения пополнились небольшим письмецом на французском языке. Отправитель — Герцен, "Из Путнея, 1 октября 1857 года". Получатель: господин Генрик Михаловский, эсквайр; через г. Трюбнера, 60, Патерностер роу, Лондонское Сити.
"Милостивый государь, верните нам первый листок наборной рукописи, я послал его к вам лишь с тем, чтобы показать ошибки. Ради бога, поторопитесь с наборной рукописью — и отправляйте по мере того, как будете писать.
"Аугсбургская газета" поместила длинную статью о сочинении Корфа — наша брошюра с текстом Доклада произведет в России фурор, это неплохо; скажите об этом и Трюбнеру, нужно объявить теперь в немецких газетах, что мы готовим дозу Антикорфики… Я отправляю г. Трюбнеру несколько книг. Прошу вас, составьте счета… Я прибавлю 12 экземпляров "Полярной звезды" для вас.
Французский текст Корфа мне совсем не нужен — но он будет весьма полезен, если г. Трюбнер предпримет английское или французское издание".
Смысл письма раскрывается без труда. Генрик Михаловский служит в книготорговой фирме Трюбнера, распространяющей вольные издания. Как видно, он не просто служащий, составляющий счета и переписывающий наборные рукописи, но и единомышленник Герцена и Огарева: специально для Михаловского Герцен посылает двенадцать экземпляров недавно вышедшей третьей книги "Полярной звезды"; с ним делятся важными планами и соображениями относительно «антикорфики».
Для ближайшего, четвертого номера «Колокола» Герцен заканчивал резкую, убийственную статью о книге Модеста Корфа "Восшествие на престол императора Николая I" и о ее авторе. Герцен и Огарев готовили также отдельное издание о "Русском заговоре 1825 года", которое действительно произвело в России «фурор».
Итак, Михаловский — в курсе дел Вольной типографии. Да иначе и не могло быть. Наборщиков и сотрудников для вольного книгопечатания нелегко найти. Среди помощников были польские революционные эмигранты Людвиг Чернецкий и Станислав Тхоржевский. Позже в типографии работали бежавшие из России Николай Трубецкой, Агапий Гончаренко, Михаил Бейдеман (герой книги Ольги Форш "Одеты камнем", погибший в Алексеевском равелине)…
Генрика Михаловского рекомендовали Трюбнеру и Герцену надежные польские друзья. Михаловский жил уже больше четверти века в эмиграции, участвовал в нескольких заговорах против российских, прусских и австрийских властей в Польше, владел четырьмя языками, знал толк в делах (впрочем, как выяснилось впоследствии, он внушал рекомендателям инстинктивное недоверие чрезмерным усердием, слащавой вежливостью и пьянством).
Получив письмо Герцена от 1 октября 1857 года, Генрик Михаловский тотчас же вложил его в другой конверт и отправил по адресу, куда уже писал немного раньше, и писал вот что:
"Варшава, Наместнику Царства Польского князю Михаилу Дмитриевичу Горчакову.
Из Лондона. 14 августа 1857 года; 12, Патерностер роу.
…Да не удивится Ваше Сиятельство, если я принимаю смелость обращаться прямо к вам — опыт показал, что всегда лучше иметь дело, как говорится попросту, с самим богом, нежели с его святыми, и притом дело, с которым я имею честь обратиться к В[ашему] С[иятельству], довольно важно, так что об этом нельзя иначе говорить, как с большою осмотрительностью и осторожностью; я считаю не лишним сказать несколько слов об авторе настоящего письма, дабы В. С. могли судить, достойны ли вероятия сообщаемые здесь сведения или нет.
Я поляк, родиной из Галиции, и в настоящее время занимаю должность корреспондента у Трюбнера и K° в Лондоне, издателя сочинений Александра Герцена. Я не только пользуюсь совершенным его доверием во всех отношениях, но он всякий раз обращается ко мне, когда нужно напечатать или приобрести манускрипт или продать и отправить либеральные или демократические произведения и пр. и пр. Вследствие этого я не оставил сношений своих с моими соотечественниками-выходцами, я наблюдаю за их поступками и слежу за всеми их действиями. В. С., вероятно, известно о книгах, захваченных в прошедшем году в Гамбурге прусскими агентами, а также об арестовании молодого человека по имени Ольшевского, который вез их. Я должен напомнить об этом В. С., потому что я, за неимением здесь наших агентов, дал знать об этом г. Альбертсу, секретарю прусского посольства. От него же я узнал о захваченных сочинениях и арестовании О., и должен сознаться, что я ничем не был награжден за это. Мы с г. Альбертсом были в этом случае в одинаковом положении, ибо между тем, как два чиновника прусской полиции за их усердие к услугам вашего правительства получили ордена, г. Альбертс был совершенно забыт; что же до меня касается, то я много раз напоминал о том г. Гинкельдею в Берлине, покуда получил жалкую сумму в 40 талеров. Потому теперь я решил не работать, как говорят, для прусского короля, и В. С. сейчас изволите видеть, что я прав.
Здесь я делаю маленькое отступление и перейду к делу о сочинениях и русской пропаганде, которая принимает весьма большие размеры, я даже не понимаю, как ваши агенты в Гамбурге, Берлине, Дрездене, Лейпциге и др. не прибегнут к мерам, которые бы остановили это. Впрочем, как бы то ни было, мне не следует давать советов вашему правительству, когда меня об этом не спрашивают…
Имею честь представить В. С. маленькое объявление о втором издании всех сочинений Герцена. Оно будет стереотипным для помещения в журналах французских, немецких и др., и я осмеливаюсь спросить у В. С., как поступают ваши агента? Там хватают, арестуют лицо, которое имело при себе запрещенные книги, а здесь пропускают по сто, а иногда еще по сотням экземпляров. Раскрывая сегодня книгу заказов, я нахожу заказанных всего до 780 томов. Я всякую неделю получаю манускрипты, которые приходят из России через Берлин, Дрезден. Угодно В. С., чтобы некоторые из них были доставлены к вам? Угодно В. С., чтобы вам указали средство устранить издателя и книгопродавцев? В. С. остается только приказать. Мой адрес приложен к письму…"
В том же послании Михаловский сообщал о каком-то подделывателе российских банковых билетов в Лондоне и просил прислать ему за труды 100 фунтов стерлингов…
Рассказывали, что Дубельт, начальник тайной полиции при Николае I, обыкновенно назначал своим шпионам вознаграждение, кратное 30 (30 рублей, 300 рублей, 30 копеек…), имея в виду 30 сребреников, в поте лица заработанных их предшественником Иудой Искариотом. (выделено нами — V.V.). Михаловский, как видно, предпочитал десятеричную систему и развязно признавался князю, что за 40 талеров не желает "работать, как говорят, для прусского короля".
Несчастного Юзефа Ольшевского, схваченного вместе с запрещенными польскими изданиями и герценовской "Полярной звездой", прусские жандармы выдали русским коллегам, и в 1857 году он был уже на пути в Якутию. Дальнейшая его судьба неизвестна. Теперь Михаловский предлагал новую партию жертв. Конечно, предлагая "устранить издателя и книготорговцев", провокатор зарывался, но все же над корреспондентами Герцена действительно нависла серьезная угроза: адрес фирмы Трюбнера указывался в каждом номере «Колокола», и по этому адресу в самом деле регулярно прибывали манускрипты из России "через Берлин, Дрезден". Это был не единственный конспиративный маршрут из России в Лондон (о некоторых других будет сказано дальше), но один из самых важных.
Отправленное 14 августа письмо Михаловского прибыло в Варшаву через несколько суток. 22 августа наместник Польши уже выслал его секретной почтой в Петербург шефу жандармов князю Долгорукову.
В III отделении призадумались: боялись, не авантюрист ли этот Михаловский, из тех, кто поживится и обманет. К тому же боялись огласки. Огласки в иностранной печати и особенно в изданиях Герцена (среди нижних и средних жандармских чинов в те годы упорно держался слух, будто у Герцена хранятся фотографии всех агентов III отделения и, "как кто из них в Лондоне появится, Герцен сразу узнает"). Приличной заграничной агентуры у шефа жандармов не было; важным агентом был лишь состоявший при русском посольстве в Париже Яков Толстой (когда-то декабрист, приятель Пушкина, позже замаливавший грехи в "государевой службе"); иногда пускались в деловой вояж по западным столицам тайные и статские советники с Цепного моста, но при всех обстоятельствах приходилось остерегаться контратаки Герцена. Стоило ему узнать об очередной экспедиции, снаряженной III отделением, и начиналось:
— Старший чиновник III отделения, действительный статский советник Гедерштерн путешествует по Европе со специально учеными целями…
— Служащий в тайной полиции, известный читателям «Колокола» как ученый путешественник, Гедерштерн пожалован в тайные советники с оставлением при тайной полиции…
В «Колоколе» появляется специальная статья с персональным разбором высших чинов III отделения: "Почтовые, почтенные и иные шпионы…"
— С искренней благодарностью извещаем корреспондента нашего о том, что письмо его, в котором он нас предупреждает о приезде в Лондон двух шпионов, пришло. И как нельзя больше кстати. Оба гуся здесь и пользуются, сверх жалованья, прекрасным здоровьем…
— Кто был старичок… не очень давно приезжавший… очень скромный, так что и имени своего не сказал, очень любопытный, особенно насчет польских дел и русских путешественников? Одни говорят, что это собственный корреспондент собственной его величества канцелярии, другие… говорят не то… А мы знаем, кто старичок!..
— Его сиятельство нашу скромную типографию окружил своими сотрудниками и велел им не спускать с нас уха…
Боясь огласки, III отделение любило доносы тихие, деловые, недорогие и недолюбливало доносчиков развязных и циничных, потому что при знакомстве с последними на лице шефа жандармов появлялось выражение чуть более брезгливое, чем после доклада обычного шпиона, а государю представлять письма а lа Михаловский вообще считалось неприличным.
Вот над чем задумывались в III отделении.
Наконец в конце августа Долгоруков ознакомил с письмом министра финансов Брока, поскольку речь шла и о подделке банковых билетов. Брок снесся с министром внутренних дел князем — бывшим лицеистом Александром Горчаковым, от Горчакова пошло поручение русскому посольству в Лондоне — разузнать о Михаловском и, если найдется "подделыватель билетов", выдать "до 100 фунтов стерлингов".
Чиновник русского посольства в Лондоне разыскал Михаловского, побеседовал с ним и известил Петербург, что Михаловский "характера подозрительного" и что им сообщены "точные сведения об Ольшевском" (это в Петербурге уже знали). Вопрос о фальшивых кредитках (и соответственно вопрос о 100 фунтах стерлингов) оставался "в неопределенном положении".
Михаловский, однако, увидел в посещении царского чиновника хороший признак. Ему казалось, что через русское посольство и министерство иностранных дел он легко сможет посылать в III отделение выкраденные рукописи, имена корреспондентов и адреса, по которым рассылалась вольная пресса.
Есть основания думать (чуть позже эти основания будут приведены), что русский посол в Англии граф Хребтович поощрил Михаловского, и примерно в те дни, когда ничего не подозревавший Герцен отправил шпиону деловое и дружеское письмо, тот передал Хребтовичу список тайных корреспондентов вольной печати. Может быть, выпрашивая у Герцена двенадцать книг "Полярной звезды", Михаловский хотел щегольнуть пред своими хозяевами обширными возможностями, письмо же самого Герцена было для предателя лучшей рекомендацией.
Десять томов занимают в академическом издании Герцена его письма. Письма, отправленные им, уходили в другие города и страны. По тому, где они хранились до напечатания, можно проследить их судьбу, а в специальных приложениях к каждому тому перечисляются письма, о которых известно, что они были, но — исчезли… были, но — исчезли…
Письма родным, письма Огареву оставались в семье Герцена, затем попали в Рукописный отдел Румянцевского музея (будущей Ленинской библиотеки), частично сохранялись за границей или же пропали и известны лишь в старых копиях. Письма Герцена к друзьям, его ответы тайным корреспондентам, конечно, хранились под замком, в семейных архивах, с тем чтобы много лет спустя перейти в главные хранилища рукописей Москвы, Ленинграда, Парижа. Некоторые послания переходили из рук в руки, совершали причудливые перемещения в пространстве и времени и вдруг оседали в провинциальных архивах, музеях (письмо Голицыну!). Однако несколько писем и записок Герцена хранится сегодня в ЦГАОР (Центральном Государственном архиве Октябрьской революции СССР) в Москве, в фондах III отделения и других карательных учреждений. Почти все эти письма власть добыла в 1862–1863 годах, когда ей удалось захватить некоторую часть нелегальных сотрудников вольной печати и организовать судебный процесс. Лишь одно письмо, научно именуемое "ЦГАОР, фонд 109 (III отделение), I экспедиция, дело № 225", — подарок шпиона Михаловского, сделанный в октябре 1857 года.
Так осенью 1857 года сгущались тучи над вольными изданиями… Однако в те дни, когда Герцен еще ничего не знал о вражеском ударе, Михаловский также не подозревал о готовящемся контрударе. Слабость предателя была в том, что уже немало людей было осведомлено о его предложениях: наместник Царства Польского Михаил Горчаков и какие-то его чиновники, шеф жандармов Долгоруков и его люди, министр иностранных дел Александр Горчаков и его канцелярия, русский посол Хребтович и его советники…
Около 10 октября Герцен и Огарев, как видно из отправленных ими в эти дни писем, еще спокойны. Они заняты: четвертый номер «Колокола» немного запаздывает, и нужно торопиться…
Четвертый номер открывается мощной «антикорфикой», затем следует еще десять статей и заметок. В этих материалах много ценных сведений о секретах петербургских «верхов», о самодурстве министра юстиции, о воровстве "по военному ведомству". В одной из статей Герцен обращается к друзьям:
"Душевно, искренне, дружески благодарим мы неизвестных особ, приславших нам в последние два месяца большое количество писем и статей. Сведения из России, особенно из наших судебных пещер, из тайных обществ, называющихся министерствами, главными управлениями и пр., нам необходимы. Мы надеемся на продолжение присылок и просим об них, все возможное будет напечатано…"
И вдруг в самом низу последней страницы, где часто допечатывались материалы, прибывшие "в последний час", — следующее объявление:
"Удостоверясь, что некто Михаловский, занимавшийся делами по книжной торговле г. Трюбнера, предлагал русскому правительству доставлять рукописи и письма, присылаемые для нашей лондонской типографии, и считая должность корреспондента русского правительства несовместимой с делами нашей типографии, — мы взяли все меры, чтобы отстранить Михаловского от всякого участия в делах г. Трюбнера, о чем со своей стороны г. Трюбнер просит нас довести до сведения читателей".
Что же произошло?
Первые сведения об этом — в письме Герцена к Мейзенбуг. Мальвида Мейзенбуг, немецкая писательница, жившая в лондонской эмиграции, была близким другом Герцена, воспитательницей его детей. Из путнейского дома Герцена на лондонскую квартиру Мейзенбуг и обратно шли записки, письма, книги. Иногда на адрес Мейзенбуг приходили корреспонденции для «Колокола». Писательница сохранила 251 письмо Герцена. Большая их часть попала потом в Парижскую национальную библиотеку, некоторые очень интересные послания Герцена опубликованы сравнительно недавно.
В письме Герцена от 4–5 октября 1857 года о Михаловском — ни слова.
14 октября. "У нас была длинная история: обнаружили одного шпиона, который хотел получить от русского правительства 100 фунтов за мои письма, и т. п. Едва письмо [Михаила]Горчакова успело дойти до Петербурга, как я получил оттуда три предостережения. — Что скажете вы об этом? Этот каналья был приказчиком у Трюбнера".
Несколько лет спустя Герцен рассказал в "Былом и думах", как вместе с Огаревым, итальянским эмигрантом Пиангани и двумя польскими друзьями — Чернецким и Свентославским — он отправился к Михаловскому за объяснениями:
"Негодяй путался, был гадок и противен и не умел ничего серьезного привести в свое оправдание.
— Это все зависть. — говорил он, — у кого из наших заведется хорошее пальто, сейчас другие кричат: "Шпион!"
— Отчего же, — спросил его Зено Свентославский, — у тебя никогда не было хорошего пальто, а тебя всегда считали шпионом?"
Герцен счел нужным тут же предупредить всех польских эмигрантов и 16 октября 1857 года направил письмо в редакцию их газеты "Польский демократ":
"Граждане! Спешу уведомить вас о содержании двух писем, которые я получил в связи с тайными шагами, предпринятыми Михаловским у русского правительства. Вы, вероятно, хорошо поймете причину, в силу которой я не могу назвать ни фамилии, ни числа, ни места, кем, когда и откуда эти письма были присланы. Ручаюсь вам честным словом, что отлично знаю лицо, которое писало второе письмо, и что это лицо находится в России.
Вот содержание второго письма, которое у г. Трюбнера при свидетелях было прочтено Михаловскому:
"Некий Михаловский написал из Лондона письмо [Михаилу] Горчакову, предлагая свои услуги русскому правительству и обещая уведомлять его о всех деталях отношений между г. Трюбнером и Герценом с одной стороны и Россией — с другой. Он говорит, что является одним из главных агентов книгоиздательства Трюбнера и пользуется большим доверием как Трюбнера, так и Герцена, что через его руки проходят рукописи и письма, адресованные в русскую типографию; в доказательство этого он предлагает сейчас же переслать несколько рукописей и писем, полученных из России и перехваченных им".
Второе письмо еще ярче, и именно это-то письмо прислано мне лицом, которое я очень уважаю и в правдивости слов которого нисколько не сомневаюсь:
"Спешу уведомить тебя, что некий Михаловский предложил министру финансов в России открыть фабрику поддельных русских ассигнаций, если ему правительство даст 100 ф. ст. Одновременно он говорит, что, состоя в должности доверенного лица у Трюбнера, издателя и распространителя пагубных книг на русском языке, имел бы возможность сообщить правительству относительно лиц, которые присылают из России свои корреспонденции, в доказательство чего готов прислать несколько писем и рукописей. При этом прибавил, что его усердие уже хорошо известно русскому правительству, так как год тому назад именно он донес кому следовало в Гамбурге о пересылке пакета с русскими книгами (это дело несчастного Ольшевского), и закончил письмо жалобой на то, что до сих пор ему не уплачено 50 талеров, которые он требовал за донос.
Ввиду того, что у меня действительно не хватает нескольких рукописей одной присылки, об отправлении которых я был осведомлен, я уверен, что он их себе и присвоил. Если он их уже выслал, то, более чем вероятно, я об этом узнаю…
Одно лицо в Лондоне (имени которого не могу еще назвать)… говорит, что наверно знает, что Михаловский опять (13 октября) донес министру Горчакову о всем происшедшем".
Как видим, в письме к Мейзенбуг Герцен говорит о трех предупреждениях из Петербурга, в польской же газете цитирует лишь два письма, но упоминает еще "одно лицо" в Лондоне, имени которого "не может еще назвать".
Интересно было бы разгадать, кем был нанесен контрудар, кто спас Вольную типографию от шпиона в Лондоне и от шпионов с невских берегов?
Данных мало — значит, из них надо извлечь многое.
Сначала — первое письмо. Легко заметить, что автор его излагает факты точно, близко к тексту того послания, в котором Михаловский предлагал свои услуги. Мальвиде Мейзенбуг Герцен писал о предупреждениях из Петербурга. Почти через десять лет автор "Былого и дум" возвращается к этому эпизоду: "Осенью 57-го года я получил через Брюссель письмо из Петербурга. Незнакомая особа извещала меня со всеми подробностями о том, что один из сидельцев у Трюбнера, Михаловский, предложил свои услуги III отделению…" Итак, письмо из Петербурга — через Брюссель… Ясно, что какой-нибудь неведомый нам петербуржец, может быть осведомленный чиновник, получив возможность ознакомиться с письмом или копией письма Михаловского, послал свое предостережение на адрес какогото друга или доверенного лица в Брюсселе, с тем чтобы оттуда предупредили Герцена.
К сожалению, в бумагах Герцена, относящихся к этому времени, не имеется никаких следов переписки с Брюсселем. Но, может быть, регулярной переписки и не было. Вполне допустимо, что Герцен действительно не знал имени как петербургского, так и брюссельского друга. В том-то и была сила вольной печати, что ее руководители иногда не знали всех своих единомышленников, что существовал фактический союз между многими людьми, которые друг друга никогда не видели…
"Одно лицо" из Лондона точно информировало Герцена, что Михаловский "13 октября донес министру Горчакову о всем происшедшем". Более чем семьдесят лет спустя, в начале 20-х годов нашего века, издатель первого Полного собрания сочинений Герцена Михаил Константинович Лемке нашел в архиве III отделения паническое письмо Михаловского — действительно от 13 октября 1857 года и действительно министру иностранных дел. Шпион упрекал князя Александра Горчакова:
"…Опытные агенты демократов умеют проникать в секреты министерства, очевидно, достаточно для того осведомленные и не боясь риска. Герцен получил три дня тому назад письмо из Спб., в котором ему сообщают, что некий г. Михаловский писал кн. Горчакову, предлагая ему свои услуги по распространению русских изданий, печатающихся в Лондоне, доставке манускриптов и т. д. Герцен в присутствии нескольких своих друзей прочитал письмо и прибавил: "Вы видите, что у нас там, в самой канцелярии министра, имеются друзья, преданные нашему делу. Что скажете?" Я, конечно, все отрицал, и мне удалось даже убедить г. Трюбнера, что это не я, но что, может быть, кто-либо воспользовался моим именем…"
Для истории первого письма важно, что Михаловский, со слов Герцена, считал, будто автор — из канцелярии министра иностранных дел. Может быть, так оно и было, но не исключено, что в Лондоне перепутали двух Горчаковых — наместника Польши и министра иностранных дел.
Через два дня после первого письма Герцен получил второе. Тут уж он не скрывает, что знает и уважает писавшего. В самом деле, из текста видно, что корреспондент с Герценом на «ты».
Автор второго письма верно передавал суть дела, хотя в подробностях ошибался больше, чем автор первого письма (неверно, к примеру, будто бы Михаловский сам хотел открыть фабрику фальшивых ассигнаций). Очевидно, друг Герцена записывал свои сведения с чьих-то слов. В "Былом и думах" о втором письме сказано кратко: "Я получил второе письмо того же содержания через дом Ротшильда".
Из одной этой фразы можно, кажется, извлечь несколько выводов. "Дом Ротшильда". Это был особый адрес, известный только самым близким друзьям. В банке Ротшильда хранились деньги Герцена (миллион франков), и, как полагалось, солидный клиент мог пользоваться адресом фирмы для своей корреспонденции. Порой среди векселей и счетов клерки находили письма на имя m-lle Olga (Ольга, дочь Герцена) или "m-r Domange (Доманже, французский эмигрант, учитель детей Герцена). Эти письма быстро находили адресат: финансовая империя Ротшильда была столь внушительна, что одно только имя короля банкиров ограждало конверт от тех «историков», которые, по словам Герцена, "изучают самую новейшую историю по письмам, еще не дошедшим по адресу".
Получение второго письма через Ротшильда еще раз подтверждает близость к Герцену его корреспондента. Но если в 1857 году Искандер специально подчеркнул свое особое уважение к тому, кто послал второе предупреждение, то в 60-х годах в "Былом и думах" — только одна фраза о получении второго письма: значительно меньше, чем даже о первом… Вероятно, это объясняется охлаждением отношений. Как известно, после событий 1862–1864 годов (расправа с демократами, польское восстание) большинство старых друзей испугалось, отшатнулось, перестало переписываться с Герценом и Огаревым.
Можно ли найти автора второго письма по приведенным данным? Кажется, можно. Без особого труда, по письмам и мемуарам Герцена, можно составить список людей, с которыми он был на «ты». Список будет немалым, но большая часть близких друзей — из Москвы, в то время как письмо пришло из Петербурга.
В Петербурге в 1857 году жили как будто только три человека, которые сохраняли с Герценом дружеское «ты»:
Иван Сергеевич Тургенев,
Константин Дмитриевич Кавелин,
Павел Васильевич Анненков.
Все трое — крупные общественные и литературные деятели. Всех трех Герцен в то время очень уважал и в их правдивости не сомневался. Все трое настроены были либерально, что в 1857 году означало сочувствие герценовским изданиям, но позже, когда волна общественного подъема схлынула, пути Герцена и этих людей разошлись. Наконец, все трое были в то время близки друг с другом, и сношения с Герценом одного из них быстро могли стать известны двум другим. Задача облегчается тем, что можно по письмам этих людей установить, где находился каждый из них летом и осенью 1857 года.
Тургенев уже больше года жил в Западной Европе, главным образом, в Париже. 16 октября 1857 года Герцен отправил Тургеневу очередное письмо, сообщая о четвертом номере «Колокола»: "И о Корфе. Посылаю. Заметь также о шпионе Михаловском".
Больше никаких подробностей: французские «историки» также умели изучать "не дошедшие по адресу послания". Тургенев, очевидно, не мог отправить письмо из Петербурга, поэтому его кандидатура не подходит.
К. Д. Кавелин летом 1857 года также странствовал по Европе: сохранилось его письмо к Герцену от 2 августа.
Остается Павел Васильевич Анненков — Огарев шутливо величал его «Полиной», — крупнейший исследователь и издатель сочинений Пушкина, будущий автор знаменитых литературных воспоминаний. Связи Анненкова были громадны: от своих братьев, генералов и сановников, он мог многое знать и, узнав, послать известие "на адрес Ротшильда".
Осталось подумать еще об "одном лице" из Лондона, которое помогло разоблачить Михаловского.
Заметим: о паническом письме Михаловского министру иностранных дел Горчакову Герцен узнал прежде, чем это письмо достигло Петербурга. 13 октября оно было отправлено, а 16 октября о нем уже появилось сообщение в "Польском демократе". Столь быстрая осведомленность "одного лица" может быть объяснена тем, что «лицо» служило в русском посольстве, через которое шла переписка шпиона с начальством.
Кто же помог Герцену в этом случае?
Просматривая штаты русского посольства в Лондоне — от посла графа Хребтовича до экспедиторов и регистраторов, — мы можем пока только гадать — кто. Один из них…
Так провалилась затея, которая могла бы и удаться. Разоблаченный доносчик был совершенно не нужен российской власти. Его следы теряются. "Эмигранты-шпионы — шпионы в квадрате", — пишет Герцен. — Ими оканчивается порок и разврат: дальше как за Луцифером у Данта, ничего нет"{7}.
В конце ноября 1857 года министр иностранных дел «лицейский» Горчаков демонстративно и, очевидно, не без усмешки отправил в подарок III отделению заметку о Михаловском из четвертого номера «Колокола». В тайной полиции эта заметка, конечно, уже имелась, но все же пришлось благодарить соседнее ведомство за внимание…
Эпилог ко всей этой истории был написан Герценом девять лет спустя.
"Колокол" в ту пору шел к своему концу — в России затихали бури 1860-х годов и лишь едва мерцали зарницы 1870-х. Вспоминая в 215-м номере «Колокола», 1 марта 1866 года, разные эпизоды прошедших горячих лет, Искандер снова возвращается к истории с Михаловским, освещая ее несколько иначе, чем в прежних статьях:
"Михаловский предложил свои услуги через Хребтовича{8} и обещался за 200 фунтов в год доставлять списки лиц, посещающих нас, образчики рукописей, выкраденных из типографии, по мере возможности узнавать пути, по которым посылается «Колокол» (от Трюбнера он же сам посылал), и имена корреспондентов. Вышло затруднение: кто должен платить эти 200 фунтов? Князь Горчаков отказался, князь Долгоруков тоже не хотел, решились спросить государя. Пока шли переговоры, уличили Михаловского, прогнали его от Трюбнера и напечатали в журналах.
Дело было в 1857 году, в те времена, когда государю "еще новы были все наслажденья самовластья", и шум льстецов, и сонм шпионов.
— Кто составил этот лист? — спросил Александр Николаевич, бросая образцовый список наших гостей в камин.
— Его представил Хребтович.
— Он меня компрометирует.
И Хребтовичу достался нагоняй".
В архиве III отделения, среди бумаг о Михаловском, не сохранилось списка посетителей Герцена. Александр II, должно быть, действительно кинул его в камин. Лет через пять все пошло в дело — и списки, и доносы, и провокаторы, а тогда, после Крымской войны, общественная атмосфера была неподходящей для шумных политических процессов. Да и что мог в ту пору сделать самодержавный российский царь с таким списком — ведь там, без сомнения, было немало знаменитых людей: литераторов, профессоров, офицеров, дипломатов; из процесса возник бы скандал, так как единственным обвинительным документом было развязное послание предателя.
Список должен был последовать в камин с той же неизбежной закономерностью, с какой должны были появиться несколько писем, предупреждающих вольных печатников об опасности. "Подобного рода письма, — вспоминал Герцен, — мы получали не раз. Искренняя и глубокая благодарность анонимным друзьям, делавшим нам или, лучше, нашему делу такую великую услугу…"
АНОНИМЫ
Сотрудница Института мировой литературы И. Г. Птушкина нашла однажды в архиве III отделения любопытную и странную записку:
"Если вы желаете получить один экземпляр журнала «Колокол», издаваемый в Лондоне на русском языке, то благоволите послать за 30 номеров 50 р. серебром в книжный магазин Смирдина, не означая ничего в письме Вашем, кроме:
"Посылаю при сем 50 р. серебром, которые благоволите передать г-ну А. И. Г. Подпись и адрес".
В полном уверении, что Вы не употребите во зло извещение это, я Вас прошу немедленно уничтожить письмо это. А. И. Г.".
Вокруг документа заспорили: "А. И. Г." — это Александр Иванович Герцен. Значит, записку надо помещать в Полном собрании его сочинений?
Читатель, видящий в себе склонность к детективному розыску, может прервать чтение книги и попытаться самому все расчислить…
Вот наш ответ, вернее — правдоподобная гипотеза.
Дату записки можно определить так.
Ее автор обещает прислать "тридцать номеров «Колокола». 30-й номер журнала вышел 15 декабря 1858 года. В апреле 1859-го уже печатается 40-й номер. В августе — 50-й. Вряд ли покупатель удовлетворился бы тогда 30 номерами. Значит, записку писали в конце 1858 — начале 1859 года.
Смирдин — фамилия известная. Александр Филиппович Смирдин был столичным издателем и книготорговцем, близким к Пушкину и другим литераторам 30–40-х годов. Из-за своей непомерной щедрости и доброты А. Ф. Смирдин совершенно разорился и умер осенью 1857 года, а его дело унаследовал сын, Александр Александрович Смирдин. Второй Смирдин сначала поправил дела, даже получил звание "поставщика императорского двора". Это было как раз в 1857–1858 годах.
Вскоре, однако, разорился и он.
Выходит, запрещенным «Колоколом» торговал придворный поставщик. Рискованно, но выгодно! За 30 номеров — 50 рублей серебром, 1 рубль 67 копеек за номер — по тем временам цена огромная.
Но главный вопрос: кто автор? "А. И. Г."? Но кому Герцен мог послать такую записку из далекого Лондона? Другу? Знакомому?
Что же это, однако, за друг, которому надо объяснять, что «Колокол» — это журнал, издаваемый в Лондоне на русском языке?
Знакомый обиделся бы, прочитав: "Вы не употребите во зло извещение это".
Значит, незнакомый?
Но не странно ли, что Герцен рассылает извещения из-за границы незнакомым людям в Россию, к тому же называя в записке имя Смирдина? А если незнакомец донесет в полицию? (Возможно, так оно и случилось — ведь записка найдена в бумагах III отделения).
К тому же известно, что Герцен не заботился о прибылях; лишь бы «Колокол» дошел, пусть даром, к читателю. На каждом номере газеты стоит цена — 6 пенсов. По справочнику тех лет легко выяснить, сколько это копеек. Оказывается, некто "А. И. Г." просит за экземпляр «Колокола» почти вдесятеро больше цены. Не может быть, чтоб Герцен!
Все станет на место, если предположить, что писалась записка… самим Смирдиным. Писалась во многих экземплярах, как пишутся пригласительные билеты, и рассылалась известным Смирдину лицам — может быть, его подписчикам или постоянным покупателям. В таком типовом извещении уместно и объяснить, что такое «Колокол», и предостеречь против употребления "во зло". Смирдин хочет получить прибыль, а спрос на нелегальные герценовские издания велик! И он смело называет себя, не забывая назвать самую высокую цену.
Но зачем же подпись "А. И. Г."?
Одно из двух: либо Смирдин имел согласие Герцена на такую подпись, либо, что более вероятно, он подписался инициалами Герцена, чтобы привлечь, заинтриговать покупателя и замаскировать себя…
Вся русская история, все разнообразнейшие оттенки культуры и мысли отражались в «Колоколе».
Тайные общества 60-х годов — мы плохо их знаем. «Колокол» был их органом, туда шли письма, там печатались ответы — мы видим их, читаем, но часто не можем разгадать.
Споры об искусстве, о Пушкине, о религии — мы часто знаем их внешнюю сторону, но самая запретная их сфера — в вольной печати Герцена. Десятки, сотни, может быть, несколько сотен глав русской истории XIX века начинаются с «Колокола», но не прочитаны до конца…
Вот из номера в номер печатаются разоблачительные сведения о петербургском духовенстве, безграмотные и злые циркуляры митрополита Григория с указанием номера и даты каждой бумаги. В синоде сидел корреспондент «Колокола», но мы не знаем кто…
Одна фраза из письма Герцена к сыну: "Новостей никаких нет — кроме того, что молодой Раевский умер в Брюсселе, собираясь в Париж". Кто такой молодой Раевский? Выяснив, сразу же получили нить, ведущую на Украину, в Харьков — Киев — Одессу, ко множеству лиц и обстоятельств…
Несколько строк из письма Герцена к Павлу Васильевичу Анненкову, который летом 1858 года путешествует за границей и помогает вольной прессе:
"Кто писал превосходную статью в 19 "Колоколе"? — Не знаю, хотя и догадываюсь. Довольно тебе сказать, что она пришла в куче славянофильских посылок из Москвы, но получил я от Трюбнера".
Герцен пишет Анненкову осторожно, предполагая, что тот его поймет.
Попробуем и мы понять:
"Куча славянофильских посылок из Москвы" — круг очерчен. Но самые близкие друзья, в том числе славянофил Иван Аксаков, знали, что из Москвы прямо на адрес Трюбнера посылать немного рискованно (памятуя о Михаловском). Лучше — на Ротшильда. Если все же посылки пришли на Трюбнера, значит, отправляли не слишком знакомые, еще не предупрежденные об опасности славянофилы. Отношения этой общественной группы с Герценом были сложными: некоторые прямо писали, что с направлением «Колокола» не согласны, но ведь больше и печататься негде!
Перебирая имена московских славянофилов, выясняя, кто из них летом 1858 года находился в Москве, сопоставляя их взгляды с громадной "превосходной статьей" о крестьянском вопросе, занявшей весь 19-й и часть 20-го номера «Колокола», удалось почти бесспорно установить, что писал статью Александр Кошелев, один из лидеров славянофильства, редактор журнала "Русская беседа"…
Но вот снова на страницах Герцена мелькнуло "министерство внутренних дел". Оказывается, III отделение получило от какого-то очередного «Михаловского» сведения, будто в Лондоне напечатано огромным тиражом воззвание к крестьянам, призывающее к восстанию. Сведения были фантастические, но министр внутренних дел разослал циркуляр, а через три с половиной месяца «Колокол» добыл и перепечатал текст секретнейшего циркуляра по всей форме:
"М. В. Д. Департамент Полиции Исполнительной. Отделение III, стол 2. 28 октября 1857. № 141.
Циркуляром 26 декабря 1856 г., за № 207, было мною предложено всем начальникам губерний строго наблюдать за водворением (?!?){9} издаваемых за границей на русском языке разных сочинений, и своевременно останавливать этот незаконный промысел…
Подписал С. Ланской, министр внутренних дел.
Скрепил С. Жданов, директор".
Текст циркуляра был настолько безграмотен, что Герцен подал реплику: "Приславший его нам говорит, что его сочинил А. И. Левшин [товарищ, то есть заместитель, министра]; мы не думаем, — его сочинил кто-нибудь из сторожей министерства, и то в понедельник утром…"
Точный текст циркуляра да еще сведения о том, кто сочинил его, — все это снова бросает "тень подозрения" на безупречный, отборный штат министерства внутренних дел!
А ведь у нас с самого начала под подозрением некто из МВД, чье "Письмо из Петербурга" появилось во втором номере «Колокола»!
Не нужно думать, что у Герцена на первом году «Колокола» было изобилие своих людей среди ответственных чиновников всех министерств. Отнюдь нет: в синоде, уже говорилось, был свой человек, может быть — в министерстве иностранных дел, но во многих высших ведомствах, кажется, прямой агентуры не было.
Зато в министерстве внутренних дел человек был. Естественно предположить, что циркуляр, "сочиненный кем-нибудь из сторожей", прислал именно он, по старому надежному пути (Мельгунов — Франк — Герцен). В том же десятом номере газеты, где был опубликован корявый циркуляр, прямо вслед за ним шла еще одна заметка "по части МВД". Она называлась "Разграбление монастыря и поход Черниговского губернатора против монахинь (посвящается г. министру внутренних дел)". Рассказывалось в ней о насильственном изгнании старух-раскольниц из обители близ Чернигова. Соседство «Циркуляра» и «Разграбления» на страницах «Колокола» уже наводит на некоторые размышления: Герцен часто помещал материалы, полученные из одного источника, рядом, один за другим. Раскольниками ведало все то же министерство внутренних дел, и, если читатель не забыл, секретными делами о них занимался все тот же неизвестный корреспондент второго номера «Колокола».
"Мы очень бы желали, — писал Герцен, — чтоб эта история, полученная из совершенно верного источника, была опровергнута, например, в Журнале министерства внутренних дел". Через несколько строк еще раз: "…благодарим душевно… особу, доставившую нам историю". Снова те же мотивы, как и по поводу первой корреспонденции, вышедшей из недр министерства внутренних дел: подчеркивается благодарность и уважение к некоей таинственной особе. Это он, все тот же — рискующий карьерой, свободой и даже жизнью чиновник министерства внутренних дел, и настал час им серьезно заняться…
Глава 8 СЛУЧАЙ НЕНАДЕЖЕН, НО ЩЕДР…
В начале октября 1858 года обычное для тогдашних российских властей состояние напряженного беспокойства на короткий срок достигло следующей, более высокой стадии — переполоха, политического скандала, паники…
1 октября 1858 года — точно в срок, как обычно, появился 25-й номер «Колокола» — на восьми тоненьких небольших листках, очень удобных и незаметных в двойном дне чемодана, между дров, перевозимых через границу, среди страниц вполне безобидных книг или просто в кармане…
Семь с половиной страниц из восьми занимало громадное "Письмо к редактору". Через две-три недели над этим письмом уже спорили в либеральных салонах, шушукались в министерских канцеляриях, хохотали на студенческих сходках.
Александр II же пришел в такую ярость, что едва удержался от жалобы на Герцена в английский суд, что явилось бы для изгнанника истинно царским подарком…
Я почему-то ясно вижу коридоры, залы, прогуливающихся министерских чиновников: переговариваются, посмеиваются; все уже, конечно, читали «Колокол» или слыхали… Большая часть возмущена или смущена, но правила служебного светского обхождения требуют насмешки над тем, как «влипло» высокое и высочайшее начальство. Поэтому коллежские и надворные острят и лукаво поглядывают друг на друга: "Уж не ты ли, брат?" Из-за чего же весь переполох?
В письме находилось между прочим несколько строк, сыгравших большую роль в тогдашней общественной борьбе:
"Слышите ли, бедняки, — нелепы ваши надежды на меня, — говорит вам царь. — На кого же надеяться теперь? На помещиков? Никак — они заодно с царем и царь явно держит их сторону. На себя только надейтесь, на крепость рук своих: заострите топоры, да за дело — отменяйте крепостное право, по словам царя, снизу! За дело, ребята, будет ждать да мыкать горе: давно уже ждете, а чего дождались? У нас ежеминутно слышим: крестьяне наши — бараны! Да, бараны они до первого пугача… Бараны — не стали бы волками! Войском не осилить этих волков!"
В России тогда — перед отменой крепостного права — разгоралась ожесточенная дискуссия между различными общественными течениями. Часть либералов решила, что после упоминания «Колоколом» народных топоров, следует полностью порвать с Герценом и больше в его газету не писать. Другие общественные деятели с этим не соглашались…
Но царь пришел в ярость вовсе не за строки о «топорах». Для Александра II Герцен и его печать всегда были врагами, и «топоры», в конце концов, — один из боевых эпизодов.
Прочитав в ту пору мнение одного крупного чиновника, что если бы Герцена удалось обманом захватить, то было бы неясно, что с ним делать в России. Александр II написал на полях документа: "В этом он [чиновник] ошибается".
Александр II был разгневан прежде всего тем, что в письме были помещены полные и точные тексты почти десятка секретнейших документов. При этом царя задевали персонально: в журналах секретного комитета однажды встретилось выражение "гражданственный прогресс". Автор «Письма» сообщает:
"Государь соизволил начертать собственноручно следующую отметку карандашом: "Что за прогресс!!! Прошу слова етого (это не описка, написано «е», а не "э"){10} не употреблять в официальных бумагах!" С тех пор мы не смеем писать слово прогресс и всячески обходим его".
Неужели корреспондента не искали?
Известный цензор А. В. Никитенко 30 октября 1858 года занес в дневник:
"Говорят, Герцен в 25-м номере «Колокола» разражается ругательствами на разных лиц, не исключая и очень высокопоставленных… В «Колоколе» между прочим помещены еще какие-то официальные бумаги, и теперь идет розыск о том, как они ему достались".
Неужели мы и через сто лет не в силах узнать, кто он и как они ему достались?
* * *
Я, наверно, чересчур много делился своими планами и сомнениями с ближними, потому что приятель — историк древнего мира — меня заклеймил: "Нашел на что жаловаться! У него семь с половиной страниц текста вполне сохранившегося и совсем юного (подумаешь, XIX век!) — и он ноет, что не может отыскать автора. Тебя бы сунуть в наше тысячелетие, когда приходится писать историю не одного человека, а целого города или провинции по десятку полуистертых могильных надписей!"
…Вспомнился еще спор о записках Еропкиной и саранче, когда видный пушкинист напоминал, что ведь многие события древности известны только по описаниям, сделанным пятьсот лет спустя. Вспомнил, не стал спорить и отправился перечитывать «Колокол».
Передо мной — точное фототипическое воспроизведение старинной газеты, сделанное недавно издательством Академии наук.
Привычно нахожу 201-ю страницу (в этой газете единая нумерация страниц продолжалась все десять лет ее существования — до № 245 и страницы 2044-й).
Колокол. Лист 25-й.1 октября 1858 года. "Письмо к редактору".
По «письму» знакомлюсь и автором. Он живет в столице, так как несколько раз пишет: "У нас в Петербурге", "Здесь, в Петербурге".
Сообщая об аресте двадцатидвухлетнего юнкера, замечает: "Что мог сделать серьезного юноша 22 лет?"
Писал человек в летах. Иначе была бы весьма странной уверенность, что в двадцать два года "не сделать ничего серьезного". А вот чрезвычайно интересные строки:
"Прочтите, что писал недавно от 17 прошлого мая к министрам юстиции (за № 164) и внутренних дел (№ 165) Бутков… Выписываю целиком его отношение к Панину, к Ланскому написано тоже".
Бутков — весьма важная персона: государственный секретарь. Через него часто отправляются к министрам "высочайшие повеления". Панин — министр юстиции. Ланской — министр внутренних дел. А писал им Бутков о намерении царя ввести повсюду временных генерал-губернаторов с диктаторскими полномочиями. Это был большой секрет. Власть намеревалась устрашить. И, может быть, оттого, что «Колокол» вытащил дело на свет божий, проект "маленьких диктаторов" был тогда похоронен.
Как видим, автор сообщает секреты сразу трех ведомств — государственной канцелярии, министерства внутренних дел и министерства юстиции.
Но мало того — в «Письме» помещены еще и подробности крестьянских волнений, а также тайные циркуляры министра народного просвещения и министра государственных имуществ (вместе с входящим и исходящим номером!).
В конце "Письма к редактору" стоит дата: "июль 1858 г.", затем постскриптум: сообщается, что министр внутренних дел Ланской доложил Александру II и добился наказания некоторых особенно ретивых крепостников. Тут же помещается еще несколько хвалебных строк в адрес этого министра:
"Я сам читал доклад Ланского императору. Это единственный, может быть, честный, правдивый и не деспотичный министр. Как только будет можно, без вреда для крестьянского дела — я сообщу вам некоторые подробности о том, как вынудил Ланской начать освобождение крестьян".
Теперь, наконец, все, как полагается: фактов много, путаницы еще больше… Автор, конечно, чиновник. Наверное, крупный, если имеет доступ к столь важным делам.
Но не может же он служить одновременно в государственной канцелярии и четырех министерствах! И к чему при таком чине толковать о «топорах»?
* * *
ЦГАОР, ф. 109, оп. 1, ед. хр. 102, лл. 1–3
Эта «шифровка» переводится так: Центральный государственный архив Октябрьской революции, фонд 109 (это фонд III отделения), опись 1-я (каждый, кто занимается в этом архиве, знает, что в 1-й описи — дела об особо важных политических преступлениях), единица хранения ь 102. листы с 1-го по 3-й. Листов мало…
Октябрьским утром 1858 года специальный нарочный под охраной жандармов явился из дворца в известный дом у Цепного моста, про который осторожно шутили, что выше его нет в России, потому что как войдешь — сразу всю Сибирь видно. Принесенный в III отделение документ распечатал либо сам шеф, Василий Андреевич Долгоруков, либо кто-нибудь из проверенных годами "седых тореадоров" (выражение Герцена). Потом бумага пропутешествовала в одну из комнат рангом пониже и была передана человеку с хорошим почерком.
Таких хороших почерков, как в бумагах III отделения, таких нажимов, росчерков, наклонов, переходов одной буквы в другую мне, признаться, видать не приходилось и, надеюсь, не придется. Только узнав эти почерки, я понял, отчего Александр II не любил читать по печатному и специальные писцы переписывали книгу, которую он желал прочесть. И говорят еще, что чем лучше был почерк, тем изящнее скрипело перо…
Так вот, в то утро жандармское перо изящно проскрипело по трем страницам, которые век спустя я с большим интересом изучал, сидя в небольшом читальном зале архива в Москве, на Пироговской улице.
Передо мной лежал краткий отчет о розысках того же лица, только произведенных за сто лет до меня — понятно кем и понятно для чего…
С первых же строк становилось ясно, что этим трем страницам предшествовали и сопутствовали разговоры столь же секретные, сколь и неприятные для некоторых весьма крупных персон.
Александр II, прочитав 25-й номер «Колокола», конечно, особенно возмутился обнародованием "етих слов" и выразил свое недовольство Алексею Федоровичу Орлову, председателю Государственного совета, еще не успевшему забыть свою прежнюю должность шефа жандармов.
То ли Орлов, то ли сам царь решили, что "агент Герцена" скорее всего служит в государственной канцелярии: там циркулировали бумаги разных ведомств — от царя и к царю — и чиновники знали особенно много. К тому же государственная канцелярия и ее начальник Бутков неоднократно упоминались в "Письме к редактору".
Бутков перепугался и уже через несколько дней подал Орлову оборонительно-наступательную бумагу, с которой и начиналось дело-ЦГАОР, ф. 109, оп. 1, ед. хр. 102.
Там докладывалось, что секретные сведения в 25-й номер «Колокола» доставлены непременно кем-либо из лиц, служащих в министерстве внутренних дел. Бутков сообщал, что жалобы крестьян, подробности о крестьянских волнениях, а также копии почти всех секретных документов, помещенных в «Письме», имелись в министерстве внутренних дел, "но написаны не в государственной канцелярии".
Один из доводов Буткова довольно остроумен: оказывается, царское повеление о временных генерал-губернаторах было послано к министру внутренних дел за № 165, а к министру юстиции — за № 166. Между тем в «Колоколе» напечатана бумага к министру юстиции не за № 166, а за неверным, выдуманным № 164. "Ясно, что лицо, сообщившее редакции «Колокола» эту бумагу, писанную министру внутренних дел, предполагало, что министру юстиции писано то же самое за № 164. Ошибка сия доказывает, что бумага сия сообщена не чиновниками государственной канцелярии и даже не чиновниками министерства юстиции, а чиновниками министерства внутренних дел".
Возможно, чиновник, додумавшийся до этого, был Бутковым награжден и повышен: надо признаться, довод сильный.
Вслед за Бутковым слово берет сам Орлов. В тот же день, 16 октября 1858 года, он докладывает царю: "Всего вероподобнее, что секретные дела сообщены кем-либо из чиновников министерства внутренних дел. Думаю, что было бы полезно, если бы Ваше Величество изволили лично повелеть министру действительному тайному советнику Ланскому разузнать под рукой, кто мог сообщить все Колоколу, и принять строгие меры к сохранению канцелярской тайны".
На доклад наложена резолюция Александра II: "Я велел строго говорить обо всем этом с Ланским. — Необходимо с вашей стороны обратить на это самое бдительное внимание. — Оно доказывает, что здесь, в министерствах, есть непременно изменники".
Министерство внутренних дел…
И снова перед нами старый знакомый. Тот, кто послал корреспонденцию во второй номер «Колокола» и кто сообщил секретный и безграмотный циркуляр министра внутренних дел в десятый номер. Тот, кто в первой корреспонденции развивал мысль, что "главные революционеры" сам царь и его правительство, а здесь, в 25-м номере, опять — "заострите топоры, да и за дело — отменяйте крепостное право, по словам царя, снизу…." И опять, как и во втором номере, здесь вспомянут «пугач» — Емельян Пугачев…
Кто же он, этот корреспондент, автор известного письма, вернее — известных писем?
Можно ответить неопределенно: "Про то знал он сам да еще Герцен с Огаревым".
Можно назвать его взгляды близкими к революционным: в России тогда очень немногие, даже в мыслях, решались на столь смелое употребление слова «топор».
И, пожалуй, надо признать его действия героическими: за передачу государственным преступникам Герцену и Огареву подобных секретов причитались такие сибирские рудники, до которых везут несколько месяцев и из которых не увозят несколько десятилетий.
* * *
Заканчивая чтение дела о розыске, я уже знал столько, сколько знали царь и министры.
Кроме трех листков, в деле ничего нет. Министр Ланской, конечно, проверил "под рукой". И, надо думать, III отделение постаралось сделать как можно больше, чтобы угодить императору и насолить сопернику (ведь МВД ведало полицией, и, случалось, переодетые полицейские задерживали "подозрительных персон", оказывавшихся переодетыми агентами III отделения!). Виновника искали, но не нашли.
"Оно доказывает, что здесь, в министерствах, есть непременно изменники".
Тогда я отправился в Ленинскую библиотеку и стал рассматривать "Адрес-календарь Российской империи. Роспись чинов военных и гражданских за 1858 год". На двух страницах разместились все чиновники министерства внутренних дел — от министра, действительного статского советника Сергия Степановича Ланского, до делопроизводителя, коллежского регистратора Василия Васильевича Барташа. Между этими двумя полюсами разместилось больше сотни советников, асессоров, секретарей…
Со странным чувством рассматривал я этот список. Передо мной был отпечаток умершего мира. Ведь когда-то все это казалось необыкновенно важным: что товарищем министра стал Алексей Ираклиевич Левшин, что Василию Петровичу Голицыну уже обещано (как это будет видно из следующего тома "Адрес-календаря") вице-губернаторство в Костроме… Но через секунду подступила мысль совсем иного рода: ведь смельчак, шедший на такой риск, передававший сокровенные и нечистые тайны «верхов» их самому страшному врагу, — ведь этот человек тоже здесь, на одной из страниц. Может быть, вот этот секретарь, или тот столоначальник, или кто покрупнее?..
Потянулись дни. Задача не двигалась, и я усердно занялся другими задачами, дожидаясь случая. Что он придет, я не сомневался, помня древнее изречение: "Случай ненадежен, но щедр". Пожалуй, лучший способ поймать случай — это заниматься чем-то около, вокруг того места, куда случай должен явиться.
Герцен, «Колокол», архивы — я продолжал ими заниматься и верил, что час придет.
Так было уже не раз.
Говорят, есть рудники и шахты, которые забросили слишком рано, не исчерпав до дна, а иногда — не затронув главных запасов.
Есть такие рудники и в истории. Кто-то давно что-то открыл и опубликовал. После этого, бывает, десятилетиями никто не прикасается к старому, отработанному материалу: люди там уже были, всс или главное добыто. Стоит ли подбирать крохи?
В общем, это верное рассуждение, если только оно действительно верно…
Моя работа в архиве над документами III отделения подходила к концу. Не стану сочинять, будто я вообще не намеревался читать одно известное дело: нет, я его выписал, совсем забыв, что оно опубликовано. А потом вспомнил об этом обстоятельстве и оставил дело полежать: успеется…
Наконец в один из последних дней работы принялся его листать — и дальше все, как полагается по лучшим и худшим детективным образцам: было "вдруг…", было "затаив дыхание, он листал…"; вот не было только: "Ночью он долго не мог заснуть, Все думал о…"
В 1926 году историк А. Санин опубликовал в журнале "Красный архив" на сорока с лишним страницах наиболее интересные, по его мнению, документы этого дела. Об остальных материалах, которые в публикацию не попали, он рассказал в предисловии.
Хотя дело было явно исчерпано "не до дна", его десятилетиями почти не трогали.
Теперь передо мною лежала папка, внутри которой было не три, а более чем сотня страниц. Типичное дело III отделения — с доносом, арестом, допросом, приговором.
Донос был первой страницей. Карандашная пометка удостоверяла: "Получен в III отделении 13 августа 1860 года". Небольшой листок, почерк красивый, но по-другому красивый, нежели у профессионалов III отделения. Этот сочли бы чересчур замысловатым, своенравным, почти дерзким.
Сначала доносчик ругается: обличает "звонарей "Колокола", каких-то "социалистов и коммунистов". Потом просит его сиятельство князя Василия Андреевича (то есть шефа жандармов В. А. Долгорукова) "раздавить одну из пресмыкающихся гадин".
"Это некто Перцов, служащий в министерстве внутренних дел — их целая стая родных братьев, — это самый ожесточенный корреспондент Герцена (воспевший и вознесший министра Ланского в конце 1858 года). Будучи, как говорят, даровитым чиновником, он лукав и скрытен…"
В конце доноса сообщено, что у Московской заставы — пробочная фабрика брата Перцова и что "недурно бы заглянуть туда невзначай, там фабрикуются все материалы для "Колокола". Ну и, конечно, никакой подписи: анонимка.
На полях доноса неразборчивым почерком «шефа» (чем выше чин, тем почерк хуже!) спрошено о Перцовых. Красивые и разборчивые строчки тут же удовлетворяют любознательность начальника: Перцовых много (позже выяснилось, что их тринадцать братьев и сестер). Многие Перцовы живут в Казанской губернии (у них дом в Казани и родовое имение в пятидесяти верстах от города). Пробочной фабрикой у Нарвских (а не у Московских) ворот владеет отставной чиновник Эраст Петрович Перцов.
Жандармское донесение сообщает, что на фабрику "невзначай заглянули", но ничего особенного не нашли. И, наконец, главный объект доноса, по справке III отделения, крупный чиновник — статский советник Владимир Петрович Перцов, начальник 2-го отделения департамента общих дел министерства внутренних дел. В деле отсутствует анализ доноса по существу. Наверное, об этом жандармы не писали, а просто «переговорили». Но было совсем не трудно догадаться, о чем переговорили (вот тут-то было "и вдруг…"): "Это самый ожесточенный корреспондент Герцена, воспевший и вознесший министра Ланского в конце 1858 года".
Время — конец 1858 года, а "Письмо к редактору" 1 октября — сходится.
Образ действий — "ожесточенный корреспондент Герцена" — сходится.
"Воспел и вознес Ланского"-тоже сходится: в постскриптуме "Письма к редактору" в 25-м номере «Колокола» Ланской весьма "воспет и вознесен". Нарочно проверяю: ни в 1858-м, ни в 1859-м, ни в 1860-м, ни в одном из номеров «Колокола» других похвал Ланскому не помещалось (автор «Письма», правда, обещал прислать какие-то новые подробности о министре, но, видно, не смог или не захотел).
Одно мне ясно: доносчик обвиняет в авторстве того самого "Письма к редактору" Владимира Петровича Перцова…
Я испытывал радость человека, случайно обнаружившего бриллиант в выгребной яме: решение мерцало в этом доносе, который, по правде говоря, неплохо сохранил за столетие свой характерный «аромат».
Но тут же осаживаю себя.
Ох уж эта легкомысленная вера в доносы!.. С чего бы это Перцов, потомственный дворянин, статский советник (то есть, в сущности, генерал), начальник отделения МВД — начальство немалое, — станет писать о топорах да выставлять на позор своего императора и своих министров? И отчего донос появляется в 1860 году — через два года после публикации "Письма к редактору"? Ill отделение, размышляю я, понятно, опасалось «ошибиться»… Перцовы стоят достаточно высоко — их так просто не заарестуешь… Перелистываю страницы дела — 1860 год, 1861-й… В стране назревают большие события. 19 февраля 1861 года — крестьянская реформа. Продолжают свою борьбу Герцен и Огарев в Лондоне, Чернышевский и его друзья — дома. Умолк ли тайный герценовский агент из высших правительственных сфер? Кажется, нет. Один эпизод привлекает особенное внимание.
В марте 1861 года в «Колоколе» № 93 вдруг — сенсационный материал, присланный, по ряду признаков, из того же источника, что и "Письмо к редактору". 26 и 28 января 1861 года по нескольку часов длились секретные заседания Государственного совета. Присутствовали император, министры, высшие сановники — все «свои». В последний раз обсуждался вопрос, на каких условиях освобождать крестьян. А через две недели подробнейший отчет о заседании появляется в «Колоколе». Министр иностранных дел Горчаков восклицает: "Кто же мог сообщить так верно подробности, как не кто-нибудь из присутствовавших!"
Между тем агенты всё следят и следят за Перцовыми, их поведением и перепиской. "Ничего предосудительного и подозрительного не открывается", — докладывает известный мастер своего дела жандармский полковник Ракеев, тот, кто в молодости сопровождал гроб Пушкина, а годом позже придет забирать Чернышевского.
Но слежка продолжается. Особенно за живущими в столице Владимиром и Эрастом Перцовыми…
Уже вечерело и архив закрывался, а я как раз подошел к тому месту, когда после годичной охоты жандармы поздравляли друг друга с уловом.
В конце августа 1861 года главноуправляющий почтами Прянишников извещает III отделение, что на имя Эраста Перцова прибыл очень толстый пакет из Казани.
Гамлетовские колебания — вскрыть или не вскрыть — длятся весьма недолго: пакет доставлен в дом у Цепного моста и вскрыт. Все обставлено как следует. Протокол подшит к протоколу, опись — к описи: пакет из Казани. Кто-то из Перцовых (потом выяснилось, что это был Константин Перцов, чиновник особых поручений при губернаторе) пишет:
"Братец Эраська Петрович! Теперь написана для Вас целая грамота… Прочитавши труды мои. Вы увидите, что она написана человеком, коротко знакомым с делом, и потому здесь — что ни слово, то правда. Грамоту отдаю в полное Ваше распоряжение, и потому можете сделать с ней все, что Вам угодно".
"Труды" — это подробное, со знанием дела, описание кровавой расправы над крестьянами села Бездна Казанской губернии, отказавшимися принять фальшивую, по их мнению, «волю».
Недавно взошедший на должность управляющего III отделением Петр Андреевич Шувалов запрашивает высокое начальство — шефа жандармов Долгорукова. Решают, что пакет предназначался не иначе как для пересылки Герцену в Лондон, и после этого судьба Эраста Перцова ясна… Я остановился в этот вечер на том, что изучил очень красиво скопированный приказ, предписывавший полковнику Ракееву на рассвете 29 августа 1861 года "подвергнуть арестованию отставного надворного советника Эраста Перцова". Тут же депеши, состоящие из одних цифр, шифровки, порхавшие из Петербурга в Ливадию, где проводил лето Александр II вместе с шефом жандармов; на обороте депеши — цифры, обращенные в буквы, — расшифровка: царя запрашивают о предстоящем аресте. Он соглашается, но требует допросы Перцова вести так, чтобы тот не догадался о перлюстрации, вскрытии предназначенного ему пакета. Царь не может, конечно, разрешить, чтобы читались чужие письма…
Я знал, что через одну-две страницы будет уже отчет об аресте и обыске. Я знал, что все это произошло очень давно и что никого из действующих лиц уже много лет нет в живых. Но вдруг — на миг — странная иллюзия: захотелось предупредить, предостеречь человека. Ведь я знаю, что его арест решен, подписан, а он не знает, И наверняка опасные бумаги не спрятал.
Берегись!
* * *
Затем — суббота и воскресенье — архив закрыт, но мне не терпится. Отправляюсь искать братьев Перцовых в Ленинскую библиотеку.
"Адрес-календарь" 1858 года все еще лежит на моем библиотечном номере, и я быстро отыскиваю на той же странице, которую недавно рассматривал: "Статский советник Перцов Влад. Петр., нач. II отделения департамента общих дел…"
Потом при помощи старинных и новейших словарей и справочников принимаюсь собирать все, что можно, о Перцовых.
Владимир Петрович родился в 1822 году в Казани, закончил Казанский университет, служил в министерстве внутренних дел, с 1861 года в отставке, в конце 60-х годов сотрудничал в журнале «Москва», издававшемся славянофилом И. С. Аксаковым, изучал историю и экономику Прибалтики. Умер в Москве в 1877 году.
Обыкновенная, мирная, благополучная биография XIX столетия — неужели этот человек писал о «топорах» и смело передавал Герцену государственные тайны? У Владимира Петровича по крайней мере наружная, известная часть жизненного пути кажется ясной, но у его старшего брата (Эраст Петрович родился в 1804 году, то есть на восемнадцать лет раньше) почти вся биография представилась мне состоящей из одних намеков, умолчаний.
Если в дворянской семье в 1804 году рождается мальчик, которого называют Эрастом, то это говорит, во-первых, о том, какое впечатление на родителей произвела недавно появившаяся карамзинская "Бедная Лиза" и возлюбленный Лизы молодой дворянин Эраст. Во-вторых, такое направление семейных вкусов угрожает ребенку литературным будущим…
Действительно, лет через двадцать — двадцать пять в петербургских журналах начинают появляться стихи молодого Эраста Перцова. Они написаны бойко, но, видимо, вовсе не за эти опубликованные вирши он вдруг снискал дружбу лучших писателей. Баратынский пишет в одном письме: "Перцов, известный своими стихотворными шалостями, которого нам хвалил Пушкин, человек очень умный и очень образованный, с решительным талантом".
Отзыв П. А. Вяземского сходный, хотя несколько иронический: "Перцов, которого опубликованные стихотворения имеют много меньше перца, нежели устные…"
Итак, "стихотворные шалости" Перцова хвалил даже Пушкин, который, как известно, был весьма скуп на комплименты сильному полу и особенно — его рифмующему меньшинству.
Но где эти «шалости» Перцова, явно не предназначенные для печати? Неясно, как и при каких обстоятельствах состоялось знакомство Перцова с Пушкиным, однако они были приятелями. Известно, что Перцов помогал Пушкину в его попытках (долгое время бесплодных) основать литературный журнал.
Один из современников так и записал: "Эраст Петрович Перцов, человек в те годы (1831–1832) близкий к Пушкину и знавший все его дела".
Отправляясь в 1833 году в оренбургские степи — собирать материалы о Пугачеве, — Пушкин гостит в Казани у семьи Перцовых. Несколько позже в письме к казанской писательнице А. А. Фукс от 19 октября 1834 года Пушкин замечает: "Э. Перцов, которого на минуту я имел удовольствие видеть в Петербурге, сказывал мне, что он имел у себя письмо от вас ко мне, но… он уехал из Петербурга, не доставив мне для меня драгоценный знак Вашего благосклонного воспоминания. Понимаю его рассеянность в тогдашних обстоятельствах". Что же за обстоятельства?
В биографических справочниках смутно сказано, что на Эраста Перцова, служившего в то время в Казанском губернском правлении, поступил политический донос; дело могло кончиться плохо — царь Николай не любил оставлять без внимания такие документы. Но обошлось…
Губернатор дал хороший отзыв. Может быть, это и были «обстоятельства». Но из-за чего донос? «Шалости»?
Загадочны и следующие двадцать лет жизни этого человека. То ли донос укротил юные порывы, то ли время… Стихи, дружба знаменитых поэтов — все это вдруг исчезает.
Служба, потом отставка в сравнительно невысоком чине надворного советника…
Младшие братья кончают университет, делают карьеру, но у Эраста Петровича жизнь, видимо, сложилась не так, как хотелось. Мелькают туманные сведения о разводе с женой, о том, что единственный сын пустился в загул. Тут же какие-то брошюрки, какая-то деятельность: он редактирует журнал "Общеполезные сведения", выпускает "Общенародный курс механики", исследование "О сорных травах".
Все это как будто просто, нормально — что же плохого или необычного, если человек в "охлажденны лета" занимается положительным, хотя и малым делом? Да и чем заниматься в молчаливую, тусклую середину века?
Все это так. Но ведь позади были юность, стихи, Пушкин… А впереди — какая-то новая вспышка.
Справочники сообщают: "В 1861 году Перцов был арестован по доносу. Позже — освобожден. В 1873 году окончил жизнь самоубийством вследствие стесненных финансовых обстоятельств".
Все как-то странно, что-то здесь кроется: арест в пятьдесят семь лет, самоубийство в шестьдесят девять…
Тут я в первый раз заметил, что все больше и больше следую за Эрастом Перцовым, который вовсе не служил в министерстве внутренних дел и поэтому вряд ли читал секретные бумаги и императорские резолюции.
* * *
В понедельник я был в архиве одним из первых, быстро достал "Дело Перцовых" и нашел место, на котором остановился два дня назад: "Завтра, 29 августа 1861 года, подвергнуть арестованию…"
Перевернул страницу.
Полковник Ракеев докладывает: "29 августа отставной надворный советник Эраст Перцов вместе с бумагами доставлен в III отделение". Управляющий граф Шувалов шифром извещает Ливадию.
Затем следует составленный отличным почерком список бумаг, изъятых при обыске.
Одного взгляда достаточно: Перцов попался, и очень основательно. Доносчик, выходит, не лгал!
В жандармском реестре — 29 пунктов. И каждый пункт — либо крамольная рукопись, либо запретное стихотворение, либо "и того хуже".
Если бы в дело были включены записи о том, как тихо ночью в камерах III отделения, как звякают шпоры, отодвигаются засовы, как жандармский следователь вежливо заводит разговор о пустяках, как медленно тянутся дни и недели, в которые не вызывают и не тревожат, как во время прогулки по внутреннему дворику вдруг за решеткой мелькает чье-то знакомое лицо, — если бы в деле было записано все это, оно, возможно, не производило бы и десятой доли того впечатления, которое производит теперь…
В нем только протоколы: черновичок и тут же — каллиграфический чистовик; письменное показание самого подследственного — почерк плохой, какой-то неуместный среди аккуратных бумаг — и эти же показания, каллиграфически переписанные для "его сиятельства".
Никаких устрашающих или сентиментальных подробностей. И поэтому так впечатляет каждый лист.
Но эти мысли быстро отступают: внимание приковывает поединок. Поединок "лучших сил" III отделения с пожилым, очень культурным человеком, много пережившим, который отлично сознает, что попался и скомпрометирован.
Ему предъявляют найденные у него "вредные статьи", написанные иногда его почерком, иногда чужим: статья против сооружения памятника Николаю I, записка об убийстве Павла I, записи о разных мерзостях, совершенных в разное время членами императорской фамилии.
Он признает: "Да, это мое… Почерк мой или писца, которому давал переписывать. Имени и места жительства писца не знаю".
На столе следователя толстая — более сотни страниц — тетрадь: подробные, незаконченные, талантливо составленные записки, рассказывающие, как втайне подготавливалась и осуществлялась крестьянская реформа: множество деталей, анекдотов, сплетен, а также весьма секретных сведений о том, что творилось «наверху», (Записки Перцова и некоторые другие материалы как раз и были в 1926 году извлечены из этого дела историком А. Саниным и опубликованы в журнале "Красный архив".)
"Не могли же вы, господин Перцов, рассчитывать на опубликование в России такого возмутительного сочинения? А между тем вы, видно, потратили немало сил на сбор нужных вам сведений".
"Я же пишу, что "каждодневно толкался и вступал в беседу на улице".
"Но не на улице же вы узнали, что, например, сообщил министр внутренних дел секретно, по телеграфу, всем губернаторам? К тому же вам известны — и вы об этом пишете с издевательством — и другие секретные меры предосторожности, принятые правительством. Вам даже известны фамилии сановников, в ночь перед объявлением реформы ночевавших в Зимнем дворце".
Перцов заявляет, что он собирал услышанное "на улице и среди знакомых" для своих "посмертных записок", которые "нигде не думал печатать", а если и записал что крамольное, так это в болезненном, раздражительном состоянии: пользовался слухами, ходившими среди немалого числа знакомых.
"Но записки тщательно отредактированы, будто бы вы их собирались тут же отдать в печать. К тому же среди ваших бумаг найдены разные расчеты о выгоде печатания книг за границей".
"Янигде ничего не собирался печатать. Все мои статьи и эта тетрадь — материалы к запискам, которые должны были остаться после моей смерти. Поскольку я их не печатал и не распространял, то виноват лишь в том, что, находясь в болезненном, раздражительном состоянии и имея обыкновение бросать на бумагу все, что придет в голову, записал некоторые противозаконные вещи…"
На этой позиции Перцов в дальнейшем стоит твердо. Ему предъявляют один за другим опасные документы из его коллекции.
А он: "Собирал для посмертных записок".
То же говорит, когда его спрашивают о "возмутительных стихотворениях". Следователи полагали, что это стихи самого Перцова ("стихотворные шалости"), и, кажется, они были правы.
Перцов, конечно, отрицал — "…списал чужие стихи у незнакомого человека". Однако даже одно хранение таких стихов уже было "оскорблением величества". Стихотворение "Как яблочко румян" написано под Беранже:
А близок грозный час Отечества паденья, Постигнет скоро нас Кровавое бореиье. Кругом металл кипит, Встает пожар багровый, А он-то, бестолковый, Да ну их, — говорит…"Он" — это Александр II.
В стихотворении "Современная песня" появляется «топор».
Бери-ка дружно топоры! Ломай негодную тычину!.. Прорубим просек, в те поры Иную царь узрит картину."Топор", «царь», который тянет с реформой и сам фактически провоцирует народное восстание, — это ведь все было в том самом "Письме к редактору" три года назад, в 25-м номере герценовского «Колокола». И еще прежде, в "первой корреспонденции". Совпадение? Но отчего же о «топорах» с одобрением говорится в черновом письме, где Перцов упрекает самого Герцена за недостаточную революционность? Герцен печатал в «Колоколе», что «топор» не понадобится — у власти мало сил: хватит и «метлы». Интереснейший отрывок был настолько стерт и неразборчив, что я едва разобрал несколько слов и пустился дальше, не зная, что эти строки уже были расшифрованы саратовским историком И. В. Порохом, вскоре опубликовавшим их в своей книге.
"Позвольте Вам напомнить, — пишет Перцов Герцену, — что Россия — государство деспотическое в самом полном значении этого слова. Правда, Александр II посулил некоторую свободу помещичьим крестьянам, но разве он сдержал свое слово, разве он от него не отказался? Революционный топор может уничтожить у него 20–30 негодяев, окружающих престол и играющих в самодержавие, как в рулетку, сотни три-четыре чиновничьего люда. Вы предлагаете топор заменить метлою, но разве топор и метла не одинаковое орудие грубой силы? Топор может истребить разом и до корня все колючие растения, а метла оставит эти растения гнить в кучах и заражать воздух".
"Кстати, господин Перцов, судя по этому отрывку, вы состоите в переписке с крупным государственным преступником и изгнанником Герценом?"
"Вы же видите, что это лишь черновой набросок… Этого письма я Герцену не посылал, а, находясь за границей, в дурном расположении духа и здоровья, сделал записи как бы для себя…"
Перцов молодец. Хорошо защищается. У многих, очень многих не было еще в те годы опыта борьбы со следствием. Николаю I удалось немало узнать у декабристов. Лишнее рассказали и некоторые арестованные в 60-е годы. Правда, ничего не удалось узнать у Чернышевского и Николая Серно-Соловьевича. Но вот деталь: Серно-Соловьевич был единственным из 32 человек, арестованных за связи с Герценом, который знал свои права, по ходу процесса смело требовал и получал собственное дело, о чем другие даже не просили: не знали, что можно, или боялись…
На этом фоне Перцов держится, как лучшие.
Но отчего же меня не оставляет странное чувство, будто что-то очень важное при чтении дела Эраста Петровича я пропустил? Ведь все как будто просто и ясно: жандармы хотят признания Перцова, что его записки и другие материалы предназначаются для заграницы, для Герцена.
О перехваченном пакете из Казани им запрещено спрашивать прямо. Но они спрашивают окольно, невзначай, «стыдливо»: "Говорят, господину Перцову разные бумаги из Казани поступают?.."
Перцов, естественно, обо всем догадывается: "Конечно, братья присылают разное из Казани. Конечно — только для посмертных записок".
Нет, здесь я не пропустил ничего…
Но почему же следователи не спрашивают о младшем брате, статском советнике? Неужели не догадываются, что подошли близко к загадке 1858 года, загадке "Письма к редактору", которое так взбесило самого императора? Стоит только сопоставить донос и рассуждения о «топорах» в бумагах Эраста Перцова!
И неужто жандармскую братию удовлетворяют объяснения Эраста Перцова, что подробности о событиях при дворе и действиях министра он узнал из «слухов»? Ведь стоит немного задуматься: если уж Эраст Перцов собирал новости и слухи, так он, наверное, частенько обращался к начальнику II отделения департамента общих дел МВД Владимиру Петровичу Перцову! Тот "по должности" знает тайны министерские и придворные.
Но вот уже просмотрено все дело, а Владимира Перцова в нем нет. Мелькнуло имя на первой странице, и все… А кстати, где он теперь, то есть осенью 1861 года? Поздно вечером, пошатываясь от архивной усталости, иду отдыхать в библиотеку.
Через час с небольшим дежурные выдают мне стопку фолиантов в бурых переплетах: "Журналы министерства внутренних дел" за 1861 год. Приказы по министерству: Н. повышен, Н. Н. - уволен с мундиром и пенсией, К. - с пенсией, но без мундира…
А вот и младший Перцов: "Статский советник В. П. Перцов уволен по прошению 23 апреля 1861 года".
Быстро конструирую из этого сообщения три важных для меня вывода. Во-первых, в феврале и марте 1861 года, когда печаталось и объявлялось Положение об отмене крепостного права, Владимир Петрович был еще в должности, в Петербурге, рядом с братом. Во-вторых, в августе и сентябре 1861 года, когда Эраста арестовали, Владимир Петрович уже в отставке и, как выяснилось позже, уехал на лето и осень за границу. В-третьих, сама отставка мне кажется странной. В тридцать девять лет он уже статский советник. начальник отделения в министерстве. Отличная карьера: вот-вот сделается действительным статским, получит целый департамент… И вдруг — отставка!
Правда, после доноса — с августа 1860 года — Владимир Перцов находится под наблюдением.
Узнал? Или предупрежден?
Нет, никак не пойму, отчего III отделение занимается одним Перцовым. Вижу, что и историки сбиты с толку. А. Санин, публикуя почти полвека назад в "Красном архиве" материалы о Перцовых, утверждал, что слова доносчика "это самый ожесточенный корреспондент Герцена" относились именно к Эрасту Перцову. "Однако в доносе, — писал Санин, — не называлось имя Перцова и сообщалось, будто бы он служит в министерстве внутренних дел". А ведь доносчик в первую очередь метил в другого!
* * *
На другой день — снова в архиве. В громадном здании на Пироговской, кроме Центрального архива Октябрьской революции, помещается несколько других. Обмен мнениями и впечатлениями — в коридоре.
Молодые люди в темных рабочих халатах — работники архивы — горячо обсуждают маршрут на предстоящий праздник. Цгадовцы (ЦГАДА — это Центральный государственный архив древних актов) почти все праздники проводят в дороге — Новгород, Суздаль, Вологда, Муром, Псков, Ферапонтов, Киев: "Феодалы должны знать свои владения".
Из читального зала ЦГАДА появляется «феодал-читатель».
— Ну как?
(Я ему вчера во время перерыва рассказал кое-что о своих поисках.)
— Да вот темнят что-то жандармы.
— Это они умеют. Их дело такое. Вот у меня был случай…
Следует рассказ о том, как хитро замяли одно правительственное преступление при царе Иване Грозном.
— Да у вас там все проще, патриархальнее было.
— Э, сыне, не скажи! Такое закручивали, хоть лбом бейся — не поймешь. Вот хотя бы вся история с Дмитрием Самозванцем…
А прав ты только в том, что порядок, обычай в шестнадцатом веке был у сыщиков попроще: чуть что — и на дыбу. А иногда такое бывало, что и страх и смех: взяли недавно одно старинное дело, вдруг — ах! — из него засохшие человеческие пальцы посыпались. Ну, конечно, крики, обмороки и все прочее… Оказалось — все не так уж страшно: лет триста назад подрались на базаре, оторвали палецдругой, сунули их как вещественное доказательство в бумаги — да так и оставили. Три века этого дела никто не открывал… А у тебя, в девятнадцатом веке, конечно, культура — вещественные доказательства небось аккуратно, отдельно лежат?
"А в самом деле, — подумал я, — где вещественные доказательства?"
Наскоро простившись с «феодалом», отправляюсь в свой зал. Конечно, в деле Перцова главные документы скопированы полностью или в отрывках. Но, может быть, сохранились подлинники?
Сохранились. Минут через пятнадцать я уже затребовал вещественные доказательства по делу Перцова.
Вот иди после этого и доказывай, что нужно поменьше болтать в коридорах!
Лоскуток бумаги. На нем написано карандашом: "Я был у вас и не застал — зайду в четверг, завтра я занят".
Экспертиза III отделения устанавливает: почерк Герцена. Конверт на имя Эраста Перцова: адрес написан рукой Герцена. Счет Вольной типографии Герцена и список его изданий. Написан рукой Перцова.
Выписки из «Колокола» (№ 93 от 1 марта 1861 года, № 100 от 15 июня, № 103 от 1 августа) и целый свежий «Колокол» № 104, вышедший 15 августа 1861 года, то есть совсем незадолго до ареста Перцова.
"Что может сказать господин Перцов в свое оправдание?"
Положение почти безнадежное. Перцов, однако, защищается с необыкновенной ловкостью:
"Записка рукой Герцена? Но почитайте, что Герцен пишет: "…был у вас и не застал". А между тем, когда он писал записку у подъезда, я находился в моем нумере и ждал его ухода, ибо видеть его не желал".
Затем Перцов старательно объясняет жандармам, что Герцен помнил его еще по России, но что в Лондоне они не сошлись ни в образе мыслей, ни по характеру.
"Отчего же прятаться от Герцена в нумере?"
"Находясь в таком городе, как Лондон, благоразумие и собственная безопасность требовали не раздражать Герцена грубостями на его вежливость, а уклониться от него под благовидным предлогом".
"Ну, а конверт, "Колокол"?"
"Чьей рукой на конверте написана моя фамилия, я не знаю, но в него, как бандероль, был вложен какой-то нумер «Колокола», найденный мною на ручке передней двери моей квартиры в Лондоне. Прислан ли он Герценом, я даже не имел охоты узнавать".
"Счет, список герценовских брошюр?"
"Я купил два или три экземпляра каждого из лондонских изданий, а в Брюсселе выменял излишние экземпляры на другие книги на французском языке, а себе (для "Посмертных записок") оставил по одному экземпляру каждого издания".
Не правда ли, ловко?
А ведь на самом деле Перцов, конечно, что-то привез Герцену (не с пустыми же руками ездил он в Лондон), виделся с ним дружески и по делу, купил много брошюр, чтобы раздать дома (и, видно, раздал), договорился о получении «Колокола».
* * *
И еще одна рукопись, которой и без других вполне достаточно, чтобы погубить Эраста Перцова, и не его одного: черновая карандашная «стенограмма» секретнейшего заседания Государственного совета. Этот документ — мы уже говорили — неведомо как появился в 93-м номере «Колокола» за несколько месяцев до ареста Перцова, в марте 1861 года.
Несмотря на то что заседали без секретарей — император, сановники, "только свои", — Герцен все узнал.
Перцова спрашивают:
"Откуда черновик?"
"Я списал у какого-то человека, с какой-то рукописи. А потом выправил по "Колоколу".
Но Перцов, очевидно, хитрит. Надо разобраться, кто у кого списывал: он с «Колокола» или Герцен использовал материалы Перцова? «Колокол» уже под рукой. Выписки Перцова тоже. Начинаю сравнивать.
На нескольких листках чередуются два почерка, карандашом, — Эраста Перцова и какого-то неизвестного лица (Перцов опять утверждал, что "неизвестного писаря").
В «Колоколе» этот сенсационный отчет открывается редакционным сообщением: "Сегодня мы получили следующее письмо, спешим его передать нашим читателям без всяких изменений".
В черновике Перцова, как и в «Колоколе», описаны мнения ярых крепостников (считавших, что надо освободить крестьян без земли), а также Александра II и большинства совета (считавших, что земельный надел надо дать). Отчет вроде бы один и тот же, но отличия — на каждом шагу.
В «Колоколе», например, сообщалось, что князь Меншиков в совете почти все время "молчал и бесился", но нарушил молчание, чтобы "отстаивать розги, сечение и прочее".
В рукописи же Перцова утверждается, что Меншиков "бесился", но не выступал. "Против проекта (отмены крепостного права) было 8 человек", — писал «Колокол».
"Против проекта было 8 голосов, — записывал Перцов, — князь Гагарин и остальные бароны: Врангель, М. А. и Н. И. Корфы, Мейендорф, Литке и др.". В черновике Перцова имеется несколько выпадов по адресу царя, которые в «Колоколе» явно смягчены. Например, вместо иронического замечания "Государь многим рассказывал о своем подвиге" (то есть поведении на совете) в «Колоколе»: "Государь многим рассказывал о том, что и как происходило и что он говорил".
Зато в газете Герцена появляется ряд крепких эпитетов по адресу крепостников, которых нет в черновике Перцова: петербургский генерал-губернатор Игнатьев аттестован, например, как "тупой, зачерствелый сержант и придворный холоп".
В конце статьи кратко сообщалось о следующем заседании Государственного совета, состоявшемся через день после только что описанного, — 30 января 1861 года. В рукописи Перцова этого сообщения нет…
Я долго размышлял, пытаясь объяснить все эти различия.
Вариант № 1.
Эраст Перцов послал свой текст в Лондон, оставив дома черновик. Но Герцен и Огарев объявили, что печатают полученный отчет "без всяких изменений". А изменений немало…
К тому же — зачем бы редакторы «Колокола» самовольно убрали фамилии восьми крепостников, которые имеются у Перцова? Наоборот, Герцен и Огарев очень любили вытаскивать "их высокопревосходительства" на всеобщее обозрение в своей газете. Значит, вариант ь 1 не годится.
Вариант № 2.
"Колокол" напечатал отчет. Эраст Перцов — списал. Но этого даже сам Перцов не утверждает — его бы сразу уличили: ведь в рукописи есть факты, которых в «Колоколе» нет. Герцен, к примеру, сообщает, что князь Меншиков выступал на совете, а у Перцова сказано, что не выступал.
Вариант № 3.
Это вариант самого Перцова, в который поверили (или сделали вид, что поверили) жандармы:
"Я списал у какого-то человека, с какой-то рукописи. А потом выправил по "Колоколу".
Легко доказать, что никакой правки по «Колоколу» в этих карандашных записях не видно. Заметные различия с «Колоколом» сохранились, а была бы правка — исчезли бы различия.
Жандармы отчего-то (мы еще потолкуем дальше — отчего) больше не приставали к Перцову с этой рукописью.
А как на самом деле было? А на самом деле было, думаю, так.
Сначала Перцов составил для пересылки Герцену тот самый текст, который у него нашли (откуда отставной чиновник, литератор узнал подробности секретного заседания, читатель, наверное, уже догадывается). Готовую рукопись он, однако, не послал Герцену, прежде чем не уточнил и не отредактировал ее. Уточнения имели определенный характер: были смягчены все места, которые могли бы прямо или косвенно задеть Александра II (видно, автор не хотел обижать "героя дня", все же не согласившегося с самыми ярыми крепостниками). Зато усилены отрицательные характеристики самих крепостников. Пока набросок отчета лежал у Перцова, подоспели новые сведения. Стало, например, известно, что Меншиков не только "молчал и бесился", но и высказался сам.
Можно понять и отчего в «Колокол» не были посланы фамилии тех, кто были "против проекта". Некоторые из упомянутых крепостников (Мейендорф, Н. И. Корф) голосовали на самом деле вместе с царем и либералами. Перцов, вероятно, в последний момент узнал, что его сведения не совсем верны, и вообще не стал перечислять фамилии.
И уже перед самой отправкой материалов в Лондон автору стало известно кое-что о новом заседании Государственного совета — от 30 января…
После этого я принялся за расчеты…
Отчет появился в «Колоколе» 1 марта 1861 года (17 февраля по ст. ст.). Редакция сообщала о том, что письмо получено «сейчас». Послание из Петербурга в Лондон при самых благоприятных обстоятельствах шло 10–15 дней, то есть было отправлено где-то на рубеже января — февраля. Но ведь Перцов еще успел сделать примечание о заседании Государственного совета от 30 января. Выходит, 31 января — 1 февраля — вот примерная дата отправки. Значит, через несколько дней после заседания 28 января отчет о нем был послан в Лондон. Причем это уже была вторая редакция отчета. Первая же, конечно, была составлена совсем по горячим следам. 29 или 30 января 1861 года.
Эраст Перцов очень быстро узнал подробности секретных заседаний 26 и 28 января, очевидно, от младшего брата: Владимир Петрович Перцов стоял достаточно высоко на служебной лестнице, чтобы многое знать, но в то же время недостаточно высоко, чтобы быть участником дискуссий на "самом верху"; на заседания Государственного совета его не пустили, — отсюда ошибки, неточности. Подробности же В. П. Перцов мог узнать, например, от министра внутренних дел С. С. Ланского, который, судя по всему, благоволил к способному начальнику отделения. Ланской, конечно, и мыслить не мог, что, беседуя с одним из своих близких подчиненных, он уже почти вступает в разговор с Герценом и Огаревым.
Дальше все было просто: Эраст Перцов в спешке записал или переписал важные известия, добытые братом (спешку обнаруживают два чередующихся почерка), и каким-то конспиративным путем отправил корреспонденцию Герцену.
Выходит, в начале 1861 года, когда уже велась слежка за Перцовыми, за несколько месяцев до расправы, они все продолжали посылать Герцену важнейшие материалы, сокровенные тайны петербургской власти.
Если соединить то, что мы знаем о взглядах Эраста Перцова ("топоры" и пр.) и о тех документах, которые у него нашли; если вспомнить корреспонденции из министерства внутренних дел во втором и десятом номерах «Колокола», текст "Письма к редактору" в 1858 году да еще анонимный донос 1860 года; если добавить «пугача», "коронованного юнкера" и некоторые иные факты, то, казалось бы, можно не сомневаться: Владимир Перцов, чиновник министерства внутренних дел, и его старший брат Эраст — вот кто добывал и посылал Герцену важнейшие секретные материалы.
Все как будто становится ясным.
Впрочем, это так только говорится — «всё»…
* * *
Вот, например, судьба Эраста Перцова. Его забрали осенью 1861 года, в горячее время, когда революционное движение усиливается, а правительство свирепеет. Ему вроде бы несдобровать… Но, признаюсь, я с изумлением перелистываю заключительные страницы дела. Судить Перцова решили специальным закрытым судом (не следует допускать, чтобы в обычном суде зачитывали изъятые при обыске «возмутительные» стихотворения, задевающие императорскую фамилию!).
22 сентября 1861 года управляющий III отделением граф Шувалов подписывает заключительный документ по делу Эраста Перцова (царь и шеф жандармов все еще отдыхают в Крыму). Решение для осени 1861 года было на удивление мягким.
Ill отделение не увидело преступления в сношениях Э. Перцова с Герценом. Э. Перцова освободили также от подозрения "в пересылке Герцену материалов". На политических взглядах арестованного, в частности на вопросе о «топорах», Шувалов также не останавливается. Э. П. Перцова, но существу, признали виновным только в "оскорблении императорского величества и членов императорского дома", имея в виду его стихотворения.
Когда Шувалов извещает шифровкой шефа жандармов В. А. Долгорукова, что "в бумагах Эраста Перцова не обнаружено фактов передачи Герцену", Долгоруков в ответной телеграмме удивляется: "Как может переписка Перцова с Герценом не быть достаточной уликой для обвинения?" Шувалов настаивает: "Перлюстрация на Герцена не указывает и бумаги Перцова в этом не уличают".
За легкое "оскорбление величества" Э. Перцова приговаривают к году крепости и высылке в Вятку. Он тут же заявляет о своем слабом здоровье, и приговор смягчается: крепость отменена, а Вятка заменена Новгородом.
Уже через год, осенью 1862 года, Э. Перцову разрешено вернуться в Петербург…
В Рукописном отделе Ленинской библиотеки я случайно обнаруживаю любопытное письмо В. А. Кокорева (известного миллионщика, человека довольно осведомленного), адресованное историку М. П. Погодину: "Перцов освобожден и назначен к высылке в Новгород. Очевидно, это одна только форма взыскания". Еще и еще раз спрашиваю себя и документы: "Что за странный либерализм в отнюдь не либеральное время?" Я уже закончил работу в архиве и все дела сдал, но ответа на свой вопрос так и не смог найти. Его явно не хватало, я это чувствовал, но что делать? Ведь в таких делах всегда существует множество важных обстоятельств, о которых когда-то было сказано наедине, в кабинете важной персоны, но упаси боже заносить что-либо на бумагу!
По-прежнему я продолжал заниматься близкими сюжетами, Герценом и его печатью. Поэтому по-прежнему верил в новое пришествие случая. Не знаю уже теперь, случайно или нет, взялся перебирать воспоминания и дневники государственных деятелей тех лет, но, уж конечно, чистая случайность, что как раз в это самое время под редакцией профессора П. А. Зайончковского вышли отлично изданные два тома дневников П. А. Валуева, министра внутренних дел (который, между прочим, весной 1861 года заменил престарелого С. С. Ланского).
Смотрю в именной указатель к «Валуеву»: Перцовы обнаруживаются на 111-й странице первого тома: "1 сентября (1861). В городе разнеслась, наконец, молва о взятии под арест нескольких лиц и забрании их бумаг. В том числе взят Перцов-старший, брат бывшего начальника отделения в Департаменте общих дел, factotum'a графа Шувалова".
"Бывший начальник" — это, конечно, Владимир Петрович. Латинское слово factotum означает: "исполнитель любых поручений". Вот оно что: Владимир Петрович — близкий человек к Шувалову?.. Снова открываю "Журналы МВД".
Оказывается, граф Петр Андреевич Шувалов 12 ноября 1860 года был назначен директором департамента общих дел этого министерства, то есть стал непосредственным начальником Владимира Перцова.
Перелистываю дальше. Внимание! 18 апреля 1861 года — то есть через полгода — Шувалова перемещают: он становится управляющим III отделением (и в этой должности пять месяцев спустя занимается делом Эраста Перцова).
Значит, полгода Шувалов и Владимир Петрович Перцов работали вместе. Я отмечаю еще, что в отставку Владимир Петрович ушел равно через пять дней после перехода Шувалова в III отделение, 23 апреля 1861 года. Вряд ли это случайность!
И еще замечаю, что сведения о секретных заседаниях Государственного совета В. П. Перцов добывал в январе 1861 года — как раз когда служил под началом Шувалова.
Валуев, человек ядовитый, наверное, многое знал о Шувалове и Перцове и на многое намекал, бросая словечко "factotum"… Какие же поручения, "любые поручения", исполнял для Шувалова Перцов? Но ведь это и есть то самое, что не доверяют бумаге!
Впрочем, я все отталкиваюсь от Перцовых. А если попробовать от Шувалова? И несколько дней занимаюсь малоприятной персоной графа Петра Андреевича Шувалова…
Он еще молод, для своих должностей поразительно молод. Правда, статистики вычислили, что графам карьера дается в среднем в полтора раза легче, чем нетитулованным лицам. Но все же в тридцать три года управлять III отделением — это успех даже для графа Шувалова.
Обсуждая взгляды графа Петра Андреевича, легко могли ошибиться и тайные советники и тайные революционеры… Петр Андреевич был абсолютно беспринципен, но умел этим своим качеством так распорядиться, что беспринципность его казалась каким-то особенным, до того неизвестным видом принципиальности. Просто он, вопервых, все понимал; во-вторых, как умный человек, понимал несколько раньше других и начинал действовать сообразно тому, что понял. Действовать решительно, твердо и убежденно… В двадцать девять лет он был генералом и петербургским обер-полицмейстером. В "либеральное время" — 1857–1858 годах — умный полицмейстер несколько ограничивал "зубодробительные и искросыпительные…", и о нем сразу заговорили… Александр II запомнил. А в печати Герцена появилась корреспонденция, сообщавшая, что. все полицмейстеры норовят "в морду", за исключением разве Шувалова, склонного к увещеваниям.
Так Шувалов на короткое время сделался весьма редкою персоною, чьи действия одобряли одновременно и Александр Иванович Герцен, и Александр Николаевич Романов.
Но меня особенно занимают мысли и действия Шувалова в 1861 году. Из воспоминаний современников узнаю, что, получив предложение возглавить III отделение, граф был изрядно смущен.
С одной стороны — весьма лестно. С другой — он предпочел бы какое-нибудь иное место. Конечно, за государем служба не пропадет. Но… даже управлять III отделением — служба полицейская. И в самых высоких салонах, где, разумеется, понимают пользу и значение таких должностей, все же какая-нибудь княгиня или граф невзначай скажет: "Пьер Шувалов — ах, это тот, который по полицейской части!.."
Да еще по должности нужно хватать, сажать, следить… Положим, графа эти действия сами по себе вовсе не пугали, но время было тяжелое: Герцен шум поднимет, все узнает, ославит. А Герцена читают тайком и в университетах, и во дворце… И те же графы и княгини, которые, конечно, лондонских преступников всячески осуждают, будут листать «Колокол» и противно ухмыляться.
И, наконец, очень важное соображение: граф, опять-таки как умный человек, ясно видит: 1861 год, трон шатается, возможен бунт, даже революция. Что тогда?
Чернышевский и Герцен — президенты, премьеры республики. А кому висеть на первом фонаре — лучше и не думать! Но граф думал и об этом.
Ill отделение он принимает (отказаться — конец карьере) и одновременно… извиняется перед Герценом.
15 мая 1861 года «Колокол» писал: "Быть преемником Мордвинова, Дубельта и Тимашева{11} — дело нелегкое! Если Шувалов дорожит своим именем, то, приняв, как говорят, a contre coeur место (непростительная слабость!), пусть же сделает его ненужным".
Как было видно из этих строк, Герцен соглашается немного подождать действий нового «обер-шпиона», прежде чем воздать ему по заслугам: кто-то передал в Лондон, что Шувалов не хотел брать этого места.
Уже давно известно, кто передал: сам Шувалов. Понятно, граф не писал Герцену собственной рукой. Известно, и кто писал: factotum графа, начальник отделения в департаменте общих дел министерства внутренних дел…
Вы думаете, конечно. Перцов? Нет! В департаменте было не одно отделение.
За двенадцать дней до отставки Владимира Петровича Перцова у него появился новый коллега-начальник «соседнего» отделения того же департамента. Это был жандармский подполковник Степан Степанович Громека. Подполковник слыл либералом, бойко печатался во многих газетах и журналах, многое знал и между прочим регулярно посылал довольно ценную информацию в Лондон — Герцену, перед которым в те годы буквально преклонялся (позже Громека «исправился» — отказался от "заблуждений молодости", исправно делал карьеру, расправлялся с бунтующими поляками, дослужился до генеральских погон и губернаторского оклада).
В сохранившемся письме Герцену от 18 апреля 1861 года Громека цитировал другое очень интересное послание: граф Шувалов пишет шефу жандармов Долгорукову и пытается как-то уклониться от службы в III отделении!..
Спустя три недели, II мая, Громека снова шлет в Лондон письмо, которое тоже сохранилось:
"Месяц тому назад Шувалов затащил меня в министерство внутренних дел… Когда он шел в III отделение, он очень искренне боялся «Колокола» и от чистого сердца благодарил меня за письмо, из которого отрывки я уже сообщал вам".
Вот, оказывается, как было дело! Шувалов пишет письмо шефу и дает скопировать своему подчиненному — Громеке, чтобы тот передал текст Герцену, тому самому Герцену, который для управляющего III отделением — враг номер один! Вот каковы были времена.
Вот что делал граф Шувалов, чтобы "невинность соблюсти и капитал приобрести".
Над этим таинственным письмом я долго размышляю. Зная характер графа, глубоко сомневаюсь, чтобы он в самом деле отправил уклончивое послание шефу — Долгорукову. (Разумеется, в архивах оно не найдено. Зачем? Ведь это опасно.)
Что подумает шеф, если вдруг узнает, что адресованное ему секретное письмо графа Шувалова известно Герцену?
Шефу жандармов пришлось бы тогда решать, кто корреспондент революционной печати: он сам или управляющий III отделением? Затем я соединяю «нити» — от Перцова и от Шувалова. Первое: два начальника отделения у Шувалова — Громека и Перцов — были важными корреспондентами Герцена. Второе: оба были «фактотумы» Шувалова.
Третье: о связях Громеки с Герценом Шувалов знал, этими связями пользовался. Имею ли я право предположить, что граф-авантюрист знал и пользовался связями Владимира Петровича Перцова?
По-моему, имею. Что знал Шувалов, каковы были его беседы с Перцовым — загадка. Понятно, «протоколы» таких бесед не составлялись. Кто знает, может быть, Шувалов приложил руку к пересылке в Лондон отчета о тайном заседании Государственного совета.
Зачем? Да хотя бы для того, чтобы насолить коллегам, загнав их под «Колокол». Случись революция — Шувалов, верно, тут же предъявил бы "оправдательные документы": имел, дескать, сношения с Герценом и заслуживаю снисхождения…
Остальное мне кажется довольно понятным: 18 апреля 1861 года Шувалов вступает в управление III отделением. Вероятно, в первые же дни по должности он узнает, что за его фактотумом — Перцовым — идет слежка. Перцов предупрежден и 23 апреля подает в отставку. Когда же через несколько месяцев попадается Эраст Перцов, Шувалов начинает двойную игру: не дать хода делу он не может — слишком рискованно! — и Эраста Перцова забирают.
Но управляющий III отделением старается замять дело: иначе всплывут кое-какие подробности лично о нем… Для его комбинаций весьма кстати, что шеф жандармов вместе с царем отдыхают в Крыму.
И вот из следствия исключается все, что ведет к Владимиру Перцову: оно полностью сосредоточивается на Эрасте.
Именно Шувалову выгодно было изъять из дела обвинение о связях Эраста Перцова с Герценом. Шувалов, конечно, добился и сравнительно мягкого приговора. Может показаться, что граф — почти что ангел в голубом мундире… Но все очень просто: Шувалов защищал себя. К осени 1861 года он отцепил от мундира "ангельские атрибуты" и начал действовать откровенно: где-то, особым нюхом, почувствовал, что его судьба и карьера требуют решительных действий, что революционная партия и народ еще недостаточно сильны и организованны, что их еще можно задавить, а на «задавлении» отлично выслужиться. И вот — он уже сам допрашивает арестованных по обвинению в распространении прокламаций, с большим рвением принимает "необходимые меры". Между прочим, посылает в Лондон кучу шпионов — готовит покушение на Герцена.
Но зато и Герцен не остается в долгу — граф не зря боялся «Колокола», вступая в должность: 15 декабря 1861 года 116-й номер герценовской газеты открывается статьей Герцена "Оклеветанный граф":
"На нашего графа Петра Андреича, как на всех людей неумеренно добродетельных, как на всех героев душевной прямоты, лгут; нам графа жаль, нам за Шувалова больно, мы хотим графа Шувалова оправдать…
На его сиятельство лгут, что он нашу скромную типографию окружил своими сотрудниками и велел им не спускать нас с уха. Что он дает им страшные деньги — и будто всс казенные…
…В наш ужасный век, развращенный вольнодумством, ослабли все священные связи, и даже в III отделении не все ангелы подслушивают и доносят…
Счастлив начальник, окруженный семьей таких сотрудников! Счастлива семья, собирающая вести и подслушивающая всю Вселенную для передачи такому графу…"
Граф Петр Шувалов в карьере преуспел. В конце 1860-х годов сделался всемогущим шефом жандармов, вторым лицом в империи. О нем Тютчев писал:
Над Россией распростертой
Встал внезапною грозой
Петр по прозвищу четвертый,
Аракчеев же — второй.
Многие тайны семьи Перцовых остаются нераскрытыми… Несколько десятилетий назад историк, ныне академик, Милица Васильевна Нечкина пришла к выводу, что и третий брат, Константин Перцов, чиновник особых поручений при казанском губернаторе (от него — пакет "брату Эраське"), посылал в Лондон подробное описание крестьянских волнений. Есть подобные «подозрения» и на других членов этой замечательной семьи…
После событий 1861 года Перцовы, однако, вряд ли продолжали нелегальную деятельность.
Что может быть труднее, губительнее для человека, для целого поколения, нежели тишина, многолетний застой после бурных лет, несбывшиеся надежды?
К середине 60-х годов старые бойцы погибли, ушли в Сибирь, сошли со сцены. Будущие подпольщики еще ходили в гимназию или спали в колыбели.
Многие из вчерашних помощников Герцена, Чернышевского сочли прямую борьбу бесплодной, ушли в другую деятельность. Что-то в этом роде, видно, произошло и с Владимиром Петровичем Перцовым. Лет десять спустя никто бы не заподозрил в постоянном сотруднике умеренно-либеральных журналов, отставном статском советнике, бывшего герценовского корреспондента, ошеломлявшего власть угрозой «топора». Но Владимир Перцов, уйдя со службы, был в расцвете сил — ему не было и сорока. Для Эраста Перцова все было куда сложнее и тяжелее… Ему уже под шестьдесят, и жизнь, конечно, не удалась. Были в этой жизни две кульминации, два высших взлета, подъема сил, духа, способностей: первый раз — когда Пушкин находил в нем талант, хвалил "стихотворные шалости", гостил в Казани. Второй раз — тридцать лет спустя, когда он беседовал с Герценом и добывал для него сокровенные тайны власти, когда сочинял свои замечательные записки…
В первый раз — в молодости — лучшие годы Эраста Перцова завершились доносом. И во второй раз — донос и арест… Его, правда, выпускают, но третьему взлету — он, конечно, знал — уже не быть. Впрочем, мы можем лишь гадать о последних годах Эраста Перцова. И о его причинах самоубийства в 1873 году, шестидесяти девяти лет от роду, "вследствие стесненных финансовых обстоятельств"…
* * *
Набежали новые занятия, задачи, проблемы. Братья Перцовы вспоминались часто — как добрые старинные знакомые.
Но среди новых дел я, случалось, задумывался о том, что надо бы еще поискать — найти какие-нибудь документы, разыскать потомков… С поисками документов дело не пошло: письма, бумаги Перцовых, очевидно, разбрелись между родственниками. Но как их найти? Может быть, взять все адреса Перцовых, обитающих в городе Москве, и каждого спрашивать: "Простите, вы не внук или правнук того Перцова, который знал Пушкина или Герцена?"
Известно, что Перцовы родом из Казани. Их дом был важным центром культурной жизни старого города. Кроме Пушкина, там бывали Лобачевский, Лев Толстой и другие замечательные люди… Но в Казань мне никак не удавалось съездить. — Нет ли у вас там архива Перцовых? — допрашивал я приехавшего в Москву казанского ученого Ефима Григорьевича Бушканца.
— А вы не смотрели у Петра Петровича Перцова? Ведь он наш, казанский, и, должно быть, из той же семьи.
Петр Петрович Перцов был довольно известным в свое время поэтом, философом, искусствоведом. Принимаюсь читать его воспоминания, вышедшие в 1932 году, и уже на первых страницах узнаю, что он — племянник Эраста и Владимира Перцовых, сын одного из младших братьев. У Петра Петровича нашлось много интересного про старую Казань, еще больше — о литературном мире на рубеже XIX–XX столетия. Вспоминал он, правда совсем немного, и о своих дядях.
Петр Петрович Перцов скончался в глубокой старости, уже после Великой Отечественной войны.
А как же найти потомков Эраста и Владимира Перцовых? Пишу в разные архивы, добываю справочные книги о Казани и Казанской губернии. Даже по радио обратился. Однако ничего нет.
Однажды прихожу на заседание научного студенческого кружка Московского историко-архивного института. Руководитель Сигурд Оттович Шмидт рекомендует меня как представителя "детективно-исторического жанра", и в качестве такового я долго и усердно рассказываю о таинственных героических корреспондентах Герцена, которых так трудно и интересно искать. Рассказал и о Перцовых.
Потом были вопросы, и одна девушка в очках задавала их настолько умело, что докладчик должен был с деланным смехом признать кое-какие ошибки и неточности своего изложения.
После того как все кончилось, Наталья Сергеевна Рогова подошла и задала еще один вопрос: желаю ли я познакомиться с ее знакомыми, которые — не кто иные, как… прямые потомки Владимира Петровича Перцова… "Случай ненадежен, но щедр…"
Так одним зимним днем мы оказались в квартире старинного домика в Молочном переулке. Здесь жила семья Перцовых: Екатерина Михайловна Перцова, ее сын, художник Владимир Валериевич Перцов, прямой правнук Владимира Петровича. Пока мы разговаривали, его жена, Татьяна Владимировна, распоряжалась бытом и поведением маленького Владимира Владимировича, того самого, чей прапрадед сто шесть лет назад копировал для Герцена секретные циркуляры и царские резолюции.
Мы долго разговаривали в тот вечер.
Я рассказывал про Владимира Петровича Перцова. И мне про него рассказывали. А с большого портрета на стене смотрел на нас молодой человек с лицом утонченным и насмешливым, в черном чиновничьем облачении — как полагалось в конце царствования Николая.
— Вот, — сказала Екатерина Михайловна, — Владимир Петрович… Вслед за тем она положила передо мною маленькую фотографию:
— Эраст Петрович…
Мы разглядывали старинные письма и фотографии, разветвленное родословное древо Перцовых. Рассказы о Пушкине и Герцене сохранились в семейных легендах, хотя многое за столетие забылось, приобрело фантастические очертания…
Но одну запись, сделанную Петром Петровичем Перцовым, запись, сохранившуюся в этой квартире, нельзя не включить в наш рассказ. В апреле 1940 года Петр Петрович записал:
"Если не считать Эраста Петровича, которого я знал, то Платон Петрович был единственным из моих дядей (взрослых), который помнил Пушкина. Он присутствовал на том обеде у Эраста Петровича (в сентябре 1833 года), где был гостем Пушкин. Обед происходил в большой зале нашего фамильного дома на Рыбнорядской улице (собственно, на Рыбной площади) в Казани (теперь улица Куйбышева).
Квартира наша помещалась во втором этаже, окнами на площадь. Теперь дом сильно перестроен: антресоли обращены в третий этаж, парадный подъезд уничтожен и пр. Из передней через боковую дверь попадали прямо в залу, и с этим связан рассказ, что Пушкин, приехавший в домашнем костюме, так как условился с Эрастом Петровичем, чтобы никого постороннего не было, очень смутился, увидав через эту дверь много народу в зале. Он подумал, что Эраст Петрович нарушил условие и назвал гостей, — попятился и хотел из передней улепетнуть домой. Но Эраст Петрович успел перехватить его и объяснил ему, что никого постороннего нет, а, несмотря на многолюдство, все это одна наша семья. Тогда Пушкин оправился и вошел в залу.
Платону Петровичу как раз в том сентябре минуло уже 20 лет, но тем не менее он не мог рассказать ничего запоминающегося об этом посещении или, вернее, я по своей тогдашней глупости (я был, конечно, поклонником Писарева) не умел его расспросить. Помню только его указание в нашей зале места, где сидел Пушкин: "Вот тут сидел я, а тут — Пушкин". Теперь как-то странно вспомнить это, странно думать, что знал человека, который обедал с Пушкиным.
После обеда Пушкин и Эраст Петрович сели играть в шахматы. Тут другое воспоминание — одного из младших дядей, Александра Петровича, которому было тогда 14 лет. Он мог вспомнить только огромный ноготь на пальце Пушкина, которым тот передвигал фигуры и который, видимо, запомнился ему как нечто ранее не виданное. Никаких других подробностей об обеде и об этой шахматной партии я, к сожалению, не могу сообщить. Не знаю даже, кто выиграл партию. А между тем, зная впоследствии (около 1890 года) вдову Эраста Петровича (я даже не раз пил у нее вечерний чай), я мог бы, конечно, обо многом ее расспросить. Но проклятая писаревщина сидела тогда почти во всех юношеских умах. А выпороть нас никто, увы, не догадывался…"
* * *
Я иногда открываю 26-й том академического собрания Герцена и отыскиваю «свое» письмо — то самое, которое обнаружилось в жандармских бумагах.
Письмо № 338. Дата: "после 13(1) мая 1858 года". Текст: "Я был у вас и не застал — зайду в четверг, завтра я занят".
Наверное, каждый день на земле пишутся сотни записок буквально такого же текста.
Может быть, самое главное — в истории, литературе, любом деле — помнить, сколько необыкновенного может скрываться вот за такой тривиальной строчкой…
Может быть, когда-то и мы узнаем все, что за ней скрывается. Ведь "случай ненадежен, но щедр…"
Глава 9 ПОХИЩЕНИЕ
Родился и жил я, подобно всем русским дворянам, в звании привилегированного холопа, в стране холопства всеобщего.
Князь Петр ДолгоруковРассекречивание самых важных царских, правительственных тайн не началось и не окончилось тем "щедрым случаем", который был представлен в прошлой главе. Сражение продолжалось, число участников увеличивалось, власть искала реванша… Когда шеф жандармов князь Василий Долгоруков приказал своему родственнику князю Петру Долгорукову немедленно возвратиться в Россию, то получил в ответ:
"…Зная меня с детства. Вы могли бы догадаться, что я не так глуп, чтобы явиться на это востребование. Впрочем, желая доставить Вам удовольствие видеть меня, посылаю Вам при сем мою фотографию, весьма похожую. Можете фотографию эту сослать в Вятку или Нерчинск, по Вашему выбору, а сам я — уж извините — в руки Вашей полиции не попадусь, и ей меня не поймать.
Князь Петр Долгоруков.
17(29) мая 1860 года. Лондон".
Это была не первая и не последняя выходка князя, разумеется, не столько против шефа жандармов и такого же потомка Рюрика и Михаила Черниговского, как он сам, сколько против менее знатной, но более преуспевшей фамилии Романовых. Последние, впрочем, не остались в долгу и вскоре обнародовали указ, объявивший "отставного коллежского секретаря князя Долгорукова" лишенным имения, титула, изгнанником и изменником. Князь — не первый и не последний дворянин, выступивший против своей власти и сословия: лондонская Вольная типография, возглавляемая двумя дворянами, Герценом и Огаревым, работала к тому времени уже седьмой год; из Сибири только что вернулись уцелевшие декабристы, среди которых — князья Волконский и Трубецкой, "аристократическая ровня" Долгорукову. Никогда еще, однако, в решительной оппозиции и эмиграции не оказывался человек, одновременно столь знатный и столь осведомленный. Много лет он записывал рассказы виднейших сановников и работал в почти совершенно недоступных архивах главных аристократических фамилий, собирая материалы для четырсхтомной "Российской родословной книги". И вот теперь в герценовском «Колоколе» было напечатано заявление Долгорукова:
"На будущее время я предполагаю издать следующие книги:
1) Россия с 1847 по 1859 год;
2) История заговора 14 декабря 1825 года;
3) История России;
4) Записки о России с 1682 по 1834-год;
5) Биографический и родословный словарь русских фамилий;
6) Мои собственные записки, начатые с 1834 года (они ускользнули от осмотра, произведенного III отделением в 1843 году)".
Программу эту князь не выполнил, но выполнял семь лет. Он писал и печатал статьи, материалы и документы об императоре и великих князьях, о нескольких десятках министров, генерал-губернаторов, послов, фаворитов и фавориток. Многие важные интимные подробности об этих персонах сопровождались пояснениями автора: "Я сам слышал…", "В беседе со мною…", "Мне сообщили об этом…" — и далее ссылка на весьма авторитетные имена. Князь писал недурно — Герцен даже ставил его как журналиста в пример Огареву. В его статьях был, пожалуй, лишь один явный недостаток, о котором довольно точно написал однажды Долгорукову близкий приятель:
"Княже Петре!.. тебя читаешь, читаешь, а вдруг шум раздается, как будто тяжелая оплеуха упала на какую-то щеку, немножко опомнишься, продолжаешь читать, страницу перевернул, вдруг бум! Опять раздалась оплеуха, и на другой щеке, так что иногда невольно жаль становится всех этих щек, а если бы то же понежнее сказать, можно бы так было устроить, что их совсем не жаль, а напротив, они еще смешны".
Эта манера князя также немало раздражала Герцена, и когда он давал коллеге-эмигранту "место под колоколом", то был готов к бурным сценам, даже к вызову на дуэль за попытку разбавить крепчайшие «долгорукизмы».
Однако "издержки характера" все же не уничтожали смысла публикаций, и лидеры заграничной вольной прессы продолжали выступать единым фронтом…
Сейчас нам трудно представить, что в 1860-х годах имя Долгорукова для многих друзей и врагов стояло рядом, чуть ли не наравне с Герценом. Более того, в каком-то смысле высшие власти боялись Долгорукова даже больше, чем Искандера. Герцен был много опаснее по силе влияния на десятки тысяч грамотных читателей: он воспитал целое поколение протестующих дворян и разночинцев, его необыкновенный литературный и публицистический талант притягивал часто даже людей инакомыслящих, но завороженных блеском и мастерством. Однако Герцен и Огарев все же никогда не были так близки к верхам, чтобы лично знать едва ли не всех своих противников. Другое дело — Долгоруков, сам выщедший из того мира, который теперь сделал мишенью.
Войну с долгоруковскими изданиями петербургские власти вели без устали. Газету «Будущность», выходившую в Париже, пришлось прекратить, так как французские издатели потребовали переменить программу. Почувствовав тут руку российской полиции и дружественной к ней французской, князь решил следующую газету печатать уже в Лейпциге. Однако и тут после посещения типографии русским консулом (оставившим там известную сумму денег) пришлось менять почву, и третья газета уже появилась в Брюсселе. Весной 1863 года, ожидая прямой атаки бельгийских властей, Долгоруков перенес издание в Лондон, позже перебрался в Женеву. Князь старел, толстел, делался все нетерпимее и злее, устраивал сцены любому подвернувшемуся ему русскому аристократу (те бегали от него в Швейцарии, как от прокаженного). По словам Герцена, он "как неутомимый тореадор дразнил без отдыха и пощады, точно быка, русское правительство и заставлял дрожать камарилью Зимнего дворца".
Правительство мстило как могло, порой больно. В 1863-м в России впервые было опубликовано мнение некоторых близких к Пушкину людей, будто 3 ноября 1836 года именно девятнадцатилетний Петр Долгоруков вместе с двадцатидвухлетним Иваном Гагариным написали зловещий анонимный диплом-пасквиль против Пушкина, приведший к смертельной дуэли (об этом уже говорилось в главе шестой). В ту пору многие, в том числе и Герцен, не поверили этой новости: очень уж «кстати» появилось обвинение против эмигранта. Долгоруков и Гагарин, разумеется, все решительно отрицали…
В политических боях и желчных взрывах Долгоруков временами, казалось, был склонен помириться с Петербургом, вернуться, но снова вскипал и пускался на врага. Выполняя свое раннее обещание написать историю России за полтора последних столетия, он начал публикацию своих "Записок о России". Первый том вышел на французском языке в 1867 году и кончался временем Екатерины II. Отсюда следовало, что наиболее острые и интересные главы будут в следующих частях. Однако летом 1868 года пятидесятидвухлетний княаь просит спешно приехать Герцена, с которым незадолго до того были порваны отношения.
Герцен застает Долгорукова при смерти и крайне раздраженным. Прежде он угрожал властям, что сделает какие-то особые, сокрушительные публикации, если в России тронут его сына. Но теперь, когда единственный сын прибыл к умирающему отцу, эмигрант подозревает — и не без оснований, — что наследник хочет увезти в Россию и сдать властям все секретные бумаги. Приезд Герцена окончательно решил судьбу архива: умирающий завещает его польскому эмигранту Станиславу Тхоржевскому, своему другу и многолетнему сотруднику Герцена; душеприказчиками, обязанными следить за сохранностью и последующим опубликованием бумаг, объявляются Герцен и Огарев.
Князь умер 6 (18) августа 1868 года. О его смерти было доложено Александру II, и новый шеф жандармов Петр Андреевич Шувалов (тот самый, что появлялся в прошлой главе) получил несколько необычный царский приказ — захватить или уничтожить архив Петра Долгорукова. Прежде Александр II формально не опускался до "черной работы" III отделения и даже не всегда, как мы знаем, позволял себе докладывать о перехваченных письмах (это, дескать, дело жандармских чинов, царь таких подробностей знать не должен). Однако здесь, в начале 1869 года, последовало недвусмысленное (разумеется, устное) — добыть (то есть выкрасть).
Петр Андреевич Шувалов ("Петр IV") дал распоряжение своему помощнику Филиппеусу, заведовавшему секретной агентурой III отделения, тот переговорил с кем следует, и вскоре перед высоким начальством предстал Карл-Арвид Романн, которому доверялось секретное задание царя. Первый объект — архив Долгорукова. В инструкции подчеркивалось: особенное внимание агент должен обратить на "частную переписку" покойного князя. Правительство боялось опасных документов, которыми Долгоруков грозился, если обидят его сына.
Второе задание, полученное Романном, было связано с поисками Сергея Нечаева, крайнего революционера, который перед тем в Москве убил своего товарища, не согласного с его методами. Нечаев бежал за границу, но русские власти требовали его выдачи как уголовного преступника. Итак, Сергей Нечаев и архив Долгорукова… Агент Романн, которому теперь предстояло играть роль странствующего путешественника и отставного подполковника Николая Васильевича Постникова, был знатоком своего дела.
Вообще III отделение не имело больших штатов и было организацией сравнительно примитивной. России до поры до времени для всеобщего устрашения и усмирения было достаточно нескольких десятков сотрудников, сидевших в знаменитом доме у Цепного моста, и нескольких сотен вспомогательных персон: ведь по их приказу и министры и генералы были обязаны "всячески содействовать". Другое дело, когда работа "всероссийской шпионницы" (излюбленное выражение Герцена и Долгорукова) переносилась за границу. Тут приходилось труднее: нужны были специальные (хотя бы знающие французский язык) кадры. Филиппеус позже гордо писал своему начальству, что именно он привлек настоящих сотрудников, в том числе Романна, в то время как при вступлении в должность обнаружил в штатах агентов весьма сомнительных.
Итак, летом 1869 года Карл Романн, он же Николай Постников, выехал из Петербурга в Швейцарию, где находились почти все русские эмигранты. Там шпион надеялся выполнить обе свои миссии.
Материалы III отделения, относящиеся к поездке и действиям Романна, были обнаружены еще в 1920-х годах историком и журналистом Р. М. Кантором, который рассказал о своем открытии в интересной работе "В погоне за Нечаевым", выдержавшей два издания и давно ставшей книжной редкостью. Однако обращение к тем же материалам III отделения, с которыми работал Кантор, показало, что некоторые любопытные документы и подробности в его книгу не вошли: возможно, автор был ограничен определенным размером труда (грустное обстоятельство, хорошо знакомое всем, кто печатается); не исключено также, что особый интерес Кантора к истории погони за Нечаевым (о чем говорит и заглавие книги) несколько ослабил внимание автора к долгоруковской истории.
Женева, лето 1869 года. Примерно месяц понадобился Постникову, чтобы войти в доверие к эмигрантам. Его задача облегчалась трудным положением, в котором находились тогда Огарев, Бакунин и их друзья (Герцен жил в Париже). Вольная печать шла слабо, издание «Колокола» прекратилось, в России было сравнительно тихо: еще не ощущались подводные течения, несшие страну в горячие семидесятые годы, к народничеству и цареубийству 1 марта 1881 года. И вот в сферу апатии, нужды, бездеятельности вторгается энергичная личность, явно располагающая деньгами и стремящаяся разумно их отдать "общему делу". Огарев, Бакунин, Тхоржевский познакомились со странствующим подполковником и поверили ему.
И до того агенты тайной полиции, конечно, появлялись вблизи эмигрантов, но не раз это кончалось провалом. Правда, в 1862 году шпион навел все же охранку на след одного из посетителей Герцена, у которого нашли важные бумаги, и это дало повод к арестам; еще кое-каким агентам удалось просочиться в русское подполье и сохранить инкогнито (что стало известно почти век спустя). Однако при всем том прежние агенты III отделения не обладали тем сплавом опыта и нахальства и такими средствами и полномочиями, как Романн. Из его отчетов, между прочим, видно, что он умел легко, даже талантливо настраиваться на либеральный, революционный лад. Возможно, агенту приходили на помощь воспоминания юности, когда эти убеждения были ему не чужды (недаром власть так ценила перебежчиков из противного лагеря). Романн, кажется, иногда до того входил в роль, что и впрямь на минуты или часы начинал мыслить, как его противники, и в те минуты, часы, когда беседовал с Бакуниным и Огаревым, искренне не любил самодержавия…
Так или иначе, но он быстро продвинулся к цели: ни Тхоржевский, ни даже Герцен не могли в то время при всем желании издать бумаги покойного князя. Постников же хочет купить и напечатать секретные рукописи за свой счет, то есть исполнить завещание Долгорукова. И наступает день, когда Тхоржевский подает Постникову (согласно отчету последнего от 2/14 сентября 1869 года), "в красивом переплете тетрадь, на крышке которой золотыми буквами вырезано: "Список бумагам князя П. В. Долгорукова". Тетрадь заключает в себе 56 страниц, "исписанных одними заглавиями".
"Вся первая комната, — докладывает агент, — за отделением небольшого прохода, от полу до стены аршина на два была наполнена кипами перевязанных пачек бумаг.
Тхоржевский повел меня в первую комнату и дозволил, по моему усмотрению, взглянуть на бумаги. Я взял на выдержку, причем Тхоржевский сам подал мне некоторые бумаги Карабанова{12}, на которые он обращает, как я успел заметить, особенное внимание. Я не мог отказать ему во внимательном чтении, а чтение очень трудное, ибо бумаги написаны по старинным правилам грамматики и почерком крайне неразборчивым. Касаются они Екатерины II вообще, ее двора и господствовавших при ней партий…" Затем Романн упоминает материалы о декабристах, среди которых "собрания биографий и записок Бестужева, Рылеева, Муравьева и других, письма к Долгорукову от Некрасова, Гюго, Гарибальди, Бисмарка, Кавура и других литературных, революционных и политических деятелей…"
"Больше просмотреть не успел, было уже поздно, и то на пересмотр я употребил около двух часов…"
На полях этого отчета — резолюция, кажется, рукою самого графа Шувалова: "Я прошу копию этого письма". Возможно, для царя. Теперь агенту предстоял самый трудный экзамен. Тхоржевский и Огарев согласились на продажу бумаг; требовалось одобрение Герцена, который обычно распознавал недруга тоньше, чем его друзья.
Проницательность Герцена была известна начальству Романна и даже учтена в инструкции. "Имея в виду Вашу инструкцию, — отчитывался агент Филиппеусу, — я воздерживался от свиданий с Герценом, пока не вынужден был к тому".
Готовясь к встрече, Постников "внутренне перестраивался" и, видимо, для вхождения в роль первые отчеты из Парижа писал более развязно, чем прежние, а 16 (28) сентября даже осмелился рекомендовать начальству реформу российской гвардейской жандармерии на манер французской. Тут он зарвался, потому что на полях отчета Филиппеус начертал: "Его не спросили!"
В начале октября 1869 года Герцен принял Постникова, и рапорт агента об этой встрече заслуживает воспроизведения, потому что у Кантора он опубликован неполно, больно хорош сам по себе.
Письмо К. А. Романна — К. Ф. Филиппеусу от З.Х.1869 г.
"Не оставалось другого выхода, как идти к Герцену, ибо затянуть к нему визит значило бы избегать с ним свидания, и в этом отношении я не ошибся, ибо Герцен меня уже поджидал. Я постиг этих господ: с ними надобно быть как можно более простым и натуральным.
Я не знаю, родился ли я под счастливой звездой в отношении эмиграции, но начинаю верить в особое мое счастие с этими господами. Признаюсь, я почти трусил за успех, но, очутившись лицом к лицу с Герценом, все мое колебание исчезло. Я послал гарсона сперва с моей карточкой спросить, может ли г. Герцен меня принять. Через минуту он сам, отворив двери номера, очень вежливо обратился ко мне со словами: "Покорнейше прошу". Следовало взаимное рукопожатие и приветствия, после чего Герцен сказал мне: "Я еще предупрежден был в Лондоне о вас, но, приехав сюда, я начал терять надежду вас видеть". Я ответил на это, что виною тому был Тхоржевский, выразившийся весьма неопределенно относительно права моего говорить с ним, Герценом, относительно бумаг.
Я был принят Герценом чрезвычайно хорошо и вежливо, и этот старик оставил на меня гораздо лучшее впечатление, чем Огарев. Хотя он, когда вы говорите с ним, и морщит лоб, стараясь как будто просмотреть вас насквозь, но этот взгляд не есть диктаторский, судейский, а, скорее, есть дело привычки и имеет в себе что-то примирительное, прямое. К тому же он часто улыбается, а еще чаще смеется. Он не предлагал мне много вопросов, а спросил только, где я воспитывался и намерен ли всегда оставаться за границей. На последний вопрос я отвечал осторожно, что надеюсь. Взамен скудости вопросов Герцен, видимо, старался узнать меня из беседы со мною. Он сам тотчас заговорил о деле. Я ему показал второе письмо Тхоржевского, на которое, улыбаясь, он сделал следующие замечания:
1) нельзя заключить, чтобы оно было написано бывшим студентом русского университета,
2) о других покупателях ему ничего не известно и
3) относительно того, чтобы ближе познакомиться, Герцен полагает достаточным нравственное убеждение, а не годы изучения человека. Есть нравственное убеждение, как он говорил, — ну, и достаточно.
Мы беседовали более двух часов и вот что постановили: он, Герцен, на продажу мне бумаг совершенно согласен, о чем он Тхоржевскому и напишет и попросит у него решительного ответа в отношении условий, ибо он, Герцен, не хочет взять на себя быть судьею в цене. Он напишет Тхоржевскому на днях весьма обстоятельно и подробно, чтобы избежать всякого дальнейшего недоразумения, и предоставить ему, если он желает, самому приехать сюда и втроем решить дело. Во всяком случае, Герцен хотел или лично, или по городской почте дать мне ответ через неделю. При этом, когда я захотел написать свой адрес, то он проболтался и сказал, что его знает, назвал гостиницу. Адрес ему сообщил, конечно, Тхоржевский, и он уже справлялся.
После часовой беседы, исключительно посвященной намерению моему купить бумаги для издания, Герцен пригласил меня завтракать с ним. Я отказывался, но он настоял. К завтраку вышла из другой комнаты жена и дочь — 11 лет. Первая из них женщина уже в летах, носит волосы с проседью, коротко остриженными. Она более серьезна, чем муж, и расспрашивала меня о развитии женщины в России и не будет ли наконец основан женский университет. Дочь была одета очень опрятно и чисто, с гладко зачесанными и в косички заплетенными волосами, говорила с родителями по-французски. У Герцена лицо красноватое, губы черные, небольшая борода и назад зачесанные волосы, почти совершенно седые. Вообще я заметил, что как господин, так и госпожа Герцен в приемах своих люди совершенно обыкновенные смертные. За завтраком г-жа Герцен и дочь остались недолго и ушли в свою комнату, причем дочь поцеловала отца".
Постников, как видим, чувствует себя перед Герценом, как перед высшим начальством противной стороны, и даже в отчете III отделению по инерции почтительно вежлив к самому Искандеру, "совершенно обыкновенному смертному".
"Мы остались вдвоем, — сообщает затем Романн, — и продолжали беседу, которую мне невозможно передать в мельчайших подробностях. Но вот характерные ее черты:
1) Герцену очень понравилась выраженная мною ему мысль печатать бумаги отдельными брошюрами и выпусками, например, взяв какой-либо интересный исторический факт из жизни того или другого царствования. "Если вы так хорошо знакомы с делом издания, то бумаги не пропадут в ваших руках", — сказал он. Доказательство — изданная им брошюра.
2) Печатать, если я захочу, то могу удобнее всего в Женеве. В противном случае Герцен советовал бы мне печатать в Брюсселе, где печать обходится недорого.
3) Бумаги покойного князя хотя и не все, но ему, Герцену, положительно известны как документы высокого интереса в историческом или политическом отношении — за это он формально ручается.
4) Если бы я последовал его совету, то он указал бы мне на такие бумаги, которые можно бы по-русски напечатать здесь и при участии какого-либо влиятельного лица испросить разрешение на продажу такого издания в России, где оно имело бы громадный успех, а потому дало бы большую выгоду. Я поблагодарил его за совет, выразив все трудности исполнения такого плана. 5) Спросил меня, не желаю ли я избрать себе посредника в оценке бумаг. Я ответил, что позволяю себе рассчитывать на его нравственный авторитет и собственную мою оценку.
6) Обещал мне составить черновой контракт. Для него, как он говорил, это не составит никакого труда…
Не припомню всех остальных подробностей разговора моего с Герценом. Он рассказывал мне, смеясь, много анекдотов из собственной жизни покойного князя П. В. Долгорукова, с которым он, Герцен, в последнее время не был в хороших отношениях.
Вообще я крайне доволен первым свиданием с Герценом. Дал бы бог скорее покончить благополучно; надобно вооружиться крайним терпением.
P. S. Герцен заверял меня, что он снова намеревается издавать Колокол…"
(Важное свидетельство: Герцен не раз говорил, что не считает «Колокол» прекращенным, что лишь «язык» его "временно подвязан". Теперь оказывается, что и за три месяца до кончины он готов был снова возобновить газету.)
На следующий день они снова встретились: "Ровно в 12 час. Александр Иванович зашел ко мне якобы с визитом, я был почти уверен в его деликатности, которую я, конечно, понимаю по-своему — очень хорошо, а потому его посещение меня нисколько не удивило. В полтора часа он ушел…"
В окончательном отчете Филиппеусу о нескольких встречах с Герценом Романн с гордостью сообщал о своих успехах:
"Между прочим, Герцен сделал внезапно вопрос, где у меня деньги. Надобно было отвечать, не задумываясь. Напомнить о какихлибо сношениях с Россией было опасно, а потому я смело ответил, что во Франции".
Агент все же попытался сэкономить жандармские деньги. "На замечание мое, — жаловался Романн, — что цена… чересчур высока, Герцен сказал, что по богатству материалов он ее не считает высокою, да об этом вообще я должен говорить с Тхоржевским. Конечно, я буду торговаться до последней возможности".
"Торговля" шла так. Тхоржевский называл цену из Женевы; Романн шифровкою передавал из Парижа в Петербург, оттуда шел запрос в Ливадию, где находились царь и шеф жандармов. На запрос «7000» последовало из Ливадии: "Желательно не выше четырех, но можно и до пяти тысяч".
Но мало того, Герцен еще раз письменно подтвердил Постникову (и тот в доказательство своих успехов представил письмо в III отделение, где оно и было найдено советскими историками), что основное условие продажи — обязательное издание всех долгоруковских секретных бумаг.
Конечно, проще всего Постникову получить ценою любых обещаний бумаги и скрыться. Однако агент толков и честолюбив. Он не желает неприятностей своему правительству в случае огласки, экономит его финансы и к тому же предлагает обернуть все дело в пользу своих. Он-то сам достаточно умен, чтобы понять: многие исторические материалы из долгоруковского собрания можно опубликовать, особенно если подача документов и комментарии будут легки и безобидны. На пороге 1870-х годов российская цензура мягче, и многое, совершенно немыслимое к опубликованию за 15–20 лет до того, теперь можно позволить (рассуждая притом, что ведь все равно за границей уже опубликовано немало!). Правда, если слишком нажимать на эту мысль, начальство Постникова еще подумает, будто агент не считает архив Долгорукова слишком опасным (что противоречит прежнему указанию царя) или что шпион имеет какой-то особый личный интерес во всей истории… Поэтому Постников пишет начальству со всей возможной деликатностью, предлагая издать за границей некоторую наиболее безобидную часть бумаг, таким путем сохранить ценные связи с эмиграцией.
Идея эта была высочайше одобрена, и Постников-Романн, торгуясь с Тхоржевским, стал готовиться к нелегальной публикации.
"Этот Постников, — жалуется Герцен Огареву, — меня мучил, как кошмар. Брал бы Тхоржевский деньги, благо дают, и — баста".
Наконец сошлись на 6500 рублях (26 тысяч франков). Общий же расход III отделения на приобретение долгоруковских бумаг приближался к 10 тысячам рублей. 1 ноября 1869 года Постников сделался обладателем тяжелого сундука рукописей и, конечно, тотчас переправил его в Петербург, на Цепной мост. Вскоре вышел и второй том "Мемуаров Долгорукова"; человеку, не знающему всей подноготной, никогда не вообразить, что скрывается за этим тоненьким эмигрантским изданием "Некоторых бумаг из архива Долгорукова" (Женева, 1870). Бумаги сравнительно безобидны, доход же от продажи сборника учтут аккуратные чиновники III отделения… Но все же, чего только не приходится делать на службе тайному агенту: дружить с революционером Герценом, издавать изгнанника Долгорукова, снабжать деньгами государственных преступников Огарева, Тхоржевского, носиться по Европе вместе с первым анархистом Бакуниным! Осенью 1870 года, когда начались революционные события во Франции, Бакунин, разумеется, отправился в самое пекло, и вместе с русским «коллегой» Постниковым они участвуют в Лионском восстании, потом едва уносят ноги от французских жандармов. Агент III отделения нечаянно вошел в историю не по своему ведомству…
Затем Постников вернулся в Россию и вскоре умер. Но еще раньше, в январе 1870-го, не стало Герцена, и теперь уж некому было по-настоящему разобраться, что там издал и чего не издал странствующий подполковник. Одним маленьким выпуском посмертное издание долгоруковских бумаг и окончилось. Действующие лица сходили со сцены, в Европе 1870–1871 годов зажигались войны и восстания — все смешалось, прошлое забывалось…
* * *
"Среди бумаг Романна, — писал в 1925-м Р. М. Кантор, — сохранился полный перечень купленным бумагам. Куда они девались, неизвестно…"
"Вероятно, архив Петра Долгорукова погиб" — такой приговор произнесли или напечатали многие специалисты за те полвека, которые прошли со времени находки Кантора.
Мне рассказывали, будто известный исследователь русского освободительного движения и пушкинист П. Е. Щеголев говорил, что отдал бы годы жизни, если б мог найти архив «князя-республиканца» (Щеголев, правда, надеялся найти в том архиве и новые сведения относительно известного пасквиля против Пушкина).
К счастью, сохранилась опись — перечень захваченных долгоруковских бумаг. Ее и искать-то не надо — Кантор прямо сообщил, что опись приложена к отчетам Романна, и так оно и должно быть: шпион не сдает начальству трофеи без точного списка захваченного…
Опись оказалась даже в двух экземплярах, в каждом — около 300 пунктов, и притом один пункт часто обозначает объемистую пачку писем, толстый сборник или даже несколько томов.
Дипломы, грамоты, переписка рода Долгоруковых — самого князя Петра, его родителей, дядей, пращуров; это естественно. Но среди родни — генералы, посланники, сенаторы, фавориты… Письма к Екатерине II, подписанные "монахиня Долгорукова", — это от несчастной жертвы многолетних преследований популярной в России "Натальи, боярской дочери".
Пачка материалов о Петре 1. Заметки ("нотаты") о декабристах. Подлинные бумаги генерала Ермолова, многочисленные проекты освобождения крестьян. Акт о восшествии на престол Николая I и отречении Константина, переписка поэта Некрасова с Долгоруковым, анекдоты, биографии придворных, списки знатных лиц, сведения о них, собранные Карабановым, и еще, еще пачки бумаг под заглавием; бумаги Карабанова, 11 тетрадей, письма различных видных современников: Гарибальди, Гюго, Мадзини, Бисмарка, Луи Блана. Еще декабристские материалы из Сибири, подлинники стихов Огарева, еще десятки названий — история, черновики статей для вольных изданий, копии запретных стихов — документы двенадцати царствований, от Петра I до Александра II; и сверх того — материалы по истории Франции, Германии…
Около некоторых пунктов сохранились пометы красным карандашом; кое-что, в частности перечень писем, слегка перечеркнуто…
Громадное исчезнувшее собрание — это как бы реляция об успехе секретной полиции. Но разве может исчезнуть, да еще целиком, такое тайнохранилище?
* * *
И настал день, когда совсем для других занятий, больше связанных с XVIII веком, нежели со второй половиной XIX столетия, мне пришлось отправиться в рукописное собрание библиотеки Зимнего дворца. Громадная библиотека русских императоров, естественно, состояла не из одних книг: множество писем Романовых друг к другу, иностранным монархам, некоронованным лицам; разнообразные государственные документы, по разным причинам не попавшие в государственный архив: рукописные коллекции, собранные высокими или высочайшими персонами. Центральный Государственный архив Октябрьской революции, фонд 728 — вот сегодняшний архивный адрес царских рукописей.
После 1917 года к нему обращались сотни ученых, извлекавших отсюда факты и документы, прежде скрытые под спудом. В нескольких тяжелых томах размещается опись — перечень материалов, составляющих громадную коллекцию: около 4000 названий.
Перелистываю.
Подлинные мемуары Екатерины II (те самые; которые так долго считались величайшей тайной, пока Герцен не добыл их копию и не напечатал).
Исторические материалы, собранные статс-секретарем М. А. Корфом.
160 писем разных царей к графу Николаю Салтыкову.
Переписка Александра I с воспитателем Лагарпом.
Письма, полученные князем Владимиром Петровичем Долгоруковым.
Переписка царя Николая I с князем Александром Голицыным.
Переписка князя Петра Долгорукова с Бенкендорфом.
Заметки о декабристах.
Гардеробный журнал Александра II.
Материалы к биографии Ермолова.
Письма к Петру Долгорукову.
Анекдоты Карабанова о Екатерине II.
Записки Петра Долгорукова…
Мысль о том, что эта опись постоянно напоминает какую-то другую, знакомую, появилась с первых минут, и вскоре я уж не сомневаюсь, что видел многие из этих наименований: видел Ермолова, Екатерину II, Карабанова, Долгорукова — видел в том самом реестре долгоруковских бумаг, похищенных Романном-Постниковым в 1869-м и "пропавших без вести"…
Какие же они пропавшие, когда вот они, тут, в одном из самых известных собраний! Правда, рукописи Долгорукова на этот раз не сосредоточены в одном месте, но рассеяны среди тысячи других писем, государственных документов и отчетов…
Задача выглядела ясной, хоть и громоздкой: выловить все "долгоруковские названия", рассыпанные среди царских бумаг; заказать все долгоруковское, прочесть, изучить…
Мирно покоятся теперь некоторые бумаги Ермолова и о Ермолове среди рукописей Зимнего дворца — кажется, там, где следует быть бумагам полного генерала и члена Государственного совета. Но прежде чем попасть сюда, документы побывали в Брюсселе и Лондоне и возвратились в сундуке Романна… Молодого Ермолова боялся император Павел и заключил его на несколько лет в тюрьму; позже его побаивался Александр I и сильно опасался Николай I — цари знали о надеждах декабристов на этого генерала. Николай, по сути, отправил его в почетную ссылку, но насмешек и языка старого Ермолова боялись все — от титулярного до тайного… Прожив почти девяносто лет, он затем удостаивается посмертной боязни четвертого по счету императора; но кто-то уже позаботился, и документы Ермолова еще при жизни генерала издаются вольной печатью Герцена, а после смерти «Записки» отправляются к Долгорукову.
Тут интересная загадка: не причастен ли был сам престарелый полководец к таким приключениям его рукописей?
Еще предстоит сложная работа: опубликованное о Ермолове за сто лет в разных книгах и журналах сопоставить с тем, что осталось в долгоруковском архиве, и нужно узнать, кто доставил это Долгорукову, и если узнаем, то, возможно, откроются новые имена, обстоятельства, рукописи.
Архив Долгорукова бросает исследователя из одних десятилетий в другие, проводит через галерею лиц. Характерным кривым почерком князя переписаны стихи декабриста Федора Вадковского «Желание», и на том же листке 12 пунктов — требования тайного общества; откуда взял Долгоруков эти листки? Кто был тем связным между ним и декабристами, благодаря которому князь получил еще и в России, и в эмиграции много сведений о людях 14 декабря? Разбирая эту задачу, мы надеемся узнать нечто новое и о Долгорукове и о декабристах…
Декабристско-долгоруковские сюжеты богаты, мы их оставляем до полного расследования; однако мимо одного и сейчас не пройти.
12 листов заполнены не слишком разборчивым черновым почерком князя — "нотаты", то есть заметки о декабристах. Как будто ничего особенного — список осужденных по делу 14 декабря; список почти полный, 114 человек из 121; с точным указанием места ссылки, а также места и времени последующих перемещений каждого по Сибири и Кавказу. Эти сведения сейчас легко Доступны любому — достаточно взять изданный в 1925 году "Алфавит декабристов", к которому первоклассные знатоки Б. Л. Модзалевский и А. А. Сиверc составили примечания с максимальным числом подробных данных о каждом революционере. Почти все точные сведения о судьбе ссыльных ученые нашли в тех делах, которые были заведены в секретном архиве III отделения на каждого осужденного декабриста и куда заносились все скудные внешние перемены его существования: выход на поселение, разрешение или запрет служить, освобождение под надзором или амнистия — для тех, кто дожил…
Но откуда же в XIX веке князь Долгоруков мог заполучить такую сводку и, очевидно, поделиться ею с Герценом и другими друзьями? 114 дел, и почти все сведения абсолютно точны; формулировки же часто именно такие, как в соответствующих делах III отделения.
Эти данные не могли быть почерпнуты у какого-либо ссыльного: каждый знал многое о группе ближайших товарищей по изгнанию, но куда хуже представлял судьбу остальных. Никто из ник не мог бы безошибочно и своевременно узнать десятки дат — скажем, время перевода декабриста Михаила Нарышкина из одного черноморского батальона в другой, точной формулировки секретного определения о необходимости "Дивова содержать в работах особо" или о смерти Лунина в Акатуевской тюрьме.
Итак, наиболее вероятный вариант — что князь Петр Владимирович сумел, возможно, при помощи своих громадных связей заглянуть в секретные дела III отделения; скорее всего — не он сам, а через каких-то третьих лиц, усиливая свою просьбу деньгами или заверениями о необходимости для собирателя дворянских родословий точно знать, в какой глухой волости содержатся бывшие князья Волконский, Трубецкой, Щепин-Ростовский и в каком монастыре кончается жизнь князя-декабриста Шаховского.
Дату этого рейда (Долгорукова или его корреспондента) в недра "всероссийской шпионницы" тоже можно установить. Дело в том, что подробнейшие сведения о судьбах декабристов обрываются на 1846 годе. Смерть Лунина (3/ХII 1845 года) еще отмечена, об освобождении из Петропавловской крепости Батенькова (январь 1846 года) тоже есть, но уже о перемещении его в Томск в марте 1846 года не сказано. Видно, этот факт не успел еще осесть в секретном деле Батенькова в тот миг, когда некто сумел на это дело взглянуть. Нет сообщения и об увольнении от службы Беляева 2-го (21/I 1846 года) и вообще никаких более поздних событий — как, например, смерть Иосифа Поджио (1848 год), Митькова (1849 год), перемещение Сутгофа на Кавказ (1847–1848 годы) и др.
Конечно, можно вообразить разные замысловатые истории проникновения князя Долгорукова в недра тайной полиции; не исключено, что справка, обрисовавшая положение декабристов на 1846 год, составлялась для какой-то важной персоны, а к Долгорукову попала позже; но так или иначе, в самое мертвое николаевское время — конец 1840-х годов — из самого секретного николаевского ведомства утекли на волю факты и сведения о тех, кого старались забыть…
Ермолов, декабристы — это лишь частица сохранившегося долгоруковского архива. Бумаги о помещичьем буйстве в Тульской губернии перед 1861 годом (Долгоруков — сам тульский помещик), заметки о 1730-м (восшествие Анны Иоанновны), о перевороте 11 марта 1801 года, о двенадцати царствованиях — от Петра I до Александра II…
Но каким образом захваченные агентом III отделения бумаги столь мирно осели в архиве царской фамилии?
Ответ подсказывает следующая подробность: около каждой без исключения долгоруковской бумаги из архива Зимнего дворца стоит пометка «Л-Р», то есть "из собрания кн. Алексея Борисовича Лобанова-Ростовского"…
Постников-Романн доставил сундук с бумагами Долгорукова и расписку на тысячи рублей. Затем наиболее интересные документы были безусловно представлены царю, следившему за ходом всей операции. Князь Лобанов, важная персона, состоящая при министре внутренних дел, бывший посол и будущий министр иностранных дел, конечно, очень скоро узнал о доставке долгоруковского собрания, и это известие должно было привести коллекционера в трепет. К тому же князь интересовался родословными, он участвовал в новом издании родословных книг, для чего были необходимы тетради и черновики Долгорукова. Остальное ясно: Лобанов-Ростовский сумел получить драгоценную коллекцию (вдесятеро оплатив расходы тайной полиции на ее приобретение), а после его смерти все перешло к царской фамилии.
Итак, собрание Долгорукова не исчезло бесследно. И через сто лет после похищения оно существует, но, увы, пока что не все; многого и очень важного в описи Зимнего дворца не обнаруживается…
Как раз нет многих волнующих воображение писем — нет посланий Гюго, Гарибальди, Мадзини, Кавура, Бисмарка и других литературных, общественных, политических деятелей. Их нет не только в царском собрании. Знатоки Гюго, например, вообще не знают писем поэта к Долгорукову, в то время как в отчетах агента Романна мы ловим отдельные фразы этих посланий…
Как уже говорилось, в жандармской описи названия этих документов легонько зачеркнуты, и возле них — пометы красным карандашом. Но подобные бумаги, особенно письма государственных деятелей, обычно сохраняют, а не уничтожают; скорее всего, именно они были представлены на прочтение Александру II (ведь царь велел обратить особое внимание "на частную переписку князя"). И что же потом стало с перепиской, где она?
По многим книгам, справочникам, путем "опроса экспертов" разыскиваются любые, пусть самые незначительные письма к Долгорукову. Ведь "письма к…" — это послания, которые князь получил, а после агент Романн захватил.
Поиски мои долго были абсолютно без результата, но однажды в книге В. Невлера "Эхо гарибальдийских сражений" (вышедшей в 1963 году) вижу текст письма Гарибальди к П. В. Долгорукову: 10 сентября 1867 года итальянский революционер благодарит за посланные ему мемуары князя. В примечаниях к тексту архивная сноска: Центральный государственный исторический архив в Ленинграде, фонд 931, опись 2, дело 21, лист 1.
Что за фонд 931? Оказывается, это фонд князей Долгоруковых — разумеется, не Петра Владимировича, но его родственников, для которых «князь-республиканец» был вредным побегом на старинном родословном древе. Поскольку письмо Гарибальди значилось в списке Романна, я быстро конструирую следующий вывод: фамилия Долгоруковых слишком знатна, чтобы оставлять ее в неведении насчет захваченного архива. Даже часть переписки осужденных декабристов, не имевшая прямого отношения к следствию, была после приговора возвращена родственникам. Переписку князя Петра Долгорукова (за исключением некоторых документов) царю неудобно было не вернуть в семью. Если в фонде 931 сохранилось письмо Гарибальди, то, по логике, там же, рядом, должны лежать и другие…
В Ленинграде передо мною лег весь фонд 931 — архив Долгоруковых. Все больше бесконечная фамильная переписка, и рядом с опубликованным письмом Гарибальди к Петру Долгорукову еще два послания тому же адресату: Англия, 1860-е годы, подпись — Вудгауз. Они значатся и в описи Романна — любопытные послания английского политического деятеля, явно сочувственные, князю-эмигранту. Но более ничего…
Так просто тайны не открываются. И где еще могут быть письма к Долгорукову? Ну что ж, упрямый, странный, сердитый князь Петр Владимирович не дает потомкам забыть о себе. От него видимые и незримые нити тянутся к тайнам двенадцати царей, пяти государственных переворотов, к сотне ссыльных декабристов, десяткам номеров эмигрантской прессы, многим страницам Герцена.
Долгоруковские бумаги найдены. Долгоруковские бумаги разыскиваются…
Глава 10 ИДУ ПО СЛЕДУ
52° северной широты, 46° вост. долготы.
Координаты одного важного для главы местаПервые намеки на историю, о которой сейчас пойдет речь, появились в печати как раз в том году, когда не стало Герцена, а долгоруковский архив надолго утонул в секретных сундуках у Цепного моста…
Почти в одно время образ некоего таинственного «особенного» человека возник в двух разных частях света, разделенных десятью тысячами верст: в главе "Былого и дум", опубликованной в Женеве после смерти автора, и в разговорах знаменитого политического заключенного со своими товарищами на забайкальском каторжном руднике…
Я разыскиваю того таинственного, «особенного» человека. Он жил сто лет назад, но вы все с ним встречались…
Существует какая-то удивительная связь между искомой личностью и самими поисками. Начать с того, что очень многих людей совсем не надо «открывать», так уж сложилась жизнь их. Следы иных биографий запечатлены в бумагах, описях и реестрах, солидных, неторопливых и скучноватых, и есть люди, тени которых витают над листами "совершенно секретных" жандармских донесений… Каков же герой нашего повествования, если погоня за ним соединяет обыкновенное и поразительное, смешное и невероятное, печальное и экзотическое — Сердобский уезд и Маркизский архипелаг, Саратов и Новую Зеландию, Алексеевский равелин Петропавловской крепости и романы Жюля Верна, зашифрованные дневники, социальные эксперименты и многое другое?
Я немногое нашел, но все же решаюсь рассказать о поисках. Иду по следу и предлагаю другим…
Но сначала вернемся в хорошо знакомые 1850-е годы, во времена "Герценовского вальса" и перцовских корреспонденций.
Конец августа 1857 года. Александру Ивановичу Герцену доставляют записку: некто Павел Бахметев просит принять. Герцен не удивляется — гостей множество, успех вольных изданий огромен, сама типография внесена в путеводитель по лондонским достопримечательностям…
В тот августовский день Герцен заходит к Бахметеву сам. Спустя несколько лет в седьмой части "Былого и дум" он расскажет (а после смерти Герцена это будет напечатано), что застал молодого человека " с видом кадета, застенчивого, очень невеселого, с особой наружностью, довольно топорно отделанной, седьмых-восьмых сыновей степных помещиков". При первой встрече Бахметев "почти все молчал". Герцен пригласил его обедать, но прежде встретил еще раз на улице.
" — Можно с вами идти? — спросил Бахметев.
— Конечно, — не мне с вами опасно, а вам со мной. Но Лондон велик.
— Я не боюсь. — И тут вдруг, закусивши удила, он быстро проговорил: — Я никогда не возвращусь в Россию… Нет, нет, я решительно не возвращусь в Россию…
— Помилуйте, вы так молоды!
— Я Россию люблю, очень люблю, но там люди… Там мне не житье. Я хочу завести колонию на совершенно социальных основаниях. Это все я обдумал и теперь еду прямо туда.
— То есть куда?
— На Маркизовы острова.
Я смотрел на него с немым удивлением.
— Да… да. Это дело решенное — я плыву с первым пароходом…"
Вслед за тем Бахметев заявил, что, оставляя родину, хотел бы сделать для нее что-нибудь полезное. "У меня пятьдесят тысяч франков; тридцать я беру с собой на острова, двадцать отдаю вам на пропаганду".
Герцен поблагодарил, но отказался: ни он, ни типография, ни пропаганда в деньгах не нуждаются.
"Ну, не будут нужны, — ответил Бахметев, — вы отдадите мне, если я возвращусь, а не возвращусь лет десять или умру, употребите их на усиление вашей пропаганды. Только, — добавил он, подумавши, — делайте что хотите, но… но не отдавайте ничего моим наследникам… "
В Государственном литературном музее хранится письмо П. А. Бахметева от 31 августа 1857 года, вверяющее 800 фунтов стерлингов (20 000 франков) Герцену и Огареву. Единственные дошедшие до нас строки, написанные рукою этого человека. Последний след на краю неизвестного…
А на другой день (1 сентября 1857 года) Герцен зашел, к Бахметеву проститься.
"Он был совсем готов. Маленький кадетский или студентский, вытертый, распертый чемоданчик, шинель, перевязанная ремнем, и… тридцать тысяч франков золотом, завязанные в толстом футляре так, как завертывают фунт крыжовнику или орехов. Так ехал этот человек на Маркизские острова.
— Помилуйте, — говорил я ему, — да вас убьют и ограбят, прежде чем вы отчалите от берега. Положите лучше в чемоданчик деньги…
— Он полон.
— Я вам сак достану.
— Ни под каким видом.
Так и уехал…"
Жена Герцена вспоминала, что Бахметева долго, но безуспешно отговаривали ехать: "Не спешите, ведь и тут не все безотрадно и безнадежно… "
Герой наш из Лондона уплывает в Тихий океан. Повествование же перемещается в Россию.
О ЧЕМ МЫ И НЕ ПОДОЗРЕВАЛИ…
Через шесть лет, в 1863 году, в Алексеевском равелине Петропавловской крепости заключенный Николай Гаврилович Чернышевский заканчивал роман "Что делать?". На полях рукописи он выставлял цифры, возможно фиксируя каждые четверть часа, отбиваемые мертвым звоном крепостных часов…
Роман написан за сорок суток, четыре тысячи без малого часовых ударов…
Вскоре книгу получат в Саратове, на родине заключенного. Двоюродная сестра, Евгения Николаевна Пыпина, пишет родным 16 марта 1863 года: "Там между прочим выведен Бахметев — помните?"
А 23 апреля 1863 года: "С большим интересом прочтете вы роман Николи. Рахметов — это Бахметев Пав. Алекс. Помните вы его? — Здесь мы об этом не говорим. Ник. Гавр. знал о нем много такого, о чем мы и не подозревали…" Еще несколько лет. Еще несколько тысяч верст на восток… В Александровской каторжной тюрьме Николай Гаврилович рассказывает другому политкаторжанину С. Г. Стахевичу о своей поездке в Лондон, к Герцену (лето 1859 года). Чернышевский вспомнил при этом и о беседе Бахметева с Герценом, "прибавляя, — по словам Стахевича, — подробности, называя их забавными".
"Слушая этот рассказ, — продолжает Стахевич, — я был того мнения, что Николай Гаврилович слышал его лично от Герцена; однако я не помню, чтобы он именно так и выразился… Может быть, мое мнение было ошибочно и рассказ о Бахметеве дошел до него уже из третьих рук{13}.
Но заключительные слова Николая Гавриловича я помню с полной точностью:
— В своем романе я назвал особенного человека Рахметовым в честь именно вот этого Бахметева".
С давних пор на уроках литературы говорят о «типах» и «прототипах». Довольно много прекрасных женщин прожили жизнь в уверенности, что это с них написана пушкинская Татьяна, и, кажется, все они были немного правы… Говорят также, будто создателям Козьмы Пруткова приходилось укрываться от мстительных лиц, полагавших себя прототипами без всяких на то оснований… Впрочем, легко увлечься насмешками над теми, кто чересчур сближает вымышленного и реального героя, отказывая автору в воображении. Случается ведь, что сам писатель настаивает, будто лицо писано с НН или что Рахметов — "в честь именно вот этого Бахметева".
Рахметов — "особенный человек" — из тех, кто "цвет лучших людей… двигатели двигателей, соль соли земли…". Отправиться на край света для дела — это вполне по-рахметовски… Только что же дальше было?
И снова Лондон. Десять лет спустя… Деньги, оставленные Бахметевым, Герцен не трогает, используя для дела только проценты с капитала. Кое-кто из эмигрантов начинает требовать "бахметевский фонд". Герцен отказывает, не считая себя вправе распоряжаться этими средствами. "Как знать, чего не знать, — приговаривает он. — Ведь Бахметев может вернуться без гроша, а может, уж и вернулся и находится в России… Поэтому в напечатанном отрывке "Былого и дум" фамилия Бахметева обозначается на всякий случай не полностью, а лишь первой буквой — "Б."…
Только после многолетних споров и обсуждений группа настойчивых эмигрантов получает в 1869 году половину суммы от Огарева, а после смерти Герцена — и остальные деньги. О самом же Бахметеве ни слуху ни духу.
Странный, молчаливый человек…
Проходит еще тридцать лет.
ГЛУШЬ, САРАТОВ…
Даниил Лукич Мордовцев — писатель, ныне полузабытый (может, и незаслуженно), а в свое время весьма знаменитый и плодовитый автор исторических повестей и романов (50 томов!). Уроженец Саратова, он хорошо знал Чернышевского, его семью и друзей. В апреле 1900 года в петербургской газете "Северный курьер" была напечатана статья Мордовцева "О Рахметове".
Писатель, в то время уже семидесятилетний, вспоминает:
"Я знал его [Бахметева] очень хорошо, потому что в конце 40-х годов учился с ним в одной гимназии в Саратове. Жил с ним на квартире рядом… Способности Бахметева были не блестящие… Но то, что он усвоил с трудом, то держалось в его убеждении так крепко, что и клещами не вытянуть…"
В конце гимназических лет с Бахметевым нечто происходит. Богатый барчук, наследник многих десятин и крепостных душ, приезжавший в гимназию обязательно в сопровождении слуги, внезапно отправляется в странствия по России, ведет вполне рахметовский образ жизни. Однажды он решает, что для будущей деятельности необходимы сельскохозяйственные знания, и поступает в Горигорецкий земледельческий институт (в Белоруссии). При этом берет с собой на свой счет школьного товарища Августа К.
В статье отчего-то не открывается полностью фамилия, просто Август К.
В Саратове, у Мордовцева, Бахметев неожиданно объявляется в начале 1857 года. При нем уже деньги за проданное имение. Он сообщает своему школьному товарищу, что отправляется в Новую Зеландию (а не на Маркизские острова!), чтобы "основать независимое общество, чуть ли не государство". Бахметев зовет Мордовцева с собой — редактировать журнал будущей вольной общины, договаривается о переписке; рассказывает также, что перед отъездом из Петербурга "провел с Чернышевским всю ночь в беседе, гуляя по набережной Фонтанки".
Однако обещанных писем Мордовцев так и не получил. Спустя сорок три года после этого разговора писатель вспоминает о школьном друге, как о погибшем: "Бедный исчезнувший товарищ!.. Живи же хоть в образе Рахметова".
* * *
Бесконечность российских пространств сродни бесконечности морской. Но оттого ли какая-то тревожная сила влекла к океану смоленских, владимирских, московских, саратовских? Из этих самых что ни на есть центральных областей материковой Европы вышли почти все знаменитые адмиралы. Местные сказители, никогда не видавшие моря, складывали песни про «окиян-море» и чудесное Лукоморье. Человек из степного "дворянского гнезда" отправлялся на другой край света — к далеким южным островам.
Середина XIX века. Еще нет кафе и дансингов на берегу Конго, нефтяных вышек близ Ориноко, рекламных объявлений в Полинезии. Роберт Оуэн незадолго до того пытается устроить образцовое общество на социалистических началах в одном из пустынных уголков Америки. Волею Жюля Верна капитан Грант в 1862 году отправляется в Тихий океан на поиски "Новой Шотландии" — земли, не испорченной цивилизацией.
В те годы еще исчезали путешественники: Джон Франклин, Дэвид Ливингстон, капитан Грант… Но пропавшие экспедиции (или их остатки) все же обнаруживались несколько лет или десятилетий спустя. Нашего же героя вряд ли кто-нибудь искал. Он сам не желал этого. Верно, и не подозревал, что его там, на родине, не забыли.
Поиски — это путешествие, часто совершаемое в четырех стенах библиотеки или архива. Нередко в подобных странствиях главная доля времени — ожидание: занимаешься обычными, каждодневными делами и ждешь… ждешь ответа на давно посланный запрос, ждешь новой, неожиданной возможности.
Искать «Рахметова»? Один шанс против 99, даже против 999, что его удастся найти… Но поискать надо. Даже очень интересно поискать.
Путь первый. Искать следы Бахметева в России. Заглянем в «Адрес-календарь», роспись всем чинам, военным и гражданским. В прошлых главах уже говорилось: кого только там не встретишь! Генерал-адъютант граф Бенкендорф, камер-юнкер Пушкин, надворный советник Герцен. Там и министр, и чухломской городничий, и фрейлины "их императорских величеств и высочеств" (последние слова, конечно, — крупнейшим шрифтом!), и удивительные чиновные ихтиозавры, как-то: генерал-майор Иван Иванович Икскуль фон Гильденбрандт 3-й или коллежский асессор Потап Христофорович Агабек-Султанханов.
Бахметев заканчивает гимназию весной 1851 года. Несколько лет назад в Казани Е. Г. Бушканец обнаружил аттестат "Павла Александрова сына Бахметева", удостоверяющий, что тот закончил саратовскую гимназию со средней оценкой в 4 балла. Но самое интересное в том аттестате — предпоследняя по порядку подпись: "Старший учитель Чернышевский". Окончивший Петербургский университет Чернышевский преподает словесность в саратовской гимназии, а за партою — «Рахметов»…
Итак, 1851 год — выход из гимназии, 1857-й — отъезд из России. В «Адрес-календарях» за 1851–1856 годы встречается Бахметев Владимир Иванович — гофмейстер, крупная придворная персона. Бахметев Николай Павлович — новгородский губернский предводитель, несколько Бахметевых помельче — судьи, архивариусы, исправники. Однако Бахметев Павел Александрович решительно нигде не числится. Выходит, ни государственной, ни военной службой не занимался…
Известный ленинградский ученый профессор С. А. Рейсер обнаружил, что до 1853 года наш герой действительно учился в Горигорецком сельскохозяйственном училище. Затем ушел со второго курса, хотя по успехам был третьим из сорока двух…
Списки "лиц замечательных" велись, однако, не только в «Адрес-календарях». Имеется еще III отделение, в громадном архиве которого — отпечатки многих биографий, их "тайная история".
Впрочем, в огромном фонде тайной российской полиции нужную личность разыскать очень не просто… Проходят недели, прежде чем обнаруживается нечто: большая переписка 50-х годов, касающаяся Горигорецкого училища. Перелистывая, ищу знакомое имя. Подполковник Соколов 7-й пишет "шефу жандармов, господину генерал-адъютанту и кавалеру князю Долгорукову 1-му" о том, что в местечке Горки Горецкие близ Могилева скапливалось недавно "до 60 персон учащихся", которые много себе позволяли, даже "на биллиарде играли", полицейская же власть в означенном местечке "по штату не предусмотрена". Шеф жандармов отвечает, и, как обычно, читать бумаги от нижестоящих персон к вышестоящим не в пример легче и приятнее, чем наоборот, ибо Соколов 7-й пишет шефу куда разборчивее, чем шеф Соколову 7-му. При этом уясняю чрезвычайно важное обстоятельство: к моменту появления Бахметева (1849–1850) местечко было наконец облагодетельствовано становым приставом. Другая бумага любопытнее.
В 1859 году группа саратовских общественных деятелей посылает приветственный адрес одному цензору, преследуемому правительством за "недопустимую" мягкость. Ill отделение сей адрес заполучило и скопировало. Под ним, между прочим, подписи: Мордовцев, а также Август К., тот самый товарищ Бахметева, о котором уже говорилось.
Что за К.? Почему К., в то время как все "выше- и нижеподписавшиеся" поставили полные фамилии?.. И спустя сорок лет Мордовцев снова шифрует-Август К.!
Впрочем, стоит ли удивляться? Разве может такого человека, как Бахметев, сопровождать обыкновенный спутник, без некоей тайны и неопределенности? Лишь с помощью саратовских и московских архивистов удалось выяснить, что это Август Кляус, в будущем писатель, социолог, экономист, а в ту пору, очевидно, фигура, близкая к подполью, родной брат довольно известного «смутьяна», студенческого деятеля Самуила Кляуса… Если б мы могли «рассекретить» братьев Кляусов, если бы имели возможность заглянуть в их архивы, вероятно, обнаружились бы интересные страницы о секретной истории революционного движения, о Павле Бахметеве. Но нет архива семьи Кляус…
Игорь Васильевич Порох, доцент Саратовского университета, давно занимается Россией Герцена и Чернышевского. Мы "вступаем в контакт" — обмениваемся письмами. Однажды Игорь Васильевич спросил о Бахметеве у внучки Николая Гавриловича Нины Михайловны Чернышевской, автора известных трудов о своем деде.
Нина Михайловна припоминает, что существовали некие шифрованные дневники А. Н. Пыпина и Д. Л. Мордовцева, где были сведения и о Бахметеве. Перед второй мировой войной дневники находились у родственника Мордовцева, который жил в Варшаве. Что стало с ним и его бумагами, пока неизвестно…
Шифрованные дневники — что ж, это в полной гармонии с Августом К. и всем остальным.
Последний шанс — найти родственников, наследников, которым Бахметев не желал оставить даже часть своих средств.
С. А. Рейсер искал документы рода Бахметевых в ленинградских архивах, автор этих строк однажды попал на несколько дней в Саратов и замучил вопросами тамошних архивистов…
Кое-что узнать удалось, но так мало, что любопытство не насытилось, а пуще проголодалось.
Глухая, провинциальная помещичье-крепостная Русь, Сердобский уезд Саратовской губернии, деревня Изнаир, где 23 двора, 167 крепостных и более 2000 десятин земли. Это отсюда, из степной глуши, выходили на свет такие, например, документы, как отчаянная жалоба крепостных на престарелого генерала-помещика Шмакова, "который, находясь в расслаблении ума, женился на своей крепостной девке Юдовой, каковая Юдова, приобретя права помещицы, сечет и истязает нещадно своих крепостных, среди коих ее родичи, братья и сестры..."
Это в здешнем уездном суде за взятку какие-то компрометирующие бумаги были уничтожены оригинальным способом: смазаны на ночь салом и вследствие того молниеносно проглочены крысами… (выделено нами — V.V.)
Десятки листов занимает сохранившееся в Саратовском архиве дело о драке нескольких помещиков на рождество 1805 года, в ходе коей некто капитан Бурцев "начал сперва произносить насчет всех бранные слова, затем Петра Бахметева ударил об пол", после чего последовала контратака: капитан и его друзья были "тасканы Петром и Павлом Бахметевыми за волосы, а Павел Бахметев лил капитану на голову водку", причем в свалке Бурцев вдруг потерял 1000 рублей. Капитан подал жалобу, доказывая полученные побои "наличными боевыми знаками", братья Бахметевы же вспомнили, что Бурцев перед тем засек жену и дочь своего крепостного да еще "обидел уездного протоколиста".
Великолепные детали быта; а ведь Павел Бахметев родной, а Петр — двоюродный дедушка нашего героя… Тяжба в прекрасном стиле Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича длилась четырнадцать лет. Уж отгремел Аустерлиц, отполыхал 1812-й, пал Париж, а жалобы все идут и идут. Наконец Саратовская палата решила против Бахметевых, но дело было в 1814-м, и все подпали под прощение и амнистию, дарованные высочайшим манифестом после победы над французами. Спорщики, однако, продолжали тягаться, пока сенат в Петербурге не заметил, что следовало бы за "неизвинительную медлительность движения дел подвергнуть сердобских и саратовских судей штрафованию", но решили в конце концов избавить их от наказания на основании того же "всемилостивейшего манифеста 1814 года".
Это было в 1818 году.
Ровно через десять лет (как открылось из документов того же Саратовского архива), 8 августа 1828 года, у помещика Александра Павловича Бахметева родился сын Павел. Ученик сердобской гимназии был, оказывается, всего на 27 дней моложе своего будущего учителя Чернышевского, родившегося 12 июля 1828 года.
Из документов видно, что родители юного помещика рано умерли. Его дела ведет дядя, капитан Свиридов. Как видно, дяде и его семейству достанутся впоследствии владения «Рахметова», перед тем как началось его путешествие Саратов — Лондон — Океания…
В архиве саратовского дворянского собрания я нашел еще переписку о Павле Бахметеве, относящуюся к 1861 году, то есть через четыре года после отъезда…
От молодого помещика требовали документы, подтверждающие его дворянские права, а он не отзывался…
Дело кончилось тем, что "за неизвестностью места жительства указом правительствующего сената по департаменту герольдии от 26 октября 1861 года за № 8781 Павел Бахметев из родословной книги исключен".
Нет Павла Бахметева — где искать?
Второй путь розысков нашего героя — в самом романе "Что делать?". Пытаюсь определить, много ли «бахметевского» в Рахметове, и таким нелегким путем по вымышленному лицу вычислить реальное…
"Рахметов был из фамилии, известной с XIII века, — пишет Чернышевский. — В числе татарских пленников, переданных в Твери с их войсками… находился Рахмет". Это роман. А вот быль.
Из родословных книг и дворянских гербовников узнаю, что к великому князю Василию Васильевичу (XV век) приехали служить татарские царевичи Касим, Егуп и Ослам Бахметы. От Ослама и пошли Бахметевы, или, как в старину писали, Бахметовы. «Бахметов» — это уж совсем похоже на «Рахметов».
В романе "Что делать?" — целая родословная Рахметова. "Отец служил без удачи и без падений, в 40 лет вышел в отставку генерал-лейтенантом и поселился в одном из своих поместий, разбросанных по верховью Медведицы… Наш Рахметов получил около 400 душ да 7000 десятин земли… Мы полагали, конечно, что он одной фамилии с теми Рахметовыми, между которыми много богатых помещиков; у которых, у всех однофамильцев вместе, до 75 000 душ по верховьям Медведицы, Хопра, Суры и Цны…"
Таков вымышленный Рахметов. Подлинные же Бахметевы как раз владели землями по верховьям Медведицы, в Сердобском уезде. ' В том же уезде их соседями обозначены другие Бахметевы. Чернышевский сообщает читателям, что его Рахметову двадцать два года, студентом же он был с шестнадцати лет. Поскольку действие 3-й главы "Что делать?" (где появляется Рахметов) происходит в 1856 году, год рождения литературного героя — 1834-й! Он всего на шесть лет моложе своего прототипа.
Рахметов, приехав шестнадцати лет (то есть в 1850 году) и понимая, что есть между студентами особенно умные головы ("тогда их было еще мало"), сходится с ними и начинает новую жизнь.
Но именно в 1850 году старший учитель Чернышевский начал обучать и воспитывать гимназиста Бахметева.
"Года через два после того (то есть после 1856 года) Рахметов уехал из Петербурга, сказавши Кирсанову и еще двум-трем самым близким друзьям, что ему здесь нечего делать больше, что он сделал все, что мог, что больше делать можно будет только года через три, что эти три года теперь у него свободны, что он думает воспользоваться ими, как ему кажется нужно для будущей деятельности. Мы узнали потом, что он приехал в свое бывшее поместье, продал оставшуюся у него землю, получил тысяч 35, заехал в Казань и Москву… Тем и кончилась его достоверная история. Куда он девался из Москвы, неизвестно…"
А ведь Павел Бахметев действительно уехал из Петербурга, действительно продал свои земли, действительно отправился неизвестно куда. Правда, Герцен не усмотрел в Бахметеве физически мощного человека, обладающего "рахметовским характером".
Но ведь Бахметев все-таки "не совсем Рахметов". И, разумеется, один и тот же человек мог вызвать неодинаковые чувства у Чернышевского и у Герцена… Согласно роману, Рахметов в России готовит себя к будущей революционной деятельности, много странствует, однако личные занятия берут у него только "четвертую долю его времени". В Казанском и Московском университетах "на его средства обучались семь стипендиатов".
"Проницательный читатель, может быть, догадывается из этого, — замечает Чернышевский, — что я знаю о Рахметове больше, чем говорю. Может быть. Я не смею противоречить ему, потому что он проницателен. Но если я знаю, то мало ли чего я знаю такого, чего тебе, проницательный читатель, во веки веков не узнать".
В 1857 году Бахметев уезжает. В "Саратовских губернских ведомостях" от 3 апреля 1857 года сообщается: "Отъезжает за границу сердобский помещик Павел Александрович Бахметев". В конце августа того же года он уже в Лондоне, у Герцена.
С. А. Рейсер доказал, что имение свое Павел Бахметев продал по очень низкой цене и увез с собой не более 12 000-15000 рублей, из которых свыше 5000 рублей (800 фунтов стерлингов, или 20 000 франков) оставил Герцену.
Мордовцев иронизировал: "Важная сумма для основания чуть ли не государства!" Однако сумма в 1200 фунтов стерлингов, которой располагал Бахметев, покидая Лондон, была относительно не малой. Не следует забывать, что, например, проезд в Новую Зеландию из Англии стоил в то время 20–40 фунтов, а стоимость земли, нагло конфискованной у племен маори, не превышала тогда 2 фунтов за акр.
"А вот чего я действительно не знаю, — пишет Чернышевский, — так не знаю: где теперь Рахметов и что с ним и увижу ли я его когда-нибудь. Об этом я не имею никаких других известий, кроме тех, какие имеют его знакомые".
Далее сообщается, что Рахметова видели в Европе, что он собирался в Америку, но, вероятно, "через три года возвратится в Россию".
Повторяемая дата "через три года" давно объяснена как намек на ожидаемую революцию. Вполне возможно, в последней беседе с Чернышевским Бахметев сказал, что вернется, если услышит о победе революции на родине.
"Был еще слух, — пишет Чернышевский, — что молодой русский бывший помещик являлся к величайшему из европейских мыслителей XIX века, отцу новой философии, немцу, и сказал ему так: "У меня 30 000 талеров; мне нужно только 5000; остальные я прошу вас взять у меня". Философ отказался, но Рахметов положил деньги в банк на его имя".
В "немецком философе" принято видеть Людвига Фейербаха. Но вообще весь эпизод очень похож на передачу Бахметевым денег Герцену. Чернышевский, понятно, не мог писать о встрече с "великим мыслителем русским" и перенес эпизод в Германию.
Мысли и планы Бахметева вызвали у Герцена, как это видно из "Былого и дум", некоторую иронию. Чернышевский, по свидетельству Стахевича, тоже находил Бахметева «забавным».
"Да, смешные эти люди, как Рахметов, очень забавные, — пишет автор "Что делать?", но затем поясняет: — Так видишь ли, проницательный читатель, это я не для тебя, а для другой части публики говорю, что такие люди, как Рахметов, смешны. А тебе, проницательный читатель, я скажу, что это недурные люди… Мало их, но ими расцветает жизнь всех".
Во время последнего ночного разговора учителя с учеником на берегу Фонтанки Чернышевский, наверное, узнал о плане Бахметева — создать социалистическую общину в Тихом океане.
Кстати, и героиня "Что делать?", Вера Павловна, организует мастерскую "на совершенно новых основаниях". Такие опыты, по мнению Чернышевского, полезны: ведь когда произойдет революция, встанет вопрос об организации нового общества, поэтому и к планам Бахметева Чернышевский мог отнестись как к интересному эксперименту.
Вполне вероятно, что 20 000 франков были сначала предложены Чернышевскому, который посоветовал передать деньги издателям Вольной типографии.
Не на это ли намекал Герцен, когда писал: "Негодовали на Бахметева, что мне деньги вверил, а не кому-нибудь другому; самые смелые утверждали, что это с его стороны была ошибка, что он, действительно, хотел отдать их не мне, а одному петербургскому кругу…"{14}
Как много сведений, имен, намеков, соображений… И все-таки не знаем, чем же занимался Бахметев в те "три четвертых доли его времени, которые не отнимали личные занятия". Неужто и нам вслед за "проницательным читателем" XIX века "во веки веков не узнать"?
ОКЕАН ТИХИЙ И ВЕЛИКИЙ
Следы Бахметева теряются с того сентябрьского дня 1857 года, когда Герцен проводил его на пароход.
Настал и наш черед из Саратова, Петербурга и Сибири двинуться третьим путем поисков — в далекие южные моря. Маркизские острова. Новая Зеландия — "где-то там, в тропиках". Мы часто невольно сближаем очень далекие от нас земли. А на самом деле между Новой Зеландией и «Маркизами» — около 7000 километров. Даже для парового XIX века далековато!
Первое, что приходит на ум, — послать письма, запросы в те края. Так я и сделал. Несколько поторопился… Узнали про мои розыски океанологи — упоминавшийся в начале книги Игорь Белоусов и Николай Петрович Козлов. "Русский в Тихом океане — это уже не история, а океанология", — заявили они, взяли Бахметева под свое шефство и на другой день продиктовали мне адреса, точные фамилии и титулы тех тихоокеанских ученых, которые могут чтолибо знать.
Вскоре я изготовил несколько писем, начинавшихся со слов "Dear sir" и кончавшихся не менее вежливым "Sincerеly уоur's": одно — в Гонолулу, в знаменитый Музей Перси Бишоп, чьим директором много лет был Те Ранги-Хироа (автор знаменитой книги "Мореплаватели солнечного восхода"). Другое — на острова Фиджи, третье — в Новую Каледонию, четвертое — в Новую Зеландию, в Веллингтонский университет.
Хотел писать и на Маркизские острова, да тут как раз вернулся «Витязь», незадолго до того заходивший именно на этот архипелаг. Друзья-океанологи буквально притащили одного из научных сотрудников экспедиции.
— Маркизы, — рассказал тот, — что и говорить — красота такая, что не верится. Пляж с чистейшим и совершенно черным песком, море и воздух — какие- то розовые… А горы… а деревья… — Тут у моего собеседника даже эпитеты кончились…
— Не встречались ли вам на Маркизских островах следы пребывания русских?
— "Витязь" да еще шхуна «Заря» в наше время. А прежде, сто пятьдесят лет назад, заходил Крузенштерн. Больше русских как будто не было.
— "Как будто"… А у кого на островах можно навести справки?
— Научных учреждений там нет: французский губернатор, несколько десятков европейцев, несколько тысяч туземцев…
Все это было неутешительно. Неожиданно вспоминаю одно место из "Былого и дум", на которое прежде не обращал внимания: когда Бахметев пришел в банк Ротшильда в Лондоне, он попросил выдать ему аккредитив на "Iles de Marquises", чем немало позабавил служащих, довольно смутно подозревавших о существовании подобных земель.
Выходит. Бахметев и в самом деле собирался на "Iles de Marquises".
И я стал "поднимать литературу".
Книга за книгой заказывались, просматривались, но полезных результатов было весьма мало, если не считать основательного расширения моей эрудиции касательно Маркизского архипелага. Я уже знал, что на этих Маркизских островах в 1903-м был похоронен "огненно-рыжий художник Гоген", которому даже Таити показался "чересчур цивилизованным". Освежил в памяти похождения моряка и писателя Германа Мелвила в долине Тайпи на тех же островах. Я уже знал во всех деталях историю их открытия и захвата, печальную судьбу жителей…
О Бахметеве, конечно, ни звука.
Открыл книгу, одну, другую — и сразу нашел: как бы не так! На это я не надеялся. Бахметев не может отыскаться так просто… И все-таки каждый следующий, еще не прочитанный том сулил поэзию, романтику, разгадку… И превращался спустя несколько часов в обыкновенную научную прозу.
Все тома ссылались на капитальный труд патера Роллэна "История Маркизских островов", вышедший в 1929 году. Книги этой не было даже в Ленинской библиотеке, но единственный экземпляр оказался, на счастье, в Фундаментальной библиотеке Академии наук.
Достаю. Читаю. И вот передо мною разворачивается картина того, что происходило на островах в конце 50-х — начале 60-х годов XIX столетия, то есть именно в то время, когда Бахметев туда собирался. Воистину клерки Лондонского банка имели право хихикнуть. Такое чудо цивилизации, как аккредитив, еще не доплыло нескольких тысяч верст до сего архипелага. Подлинный край света: французская колония в Нукухиве — офицер и пара десятков солдат — была достаточна лишь для охраны самих себя. Жители не подчинялись и "проявляли особую закоренелость" при попытках их обращения в христианство.
Два раза в год приходило судно с Таити и нерегулярно — из Южной Америки: вот и вся связь с внешним миром.
В 1862 году гарнизон был даже временно отозван. Вообще Франция удерживала острова в основном потому, что иначе их непременно присоединили бы Соединенные Штаты…
Роллэн описывает, как осаждали в те годы архипелаг разные хищники, проходимцы, авантюристы. Сами туземцы вели кровавые междоусобные войны. На островах процветал каннибализм…
Одно место в труде патера особенно заинтересовало меня: оказывается, на островах, кроме французов, в те годы находились и "другие иностранцы"… Однако в качестве примера Роллэн приводит историю двух американских матросов, дезертировавших с корабля и научивших жителей потреблению спиртных напитков.
Если Бахметев был в числе этих "других иностранцев", то франки и фунты стерлингов ему вряд ли пригодились.
Пожалуй, более неблагоприятного места для социальных экспериментов, чем эти острова, трудно было сыскать на всем земном шаре…
* * *
"Как дела?" — спрашивает находившийся в курсе бахметевских розысков знакомый физик и писатель Вольдемар Петрович, человек нрава ядовитого. Все дела человеческие он делит на стоящие, «мужские», и нестоящие, «немужские», причем последних гораздо больше. К моему великому изумлению, розыски Бахметева оказались зачисленными в "дела мужские"…
Я жаловался. Собеседник же находил, что дела идут недурно, ибо остается одним вариантом меньше…
Тем временем прибыли два ответа с Тихого океана — конечно, неутешительные. "Я сожалею, что не могу найти имя Павла Александровича Бахметева в материалах нашей библиотеки", — писала госпожа Маргарет Титкомб из Гонолулу.
Господин Хаккет с островов Фиджи называл различные учреждения в Австралии и Новой Зеландии, где могут знать о Бахметеве, если он действительно попал в Океанию.
Я не огорчался. Все-таки приятно получить письмо с Фиджи… И опять же одним вариантом меньше.
* * *
С кафедры спустился высокий загорелый человек со строгим лицом; только что он ответил на последний из громадного числа заданных вопросов:
— Что обеспечило удачное завершение рейса «Кон-Тики»?
— Прежде всего — наше чувство юмора.
Мне не без труда удается прорваться вперед и выпалить длинную английскую фразу, в которой заранее не было разучено только ее произношение.
— Господин Хейердал, извините за несколько неожиданный вопрос: во время пребывания на Маркизских островах не встречались ли вам следы или упоминания о русском дворянине Бахметеве, в 1857 году покинувшем родину, чтобы основать в тех краях вольную общину?
Хейердал задумывается.
— Я жил около года на Маркизских островах. Сейчас снова собираюсь туда надолго. Нет, о русском не слыхал. Впрочем, мои интересы, — улыбается ученый, — как вы, вероятно, заметили, несколько более древние.
— Да, это мне известно.
На только что закончившейся лекции Тур Хейердал сообщил: радиоуглеродный анализ, проведенный американцами, показал, что на Маркизских островах первые следы человека относятся примерно к I–III векам (а не к XIV, как считалось раньше!).
Еще секунду подумав, Хейердал добавляет:
— Но ведь поток европейских эмигрантов в середине XIX века шел преимущественно в Австралию и Новую Зеландию?
Любопытно, что Хейердал и не зная о другой версии бахметевского пути угадывают ее.
И я, подобно Паганелю, радостно восклицаю:
— Новая Зеландия!
В самом деле, может быть, Бахметев нарочно сказал Герцену, что едет на Маркизские острова, чтобы никто, например родственники, не могли его найти. Скорее он сказал бы правду школьному другу Мордовцеву. Да, но аккредитив на "Iles de Marquises"? Аккредитив покамест из вещественных доказательств изымается. Итак — Новая Зеландия…
СТАРАЯ НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ
Новая Зеландия — это и хорошо и плохо. Хорошо потому, что в Новой Зеландии в 1857 году приезжий, особенно человек с капиталом, не мог остаться совсем незамеченным. В стране уже были и города, и телеграф, и аккредитив, и архивы. Может быть, о нем сообщали в одной из новозеландских газет?.. Но, к сожалению, в Советском Союзе столь дальние газеты столь дальних лет отсутствуют.
Плохо же потому, что начиная с 1840 года в Новую Зеландию устремился поток переселенцев из Европы. У коренных жителей — маори — силой оружия были отняты обширные плодородные земли. За двадцать лет, с 1840 по 1860-й, число европейцев выросло на островах с двух тысяч до ста тысяч!
Поэтому разыскать одного человека в Новой Зеландии — задача нелегкая.
К тому ж он мог явиться туда под чужим именем… Более того, он мог туда и не явиться: как раз в 1857 году туземцы-маори избрали королем старого вождя Потатау (что значит "Крик в ночи") и смело начали безнадежную войну за свои земли и права. В связи с этим поток эмигрантов в Новую Зеландию тогда временно уменьшился и устремился в Австралию, Калифорнию…
Если так, то наша задача, кажется, совсем не решается. Но прежде надо «исчерпать» Новую Зеландию. Только неясно — как… Что еще можно сделать? Приятель, физик и писатель, говорит:
— А ты хоть знаешь дату отплытия своего героя из Лондона?
— А как же! Тридцать первого августа 1857 года он дал Герцену расписку. Герцен пишет, что провожал Бахметева "на другой день", то есть первого сентября…
— Слушай, так как же это ты?..
Я уловил в его голосе столько удивления, что мгновенно догадался: действительно, как же это я?
Надо узнать, надо было давно узнать, какие суда отправлялись в сторону Тихого океана из Лондона 1 сентября 1857 года.
* * *
Не правда ли, как просто — взять и узнать.
Я снова вспоминаю "Детей капитана Гранта", роман, как-то все время удивительно переплетающийся с нашей историей…
Гленарван взял какую-то газету и сразу нашел: "Бриг «Британия», капитан Грант, отплытие такого-то числа…" Какую же он взял газету? Оказывается, "Торговую и мореходную".
А вот еще — Джозеф Конрад, "Зеркало морей". В газете появлялись сообщения о том, что такое-то судно задерживается, а такое-то пропало без вести. Нахожу нужную страницу: оказывается, речь идет о "Флотской газете".
Прихожу в библиографический отдел Ленинской библиотеки, и через минуту передо мной исполинские тома — списки всех газет, газетиц, газетищ, журналов и журнальцев, когда-либо издававшихся в пределах Британской империи.
Ищу нужные названия… Их нет! Тогда принимаюсь разыскивать "Британскую торговую и мореходную газету", "Британскую флотскую", "Лондонскую торговую", "Лондонскую флотскую" — никаких результатов. Страшная мысль: Жюль Берн и Конрад сочиняют… Но, возможно, они просто дают названия приблизительные.
Грустно мне стало. Конечно, можно связаться со знатоками морской истории и английской истории, узнать у них. Но даже если они назовут издание, скорее всего у нас его не найти: сто с лишним лет назад регулярно поступали и сохранялись только крупнейшие газеты. Крупнейшие… А почему бы не заглянуть в них? И вот я заказываю «Таймс».
Громадные страницы с традиционным для этой газеты мельчайшим шрифтом — нонпарелью. Известия из Петербурга, где, по слухам, "собираются отменять крепостное право", очередная сводка о подавлении сипайского восстания, отчет о последней экспедиции, разыскивающей истоки Нила. И страницы, страницы, страницы объявлений: продается… покупается… джентльмен купит… купит лошадь, судно, акции, землю, фабрику, торговое агентство… И наконец объявления о судах, выходящих в море.
Обнаруживаю, что с 25 августа до 5 сентября 1857 года в сторону Тихого океана отправлялось всего одно судно: клиппер «Акаста», водоизмещение 600 тонн, капитан Т. Ахьер, место назначения — Новая Зеландия (города Веллингтон, Нельсон), отправление — Лондон, 31 августа.
Отлично! Единственный корабль в интересующем меня направлении, в нужные мне дни идет в Новую Зеландию. Один за десять дней — ни с чем не спутать. Но только почему же 31 августа, когда нужно 1 сентября?
Продолжаю листать «Таймс»… 30 августа: "Пассажирам, отправляющимся на «Акасте», явиться с вещами к полудню 31 августа". Все же заглядываю в номер от 31 августа и вдруг вижу: "Пассажирам, отправляющимся на «Акасте», явиться с вещами к полудню 1 сентября"(!).
В последующие дни новых объявлений нет. Значит, «Акаста» на сутки задержалась, значит, ушла 1 сентября, значит, где-нибудь к началу ноября должна была прибыть в Веллингтон… Все ясно. И почти ничего не известно… Начинаю понимать, что некогда слишком поторопился с отправкой писем на Тихий океан.
Теперь я могу послать туда новые сведения. Я их посылаю…
В Окленд уходит письмо, адресованное г-ну Мэррею Гиттосу, новозеландскому писателю. Мне сообщили его адрес члены Общества СССР — Новая Зеландия. Говорят, что по складу своего характера этот человек может помочь.
"Я тотчас обсудил вопрос, — отвечал Мэррей Гиттос, — со своим другом, который может произвести необходимые розыски. Он сказал мне, что будет возможно получить список пассажиров «Акасты». Однако мы оба уверены, что никогда не слышали какого-либо упоминания ни о Павле Бахметеве, ни о какой-либо социалистической общине, которая могла бы быть связана с ним. И мы полагаем, что нам было бы кое-что известно, если бы Бахметев действительно осуществил свои намерения в Новой Зеландии".
Через полгода М. Гиттос сообщил, что найти следы Бахметева ему не удалось…
ВАРИАНТ НЕ ИСКЛЮЧЕН, ХОТЬ И МАЛОВЕРОЯТЕН…
Снова уходят научные суда. На них несколько человек помнят о Бахметеве, и если он им встретится…
А физик и писатель недавно заметил, что если бы найти корабельный журнал «Акасты», то все было бы в порядке: такой человек, как Бахметев, не остался бы незамеченным… И Герцен и Мордовцев свидетельствуют, что иностранные языки он знал плоховато. Что должен делать человек с такими намерениями, как у Бахметева, во время долгого плавания? Ясное дело — изучать язык. Каким образом? Общаясь с пассажирами. Стало быть, он был на виду и мог попасть в журнал.
Я ценю сообразительность моего друга и вежливо выспрашиваю, как бы мне сей журнал заполучить. Физик-писатель довольно долго размышляет и приходит к выводу, что все это не очень легко, потому что "дело мужское".
* * *
Мало ли что может случиться с одним человеком в большом мире. Мог ведь он даже и в Россию вернуться (только не в Саратов — непременно Мордовцев узнал бы об этом). Мог поддерживать с кем-то переписку (например, с Августом К. Но только не с родней: просил Герцена не давать денег наследникам).
Впрочем, я завожу переписку с деревней Изнаир, бывшим имением Бахметева, и мне сочувственно отвечают несколько старожилов, помнивших имена прежних бар, но никогда не слыхавших об "особенном человеке" Павле Бахметеве.
Согласно "Что делать?", Рахметов собирался в Америку. Бахметев мог "последовать за ним". Мог, не дождавшись революции на родине, бесплодно существовать в эмиграции. Мог, конечно, и погибнуть.
И никогда не узнал, что стал героем знаменитого романа и привел сотни будущих революционеров к рахметовским мечтам и рахметовскому делу.
Я ничего не ведаю о судьбе этого человека. Но она почему-то тревожит меня…
ВМЕСТО ЭПИЛОГА
Вьеварум — Муравьев. Бывают загадки, шарады и посложнее, чем эта.
Впрочем, Никита Муравьев, один из образованнейших декабристов, догадывался о том не хуже нас.
Зачем же так наивно конспирировал? Или шутил? Ответ на эти два вопроса не кажется слишком важным. Куда сложнее понять все, что связано с документом, который подписан Вьеварум.
Смелое, вольное сочинение, но составленное лет за пятнадцать до того, как декабрист родился. Муравьев его только немного переделал, отредактировал, так, чтобы рукопись XVIII века была поближе, понятнее людям XIX века.
Кто же первоначальный автор? Он не оставил на опасном документе своего имени, даже написанного наоборот. Но мы все равно знаем: то был Денис Фонвизин, сочинитель «Недоросля». Текст, что понравился Никите Муравьеву, был вступлением в потаенную российскую конституцию, которая должна была ограничить самодержавие на полвека раньше, чем о том же начали мечтать декабристы, Пушкин, Герцен.
Где же сама конституция?
Нет ее. Была — но исчезла… Кажется, сожжена; впрочем, есть намеки, что сохранилась — но где, когда?..
Простая загадка Вьеварум — Муравьев ведет к трудной, сложной тайне, а от нее — к другим. Но наша книга закончена…
* * *
Пока книга готовилась к печати, был получен ответ на одну из исторических загадок: обнаружен «Герцен-вальс».
Его привезла из Франции и передала Государственному Литературному музею правнучка писателя Наталья Петровна Герцен, получившая ноты в дар от своего родственника Леонарда Риста.
Комментарии
1 Де Рибас — одесский историк, пушкинист. Потомок адмирала де Рибаса (Дерибаса), одного из основателей Одессы, в честь которого — Дерибасовская улица.
(обратно)2 В записи М. А. Цявловского, сделанной по памяти, как выяснилось позже, было несколько неточностей. В частности, А. С. Сомов был знаком не с Антоном Фонтоном, а с его сыном Николаем Антоновичем.
(обратно)3 Конечно, подразумевается лорд Байрон.
(обратно)4 Гора Фавор, Гефсиманский сад — согласно евангелию, места событий, связанных с Христом и его учениками.
(обратно)5 Потапов — один из главных начальников тайной полиции; Мина — фаворитка министра двора; Комиссаров — крестьянин, спасший царя во время покушения Каракозова.
(обратно)6 "Незабвенное царствование" — ироническое наименование правления Николая I (1825–1855).
(обратно)7 Дьявол, который в поэме Данте «Ад» находился в девятом, последнем круге ада.
(обратно)8 Русский посол в Лондоне.
(обратно)9 Вопросительные и восклицательный знаки, конечно, поставлены Герценом, чтобы подчеркнуть безграмотность официального документа.
(обратно)10 Примечание в скобках также принадлежит тайному корреспонденту Герцена.
(обратно)11 Управляющие III отделением до Шувалова.
(обратно)12 П. Ф. Карабанов — известный собиратель исторических материалов, завещавший их П. В. Долгорукову.
(обратно)13 Заметим, что седьмая часть "Былого и дум" вышла через восемь лет после ареста Чернышевского и прочесть страницы, посвященные Бахметеву, ссыльный революционер уже не мог.
(обратно)14 Уже упоминавшийся в нашем рассказе саратовский историк И. В. Порох выдвинул интереснейшее предположение, не договаривались ли в самом деле Чернышевский и Герцен об использовании "бахметевского фонда". Когда журнал «Современник» был закрыт на восемь месяцев, Герцен был готов издавать его в Лондоне: не на бахметевские ли средства, общие для всех русских революционеров?
(обратно) (обратно)
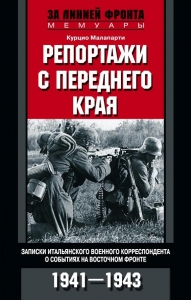





Комментарии к книге «Вьеварум», Натан Яковлевич Эйдельман
Всего 0 комментариев