Публикация и вступительная заметка Марины Горбовой
Михаил Николаевич Горбов (1898–1961) родился в высокообразованной московской семье. Отец его, Николай Михайлович (1859–1921), ученый, книголюб (личная библиотека его насчитывала более 30 000 томов), проявлял большую заботу о развитии народного образования: писал педагогические сочинения, открыл две школы поблизости от своего родового имения «Петровское» Орловской губернии; лучших учеников отправлял учиться в Московский или Берлинский университеты.
Мать М. Н., Софья Николаевна, рожденная Маслова. В семье было шестеро детей. Горбовы были очень дружны с Цветаевыми, с Татьяной Львовной Сухотиной, старшей дочерью Л. Н. Толстого.
М. Н. собирался изучать агрономическое дело, желая посвятить себя имению «Петровское», когда разразилась Первая мировая война. В 1916 г. он идет добровольцем на фронт; во время гражданской войны присоединяется, как и брат его Яков, к Вооруженным силам юга России. В 1920 г. вся семья Горбовых — но без старшего сына Сергея, павшего на фронте в годы Первой мировой войны, куда он пошел добровольцем в 1914 г. — эмигрирует в Германию (Пассау, Франкфурт-на-Майне). В 1925 г. Горбовы переезжают в Париж.
М. Н. начал изучать в Мюлюзе текстильное дело, желая приобрести специальность инженера-текстильщика, но позже тоже перебирается в Париж, где живет на случайные заработки. Он сближается с движением младороссов, среди которых встречает свою будущую жену Юлию Алексеевну Попович (1904–1998). Свадьба состоялась в 1934 г. В 1936 г. родилась дочь Марина. Юлия Алексеевна посвящает себя работе в общественных организациях русской эмиграции, заведует летними детскими лагерями, домами для престарелых.
В 1930 г. М. Н. принял французское гражданство. В 1939 г. призван в армию, а в 1940 г., после капитуляции Франции и демобилизации, возвращается в Париж. По окончании войны работает в телефонной компании «Эриксон».
В отличие от своего брата Якова (1896–1982), соредактора литературно-политического журнала «Возрождение» и автора ряда романов и новелл (в 1978 г. он женился на писательнице Ирине Одоевцевой), М. Н. всегда держался в стороне от политических кругов русской эмиграции. Публикуемая рукопись «Война» написана им полвека тому назад в Париже.
Похоронен Михаил Николаевич Горбов на русском кладбище в Сент-Женевьев-де Буа под Парижем.
* * *
Желание описать тебе, моя дочка, и тебе, моя жена, то, что мне пришлось видеть и пережить, вернулось ко мне после встречи с моим бывшим сослуживцем по одной из воинских частей, в которой мне пришлось быть в годы гражданской войны. Оказалось, что я уже многое забыл, не могу вспомнить ни хронологии, ни часто даже фамилии того или другого лица. Оказалось также, что встреча эта подняла во мне все воспоминания одним разом. За тридцать четыре года время сделало свое дело: притупило острые углы, стерло из памяти ненужный хлам. Не тронуло только одного — сознания, что это тяжелое время было для меня лучшим периодом моей жизни. Никогда после мне не пришлось гореть таким внутренним огнем, никогда после я не нашел так высоко поставленный идеал, за который стоило не только потрудиться, но даже рискнуть собою. Когда сгорел этот огонь, когда на место его явилась ежедневная жизнь, будни, мелкие и большие трудности, когда потекли месяцы и годы трудной и часто скучной жизни, — тогда, обернувшись назад с моим случайно встреченным сослуживцем, я как никогда ясно почувствовал всю ценность моего участия в этой страшной войне. Ценность не для кого другого, как для меня самого, и по той самой простой причине, что мне не нужно краснеть, говоря об этом периоде. Большого я дать и сделать не мог тогда. А такое сознание на вечере моей жизни мне дорого, так как много за мою жизнь наделано промахов, многое сделано было не так, как должно было быть сделано. А поправить уже нельзя.
Как я сказал уже, время стерло многое. Стерло имена лиц, стерло названия мест и даты случившегося. И это к лучшему. К чему называть каждого так, как его звали тридцать четыре года тому назад, к чему вспоминать, в каком уголке южной России появился небольшой холмик земли, а под ним теперь уже только кости тех людей, что не помирились со злом и поднялись на него с такой решительностью, с таким мужеством, что почти три года большевики, имевшие у себя и военные заводы, и огромные склады всякого военного добра, давя нас своим числом, не могли с нами справиться. С нами, не имевшими совершенно ничего и постоянно начинающими бои только для того, чтобы раздобыть себе оружие. Почти три года около трех миллионов красных солдат не могли разгромить каких-то шестьдесят тысяч белых. Здесь не лучшая ли награда нам за наше мужество?
После Брест-Литовского мира немцы заняли весь юг России. На этот юг постепенно стали собираться люди, не принявшие этого мира. Образовалась Белая армия, называвшая себя Добровольческой армией, так как никакой мобилизации быть, конечно, не могло в самом, по крайней мере, начале. Армия эта была лишена решительно всего в первый период ее существования: ни продовольствия, ни вооружения. Составлена она была из офицеров царской армии главным образом. На командных постах были люди, ранее пришедшие, и таким образом часто бывало, что поручик командовал ротой, состоявшей из чинов, много старше его. Все беспрекословно подчинялись такому порядку вещей, и, если бывали случаи неподчинения, по причинам самолюбия или честолюбия, — то они немедленно прекращались. Несогласных принуждали переходить в другую часть, и от этого основные части делались еще более сплоченными.
По мере того, как военные действия развивались, удавалось эту первоначальную армию все лучше и лучше организовывать, конечно, за счет врага. Пехотные полки, часто составленные из чинов других родов оружия, по мере приобретения пушек, броневиков, паровозов и вагонов превращались в специальные части. Появились бронепоезда, артиллерия, к концу войны даже английские танки. С приобретением оружия наши успехи естественно развивались. Фронты расширялись, и был момент, когда вопрос атаки самой Москвы не был фантазией — до нее оставалось каких-нибудь четыреста верст. Но судьба решила иначе.
Немцы косо смотрели на развитие Белой армии, так как армия эта считала себя в войне с ними и, где могла, их атаковала. Конечно, они, немцы, могли бы в то время легко с нею справиться, если бы не их плохие дела на фронте союзников. Туда, во Францию, они переводили свои войска, оставляя на юге России лишь самый минимум. Это спасло Белую армию. К моменту разгрома немцев на Западном фронте мы уже так окрепли, что при окончательном уходе их из России могли организовать настоящий фронт в Крыму. Не будь тогда этого фронта, все, что сбилось в Крыму, спасаясь от красного террора, было бы беспощадно истреблено.
Два раза добровольцы выходили из Крыма на север. Два раза красные заставляли их вновь забиваться за Сиваш. Крым стал крепостью. И наконец, при заключении мира между поляками и большевиками, огромные полчища красных обрушились на Крым, и он был взят. Армия ушла за границу, увозя с собою всех, кого могла взять, и того, кто хотел. Сто десять тысяч человек в четыре дня оставили свою родину и уплыли в Турцию. В Крыму же расправа красных с теми, кто не мог попасть на пароход, была страшная. Оставшаяся в Ялте Катя[1] — свидетельница расстрела 17 тысяч человек.
Я нарочно так кратко, даже поверхностно пишу о начале гражданской войны, потому что мои записки — не исторический очерк. Но многое было бы непонятным, если бы я этого не сделал. Это скучное вступление необходимо как фон, как канва.
В марте месяце 1918 года решено было папу[2] отправить с Соней[3] в Крым. Этого требовало не только его здоровье, но и необходимость бежать от начинавшегося террора. За папой с Соней должны были как можно скорее ехать и мама[4] с Машей[5] и со мною. Жили мы тогда в Орле у дяди Сережи. Дядя уже бежал, и наше положение становилось прямо опасным. В то время большевики еще не препятствовали выезду в Крым, и как папин, так и наш переезд через границу немецкой оккупации сводился лишь к трудностям неудобного путешествия. Надо было ехать до границы в товарном вагоне случайного поезда и — главное — пройти пешком каких-нибудь шестьдесят верст до немцев.
Я проводил папу и Соню до границы и, вернувшись в Орел, стал торопить и маму. Через несколько дней и мы тронулись в путь. За эти несколько дней тучи на границе уже сгустились. Уже появился какой-то контроль, неизвестно кем назначенный. Не все прошло благополучно. От станции Солнцево, последней большевистской станции, до Белгорода, занятого немцами, шестьдесят верст мы проехали на телеге. Я помню, маме это было очень трудно. В Белгороде мы не задержались и уже в чистом поезде с плацкартами доехали до Севастополя, где должны были нас ждать Соня и папа. В Севастополе их, однако, не оказалось. Это было большим волнением: не пропали ли в дороге? Где их искать? Решили ехать в Ялту на автомобиле. Можно было бы и пароходом, что было бы много дешевле. Но в эту минуту ждать и выгадывать казалось невозможным. Я помню эту прекрасную дорогу — все раскаленные скалы, все спаленные солнцем мелкие хвойные леса и вдруг, за поворотом, около Байдарских ворот, вид сверху огромный вид на совершенно темно-синее Черное море.
В адресном столе нашли и папу, и Соню. Все прошло благополучно, и нужно было как-то организовать новую жизнь. Поселились в гостинице, искали квартиру; нашли много знакомых — Дорика[6] в их числе.
Первое время даже казалось, что за немецкими штыками и бояться нечего большевиков. Казалось, что все прочно стоит на своем месте и что, несмотря на революцию, можно продолжать прерванный ею обычный уклад жизни. Деньги еще кое-какие были, и беды мы не знали.
Вопрос о том, как жить дальше, решался как-то автоматически: нужно было жить, как жили раньше. И если мы оказались разорены революцией, то именно поэтому нужно было думать о том, как дальше поступать, чтобы не потерять своих прав и возможностей жить по старому рецепту. Много, конечно, было в этом наивного. Но не так легко вдруг прекратить все, что до того существовало. Папа стал поговаривать со мною о необходимости поступить в университет. О том, что нужно мне закончить мое образование для того, чтобы было чем жить.
Когда теперь вспоминаешь это, даже странно, что при тогдашних обстоятельствах такие планы могли строиться. Очевидно, что это была сила привычки, рутина. Сам я еще меньше, конечно, разбирался тогда во всем. Повторяю, что за немецкими штыками все казалось так прочно. Однако в университет я поступать не собирался, ни даже оставаться в Крыму. Меня тянуло в Москву. К этому у меня были основания, о которых я теперь с болью вспоминаю: когда-нибудь напишу и об этом. Но сейчас бегу от этих мыслей, никогда не дающих мне покоя.
И вот как-то раз я взял да и поехал в Москву. Как меня родители отпустили, как я уперся тогда, — не стоит и говорить. Мальчишку, сына двадцати лет, ни отец, ни мать не могут отпустить спокойно в такое, по тому времени, даже опасное путешествие. Как это — в Москву, где свирепствует террор? До Москвы я, однако, не доехал, а только до Орла. Дальше ехать оказалось невозможным: ни один поезд не шел, на станциях происходили облавы и дикие расправы с подозрительными для революции людьми, к которым я был, конечно, причислен. Оставаться же в Орле было простым безумием. Мое неожиданное появление там, проездом из Крыма, казалось подозрительным: из Крыма пахло контрреволюцией; там сбилось все враждебное самой революции. Кроме того, в этом маленьком городе все знали, что я племянник Маслова, который сбежал и которого искали революционные власти. Пришлось бежать обратно в Крым. Говорю — бежать, так как меня предупредили ночью, что наутро будет всеобщая облава на юнкеров. Страшно было ночью одному идти на вокзал, где неизвестно что тебя ждет; на вокзале избежать возможной облавы, сесть в какой-нибудь товарный поезд и, растворившись в массе разнузданных солдат, уехать. Но Бог хранил меня. Во второй раз я проделал переход от Солнцева в Белгород. В Крыму меня встретили столько же с радостью, сколько и с опаской: ясно было, что моя поездка ничего не устроила и что от меня можно было ждать новых «фокусов». Так оно и случилось. Пробыв с родителями еще некоторое время, я опять сорвался в Москву. Надо быть двадцати лет от роду, чтобы так невольно и жестоко огорчать своих родителей. Я искренне думаю, что не был плохим мальчиком, и если так жестоко не пощадил чувств моих родителей, то только потому, что я не мог иначе тогда поступить. Если бы я тогда не добрался до Москвы, не знаю, что бы со мною было. Но в Москве меня ждали такие разочарования, такие ужасы, пришедшие из меня самого и приходящие извне, — что обойду их молчанием. Тяжело мне тогда было, ох, как тяжело. Но оставаться в Москве было нельзя: революция уже дошла до стадии дикого террора. Проходя по бульвару около Александровского военного училища, можно было слышать залпы расстрелов. На улицах пикеты солдат хватали людей, и судьба их была ясна. Голод начинался. По квартирам шли аресты. А из Москвы не выпускали никого без специального пропуска, выданного Советом солдат и рабочих депутатов. Надо было бежать во что бы то ни стало.
В это время мы жили в нашей московской квартире на те вещи, что удавалось продать. Но и это было крайне трудно. А денег на дорогу надо было набрать, хоть немного. И вот после невероятных усилий, колебаний и страхов решение было принято: решили, добравшись до Курского вокзала, как-нибудь уехать. А как? Об этом не приходилось много думать — ехать надо было, иначе мы были обречены на худшее. И как-то к вечеру, взяв только лишь необходимое, мы двинулись. Тут я должен сказать несколько слов о необходимом. Теперь, оглядываясь назад, волосы двигаются на голове. Как это могло быть сделано, как такая страшная, скажу даже — идиотская, неосторожность могла быть проделана. Казалось, что при всем риске начинаемого путешествия можно было бы постараться не делать ненужных рисков; но если бы открыли наши чемоданы, то в них были положено не только необходимые вещи, но прямо нас не то что компрометирующие, а наверняка посылающие под стенку. В Яшином[7] чемодане прямо сверху лежал его автомобильных войск мундир, в моем — мундир конного артиллериста. Хуже придумать было нельзя, так как конные части оказались самыми неподатливыми на революционную пропаганду и считались врагами народа. Под этими вещами лежали более трехсот фотографий «Петровского». У Кати были любимые иконы и кое-какие драгоценности. Говорю я, что глупее багажа набрать было нельзя, и, если бы где-либо его открыли, нам был бы конец. А на улицах Москвы останавливали: все искали спекулянтов и контрреволюционеров. Как мы добрались до вокзала, как нас на нем не арестовали — можно объяснить только чудом.
Нас ехало пятеро: Катя с Микушкой[8] двух лет (его я не считаю), Яша с Верою[9], я и Шура Станкевич, сын моего крестного отца. На вокзале нас встретил его брат Коля, не ехавший, но желавший нас проводить. Мы всегда считали этих братьев дураками, и хвастливыми дураками. Надо же было связаться с ними в таком рискованном предприятии. Когда на вокзале мы встретились, то Коля оказался с револьвером в кармане и все хвастался, что в случае опасности он даром свою жизнь не отдаст. Револьвер в то время! (В скобках упомяну тут, что муж Кати, Коля, не поехал с нами, предполагая догнать нас после.)
О том, чтобы купить билеты, не могло быть и речи: их давали только с разрешения революционных властей. Не могло быть и речи о том, чтобы пройти на перрон без билетов: контроль был самый тщательный. И вот мы — правда, это было не что иное, как чудо — просто пошли к выходу на перрон в числе, вернее, в обществе каких-то народных комиссаров, отправляемых на юг. Контроль, состоящий из латышских солдат, зная, кто идет, пропустил всех разом. Страшно было ужасно: мы не говорили между собою и молча шли за людьми, целью которых было физическое истребление именно нас, буржуев. Поднялись по ступенькам вагона, и какого вагона: международного общества спальных вагонов, специально поданного для комиссаров. В то время все остальное население ездило в товарных вагонах. Молча и со злобой смотрели на нас глаза оставшихся на перроне — новые буржуи поехали. Ко всему этому, отчего-то задерживалось отправление поезда. Время, казалось, остановилось совсем. Ужасно тяжкие, страшные были минуты. Но вот наконец поехали. Слава Богу, что места не были определены: каждый устроился как мог; даже Кате с ребенком кто-то уступил место.
Только поезд тронулся, вся эта мерзкая публика повытаскивала бутерброды, у нас же, конечно, ничего не было. И это могло нас погубить. Но, видно, судьба решила нас взять под свое высокое покровительство. За всю дорогу до Курска, т. е. за всю ночь никто ни разу ни о чем с нами не заговорил; никто ни разу не спросил нас, кто мы и куда едем. В Курске мы оставили этот страшный поезд и долго ждали возможности тронуться дальше. Но это уже было не то: в провинции не было еще той озлобленности и подозрительности, что была в Москве. Это ясно чувствовалось, так что можно было и справку навести, не рискуя вызвать подозрение. В ту пору вся Россия бедствовала на вокзалах — все ехали в самых бедственных, неописуемых условиях, по разным причинам: кто домой, кто за провиантом, кто, как мы, спасая свою шкуру. После бесконечных часов ожидания мы влезли-таки в товарный поезд, идущий до границы. Именно влезли, так как просто сесть было нельзя. Надо было вагон брать приступом, толкаться и почти драться, так как уже сидящие в нем друг на друге люди, усталые и озлобленные, никого, конечно, впускать не хотели: раз попав в вагон, каждый защищал свое место; так делали и мы на следующих остановках.
И вот мы подъехали к знакомой мне уже станции Солнцево. Дальше поезд не шел. В шестидесяти верстах от нас была и наша свобода, и конец всем рискам. Вышли из поезда и около небольшого помещения, отведенного для ухода за железнодорожными лампами, поставили наш багаж. Надо было идти искать лошадей, чтобы ехать «к немцам». Стояло несколько крестьянских подвод, даже один экипаж на рессорном ходу. Сговорившись с извозчиком, я было взял чемодан, чтобы садиться, как ко мне подошел красноармеец.
— Это ваши вещи, товарищ?
— Мои.
— Подвиньте их, пожалуйста, немного левее. Они тут проходу мешают.
— Да мы сейчас совсем уезжаем.
— Нет, уж вы будьте любезны, подвиньте. А уж поедете ли — так это мы еще посмотрим. Много вас тут до немцев пробираются. Вот осмотрим сундучки, а там и поедете.
Так нас холодом и обдало. Казалось, что все сорвалось в последнюю минуту. Что делать? Дать взятку? А если не возьмут? Только выдать себя. Бежать, бросив все? Пристрелят, как собаку. Что делать?
А в это время самый этот солдат просто внес наши вещи в помещение и запер за нами дверь на засов. Ясно стало, что нас арестовали. В помещении этом оказалось человек пятнадцать. Сразу было видно, кто — все наши, свои. Все сидели молча, с тупым и приговоренным видом. Кто потихоньку рвал бывшие на нем письма и незаметно подбрасывал их в угол или прямо под соседа. Сидели мы так часа четыре. Не дай Бог еще раз пережить это страшное ожидание. Мишук тихо плакал от голода и усталости. Плакали и еще несколько человек, ожидая худшего. Но вот отворилась дверь и вошли два комиссара. Ничего хорошего, глядя на их рожи, ждать не оставалось — самые настоящие народные комиссары. Тупые и злобные лица с сознанием своего превосходства и силы.
— Товарищ, пожалуйте за мною. На обыск. Вот посмотрим, что у вас.
И увели куда-то перепуганного и тихого человека. Прошел час. Пришли за вторым. Опять увели куда-то. Какая была их судьба, никому об этом не сообщалось.
Стало уже смеркаться, а до нас было еще много путешественников, ожидающих своей судьбы. Ясно было, что до утра до нас не доберутся. Катя стала просить выпустить ее с Микушкой на улицу хоть на минуту прогуляться. Добродушный часовой согласился. Только потом мы узнали, что она, сидя на деревянных дряхлых ступеньках лестнички, ведущей в нашу тюрьму, запрятала под одну из них кое-какие драгоценности. Прошло несколько минут. Катя вернулась. Прошло еще много времени, сколько — не могу уже вспомнить, и все понемногу входили злые и страшные люди и уже почти в темноте куда-то уводили арестованных…
Помню, мы даже мало между собою говорили. О чем тут говорить, когда всякая малейшая надежда избежать общей судьбы исчезла. Да никто и не знал, какова эта судьба — что они, расстреливают? Выстрелов не слышно. А может, и не расстреливают? Может быть, просто осмотрят, отберут что поценнее и отпустят? Никто ничего не знал, никто ничего не мог даже предположить, с какой-либо долей вероятности. А время шло. Ужасно медленно. Казалось, что больше невозможно было терпеть такое напряжение. А что делать. Но вот забрали последнюю перед нами даму. На вопрос, где ее вещи, она просто ответила, что у нее никаких вещей нет и что она вообще и разговаривать «с вами, мерзавцами» не хочет. Ее вывели. Стало еще хуже. Следующая очередь наша, а дама эта только еще и раздражила этих мерзавцев или комиссаров, что одно и то же.
Прошло очень много времени, пока дверь вновь открылась. Сердце немного стало тише биться. Ну, сейчас все решится.
— Что вы, товарищи, все вместе, что ли? Что у вас тут? А ну, откройте этот багаж.
Что-то переменилось в обычном порядке обыска. Нас никуда не повели. Что случилось? Хуже это или лучше?
Яша открыл свой чемодан, тот самый, в котором был его мундир, да еще на самом верху. Было ли темно, устал ли этот посланный обыскать нас человек, — не знаю. Но он ничего не заметил, да и не смотрел как будто.
— А тут что? В этом кульке? Да черт с вами тут возиться! Вышибайтесь отсюда к чертовой матери! Бумаг, гады, набросали. Подбирай потом еще за вами. А ну, вышибайтесь, пока целы!
Просить нас долго было не нужно. Раньше казавшийся мне непосильно тяжелым чемодан показался мне перышком. Катя схватила Микушку и враз выскочила на лестницу. Успела-таки и свои жемчуга схватить из-под лестнички. На дворе прямо перед нами стоял все тот же рессорный экипаж, его, очевидно, никто не взял из-за дорогой цены. Мы в него — и ходу. Парень, им правивший, отлично понял, в чем дело, и лошади его, уже застоявшиеся, подхватили с места почти вскачь.
Что произошло? Что переменилось? Никогда мы на это ответа не получим, если не верим в чудо. Было уже почти совсем темно, но так глупо устроен молодой человек, что на радостях, вместо того чтобы поскорее уйти от опасности, он вновь начинает свои глупости. Нужно ли было в ту минуту орать нашими неверными голосами: «Боже, Царя храни!»
Проехав с десяток верст, возница наш, повернувшись к нам, сказал: «Уж вы, барчуки, помолчите. До последней красной заставы осталось недалече». Но красную заставу мы не встретили и через четыре часа были в Белгороде.
После разваленной большевиками России Белгород представлял собою полный контраст. Продовольствия сколько угодно. Белый хлеб. Прекрасное железнодорожное сообщение. Офицеры в погонах. Офицеры эти были из организованной немцами Украинской армии. А главное — чувство безопасности: томящее и по существу стыдное ощущение полного бесправия у себя же в стране кончилось. Кончилось, даже несмотря на то, что мы оказались в части России, занятой ее врагом. С немцами все-таки можно было говорить как с людьми, в случае чего — объясняться. А с большевиками это было совершенно невозможно. Мы знали уже по опыту, что такое произвольный арест и лишение свободы.
Конечно, мы не задержались в этом городе, спеша на юг. Два года спустя мне пришлось вернуться в него. Немцев уже не было, а с большевиками мы не шутили тогда. Роли переменились.
В Крыму мы нашли все в порядке, так сказать. К этому времени удалось найти квартиру на Аутской улице в самой Ялте. Домик этот принадлежал какому-то швейцарскому гражданину, уехавшему со случайным пароходом к себе. Он оставил мебель, с просьбой вернуть ему все после революции. Больше мы его, конечно, не видели.
Но если мы нашли какой-то внешний порядок в нашей семейной жизни, то нельзя было сказать, чтобы эта устойчивость была прочной. Что-то переменилось в воздухе. Стало тревожно, и это, конечно оттого, что общая военная обстановка сильно переменилась. Была уже осень 18-го года, и становилось ясно, что немцы войны не выиграют. А если не выиграют, то уведут свои войска из Крыма. Тогда что будет? Немедленно всю Украину и Крым займут большевики. И каждый из нас понимал, что это значит: поголовное истребление всей контрреволюционной, сбившейся в Крыму, России. Было мнение, что тотчас по уходе немцев в Черное море войдет союзный флот. Но придет ли он? Да и до тех пор, пока он (если только) придет, большевики успеют с нами справиться. Тревожно было в воздухе, как говорится. Ходили слухи о каких-то добровольческих частях, якобы борющихся с красными, но ничего конкретного никто сказать не мог. Говорили, что надо бы было организоваться на худший случай, создать отряды на Сивашах, укрепить Перекоп. Не было никого, кто бы мог это начать, да для этого надо было иметь оружие, чего немцы нам, конечно бы, не дали. Было мнение, что правительство гетмана Скоропадского уже настолько окрепло, что способно противостоять Красной армии. Но правда ли это было так? И вот по Ялте пошли сначала слухи, а потом прямо сведения об убийстве царской семьи. Сведения эти пришли с большевистскими газетами, проникшими все-таки в Крым. Впечатление это произвело страшное — царя убили, и не только его, но с ним и всю его семью. И мальчика не пожалели. Всех в погребе, в сибирском городке, перебили и трупы побросали в шахту. Многие плакали. Шли панихиды в церквах. Эти же газеты хвастливо говорили об уничтожении контрреволюционной гидры по всей России. Печатались речи Ленина и Троцкого, с приказом бороться за революцию без пощады. Приходили все новые и новые известия о зверствах и расправах. А если оглянуться вокруг, мы были совершенно беззащитными, уйди немцы, которым и дела до нас не было, а только до нашего провианта, — и всех нас ждало поголовное истребление.
И вот как-то раз приехал откуда-то в Ялту офицер Добровольческой армии и прочел небольшой доклад о том, что на краю области Войска Донского действительно существует крошечная Русская армия, дерущаяся с Красной армией под русским национальным флагом. Офицер этот звал поддержать эту армию, звал присоединяться к ней. Прочел доклад и исчез. Немцам, конечно, это не понравилось. Однако слухи о возможности борьбы с красными укрепились. Что-то где-то было. Мужчины старше меня — я это понимал — знали гораздо больше меня. Но что-либо узнать от них мне не удавалось, так как конспирация была вначале, по крайней мере, полная. Но вот как-то раз, идя по набережной, я наткнулся в буквальном смысле на двух, судя по их одежде, офицеров, прямо говоривших, что вербовочный пункт там-то. Лучших сведений я получить не мог и прямо туда и пошел. В небольшой комнатке, насквозь прокуренной, я застал целое собрание. За столом сидел офицер в полной форме. Глазам было трудно верить — не только в полной форме, но еще на его левом рукаве был пришит отличительный, еще не виданный знак: углом сшитые две ленточки, одна — цвета национального флага, другая — цветов императорского штандарта, а поверх всего была царская корона. Офицер этот записывал не в Добровольческую армию, значения которой он не отрицал, а в Южную армию. По его словам, эта армия стояла на границе области Войска Донского и начинала свои действия против красных. Ее девизом была полная и безоговорочная реставрация, никаких компромиссов. Революция должна быть подавлена любой ценой и трон восстановлен. Он тут же записывал добровольцев и предлагал сейчас же уезжать в эту армию.
Узнав все это, я, совершенно потрясенный, вернулся домой. Конечно, мы все целый вечер только об этом и говорили. Помню, каким взглядом обменялись папа и мама, когда я обо всем этом рассказал. Как мне теперь тяжко бывает об этом вспоминать: они, конечно, поняли, что меня не удержать и что меня нельзя удерживать. После ужина папа позвал меня к себе. Медленно он лег, по своей привычке, на диван, закрыл глаза рукой и с видимым трудом сказал:
— Вот что, Михайлушка. Если ты собираешься ехать в Южную армию по высоким чувствам патриота, я ничего не могу тебе сказать. Но если тобою руководствует только лишь желание авантюры, то пожалей нас, стариков. Помни, что мы уже потеряли Сережу.
Трудно мне было ответить. Трудно, потому что в такую патетическую минуту лукавству не может быть места. А я знал, что не только по высоким чувствам уже решился, но также и потому, что в ту пору я не находил себе места.
— Что же ты молчишь? — спросил папа.
Я все еще не находился, что мне ответить.
Папа, очевидно, понял меня и пожалел.
— В такие страшные годы родительским чувствам не может быть места. Пойди и позови маму. Я думаю, что ты прав.
Больше мы к этому никогда не возвращались. Довольно горячий, однако, разговор был у меня с Яшей и сестрами. Мнение их было, что это не что иное, как чистая авантюра, так как еще ничего не известно было точно, надо было подождать. Я не разделял этой точки зрения и в следующее же утро пошел в этот вербовочный пункт.
Записал меня в армию ротмистр Масленников. Дал документ:
«Горбов Михаил.
С такого-то числа зачислен в ряды Южной Армии в чине вольноопределяющегося. Сбор на станции Кантемировка».
И все. Дал мне справку, как туда ехать. Советовал не ехать в военной форме, а в штатском платье, так как немцы не пропускают едущих в область Войска Донского военных, зная, куда они едут. Сказал несколько пошлых фраз о патриотическом долге молодых героев.
Тяжкий день прошел у нас в доме. Но хуже всего было за ужином, когда на вопрос, когда же я еду, я сказал, что завтра утром. Папа ничего не говорил; мама слегка фортепьянила по столу пальцами.
После ужина мне надо было пойти узнать, точно ли, что завтра с утра едет экипаж в Симферополь. Когда я вернулся домой, все уже легли и только у родителей горел свет. Мне нужно было ехать завтра же с раннего утра, и потому я прямо пошел к ним. Они уже лежали: папа в постели, а мама на устроенном для нее диване. Стыдно мне было страшно за ту боль, что я им причинил. Но не мог же я не зайти к моим старикам в такую минуту!
— Господь тебя храни, дитя мое, — сказал папа.
Мама меня тихо благословила, надев иконку Божией Матери на шею.
Мы не говорили в этот вечер. Я ушел к себе, и всю ночь мы с Яшей проговорили о том, хорошо ли я поступаю. Что идти в армию было нужно, мы были согласны. Яша укорял меня за поспешность.
Рано утром я тронулся в этот неизвестный и полный всевозможных случайностей путь. Все вышли меня проводить на крыльцо нашего небольшого домика. Я не хотел, чтобы кто-либо провожал меня до самого места, где меня ждала небольшая пролетка с дантистом из Симферополя, согласившимся меня взять до этого города. Не хотел, так как — не хочу этого скрывать — было мне до крайности тяжело, а проводы только продлили бы это тяжкое состояние. Хотелось проглотить все сразу. Не стоит описывать все подробно. Если принять такую систему, мне пришлось бы напечатать целый роман, чего я не собираюсь делать. Так что в дальнейшем я буду выбирать из моей памяти только то, что мне кажется наиболее выпуклым и интересным.
Где и как я ночевал в Симферополе, как там питался — все это ненужные подробности. Питался, конечно, плохо, а спал хорошо, так как тогда был еще и молод, и крепок. Трудности для меня начались тотчас по выезде из Симферополя. Пролетки уже не было, и пришлось искать возможности попасть на какой-нибудь поезд, идущий в моем направлении. Конечно, товарный поезд. И вот к вечеру я залез на поезд, груженный мешками с яблоками. Это были платформы, а не вагоны, заваленные как можно выше этими мешками. Вся эта масса держалась, будучи стянутой толстой проволокой. Забравшись на самый верх, я вытащил два мешка и в получившееся углубление лег, как ложатся люди в гроб. Было тепло, так как ветер не продувал, и уже этим я был очень доволен.
Все шло очень хорошо, и я бы отлично доехал довольно даже далеко и в нужном мне направлении. Но на беду в какой-то подлый момент ночи и на полном ходу одна из стягивающих проволок лопнула, и мешки эти стали один за другим падать на путь. Падали нижние, а верхние скатывались по мере того как опустошался низ. Пришлось мне, чтобы не слететь с этими мешками под колеса быстро идущего поезда, всю ночь карабкаться по другим мешкам. На первой же станции началась на меня облава, как на вора, нарочно рассыпавшего мешки. Тогда я не задет был еще артритом и не был пятидесяти лет от роду: ноги мои отлично действовали — только им я и обязан тому, что не был пойман и посажен за решетку.
Ехал я несколько дней, уже не помню, сколько. Как я питался? Покупал на остановках пирожки у баб, и было неплохо. И вот как-то к вечеру поезд подошел к станции Кантемировка. Тут, по данным мне ротмистром Масленниковым сведениям, я должен был встретить кого-то из армии. Оказалось, что ехал я не один, а еще несколько человек пробиралось туда же. Все мы встретились на перроне и, конечно, узнали друг друга. Не будь того, что мы боялись дорогой быть остановленными или немцами, или еще кем-либо, — а тогда всего опасались, — мы могли бы добраться до этой Кантемировки все вместе и с меньшим трудом. Узнать, кто мы и куда собираемся, было очень просто: все мы были молоды, а кроме того, все в военном.
Только мы вышли, как к нам подошел офицер. Высоко в небе летел аэроплан. Офицер этот, со знакомой нам уже нашивкой на руке, приступил к делу прямо:
— Все в армию? Нет ли специалистов?
Я вышел на шаг вперед, с твердым намерением попасть в самый тот авиационный отряд, аэроплан которого парил над нами.
Расспросив меня, какое я имею отношение к авиации, и узнав, что совершенно никакого, он все-таки предложил мне идти с ним в этот отряд, узнав, что ни автомобиль, ни мотоциклет для меня не новость. Механики ценились тогда на вес золота. И вот мы пошли. Было уже совсем темно. Лежал неглубокий снег. Идти надо было двенадцать верст, но мы разговорились и о войне, и о нас самих, разыскивая общих знакомых. Он был из Москвы. Несколько раз я чуть не упал, споткнувшись о какую-то кочку. И вот тут-то я познакомился с тем, что такое гражданская война, смог измерить степень ее беспощадной жестокости. На мой вопрос, что это за равномерно расположенные кочки, князь Вадбольский (так звали первого встреченного мною человека из Белой армии — этого офицера) объяснил мне, что это трупы взятой армией несколько дней тому назад 5-й Нижегородской железной дивизии большевиков.
— Сколько их? — спросил я.
— Двенадцать тысяч. Расстреливали из пулемета целый день. А зарыть всю эту сволочь еще не удалось. Нам некогда, а казаки не желают. Весной зароют, когда земля оттает и пойдет вонь.
Долго мы еще шагали молча. Я все-таки не ожидал этого, даже при всей моей ненависти к красным. Позже я понял, почему и откуда явилась такая дикая злоба. Понял, повидав трупы наших, попавших в руки большевикам. Мы только расстреливали. А они — страшно вспомнить, что они с нами делали. Попасть в плен было много хуже самой тяжелой и долгой, но естественной смерти.
И вот мы пришли. Явились к командиру. Меня зачислили мотористом к нему, к его аппарату. Наутро мне нужно было явиться в ангар для получения инструкций, для ознакомления с этой машиной.
Но надо было и переночевать. А где? Никаких квартир не существовало, и мне посоветовали пойти в ближайшую деревушку попроситься переночевать в стоящий там лазарет. Меня проводил один солдат и дорогой предупредил, что ждать отдыха в этом лазарете не стоит, что все битком набито ранеными и что даже навряд ли и место дадут. А больше и негде. Хоть на улице ночуй; в отряде же — и думать нечего. Спят по очереди. И вот настала моя первая ночь в действующей армии.
Солдат, провожавший меня, знал кое-кого в этом лазарете и устроил меня. Старшая сестра, принимая во внимание, что я с дороги, не ел и промерз, дала возможность прилечь на краю какого-то диванчика, предупредив, что он может ночью понадобиться. Но и этому я уже был рад. И вот, только я заснул, меня растолкали: привезли на подводе трех больных с позиций. Им, конечно, надо было уступить место. Пришлось встать и искать себе новое пристанище. А искать было просто: или на улицу, или под кровать кого-либо из раненых или больных. На всех койках лежали завернутые в шинели или чуть прикрытые одеялами больные и раненые люди. Многие тяжко стонали; многие ругались, прося помощи или воды. По мере возможности их удовлетворяли. Вонь стояла самая страшная — гной и карболка. Уже еле держась от усталости и всего виденного за день, я залез под койку, стоящую около уборной. Прямо надо мною, в пяти сантиметрах, отделенный от меня одной холстиной, лежал кто-то и тихо стонал. Кто этот человек? Что с ним? Было так тесно, что перевернуться с боку на бок было невозможно. Ежеминутно на ноги мне наступали проходящие в зловонную уборную люди и нещадно ругали дурака и мерзавца, так глупо протянувшего свои ходули поперек дороги. Я уже почти и не дышал от духоты, вони и отчаяния. Так вот она, война? Вот что такое действующая армия? К утру лежащий надо мною стал страшно метаться и все кричал: «Сарлинар! Я Христос! Бейте его белым! Пить, сволочи, хоть керосину. Я ведь Христос».
Долго так промучился этот бедняга, и к утру сквозь сон я слышал, как кто-то распоряжался, чтобы умершего поскорее вынесли. Место надо было освободить для лежащего на улице больного.
После такой ночи трудно мне было идти в отряд к чужим и незнакомым людям, от которых я уже не ждал ничего другого, кроме проявления жесточайшего эгоизма. Но я ошибался. Меня приняли прекрасно. Оказалось, что среди моих новых товарищей много славных и добрых ребят. Отводившего меня в лазарет солдата подняли на смех за глупость. В отряде в двух верстах была устроена военная квартира: был попросту занят дом казака, и в нем помещалась вся моторная команда. Дом этот был связан с отрядом телефоном, там же была и походная кухня. Почему этот дурак отвел меня в лазарет, он сам никак не мог мне объяснить потом.
Мои обязанности как моториста заключались в надсмотре за мотором командирского аэроплана. Это был пленный австрийский аппарат. На его фюзеляже стояла поразившая меня навсегда заводская марка: «Ханзабранденбургишермилитерлугцейгаутомобилькрафтверке». Аэроплан этот был старый и хорошо потрепанный; во всю длину он был не то что запачкан, а залит касторовым маслом. Все это мне надо было отчистить. На ночь надо было выпускать воду из радиатора и к утру опять его наполнять. Делать это было очень неудобно и трудно. Надо было после каждого полета осматривать всю машину вообще: все тросы, шасси, мотор. Все это было для меня так же ново, как и интересно. Командир отряда оказался пресимпатичным капитаном. Его единственным недостатком было некоторое легкомыслие, жертвою которого я скоро и стал. По моему положению вольноопределяющегося я был принят в офицерское собрание — это все, что давала мне армия. Конечно, никакого жалованья, ни содержания никто не получал, даже одежды. Многие были в штатском, и я был очень рад, что имел форму. В те годы это многое значило. Через несколько дней я освоился с моим постом, с моей должностью. Каждый день с утра солдаты выводили мой аэроплан из ангара. Собиралась толпа крестьян, никогда не видавших такой машины. Я в последний раз обходил его. (Вначале, после моего «последнего раза», ходил и сам капитан. И с основанием; но потом я уже пользовался его доверием.) Самым трудным было завести мотор. Капитан садился за руль, а мне надо было сначала, завертев винт назад, что было уже трудно, набрав смеси, сильно повернуть его лопасть в другом направлении. Старый мотор никогда не заводился легко… Перед аппаратом я насыпал золу или песок, чтобы не поскользнуться при заводке мотора. У нас был такой случай, что моторист запустил винт и поскользнулся. Ему снесло полголовы, а винт разлетелся на куски. И долго потом не могли мы найти другого винта, и аэроплан этот не вылетал.
Сначала капитан не брал меня с собою: всегда мне это было очень обидно. Другие летчики брали своих, меня же почему-то не брали. На мою просьбу брать и меня командир всегда отказывал, ссылаясь то на холод, то на то, что место всегда занято его наблюдателем. Но как-то раз поручик, летавший с ним, заболел, и я был взят. Мой первый полет на военном аэроплане был из станции Кантемировка на станцию Чертково. Туда мы переводились, так как наши части сильно продвинулись вперед. В Черткове мы были совсем хорошо размещены. Пришло еще два аппарата, пришел винт для стоявшего без него «Ньюпора», и всех машин было шесть штук. Полеты, если позволяла погода, были ежедневные: их целью была разведка расположения и передвижения красных частей. Часто с вечера приезжал в отряд мотоциклист из штаба армии с конвертом. Иногда приезжал и кто-либо из офицеров, и всегда была одна и та же просьба — посмотрите, где их артиллерия: бьет по нам, и не можем ее поймать. За ночь они всегда переводят батарею на новую позицию, и с утра сюрприз. А снарядов мало, и бить впустую жалко.
И вот с утра выводился на поле старый «Бранденбург». Солдаты держали его за хвост. Происходила обычная процедура проверки, и пока заведенный мотор обогревался, я лез наперекор отчаянному ветру, поднятому винтом, на свое место. С трудом пробежав по полю с полверсты, старая машина тяжело поднималась. Летали всегда на версту вверх, опасаясь стрельбы снизу. Но ни разу мы не нашли ни одного следа от пули, нигде — на крыльях или на фюзеляже. А ясно было видно красных солдат с поднятыми вверх винтовками. Под орудийный, и то очень слабый, огонь мы попали только раз. Несколько шрапнелей разорвалось недалеко от нас, но ни одна пуля, ни один осколок нас не задел. Что-либо толком рассмотреть сверху нельзя было. Во-первых, большевики прекращали стрельбу при нашем появлении, и, следовательно, огня не было видно; во-вторых, был уже глубокий снег, все закрывающий. Все казалось равномерно белым, видны были хорошо только дороги. Конечно, мы ясно видели тогда и направление их обозов, что это за обозы. Не думаю, чтобы очень помогали артиллеристам и вообще войскам наши рапорты после полета. Но моральный эффект был несомненный. При появлении аэроплана по деревням начиналась паника; что было ее причиной, трудно сказать — бомб вначале мы не бросали, потому что их и не было. А когда мы получили немецкие, то они оказались так слабы и малы, что большого вреда не делали. Бомбы эти были десятифунтовые. Брали мы с собою на наш «Бранденбург» шесть штук, и то казалось, что тяжело. Бросали их прямо за борт, как можно из окна вагона выбросить бутылку. Ни разу я никуда не попал, куда хотел, то есть или в дом, или в обоз. Досадно это было ужасно, так как никак не удавалось причинить им прямой вред.
Вот откуда были у нас эти немецкие бомбы. Как-то раз приехал к нам в отряд офицер из рядом стоящего пехотного полка. По его сведениям, мимо, по границе Войска Донского, должен был пройти немецкий военный транспорт. Надо было его отбить, а в полку у него не хватало людей. Офицер этот просил летчиков прислать ему хоть небольшую команду в подмогу. Добровольцев досадить немцам набралось много — весь наш отряд. Условлено было, что завтра с утра мы выйдем в поле, еще до света, и, встретившись с пехотной частью, поступим в ее распоряжение. С вечера об этом было много разговору, хотя мы и опасались того, что немцы не так-то уж легко дадут себя обезоружить. Предполагалось взять под обстрел паровоз, выведя из строя машиниста, хотя бы он оказался и русским. Как только поезд встанет, открыть по нему пулеметный огонь. За три версты дальше намеченного места рельсы будут развинчены: так или иначе, поезд этот остановится, но хотелось во что бы то ни стало избежать его крушения. А немцев всех поголовно перестрелять. Предполагалось также, что они везут с собой провиант.
В это время революция разгоралась и в Германии, вследствие ее разгрома. Немцы спешно уходили из России к себе. Невеселые чувства жили тогда в нас. Что в Крыму? Увидимся ли еще со своими? Никаких писем, конечно, из дома не было. Я часто писал, посылая письма с оказией, но ни одно ни разу не дошло до дома.
И вот рано утром, еще в темноте, мы собрались в эту экспедицию. За Чертково нам пришлось подождать пехоту, да и пришло их с десяток человек, во главе с бывшим у нас накануне капитаном. Сейчас же половина отряда ушла дальше — туда, где было назначено разобрать путь, а мы остались в кустах, ожидая поезда. Просидели так почти до вечера, не евши и продрогнув до мозга костей. Несколько раз приходили к нам из ушедшего отряда. Оказалось, что рельсы никак невозможно развинтить, так как забыли взять нужные инструменты. Ходили за ними в деревню, но они не подходили.
Могло получиться и так, что немцы, открыв, в свою очередь, огонь, пройдут мимо нас, да еще и перебьют нас же. Начали мы рыть кое-какие окопчики, куда хоть голову можно было спрятать. И вдруг низко пролетел наш аппарат. С его борта летчик наш махал нам рукою, но что он хотел сказать, ничего, конечно, понять нельзя было. К холоду и голоду прибавилась и тревога. Ругали пехотного капитана: «С вашими немцами мы тут все перемерзнем, да поди еще и перестреляют, как ворон. И кто вам сказал, что немцы тут проедут? Тоже стратег нашелся!»
Но стратег оказался прекрасный.
Недолго спустя после аэроплана послышался шум паровоза. Тяжело пыхтя, поднимался он на подъем, на верху которого мы его ждали. Огромный товарный состав медленно приближался к нам. Мы разобрали винтовки. Пулеметчик продел ленту в свой пулемет. На середине пути мы воткнули палку с белой тряпкой — в этом месте был и подъем, и поворот, обогнув который, с паровоза несомненно она сразу делалась заметной.
— Стрелять только по моей команде. Сначала по паровозу. Если немцы будут отвечать, по всему составу, — шепотом командовал пехотный капитан.
Мы затихли в каком-то тревожном ожидании. А что, если они не остановятся да как начнут нас чесать пулеметом?
Но выйдя за поворот, паровоз сначала свистнул, а затем резко стал тормозить. Из вагонов повысунулись головы немецких солдат.
Подъехав почти в упор к флагу, паровоз встал.
— Не стреляйте, — тихо сказал капитан. — Машинист наш.
Несколько немецких солдат спрыгнули из переднего вагона на балласт. Они были в тридцати метрах от нас.
— Дайте очередь по немцам.
В этот же миг отвратительный, жестокий и стрекочущий звук пулемета разорвал тишину. Несколько немцев упали, один бросился бежать прямо на нас. Его схватили и повалили на землю. Кто-то ударил его по голове прикладом. Изо рта его разом хлынула какая-то черная кровь. Из вагонов в это время стали, подняв руки, выпрыгивать немецкие солдаты.
— Не стреляйте, не стреляйте! — орал капитан.
Никто и не стрелял. Держа руки над головою, к нам подходил немецкий лейтенант. Его солдаты, повернувшись к нам спиной, стояли с поднятыми руками вдоль вагонов. Два наших солдата вязали руки машинисту.
— Мы не вооружены, — сказал лейтенант, — и сдаемся.
Никто, конечно, ничего не понял. Его связали по рукам.
— Что, сволочи, попались? Здорово форсу дали?
Я, как единственный говорящий по-немецки, подошел к лейтенанту и предложил ему совершенно глупый вопрос, а именно: куда он едет. Обрадовавшийся немец начал мне быстро что-то объяснять. Но нас перебил пехотный капитан.
— Что же вы, батюшка, не сказали, что брешете по-ихнему? Спросите его, куда его благородие собирается. Да скажите, что если на небеса, то недолго ему ждать.
Я перевел, но не совсем точно. Не хватило смелости сказать человеку, что его сейчас расстреляют.
— Ах, в Германию, голубчик? А где она, эта Германия?
Я опять перевел.
— В этом направлении, — с наивностью отвечал немец.
— А, так-так-так. Ну вот, вы им, голубчик, скажите, что мы их не звали и не удерживаем. Пусть идут в свою Германию. Она, эта их Германия, у меня вот где сидит, — он показал себе на шею. — Пусть идут и торопятся, а башмачки, да и шинелишки свои пусть нам оставят. У меня в роте русские солдаты по морозу босые ходят.
Как я мог сообразить, наш капитан имел к немцам страшную злобу. Переводить всего я не стал, а просто передал, что их не тронут и что они могут идти куда хотят, но оставив нам сапоги и шинели. Удивленный немецкий лейтенант что-то хотел было сказать. Но, видя, что его распоряжение не исполняется немедленно и беспрекословно, наш капитан вдруг озверел:
— Не хочешь слушаться, — заревел он на чистом немецком языке, — так я вас как собак сейчас всех перевешаю! Снимай сапоги, паршивая немецкая свинья! Довольно вас тут видели! А вы что не переводите, что я вам говорю? С ними пройтись хотите?
Я был столько же поражен, сколько растерян.
Уже возвращаясь домой, капитан говорил мне, почти прося прощения, что молод я еще, чтобы людям о смерти говорить, что, Бог даст, никогда этого и говорить не придется.
И поздним ноябрьским вечером, босые, без шинелей, без провианта, в чужой враждебной стране пошли эти несчастные люди на голодную, холодную или лютую смерть.
Вот откуда были у нас немецкие бомбы. Вот откуда достались нам, самим голодным и неодетым, чужие мундиры и наш русский хлеб: поезд был полон провианта и оружия.
Дни шли быстро. Был уже декабрь и стояли лютые морозы. С фронта приходили самые разнообразные слухи, и составить себе картину того, что происходило на самом деле, было действительно трудно. Но общее мнение было, что Красная армия дерется упорно и что победить ее и с нею остановить революцию не так-то просто. Однако в тех местах, что мы занимали, все устраивалось, так сказать, к лучшему. Везде, куда мы приходили, население встречало нас восторженно. С нашим приходом кончался произвол красных, мы несли с собой старый, всем известный порядок вещей. Старые формы царского времени имели прежний престиж.
Хуже было с казаками. К себе они нас не пускали, как не пускали и красных. Оставаясь пока что как бы вне гражданской войны, они не давали нам уверенности в их преданности нашему делу, преданности старому режиму. С этой неясностью их желаний наш левый фланг был открыт. В любую минуту казаки могли пропустить к себе красных, и тогда мы оказались бы окруженными и отрезанными от моря, единственного нашего спасения в случае военных неудач. Так оно потом и случилось, но меня тогда уже в армии не было. Вся Южная армия была окружена и погибла, кроме тех, кто раньше ее оставил, и части летчиков, улетевших на аэропланах, имевших еще немного бензина.
А мы все продвигались на север, угрожая уже самому Воронежу. Шли, упоенные нашими успехами. Фронт расширялся, и надо было повсюду оставлять хоть небольшие гарнизоны. И вот пришла пора, когда добровольцев стало не хватать. Армия начала пробовать мобилизовывать молодых мужчин, но как ни хорошо встречали нас повсюду, куда мы приходили, а на мобилизацию население откликнулось очень неохотно. Причиной тому был страх расправы красных с населением в случае неудачи. Мы-то были пришлыми людьми, а коренное население с основанием опасалось попасть в худшие трудности в случае разгрома армии и ее ухода.
И вот было получено приказание из штаба армии — не считаться с трудностями и забрать под ружье мужчин, способных носить оружие. Сразу же отношение к нам переменилось. Нас стали бояться, а казаки — прямо и враждебно относиться к нам. Но в то трудное и суровое время считаться с чужими страхами нельзя было. При первой попытке не подчиниться нашим распоряжениям командующий 1-й армией Николай Иудович Иванов отдал приказ о примерном наказании. Может быть, иначе тогда и нельзя было поступить, даже, наверное, нельзя было избежать жестокости, но все же слух о спаленном селе, не желавшем подчиниться, не принес нам ничего хорошего. Помню этот страшный пожар, помню всю ненависть его жителей к нам. Долго из окна нашей избы мы смотрели на полыхающий огонь, на то, как перепуганное население растаскивало свое добро. На следующий день мы уходили дальше из этого местечка. Со злобой смотрели на нас крестьяне этого села, и не думаю, чтобы мы их приблизили к себе. Мобилизация, конечно, не удалась, и только самые верные России люди пошли за нами, бросив и свое добро, и свои семьи.
Хочется мне тут рассказать о моей последней стоянке в Южной армии. Стояли мы в большой избе казака. Было нас человек восемь, и с казацкой семьей было и тесно и грязно. Ночи напролет плакал грудной ребенок, и так продолжалось много ночей. Чем этот ребеночек был болен, мы не знали, но его трясло с утра и до вечера. Приходил его осмотреть наш отрядный фельдшер и ничего не мог определить, ничем не смог ему помочь. И вот как-то раз пришел к казаку его отец, старый-престарый человек. Поговорив с отцом этого ребеночка, он подошел к нему, взял на руки и чуть-чуть повернул ему головку. Есть поговорка: что болезнь как рукой сняло. И действительно, плач сразу оборвался, и с этого времени ребеночек стал и есть хорошо, и перестал, главное дело, трястись. Старик вправил ему слегка вывернутый позвонок на шее, давивший на спинной мозг.
Была в этой казачьей семье и молодая, лет двадцати, красивая девка. Звали ее Анютою. Родители просили нас не обижать ее, и между нами было решено ничего плохого ей не делать и обходиться с нею как с милой хозяйкой дома. Слово наше мы держали, у нас с нею были самые хорошие и веселые даже отношения. Весела она была до чрезвычайности и очень услужлива. Готовила нам, что могла, так что мы даже и с походной нашей кухни не питались. И вот эта Анюта взяла себе в голову полетать на аэроплане. Когда старый казак об этом узнал, то прежде всего больно ее выдрал. Затем стал запирать ее в чулан, когда весь поселок шел смотреть на то, как поднимаются в воздух люди. Жил также у нас в отряде и прапорщик, летчик, не помню уже его фамилию. Прапорщик этот был прекрасный летчик и сорвиголова первой статьи. И вот пришло ему в голову эту Анютку во что бы то ни стало прокатить на его одноместном аппарате. Как мы ни отсоветывали ему, напоминая, что это, прежде всего, строжайше запрещено и что скрыть это от командира совершенно невозможно; как мы ни просили его не пугать родителей Анютки, а полет этот все-таки состоялся.
С вечера наш командир давал распоряжения, кому завтра нужно было и куда лететь. С утра команда мотористов и солдаты были уже на поле, выводился первый аппарат и после его отлета приготовлялся следующий. Издалека мне было видно, как поручик машет руками и как, видно, бранится со своими мотористами. Однако сел в аппарат, мотор запустили, и по привычке этого лихого летчика он сразу сорвался с места, пробежался, однако, дольше, чем обычно, и как-то колом поднявшись в воздух, вдруг опустился посередине недалекого огорода. Все мы бросились туда, не понимая, что случилось. Оказывается, что Анютка все-таки была с раннего утра посажена в этот маленький аэропланчик, под самое почти сиденье. Видеть оттуда она, конечно, ничего не могла, но от страха вцепилась в ноги поручика, не давая ему управлять машиною. Только крайняя ловкость спасла и его, и Анютку, и самый аппарат от катастрофы. Конечно, произошел скандал: поручика отправили из отряда, а Анютка, получив порку самую жестокую, иначе не называлась отцом, как «ну ты, птица».
Это была славная казачья семья. Сохраняю о ней самое приятное воспоминание. Но вряд ли так же вспоминает обо мне казак этот. Была у него огромная и презлющая собака. Так как никаких обычных удобств в крестьянской избе не было, то приходилось нам по нашим делам ночью, как, впрочем, и самим хозяевам, выбегать на двор. Их-то эта собачина знала, а нас не хотела признавать, и получалось то, что в самый критический момент и в самой неудобной позе приходилось отбиваться от этого зверя, поворачиваясь во все стороны, когда как раз поворачиваться совершенно неудобно. Как ни просили мы держать ее на цепи, казак ничего не хотел слушать. Собаку эту я как-то пристрелил, чего и сейчас еще стыжусь. Но, правда, есть моменты, когда уже и не до собак.
Приближалось Рождество. Писем из дому все не было, и от этого на душе было грустно и тяжело. Зима же была снежная, и аппараты с трудом поднимались даже по расчищенному полю. И вот пришло известие, что в Чертково пришли авиационные лыжи и что их можно приспособить к некоторым из наших аэропланов. До Черткова было верст пятьдесят по железной дороге. Командир послал меня с одним из солдат за этими лыжами. Последние, однако, десять верст проехать с паровозом было нельзя из-за непрочности моста, только на ручной дрезине. Доехав до этого моста, я уже ночью один поехал дальше. Теперь с удивлением вспоминаю, как это я мог такую вещь проделать: за одну ночь прокатить десять верст на дрезине, дойти до военных складов и, разбудив всех ночью, настоять, чтобы мне были выданы тяжелые и длинные лыжи, чтобы опять же одному дотащить все до дрезины и доехать на ней до взорванного моста. Что это было — глупость или энергия? Так или иначе, а лыжи эти я привез в отряд с необыкновенной скоростью и получил за это чин фельдфебеля.
Я уже сказал как-то, что командир наш был несколько легкомыслен. Как можно было поручить мне, малоопытному механику, переставить аэроплан с колес на лыжи, да еще и лыжи эти надо было приладить, так как они были английские, а «Бранденбург» был австрийской машиной. Справившись, однако, с этой задачей, я доложил об этом капитану. День был ясный и безветренный, было уже к вечеру. Назавтра было приказано перейти на другую стоянку, куда уже были посланы наши солдаты разбивать палатки и чистить поля от снега. Все аппараты были уже там, и мы должны были перелететь туда завтра с утра.
Командир решил тут же попробовать, как его «Брандер» поднимется на лыжах. Завели мотор, он дал, как всегда, знак рукой, чтобы отпустили державшие за хвост солдаты, и мы очень легко, без толчка поднялись. Сделали круг и хотели сесть, но я заметил, что с земли нам делают какие-то сигналы. Командир тоже заметил это и вновь забрал высоты. При втором желании снизиться мы уже увидели, что нам машут лыжей, делая вид, что хотят сломать ее. Сообщаться друг с другом на этом аппарате было крайне трудно, так как мы сидели один за другим, да еще отделенные друг от друга слюдяным экраном. По жестам командира я понял, что он говорит мне, чтобы я, поднявшись с сиденья, посмотрел, что с нашими лыжами. С большим трудом, преодолевая страшный ветер, прямо рвущий лицо, я перегнулся через борт фюзеляжа и с ужасом увидал, что правая лыжа не держится на оси, а только на двух резиновых стягах, ветром же ее совершенно прижало к животу машины. С еще большим трудом я смог передать это моему командиру, от которого теперь зависела моя и его, если не жизнь, то сохранность. Так как от шума мотора слов разобрать было нельзя, то командир забрал немного высоты и погасил мотор. В это время я и смог прокричать ему, в чем дело. Вероятно, он понял — не знаю, так как больше я его никогда не видал… думаю, что понял, потому что, почти уже касаясь земли, он сильно приподнял правое крыло, стараясь, видимо, сесть на левую неповрежденную лыжу. Для меня все бы прошло благополучно, если бы не мое глупое любопытство. Я приподнялся и, держась за борт фюзеляжа, хотел видеть, как сломанная лыжа заденет за снег. Сиди я на месте, меня бы не вытряхнуло на снег. В это мгновение левое крыло коснулось земли, весь аппарат рвануло влево. Я вылетел из машины прямо в снег, а аэроплан, как мне потом рассказали, став на минуту хвостом вверх, опять принял обычное свое положение.
Толчок был страшный: скорость при снижении была все-таки верст на восемьдесят, а высота падения метра три. Не убился я только потому, что снег был глубокий — не будь этого, я бы разлетелся на куски, как печной горшок.
Пришел я в себя только на следующий день к вечеру. Меня с поля перевезли в лазарет, тот самый, в котором я ночевал по приезде в армию. Об этом я, конечно, ничего не помню, как не помню — кто меня привез туда и на чем. Ударившись о снег лицом и спиною, я получил сильнейшую контузию, да к этому и вывихнул челюсть. Пять коренных зубов оказались выбитыми, и лицо распухло все на левую сторону. Я не мог ни раскрыть рта, ни говорить, ни есть. Спина страшно болела, и, раз приняв согнутое положение, я никак не мог выпрямиться. При малейшем движении меня, как иглой, пронизывала ужаснейшая боль, так что я уже лежал боком и старался не двигаться. Положение это было невтерпеж тягостно, половина меня самого находилась не на койке, а на весу, и я лежал, опираясь на подставленный стул. На следующий день изо рта при кашле пошла кровь, постоянно набирающаяся во рту, а выплюнуть ее было почти невозможно, так как малейшее движение даже губами вызывало тоже боль. Так пролежал я почти две недели, уже и не надеясь когда-либо выйти из этого окаянного лазарета. Лечения из-за отсутствия лекарств не было никакого; иногда приходил военный врач и бодрым голосом говорил мне: «А ну, посмотрим, что у вас в ротике делается? У, голубчик, да у вас там все запухло. А ну, выплюньте-ка, что у вас во рту».
От этого мне легче не было, а только брала досада и страх, что я останусь калекой. Была, правда, очень милая сестра. Она мне помогала тем, что давала мне с ложки теплого чая, больше я ничего не мог принять. Лазарет этот был битком набит, вонь стояла ужасающая, не было никаких лекарств, не было даже освещения. С наступлением темноты мы погружались в полный мрак и так лежали до утра. С утра же начинался длинный и тяжелый день, без надежды на облегчение, с тупой болью во всем теле. Несколько дней спустя меня навестили из моего отряда. Приехавший офицер привез мне от командира документ, по которому я был зачислен в отпуск с правом ехать домой. Рассказал мне о том, как после нашего неудачного полета трудно было привести в порядок все-таки попорченный «Брандер», что пришлось задержаться почти на неделю, но что в конце концов командир вылетел в отряд; вообще новости из отряда. Все это меня не так уже интересовало в ту минуту. Мое желание было теперь как можно скорее выбраться из лазарета и добраться домой, где я надеялся подлечиться. Для этого у меня за обшлагом лежал пропуск. Его я берег как глаза.
Едва ли не хуже боли были вши. Уже в отряде они начинали меня грызть и противно щекотать, ползая по мне. Но в этом чертовой памяти лазарете я их набрался столько, что страшно вспомнить. Они не давали мне покоя ни минуты, все время передвигаясь по мне. А почесаться было совершенно невозможно. Скверными были эти две недели, и не могу не признаться, что больше всего меня беспокоила непрерывно наполняющая мой рот кровь. Откуда она идет? И дышать становилось все труднее. Но вот настал едва ли не самый счастливый день моей жизни. На вокзале был сформирован санитарный поезд, и нас предполагалось отправить в Новороссийск. Это был первый уходящий на юг санитарный поезд, составленный из вагонов третьего класса. Поезд этот забрал нас всех; теснота была неописуемая, лежали и стояли даже в коридорах. Но уже всему мы были рады, лишь бы выбраться из лазарета на свежий воздух.
В Новороссийске нас выгрузили прямо на перрон в ожидании того, что дальше делать с нами. Оказывалось, что никаких мест ни в одном лазарете для раненых и больных нет и что нас будут размещать по частным домам. И вот, лежа на носилках на перроне, я вдруг услышал: «Миша Горбов!» Мой товарищ по гимназии, Степа Хаспехов, уроженец Новороссийска, обходил раненых с двумя своими сестрами, чтобы взять домой к себе кого-либо. Надо же было ему натолкнуться на меня. И вот я оказался в богатом армянском доме. Приняли меня как самого дорогого и близкого человека. Вызвали прежде всего доктора. Он нашел, что в левом легком сильное кровоизлияние, что, кроме того, хребет мой в области таза получил некоторое искривление и что челюсть, вероятно, треснула. Радиоаппарата не было, и точно определить этого было нельзя. Велел ни в коем случае не лежать, а сидеть, и дал разных успокаивающих боль лекарств. До конца моей жизни буду благодарен Хаспеховым за их уход и ласку. Много часов провел я в обществе милых этих армяночек и, конечно, уезжая, оставил там и сердце мое. И как было его не оставить?
Прожив у них с месяц, я решился все же ехать дальше. Уже без вшей, в чистом белье и починенной форме летчика, собрался я в путь. Долго прощались мы с черноокой Ниной, и, как ни старался я взять с собою все, что имел, пришлось оставить половину сердца. Степа меня не провожал: пока я гостил у них, он тоже ушел в армию.
Пароход, идущий в Севастополь и заходящий в Ялту, однако, не ушел в назначенный день. До Хаспеховых было далеко, и я на пару дней приютился в офицерском собрании, и там мне было очень хорошо, мы даже подружились с каким-то полковником на почве крайней ненависти к революции. Наконец пароход сообщил, что можно грузиться. При входе на трап военный контроль проверял документы. Прошло уже много людей, прошел и я и ждал моего нового товарища. Но вот и он с багажом подошел к трапу. И тут же один из военного контроля, подставив ему револьвер прямо под нос, скомандовал: «Руки вверх!» Медленно поднял он руки.
— Что, сволочи, узнали? — сказал он.
Ему сорвали погоны, закрутили руки за спиною.
— Долго с тобою возиться не будем! — И повели.
До вечера пароход не собрался отчалить. А когда стал отходить от пристани, мы услышали одиночный выстрел. «Готов, — сказал мне стоящий рядом военный. — Много их тут, мерзавцев, среди нас и много они делают нам вреда. А как их разберешь? Вот вы ведь с ним сошлись? А это был подосланный большевиками партийный агент».
По палубе же метался молодой человек. Его жена и старуха мать остались на берегу. Как он мог сесть на пароход, не посадив сначала своих? «В бильярд заигрался», — объяснял он. Дураков на свете, как видно, много.
Не помню, сколько времени надо было, чтобы дойти до Ялты. Пришли мы рано утром. Было еще темно, и ходить по городу по военному положению до рассвета было нельзя. Долго я ждал, пока сумерки разошлись, пока я узнал знакомый мол и на склоне горы самую Ялту. Совершенно ясно помню теперь, кажется, каждый мой шаг по этой земле, ведущей меня домой. Долго поднимался я по Аутской улице к дому, из которого ушел пять месяцев тому назад и который иногда и не надеялся увидеть опять. Что там?
И вот оказалась передо мною та самая дверь. Я постучал и через несколько минут услышал голос Маши: кто тут?
Пробираясь между дочерьми в ночных рубашках, уже сильно немощный папа старался добраться до меня, и, наконец почувствовав меня, он долго ощупывал меня, не видя без очков.
Снова оказался я в семейном кругу. Яша был уже в армии, но так как его полк формировался в самой Ялте, то он ночевал дома. Немцев уже не было — их заменили союзники. На рейде стояла их великолепная эскадра, а по городу ходили в широчайших штанах английские матросы и в беретах с красными помпонами французские.
На Сивашах был наш фронт, и говорили, что пока на нем спокойно. Добровольцев тогда было уже достаточно, чтобы отбиваться от красных. Нас баловали, на нас с надеждою смотрели как на единственную защиту. Меня много приглашали по знакомым и расспрашивали о том, как на фронте, как снабжена армия. Конечно, я рассказывал то, что видел, и преувеличивать нечего было. В особенности тяжкое воспоминание оставил о себе лазарет: неужели все-таки ничего нельзя было сделать, чтобы помочь так жестоко страдающим людям? И вот как-то раз княгиня Барятинская, стоящая во главе Красного Креста, позвала меня к себе и просила не отказаться быть на собрании завтра: «Расскажете, Миша, что вы видели. У нас не все согласны между собою…»
В большой комнате, вернее зале, гостиницы Джатита было собрание организуемого Красного Креста. Председательствовала сама княгиня. Были все члены, было много народа и среди них генерал, главный уполномоченный Красного Креста по отправке на фронт санитарного снабжения. Я сидел возле княгини как почетный гость: тогда еще мало было «фронтовиков». Княгиня, представив меня собранию, попросила рассказать не о военных действиях, а только лишь о том, как меня лечили. Я повторил уже сотню раз рассказанный рассказ. Было некоторое молчание, и вот генерал встал и, глядя на меня, стал называть и перечислять все отправленное на фронт. По его словам получалось, что я просто насочинял, наврал как мог, а что на самом деле все обстоит очень даже хорошо.
Опять наступило молчание, гораздо дольше первого. Я не знал, как мне поступить, и сидел красный как рак. Наконец все встали. Встал и я и пошел к выходу. Я видел, повернувшись, как кто-то держал генерала за пуговицу, что-то ему с жаром говоря. При выходе кто-то пожал мне руку, кто-то сказал: «Молодой герой» — с иронией, конечно.
Через несколько дней княгиня была у нас и рассказывала, что после моего ухода произошел форменный скандал и что генералу придется уйти.
Пробыл я в Ялте месяца два. Здоровье мое быстро поправлялось. Кровь вышла из легкого, только левое плечо немного опустилось, да мучили меня зубы. Челюсть ныла и больно было есть. Я начал собираться обратно в мой авиаотряд, имел уже место на пароходе. И вот как-то встретил одного из наших солдат, уже с нашивкой Добровольческой армии на рукаве. От него я узнал, что Южная армия не существует, что казаки пропустили-таки красных через свои земли и что вся армия, за исключением нескольких человек, среди них летчиков, попала в плен. Встал вопрос: правда ли это и, не явившись в часть, не попаду ли я в дезертиры? После долгих колебаний я решил все-таки попытаться проехать и самому узнать, правда ли все это.
Пароход, идущий из Севастополя в Новороссийск, должен был зайти в Ялту, и я думал сесть на него. Уже пришел этот пароход, причалил к пристани и надо было на него садиться. Уже был я у входа на трап, как, спускаясь с него, узнал меня князь Вадбольский, тот самый князь, с которым мы шли вечером в отряд по трупам расстрелянных большевиков. От него я узнал точно, что Южная армия больше не существует, что судьба ее жестока и что только часть нашего отряда смогла спастись, так как не было бензина для всех. Командир же полетел на своем «Брандере» к Колчаку.
Итак, ехать туда было незачем, и он советовал мне проехать в Севастополь, где формировались инженерные части и, в частности, бронепоезда. Сам он ехал в Новороссийск.
Много лет спустя, читая книгу Легра «La revolution Russe», я узнал из нее, что наш друг Легра на самом этом аэроплане и с моим бывшим командиром добрался-таки до Колчака после трудного и рискованного перелета. Мал свет.
Задержавшись еще на несколько дней в Ялте, я сел на пароход, идущий в Севастополь, и записался в Добровольческую армию. Меня зачислили на бронепоезд, называвшийся «батарея дальнего боя номер один». От Ялты до Севастополя я проделал путь в обществе Александра Ивановича Гучкова. Больше я его никогда не видал.
Поезд этот формировался около самой гавани, где раньше стоял наш флот. Из бывшего сильного флота осталось только несколько старых кораблей, да посреди гавани килем кверху лежала взорванная предателем огромная масса бывшего дредноута «Императрица Мария». Остальные корабли были потоплены в Новороссийске большевиками, и только мачты их торчали из воды. А на дне этой пустынной гавани, с привязанными к ногам камнями стояли сотни наших офицеров, потопленных красными. Водолаз, спускавшийся туда, говорил, что руки их обращены вверх и тихо колышутся по течению. И вот на этом фоне мы начинали строить наш бронепоезд. Прямо за нами была эта священная вода, а прямо над нами поднимался порядочный обрыв, за которым начинался сам город. Много наделал нам неприятностей этот крутой обрыв: постоянно, прячась в ямах и кустах, местные большевики стреляли по нам, и стоять ночами в карауле было просто страшно. Чтобы избавиться от этой опасности, воинские части совместно с полицией устраивали облавы. Не раз приходилось мне бывать в этих экспедициях; особенно помню одну. Нам полиция дала знать, что в домике в пригороде бывают собрания красных и что в эту ночь их можно легко накрыть. Поздно ночью пошли мы в засаду. Прошло немного времени, и действительно, в указанном домишке стали собираться подозрительные люди. В одном окне засветили свет, стало видно, что кто-то держит речь и, судя по движениям, учит, как обращаться с пулеметом. Мы окружили дом. Свет мгновенно погас, и нас встретила частая стрельба. Прячась за окнами и в камнях, начали стрелять и мы. Кто-то из нас словчился бросить в окно гранату. После страшного взрыва все замолкло. Вошли — на полу куски разорванных людей, а кто не был убит, был добит нами. Однажды, впрочем, мы забрали их живьем и под угрозой наших винтовок повели к набережной, где — обычно в овраге — их казнили, на это были любители. Вели мы несколько человек, и среди них был подросток, мальчик лет шестнадцати. Всю дорогу этот мальчонка плакал и жался ко мне: «Дяденька, отпустите, дяденька, я боюсь». Как я мог его отпустить?
А вечерами нельзя было выходить иначе как по нескольку человек и с заряженными винтовками, так как эти же люди из-за темных углов стреляли в нас как по воробьям.
Дни же наши проходили за тяжелой работой. Надо было снимать с кораблей тяжелые орудия, надо было перетаскивать их на берег, ставить на платформы формируемого бронепоезда. Надо было таскать тяжеленные ящики со снарядами, обшивать стальными листами паровоз, перестраивать вагоны на казармы, в которых мы должны были жить. Работы было много, и мы спешили, желая как можно скорее выйти на фронт. Командир Гулыга оказался опытным и энергичным человеком, и в несколько недель мы сформировали-таки порядочный бронепоезд. Паровоз был непроницаем для пуль, так же как и три боевые площадки, хотя даже трехдюймовый снаряд мог, конечно, пробить нашу броню, как яйцо. Но и тому мы были рады. Устроили себе и казармы, переделав частью вагоны третьего класса, частью товарные. Была даже столовая и кухня в одном вагоне.
Настал наконец день нашего выхода на фронт. Собрались мы все в столовой к устроенному парадному завтраку. Командир только что поднял рюмку водки за наши успехи, как раздался страшный грохот, и крыша столовой продавилась под тяжестью огромного камня, столкнутого большевиками с обрыва, бывшего над нами. Многих придавило, многие были только оцарапаны, но и кухня, и столовая были разбиты вдребезги. Это задержало наш отъезд. Проработали мы еще пару недель, починили, как могли, наши вагоны и собрались вновь отпраздновать наш отъезд, но этому не суждено было быть.
Накануне командир собрал нас в столовой и сказал нам: «Господа, положение на фронте таково, что нам немедленно надо уходить. Большевики прорвали фронт, и если мы не успеем проскочить Джанкой, то придется возвращаться назад. Нам приказано идти в Керчь».
Через несколько часов, подняв давление в паровозе, мы вышли на север. Шли всю ночь, никто не спал. К утру стали встречать наши отступающие части. Иные нас приветствовали, иные ругательски ругали: «Поздно собрались. Как бой, так этих броневиков и не видно. Или к красным спешите?»
Чем больше на север, тем больше встречалось раненых. Многие просились к нам, не отдавая себе, видно, отчета, что мы идем в противоположном направлении. Наконец, стала слышна и стрельба, сначала орудийная, а потом и ружейная. И вот мы подошли почти к самому Джанкою. Надо было, перейдя мост, сделать маневр, перейти на пути, идущие в Керчь. Это была наша первая встреча с красными. Увидев наш поезд, они открыли по нам огонь из нескольких орудий; мы отвечали. Но наши морские и дальнобойные пушки быстро с ними справились, и их батарея замолчала. Сделав нужный маневр, мы вышли на керченский путь и, отойдя на расстояние, не доступное красной артиллерии, открыли по их пехоте огонь. Я был назначен на этом поезде мотоциклистом и вторым номером при орудии. (Второй номер выдергивает из гранат шпонку тотчас перед его вставлением в магазин орудия.)
У орудия меня было легко заменить, и командир послал меня в Джанкой сообщить отступающим частям, что мы идем в Керчь и можем взять с собою раненых и больных. Надо было разыскать кого-либо из старших офицеров, чтобы исполнить это поручение.
Пока на людях, пока с товарищами — еще и не так страшно. Но сесть одному на стрекочущий, издалека видный мотоцикл и поехать на нем туда, откуда люди уходят, потому что там плохо, — очень страшно. И вот стали приходить к нам не только раненые, могущие еще ходить, но и много совершенно здоровых людей, желающих тоже попасть в Керчь: кто по боязни не попасть на пароход в Севастополе, кто с желанием продолжать в Керчи то, что не удалось на Сивашах. Набрав сколько можно было солдат и офицеров, мы к вечеру пришли в Керчь.
Прорвав наш фронт на Сивашах, большевики заняли весь Крым до Акманайского фронта. Фронт этот пересекал Крымский полуостров от Азовского моря до Черного в самом узком его месте: кажется, длина была верст двадцать, не больше. На этом фронте мы простояли ровно 52 дня.
В Крыму большевики беспощадно расправились с теми, кто не успел эвакуироваться. Не щадили даже и ни в чем не повинное местное население. Мои же родители и сестры смогли попасть на английский дредноут и были вывезены в Новороссийск. Как я потом узнал от них, произошло это в самую последнюю минуту. В Новороссийске они встретились с дядей Левой, имевшим деньги, и сняли в местечке Хако или Мысхако небольшой домик.
Прибыв в Керчь, часть поезда немедленно вернулась на фронт, а часть его осталась на керченской станции, бывшей в четырех верстах от города. Надо было пополнить наше вооружение и закончить кое-какие работы. Я был оставлен при этой части поезда, как мотоциклист, для связи с городом и самим поездом. Боев на фронте не было, его срочно укрепляла пехота, устанавливали свои батареи артиллеристы. Несколько раз я с удовольствием ездил туда по разным поручениям. Было совершенно тихо, погода прекрасная, и поездки эти на мотоцикле были одним удовольствием.
Как-то раз со мною решил поехать даже сам командующий фронтом генерал Шиллинг. Но доехав до нашего поезда, он отказался ехать обратно: «Весь зад в кровь расшиб! Хоть пять подушек привяжи, из тебя всю душу вытрясет!»
Совершенно неожиданно получил я письмо с оказией из дома. Узнав, что мои под Новороссийском, я стал проситься домой в отпуск и скоро получил удовольствие побывать дома. Поезд посылал на Кубань за снарядами, и я был командирован в числе уезжавших. Повидавшись со своими, я в совершенно другом настроении вернулся в часть, и вообще об этом Акманайском фронте вспоминаю прямо с удовольствием. Скоро и весь поезд вышел на фронт, и мы прекрасно жили в наших вагонах, проводя время в охоте на сусликов. Было тепло, хорошая погода и не было никаких страхов, как в Севастополе. Одно было плохо: мы совершенно оборвались, а получить обмундирование невозможно. В тылу, однако, раздавали прекрасные английские формы, и мы с нетерпением ждали нашей очереди. Но как всегда бывает, тыловое войско было одето, а мы ходили оборванными. Помню, что в ту пору у меня не было даже обуви, и только при поездках в Керчь мне одалживали пару английских башмаков. На фронте же я ходил босиком.
Как-то раз привез я из штаба армии конверт с тремя крестиками нашему командиру. Распечатав его, он так и распустился в улыбку: «Если ты, Миша, ежедневно будешь привозить такие новости, то скоро мы и в Москве будем. Господа, Английская Императорская и Королевская эскадра в случае чего поддержит нас своим огнем и с завтрашнего дня станет на рейде в виду фронта».
И вот наутро мы были разбужены неслыханным еще нами гулом. Точно что-то страшно тяжелое и металлическое легло на землю: казалось, что сама земля вздрогнула. Повыскочив из вагонов, мы с восхищением увидали, далеко за проволоками большевиков огромные столбы дыма: «Англичане бьют с моря. Все по местам!»
Думали, что это тревога, что начинается бой. И вот второй залп, и за ним третий. И какие залпы!
— Катайте, Горбов, к морю и узнайте, в чем дело. Впрочем, я сам с вами поеду.
Подъехав к морю — до него было верст десять, — мы увидели далеко стоящие великолепные английские суда. Среди них была и «Императрица Елизавета», по тому времени — самый большой военный корабль. Если не забыл, то всего было семь судов.
Около берега стоял с английским флагом катер и около него толпились наши военные, кто босой, кто в таком виде, что и за военного его принять было нельзя. На катере же — безупречно выбритые, в щегольских мундирах английские офицеры. Мы с обидой и удивлением смотрели на них, а они — с оттенком соболезнования и презрения. Обидно это было очень. В то время я еще кое-как говорил по-английски и смог объяснить англичанам, что мы с бронепоезда и хотели бы сговориться с английскими моряками о согласовании наших действий в случае чего. Оказывается, что англичане именно для того, чтобы войти в контакт с командирами батарей, прислали за нами катер и ждут нас на своих судах. Пришлось мне объехать все батареи и оповестить их командиров. Катер ушел, чтобы вернуться вечером, когда все соберутся. И действительно, к вечеру он вновь причалил к берегу, и нас посадили всех. Почему-то попал и я, хотя оказалось среди офицеров несколько человек, безупречно говоривших по-английски.
Кое-кто из нас был более или менее чисто одет. Но в общем, это было не войско, не прежнее русское офицерство — скорее люди из армии санкюлотов. Приняли нас прекрасно, угостили и папиросами, и виски. Все это приносил на подносе безупречный бармен из матросов. На вопрос, чем объясняется утренний залп, английский адмирал сообщил нам, что сегодня именины Его Величества Короля Английского и Императора Индии. По этому случаю дан залп, и не зря, а снарядами по большевикам.
Связь с ними была налажена, и несколько раз я был, но уже только на берегу, в гостях у англичан.
Как-то вечером, ровно в шесть часов, раздался подлый звук и тотчас за ним разорвался снаряд прямо около паровоза. И тяжелый снаряд. Мы ждали, что будет дальше. Но больше большевики не стреляли. На следующий вечер — то же самое. Так продолжалось несколько дней, и было совершенно невозможно разглядеть, где же орудие, бьющее по нам с такой равномерной точностью. Ясно было, что красные пристреливают батарею, чтобы как-нибудь открыть по бронепоезду сильный огонь. Ждали этого каждый день, переменили место; несколько раз, однако, мы видели английский гидроплан, летавший над красными позициями. И как-то рано утром мы были опять разбужены тем страшным гулом, что поразил нас в день именин Короля Английского. Англичане разыскали-таки красную батарею и одним залпом прихлопнули ее.
Я был в Керчи при штабе армии. То, что меня там задерживали, было ясным указанием, что что-то готовится. В любую минуту я мог быть послан с каким-либо конвертом. Но красные нас опередили. Приехавший с фронта мотоциклист привез известие, что наутро ожидается, по сведениям лазутчиков, их наступление. С этими сведениями я вернулся в поезд. Были приняты экстренные меры, и к утру мы ждали красных, даже с нетерпением. Наш фронт был сильно укреплен: три ряда окопов, союзная эскадра, сильная артиллерия.
Ждали недолго. Рано утром началась их артиллерийская подготовка. Видны были и их выстрелы, и разрывы их снарядов по нашим линиям. Мы отвечали, била также и наша артиллерия. На рассвете красные пошли в атаку. По чистому полю ясно были видны их цепи, шедшие одна за другой. Всего шесть цепей. Я никогда не видел этого раньше — людей, идущих в такой массе на нас, с твердым желанием нас истребить. Картина грозная и тревожная. И вот на этих, идущих на нас людей, посыпались наши снаряды. Видно было, как первая цепь сначала перебегала, а затем залегла. К ней подошли люди второй цепи и тоже залегли. Люди знающие, с опытом, утверждали, что у красных неладно, что их солдаты не рвутся, что говорится, в бой. И вот из подошедшей третьей цепи послышался треск пулеметов по своим же. То были матросы. Сразу вся эта масса людей вновь двинулась в нашем направлении. По всему нашему фронту начался частый огонь, но красные все шли. И только под самыми нашими окопами, не выдержав огня, бросились назад. Много их осталось на поле. Атака была отбита, и наша пехота пошла подбирать оружие и добивать раненых. Я помню труп матроса. Ему снесло голову, она тут же лежала в пяти шагах. Матрос этот держал под левой мышкой коробку с дамскими башмаками. Я взял их себе и подарил потом одной из моих сестер. Себе я нашел пару прекрасных сапог на каком-то красноармейце. Снимать было противно; потом это забывается.
После этой неудачной атаки красные нас не трогали. Еще несколько времени мы простояли, ловя сусликов. Но недолго это продолжалось. У самой Керчи находились огромные, еще со времен греков, каменоломни. Весь город был построен из добываемого из них камня, и образовались огромные подземные убежища. В этих гротах или убежищах постепенно собралось все нам враждебное, все местные большевики. Об их существовании мы, конечно, знали, но выбить их оттуда никак не удавалось. Несколько рот пехоты смотрели за тем, чтобы не выпустить их оттуда. Стояла на взморье и канонерская лодка и иногда даже била по этим каменоломням. Большого значения мы всему этому не придавали, и напрасно.
И вот однажды красные вновь пошли на нас. На этот раз нас атаковали сами революционные матросы. Это были отборные, ударные красные части. Несмотря на сильный огонь и большие потери, они, что говорится, в два счета выбили нашу пехоту из первой линии. Как ни била по этой линии наша артиллерия, как ни били по ней и мы, матросы из нее не вышли и атаковали вторую нашу линию. Их встретили страшным огнем, но и вторую линию они заняли. Пехота наша отошла на третью и последнюю. И вот в этот критический момент пришло из Керчи известие, что там восстание, что из этих Аджимушкайских каменоломен прорвалось несколько сотен красных и что Керчь горит. Пришлось мне туда съездить. До Керчи я, однако, не добрался: в пригороде шел форменный бой. Вернувшись обратно на поезд, уже отступивший на несколько верст из боязни быть отрезанным, если разобьют за ним пути, я узнал, что все снаряды расстреляны и что мы стоим без дела. Командир приказал, отъехав еще на несколько верст, идти всем в окопы. Было уже почти темно, как вдруг в небе поднялась красная ракета. Никто не знал, что это значит, и потом никто не мог допытаться, кто ее пустил. Ракета эта была сигналом англичанам, что наша последняя линия взята, чтобы открыть по ней огонь. Как раз в это время мы подходили сюда. Невозможно передать, что это были за разрывы. Бронебойные снаряды, глубоко зарывшись, поднимали, кажется, всю землю с собою. До окопов мы, конечно, не дошли и залегли в поле, ожидая нашего конца. От этого страшного боя бежали и красные. В наших, совершенно разбитых окопах, лежали и наши, и красные вперемешку. И вот пехота пошла, собравшись с духом, вперед, наш же поезд оказался без действия из-за недостатка снарядов. В это время в Керчи ротмистр Бартенев расправился с восставшими большевиками. Я не был свидетелем всего этого. Только на следующий день, попав в Керчь, я увидел, с какой жестокостью было подавлено это восстание. Не было ни одного телеграфного столба, от станции до самой Керчи, на котором не висело бы по пяти или десяти повешенных. Каменоломни были заняты, и все, пойманные там, были беспощадно истреблены. Чем могла быть объяснена такая жестокость? Чтобы понять ее, достаточно было посмотреть на трупы наших, попавших в лапы к большевикам: прибитые к плечам погоны, вырезанные на лбу кокарды, выколотые глаза, отрубленные пальцы — все это свидетельствовало не о быстрой расправе на суку дерева или из винтовки, а о долгих и тяжелых пытках.
Попытка большевиков уничтожить нас единовременным наступлением с фронта и тыла не удалась, и мы вновь оказались на прежних позициях. В это время назначен был командующим фронтом генерал Слащев. Генерал Пилинг был ранен, и больше мы его не видели. Новый же командующий фронтом был фигурой, о которой стоит сказать пару слов.
За его непонятную храбрость он получил потом название Слащев-Крымский. Кончил, однако, тем, что уже после нашего поражения и эвакуации перешел к большевикам. Этот странный человек всегда был одет в белую, им придуманную форму — что-то вроде белой черкески. На голове — странная, белая же кубанка, на левой руке — белый попугай. Его адъютантом была большой красоты девушка, в чине поручика и всегда в мужской форме. Замашки этого генерала были диктаторские, а его распоряжения поражали своей оригинальностью. «Клопы и блохи! — можно было прочесть на стенах домов в Керчи. — Клопы и блохи, мы вас достаточно видели. И вшей тоже, а вот ванных для раненых мало. Чтобы завтра были. Напоминать не буду».
И появлялись в наших убогих лазаретах и ванны, и нужные лекарства. Его любили за это, но больше всего он был популярен из-за своей непонятной храбрости. Никто не мог понять, зачем он так поступает. И много раз я сам его видел впереди его конвоя: с попугаем на левой руке, весь в белом, с развернутым русским флагом, он объезжал наш фронт далеко впереди наших окопов. Большевики обычно открывали по всей этой кавалерии жестокий огонь, но ни разу никто не сморгнул, что говорится, глазом; ни разу никто не был задет пулей. Зачем это надо было делать — никто никогда не мог понять.
Простояли мы так же тихо и спокойно еще некоторое время. Но вот на утро 4 июня 1918 года было назначено наше наступление. Предполагалось очистить Крым от большевиков и выйти на Украину. Нашей прямой задачей было занятие Джанкоя с возможной быстротой, чтобы отрезать красным путь отступления на север. Рано с утра стали бить и англичане с Черного моря, и подошедшие греки с Азовского. Вся наша артиллерия открыла также, что называется, ураганный огонь. К пяти часам утра наша пехота и мы продвинулись вперед. Красные окопы были разнесены вдребезги, и мы беспрепятственно дошли до Джанкоя. Но в самый город войти не могли: красные взорвали мост. Пришлось его чинить, и пока мы были этим заняты, наши дальнобойные морские пушки били по самой станции. Ясно было видно, как разлетелись пути, идущие на север, как загорелись станционные здания. Большевики были отрезаны и сдавались толпами. Победа наша была полная, и Крым был освобожден.
Не дождавшись починки моста, наш поезд вернулся назад и по ветке, ведущей в Феодосию, пошел в этот маленький городок. Но красных там уже не было. Наша роль ограничилась тем, что мы подняли на вокзале русский флаг, да, поймав с десяток красных, расстреляли их на городской площади. Но как нас встретило население: зазывали к себе, угощали, несли что могли к нам на поезд. Помню, что какой-то старичок все нам кланялся в ноги. Рассказывали о страшных зверствах во время занятия Крыма, срывали со стен бесконечные карикатуры на нас.
Из Феодосии, как тогда шутили, мы должны были вернуться в Севастополь. Надо было переменить пушки, так как нельзя было легко достать морские снаряды, а мы собирались в далекий поход — в Москву. Кроме того, наш поезд потерял половину своего состава: один убитый и шестнадцать раненых — ровно половина. Единственного убитого, поручика Питковского, мы схоронили на фронте. Как просто и быстро кончилась его жизнь. Он сидел на борту блиндажа и вдруг лег — две пули попали ему в голову: одна вошла выше левого глаза, другая почти под волосами. Вышли они в одном месте — огромная рана была на затылке.
Часто смеялись надо мною мои товарищи за то, что я носил привязанный на штыке санитарный пакет. И вот пригодился этот бинт, чтобы остановить кровь, идущую из затылка Питковского; с трудом перевязал я эту страшную рану. На затылке, как грецкий орех, хрустели косточки черепа, и пальцы попадали в мягкий и теплый мозг. После боя мы его раздели, обмыли и отнесли на местное кладбище. Гроба не было, и мы положили его прямо в землю. Не было и священника, и единственно только у меня было Евангелие, чтобы прочесть несколько утешающих слов. На его могиле сделали крест из старых шпал и написали его имя. Много потом пришлось мне видеть таких похорон, но это были первые. Старый поручик барон Корф был ранен в грудь навылет. Медленно пролез он в каземат. Там сняли с него рубашку и увидели тонкие струйки крови, спереди и сзади его старческого худого тела. Сам он вышел из поезда, сам дошел до тачанки и через три недели снова появился среди нас, всегда такой подтянутый, чисто выбритый и корректный со всеми. Крепкий был старик.
В Севастополь нам идти, конечно, до смерти не хотелось. Шли удачные бои по всему фронту, и обидно было не участвовать в них. Но что делать. Пришлось все-таки нам встать на прежнее место, под обрывом, и начать во второй раз тяжелую и скучную работу по вооружению поезда. Дни проходили за работой, а вечера мы проводили в городе. Красных после их разгрома прочистили как следует, и по городу можно было ходить даже ночью, без риска быть подстреленным как куропатка. В то время я встретился с Лелей Фидлер, Машиной подругой по гимназии, часто с ней виделся и дружил с ее братом Сашей. И вот как-то раз зашел ее навестить. Жила она у знакомой, у которой была девочка лет десяти. Леля приготовила ужин, и мы сидели с нею в гостиной: она против меня, а я в глубоком кресле спиной к двери. И вот вижу, как у Лели вытягивается лицо, а у девочки этой написан на рожице ужас. Не понимая, в чем дело, я встал и оказался лицом к лицу с револьверным дулом. Прямо передо мной стоял человек с маской на лице: «Руки вверх, сукин сын!»
Что тут сделаешь? Поднял руки; человек этот снял с моего кушака револьвер, взял из кармана бумажник, сорвал с Лели серьги, заставил ее встать и достать из шкафа деньги и медленно, грозя нам револьвером, вышел на кухню, открыл дверь и, уже выходя, два раза почти в упор выстрелил в меня. Помню даже, что волосы на лбу были опалены. Однако пишу эти строки. Был ли заряжен его револьвер или нет — не берусь сказать, мне не пришлось больше бывать в этом доме, а тогда мы не искали следа от пуль.
Простояли мы в Севастополе недели три. Как-то раз я был дежурным по поезду. Проверив, что все налицо, я отпустил солдат по вагонам. И вот в полночь приходит ко мне кто-то из них, чтобы сообщить, что в одном из вагонов спит на верхней полке сбежавший от нас еще до эвакуации в Керчь солдат, не помню уже его фамилии. Солдат этот был очевидный большевик и вел среди нашей команды пропаганду. Я разбудил старшего офицера и доложил ему об этом. И вот мы, раскрыв дверь в то купе, где находился этот человек, увидели его мирно спящим на койке.
Офицер разбудил его. Поняв, в чем дело, он встал и, подняв руки, вышел в коридор.
— Горбов, идите вперед.
«Как это вперед? — мелькнуло в моей голове. — Ведь его даже не обыскали. А если он меня в затылок?..»
Однако пришлось идти. Вероятно, думал я, поручик с револьвером. И только я стал спускаться по ступенькам, — а лил проливной дождь и тьма была полная, — молодец этот что было в нем сил толкнул меня ногой в спину. Я так и вылетел наружу. А он спрыгнул — и ходу. Вскочив на ноги, я сделал по звуку его шагов несколько выстрелов. Недалеко ходивший наш патруль, услышав мои выстрелы, открыл в нашем направлении стрельбу. Засвистели пули, мы под вагон, спасибо, никого не задело. Недоразумение это выяснилось, но я оказался предметом общих насмешек: «Эх вы, опереточный герой!» А в чем я был виноват?
Очень мне это было обидно, и через пару дней я на свой страх и риск обошел все госпитали и больницы, сообщив повсюду приметы этого молодца. А если я его задел, и он придет на перевязку? И как-то из морского госпиталя нам дали знать, что пришел раненный в спину и в левое плечо. Рана запущена и загнила.
Командир и я пошли в этот госпиталь. Мы сразу узнали друг друга. Мне все казалось потом, что в глазах некоторых солдат я вижу злобный и жестокий огонек. Верить тогда никому нельзя было.
Но вот, окончив наши починки, вышли мы наконец на фронт. Повсюду были наши победы: красные или сдавались в плен, или отступали без боя. Повсюду мы продвигались вперед, занимали город за городом и почти всю Украину заняли. Войска наши подходили к Екатеринодару на Северном фронте, а на Западном мы, взяв Одессу, пошли дальше по границе Румынии. Весь Западный край был под нашим контролем: Балта, Голта — все эти еврейские местечки с восторгом нас встречали, повсюду мы ничего другого не видели, кроме радости освобождения. А между тем, собиралась новая гроза. Под влиянием пропаганды или от тяжестей гражданской войны, несущей с собой неизбежное разорение, появилось неожиданное и новое политическое течение. Возглавлял его некто Петлюра. Его девизом была — самостоятельность Западного края, и мы оказались в числе его врагов. Врагом для нас Петлюра оказался совершенно неожиданно. Первое время мы не понимали, что произошло в отношении к нам. Переменилась вся обстановка. Там, где раньше нас встречали с открытыми руками, мы стали попадать под неожиданные удары. Петлюра не искал открытого боя, а атаковал нас то ночью, то в спину. Нигде и ни в каком месте мы не могли быть уверенными, что за нами не разобраны пути, что было для нас опаснее всего. Фронт пропал, и мы оказались среди врагов, не зная, где они. Добровольцы стали носить на рукаве белые нашивки, чтобы узнавать друг друга. Стали носить такие же нашивки и петлюровцы. Чьи это части, чьи солдаты? Как это все разобрать?
Происходили частые недоразумения: боясь задеть своих, мы не открывали огонь, и за это нас же и бранили. В такой запутанной обстановке мы толкались на месте. А на севере шли все удачные бои. Меня тянуло на тот фронт, хотелось быть там, где уже недалеко до своих мест, может быть, и до «Петровского», и самой Москвы. Я подал рапорт с просьбой перевести меня на Северный фронт. Но долго мне пришлось ждать, пока меня не назначили на бронепоезд «Грозный», наступающий на Харьков.
Пока же мы бросались с одной станции на другую, то отступая, то наступая. За эти несколько недель моего пребывания на этом фронте я особенно ярко помню три случая. Как-то раз вышли мы на позицию; со стороны петлюровских войск мы ждали их бронепоезда. Издалека еще нам стал виден дым его паровоза. Мы ждали, ожидая того, чтобы наши пушки могли его достать. И вот наши поезда сблизились. Начали огонь они; мы тотчас ответили, и после нескольких выстрелов их поезд взорвался: наш снаряд попал прямо в их огнесклад. Пошли вперед. Их поезд не стрелял. Подошли вплотную — команда разбежалась, поезд горел, а на пути лежал с оторванной рукой, без сознания, их машинист. Оказалось, что он родной отец нашего; мы взяли его с собою.
Как-то раз, рано поутру мы стояли в чистом поле. Недалеко был небольшой лесок. На его опушке были видны военные, но кто они — разобрать было нельзя. Ехать на мотоцикле и думать нельзя: до этих людей было версты три пахотного поля.
— Пойдите, Горбов, посмотрите, что за солдаты.
Роль связи и разведки лежала на мне.
«Поди сам посмотри, — думал я про себя. — А если это петлюровцы?»
Пришлось, однако, пойти. Не дошел я до них с полверсты, как они открыли по мне стрельбу, как по зайцу. В жизни не испытал я такого страха, в жизни моей не бегал с такой скоростью. Спасибо, что с поезда увидели, в чем дело, и дали по ним пару выстрелов.
В какой-то деревушке Вася Корф, сын нашего поручика, спокойно шел посередине улицы. Вдоль по улице петлюровцы били из пулемета, мы перебегали от одного угла до другого, прячась за чем было можно. Надо было этот пулемет прихлопнуть. Потом вечером мы бранили Васю за его глупость: к чему себя подставлять под опасность зря? Оказалось, что Вася не знал, что противный ноющий и свистящий звук — звук летящей пули. Потом стал и он опасаться, но всегда был необыкновенно храбр. И кончил так глупо: к чему было стоять на крыше поезда под артиллерийским огнем? Маленький осколочек попал ему в шею, рана загнила, и он умер от заражения крови. Его схоронили; стоял его гроб, среди еще нескольких, в деревенской церковке, входили и выходили люди посмотреть на мертвых, и среди любопытствующих зашел и его отец. Я не был свидетелем этой страшной встречи и благодарю Бога.
Был среди нас и милейший татарский князек, хан Гирей Абдараманчиков. Был он на одной роли со мною — мотоциклистом. Не раз ездили мы с милым Гирейкой по шпалам и по дорогам, не раз чинили мотоциклетки чем Бог послал. Был он очень милый и хороший мальчик, моложе меня. Ему всегда готовили что-либо другое, если случалась свинина; он был магометанин и не ел нечистого мяса. Вечерами раскладывал небольшой коврик и, стоя на коленях, оборотясь на восток, молился своему Магомету.
Как-то петлюровцы наскочили на нас ночью и врасплох, мы даже не успели одеться и разбежались по полю, отстреливаясь кое-как. Петлюровцы подожгли нашу базу, и все наше добро к утру сгорело на наших глазах. Гирейка решил пролезть к поезду, чтобы постараться увести его собственный «Индиан», прекрасную американскую машину.
Было темно, и как мы Гирейку ни отговаривали, он все-таки потихоньку ушел. А когда стало совсем светло, подошел наш поезд и можно было вернуться, мы нашли около поезда палку и на ней записочку «Татарчук». Около палки лежала котлета, рубленое мясо; «Индиана», конечно, не было. Я очень любил Гирейку.
Так вот после этого пожара остались мы в одном белье — надеть было совершенно нечего. Только тогда нам дали с иголочки новое английское обмундирование — все, включая даже зубные щетки и безопасные бритвы. Однако вместо вагонов третьего класса, приспособленных под казармы, оказались в товарных. Со стороны глядя, мы походили не на бронепоезд, а на роту англичан, и это послужило поводом к забавному, если можно только так сказать, случаю, так как сам по себе случай был далеко не забавный, а трагический.
Заняв какую-то станцию, мы узнали, что в соседнем селе идет еврейский погром. Кто был его организатором и почему он произошел, мы не знали. Но на станцию прибежал молодой еврей и, приняв нас за англичан, просил помощи. Бегом полетели мы посмотреть, как мы думали, на хулиганство или просто безобразие. Оказалось, что дело было много трагичнее. Евреев ловили и вешали на первом же суку, дома их горели, все их добро растаскивали. И вот при виде английских солдат погромщики, побросав награбленное, пустились врассыпную. Часть из них мы поймали и не знали, что с ними делать. Заперев их в избе, мы помогли тушить пожар. Когда к вечеру все улеглось и успокоилось, к нам пришли старые евреи и просили не трогать арестованных: «Если вы их тронете, то после вашего ухода нас всех перебьют». Что было делать? Мы не были судьями, не могли расправляться с людьми по нашему произволу. А злоба наша была велика: во время погрома в погребе одного дома сбились эти несчастные люди, среди них оказался ребенок. Чтобы всех бывших в погребе не выдал его крик, мать села на него и задушила. Как простить такой ужас?
После долгих уговоров мы больно отодрали пойманных — пороли жестоко и при всем честном народе.
А время шло. С Северного фронта все приходили слухи о наших победах. Обидно было разгонять погромы, мотаться с одной станции на другую, в то время как, казалось, большевики качаются и что вот-вот настанет час расплаты.
Но вот пришло и распоряжение, касающееся меня. Я был назначен на бронепоезд «Грозный», наступающий на Орел. Простившись с моими друзьями, я отправился на север и нагнал «Грозный» почти под самым Харьковом. Это был прекрасно оборудованный поезд, с бронированным сормовским паровозом, с великолепными боевыми площадками, не пробиваемыми даже небольшими снарядами, и вооруженный шестидюймовыми пушками Канэ. База была устроена в вагонах третьего класса со всеми удобствами, включая электрическую станцию.
Я был назначен на второе орудие, а на базе — машинистом на электростанцию. К моему большому удовольствию, службы связи и разведки на мотоцикле при этом поезде не было. С тем и закончилась для меня эта трудная служба; можно было надеяться, что мои колени заживут, что затянется на правой ноге вечно гниющая рана и что больше не буду я прыгать по шпалам впереди поезда.
Среди новых товарищей я нашел много друзей, вернее, со многими подружился. Только с одним поручиком мы так и остались на ножах до самого последнего часа. Поручик этот был враждебен старому режиму, и тотчас по моем прибытии на поезд поднял вопрос, на каком основании я ношу на левом рукаве царскую корону. Он был, конечно, совершенно прав. Добровольческая армия не имела целью восстановление трона, ее идеалом было лишь свержение большевиков, а затем, если можно — то, вероятно, республика. У нас с ним произошел заносчивый разговор. В результате командир велел мне корону спороть, а поручик этот подал на меня рапорт самому главнокомандующему. Последствий, конечно, не было никаких, но наши отношения так и остались совершенно враждебными: он был груб, я был глуп.
Поезд наш «Грозный» подвигался на север, гоня перед собою красный поезд. С той и с другой стороны были прекрасные наводчики и дальнобойные пушки. В то время война шла по железнодорожным путям, по ним была главная линия боя, от успехов на них зависело часто продвижение наших войск. Пехота не любила далеко уходить вперед, опасаясь, что ей в тыл может зайти бронепоезд и своим огнем наделать беды.
И по утрам начиналась между нами и красными артиллерийская дуэль. Нам не давало покоя желание сравняться с другим нашим бронепоездом по названию «Офицер». Поезд этот прославился тем, что, подойдя с боем к красному поезду, зацепил его на буксир и целиком приволок в тыл.
Наслушавшись всех этих рассказов, я не без волнения встал на назначенное мне место. Сначала мы шли без всяких трудностей, но вот начали по обочинам пути попадаться огромные зарядные ящики, выброшенные красными, затем раненые, идущие назад; наконец, среди воронок от разрывов — наши убитые и вдруг, совершенно для меня неожиданно — огонь. Большевики отвечали немедленно, и их снаряды падали прямо около нас. Слышно было, как по броне стучат и хлопают осколки. Кто сдаст? Всегда это было и страшно, и волнительно. Но, видно, мы были напористее, и в результате таких встреч поезд красных отступал, и мы понемногу продвигались вперед.
Глядя из амбразур поезда на идущую пехоту, я с удивлением замечал, что солдаты, идущие вперед, укрывались от огня, но, будучи легко раненными, так, что могли идти, — эти же самые люди, положив на плечо винтовку, спокойно шли назад. Как будто, сделав свое дело, они считали, что их уже трогать нельзя, хотя опасность для них, идущих, только увеличивалась.
Но если тяжки и страшны были дуэли, то сколько удовлетворения мы имели, когда приходилось поддерживать пехоту и нашими тяжелыми снарядами бить по вражеской цепи. Пехота нас за это любила и, при нашем подходе к полю, приветствовала нас. Часто на стоянках приходили наши солдаты посмотреть на «Грозный».
— Этот тебя, брат, как чесанет! Это тебе не винт, а как даст по спине снарядом, так отца и мать забудешь?!
— Глянь-ка, дуло-то какое! Туда и человека пропихать можно. А ну, залезь-ка!
— Полезай, брат, сам, но как чихнет, так и выскочишь оттуда!
Раз как-то подошел к нам очень элегантный офицер и презрительным тоном обратился к командиру:
— Скажите, пожалуйста, что это за дудка?
— Это не дудка, дурак, а шестидюймовая пушка Канэ.
Офицер этот еще что-то хотел прибавить, но командиру он очевидно не понравился.
— Огонь, — тихо скомандовал он.
Рявкнул оглушительный выстрел. Офицер этот, с рядом стоявшими солдатами, пустился от неожиданности бегом по полю. Издалека было видно, как они, заткнув уши, раскрывали рты, стараясь понять, навсегда ли они оглохли или только на время.
То была легкая война. Вечерами нас сменяли, и мы отправлялись на базу на отдых. Хуже было, когда я дежурил по электростанции. Утомительного в этом ничего не было, но было скучно сидеть одному около работающего двигателя; но случалось это редко, и я был всем чрезвычайно доволен.
Так двигались мы понемногу, но упорно на север и скоро подошли к Харькову. Тут большевики укрепились, и мы должны были подолгу или чинить взорванные ими мосты, или накладывать новые рельсы на место снятых ими. Пехота нас перегнала, и только через три дня после занятия города мы смогли войти в его огромный и великолепный вокзал. Три раза бывал я на нем, пробираясь на юг, и вот пришлось побывать вновь, но уже в форме с погонами, в сознании собственной силы.
У поручика Завадского была там родная тетка. Она каким-то чудом сохранила свой богатый дом и принимала нас как нельзя лучше. Несколько раз был я в гостях у этой старой дамы и наслаждался возможностью поесть всласть колбасы и сахара. Сахара нам всегда не хватало, а в Харькове его было много — там были большие сахарные заводы.
Но это нам, броневикам, жилось хорошо. Мы везли с собою запасы, мы питались почти нормально, имея с собою кухни и вообще хорошо организованную базу. Хуже было в других частях, и особенно страдала пехота: обуви не хватало, не хватало и шинелей; питание из ее походных кухонь было хуже нашего и ко всему этому заедали вши. Часто можно было видеть людей, которых и за солдат-то нельзя было принять. Закутанные во что попало, — а становилось уже холодно, — грязные и усталые, несчастные пехотинцы вынесли много горя. Надо было только удивляться тому, что армия наша все еще держится. Появлялись первые признаки усталости от длинных переходов, и съедавшие нас вши начали распространять сыпной тиф. Вначале появились лишь очаги этой страшной болезни, но потом началась небывалая эпидемия. Но об этом после.
В Харькове я видел самых несчастных в мире людей. Подобного горя, таких страданий я уже больше никогда не видел. Люди эти были пленные красноармейцы — в тот период войны они сдавались нам тысячами. Целые красные полки бросали оружие и переходили к нам. Как поступать с ними? Конечно, среди них выискивали командиров и комиссаров: их судьба была определена. Такая же участь ждала все их отборные части: матросские, латышские, китайские; евреев тоже не щадили. Но что было делать с тысячами русских деревенских Иванов? Не расстреливать же неповинных людей, да и возможно ли было всех расстрелять? Часть их поступала в наши войска, но доверия к ним не было. Приходилось их смешивать с нашими частями, и бывали часто случаи измены. Что было делать с ними? Организовывать лагеря? Но мы так быстро шли вперед, с одной стороны, а, с другой, сами еле-еле питались за счет населения, так что это было очевидно невозможно. Кроме того, я думаю, что их судьбой вообще никто не занимался из наших штабов. Не имея достаточной одежды, мы их прежде всего раздевали, чтобы одеться самим, а уже наступали морозы. И вот эти несчастные, раздетые до белья люди, не имевшие где преклонить голову, голодные, больные, по десятиградусному морозу сбивались, как скотина, в кучи. Так и сидели по площадям Харькова: бывшие снаружи и не пропущенные внутрь, умирали от голода и холода, а протерпевшие ночь внутри этой кучи умирали на следующий день или два дня спустя, смотря по выносливости. В жизни не забуду этих глаз — такие глаза должны были быть у Христа на кресте; это были несчастные, замученные полутрупы. Они уже ничего не просили и ничего не ждали, кроме разве мучительной смерти. Что было с ними делать?
И вот по городу стали ходить патрули. Подбирали мертвецов, складывали их в кучи, как дрова, и, облив керосином, поджигали. По нескольку дней тлели эти страшные костры, распространяя ужасный запах. А что было делать? Не бросать же мертвецов на улицах: в это время начинался уже, как я говорил, тиф. Вши бежали с мертвых и ползли по улицам, как муравьи, заползая на живых и заражая их. Надо было все это сжигать.
Видел я в Харькове и дела большевиков. На следующий день нашего приезда туда мы пошли посмотреть на дом их чрезвычайки. Это был большой барский дом с конюшнями и прочими службами, занятый большевиками под их Чрезвычайную комиссию по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией. В его этажах помещались службы, где читали смертные приговоры людям за их преданность Родине, в подвале же было устроено все для казней и пыток. Я спускался в этот подвал с противогазовой маской, так как дышать там было нельзя. Спустившись по лестнице вниз, нужно было идти по довольно длинному коридору. Еще горела тусклая электрическая лампочка, вероятно, та самая, при свете которой казнили людей. Пол был вершка на два залит сгустившейся кровью, растасканной сапогами; было липко и тяжело по нему идти. В конце коридора было нечто вроде небольшого расширения — тут расстреливали. Здесь люди, глядя на тусклую лампочку в последний раз, испытывали смертельную тоску. Вся стена в конце этого расширения была залеплена мозгом и волосами казненных; на полу лежали кусочки гниющего человеческого мяса. Как оттуда расстрелянных выносили во двор, я не знаю, но на дворе лежало множество трупов — кто с разнесенной пулею головой, кто в совершенно неузнаваемом виде. Куда девали они отрезанные уши, носы, пальцы, что с ними делали, — мы не узнали. Выходя с этого двора смерти, мы столкнулись с конвоем солдат — по приказу коменданта города они вели на расстрел в тот же погреб пойманных комиссаров.
Но война шла все вперед. Оставив Харьков, мы пошли дальше. Мешали взорванные мосты, задерживая нас, но иногда нам удавалось сильно продвинуться вперед, и тогда начиналась снова дуэль с нашим противником. Как-то раз их снаряд разбил за нами путь. Очевидно, большевики видели это и, зная, что мы не можем отступать, открыли по нам ожесточенный огонь. Снаряды их посыпались на нас, как из ведра, и на беду один из них, пробив броню, разорвался под площадкой. Ее сорвало с рельсов, и мы потеряли возможность двигаться. Одна пушка вышла из строя, и дело было плохо. Казалось, что пришел конец нашему грозному поезду, а с ним и нам. Но в этот критический момент попал-таки и наш снаряд в их огнесклад. Далеко впереди можно было видеть, как сначала взорвался, а затем загорелся их поезд и стал, бросив стрелять, уходить из-под нашего огня. Но мы не могли его преследовать и так-таки никогда и не смогли его не только постараться взять на буксир, но даже выбить из строя. Провозились несколько дней, пока поправили платформу и пути, и, конечно, опять упустили пехоту. Наше солнце стало закатываться: подходившие к нам пехотинцы уже не с восхищением, а с неприязнью смотрели на нас.
Так, в боях и без них, дошли мы до Белгорода. Досадно и обидно было всегда приходить последними, почти никогда не поддерживая нашу пехоту.
Стоит ли дальше перечислять километр за километром наши трудности? В то время мы были полны надежд, ждали со дня на день, что Советская социалистическая республика сложит оружие, что мы сможем завладеть самой Москвой, восстановить Русское государство. Казалось, что уже не за горами это. С севера наступал генерал Чайковский; под Петроградом шли успешные бои с генералом Миллером во главе. Адмирал Колчак наступал в Сибири и был признан всеми верховным вождем. Советская Россия была окружена со всех сторон и казалась маленьким островком среди моря врагов.
Что касается меня, то я был в состоянии крайнего возбуждения. До «Петровского» оставалось не больше ста верст. Я мечтал уже о возможности свести счеты. По моему тогдашнему настроению и возрасту это было понятно. Были рядом со мною и друзья, в любую минуту готовые мне помочь. Тридцать четыре года прошло с тех пор; за это время я столько видел, столько пережил, что могу только благодарить Бога, что в ту пору не дошел до наших нив и полей. Как бы пришлось теперь вспоминать то, что собирался я тогда сделать? По совести могу сказать, что теперь не смог бы носить на себе такую тяжесть. Милостив был со мною Господь, не пустивший меня тогда в родное «Петровское». А горько и обидно было тогда. Казалось, что цель войны погасла, что несправедливости судьбы сыплются на меня как из мешка. Уже под самым Орлом стояли мы, уже попадались знакомые места во время поездок за провиантом. Но вот заняли наши пехотные части и самый Орел. Я ждал на следующий день увидеть не знакомые, а родные места. Как все случилось тогда?
Стояли мы в поле, в базе. Ждали очереди сменить товарищей, ждали с нетерпением, так как последние дни бои были упорные; не хватало угля, и мы ломали на станциях заборы, чтобы топить паровоз. С фронта приходили тревожные слухи об усталости пехоты, о новом и страшном оружии красных тачанках. Много вреда наделали они нам. По ночам было тревожно, ждали атак этих тачанок в любую минуту. Все были невыспавшиеся, многие уже лежали в тифу, было голодно, холодно — но настроение было очень бодрое.
И вот к вечеру пришел наш поезд за нами. Мы уже собирались сменить команду, но переменилось сразу все. Не только нельзя было идти на позиции, но приходилось срочно отступать. Оказалось, что густые цепи свежей красной пехоты прорвали наш фронт, что наша пехота бежит назад, неся огромные потери; что красные кавалеристы глубоко в нашем тылу и что вряд ли даже мы сможем уйти на юг, так как пути за нами взорваны. Однако командир приказал идти на север, чтобы поддержать пехоту. Катастрофа произошла сразу. Ее никто не ждал, к ней никто не был подготовлен, наша связь была недостаточна, и мы оказались застигнутыми врасплох. И вот, пройдя верст пятнадцать на север, мы узнали, что такое паническое бегство. Бросив оружие, пешком ли или на случайных повозках пехота бежала в прямом смысле слова, прямо по полю, кучками и врассыпную. Бежали без оглядки, лишь бы унести ноги. Стрельбы почти не было, и видны были на горизонте отряды кавалерии, вероятно, красной. Мы открыли по ним огонь. Всадники разметались по полю — это были передовые отряды красных. Прошли еще версты две, в недоумении и нерешительности: красных не было видно, пехота наша была сзади, что делать?
Вдруг за нами прямо, на путях в версте от нас, мы заметили две тачанки. Солдаты, выскочившие из нее, старались разобрать путь. Откуда они взялись? Взяв их под пулеметный огонь, мы быстро пошли назад. Догнали пехоту — полная паника и растерянность. Просились к нам на поезд, грозились стрелять в нас в случае отказа. Погрузив некоторых раненых, пошли на юг. Ни распоряжений, ни указаний от кого бы то ни было получить нельзя. Далеко в тылу была слышна орудийная стрельба. Что, где и почему — никто ничего не знал. Боясь быть окруженными, пошли уже ночью дальше и к утру узнали, что красная кавалерия прорвалась далеко в наш тыл и что из запасной батареи по ней открыли огонь. Кавалерия эта, спалив что могла, попортив мосты, перерубив кого могла, ушла в направлении фронта, и никто не знал, что делать. Было впечатление полного нашего разгрома. Неизвестно было, где фронт и есть ли он вообще.
Починив пути, мы пошли обратно к Белгороду, оставив Курск и не задерживаясь иначе как для пополнения топлива. В Белгороде только мы узнали более или менее, что произошло. Оказалось, что наш фронт прорван, что пехота, кроме специальных ударных частей, совершенно деморализована, что фронта нет и что надо идти на Харьков, где может быть организована оборона. Пошли в Харьков, отступив сразу почти на триста верст. В Харькове новости оказались еще хуже. Было приказано город оставить и идти в Севастополь. С соседних фронтов приходили самые грустные сведения: мы отступаем повсюду; повсюду преимущество красных огромно, а наши войска частью деморализованы, частью не в силах сдерживать натиск красных. Наша задача была — по возможности сдерживать красных, отступая на юг, взрывать за собою мосты, станции и водокачки.
И вот пошли мы назад. Иногда обгоняли бесконечные обозы — это были обозы нашей пехоты, везущей на реквизированных у крестьян повозках то, что можно было увезти, и раненых. На всех станциях нас осаждали перепуганные люди, прося взять их с собою. Но на наш перегруженный ранеными поезд мы брать никого не могли. Приходилось почти с драками ссаживать людей с буферов; нас проклинали, нас просили со слезами.
Во время этого страшного отступления мы почти не видели врага. Иногда вдалеке появлялись конные части, мы их разгоняли, но ни разу и нигде не вошли в контакт с красными. Создавалось впечатление, что они не успевают идти за нами. Катастрофа была полная. Фронт, весь фронт развалился за несколько дней. Все бежало обратно в Крым, и если что задерживало бегущих, так это тиф. Как-то вдруг началась эта неслыханная эпидемия. Люди умирали тысячами. На одной из станций, где-то в Донецком бассейне, кажется, послали нас, нескольких человек, взорвать ее. Было уже совсем темно. Мы вошли на вокзал. За столом и на полу сидело и лежало множество людей. Все мертвые. По полу ползали тысячами голодные вши, в поисках живого теплого мяса. Слышно было, как они хрустят под ногами. Сломав телефон, мы пошли на электрическую станцию. Никого, ни души. Брошенный мотор работал. Подложили под него пироксилиновую шашку и вышли на улицу, ожидая взрыва. Со взрывом погас сразу свет по всей станции. В темноте пошли к водокачке, подорвали ее. Была жуткая и зловещая темнота. Ни души, никакого звука. Прошли в поселок; выбив дверь в одном доме, нашли лежащих мертвецов. В следующем доме — то же самое. Трупы прямо на улице, трупы у колодцев — везде, где смерть застала больных истощенных людей.
Где-то мы простояли несколько дней, чиня наши поломки. Мимо нас, мимо станции целый день седенький батюшка проезжал на телеге к кладбищу, сидя на краю телеги, верхом нагруженной мертвецами. Правил он сам и обратно ехал на пустой телеге. Кого это он хоронит? Остановили и узнали. В деревушке был наш лазарет. Умерли все, и он с отцом диаконом грузил мертвых на телегу и отвозил на кладбище. Там, с могильщиком, они хоронили, отслужив краткую панихиду. Хоронили без гробов, прямо в землю, да и то не хватало на всех места. Мы предложили ему ехать с нами.
— Куда я, голубчик, поеду? Стар уже. Вот придут не сегодня-завтра большевики и расстреляют меня, грешного. И делу конец.
Среди нас тоже появились больные; им отделили вагон и сносили их туда на попечение сестры и доктора. И сестра, и доктор вскоре, заразившись сами, умерли. Схоронив их прямо в поле, мы продолжали наш путь, сами ухаживая за нашими больными. Ясно было, что никто не избежит этой болезни, и мы ждали, что каждого из нас рано или поздно отнесут в эту живую мертвецкую. Болезнь начиналась сильным жаром, болела голова, начинало трясти и сознание меркло. Те, кто жара не выдерживал, умирал в бреду; у кого сердце могло выдержать, медленно выздоравливал. Это было так просто и так неизбежно. Но выздоровевшие все были как бы помечены — у всех делались удивительные глаза, глаза святых. Какая-то была в них чистота, что-то как бы светилось изнутри их воспаленного и испуганного взора, по глазам мы узнавали их. Последствия были разные: кто выздоравливал совсем, кто на долгое время оставался каким-то чудаком, как бы не от мира сего. Постепенно мы все попадали, как я уже сказал, в эту мертвецкую. И вот настала и моя очередь. Мы уже были в Крыму, осажденном красными. Но на Перекопе генерал Слащев организовал укрепление, и большевики остановились перед ним.
Наш поезд стоял на станции Владиславовка, тотчас за Джанкоем. Тут и суждено мне было, перешагнув через смерть, снова вернуться в мир. Об этой болезни я вспоминаю даже с удовольствием — так необычен был виденный мною мир. В декабре месяце 19-го года, ровно двадцать третьего, я почувствовал, что поднимается температура. Зная, что это такое, я собрал мои вещи и передал их на хранение магазинеру. На чемодане наклеил бумажку, на которой написал адрес моих родных, и просил передать, если можно, эти вещи им и, во всяком случае, если я умру, сообщить, где и как это произошло. Сделав это, я ушел в вагон и лег на назначенное мне место; это был вагон третьего класса. Очнулся я шестнадцатого января 20-го года. Как я пришел в себя, расскажу после. Сначала надо сказать, что со мною было. Повторяю, что я до сих пор все вижу, как будто это было наяву. Было у меня два бреда, о которых я помню. Может, были и другие, но о них я напишу немного позже. Только потом я узнал, что вечером меня хватились: Горбов сбежал. Стали искать и не нашли. Утром на следующий день патруль, подбиравший мертвых, сказал, что действительно около нашего вагона он подобрал голого мертвеца и по принятому порядку отнес его в вагон, где их складывали, прежде чем вагон увозили за город, где тела сжигали. Побежали туда и разыскали меня под другими мертвецами. Оказывается, я так замерз, что меня можно было, взяв за ноги, поставить прямо, как замороженную рыбу. Принесли обратно, и я понемногу оттаял. Изо рта у меня выковыряли часы, которые я, разжевав, уже частью съел. Никаких лекарств, кроме водки, не было. Это ли не дает мне оснований думать, что, перешагнув через смерть, я снова вернулся в мир?
Я же видел (повторяю, что этот бред был как бы наяву), что меня забыли взять. Лежал я на носилках около окна на втором этаже на станции. Слышу, как по улице идет великолепный оркестр матросов; все трубы перевиты красными лентами, и играют «Интернационал». Идут стройно, отбивая ногу, здоровенные, крепкие. Кто-то, приоткрыв дверь, говорит мне: «Сейчас будут расстреливать белых. Начнут с тебя», — и закрывает дверь. Помню, как я на цыпочках и пригнувшись, чтобы меня не было видно в окно, потихоньку вышел на улицу и побежал по путям за нашим уходящим поездом. Бегу и вижу прямо перед собою буфер его последнего вагона, над буфером красный фонарь. Бегу и вижу, что не могу догнать его, и меня берет ужас и отчаяние. Наконец, споткнувшись, я упал. Это было простым кошмаром, часто бывающим у людей в бреду, и не стоило бы и говорить о нем, если бы не было этой совершенной реальности. Я утверждаю, что все это я пережил наяву. Вероятно, в этот момент я и сбежал из поезда, и меня подобрали в луже, то есть уже на льду, так как был сильный мороз.
Второй бред, не менее ясный, был короче. Под стеклянным колпаком лежала моя голова; руки проходили сквозь этот колпак, и ими я старался, вытащив собственный язык изо рта, снять с него огромную муху. Помню, как я мучился с нею: никак не мог поймать ее за крылья, а своим жалом она меня все время больно жалила. Наконец, потеряв терпение, я просто язык оторвал. Помню страшную боль, сознание того, что поправить уже ничего нельзя. И это было не как в бреду, а как наяву. Вероятно, это совпало с моментом разжевывания часов.
Очнувшись же и придя в себя, я хотел встать. Оказалось, что ноги не действуют. И не действовали они больше двух месяцев, совершенно никак нельзя было ими двинуть. Потом это прошло понемногу, но два месяца я проходил на костылях. Что было хуже — так это с головою. Помню, что по шрифту я узнавал, какую газету держу в руках, но прочесть не мог. Мог написать любую букву, если мне ее называли, а прочесть ее, произнести — никак. Мне купили грифельную доску, и я со страхом и в полном понимании, что у меня что-то стронулось в голове, начал учить азбуку. Мне все казалось, что со мною говорят не как раньше, а как с больным, и я всех уверял, что не сошел с ума. Меня успокаивали, а я принимал это за желание друзей скрыть от меня мою болезнь Тогда я пустился в обратную сторону: стал всех уверять, что я знаю, что сошел с ума из-за тифа. Люди стали со мною говорить, как с тронувшимся человеком, и я решил, что я-таки сошел с ума. Никак я не мог вырваться из этого круга и мучился этим ужасно.
Пролежав почти два месяца в этом вагоне, я получил отпуск по болезни и отправился домой. За время болезни мои вещи оказались поделенными между моими друзьями, и до сих пор я не понимаю, как эти хорошие и дружеские люди могли так поступить.
В Севастополе на медицинской комиссии я был признан годным к строю и по распоряжению генерала Слащева должен быть отправлен в пехотный полк на Перекоп. Я же еле стоял на ногах. Пришлось, однако, явиться в штаб этого полка. Там меня вновь осмотрели и, признав совершенно больным, отправили с санитарным автомобилем в Ялту.
Попав снова домой, я был принят со всевозможным вниманием. В то время в Крыму начинался голод: не было ни хлеба, ни вообще ничего, ели хамсу маленькую рыбку, которую приготавливали во всех видах, что не меняло ее вкуса. Шутили еще тогда: «Как вы находите камсу? — Комси, комса».
Я же привез с собою немного консервов и сахарную голову, подобранную где-то на фронте. Такого лакомства никто и не ждал тогда. Как-то раз, открыв коробку с рыбными консервами, я хотел съесть немного. В это время вошел папа и попросил у меня кусочек. Я пошел за другой вилкой; папа съел два кусочка, но вдруг, положив вилку, горько заплакал.
— Что ты, папочка? Ешь, пожалуйста.
— Нет, нет, голубчик. Это для тебя. Прости мою слабость.
Так и не стал есть, и никогда ни кусочка не взял в рот.
А на Сивашах шли страшные бои. Большевики решили взять Крым во что бы то ни стало. Я, конечно, не был свидетелем, но люди, бывшие там, говорили, что красные гибли десятками тысяч.
Примечания
1
Екатерина Николаевна Литвак (1895–1992) — сестра автора.
(обратно)2
Николай Михайлович Горбов (1859–1921) — ученый.
(обратно)3
Софья Николаевна — сестра автора.
(обратно)4
Софья Николаевна Горбова, рожденная Маслова.
(обратно)5
Мария Николаевна — сестра автора.
(обратно)6
Федор Михайлович Сухотин (1895–1920).
(обратно)7
Яков Николаевич Горбов (1896–1981) — брат автора. Сотрудник «Нового русского слова» и «Нового журнала», соредактор литературно-политического журнала «Возрождение». Автор новелл и романов на русском и французском языках.
(обратно)8
Михаил Николаевич Корнеев (1917–1967) — сын Екатерины Николаевны от первого брака.
(обратно)9
Вера Николаевна Иснард (1896–1947) — первая жена Якова Николаевича.
(обратно)





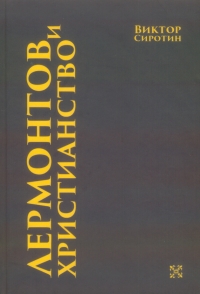
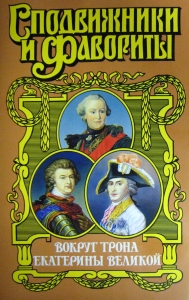
Комментарии к книге «Война», Михаил Горбов
Всего 0 комментариев