Александр Александрович Мосолов ПРИ ДВОРЕ ПОСЛЕДНЕГО ИМПЕРАТОРА
ЧАСТЬ I РАСПУТИН
БОЛЕЗНЬ НАСЛЕДНИКА
В 1912 году в Спале цесаревич, причаливая лодку, сделал усилие ногою, и у него открылось кровотечение в паху. Несчастный ребенок страшно страдал. Императрица проводила все ночи у его кровати. Было больно смотреть на нее и на государя, так они были неимоверно озабочены.
Лечили наследника лейб-медик Е. С. Боткин, лейб-хирург профессор Федоров и выписанный из Петербурга лейб-педиатр Раухфус. Хотя императрица и не позволяла печатать бюллетеней, министр двора все же потребовал, чтобы врачи ежедневно их составляли. Для сего они приходили в мою комнату, и я присутствовал при обсуждении положения больного. Несмотря на все средства, ими прописываемые, кровотечение не останавливалось; они единогласно признавали положение бедного маленького мученика весьма угрожающим.
Раз вечером Федоров остался после ухода двух своих коллег и сказал мне:
— Я с ними не согласен. По-моему, надо бы применить более энергичные средства. К сожалению, они весьма опасны. Однако, лечи я один, применил бы. Как вы думаете, сказать мне об этом императрице или сделать помимо ее ведения?
Я ответил, что не берусь давать советы, но, конечно, тотчас после его ухода передал этот разговор министру двора.
Граф Фредерикс, обсудив со мною положение, решил доложить самому государю на другой день о моем разговоре с Федоровым. Однако уже рано утром граф и я узнали, что в апартаментах императрицы и наследника царит большое волнение. Государыня получила телеграмму от Распутина, сообщавшего, что здоровье цесаревича исправится и что он вскоре освободится от страданий. Не привожу дальнейших подробностей, так как они уже известны по воспоминаниям дам тогдашней свиты.
Как известно, цесаревич страдал гемофилией. Болезнь эта наследственна и неизлечима, передается от матери только к сыновьям. Гемофилия проявляется в неспособности крови сворачиваться. При малейшем ранении наступает кровоизлияние, почти не поддающееся остановке. Этою болезнью страдает гросс-герцогский Гессенский род.
В 2 часа дня врачи пришли опять ко мне, и первое, что они сказали, было о том, что кровотечение у цесаревича остановилось. При уходе я спросил его (Федорова), применил ли он то лечение, о котором говорил. Профессор махнул рукою и сказал, уже стоя в дверях:
— И примени я его, при сегодняшних обстоятельствах в этом не сознался бы!
Он поспешно ушел.
Императрица вышла к обеду (в первый раз за все время болезни сына) и с бодрым видом объявила, что боли у цесаревича прекратились: «Через неделю мы едем в Петербург». Присутствовавшие при этом врачи казались растерянными, так как государыня об отъезде с ними не советовалась. После обеда Ее Величество позвала меня и приказала пронаблюдать за тем, чтобы дорогу до вокзала починили, дабы не было толчков при перевозе больного ребенка.
Ровно через неделю мы выехали, и я видел и говорил с наследником, весело игравшим в своей кроватке: очевидно, он не ощущал никакой боли.
По словам императрицы, это было уже не первый раз, что старец спасал жизнь наследника.
Полагаю, что рассказанный мною выше случай при мистической натуре императрицы заставил ее верить всему, что ни скажет Распутин. А говорил хитрый мужик, что жизнь Алексея Николаевича и все существование дома Романовых — да и вообще все благо России — зависят от его молитв: после его смерти все пойдет прахом. Это мне передал низший персонал служащих при государыне. Не думаю, чтобы царь этому верил, но допускаю, что некоторый суеверный страх вкрался и в его душу после этого случая.
ПРИМАДОННА И ДЬЯКОН
Некоторые сношения с Распутиным у меня начались по следующему поводу.
Однажды мне доложили, что неизвестная дама настаивает на отдельном приеме. Вошла довольно подозрительного вида дама в глубоко декольтированном, чуть не бальном платье и протянула мне записку. Я моментально узнал единственный в своем роде почерк Распутина:
Милой. Сделай для нее. Она хорошая.
Григорий.
Я в то время Распутина лично не знал.
Дама объяснила, что желает быть принятой солисткою в оперу. Несмотря на то, что я терпеливо и ясно изложил ей порядок поступления в императорскую оперу и сказал, что я в этом деле бессилен, она долго еще не уходила, стремясь помочь делу силою своих чар. С такою же запискою явился однажды какой-то дьякон, почувствовавший влечение к сцене. Он мне заявил, что отец Григорий «благословил» его на это.
ДЕЛО Т. А. РОДЗЯНКО
Более близко познакомился я с методами Распутина из дела Т. А. Родзянко. В кратких словах оно заключалось в следующем.
Царская семья пребывала в Ливадии. В Ялте в это время жила Тамара Антоновна Родзянко. Она была дочерью моего товарища по полку Новосильцева, и я ее хорошо и близко знал с детства. Выйдя замуж за племянника бывшего председателя Государственной Думы М. В. Родзянко, она уехала со своим мужем в Италию. Там между ними произошла какая-то история, подробностей которой я не знаю. В результате муж посадил Тамару Антоновну в сумасшедший дом, из которого она выбралась через год или полтора и приехала в Россию. Но Родзянко забрал к себе детей, что для нее было большим горем.
Однажды в Ливадии меня попросила обер-гофмейстерина Елисавета Алексеевна Нарышкина помочь составить письмо барону Будбергу (главный управляющий канцелярией по принятию прошений, на высочайшее имя приносимых) с просьбой пересмотреть дело Т. А. Родзянко и сделать все возможное для возвращения ей детей. Елисавета Алексеевна пояснила мне, что государыня принимала в частной аудиенции Тамару Антоновну и после длительного разговора с ней признала несправедливым содеянное по отношению к ней; государыня хочет ее поддержать.
Составив письмо, я поехал к Т. А., жившей в гостинице «Россия», и рассказал ей, желая ее обрадовать, о только что составленном мною письме. На мой вопрос, как это случилось, что государыня ее приняла, тогда как раньше Ее Величество относилась к ней недоброжелательно, Т. А. мне сообщила, что это свидание устроил Распутин, с которым она познакомилась по настоянию подруги своей Головиной, Тут же она мне сказала, что на другой день пойдет благодарить Распутина.
На следующий день меня вызывает по телефону Т. А. и взволнованным голосом просит приехать. Чрезвычайно возбужденная, она мне рассказала, что когда она пришла к Распутину, все дамы, находившиеся в это время в комнате, угодливо-поспешно ушли, оставив их вдвоем; Распутин немедленно набросился на нее с ласками. Т. А. дала ему пощечину…
Через день или два, встретив Нарышкину, я спросил ее о судьбе письма.
— Ах, знаете, императрица приказала его не отправлять, так как Родзянко ввела Ее Величество в заблуждение и рассказала неправду…
G этого времени я стал замечать изменение отношения ко мне государыни. Она избегала говорить со мной, а если говорила, то очень коротко. Дело обернули так, будто бы я протежировал Т. А. и чуть было не уговорил императрицу вступиться за нее, а вот Распутин открыл царице глаза и спас от несправедливого шага.
Я рассказал всю историю графу Фредериксу. Тот был очень возмущен и все повторял: «Какой мерзавец!»
ВСТРЕЧА СО СТАРЦЕМ
Летом 1914 года в Петербург приехали мои добрые друзья Мдивани. Муж был начальником штаба Севастопольской крепости. Вскоре, по приезде государя в Крым, Мдивани получил в командование Эриванский полк, который был в следующий год вызван в Ливадию на охрану. Впоследствии Мдивани был пожалован флигель-адъютантом.
Елисавета Викторовна Мдивани, женщина умная, оставалась в Петербурге и очень скоро стала своим человеком в распутинском кружке. Однажды, воспользовавшись тем, что я был болен и никуда не выходил, она приехала меня навестить. После краткого вступления она приступила к цели своего посещения:
— Александр Александрович, а вы знаете, что у вас есть враги?
— Ну, разумеется, знаю.
— А вы знаете, кто из них самый главный и важный? Распутин. У него совершенно превратное о вас впечатление. Он вам враг только потому, что вас не знает. Граф Фредерикс не любит Распутина, а тот думает, что это происходит благодаря вашим интригам. Обязательно нужно вас познакомить.
Я наотрез отказался.
Через несколько дней Елисавета Викторовна позвонила мне по телефону и просила к ней приехать, говоря, что будет кое-кто из друзей. Я пытался отговориться, ссылаясь на срочную работу, но она настояла.
Приехавши к 11 вечера в «Европейскую» гостиницу, где Мдивани занимали апартамент, я застал у нее Головину и несколько других лиц из явного окружения старца. Я спросил Елисавету Викторовну, не попал ли в ловушку и не ожидается ли Распутин?
— Нет-нет, Распутина не будет…
В это время раздался звонок. Все засуетились. Распахнулись двери, и ввалился вдребезги пьяный Распутин. Меня назвали…
— А, Молосов! Вот ты! Ну, давай знакомиться. Что же ты меня не любишь? И «старик» (граф Фредерикс) твой меня не любит… Я пьяненький… Ты на меня не смотри, что пьяненький… Я понимаю!.. А вот, когда буду трезвый, мы с тобою поговорим… Давай выпьем!
Он схватил меня за рукав и потащил к столу. Мы выпили несколько стаканов вина.
— Ты приходи ко мне… У меня все бывают… И Витя (граф Витте) ходит, и министры. А вот ты и «старик» кобенитесь… За это и «мама» (императрица) тебя не любит…
— Это ты устроил, что меня «мама» не любит?
— Да, я… А ты меня полюби, тебя и «мама» полюбит.
— Я против тебя ничего не имею. Ты хороший человек. Кто выпивает, у того душа есть. Я сам люблю выпить…
— Ты ко мне приезжай… Выпьем и поговорим…
Он внял моему совету, что ему надо ехать спать, и убрался.
Выходя, я заметил, что моя шинель тяжко пострадала от Распутина. Елисавета Викторовна очень предо мною извинялась. Через несколько дней она вновь ко мне приехала и заявила, что Распутин хочет непременно со мною видеться. Она меня уговаривала, что нельзя отказывать и этим озлоблять старца. Я сам это понимал, но афишировать встречу мне никак не хотелось. Мы остановились на том, что я встречусь с Распутиным совершенно конфиденциально, у товарища обер-прокурора Синода Даманского.
В условленный час я приехал к Даманскому. Тот принял меня в своем кабинете. Затем провел через коридоры и переходы Синода в свою частную квартиру; там в задней комнатке меня уже ожидал Распутин.
Он был совершенно трезв, говорил умно и хитро, все время пристально смотрел мне в глаза. Он вновь заговорил о «старике». Целью его свидания со мной было установить добрые отношения с графом Фредериксом. Он хотел, чтобы я в этом смысле повлиял на своего министра. Поговорив, мы расстались.
Должен признаться, что очень скоро я заметил, как отношения государыни ко мне вновь изменились к лучшему. Прошло еще несколько времени. Мдивани пригласила меня к ужину. Нас должно было быть трое: хозяйка дома, Распутин и я. Согласился. Это было осенью 1916 года.1
В это время я переживал тяжелый кризис. Фредерикс болел, все министерство двора лежало на мне. Государыня относилась ко мне все-таки плохо, неприятности и интриги сыпались на меня как из рога изобилия. Ввиду болезненности своего состояния граф не мог оказывать мне обычной поддержки и меня ободрить. Я думал подать в отставку, и только преданность Фредериксу меня останавливала.
Мне хотелось выпытать у Распутина причины или, лучше сказать, сплетни, из-за которых я был в немилости у императрицы. Этот ужин втроем мне давал возможность сделать то, что не удалось у Даманского.
К назначенному часу мы собрались. Едва приступили к супу, как вошел человек и доложил, что Григория Ефимовича зовут к телефону. Через минуту вернулся Распутин, пошатываясь, с искаженным лицом, и сказал нам, что произошла катастрофа: «Аннушку (Вырубову), ехавшую в Царское Село, раздавил поезд, и она при смерти». Он должен немедленно ехать в Царское. Я посоветовал взять один из автомобилей гостиницы… Через несколько минут Распутин уехал.
Как известно, Распутину удалось привести в себя А. А. Вырубову, несмотря на безнадежное состояние. Мне говорили фрейлины, что, вернувшись во дворец, императрица рассказала об этом, как о якобы произошедшем чуде.
ГОСУДАРЬ И РАСПУТИН
О том, как познакомился с Распутиным, я, конечно, доложил Фредериксу. Тот не только не принял это плохо, но, напротив, обрадовался, рассчитывая, что мне удобнее будет быть в курсе влияния старца на Их Величества.
При этом добавлю, что много ранее, вскоре после известной беседы Коковцова с царем о Распутине, Фредерикс тоже решился говорить с государем на тот же предмет и долго к этому готовился. Но ему не удалось высказать всего, что хотел, так как император с первых слов его остановил, сказав:
— Милый граф! Со мною уже много говорили о Распутине… Я вперед знаю все, что вы можете мне сказать… Останемся друзьями, но об этом больше не говорите.
Кроме этого, много позднее Фредерикс пытался вернуться к этой теме, но опять без результата, встретив еще более сильный отпор.
Лица менее влиятельные, чем Фредерикс, просто вылетали со службы за малейшее проявление непочтения к старцу.
Сошлюсь на два наиболее ярких инцидента.
Князь Орлов был одним из довереннейших людей как царя, так и царицы. Заведуя автомобильным делом, он виделся с Их Величествами чуть не каждый день.
Когда появился Распутин, Орлов, как и многие другие, им сильно возмущался. Но вдобавок к этому он имел неосторожность пустить в обращение несколько весьма едких словечек по адресу старца. Лица, завидовавшие его влиянию при дворе, преподнесли их императрице Александре Федоровне. Царица стала высказывать свое неудовольствие Фредериксу, говоря, что Орлов вмешивается в то, что до него не касается, и что она этого допустить не может. Министр передал Орлову, что ему следует быть осторожнее в своих разговорах. Можно было надеяться, что при большей сдержанности князя недоразумение удастся уладить.
Был назначен отъезд на «Штандарт». Когда Орлов туда явился, царица позвала Фредерикса и заявила ему, чтобы граф приказал князю съехать с яхты, ибо Ее Величество не желает его видеть.
Фредерикс пошел к государю, но тот подчинился воле своей супруги.
Орлова просили — правда, под каким-то предлогом — сойти. Только доводами военного времени министру удалось удержать князя от отставки. Однако когда император назначил великого князя Николая Николаевича наместником на Кавказ, то последний просил государя перевести Орлова в его распоряжение и вскоре после этого дал ему заведование гражданской частью края.
Второй инцидент произошел с С. И. Тютчевой, воспитательницей великих княжон.
Не знаю, кто именно рекомендовал Софию Ивановну Тютчеву, но выбор нам всем казался весьма удачным. София Ивановна, лет под тридцать, была умна, весьма культурна, барышня с твердым характером, из отличной старинной московской семьи. Помню, сразу по приезде ее в Ливадию мы все заметили хорошее ее влияние на детей.
Не могу припомнить, ни с которого года она была при детях, ни точно сколько времени, но помню, что она была воспитательницей, когда старец проживал в Ялте. Все, казалось, шло обыденным порядком.
В один вечер фрейлины нам передавали, что из-за посещения Распутиным детских комнат вышло недоразумение между императрицей и Софией Ивановною. Мы все думали, что, вероятно, это уладится, но на другой день Тютчева уехала в Москву.
Ходили бесконечные слухи о причинах ухода Тютчевой. Мне достоверно известно, что Фредерикс по поводу отъезда воспитательницы ходил к императрице, чтобы пояснить ей, какое дурное впечатление в Москве произведет эта скоропалительная отставка. Фредериксу ответили, что София Ивановна вмешивалась в то, что ее не касалось, и хотела учить императрицу, что детям можно и чего нельзя, на что Ее Величество ответила, что, как мать, она лучше знает.
Тут Тютчева попросила отпустить ее в Москву, на что Александре Федоровне ничего не осталось сделать, как согласиться; задерживать фрейлину при этих условиях было бы бестактно. Полагаю, что при этом объяснении сдержанность обеих женщин была недостаточной.
Последствия ухода Тютчевой были, конечно, крайне нежелательными, но, увы, государыня слишком мало считалась с общественным мнением, полагая, что клевета не может ее коснуться. Нужна была неделикатность лиц, опубликовавших интимную переписку мужа с женою, чтобы смыть клевету, распространяемую насчет императрицы.
РАСПУТИН И СЕПАРАТНЫЙ МИР
Во время войны ходил слух, особенно в дипломатических кругах, что Распутин старается влиять на императрицу в смысле заключения сепаратного мира. Мне хотелось эти сведения проверить, да кроме того, я в то время носился с мыслью, что излишняя централизация России ныне стала вредна, вызывая центробежное движение на окраинах. Если государь признает это положение, то для введения новой системы управления посредством более или менее автономных областей, управляемых наместниками и областными Думами, было бы уместно ввести эту реформу после победоносного окончания войны. При этих условиях нужно было бы не демобилизовывать войска, а возвращать их в Россию, в предлагаемые наместничества, где под их защитою совершить намеченное выше государственное переустройство.
Этот переворот, демократизирующий местное управление, давал бы государю самодержавную власть в верховной администрации. Добавлю, что эти проекты обсуждались в то время, когда верховное командование готовилось к весеннему наступлению и верило в его удачу и когда, с другой стороны, общее недовольство в России достигло того напряжения, что ясна была опасность для династии.
Министром путей сообщения был тогда мой друг и шурин А. Ф. Трепов, который на докладах государю много говорил об общем политическом положении. Трепов докладывал царю содержание моей записки по вышеизложенному вопросу. По словам Трепова, государь заинтересовался ею, и мне впоследствии стало известно от А. Ф., когда он стал премьером, что император высказал предположение создать особую комиссию для рассмотрения этого вопроса.
Так вот, мне хотелось испытать Распутина и посмотреть, поймет ли он смысл того построения государственного управления, о котором я в то время мечтал, и если да — будет ли он поддерживать. А вместе с тем я полагал, что это мне даст возможность понять, действительно ли Распутин поддерживает мысль о сепаратном мире, только из осторожности притворяясь, как я имел причины думать, что настаивает на доведении войны до победного конца.
Имея все это в виду, я пошел к одной своей хорошей знакомой, которую назвать не могу, так как она до сих пор живет в Совдепии: Е. В. Мдивани в это время не было в Петербурге. Я знал, что у этой знакомой, которую назовем баронессою, собираются почитательницы Распутина. Меня пригласили приехать вечером.
В небольшой квартире баронессы было много народу. Пришел Распутин; расцеловался, здороваясь со всеми дамами. Со мною поздоровался, как мне показалось, без особой радости меня видеть. Его повели в столовую, где он питался, залезая в тарелку руками. Мне было довольно противно видеть, как этот мужик ест и обходится со своими поклонницами; лесть этих дам, Распутину мне была не менее противна. Наконец он встал. После водки и вина он сделался немного веселее и общительнее. Затем, обратившись к баронессе, сказал:
— Верочка, выведи нас с Мосоловым в твою спальню, не приехал же он смотреть, как я буду есть.
Нас провели в спальню. Распутин начал:
— Что ты хочешь мне сказать? — и пристально посмотрел мне в глаза.
Я ответил, что приехал из Могилева и хочу знать, что он думает про войну.
— Хочешь испытать, не хлопочу ли о замирении?
— Да.
— А что ты думаешь об этом?
— Я до войны был за дружбу с немцами. Это лучше было для государя. А раз началась война, то надо добиваться победы, а то государю будет плохо.
— Верно…
Я понял, что истинных его мыслей так и не добьюсь, и сказал:
— Кроме того, хотел тебе выложить, что управлять всей Россией из Петербурга нельзя; нужно устроить иначе все управление. Надо, чтобы разделили Россию на области и там бы управляли наместники царя и свои Думы.
Он прервал меня:
— Одна проклятая Дума, и той не надо…
— Погоди! Ведь с теми Думами будет возиться не царь, а наместники — тех и будут ругать; а царь будет только миловать, и его будут любить.
Распутин задумался.
— А он будет как управлять?
— Как прежде. Самодержавно. Он будет войну объявлять или мириться; он будет войсками командовать. И мужику будет легче: он будет выбирать ближайшее начальство.
— Верно. Но я всего хорошенько не пойму…
В это время пришли его звать, что, мол, всем без него скучно и что пришел князь Шаховской (тогда министр торговли).
— Надо идти. А что, ты говоришь, кажись, хорошо. Что-то Витя скажет? Я б ему сказал, да хорошо не разберу. Витя ведь умный, но хитрый. Не скажет, что думает. Ты приди ко мне завтра, никого не будет — поговорим.
На другой день часов в 9 вечера я пришел к Распутину. Он спал. Я с полчаса ждал. Пришел он растрепанный, заспанный. Сел, начали говорить, но разговор не вязался.
— Знаешь что: у меня есть хорошая мадера. Пойдем в столовую, выпьем.
— Идем.
С час сидели. Я молол вздор, он смеялся и подливал вина. Начали вторую бутылку. Как выпили по первой рюмке, он сказал:
— Ну, что же не говоришь о том, что намедни говорил? Аль раздумал говорить об этом Гришке? Напрасно…
— Я думал, ты забыл. И решил хорошей мадеры с тобой попить… Но — как хочешь… Ладно, буду говорить.
— Мне што! И так попить можно… Ты славный, с тобой весело. А мне што?.. Как выдумал что хорошее для «папы» (императора) и «мамы», скажи. А не хошь, так выпьем за их здоровие.
Я начал объяснять, в чем дело. Говорил долго. Сначала он не мог усвоить, потом вдруг по-своему мне объяснил, и довольно верно.
— Знаешь, все же жаль, что нельзя объяснить Вите… Он умный. Но по-своему переделает — так, что «папе» будет скверно… Нельзя ему говорить… Он часто мне скажет — кажется, хорошо… А подумаю: окажется, «папе» скверно будет, а Вите хорошо.
Наконец, когда мы кончили третью бутылку, Распутин спросил меня:
— А «папа» знает это дело?
— Нет, полностью не знает. Но в общих чертах ему сказали, и, говорят, понравилось.
— Так ему пока не говорить?
— Нет. Я скажу тебе, когда будет время… Тогда поможешь.
— Да я што?.. Только скажу, чтоб тебя послушал — послушает… Он умный. Сам разберет. А я што?.. Только благословить могу.
Я пожал ему руку. Вино его разбирало. Он встал, начал целовать меня и плакать. Я вывел его из столовой. Какая-то женщина нашлась, повела его вдоль коридора, отворила дверь. Пред тем, как выйти, он крикнул мне:
— Приходи опять, выпьем… Ты хороший.
БОРЬБА С ПРОТОПОПОВЫМ
Прошло некоторое время. Трепов назначен был председателем Совета министров. Назначения этого я ожидал. Мне раза два-три пришлось замещать Фредерикса в Совете министров, и я видел, как при разборе общих вопросов все министры соглашались с высказываемыми А. Ф. мнениями. Он, видимо, пользовался авторитетом.
Я зашел к Александру Федоровичу за день до его поездки в ставку с докладом государю. Доклад этот, сказал он мне, для него решающий, так как он везет четыре указа об отставке министров. Если государь все подпишет, ему, Трепову, удастся составить министерство, подающее надежды. Если нет, ему придется уйти, так как он считает, что положение безвыходно. Трепов меня расспрашивал о том, как двор принял его назначение. Я ему сказал, что знал, и, между прочим, заговорил о Распутине: с ним нужно считаться. Он согласился, но сказал, что не может с ним ни в коем случае иметь общение, как бы обстоятельства ни повернулись.
Мы сговорились, что я его встречу на вокзале при его возвращении в Петербург и что, едучи домой, он мне расскажет, как прошел доклад (потому что его будут ждать несколько министров и другие лица).
Я встретил Трепова. В карете он мне сказал, что кончилось почти благополучно. Указы об отставке трех министров у него в портфеле, четвертый подписан, но остался у государя, и это — указ о Протопопове. В последнюю минуту доклада царь оставил его у себя в столе, сказав:
— Оставьте его мне. Я вам его пришлю еще сегодня вечером или завтра утром.
Подъезжая к дому, Трепов просил меня приехать к нему на следующий день в 8 часов утра, так как с 9 часов начнутся у него приемы. До того времени он надеялся получить телеграмму о том, послал ли ему вечером государь отставку Протопопова; если нет, то, по его и моему мнениям, было мало шансов, чтобы он ее получил.
В 8 утра я застал Трепова в кабинете, в здании министерства путей сообщения. Телеграммы не было. Телеграмму эту А. Ф. ожидал, как впоследствии я узнал от В. И. Гурко, бывшего тогда начальником штаба Верховного главнокомандующего. Гурко мне так рассказывал эпизод:
— За высочайшим завтраком я виделся с Александром Федоровичем, приехавшим с первым докладом к государю. Затем, после доклада, он зашел ко мне уговориться, может ли он в случае надобности переговорить со мной из Петербурга по телефону для доклада спешных вопросов государю, и вместе с тем пояснил, как для составления кабинета ему важно получить указ об отставке Протопопова. Этот указ уже подписан, почему он меня просит об этом после обеда доложить государю, поскольку ему важно иметь ответ к утру.
После обеда Гурко докладывал императору, и тот ответил ему, что, вероятно, на следующее утро отправит указ. На следующее утро царь дал уклончивый ответ. Поэтому Гурко и не послал Трепову телеграмму.
Трепов объяснил мне свой проект распределения министерских портфелей и свое затруднение от незнания, принята ли отставка Протопопова. Он предполагал, в крайнем случае, назначить Протопопова министром торговли, а Шаховского — внутренних дел, имея в виду потом сделать еще новое перемещение, но лишь бы не оставлять первому портфеля внутренних дел.
А. Ф. Трепов при наличии четырех свободных министерских портфелей надеялся дать их лицам, пользующимся доверием общественности и Думы. Доколе Протопопов оставался министром внутренних дел, этих лиц привлечь было невозможно. К сожалению, память мне изменяет, и я не могу перечислить этих лиц. Но помню, что кабинет этого состава неминуемо бы произвел успокаивающее на общественность впечатление.
Поговорили с полчаса.
В это время пришел Шаховской. Когда он вышел, Трепов опять меня позвал, сказав, что Шаховской в случае крайности согласился поменяться министерствами с Протопоповым. Затем Трепов задумался и спросил меня:
— Ты можешь сейчас поехать к Распутину?
— Да.
— Как мне это ни противно и какие бы это не могло иметь последствия для меня лично и для дела, я на это иду: так мне важно, чтобы отставка Протопопова была у меня в руках.
— Но что же ему предложить?
— Житье в Петербурге с уплатой его расходов на квартиру и содержание домашнего хозяйства, с той охраной, которая ему нужна для его личной безопасности, и 200 тысяч рублей единовременно, если Протопопов будет уволен. За это я требую, чтобы он не вмешивался в назначение министров и высших чинов управления. Относительно духовенства, если он на этом будет настаивать, я обещаю в это не вмешиваться. Но чтобы он ко мне не приходил — если что нужно, то через тебя это будет делаться. Ты его знаешь. Твое дело — как хочешь, его убедить.
— Хорошо. Но имей в виду, что при неудаче он немедленно телеграфирует государю, что его хотели подкупить, и дело станет хуже, чем теперь.
Ну, что же. Я и так, и иначе уйду. Государь о Распутине говорить не будет: найдет другой предлог, чтобы меня выгнать. Я ставлю ва-банк на одну карту. С Протопоповым, министром внутренних дел, я управлять не могу.
— Понимаю. Но тут еще и я замешан. Мое положение при отказе Распутина хуже твоего… А отказаться Гришка вполне может. Это даже вероятно.
— Ты сумеешь с ним справиться. К тому же твое назначение в Румынию уже давно решено государем. Ты туда и поедешь. Это недурно. Пожалуй, даже лучше, чем твое место здесь. Не теряй времени, поезжай и вернись мне сказать.
Я поехал на Гороховую. Пока ехал, обдумывал, как начать разговор с Гришкою, и ругал себя, что вообще заговорил о нем с Треповым.
Начал я мой разговор так:
— Вот что, Григорий Ефимович. Как знаешь, назначен председателем Совета министров мой друг и шурин А. Ф. Трепов. Я хотел бы, чтобы вы жили в мире друг с другом… И это вполне возможно. Он против тебя не предубежден. Лишь бы ты ему не мешал в его действительно трудной задаче, тогда и он против тебя ничего не предпримет.
— Что же, это хорошо… Пусть себе работает… Лишь бы он-то моих друзей не трогал.
— Видишь ли, он готов устроить так, чтобы тебе ежемесячно платили за квартиру и на содержание твоего дома и семьи, чтобы у тебя осталась надежная охрана, без которой ты обойтись не можешь. Принимай, кого хочешь, делай, что хочешь. Только одно — не вмешивайся в назначение министров и высших чинов… Относительно духовенства он перечить тебе не станет, да и мелкие твои протекции будет по возможности исполнять.
Я не успел договорить, как он побледнел. Глаза его стали злющими, почти совсем бледными, с крошечной черной точкой в середине.
— Тогда сейчас соберусь и уеду в Покровское, домой… Здесь я, значит, не нужен.
Такого быстрого оборота дела я не предвидел и, сознаюсь, в первую минуту опешил.
— Не волнуйся, Григорий Ефимович. Поговорим по добру, по-хорошему. Ты же сам управлять Россией не можешь!.. Не Трепов — будет другой, который тебе ничего не предложит, а тебя на казенный счет отправит в твое Покровское…
Глаза стали еще злее.
— Ты думаешь, что «мама» и «папа» это позволят?.. Мне денег не нужно — любой купец мне довольно даст, чтобы раздавать бедным да неимущим. Да и дурацкой охраны мне не нужно. А он, значит, гонит!..
Распутин назвал какую-то кличку, которую я не запомнил, но которая обозначала Протопопова. У меня вернулось самообладание, я бросил на стул свою фуражку, которую взял, чтобы уходить, и сказал:
— Знаешь что, ты зря расхорохорился! Брось! Пойдем в столовую и дай мне мадеры. Поговорим по-хорошему.
Он минуту помолчал. Я улыбнулся. Он разом успокоился.
— Пойдем.
Выпили молча две-три рюмки, затем я заговорил. Распутин уже спокойно слушал.
— Что же ты хочешь?.. Чтобы Трепов приходил тебя спрашивать, кого куда назначить министром?.. Ты понимаешь, что это невозможно. Ты хочешь, чтобы Протопопов оставался министром: он и останется, только не внутренних дел, а будет там, где теперь Шаховской… А твой друг Шаховской будет на его месте… Чего же ты хорохорился, не выслушав меня?
— А зачем ему это? Такого преданного «папе» он второго не найдет…
— Кроме преданности, есть и другое: надо уметь делать то или иное дело…
— Эх, да что дело… Дело — кто истинно любит «папу»… Вот Витя умнее всех, да не любит «папу», его и нельзя.
Болтали мы с час. Выпили две бутылки, но с утра, видимо, на него вино не так действовало, как вечером. Он не хмелел.
Я все же довел его до того, что он сказал, что пошлет телеграмму «папе», попросив выслать Трепову подписанный указ. Но Распутин не захотел при мне ее написать. Я понял, что он напишет обратное. Я притворился, что верю ему. Но он это хорошо понял, однако был доволен тем, что от меня отделался. У него был, без сомнения, дар читать чужие мысли, как, впрочем, и у всех до известной степени. У него это чутье было более развито.
На прощание он сказал мне:
— Вот что, останемся друзьями… И с твоим Треповым останусь другом, если не будет трогать моих друзей. Если же тронет, то уеду в Покровское, а «мама» его прогонит, а меня назад позовет… Ну, выпьем еще стакан и разойдемся, ты все же хороший.
Потерпевши это фиаско, я вернулся обратно к Трепову и рассказал все, как было. Он понял, что дело обстоит плохо.
Все, что он предвидел, отправляя меня к Распутину, сбылось. Государь указа не прислал. Протопопов остался министром внутренних дел, а Трепов сдал несколько месяцев спустя свою должность князю Н. Д. Голицыну. Окончательный провал России начался.
ГОСУДАРЫНЯ И ПРОТОПОПОВ
После моего назначения посланником в Бухарест царь вызвал меня в Могилев.
В Петербурге мне передали через даму из окружения Распутина, что императрица желала бы, чтобы я познакомился с Протопоповым до моей аудиенции у Ее Величества. Я это исполнил, под каким-то предлогом спросив по телефону, когда министр может меня принять. Протопопов ответил:
— Сейчас же…
…И продержал меня три часа, поясняя свою программу, но так сумбурно перескакивая с одного вопроса на другой, при этом вытаскивая разные дела и заставляя меня их читать, что я вынес впечатление, что пробыл с сумасшедшим.
На другой день во время аудиенции императрица мне сказала, что рада моему знакомству с Протопоповым и спросила, какое впечатление он на меня произвел. Я ответил по-русски:
— Это сумбурный человек. А затем уже по-немецки:
— Не нахожу немецкого слова, чтобы это выразить. И постарался пояснить Ее Величеству его смысл.
— Да, я знаю, у него не всегда последовательны мысли, но самые идеи хороши, и он нам так предан. Он не умеет, мне кажется, своих мыслей дисциплинировать и приводить в исполнение именно потому, что у него их слишком много. Ему нужен был бы помощник, менее нервный, чем он, который умел бы выбрать исполнимые мысли и с энергией их проводить.
— Я вчера его слушал весьма внимательно, но в течение трех часов разговора не заметил ни одной практически исполнимой мысли.
— Да, он очень нервен и часто увлекается. Помолчав, совершенно неожиданно государыня сказала:
— А вы не пошли бы к нему товарищем министра? Это не слишком ли малая для вас должность? Ведь можно было бы ее повысить, предоставив вам право личного доклада у государя.
Я улыбнулся и сказал:
— Ваше Величество! Я бы принял самую малую должность, если бы чувствовал, что могу принести пользу отечеству и исполнить ваше желание. Но, повторяю, с таким сумбурным человеком я служить не мог бы. К тому же в принципе невозможно, чтобы у государя было два докладчика по одному и тому же министерству. А без этого Протопопов через неделю меня бы выгнал.
— Кого же, вы думаете, можно дать ему в помощники?
— Ваше Величество, нужно выбрать такого, который дело знает.
— Да вы сколько лет ведете канцелярию министерства двора…
— Она ничего не имеет общего с министерством внутренних дел. Там нужно знать полицейское дело, о котором я понятия не имею.
Перед уходом я просил государыню простить меня, что, быть может, резко выразился относительно Протопопова.
— Напротив, я довольна, что вы откровенно высказали свое мнение о нем; нам так редко говорят правду. Я думаю, что ваше впечатление не совсем верно: преданного человека не надо осуждать, а надо ему помогать.
На этом моя аудиенция кончилась.
Относительно же Распутина скажу, что он меня удивил тем, что мне гадости не сделал и не пошатнул доверия императрицы ко мне. Я этого ожидал, судя по его поступку по отношению к Тамаре Родзянко, и этим он для меня стал еще непонятнее, чем раньше.
Милостивое отношение императрицы ко мне осталось и после убийства Распутина. Когда я вернулся в Петербург для доклада государю о матримониальных намерениях принца Кароля, я имел двухчасовую аудиенцию у Ее Величества, во время которой царица выказала мне большое доверие.
КНЯЗЬ АНДРОНИКОВ
Одним из главных агентов Распутина был князь Андроников, фигура примечательная.
Один из князей Андрониковых служил в Уланском Ее Величества полку и был весьма порядочный и любимый товарищами офицер. Другой, о котором я собираюсь говорить, нигде не служивший, пользовался репутацией опасного интригана. Ввиду этого я избегал случая с ним соприкасаться.
У одних моих знакомых мне пришлось, однако, сидеть за столом рядом с ним. Когда во время разговора я удивился осведомленности моего собеседника о делах по придворным пожалованиям, князь заявил мне, что он «адъютант Господа Бога» и в этом качестве все знает, что делается в Петербурге, что это — единственная его служба: другой он не хочет, но она заставляет его блюсти и поддерживать справедливость: это — цель его жизни.
Вскоре после этого разговора он меня посетил и просил поддержать пожалование двух имевшихся у меня в списке кандидатов. Я пояснил ему, что лично я ничего в этом отношении сделать не могу, но если буду иметь случай, то передам о его рекомендации министру двора.
На этом его визит не кончился. Тут же он мне сказал, что есть еще двое лиц, которые представлены своим начальством, но которые совершенно недостойны этой чести, и начал мне повторять какую-то городскую сплетню. На вопрос, может ли он мне представить документальные доказательства о том, что он передает, Андроников ответил, что таковых у него нет.
Тогда я встал и резко прекратил разговор.
После этого он мне прислал какую-то огромную рыбу с запиской, что получил несколько подобных с Волги и хотел поделиться со своими доброжелателями; я вернул ему рыбу без всякой записки. Оказалось, что одновременно со мною Андрониковым была послана такая же рыба Фредериксу и что повар подал ее к столу, ничего не сказав своему барину. Выяснилось же это недели две спустя. Министру это было очень неприятно, но реагировать было и поздно, и неудобно.
Несмотря на все это, князь опять появился ко мне, на этот раз с объемистой запиской общеполитического содержания, и просил меня сначала об аудиенции у министра двора, а затем, когда я это отклонил, — передать записку Фредериксу, что я исполнил. Оказалось, что он подобные меморандумы передал и другим министрам. Должен сознаться, что записка была умно составлена и довольно объективно, за исключением каких-то неясных намеков о деятельности одного из министров и хвалебного гимна по отношению к моему графу.
Я, конечно, всеми силами старался не допустить Андроникова до личного свидания с Фредериксом. Таких записок князь приносил мне четыре или пять, и, должен сознаться, министр их с интересом читал.
Прошел год или два. Двор находился за границей: Их Величества— в Вольфсгартене, а вся свита — во Франкфурте, куда приехал и Андроников опять досаждать мне, с просьбой представить его министру двора. Я же выдумывал предлоги, дабы этого не исполнять.
Самому мне приходилось князя принимать, так как он указал, что состоит корреспондентом какой-то газеты, и мне пришлось его видеть наравне с другими репортерами. Раз как-то он опять меня просил о представлении, на что я сказал, что это неисполнимо, так как министр едет в этот день провожать графиню, уезжающую в Петербург, до Кельна, где он посадит ее в Норд-экспресс, а затем один вернется во Франкфурт.
Граф, действительно, вернулся во Франкфурт с поездом, приходящим в 5 часов утра. Когда я позже пришел к нему, он рассказал мне следующее.
На вокзале по приезде он увидел перед своим вагоном господина, стоявшего с цилиндром на руках. Фредерикс подумал, что это кто-либо из железнодорожной инспекции, и подошел к нему со словами благодарности за удобный проезд, конечно, по-немецки. Господин же ответил по-русски:
— Я не железнодорожный служащий, а русский князь, который пришел сюда, чтобы, господин министр, выразить свое восхищение перед вами, только что исполнившим рыцарский поступок…
Граф в недоумении спросил:
— Какой?
Андроников ответил:
— Да проводив в Кельн вашу супругу, глубокоуважаемую графиню…
Затем он сопровождал министра до гостиницы, находившейся на площади перед вокзалом, и донес ему туда его дорожный несессер, наговорив приторно-сладких слов.
Фредерикс смеялся над способом Андроникова с ним познакомиться и выразил надежду, что на этом знакомство и кончится. Но тем не менее на следующий день князь явился к нему в гостиницу, и после визита этого граф мне уже хвалил ум и приятный разговор этого господина. А по возвращении в Петербург графиня получила цветы и конфеты от Андроникова, но лично его, кажется, не принимала. Свои записки он уже носил сам к графу, который их мне передавал. Но так как они не касались министерства двора, то остались без последствий.
Позже этот господин сумел втереться и к императрице Александре Федоровне и даже пытался мне передать повеление Ее Величества об изъятии из придворных цензурных правил какой-то газеты, которую он собирался издавать для увеличения популярности Их Величеств и августейших детей.
На это я ему ответил, что повелевает лишь государь, и повеления эти передаются через генерал-адъютантов. А так как князь лишь «адъютант Господа Бога», то от него никаких повелений не приму. На этом кончился наш разговор, и после этого я его больше не видал.
Конечно, я постарался через приближенных дам сообщить государыне о посещении князя Андроникова и узнать, правда ли, что он был послан Ее Величеством; но ответа на это не добился, почему полагаю, что он был у меня не без ведома императрицы.
Мне кажется, что сказанного достаточно, чтобы охарактеризовать Андроникова; невольно верилось невероятным слухам о том, что его квартира всегда была открыта Распутину: там было ему удобно получать от жен лиц, добившихся благодаря его посредничеству мест и повышений, плату натурою.
РАСПУТИН И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
В заключение, слегка отрешаясь от роли свидетеля, дающего показания, я позволю себе отметить, что, по моему мнению, личность Распутина явилась одной из главных причин того недоверия, которое осталось неискоренимым по отношению к Думе, даже последнего состава.
В. Н. Коковцов прилагал все усилия к тому, чтобы наладить нормальные отношения между царем и Государственной Думой.
Назначив министром внутренних дел Макарова и обер-прокурором Синода князя Ширинского-Шихматова, В. Н. Коковцов надеялся достичь своей заветной цели. Он добросовестно работал в этом направлении и даже стал постепенно лично сходиться с оппозицией, подружившись с Поливановым — другом главы оппозиции А. И. Гучкова. Последний был личным врагом государя и как председатель думской комиссии по государственной обороне имел серьезное влияние на войска, с которыми он всеми средствами старался сблизиться.
Можно было предполагать, что благодаря Коковцову постепенно все предубеждение государя к Думе после первых ее двух революционных составов пройдет и совместная государственная работа станет возможной. На это весьма надеялся и Коковцов во время «медовых месяцев» своего премьерства. К сожалению, это не удалось.
Причиной тому был злой рок в лице того же Распутина, являвшегося Божьей карой России.
Пресса заговорила о близости этого проходимца ко двору и его влиянии на назначение высшего духовенства.
Да позволено мне будет небольшое отступление, дабы объяснить взгляд высочайших особ на прессу. Свободу слова они признавали и к этому относились миролюбиво. Но, во-первых, под «словом» не хотели признать «печатного слова», а когда наконец нехотя с этим мирились, то считали, что высказанную или напечатанную ложь надо иметь возможность тут же административным порядком карать, неверно сказанное — исправлять. Одно лишь обращение к суду казалось им непонятным, равно как им казалось невероятным, чтобы воля государя не могла запретить печатание нежелательных статей.
Так, например, я как начальник придворной цензуры запрещал все статьи, где имя Распутина сопоставлялось с именами высочайших особ, на что закон меня уполномочивал. Но те статьи, где имена высочайших особ не значились, на цензуру мне вовсе не представлялись, и против них я был бессилен реагировать.
Мне немалого труда стоило это вполне растолковать своему министру, да и ему нелегко было убедить государя. Императрица же осталась при убеждении, что компетентные власти не желают ни строго относиться к этим вопросам, ни исполнять волю Его Величества.
Совершенно непонятна была в то время для наших верхов необходимость считаться с прессою. Строгие меры не только не останавливали нежелательных публикаций, а, напротив, их вызывали. Деньги в виде субсидий, а в сущности — взяток, тоже опасны, вызывают разные шантажи, а если аппетиты разыгрываются, то в конце концов ведут к катастрофам.
Возвращаюсь к вопросу об отношении государя к третьей Думе. Все инсинуации прессы относительно Распутина просачивались в Думу, вносились запросы, в кулуарах высказывались совершенно невозможные сплетни, да и во время прений с трибуны допускались безусловно непристойные речи и возгласы.
Государь требовал у Макарова прекращения этих обидных для императрицы пересудов… Макаров ничего сделать не мог. Обращались к Коковцову, который неопровержимо доказал, что закон не дает правительству способа этому противодействовать.
Слова эти, разумеется, ни царя, ни царицу не удовлетворили. Но в это же время Владимир Николаевич в каждом докладе хвалился перед Его Величеством своими успехами в становившейся государю ненавистной Думе… Он скоро впал в немилость; рознь между государем и Думой увеличилась.
ЧАСТЬ II ЧИТАЯ ТРУДЫ ВИТТЕ…
МОИ ВОСПОМИНАНИЯ
Только теперь, в 1933 году, в Болгарии, куда я переселился в надежде спокойно дожить последние годы моей жизни, мне удалось внимательно прочитать «Воспоминания Витте»; до сих пор я заглядывал лишь в те страницы, где упоминались мое имя и имена близких мне людей.
Труд графа Сергея Юльевича Витте представляет, бесспорно, исключительно серьезный вклад для историков, желающих изучить эпоху дореволюционной России. Беспристрастный читатель обратит внимание на болезненную желчность в изложении автора, когда речь идет о деятелях эпохи, а в особенности о государе. Вследствие этого многие факты характеризуются далеко не объективно. Все неудачи государственного управления в изложении автора «Воспоминаний» являются как бы последствием характера государя и того, что все ответственные должности были якобы заняты либо идиотами, либо мошенниками, либо интриганами. Заключение это невольно навязывается читателю «Воспоминаний».
Проведя 17 лет до революции на посту, дававшем мне возможность весьма многое видеть и слышать из безусловно хорошо осведомленных источников, считаю долгом привести относительно некоторых цитируемых Витте фактов и суждений свои о них рассказы с иной, чем его, точки зрения, полагая, что сопоставление моих мемуаров с «Воспоминаниями» С. Ю. даст более справедливую оценку лиц и событий.
До настоящего времени я воздерживался писать какие бы то ни было мемуары, не имея под рукой достаточно для того документов, которые собирал за 17 лет моей службы в качестве начальника канцелярии министерства императорского двора. Все письма и бумаги, имеющие исторический интерес, я откладывал, имея в виду в будущем напечатать подлинные документы и письма лишь с краткими моими заметками, объясняющими возникновение каждой из этих переписок. Все накопленное мною было уложено в два ящика в первые дни ноября 1917 года. Ящики эти были спрятаны у друзей после моего бегства.
С каждым годом уменьшается вероятность их добыть. Прочитав «Воспоминания Витте», я пришел к заключению, что ввиду моего преклонного возраста мой долг, пока память мне не изменила, поделиться тем, что мне известно и чему я был свидетелем, и тем по мере сил способствовать составлению более ясной картины прошедшего.
МИНИСТЕРСТВО ИМПЕРАТОРСКОГО ДВОРА
Я начал свою службу в лейб-гвардии конном полку в бытность барона (впоследствии графа) Фредерикса командиром этого полка.
Граф Фредерикс вступил в управление министерством императорского двора после коронационных торжеств, заменив графа Воронцова-Дашкова, назначенного наместником на Кавказе.
Положение министра императорского двора и уделов — он же командующий императорской главной квартирой — было особенное, отличавшееся от положения всех других министров. По закону дела министерства двора не входили в ведение Совета министров, и министр не был подведомствен председателю этого Совета. Подчинен он был исключительно и непосредственно государю, получая от него повеления и непосредственно ему же представляя всеподданейшие доклады.
Министру двора подчинены были 17 отдельных управлений, все придворные чины и должности, а также члены императорской фамилии, которые могли докладывать о своих делах государю только через него. Как командующему императорской главной квартирой ему подчинялись все лица свиты.
Должность начальника канцелярии императорского двора с марта 1900 года занимал я, а главной квартиры — граф Гейден, затем князь Орлов и, наконец, флигель-адъютант Нарышкин.
Мы сопровождали министра во всех путешествиях государя и пребываниях двора вне резиденций Их Величеств в Царском Селе.
Граф Фредерикс равно был любим государем и государыней. Оба ценили в нем врожденный такт, спокойствие и здравый смысл, исключительную правдивость и кристальную честность. Любим был граф Фредерикс как своими подчиненными, так и всеми придворными и военными кругами за доброжелательность и обворожительную любезность. Он не любил вмешиваться в дела государственного управления и не имел решающего влияния на поступки государя: Но в трудные минуты государственной и семейной жизни государь всегда делился с ним своими заботами и охотно выслушивал его мнение.
Часто он открывал глаза государю на весьма хитро сплетенные интриги, которые беспощадно клеймил. За всю мою службу при нем он ни одного дня не был в немилости государя, а незначительные вспышки недовольства императрицы быстро ею же сглаживались. Она искренне любила своего «старого джентльмена», как она его в семейном кругу называла.
К сожалению, с 1913 года начались у графа Фредерикса кровоизлияния в мозг, вследствие чего он временами совершенно терял память. Действие этих припадков иногда длилось несколько часов, но иногда и несколько дней. Конечно, Фредериксу следовало бы в то время оставить свой пост, о чем он несколько раз и просил государя, но царь, не желая огорчать старика, настаивал на том, чтобы он оставался при нем. Лица, видевшие Фредерикса во время этих припадков, составляли себе, разумеется, абсолютно ложное мнение об его умственных способностях, более подходящее к характеристике, данной Витте в его «Воспоминаниях». Причина того, что граф не настаивал на своей отставке, была еще и та, что государь не находил лица, могущего заменить Фредерикса, о чем они не раз беседовали между собою. Кандидата в свои заместители министр двора видел в лице князя Виктора Кочубея, и государь, видимо, склонялся его назначить, но Кочубей категорически отказался принять эту должность, считая, что по его характеру должность министра двора ему не подходит.
БОЛЕЗНЬ ЦАРЯ И СТОЛКНОВЕНИЕ С ВИТТЕ
Что касается отношения графа Фредерикса к Витте, то он, признавая всю талантливость, в особенности в управлении финансами, Витте, не имел к нему того доверия, которое имел ко многим другим министрам. Причиною тому был один инцидент, мне близко известный, имевший место во время болезни государя тифом в Ливадии в 1902 году.
Когда еще не был окончательно установлен диагноз, граф Фредерикс просил одну из фрейлин доложить государыне, что просит его принять. Через несколько минут императрица спустилась к нему в сад. Государыня сказала Фредериксу, что никого к государю не пустит, и лишь после долгих уговоров сказала, что он сможет видеть царя на следующее утро.
Когда граф спросил государыню, может ли он телеграфировать императрице Марии Федоровне и великому князю Михаилу Александровичу о болезни государя, она ему ответила, что сама это сделает. Граф Фредерикс вернулся с этого доклада в полном недоумении, что ему предпринять. Он просил гоф-медика Гирша при вечернем посещении государя доложить царю о его, Фредерикса, настойчивой просьбе быть принятым на другое утро. На приеме на следующий день Фредерикс доложил императору, что ему необходимо ежедневно видеть царя хотя бы по нескольку минут.2 Государь обещал уговорить императрицу, чтобы она на все время болезни разрешила Фредериксу приходить в опочивальню. На вопрос министра двора, как поступать со всеподданнейшими докладами, государь решил следующее: граф Фредерикс оповестит всех министров, чтобы они во время болезни царя посылали лишь доклады, требующие немедленного рассмотрения, а резолюции по этим докладам будут им сообщаться министром императорского двора. Затем государь добавил, что уполномочивает графа вскрывать всю переписку, приходящую на его имя, и чтобы начальник его канцелярии составлял всеподданнейшие записки с кратким содержанием поступивших докладов. На вопрос Фредерикса, не выпишет ли государь своего брата, великого князя Михаила Александровича, для замещения Его Величества на время болезни, государь ответил:
— Нет-нет. Миша мне только напутает в делах. Он такой легковерный…
Засим министр поднял вопрос о приезде императрицы Марии Федоровны. Тогда вмешалась в разговор государыня, и было решено, что Царь ей сам телеграфирует, а что министр двора ей будет ежедневно сообщать по телефону бюллетени врачей. Тогда же была решена выписка из Москвы профессора Попова.
В это время в Ялте находились министр иностранных дел граф Ламсдорф и министр финансов С. Ю. Витте, живший в доме министерства путей сообщений, на полдороге между Ялтой и Ливадией. Вскоре после заболевания государя стали приезжать и другие министры. Все они ежедневно собирались у Витте, куда иногда приезжал и граф Фредерикс.
Порядок докладов государю чрез министерство двора велся по точному указанию царя. Но по мере того как болезнь затягивалась, а государыня весьма часто запрещала графу говорить с государем о делах, разрешение многих спешных докладов замедлялось. Этот факт несколько раз обсуждался министрами, собиравшимися у Витте, и возбуждался вопрос о желательности учреждения регентства. Еще до этого граф говорил несколько раз с императрицею по этому поводу и представлял Ее Величеству выписки статей основных законов, имеющих касательство до болезни государя. Царица, однако, упорно настаивала на том, чтобы граф не говорил с императором об этом вопросе.
Во время одного из докладов министра двора государыня прервала его, решив, что он утомляет царя. Тогда император сказал графу, чтобы он докладов такого рода ему не преподносил, а прямо сообщал министрам о последовавшем высочайшем решении.
После этого указания государя министр двора приказал мне такие, без личного доклада разрешенные, дела особо отмечать в реестре, который велся мною о докладах министра двора за время болезни императора. Их имели в виду доложить царю по его выздоровлении. Я при этом случае позволил себе обратить внимание министра на то, что очень важно, чтобы никто из министров не подозревал об этих указаниях государя, с чем граф согласился. Однако он, очевидно; в одном из своих интимных разговоров с Витте ему об этом проговорился, так как несколько дней спустя Витте пригласил министра двора к себе вечером, а на другое утро граф Фредерикс дал мне бумагу, напечатанную на машинке, сказав, что обещал Витте ее подписать, никому пред тем не показывая, в особенности же мне. Прочитав ее, я доложил министру, что ему, безусловно, нельзя ее подписывать. В бумаге был изложен порядок докладов государю на время его болезни, касающихся посторонних министерств, но было добавлено, что если врачи признают невозможным утруждать царя докладами, то соответствующие министры могут их считать как бы получившими высочайшее одобрение; причем в витиеватом слоге этой бумаги было неясно, пользуется ли этим правом только министр двора или же и все прочие министры.
Граф Фредерикс рассердился на мое замечание, заявив, что, по словам С. Ю. Витте, именно подпись этой бумаги узаконит тот порядок всеподданнейших докладов, который он до сих пор практиковал.
Видимо, Витте основательно обработал доверчивого графа, так как, несмотря на все мои пояснения, он настаивал, что сдержит свое обещание и подпишет записку.
Царю как раз в этот день было особенно нехорошо. По возвращении от государя, с которым он о делах не говорил, граф мне заявил, что подпишет бумагу. На это я возразил, что ее контрассигновать не могу. Это окончательно рассердило Фредерикса, заявившего, что приказывает контрассигновать его подпись. Тогда я просил его отрешить меня от должности.
Как раз в этот момент приехал в Ливадию великий князь Михаил Николаевич.
Докладывая о его желании видеть министра, я посоветовал графу поговорить с великим князем как старейшим членом императорской фамилии о том, не превысит ли он своих полномочий, подписывая подобную бумагу. На это граф повторил мне, что обещал ее никому не показывать. Я возразил, что нет надобности сообщать великому князю, от кого получена бумага.
После свидания с великим князем граф уехал в Ялту, и до завтрака я оставался в неизвестности. Вернулся Фредерикс перед завтраком и тотчас же послал за мною. Когда я вошел в его кабинет, он меня обнял и сказал, что погорячился и что от души благодарит меня за настойчивость, которой он обязан тем, что я удержал его от опрометчивого поступка. При этом он добавил: «Я забыл, что уже не командир полка и что вы не корнет Мосолов».
Это было первое и последнее недоразумение между мною и графом за все время моей службы при дворе. Произошел этот случай благодаря безграничному доверию, которое в то время граф питал к Витте. Оказалось, как я потом узнал, что граф не удовлетворился резким суждением великого князя об этой бумаге, а поехал еще и к другим лицам в Ялте, и только то, что он там узнал, его убедило в возможности возникновения нежелательных для него последствий. Но и после этого граф продолжал симпатизировать деятельности Сергея Юльевича, но всегда был настороже при деловых с ним сношениях. В этот же вечер Матильда Ивановна Витте пригласила меня к себе и была более любезна, чем когда-либо. С. Ю. же никогда со мною об этом инциденте не говорил.
БОЛЕЗНЬ ГОСУДАРЯ
Говоря о болезни государя, ее могу не сказать несколько слов о государыне императрице Александре Федоровне. Ее Величество никогда до тех пор не вмешивалась не только в дела государственные, но и в обиход при дворе, ограничиваясь распоряжением над своими фрейлинами и женским персоналом при детях.
Со дня заболевания государя императрица явилась строгим цербером у постели больного, не допуская к нему не только посторонних, но и тех, которых желал видеть сам государь. Министра двора она согласилась ежедневно допускать в комнату императора, но часто заставляла его оставаться за ширмою, не показываясь и не разговаривая с государем. Когда Фредерикс испрашивал у императрицы прямо до двора касающиеся какие-либо распоряжения, она обыкновенно говорила, чтобы граф об этом не беспокоился, так как она уже распорядилась. И действительно, императрица отдавала приказания непосредственно ему подчиненным лицам, которые уже затем докладывали о полученных указаниях, причем добавляли, что государыня приказывала о своих распоряжениях не говорить. Все эти приказания передавались фрейлинами А. А. Олениной и С. Орбелиани, а также Е. Н. Оболенской. Скоро, однако, этих фрейлин оказалось недостаточно, и императрица вызвала из Рима бывшую свою фрейлину княжну Марию Викторовну Барятинскую, с которой государыня за три года перед этим поссорилась. Княжна Барятинская, весьма умная и толковая барышня, тогда лет около тридцати, заняла при государыне место ее начальника штаба и всем управляла с большой энергией. Она устранила ненормальность положения, переговаривая с министром и со мной о всех желаниях государыни до отдачи приказаний. При ней эти желания незаметно стали переходить от вопросов, касающихся только так называемых «полковников от котлет»,3 к вопросам, касающимся министров, чем граф Фредерикс ставился иногда в затруднительное положение. В императрице за время болезни государя особенно ярко сказались умственные способности и кругозор маленькой немецкой принцессы, хорошей матери, любящей порядок и экономию в хозяйстве своего дома, но не могущей по внутреннему своему содержанию стать настоящей императрицей, что особенно жаль, так как при твердости ее характера она могла бы помочь государю. Увы, горизонты мысли государыни были много уже, чем у государя, вследствие чего ее помощь ему скорее вредила. Странно, что две родные сестры, получившие одинаковое воспитание и образование, так разнились между собою. Великая княгиня Елисавета Федоровна после нескольких лет пребывания в России душою и понятиями стала совсем русскою, тогда как императрица, любя Россию, до конца своего царствования не могла понять русскую душу и не умела внушить к себе той любви, которую внушала ее сестра.4 О причинах этого буду говорить в другом месте.
Наконец наступило улучшение в состоянии здоровья государя. Пользующие его врачи ежедневно собирались у меня для составления бюллетеней и часто долго спорили о том, как выразить настоящее состояние больного. Находящиеся в Ялте министры настаивали на желательности объявления государя вне опасности. Лейб-медик Гирш согласился, но профессор Попов объяснил, что еще в течение недели он не находит возможным этого признать, так как период, при котором возможно прободение кишок, не прошел. Ввиду этого я заявил медикам, что после сообщенных раньше в бюллетене улучшений в здоровье государя задержка объявления о том, что он вне опасности, может быть приписана неправильному лечению. Поэтому предполагаю, что министр двора может вернуться к своему первоначальному намерению вызвать берлинскую знаменитость, которую еще в начале болезни советовала выписать императрица Мария Федоровна.
На следующий день профессор Попов присоединился к мнению своих коллег, и было объявлено, что государь уже вне опасности. Это по всей России произвело успокоительное впечатление. Пользующие государя врачи порекомендовали царю совершать прогулки на чистом воздухе, но профессор Попов при этом оговорил: «Лишь по горизонтальным дорогам». Так как в гористой местности Ливадии не было ни одной более или менее горизонтальной дорожки, то граф Фредерикс приказал мне распорядиться устройством таковой в спешном порядке от Ливадии по направлению к Ореанде.
В тот же день приступили к работам по склону горы, подымающейся с моря у самой Ливадии. К первому выходу государя эта дорожка была готова длиною с полверсты. Для царя это был весьма приятный сюрприз, и каждый день затем прокладывали дорожку на столько сажень вперед, на сколько врачи позволяли государю удлинять свою прогулку. Затем ее довели до Ай-Тодора, и пред отъездом вся царская семья проводила туда императора, который там посетил великого князя Михаила Николаевича.
Этот день был для меня праздником, так как тяжелая ответственность спала с моих плеч. Двор провел рождественские праздники в Ливадии, и во время детской елки я получил от Их Величеств гладкий серебряный портсигар с факсимиле подписей: с одной стороны — государя, а с другой — государыни, такой же, как получил министр двора. Сознаюсь, что это высочайшее пребывание в Крыму было для меня одним из самых тяжелых периодов моей службы, если не считать время сопровождения Их Величеств на празднование 300-летия дома Романовых.
ЯНВАРЬ 1905 ГОДА
Январь 1905 года был полон происшествий, сильно волновавших двор и все столичное население.
В день Крещения, 6 января, государь с блестящей свитой, предшествуемый духовенством и митрополитом, вышел из Зимнего дворца и отправился к беседке, устроенной на Неве, где происходило водосвятие. Началась торжественная служба, и был дан с Петропавловской крепости обычный салют орудийными выстрелами.
Во время салюта неожиданно для всех упали — как на павильон, так и на фасад Зимнего дворца — круглые картечные пули. В беседке было насчитано около 5 пуль, из коих одна упала совсем рядом с государем. Ни император и никто другой из свиты не дрогнули. Все стояли как вкопанные, недоумевая, что случилось. Только пред самым уходом я и еще несколько лиц свиты подняли с пола павильона по одной пуле.
Крестный ход возвратился в Зимний дворец, и, проходя мимо Николаевского зала, мы увидали несколько разбитых оконных стекол. Кто-то из начальствующих лиц Петербургского округа подошел к государю и объяснил, что в дуле одного из орудий оказался забытый картечный заряд. Государь молча прошел дальше. Впечатление на публику это произвело самое тяжелое. Конечно, никто не верил, что это случайность, все были уверены, что это покушение на государя, исходящее из среды войск.
Из Зимнего дворца я поехал к графу Фредериксу, который сказал мне, что государь очень снисходительно отнесся к инциденту, но повелел, как только что-либо будет известно, дать государю знать, ввиду чего граф мне приказал возможно скорее навести справки. Я телефонировал начальнику артиллерии генералу Канищеву, которого знал еще с войны 1877 года. Он мне обещал прислать военного следователя тотчас после первого дознания. Действительно, еще перед обедом следователь мне сказал, что, по первым показаниям, все кажется так, как было доложено государю, но, конечно, он еще не может окончательно определить, не было ли при этом злого умысла. Я немедленно сообщил о дознании следователя графу, который по телефону уведомил об этом государя. Царь казался весьма обрадованным, что не было покушения, что впоследствии и подтвердилось. Публика же, разумеется, этому мало верила, в особенности ввиду того что в то время было сильное брожение среди рабочих в Петербурге.
Граф Фредерикс требовал, чтобы я был осведомлен о том, что вообще делается в Петербурге, вследствие чего я в следующие за 6 января дни виделся с разными лицами, могущими меня осведомить: с генералом Рыдзевским — шефом жандармов, с военным министром; а чтобы судить о мнении общества, я два раза побывал в «Новом клубе»,5 тогда как вообще редко там показывался. Кроме того, вступал в более подробные разговоры с петербургскими корреспондентами газет, которые почти ежедневно бывали в моей канцелярии, ввиду того что я заведовал придворной цензурой, бывшей особым отделом моей канцелярии. Общее впечатление, которое я вывел из моих осведомлении, было ожидание чего-то грозного, общее недовольство во всех слоях общества, искание виновных во всех неуспехах, постигших Россию.
Между прочим, генерал Рыдзевский, мой предшественник по канцелярии и мой однополчанин, говорил, что через два дня ожидается большая манифестация со священником Гапоном во главе, но что надеются иметь возможность ей помешать, так как, хотя Гапон и считался преданным государственной полиции и своим человеком, все же крепко связался с анархистами. На мой вопрос, считает ли он, что петербургская полиция на высоте своего назначения, Рыдзевский ответил, что не особенно ей доверяет и что гапоновская манифестация будет для нее серьезным экзаменом. Вечером 8 января я звонил по телефону Рыдзевскому, спрашивая его, в каком положении дело. Он мне сказал, что только что вернулся с совещания у министра Святополк-Мирского и что решено было Гапона арестовать, а манифестантов не допускать до Зимнего дворца, для чего вызвать в помощь полиции войсковые части. Уже поздно ночью я опять ему телефонировал (конечно, по секретному проводу) и спросил его, арестован ли Гапон. Он ответил мне, что нет, ввиду того что он засел в одном из домов рабочего квартала и для ареста пришлось бы принести в жертву не менее 10 человек полиции. Решено было его арестовать на следующее утро, при его выступлении. Услышав, вероятно, в моем голосе несогласие с его мнением, он мне сказал: «Что же, ты хочешь, чтобы я взял на свою совесть 10 человеческих жертв из-за этого поганого попа?» На что мой ответ был, что я бы на его месте взял на свою совесть и все 100, так как завтрашний день, по моему мнению, грозит гораздо большими человеческими жертвами, что и действительно, к сожалению, оказалось, не говоря о политических последствиях этих происшествий.
События 9 января всем достаточно известны, чтобы их здесь повторять. Меня лично в этот день поразили бестолковые и бесцельные атаки кавалерии на толпу и несправедливость распоряжений, даваемых начальниками.
На следующий день, то есть на третий день беспорядков, Петербург имел совершенно необычайный вид. На Невском проспекте ходила толпа оборванцев, видимо, из всех подвальных помещений окраин. Магазины были закрыты; электричество, почта, трамвай не действовали. На перекрестках улиц находились посты из нескольких нижних чинов. Эти посты были все как бы облеплены прохожими, сильно жестикулировавшими. Дворы больших зданий на ведущих к Невскому улицах были заняты пехотою, а за нею виднелась кавалерия, — одним словом, полная картина военного положения. Возвратившись с доклада министру, я остался дома и запретил всем чинам моей канцелярии выходить на улицу.
Вечером того же дня ко мне пришел Дмитрий Федорович Трепов, чтобы проститься с моей женою — его сестрою, так как он собирался выехать в действующую армию на Дальний Восток. Говоря со мною о виденных за эти дни беспорядочных действиях полиции и войск, он сказал, что полиция, видимо, не имеет точных инструкций и действует крайне неумело. Между прочим, он нашел особенно неуместным, что войска наступают фронтом иной раз на припертую к стене толпу. Это вызывает ожесточение толпы и заставляет ее оказывать противодействие; следовало бы войскам и полиции стараться вклиниваться в толпу и отрезанные части вгонять во дворы домов, где поодиночке полиции записывать имена и также поодиночке выпускать, когда толпа рассеется. Главных же крикунов препровождать в участки, где подвергать краткому допросу, после чего и их выпускать. Таким образом, по его словам, ему в Москве удавалось многократно рассеивать толпу без кровопролития.
ЯНВАРЬ 1905 ГОДА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Говоря о своей будущей судьбе, Трепов мне сказал, что, как ему ни тяжело расставаться с семьею, которую оставляет в Петербурге в такое тревожное время, но он счастлив, что едет на фронт, подальше от тяжелой административной ответственности. На мое возражение, что именно в это время он, в сущности, не имеет права не предложить воспользоваться его полицейскою опытностью, Трепов в большом волнении ответил, что по приезде в Петербург он доложил государю причины, побудившие его возвратиться к строевой службе, и при этом случае высказывал царю, что в данный момент считает необходимым систематическою строгостью восстановить порядок в России, но одновременно с этим вводить постепенно и последовательно либеральные мероприятия, клонящиеся к установлению конституционного порядка, причем спросил императора, принял ли он окончательное решение относительно дарования конституции и неуклонного ее проведения. Получив уклончивый ответ государя, Трепов решил твердо настаивать на своем отъезде на Дальний Восток, полагая, что в таком случае никакой пользы он принести не сможет на административном посту, на занятие которого ему намекал царь. После этого разговора Трепов взял с меня слово не упоминать Фредериксу о его пребывании в Петербурге, чтобы не помешать его отъезду, и мы простились.
Утром 11 января я поехал с докладом к министру двора, захватив с собою составленную и написанную мною шпаргалку для доклада, рисующего общее положение дела в столице. Вывод моего доклада был таков, что, при общей растерянности и неумении начальствующих лиц бороться со смутою, я считаю положение государя более чем опасным. И лишь назначение авторитетного лица, могущего объединить все действия войск и администрации в Петербурге, спасет положение.
Я нашел министра в сравнительно спокойном состоянии духа, так как за эти три дня он не выходил и не был осведомлен об истинном положении вещей. Свой доклад я докончил мыслью о том, что место министра двора в данную минуту около государя и что ему необходимо ехать в Царское Село. Фредерикс мне ответил: «О положении дел государь, вероятно, осведомлен, но меня спросит о том, какое же предложение я могу ему сделать для выхода из положения. Что я ему скажу?» — «Найти вместе с государем то лицо, которое можно было бы назначить для объединения всех действий против крамолы, и назначить это лицо еще сегодня». Затем я добавил: «У государя должен быть список кандидатов на посты генерал-губернаторов». Перебирая подходящих лиц, я обратил внимание на генерал-адъютанта М. И. Черткова, как более других подходящего.
Граф Фредерикс решил окончательно ехать в Царское Село и приказал заказать поезд; но тем временем просил меня съездить к градоначальнику Фулону и князю Васильчикову, командиру гвардейского корпуса, которому подчинены были войска, действовавшие против крамолы, и затем немедленно вернуться к нему для доклада о положении столицы, которое я выясняю для данного момента.
Выйдя из дома министра, я с трудом пешком пробрался через бурлящую толпу к дому градоначальника. Генерала Фулона я нашел в кресле, с воспаленными глазами, в расстегнутой тужурке. За креслом стояли два его помощника: один — Фриш, сын члена Государственного совета, и другой, имя которого я не припомню. Оба были как в воду опущенные. Фулон мне сказал: «Доложите министру двора, что полиция совершенно выбилась из сил и положительно справиться с подавлением беспорядков не может. Каждые полчаса получаются известия о том, что открылись новые очаги беспорядков. Помощь войск настолько неумелая, что мне вовсе не помогает. Есть причина опасаться, что часть крамольников отправится в Царское Село. Этому я помешать не могу силами одной полиции». Простившись с генералом, я вышел и, перейдя площадь, вошел в штаб округа. Там, пред кабинетом командира гвардейского корпуса, были собраны старшие начальники войсковых частей гвардии. Когда я вошел к князю Васильчикову, моему бывшему товарищу по полку, я увидел его перед планом Петербурга, распределяющего на нем подчиненные ему войска гвардии. Когда я пояснил причину моего посещения, князь Васильчиков объяснил мне, как разместил все части своего корпуса. На просьбу дать мне те инструкции, которые он преподал войскам, князь Васильчиков мне сказал, что никаких инструкций не давал, что войскам все известно из воинского устава. Наконец, на мой вопрос, надеется ли он справиться с беспорядками, князь Васильчиков ответил, что пока вполне рассчитывает на верность своих войск, несмотря на то что некоторые начальники выражали ему свое беспокойство по этому поводу. Выйдя из кабинета, я переговорил с несколькими находящимися там генералами. Между прочим, с корпусным командиром Зальца, который мне сказал, что Васильчиков распоряжается как на маневрах, распределяя крайне неосновательно войска, и вообще высказывался весьма пессимистически относительно результатов подавления беспорядков в этот день. Вернувшись в дом министра двора, я доложил о всем виденном и слышанном мною. Фредерикс уехал в Царское Село, сказав, что если сочту нужным, то могу его вызвать к телефону по дворцовому проводу.
Вернувшись в свой рабочий кабинет, я начал обдумывать все, что видел и слышал в эти дни. Мне было ясно, что при существующей неурядице на верхах подавление беспорядков невозможно. Более чем когда-либо мне казалось, что все дело должно быть сосредоточено в одних руках, причем необходимо, чтобы назначенное лицо было знакомо с полицейским делом. А такового я видел исключительно в Трепове, которому обещал о нем не напоминать. Дело же было слишком серьезно, и мне казалось, что уже через день, может быть, будет поздно принимать какие-либо меры. Помолившись, я вызвал по телефону дежурного скорохода при кабинете государя. Узнав от него, что граф Фредерикс не был еще у царя с докладом, а ждет приема, я просил позвать его к телефону. На вопрос, что он решил, Фредерикс ответил, что думает, что необходимо назначить генерал-губернатора в Петербург с особыми полномочиями, но что ни на каком лице еще не остановился. Тогда я сказал графу, что если государь захочет назначить лицо, мало знакомое с полицейским делом, то можно было бы ему придать как помощника Д. Ф. Трепова, который уезжает лишь через два дня, а теперь еще в Петербурге. Мысль эта понравилась Фредериксу: «Что же вы раньше о нем не напомнили мне?» Я сказал о моем обещании Трепову и пояснил, что при данных обстоятельствах я счел возможным нарушить это обещание. В это время пришли звать Фредерикса в кабинет государя. Около получаса я находился в большом волнении. Мне казалось, что решается участь царя и России. Наконец меня вызвали по телефону. У аппарата был граф Фредерикc: «Разыщите Трепова и скажите ему немедленно явиться ко мне в парадной форме, так как от меня ему придется ехать в Царское Село. Подробности я вам скажу на словах».
Городские телефоны не действовали. Переход через Невский был более чем затруднителен. Пришлось идти пешком на Пушкинскую улицу, где в меблированных комнатах остановился Трепов. Дома оказалась только его жена, но она не знала, где муж. Оставив записку, содержащую приказание министра двора, я отправился к Фредериксу. Граф передал мне весь свой разговор с государем. Видимо, император из получаемых им известий не мог себе дать отчет о серьезности положения, но после доклада ему стало ясно, что необходимо назначить в столицу генерал-губернатора. Царь не мог сразу остановить свой выбор. Был вызван в кабинет государя генерал Гессе. Перебрали много имен, но ни на ком не могли остановиться. Тогда Фредерикс сказал, что, быть может, облегчится этот выбор для государя, если он решит дать этому лицу как помощника Д. Ф. Трепова. Император, видимо, обрадовался этому предложению, и приказал вызвать Трепова. На этом и кончилась аудиенция у царя.
Два часа ждали мы прибытия Трепова. Наконец он явился. Фредерикс в кратких словах сообщил ему о своем докладе государю, и Трепов уехал в Царское Село. Около 9 часов вечера получилось сообщение по дворцовому проводу, что Трепов едет к министру двора. Трепов объявил, что государь решил учредить Санкт-Петербургское генерал-губернаторство, которому вместе с тем был бы подчинен петербургский гарнизон, и назначить его, Трепова, на этот пост.
Из рассказа Трепова об его посещении государя выяснилось, что царь еще до приезда решился на его назначение, засим разговор его с императором касался исключительно способа усмирения Петербурга. Явился вопрос, куда поселить нового генерал-губернатора, который, очевидно, не мог оставаться в меблированных комнатах на Пушкинской улице.
Граф Фредерикс спросил по телефону указаний царя по этому поводу. Государь лично приказал временно отвести помещение в Зимнем дворце. Я сделал распоряжение и получил ответ от генерала Сперанского, начальника Санкт-Петербургского дворцового управления, что помещение будет готово к 12 часам ночи. Тогда я с Треповым уехал к себе домой. Ехали мы на извозчике, чтобы не обращать на себя внимания. Трепов пошел от меня к министру внутренних дел Святополк-Мирскому, жившему в двух шагах от моего помещения, на Фонтанке. Вернувшись оттуда, он мне рассказал, что сообщил Мирскому о своем назначении и засим просил его вызвать заведующего полицией Лопухина, которому он при Мирском сказал, что просит его к следующему утру прислать доклад о всех распоряжениях, сделанных за январь, и впредь держать его в курсе своих распоряжений. Лопухин ответил, что не считает себя вправе исполнить это требование Трепова. Дмитрий Федорович заявил ему, что в таком случае он завтра утром представит министру внутренних дел требование об исполнении вышесказанного на основании имеющегося у него на то высочайшего повеления, добавив к этому, что делает Лопухина лично ответственным за то, что он, Трепов, доедет благополучно до Зимнего дворца. Было уже около полуночи, когда в моей карете я повез Трепова в Зимний дворец, куда мы и прибыли благополучно.
Д. Ф. ТРЕПОВ
10 января, едучи на доклад к министру двора, заехал я в Зимний дворец, где встретил обоих помощников градоначальника, уже с бодрым видом идущих исполнить полученные ими инструкции. Впоследствии я ежедневно заезжал к Трепову, чтобы быть в курсе его распоряжений для доклада о них министру двора. Начиная с этого дня понемногу водворялось спокойствие в Петербурге, Было видно, что с твердостью проводимые меры имели свое воздействие. У Трепова были постоянные совещания как с фабрикантами, так и с депутациями от рабочих, из коих некоторые были приняты и государем в Царском Селе.
Когда позже Трепов был назначен товарищем министра внутренних дел и шефом жандармов, он вместе с семьей переехал на Мойку, в дом, принадлежащий министерству внутренних дел. Я продолжал мои почти ежедневные посещения его.
Граф Витте в своих воспоминаниях характеризует Трепова как «вахмистра по воспитанию, погромщика по убеждениям», хотя потом последнее смягчает, говоря, что погромщиком его, пожалуй, назвать нельзя, но что все же он с удовольствием относился к погромам, если почему-либо считал их нужными, а кроме сего, он возлагает на Трепова всю ответственность за беспорядки, имевшие место после 17 октября, подавление которых стоило немало крови. При этом С. Ю. Витте ни одним словом не упомянул о том, что Трепов, призванный в разгар народных волнений 11 января, их усмирил, не пролив ни одной капли крови, и это исполнил при полной растерянности в верхах. Благодаря своей энергии и умению обращаться с массами ему удалось потушить начавшийся пожар, и его разумные мероприятия вскоре внесли известное успокоение. Конечно, за 9 месяцев своей деятельности Трепов не мог искоренить то движение, которое давно уже таилось в русском народе и которое 10 лет спустя отдало Россию в руки большевизму.
Были ли критикуемые Витте мероприятия подходящими для данного момента или нет, теперь трудно решить, но бесспорно для всех тех, которым пришлось соприкасаться с административными верхами того времени, что он отодвинул настолько падение империи, что явилась возможность дать манифест 17 октября. Если манифест революции не прекратил, то за это нужно винить не его, а тех, которым поручено было проводить реформы, дарованные этим манифестом. Во всяком случае, подавление начала революции 1905 года — огромная заслуга Трепова.
Обратимся теперь к роли государя в тяжелые дни после 9 января, в минуты действительной опасности. Оскудение в России в эту эпоху государственно мыслящими и работоспособными людьми было прямо катастрофическим. Я помню раз, после одного из посещений императора Вильгельма, государь рассказал, что Вильгельм ему рекомендовал при назначении всякого лица на высшую должность одновременно вписывать в секретный список лицо, могущее его заменить. При этом государь выразился так: «Хорошо ему говорить об этом. Когда я, после больших потуг, нахожу лицо, более или менее подходящее на высокий пост, то уже второго никак не найду. Видимо, в Германии больше лиц, подготовленных для занятий высоких должностей». Тогда все полагали, что он тасует одну и ту же колоду, и полагали, что Дума нам даст новых людей. Эта же причина и была виною тому, что Витте после 17 октября, став председателем Совета, не мог долго составить министерства. Да и те, которых он выбрал, далеко не все соответствовали своим назначениям. Это обстоятельство было одною из причин постигшей его неудачи, вину за которую он в своих записках всецело сваливает на государя.
Чтобы вернуться к Трепову, скажу, что его сближение с царем весьма понятно. Речи и доклады Трепова были, даже по мнению самого Витте, искренни и ясны по своей простоте. Причем автор воспоминаний добавляет: «Ибо для лиц политически невежественных все кажется просто и ясно». В общем, соглашаясь с высказанным положением, нахожу, что оно не вполне применимо к Трепову.
Дело в том, что все четыре брата Треповы восприняли у их отца, петербургского градоначальника, особую манеру говорить и писать: по форме довольно резкую, но ясную — не потому, чтобы они не понимали более сложной формы мышления, но потому, что у них был дар выражать свою мысль в особенно лаконической форме. Это придавало особую убедительность их речи, что они прекрасно понимали, и потому этим стилем даже злоупотребляли.
Кстати, хочу рассказать историю знаменитой фразы Трепова. Раз вечером я заехал к нему на Мойку. Он показался мне озабоченным и, видимо, был очень занят. Я сел против него. После довольно долгого молчания он, продолжая заниматься, дал мне на прочтение только что написанную черновую приказа войскам гарнизона на следующий день, когда ожидались особенно сильные беспорядки. Прочитав эту черновую, я подчеркнул в ней фразу: «Патронов не жалеть», — и вернул ее со словами: — В своем ли ты уме?
— Да, в своем. И эта фраза вполне мною обдумана, но я забыл ее подчеркнуть, ты это сделал.
— Понимаешь ли ты, что после этого тебя будут называть не Треповым, а «генералом патронов не жалеть»?
— Знаю это и знаю, что это будет кличка непочетная, но иначе поступить, по совести, не могу. Войск перестали бояться, и они стали сами киснуть. Завтра же, вероятно, придется стрелять. А до сих пор я крови не проливал. Единственный способ отвратить это несчастие и состоит в этой фразе. Неужели ты думаешь, что я не понимаю всех последствий этих слов для себя лично? Ну, а теперь иди, мне некогда. Завтра же зайди узнать результат моего приказа. Тогда скажешь, прав ли я был.
Он оказался прав: толпа побоялась войск после этого энергичного приказа, и ни одного выстрела за этот день дано не было. Трепов, безусловно, знал психологию толпы и имел гражданское мужество действовать согласно своим убеждениям.
Граф Витте часто останавливается в своих воспоминаниях на диктаторской роли Трепова, с видимым укором государю за предоставление тому этих прав. Приняв в соображение положение в Петербурге и во всей России, создавшееся после 9 января, мне кажется совершенно естественным и логичным, что Трепов пользовался всею полнотою власти в это критическое время.
Император, дав. Трепову эти полномочия при самом его назначении, повелел держать его, царя, в постоянном курсе своей деятельности. Это Трепов в точности исполнял. Мне известно, что почти ежедневно Трепов писал государю собственноручные письма с докладами о более или менее значительных своих распоряжениях, и император ему отвечал обыкновенно краткими записками, а иногда присылал для сведения доклады и других министерств, каковые, равно как и все записки государя, Трепов на следующий день возвращал царю.
Когда я после смерти Трепова по высочайшему повелению разбирал все оставшиеся после него бумаги как на его квартире, так и в управлении дворцового коменданта, я не нашел ни одной записки царя или копии с таковой. Насколько мне помнится, до 17 октября у Трепова были лишь один или два личных доклада у государя.
Казалось бы, нельзя упрекать царя в неправильной постановке дела в отношении прав, данных Трепову. Что же касается диктатора Трепова в бытность его дворцовым комендантом, то об этом буду говорить ниже. Назначение Дмитрия Федоровича дворцовым комендантом Витте выставляет как бегство Трепова от ответственной должности, но это, безусловно, неверно. Трепов считал манифест 17 октября пагубным в таком виде, при каком он появился, и находил, что проводить его начала в жизнь должны те лица, которые его написали. Поэтому он еще 16 октября, когда граф Фредерикс со мною был у Витте, говорил мне, что не может оставаться на своем посту и будет просить государя дать ему возможность немедленно сдать должность и уехать за границу, так как оставаться в России опасно ввиду неминуемых попыток террористов его убить. Он просил через меня министра двора поддержать его просьбу пред государем. Насколько мне помнится, 18 или 19 октября граф Фредерикс говорил с царем по этому поводу. Министр мне передал, что, видимо, Его Величество решил о назначении его дворцовым комендантом, причем император сказал: «Только эта должность может сохранить Трепова в живых. Не могу же я после всего того, что он сделал, предать его в руки анархистов. Тут или за границей — безразлично».
После назначения дворцовым комендантом Трепов немедленно взялся за дело преобразования личной охраны государя. Широкая постановка дела охраны была, действительно, в то время необходима. Хотя в более спокойные времена я лично считал правильнее, чтобы дело охраны разделялось между департаментом полиции и дворцовой полицией, но при том антагонизме между ними, на который указывал Трепов, министр двора согласился на доклад Трепова о расширении его полицейских полномочий для данного времени. К сожалению, эта, в сущности, неправильная постановка дела охраны оставалась и после Трепова в силе.
Отношения государя к Трепову после его назначения комендантом остались те же, что и в период «медового месяца». При некоторых разговорах с Д. Ф., когда я ему передавал общую молву о том, что он остался всесильным диктатором, Трепов говорил, что весьма этим тяготится, но что не может прекратить с царем разговоры на темы общего политического положения и что во всех случаях, требующих высочайшего решения, всегда докладывает о том государю.
Прием императором после 17 октября различных черносотенных организаций был несчастием для России. В первое время после 17 октября черносотенцы многократно обращались с просьбою устроить им прием у царя чрез министра двора. Я принципиально отказывал в этом, считая, что такие приемы, помимо органов правительства, не должны иметь места. В это время я узнал из камер-фурьерских журналов о приеме таких лиц и депутаций государем. Считаю нужным пояснить, что такое камер-фурьерский журнал. В этот журнал записывались все приемы и выезды как царя, так и царицы, и все времяпровождение Их Величеств во дворцах. Журналы эти велись в трех экземплярах: один каждое утро клался на письменный стол императора в запечатанном конверте; второй экземпляр, также запечатанный, посылался министру двора; третий же хранился в особом железном ящике у камер-фурьера. Они считались весьма секретными.
Узнав о вышесказанных приемах, я по приказанию Фредерикса спросил у Трепова, не он ли устраивал эти приемы. Трепов ответил отрицательно и прибавил, что находит их крайне нежелательными. Несмотря на все мои старания, мне не удалось точно установить, чрез кого устраивалось большинство этих приемов, но предполагаю, что они устраивались не без участия государыни, в уме которой гнездилось убеждение, что император, присягнувший при коронации самодержавию, не имеет права уступать этих обязанностей без борьбы. Во время моего разговора с Треповым по этому предмету я вынес впечатление, что царь под влиянием панического страха перед революцией великого князя Николая Николаевича, считавшего, что только Витте мог спасти положение, и всей обстановки дней, предшествовавших 17 октября, против своей воли подписал манифест и принимал не без удовольствия тех, которые были противниками этого манифеста. При этом Трепов высказывался об опасности для династии, если благодаря этим приемам не будут приведены в исполнение начала, объявленные императором.
Несколько крупных столкновений мне пришлось лично иметь с доктором Дубровиным. Дело в том, что как начальник канцелярии министерства двора я был и начальником придворной цензуры, и по тогда действовавшему закону все статьи, касавшиеся высочайших особ, подлежали моей предварительной цензуре. Дубровин в своей газете несколько раз упоминал государя, не исполнив положения о предварительной цензуре. Я его вызвал и указал, что впредь буду руководствоваться моими законными правами по отношению к его газете. Дубровин дал мне понять, что то, что он пишет, угодно царю, но я тем не менее настоял на необходимости, чтобы он подчинился. Несколько дней спустя мне была представлена одна из статей, в которой Дубровин говорил о приеме императором одной депутации его приверженцев и приводил слова, сказанные государем. Я его снова вызвал и заставил вычеркнуть эту часть статьи, так как о приеме этой депутации мне не было известно.
Как-то раз, после доклада царю, граф Фредерикс мне сказал, что Дубровин жаловался государю на мою якобы придирчивую строгость к его газете. Я собрал не пропущенные мною статьи и дал их министру для всеподданнейшего доклада. По словам графа, император вполне согласился, что пропустить я таких статей не мог. При первом случае, когда я имел возможность говорить с государем, я упомянул о Дубровине и пояснил, что у меня больше хлопот с газетами, издаваемыми лицами, преданными царю, нежели с газетами либерального направления. Указав на одну, очевидно, Дубровиным выдуманную статью о наследнике цесаревиче и о словах, якобы сказанных, император мне сказал: «Да, это была бы со стороны Дубровина медвежья услуга — пропустить такую статью. Пришлите мне ее, я покажу это государыне».
В то время черносотенцы вообще проявляли большую деятельность. Чтобы охарактеризовать их поведение, приведу один случай со мною. Поздней ночью я услышал телефонный звонок. Взяв трубку с аппарата, стоявшего у моей кровати, я услышал незнакомый голос: «Мы знаем, что вы интригуете против нас — людей, глубоко преданных государю, и мне поручено вам сказать, что если вы не прекратите разных инсинуаций, то мы, со своей стороны, расскажем императрице такое…» Я повесил трубку. Таких ночных звонков ко мне было несколько. Не могу не упомянуть о том, что, видимо, шантажная угроза была приведена в исполнение, так как после этого государыня довольно долгое время меня холодно встречала, и только в случайных разговорах с фрейлинами я узнал, что эти господа прибегли к гнусной клевете о моей частной жизни.
Во время поездки царя в Красное Село для присутствия при окончании маневров у Трепова сделался очень серьезный сердечный припадок. Несмотря на это, он, лежа в кровати, все же продолжал руководить охраною государя. По приезде же в Петергоф проболел более недели. В это время у царя шли совещания о том, какое министерство составить ко времени первой Думы. Трепов считал, что раз царь подписал манифест 17 октября, то он должен составить министерство из лиц, принадлежащих к преобладающей партии, то есть кадетов. Мне известно, что у Трепова были встречи по этому поводу как с Милюковым и Муромцевым, так и с другими выдающимися кадетами. Он мне жаловался на их несговорчивость и непонимание настоящего положения.
С другой стороны, все недовольные манифестом уговаривали государя составить реакционное министерство и набрасывались самым жестоким образом на Трепова, по их мнению, советовавшего царю весьма опасный путь. В числе этих лиц был и родной брат Трепова, Владимир Федорович. После горячего обсуждения этого вопроса с братом В. Ф. Трепов просил устроить ему аудиенцию у государя, дабы лично убедить императора в правильности своего мнения. Д. Ф. Трепов исполнил просьбу брата. Аудиенция его у царя длилась около часа. Результатом всех этих переговоров было министерство Горемыкина, а затем Столыпина. С этого же времени, Д. Ф. Трепов впал в немилость, сначала у императрицы, затем и у государя.
Основная мысль Трепова была та, что раз император дал известные свободы и их узаконил, всякое с его стороны отступление от них явилось бы опасностью для династии. При этом он мне пояснил, что был таким противником манифеста Витте только потому, что предчувствовал, что государь не будет в силах исполнить все дарованное им в этом манифесте.
Вся царская семья выехала на «Штандарте» в шхеры. Я находился в числе лиц, сопровождавших Их Величества. На третий или четвертый день нашего плавания после вечернего чая государь с графом Фредериксом гулял по палубе, на которой находился и я. Царю принесли телеграмму. Прочитав ее, император меня подозвал и дал мне ее прочесть. В ней было сказано, что около 7 часов вечера нашли Д. Ф. Трепова мертвым в его спальне и что врачи предполагают, что у него был сердечный припадок. Государь приказал мне срочно ехать в Петергоф и немедленно приступить к опечатанию всей имеющейся у Трепова корреспонденции как на квартире, так и в управлении дворцового коменданта. Все бумаги потом разобрать и по возвращении Его Величества лично ему доложить.
Несколько минут спустя подошел к «Штандарту» дежурный миноносец и, взяв меня, полным ходом направился в Петергоф, куда я прибыл в шестом часу утра.
Придя в павильон, где жил Трепов с семьею, я нашел в кабинете его тело, уже одетое в свитский мундир, лежащее на кровати. Во всем доме в это время бодрствовала лишь одна монашенка, читавшая псалтырь над телом усопшего. Я помолился у бренных останков моего друга и вызвал по телефону начальника канцелярии дворцового коменданта Ф. Ф. Каналоши-Лефлера, бывшего начальника отделения моей канцелярии. Вместе с ним я немедленно приступил к опечатанию письменного стола и всех бумаг, находившихся в квартире. К этому времени вышла ко мне вдова Трепова, София Сергеевна, рожденная Блохина. Вскрытие тела выяснило, что Д. Ф. скончался естественной смертью. Горе его жены и дочерей было велико. Сообщив все подробности на «Штандарт», я испросил высочайших указаний о похоронах. Погребение состоялось через два дня после кончины на Петергофском кладбище. Присутствовали весь двор и все великие князья, находившиеся в окрестностях Петербурга. Согласно телеграмме графу Фредериксу, государь предполагал прибыть на похороны, но в день погребения я был уведомлен, что царя не будет. Затем я взялся за разборку бумаг и дел покойного. Недели две спустя эта работа была кончена, и к этому времени Их Величества возвратились в Петергоф. На следующий день я получил приказание явиться в Александрию и привезти с собою те дела, которые имею доложить государю. Император меня продержал с докладом более двух с половиной часов. Я привез три весьма объемистые связки дел, которые мною были классифицированы в следующем порядке.
1. Всеподданнейшие доклады и записки, представлявшиеся Треповым во время его генерал-губернаторства и бытность его дворцовым комендантом.
2. Разные секретные дела по справкам, касавшиеся лиц, союзов и разных судебных дел.
3. Всякие записки, касавшиеся политического положения России.
Дела первой категории государь приказал оставить в его кабинете, сказав, что по просмотре он их отправит в собственную Его Величества библиотеку на хранение. На вопрос царя, не нашлись ли в бумагах Трепова его собственноручные записки, мною было представлено императору в особом конверте 5 или 6 записок, по просмотре коих государь приказал передать их вдове Д. Ф., заметив, что для нее будет утешением иметь эти записки, свидетельствующие о благоволении Его Величества к ее покойному мужу. Затем государь спросил, не нашел ли я копии некоторых его записок. Я ответил отрицательно, передав ему рукою Трепова написанный реестр тех записок царя, которые Трепов вернул императору. Этот реестр Его Величество положил в свой письменный стол.
Особенно интересовался царь бумагами второй категории, и мне пришлось ему доложить почти все собранные мною бумаги, причем некоторые из них он сам перечитывал. После доклада я спросил, что с данными бумагами делать. «Я их тоже пошлю в собственную библиотеку», — ответил царь. На мой вопрос, не угодно ли будет Его Величеству часть этих бумаг изъять от прочих, отправляемых в библиотеку, император ответил: «Нет, вы правы, будет лучше их все уничтожить. Возьмите их и сожгите». Что касается третьей категории бумаг, мне было приказано прочесть лишь их заголовки. При этом Его Величество о многих говорил, что Трепов ему их не докладывал, о других же помнил, говорил о своих резолюциях и затем приказал их все оставить у него для отправки в библиотеку.
Что касается частной переписки Трепова, которой я с собою не привез, государь согласился с моим предложением передать вдове все, что касается имущественных дел, а прочую часть уничтожить, добавив: «Впрочем, вы, как друг Дмитрия Федоровича, лучше знаете, что с ними следует сделать; поступайте так, как предполагаете, что покойный Трепов сам этого желал бы».
По окончании доклада государь встал и, прогуливаясь со мною взад и вперед по кабинету, стал говорить о покойном. Он мне высказал, насколько ценил заслуги Трепова и его деятельность после 9 января, и что больше всего ему нравились ясность его взглядов и гражданское мужество их всегда высказывать. После некоторого молчания царь высказал сожаление, что как раз перед кончиной Дмитрий Федорович пережил столько нравственных потрясений и что он приписывает уже болезненному его состоянию то, что Трепов так неожиданно на многое переменил свои взгляды. За этою переменою, сказал император, он никак следовать не мог, что отлично понял и брат Трепова, Владимир Федорович. Разность взглядов с братом должна была тоже огорчать покойного. Припоминается, что государь мне говорил о том что часто Трепова называли диктатором, прибавив к этому: «Вы просмотрев все бумаги, могли убедиться, что он лишь следовал моим указаниям, а я добавлю, что он всегда разумно и энергично их исполнял».
В заключение, когда я привел в порядок привезенные мною бумаги, царь мне сказал: «Однако долго, но хорошо мы с вами поработали. Очень опечалила меня эта неожиданная смерть». Общее мое впечатление было то, что император, безусловно, ценил Трепова, но особой личной к нему симпатии не чувствовал.
В этот же вечер я приступил к сожжению всего того, что мне было поручено уничтожить. А месяц спустя у меня был Щеглов, заведующий собственною Его Величества библиотекою, чтобы сообщить мне по повелению государя, что известные мне бумаги полностью ему переданы на хранение.
Где теперь находятся эти бумаги после разграбления библиотеки большевиками, никому не известно, но нельзя не пожалеть, что пропали столь ценные для истории России документы многих царствований.
С. Ю. ВИТТЕ
Как раз теперь, когда «Последние Новости» с готовностью предоставили свои страницы для печатания моих воспоминаний и сопроводили их статьей П. Н. Милюкова, которая взволновала и обрадовала меня совпадением высказываемых мыслей с моими собственными, наступает годовщина исторической даты, бывшей поворотным пунктом в новой истории России.
Я говорю о 17(30) октября 1905 года.
Боюсь, что со смертью князя А. Д. Оболенского, последовавшей на днях, я единственный оставшийся в живых участник событий этих дней. Считаю поэтому своим долгом подробнее остановиться на происшествиях этого месяца и рассказать, что помню, а также дать некоторые объяснения по поводу писанного другими мемуаристами, особенно С. Ю. Витте, игравшим в них главную роль.
Витте пишет, что когда был вынужден в апреле 1905 года оставить пост председателя Совета министров и затем уехать за границу, до него дошли слухи, что в дворцовых сферах говорят, что он вырвал у государя манифест 17 октября.
Витте обвиняет императрицу Александру Федоровну в том, что она будто бы давала «пароль» черносотенной прессе — «Русскому Знамени», «Московским Ведомостям», «Колоколу» и др. — на распространение этих слухов и поддерживала эти газеты материально. В качестве начальника канцелярии министерства императорского двора, ежедневного докладчика и ближайшего советника министра я знал близко все, что происходило при дворе.
Все денежные расходы Их Величеств производились чрез кабинет Его Величества с ведома министра двора. Поэтому категорически утверждаю, что никаких сумм черносотенной прессе ни разу выдано не было. Из личных же сумм государя, так называемых карманных его денег (200 000 рублей в год), оплачивались счета по гардеробу государя и подарки, им делаемые. В редких случаях из этих денег государь оказывал помощь лицам, почему-либо ему близким. Не думаю, чтобы что-либо из этих средств перепало означенной прессе.
Расходами государыни ведал ее секретарь граф Я. Н. Ростовцев. Когда из клубов поползли слухи, что государыня поддерживает черносотенную печать, граф Фредерикс приказал мне их проверить. Я пригласил к себе графа Ростовцева и после часовой беседы с ним убедился в полной вздорности молвы.
По закону я ведал придворной цензурой, созданной специально для контроля всего, что писалось о высочайших особах, их словах, действиях и пр. Статьи в «Русском Знамени» и других газетах, где проводилась мысль, что государя принудили подписать акт о введении конституционного образа правления в России, я неизменно вычеркивал. Особенно много хлопот мне создал Дубровин. Несколько раз он являлся ко мне для объяснений и старался доказать, что об этом знает лично от государя. С Грингмутом по этому же вопросу у меня была переписка.
Все приемы у государя, по положению, проходили чрез церемониальную часть министерства двора. Но в это время государь, действительно, принимал несколько раз, помимо церемониальной части, как бы в частном порядке, Дубровина с его приверженцами, а также какие-то черносотенные депутации из провинции. Министр двора об этом узнал постфактум, просматривая камер-фурьерский журнал. Граф Фредерикс не раз указывал Его Величеству на нежелательность и опасность подобных секретных посещений. Государь отвечал: «Неужели я не могу интересоваться тем, что думают и говорят преданные мне лица о моем управлении государством?»
Эти тайные приемы продолжались около полугода.
Черносотенная печать травила графа Витте грубо и оскорбительно. Находя это возмутительным, я неоднократно звонил по телефону в Управление по делам печати и обращал внимание на недопустимость таких писаний.
Источником, откуда инспирировалась и поддерживалась кампания против Витте, был императорский яхт-клуб. Он посещался молодыми великими князьями и государственными деятелями, принадлежавшими к высшей аристократии.
Считаю нужным сказать несколько слов о положении Сергея Юльевича и Матильды Ивановны при дворе и в обществе. Брак с Витте был вторым, после развода М. И. с первым ее мужем Лисаневичем. Несмотря на то что С. Ю. занимал должность министра финансов при Александре III и Николае II, а при последнем государе был и председателем Совета министров и возведен в графское достоинство, обе государыни, как Мария Федоровна, так и Александра Федоровна, категорически отказывались принимать Матильду Ивановну. Естественно, за государынями не принимали ее и при великокняжеских дворах.
Это обстоятельство служило одной из немалых причин озлобления Витте против двора и света. Жена его в ответ на пренебрежение к ней создала у себя открытый дом с великолепными завтраками, обедами и ужинами и пышными, необычайно оживленными вечерами. На трапезах и вечерах у Витте бывал весь, почти без исключения, тот же самый высший свет и некоторые великие князья.
Как я уже сказал, кампания против Витте шла из яхт-клуба. Те самые господа, которых Сергей Юльевич и Матильда Ивановна прикармливали и которым нередко помогали, были авторами самых злостных сенсаций. Круги, которым клуб импонировал, подхватывали новости, считая их вышедшими из достоверных источников, и пускали по городу.
Витте, бесспорно, потерпел неудачу со своим кабинетом. Он ее приписывал исключительно действиям государя и его окружения, ненависть к которым проглядывает в каждой строке его воспоминаний. Он обвиняет также петербургское общество, бюрократические его верхи и всю повременную печать. Но Витте умалчивает о главной причине его неудачи, которую он при его прозорливости и уме не мог не сознавать: ему не удалось завоевать доверия ни государя и его окружения, ни либерально и даже радикально мыслящих кругов.
В январе 1907 года Витте решил составить справку о манифесте 17 октября.
Я полагаю, что целью этой справки было создать документ исторической ценности, оправдывающий и объясняющий действия С. Ю. в дни, предшествовавшие изданию манифеста. О намерении Витте составить такую памятную записку я узнал от князя Н. Д. Оболенского, интимного друга дома С. Ю. Я высказал желательность создания такого документа при условии, что Витте точно изобразит все сложные события этого периода. Впервые я увидел эту справку в начале февраля у графа Фредерикса. Явившись к графу, я передал ему очередной всеподданнейший доклад. Укладывая бумаги в портфель, Фредерикс взял в руки одну папку и сказал:
— Только что пред вашим приходом это принес мне Сергей Юльевич и просил сегодня же передать Его Величеству; это выдержка из дневника 17 октября.
— Как же вы повезете государю бумагу, сами ее не прочитав? Государь может спросить ваше мнение о желаниях Сергея Юльевича.
Граф поколебался минутку, а затем сказал:
— Возьмите ее, а завтра мне доложите. Я передам ее государю при следующем докладе. Сергей Юльевич все чем-то обижен на всех и на государя. Записки не изменят отношения Его Величества к Сергею Юльевичу и только раздражат государя.
Вернувшись от министра двора, я несколько раз перечитал справку. Любопытная вещь: факты изложены в ней верно и последовательно, а в общем картина создается совсем другая, чем та, которая осталась у меня в памяти. В чем тут дело? Секрет оказался в том, что Витте изложил только факты, благоприятные ему. Получив подтверждение государя и других авторитетных лиц в правильности изложенного (а оспаривать не приходилось, так как факты передавались, действительно, верно), С. Ю. имел бы документ, перелагающий всю вину за неудачи с него на государя, и таким образом был бы оправдан пред историей.
Справка была составлена умно и тонко. При отказе признать ее правильной С. Ю. всегда мог выразить готовность вычеркнуть, что будет найдено неверным, а вычеркивать было нечего.
Я решил при встрече с Витте на его вопрос о справке сказать, что признаю изложенные в ней факты верными, но что, по моему мнению, она требует значительных дополнений и комментариев. И только при наличии таковых она даст верную картину происшедших событий.
На другой день я был приглашен Матильдой Ивановной к завтраку, за которым и высказал свои соображения Витте. Тогда Сергей Юльевич попросил меня написать к его справке все, что я считаю необходимым. Я уклонился, объяснив, что настолько занят, что не могу теперь отдаться составлению «исторических записок»; вообще я не отказываюсь, но, с разрешения графа, откладываю эту работу до моего отпуска.
Возвращая министру справку Сергея Юльевича, я изложил мое о ней мнение. Фредерикс отвез ее государю, у которого она пролежала около трех недель. Затем государь вернул ее Фредериксу без всяких пометок. Министр долго не мог решиться на текст препроводительного письма к графу Витте. Наконец я ему посоветовал лично поехать к С. Ю. и передать справку. Фредерикс согласился со мною, однако откладывал со дня на день, и справка оставалась у него довольно долго.
Граф Фредерикс передавал мне, что государь одобрил, что граф не дал Витте никакого ответа. При этом царь сказал ему: «С Витте всегда так. Ему трудно возражать, но в его словах редко чувствуется искренность».
ИСТОРИЯ МАНИФЕСТА 17 ОКТЯБРЯ
За несколько недель до 17 октября в Петергофе заседала комиссия из высших чинов государства для разработки законоположения о новых парламентских учреждениях.
Граф Фредерикс участвовал только в двух заседаниях, на которых председательствовал сам государь. Остальные заседания проходили под председательством графа Сольского. Когда министра двора спрашивали, почему он не присутствует на заседаниях, Фредерикс отвечал: «Да потому, что я в конституционном законодательстве ничего не понимаю. А слушать бесконечные личные пререкания господ членов комиссии мне скучно. Кроме того, меня это и не касается, так как министерство двора, а равно и сам министр, вероятно, останутся вне конституции».
Комиссия заседала в то время, когда под влиянием непрерывных террористических актов и объявленной всеобщей забастовки растерянность в правительственных кругах достигала высшей точки. Все признавали необходимость реформ, но почти никто не отдавал себе отчета в том, в чем они должны выразиться. Одни высказывались за введение либеральной конституции, другие — за создание совещательного органа, третьи — за диктатуру по назначению, а четвертые считали, что порядок и умиротворение должны быть водворены лично государем диктаторскими приемами.
Когда приходилось спрашивать сторонников той или другой реформы, как они себе представляют проведение ее в жизнь, они или отделывались общими местами, или рисовали картины, неминуемо долженствовавшие привести к революции и анархии. Сторонники конституционного образа правления не имели ни малейшего понятия о порядке выборов в представительные учреждения и создания работоспособного большинства. Все заявляли, что это деталь и об этом позаботится уже Сергей Ефимович (Крыжановский).6
Я спрашивал губернаторов, представлявшихся в течение этого времени государю, как они думают устроить выборы в своей губернии. Мне отвечали: «Я буду придерживаться строго той инструкции, которую получу». — «Я буду делать пропаганду посредством моих местных органов». — «Буду стараться подкупать или подтасовкою добьюсь желаемого результата».
Как-то в это время я встретился с Д. Ф. Треповым и спросил его, может ли он справиться с крамолою, если 17 октября пройдет без манифеста о свободах, и настолько успокоить революционное движение, чтобы обдуманно и не торопясь провести реформы. Д. Ф. мне ответил, что до сих пор он был в этом уверен, но разговоры на верхах о необходимости реформ так разожгли массы, что теперь уже нужно им что-нибудь дать.
Государь в это время пребывал в Александрии и раздумывал, на что ему решиться, Он понимал, что комиссия ни до чего положительного не договорится. Желая посоветоваться, прежде чем принять решение, государь вызывал к себе лиц, к которым питал доверие, чтобы выслушать их мнение. Среди них были: граф Сольский, барон Будберг, А. С. Танеев, князь Владимир Орлов, граф Гейден, граф Пален, генерал-адъютант Рихтер и Победоносцев.
8 октября государь получил письмо от С. Ю. Витте с просьбой об аудиенции.
После аудиенции, данной 9 октября, распространился слух, что Витте посоветовал государю дать конституцию и брался провести это преобразование. У всех отлегло на душе. Явилась надежда, что неопределенное, напряженное положение наконец кончится. Говорили, что Витте предложил государю дилемму: либо конституцию, либо диктатуру. Поэтому государь вызвал в Петергоф великого князя Николая Николаевича, охотившегося в это время у себя в имении Першино Орловской губернии. Правые круги с восторгом приняли известие о вызове Николая Николаевича, рассчитывая на его энергичную диктатуру. Граф Фредерикс также рассчитывал, что великий князь поддержит государя и успеет подавить крамолу, после чего можно будет думать о конституции.
Ввиду общего недоверия, которое внушал Витте, злые языки говорили, что своими мероприятиями он стремится свергнуть монархический строй и стать президентом республиканской России.
10 октября Витте вновь был вызван в Петергоф. Здесь в присутствии императрицы Александры Федоровны он вновь повторил свой доклад. Но и после повторного доклада государь не дал Витте никакого ответа.
В женской свите говорили, что государыня все это время очень волновалась, боясь, что Витте втянет государя в такую комбинацию, при которой царь от Витте не сможет отделаться, а в преданность последнего Его Величеству она никак не верила.
13-го Витте получил от государя телеграмму: «Впредь до утверждения закона о кабинете поручаю вам объединить деятельность министров, которым ставлю целью восстановить порядок повсеместно. Только при спокойном течении государственной жизни возможна совместная работа правительства с имеющими быть свободно выбранными представителями народа моего». Текст этой телеграммы я получил от графа Фредерикса, которому она была передана составлявшим ее князем Орловым.
Очевидно было, что государь стремится этой телеграммой переложить ответственность на Витте, поручая ему подавление беспорядков. Но мне было также ясно, что Витте увильнет от исполнения этого повеления. И действительно, на следующее утро Витте прибыл в Петербург и доложил, что одним механическим объединением министров, смотрящих в разные стороны, смуты успокоить нельзя. Во время этого свидания обсуждался вопрос, издать ли манифест, или удовольствоваться утверждением всеподданнейшего доклада Витте. Сергей Юльевич настаивал на последнем, как на менее связывающем государя акте.
Вернувшись в Петербург, Витте собрал у себя совещание некоторых министров и Трепова для обсуждения мер по восстановлению железнодорожного движения между столицею и Петергофом. Военный министр генерал Редигер и Трепов заявили, что есть достаточно войск для подавления беспорядков в Петербурге и окрестностях, но нет технических частей для восстановления железнодорожного движения.
15-го граф Витте отправился в Петергоф. На пароходе с ним ехали министр двора князь А. Д. Оболенский и управляющий делами Совета министров Вуич. Витте в пути читал спутникам проект манифеста, написанного в прошедшую ночь князем Н. Д. Оболенским.
По прибытии в Петергоф граф Фредерикс поехал домой, где я его встретил. Министр двора прошел переодеваться. В это время прибыл великий князь Николай Николаевич. Я его провел в кабинет Фредерикса, но когда пошел предупредить графа, великий князь последовал за мною и вошел в уборную. Я удалился, напомнив графу, что через несколько минут ему надо ехать во дворец. Из кабинета я слышал громкий взволнованный голос Николая Николаевича. Чрез несколько минут великий князь выбежал из уборной, вскочил в свой автомобиль и уехал. За ним вышел граф. Фредерикс и, садясь в свою коляску, сказал мне: «Как я разочаровался», — и приказал его ожидать.
Пред завтраком граф мне рассказал, что когда он, обрадованный приездом Николая Николаевича, сказал ему, что его приезд ждали, чтобы назначить диктатором, великий князь, будучи в каком-то неестественном возбуждении, выхватил револьвер и закричал: «Если государь не примет программы Витте и захочет назначить меня диктатором, я застрелюсь у него на глазах из этого самого револьвера. Надо ехать к государю. Я заехал к тебе, чтобы сказать то, что только что сказал. Поддержи во что бы то ни стало Витте. Это необходимо для блага нас и России». — «И затем вы видели, как он убежал, как сумасшедший». Граф добавил: «Прирожденная ольденбургская истерия, видимо, в нем развивается»: Затем Фредерикс мне сообщил, что Витте докладывал государю в присутствии Николая Николаевича и генерал-адъютанта Рихтера и что Николай Николаевич ставил Витте много вопросов.
В 3 часа вновь состоялось совещание у государя, на котором Витте прочел проект манифеста. Государь оставил проект у себя, велев графу зайти к нему в 4 часа. Около 5 часов дня Фредерикс вернулся от государя и сказал мне, что через четверть часа мы едем с ним на миноносце в Петербург и чтобы я приказал по телефону его придворной карете ждать его на Английской набережной.
Когда мы с графом очутились в полутемной каюте миноносца, Фредерикс вынул из своего портфеля три бумаги, оказавшиеся тремя проектами манифеста. Один был составлен Витте (князь Оболенский), другой — Горемыкиным, третий — бароном Будбергом. Фредерикс сообщил мне, что по повелению государя мы еще сегодня вечером отправимся к Витте и постараемся добиться от него согласия на изменение текста его проекта. Ознакомившись с текстами всех трех проектов, я спросил графа:
— А что будет, если Витте заупрямится и не захочет изменить текста своего проекта?
— Все равно государь его завтра подпишет и прикажет опубликовать.
— Но, вероятнее всего, Витте будет настаивать на том, чтобы государь утвердил лишь его всеподданнейший доклад.
— На это государь никоим образом не согласится: это было бы, по мнению Его Величества, равносильно тому, как если бы Витте даровал России конституцию. Итак, окончательно решено — не откладывать, завтра же дать конституцию и назначить Витте председателем Совета министров?
— Да, иного кандидата у государя нет. А о диктатуре нечего и думать. Николай Николаевич окончательно отказался.
— Если Витте будет знать истинное положение вещей, то мы, конечно, ничего от него не добьемся.
— Разверните все ваше красноречие и постарайтесь его уговорить. Для этого государь вас и посылает со мною.
— Для того чтобы чего-нибудь добиться, нужно, чтобы Витте думал, что в случае его отказа опубликование манифеста будет отложено, пока Трепов не усмирит крамолу. Все министры останутся на своих местах. Вы начнете с того, что государь твердо решил дать конституцию посредством обнародования манифеста, а затем поручите мне обсудить с Сергеем Юльевичем его редакцию.
— Хорошо. Так и поведем наше заседание. Я забыл еще сказать вам, что государь приказал до переговоров с Витте повидаться с Треповым и обратить особое внимание на его мнение о проектах. Вы поедете с проектами прямо к Трепову, после чего поедем вместе на Каменноостровский, к Витте.
Из показанных ему проектов Трепов обратил серьезное внимание только на виттовский. После маленького совещания со мною он своим крупным размашистым почерком написал на полях: «Нельзя обещать неисполнимое теперь же» и «Лучше сначала подготовить исполнение, а потом даровать. Такие акты нельзя делать спеша». Трепов на словах поручил мне передать, что если манифест выйдет с текстом графа Витте, немедленно после его опубликования в Петербурге последует кровопролитие и, действительно, придется патронов не жалеть.
В двенадцатом часу мы приехали к Витте и застали у него князя Н. Д. Оболенского. С. Ю. попросил графа Фредерикса разрешить Оболенскому принять участие в нашем совещании, и мы вчетвером перешли в его кабинет.
Фредерикс передал Витте все три проекта. Тот прочитал их и сказал: «Что же, если государю нравится более редакция прочих двух, пусть он им и поручит провести их в жизнь. Да я и не стою за мою редакцию и держусь того мнения, что никакого манифеста не нужно; пусть только государь утвердит мой доклад».
Фредерикс твердо сказал, что относительно формы дарования свобод воля государя неуклонна: дарование это должно последовать в форме манифеста. Витте согласился, заметив: «Значит, тогда мой текст манифеста государем принят?» Фредерикс промолчал.
Мне нужно было, чтобы Трепов сделал свои пометки на полях проекта, чтобы создать впечатление у Витте, что положение не безысходно, что Трепов рекомендует не торопиться с изданием манифеста, и если Витте будет несговорчив, то может быть принят совет Д. Ф. Граф Фредерикс молчал. Наступила пауза. Я сказал, что государь приказал ознакомить Витте с мнением о проекте Трепова. Тут только Витте обратил внимание на заметки на полях и спросил меня: «Что же именно вы хотели бы изменить в моем проекте?»
В своем разговоре с Сергеем Юльевичем Витте я обратил его внимание на то, что вступление у Будберга написано красивее, и притом в общем смысле обещание свобод не так категорично, и в частности совсем умалчивается о свободе собраний, с чем повременить было бы небесполезно. Витте кое с чем согласился, и мы поспорили по поводу отдельных выражений и слов более двух часов. Он соглашался принять вступление Будберга, шел и на изменение смысла отдельных пассажей текста. Весь проект был испещрен пометками, написанными совершенно неразборчивым почерком Витте, и моими и стал неудобочитаем. В переработанном виде текст мне показался более приемлемым, чем первоначальный. Витте согласился с новой редакцией и, встав, заявил: «Ну, довольно, а то мы окончательно испортим столь старательно выработанный текст Н. Д. Оболенского». Позвонил и приказал принести нам закуску и вино. Я решил, пока другие будут закусывать, переписать проект начисто, чтобы избегнуть наутро возражений Витте, что проект не так переписан и что-нибудь в нем искажено. Было решено, что по возвращении в Петергоф текст для подписи государя будет переписан на машинке в моей канцелярии, так как рондисты7 никоим образом не поспеют его переписать. Пока все закусывали, я успел переписать почти все введение.
Граф Фредерикс, обрадованный благополучным концом нашего заседания, добродушно сказал: «Ну, слава Богу, что мы сговорились. Государь будет так рад, что ему не придется подписывать манифест, который был ему не по душе».
Это было катастрофой нашей дипломатической миссии.
Я взглянул на графа: он хотел еще что-то сказать, но, встретившись со мною глазами, замолчал. Я продолжал переписывать.
Витте встал, прошелся по кабинету, стал под портретом, подаренным ему императором Вильгельмом, и сказал: «Бросьте, Александр Александрович, разбирать мои каракули! Я обдумал. Одно из двух: либо государь мне доверяет и тогда подпишет мой проект манифеста, как я его представлял, либо не доверяет, тогда пусть поручит это дело Будбергу, Горемыкину или кому другому, кого сочтет достойным. Это мое последнеее слово».
Мы все встали. Фредерикс подошел к Витте, чтобы прощаться.
— Очень жалею, что зря заставил вас просидеть у меня всю ночь, — сказал Витте. — Мне следовало вам это сразу сказать, но не хотел оправдать моей репутации несговорчивого, а вот пришлось это сделать.
Мы сели в карету. На дворе было уже утро. Ехали мы долго молча. Наконец Фредерикс заговорил: «Неужели вы думаете, что Витте заупрямился после моих слов?»
Я ответил утвердительно.
На Английской набережной нас ждал миноносец под парами. Придя в каюту, я попросил капитана дать мне большую рюмку коньяку, закусил ломтем черного хлеба и тотчас же заснул на диване как убитый. Проснулся, когда подходили к Петергофу. Фредерикс, с большой сигарой во рту, сидел за столом в той же позе, в которой я его видел пред тем, как заснул. Я спросил, нужно ли к 10 часам приготовить манифест к подписи. Он ответил: «К сожалению, да. Хорошо, что вы отдохнули и поспали. Я вам завидовал. Я так глаз и не сомкнул. Старость».
Никогда больше мы о нашей миссии у Витте с графом Фредериксом не говорили.
По возвращении в Петергоф я немедленно приступил в моей канцелярии к диктовке манифеста в том первоначальном виде, в каком он был написан рукою князя Оболенского. Кончил я эту работу к 9 часам утра и передал ее министру, отправившемуся с докладом к государю. Через час он вернулся и объявил мне, что государь решил подписать манифест и приказал вызвать Витте. Я отправился в канцелярию наблюдать за перепискою всеподданнейшего доклада С. Ю. Несколько экземпляров манифеста было передано на телеграф с указанием немедленно отправить по подписании оригинала Его Величеством, дабы еще 17-го манифест был получен на местах. Оригинал манифеста, перечирканный руками С. Ю. и моей, с пометками Трепова, я спрятал в свой личный архив, где он находится и по сию пору скрытым в России.
Около 5 часов дня прибыл к Фредериксу Витте, и по прочтении манифеста и доклада они вместе отправились к государю, у которого уже находился великий князь Николай Николаевич. В 6 часов с минутами граф Фредерикс телефонировал мне, что манифест подписан Его Величеством и можно приступить к его рассылке.
Меня, разумеется, очень интриговала причина странного поведения великого князя Николая Николаевича и его горячая поддержка Витте. Вскоре я узнал от лиц, близких к великому князю, что в день приезда его посетил рабочий экспедиции заготовления государственных бумаг Ушаков и имел с ним продолжительный разговор, чрезвычайно взволновавший великого князя. Ушаков был одним из вожаков рабочих, остававшихся преданными монархическому строю. Его представил великому князю некто Нарышкин, бывший на охотах великого князя в Першине. Нарышкин в свою очередь исполнял в этом случае желание пресловутого князя Андроникова, познакомившего его с Ушаковым. Андроникову удалось быть принятым государем и государынею и почти всеми министрами. Он мне жаловался, что только два министра не хотят ни за что его принять: Фредерикс и Витте. Кончилось тем, что он все же умудрился втереться к Фредериксу, и единственный, который так до конца его и не принял, был Витте. Ко мне он явился с заявлением, что императрица приказала освободить начинаемую им газету от придворной цензуры. Я ему в этом наотрез отказал и доложил об этом государыне, но так и не понял, делала ли она вышеуказанное распоряжение. Для меня осталось загадкой, было ли свидание Ушакова с великим князем плодом интриги какой-либо партии или отдельного заинтересованного лица.
18 октября, в первый день конституционной России, мы шли с графом Фредериксом на миноносце в Петербург. С нами ехали довольно много лиц государевой свиты. День был свежий, но солнечный. Все казались оживленными и бодрыми. Не знаю, что переживали другие, но я внутренне тревожился за то, в каком состоянии мы найдем Петербург. Мы вошли в Неву и поплыли мимо верфей, фабрик и заводов. Местами замечались скопления рабочих. Кое-где мелькали красные флаги. На Василеостровской набережной— необычайное движение. Тут уже видны кроме красных флагов и лозунги, и плакаты. Подходим к Английской набережной. К нашей группе на палубе вышел граф Фредерикс: «Ну что же, вид Петербурга оживленный и праздничный». — «Так точно, ваше сиятельство. Даже вашу Академию художеств украсили красным флагом». Граф посмотрел на здание Академии: «Как же граф Иван Иванович8 мог это допустить?»
В это время мы причалили. На Английской набережной была густая толпа. У выхода с пристани стояла придворная карета министра с кучером в красной придворной ливрее, в треуголке с плюмажем. К министру подошел встретивший наш миноносец адъютант морского министра старший лейтенант Зилотти и доложил графу, что были слухи, что толпа останавливала экипажи и высаживала седоков. А тут еще бросающаяся в глаза красная ливрея.
— У вас здесь форменный бунт!?
— Точно так. Толпа с утра наполнила все улицы. Я еле пробрался от Зимнего дворца, который окружен войсками, но на улицах ни войск, ни полиции не видно. Должно быть, их запрятали во дворах домов.
Мы с графом по его настоянию сели в карету и сначала тронулись рысью, но скоро пришлось перейти на шаг. Слышалась площадная ругань, и в карету полетело несколько камней. Труднее всего было проезжать у Николаевского моста и свернуть к конногвардейским казармам. Все же мы благополучно доехали до дома министра на Почтамтской улице. Оттуда я пошел пешком к Д. Ф. Трепову, в дом министерства внутренних дел на Мойке.
Трепов мне рассказал, что вчера поздно ночью ему телефонировал Витте, прося дать инструкции полиции не мешать народу ликовать по случаю манифеста о свободах. Трепов ответил, что им приняты меры, чтобы не допустить толпу врываться во дворцы и казенные здания. Если толпа будет только ликовать, то, конечно, ей в этом никто мешать не собирается. Он лично думает, что вместо ликования будут столкновения с полициею и войсками и прольется немало крови. Трепов тут же добавил, что пока еще стрелять не пришлось; самыми опасными пунктами он считает площадь Зимнего дворца и Литейный мост, где ждет вспышки беспорядков. Беспокоило его то обстоятельство, что ввиду просьбы Витте не препятствовать «ликованию» нельзя было мешать наплыву толпы с окраин столицы и пригородов. Все же сегодня, «в день праздника», он с толпою справится. А вот завтра надо ожидать организованных беспорядков, но тогда он толпу по всему городу не пустит и поэтому будет легче водворить порядок.
— После сегодняшних событий, — продолжал Трепов, — Витте меня больше учить не будет, и я до моего ухода с должности справлюсь с Петербургом. Важно, какие у нас завтра будут известия из провинции.
Когда я вернулся к министру двора, чтобы передать ему мой разговор с Треповым, мы впервые в этот день услышали стрельбу залпами со стороны Зимнего дворца.
Начиная со следующего дня порядок в городе стал постепенно восстанавливаться. Улицы казались опустевшими. На третий день министр приказал директору императорских театров Теляковскому возобновить спектакли, после чего начались представления и в частных театрах. Жизнь столицы постепенно входила в нормальную колею. Однако двор, несмотря на позднюю осень, оставался еще в Петергофе.
Железнодорожная забастовка не была еще полностью ликвидирована.
Оставаясь почти безвыездно в Петергофе, я это время не виделся с Треповым, но узнал, что он просил графа Витте освободить его от занимаемых должностей. Недели через две граф Фредерикс мне сообщил, что государь решил назначить Трепова дворцовым комендантом. Реформа, проведенная им в качестве дворцового коменданта и заключавшаяся в том, что он объединил в своих руках всю охрану государя, подчинив себе полицию, пока на посту оставался Трепов, бывший в прекрасных отношениях с графом Фредериксом, не имела неприятных результатов. К сожалению, реформа эта, носившая временный характер, сохранилась и при преемниках Трепова. Особенно вредно она отразилась при последнем коменданте генерале Воейкове. Граф Фредерикс был уже очень стар и часто болел, я в это время получил назначение в Румынию. Воейкова сдерживать было некому, и он, пользуясь своим влиянием, стал полным и безответственным распорядителем полиции и первым лицом в окружении государя.
Позволю себе привести любопытное свидетельство К. С. Немешаева, начальника Юго-Западных железных дорог, приехавшего по приглашению Витте занять пост министра путей сообщения, о том что происходило на Невском.
Приехав только накануне, Немешаев захотел посмотреть, что делается на улицах. Пробравшись через толпу у Гостиного двора, он с трудом перешел на другую сторону Невского и стал на ступенях у входа в ресторан «Доминик», откуда и наблюдал за толпою. Она все росла. Патрули городовых, несмотря на все старания, не могли заставить ее двигаться. То тут, то там влезали на возвышения какие-то люди и что-то выкрикивали. Толпа запевала «Марсельезу», которая неизменно оканчивалась криком, не похожим на «ура».
Вдруг от Николаевского вокзала появились казаки, идущие полной рысью по. обоим тротуарам Невского, с пиками наперевес. Толпа бросилась врассыпную. Немешаева столкнули со ступеней на панель. Прямо на него неслись казаки. В это время проезжал извозчик, с пролетки которого седок кричал что-то толпе. Немешаев вскочил на подножку, но, поскользнувшись, упал поперек дрожек. В это время подскакал казак и нанес несколько ударов нагайкой оратору, который соскочил в толпу. Казак заставил извозчика свернуть к Гостиному двору. Увидя в это время лежащего в дрожках Немешаева, он успел ему дать несколько ударов нагайкой пониже спины.
Так получил боевое крещение новый министр конституционного правительства.
Витте составлял свой кабинет, как известно, довольно долго и встретил немало трудностей в выборе лиц. Надо сказать, что государь в это время не только не оказывал давления на С. Ю. в смысле указания кандидатов, но не отвергал и предлагаемых.
Кандидатуру Федора Самарина, предложенную Витте, государь принял даже с радостью, но Самарин, вызванный в Петербург, наотрез отказался вступить в кабинет, не сочувствуя программе Витте. Сергей Юльевич был так смущен, что попросил Самарина свой отказ изложить письменно, дабы представить его государю в доказательство того, что Самарин не стал министром по его собственному нежеланию.
Несколько человек, намеченных Витте, также отказались подобно Самарину и Таганцеву. Некоторые это делали по принципиальным соображениям, другие, зная одинокость С. Ю. при дворе и в высших бюрократических кругах, не хотели связывать с ним своей карьеры. К тому же, как я уже несколько раз упоминал, в это время было чрезвычайно мало людей, достойных назначения на ответственные посты. Все это вместе взятое, с одной стороны, объясняет трудное положение, в котором был С. Ю., а с другой — предопределило, что в конце концов им составленный кабинет никого не удовлетворил, в том числе и самого Витте. Достаточно вспомнить, что в первый конституционный кабинет вошел министром внутренних дел П. Н. Дурново, известный своими консервативными взглядами, который позже возглавлял крайне правую группу в Государственном совете.
Министра народного просвещения в новом кабинете, графа И. И. Толстого, я знал очень хорошо. Он был вице-президентом Академии художеств, подчиненной министерству двора. Граф Толстой был человек прямой, честный и с большим чувством такта. У меня осталось впечатление, что он очень хорошо справлялся во время волнений 1905 года со студентами высших учебных заведений, а также умел поддержать лояльные отношения с профессорами. Сочувствуя реформаторской политике Витте, он управлял министерством в духе умеренного либерализма. Поэтому граф Иван Иванович не почел для себя возможным остаться, несмотря на полученное предложение, в кабинете Горемыкина, считая, что новый премьер восстановит бюрократически-консервативное направление, а такие резкие повороты Толстой считал весьма вредными.
Черносотенная пресса долго занималась отставкою графа Толстого, подыскивая для нее причины обидные и даже оскорбительные.
Вспоминаю один разговор с генералом Петром Семеновичем Ванновским во время моего дежурства в качестве флигель-адъютанта в приемной государя. Ванновский был тогда министром народного просвещения. В свое время, когда он еще был военным министром, я довольно продолжительное время был его личным адъютантом и пользовался полным его расположением.
В ожидании доклада у государя мы разговорились. Генерал меня спросил:
— Кто это нашептывает государю разные небылицы, которые по проверке оказываются сплошным вздором?
Я откровенно ответил, что все лица ближайшей свиты настолько дисциплинированны и осторожны, что не станут передавать государю непроверенных слухов.
— В таком случае, вероятно, эти слухи передаются с дамской стороны. Тем хуже, потому что бороться против этого невозможно. Но это еще более затрудняет и без того нелегкие для меня доклады.
— Неужели для вас доклады трудны, ведь государь вам абсолютно доверяет?
— Доверять-то доверяет, но что-то ежится при моих докладах.
— Что вы хотите сказать словом «ежится»?
— А помните смотр Александром III Усть-Ижорского лагеря? Тогда нас промочил проливной дождь. Я обратил ваше внимание на то, что наследник Николай Александрович ежился под дождем. Вот во время моих докладов государь точно так же ежится; а мне изображать из себя дождь не очень приятно.
— А вы знаете, Ваше высокопревосходительство, а ведь и я ежился при первых докладах вам. Ведь вы бываете иногда крутоваты в своих суждениях, и к этому надо привыкнуть.
— Пожалуй, вы правы, но так как, очевидно, государь привыкнуть не может, то я ищу себе заместителя, который умел бы мягче докладывать, но при этом говорил бы правду. Ищу, ищу, но никак найти не могу.
Привожу этот разговор, потому что убежден, что при докладах графа Витте государь именно ежился и потому всячески их укорачивал, уделяя больше внимания и времени докладам отдельных министров.
Несколько слов о Ванновском. Александр III, критически относившийся к последним годам царствования своего отца, высказывал особое возмущение назначениями по армии по происхождению, связям и протекциям. Назначая Ванновского военным министром, государь ему дал простое и категорическое указание: назначения только по старшинству.
И надо отдать справедливость генералу Ванновскому, что он следовал этой директиве неуклонно, чем, правду сказать, восстановил против себя двор и влиятельные круги.
Несколько прямолинейная справедливость Ванновского завоевала ему популярность в широких армейских кругах, но имела то печальное последствие, что к моменту решительных военных событий (русско-японская война) наша армия была совершенно лишена подготовленных кандидатов на командные должности. А те генералы, которые эти должности занимали и к ним были подготовлены, по своей предельной старости вряд ли оказывались на что-либо годными.
Возвращаясь к воспоминаниям об отношениях государя к Витте, я должен с полной уверенностью сказать, что царь не только не доверял своему премьеру, но видел в нем соперника во влияний и популярности. Пассивно сопротивляясь законодательной деятельности премьера тем, что не давал хода всем его проектам, государь тем не менее не решался расстаться с ним до водворения нормального порядка и выборов в Думу. В многочисленные комиссии, рассматривавшие законопроекты социально-экономического порядка, государем были введены лица, явно враждебные Витте, как например граф Алексей П. Игнатьев, всячески тормозивший дело. Успешности работы мешали и разногласия и интриги между самими министрами. Уделяя больше внимания отдельным министрам, чем председателю комиссии, и таким образом его изолируя, царь не способствовал единению и коллегиальной работе. И даже тогда, когда Витте при его невероятной настойчивости удалось протащить законопроект через все инстанции, он оставался лежать у государя без решающей его судьбу резолюции.
А в то же время мне доподлинно известно, что Витте являлся к власти с детально разработанной программой, в которой были предусмотрены финансовые реформы, крестьянское землеустройство, рабочее законодательство и т. п.
Прекрасно сознавая, что он пришел к власти только ввиду общей растерянности и отсутствия соперников, С. Ю. предполагал быстрыми и решительными мерами ввести оздоровление в жизнь страны, завоевать себе популярность в широких общественных кругах и поддержку со стороны прессы. Тем самым Витте думал сделать свою личность незаменимой для государя, поставив его в невозможность уволить в отставку и таким образом получить свободу действий.
Этот план ни в какой степени не удался.
В заключение я приведу мнение о Витте такого наблюдательного и опытного государственного деятеля, как князь Бюлов.
За ужином «á deux» в ресторане Борхардта Бюлов сказал Витте, что, по его мнению, он был хорошим министром при Александре III, был бы еще более на месте при Николае I. Николаю II он был также полезен, пока царь был самодержцем хотя бы только по званию. Но у Витте нет ни одного из качеств, нужных для исполнения обязанностей премьера при парламентарном режиме.
Витте обиженно ответил, что он настроен либерально и сумеет сотрудничать с парламентом, который думает приручить. Бюлов сказал, что, не отрицая его либерализма и европейской культуры, считает, что способ мышления Витте русский, старой школы. Поэтому открытые шлюзы русского парламентаризма его первого и смоют.
Впоследствии, после свидания в Норденей, Бюлов писал, что Витте внешне очень напорист, но под этой напористостью не кроется настоящей непоколебимой энергии.
Невольно напрашивается сравнение таких выдающихся государственных деятелей, как Бюлов и Витте. Оба в своих мемуарах обвиняют монархов. Если Бюлов, жалуясь на неожиданность поступков Вильгельма, его самостоятельность и стремление к деспотизму, делает это в корректной и скрытой форме, то Витте с нескрываемой желчью и озлоблением упрекает государя в бесхарактерности, трусости и двуличности.
Разница в изложении и чувствах объясняется тем, что в то время как князь Бюлов и его супруга были любимцами и баловнями берлинского двора, Витте при дворе терпели по необходимости, супругу его, как я уже говорил выше, совсем не принимали. Постоянные уколы личного самолюбия, вполне понятно, озлобили супругов Витте. Я часто слышал в окружении императрицы, да и в дипломатических кругах, что демонстративно пышные приемы, устраивающиеся в особняке Витте, на которых бывал весь свет и многие великие князья, делались с целью подчеркнуть алчность и беспринципность высших кругов петербургского общества.
Лично приписываю устройство графинею этих вечеров лишь тщеславному ее желанию выявлять свою популярность в высших кругах нашей знати.
После кончины Витте в начале войны государю было угодно поручить генерал-адъютанту К. К. Максимовичу совместно со мною разобрать оставшиеся после С. Ю. бумаги, находившиеся в его доме на Каменноостровском. Между немногочисленными найденными нами делами ничего не оказалось политически интересного. Мы, разумеется, старались найти дневник С. Ю., о котором столь много говорилось. Однако нашлось только отчасти рукою графа писанное, подробное оглавление «Воспоминаний». На наши вопросы, где находится дневник, Матильда Ивановна нам заявила, что ничего не знает; в чем и дала подписку. По докладу Максимовича царю о результатах возложенного на нас поручения государь подробно прочел оглавление и выразил сожаление, что нам не удалось разыскать самый дневник, прибавив: «Могу себе представить, что он там только про меня не писал».
ЧАСТЬ III ЛИЧНОСТЬ ЦАРЯ
ОТЕЦ И МАТЬ
Несколько слов насчет родителей Николая II.
Александр III, сын Александра II и императрицы Марии Александровны, принцессы Гессен-Дармштадтской, получил воспитание домашнее, как это тогда водилось. От отца и деда он приял чувство громадного могущества русских императоров, которое вызывало, как логическое последствие, необходимость всячески поддерживать престиж царской власти. В этом отношении традиция, восходившая к целому ряду весьма властных государей, оставалась неприкосновенною и грандиозною. Будущему императору не переставали повторять, что русские цари поставлены самим Богом, что русские цари, как защитники и носители национального духа страны, должны являться для народа последним оплотом отеческой доброты и бесконечной справедливости.
От матери Александр III получил заветы семейного, строгого уклада жизни. Само собою разумеется, что ему были внушены все тонкости светского воспитания; он знал, что царь должен быть неизбывным рабом этикета и церемониальной части.
Личные симпатии Александра III сближали его не с отцом, Александром II, а с дедом, Николаем I. С ранних лет Александр III считал, что быстрая эволюция политических учреждений может быть опасною для страны. Он полагал, что поспешное проведение политических реформ может вызвать взрыв того бессознательно-анархического духа, который искони свойствен был русскому народу и всем славянским племенам вообще. Он боялся, что проведение политических реформ вызовет кровавые беспорядки.
Мы все знаем, с каким чувством князь Трубецкой изобразил эти особенности душевного склада Александра III в том монументе, который и по сие время украшает Знаменскую площадь. Железной рукою массивный и колоссальный Александр III затягивает поводья своей лошади, не менее тяжелой и внушительной, чем сам царь. Сколько раз я проходил мимо замечательного произведения искусства, повторяя каждый раз:
— Надо отпустить поводья: если слишком затягивать удила, лошадь сначала бессмысленно потопчется на месте, а потом потеряет голову, встанет на дыбы и опрокинется.
Второю особенностью Александра III было его несомненное пристрастие ко всему тому, что является типично русским. Император Вильгельм I Германский и некоторые мелкие немецкие князья пользовались при дворе Александра II слишком большим и совершенно незаслуженным влиянием. Реакция в душе Александра III оказалась чрезвычайно энергичною: он буквально ненавидел все немецкое. Он стремился быть русским и проводить это во всем, что касалось его личной жизни; отчасти вследствие этого манеры его оказались менее аристократичны, чем манеры его братьев. Он, может быть, этого сам не сознавал, но во всем том, что делал, ясно виднелась мысль: чтобы быть русским, не надо быть чересчур лощеным. Он, конечно, склонялся пред придворным этикетом, но ненадолго; достаточно было ему оказаться в тесном кругу семьи или любимых приближенных, чтобы все искусственные формулы церемониальной части летели на ветер; и неоднократно он говорил, что подобного рода пустяками могут заниматься только умирающие немецкие династии, коим нечем более оправдать свое существование.
Мать Николая Александровича, принцесса Датская, воспитана была при одном из самых патриархальных дворов Европы; от нее Николай II унаследовал бесконечное уважение к принципу семьи; она же дала ему тот личный «шарм», которого у нее самой было так много. Все дети принцессы Дагмары Датской были менее высоки ростом, чем предшествующие поколения Романовых. Поколение Николая II не имело той величественной-осанки, которою славилось поколение Александра II. Может быть, поэтому граф Фредерикс, министр двора, всегда настаивал, чтобы Николай II показывался толпе преимущественно на лошади. Несмотря на свой небольшой рост, Николай Александрович был замечательным кавалеристом и верхом производил, действительно, более величественное впечатление, нежели пешком. Однажды Николай II смеясь сказал при мне:
— Граф Фредерикс сам любит гарцевать на лошади: наверное, он руководится эгоистическими соображениями, когда зачастую меня уговаривает показываться верхом даже там, где можно бы ехать в коляске.
ВОСПИТАНИЕ
Два лица, близких мне, хотя много меня старших, рассказывали мне подробно о воспитании детей Александра III. Я имею в виду покойного генерал-адъютанта Васильковского и мистера Хиса, впоследствии учителя английского языка наследника цесаревича. По словам этих лиц, дети Александра III росли почти без надзора. Манеры их не отличались тем изяществом, которое обращает на себя внимание у детей, за которыми постоянно следили. Даже в присутствии своих родителей дети перебрасывались за столом шариками хлеба, если знали, что им удастся остаться непойманными. В физическом отношении дети были крепкого, здорового сложения; один только Георгий Александрович, второй сын, страдал туберкулезом и умер в раннем возрасте.
Детей учили особенно усиленно иностранным языкам; учителя старались главным образом добиться правильного и чистого произношения. Надо сказать, что все дети обладали очень хорошей памятью, в особенности на лица и имена. Отчасти вследствие этого Николай II приобрел очень большие исторические познания.
Когда я ближе узнал государя, его нельзя было не считать очень культурным и образованным человеком. Что же касается его братьев и сестер, то на их образование обращали мало внимания.
Воспитателем будущего императора был генерал-адъютант Данилович. Мой приятель Васильковский никогда иначе не обозначал его, как словом «иезуит». Говорят, что Данилович, когда еще был директором корпуса, имел то же самое почтенное прозвище. Даниловичу император Николай II обязан всем своим моральным обликом: та необычайная сдержанность, которая была основным отличительным признаком характера Николая II, несомненно имеет своим источником влияние Даниловича. Надо сказать, что Александр III был суров даже по отношению к своим детям: решительно ни в чем не сносил ни малейшего противоречия. Потому не только дети, но и сама императрица часто оказывались в таком положении, что надо было от отца скрывать то, что произошло, что было содеяно. Именно вследствие этого в семье Александра III образовался дух скрытности. Все это оставалось живым и после смерти отца. Сколько раз мне приходилось слышать, как Николай II отзывался в самых резких выражениях про тех лиц, которые не сумели сдержать данного ими обещания и разболтали какой-нибудь вверенный им секрет.
Николай II был по природе своей весьма застенчив, не любил спорить отчасти вследствие болезненно развитого самолюбия, отчасти из опасения, что ему могут доказать неправоту его взглядов или убедить других в этом, а он, сознавая свое неумение защитить свой взгляд, считал это для себя обидным. Этот недостаток натуры Николая II и вызывал действия, считавшиеся многими фальшью, а в действительности бывшие лишь проявлениями недостатка гражданского мужества. Данилович, вместо того чтобы учить своего воспитанника бороться, научил его этот недостаток обходить. Он же, при наличии и без того скрытной натуры большинства членов семьи, приучил будущего государя к той сдержанности, которая зачастую производила впечатление бесчувственности. Положительным достижением этого воспитания была удивительная ровность характера, привлекавшая сердца окружающих. Царь не сердился даже в тех случаях, когда имел бы право и, быть может, был бы обязан выказать свое недовольство. Если он замечал, что кто-нибудь провинился, он осведомлял об этом непосредственного начальника виновного лица, формулировал при этом свои замечания в высшей степени мягко, никогда не теряя самообладания и не проявляя резкости.
Школа «иезуита» Даниловича дала свои плоды, несомненно помогавшие государю в обращении, но затруднявшие ему задачу управления.
Царь был не только вежлив, но даже предупредителен и ласков со всеми теми, кто приходил с ним в соприкосновение. Он никогда не обращал внимания на возраст, должность или социальное положение того лица, с которым говорил. Как для министра, так и для последнего камердинера у царя было всегда ровное и вежливое обращение.
Он увольнял лиц, даже долго при нем служивших, с необычайной легкостью. Достаточно было, чтобы начали рассказывать про кого-нибудь сплетни, чтобы начали клеветать, даже не приводя никаких фактических данных, чтобы он согласился на отчисление такого лица.
Царь никогда не старался сам установить, кто прав, кто виноват, где истина, а где навет. По его мнению, такими вопросами должны были заниматься подлежащие начальники или, в крайнем случае, установленные судебные учреждения. Менее всего склонен был царь защищать кого-нибудь из своих приближенных или устанавливать, вследствие каких мотивов клевета была доведена до его, царя, сведения. Как все слабые натуры, он был недоверчив.
Был ли он добр по натуре?
Трудно познать чужую душу, в особенности если эта чужая душа — душа всероссийского императора. Посещая военные госпитали, царь интересовался участью раненых с такой искренностью, которая не могла быть деланною. На кладбищах у братских могил он молился истово, так, как может молиться только искренне верующий человек.
Сердце царя было полно любви, так сказать коллективной любви, объектом коей была вся его обширная родина, и никто в частности. Такая любовь, конечно, много чем отличается от любви обыкновенной, как ее понимают простые смертные.
Царь любил искренне и горячо жену и детей. Об этом я буду говорить ниже.
Любил ли он своих более отдаленных родственников? Сильно в этом сомневаюсь. Чрез руки Фредерикса проходили все ходатайства и просьбы, с которыми обращались к царю как к главе семьи все члены императорской-фамилии. Царь отказывал редко. Но Фредерикс всегда отмечал, что царь раздавал почести, деньги и недвижимое имущество, не проявляя при этом ни малейшего личного удовлетворения. Это, так сказать, входило в его ремесло. Казалось, подчас это было скучно, надоедливо для государя, подчас несовместимо с истинными интересами государства, но пред этим приходилось преклоняться, так как нельзя было обидеть дядю или племянников. К тому же — это тоже чувствовалось в разговорах царя — облагодетельствованные поконфузятся, а чрез неделю вернутся с новой и, может быть, еще более неприятной просьбой.
Николай II относился хорошо к своим сестрам и брату Михаилу Александровичу. Он чувствовал искреннюю нежность к великому князю Дмитрию Павловичу, который вырос на его глазах и который ему был весьма симпатичен.
По отношению к остальным членам императорской фамилии Николай II проявлял ровно столько любви, сколько нужно было для того, чтобы оставаться в пределах корректности, чтобы не вызывать никаких ненужных осложнений.
МОНАРХ, ПРЕИСПОЛНЕННЫЙ ЧУВСТВА ДОЛГА
Царь вдумчиво относился к своему сану помазанника Божия. Надо было видеть, с каким вниманием он рассматривал просьбы о помиловании осужденных на смертную казнь. Право милости — не приближало ли оно его всего более к Всемилостивому?
Как только помилование было подписано, царь не забывал никогда, передавая резолюции, требовать немедленной отправки депеши, чтобы она не запоздала. Помню случай, когда в одну из поездок телеграмма с просьбою о помиловании была получена поздно вечером. Фредерикс уже спал, государь же еще занимался в своем купе. Я приказал камердинеру доложить обо мне. Царь принял меня, видимо, удивленный моим вторжением в такой час.
— Я позволил себе утрудить Ваше Величество ввиду получения телеграммы о помиловании: граф же после утомительного дня спит.
— Конечно, вы правильно поступили. Ведь дело идет о жизни человека. Но как же теперь быть? Можете ли вы подписать за Фредерикса? (По закону ответная телеграмма должна была носить подпись министра двора).
— Конечно, Ваше Величество. Я передам телеграмму за моею подписью, а граф ее заменит своею завтра.
— Хорошо. Так и сделайте.
На другой день государь вернулся к разговору.
— Убеждены ли вы, что телеграмма была немедленно отправлена?
— Да, немедленно, в таком-то часу.
— Ведь эти телеграммы с моими повелениями идут вне очереди, как мои личные?
— Точно так, Ваше Величество.
Царь, видимо, почувствовал облегчение, так как исполнение приговора было назначено на утро.
ФАЛЬШИВЫЙ ИЛИ ЗАСТЕНЧИВЫЙ?
Говорят, будто царь был фальшив. Называют случаи внезапных, невзначай вызванных отставок министров, до того мнивших себя в полной милости.
Отставки эти, действительно, происходили в особых условиях, однако ж объяснение действий и мотивов царя не следует искать в недостатке прямоты.
Для царя министр был чиновником, подобно всякому другому. Царь любил их, поскольку они были ему нужны, столько же как всех своих верноподданных, и так же к ним относился. Если же с кем-либо из них приключалось несчастие, то жалел их искренне, как всякий чувствительный человек жалеет страдающего. Один граф Фредерикс пользовался в этом отношении привилегированным положением.
Бывал ли министр в несогласии с царем, общественность или враги начинали ли его клеймить, или же переставал он внушать доверие по какому-либо поводу, царь выслушивал его, как обычно, благосклонно, благодарил за сотрудничество, тем не менее несколько часов спустя министр получал собственноручное письмо Его Величества, уведомляющее его об увольнении от должности.
Тут чувствовалась тренировка в молодости генералом Даниловичем. Министры не принимали во внимание отсутствие боеспособности, лежащее в основе характера царя.
Отношения царя с министрами завязывались и оканчивались следующим образом: царь проявлял сначала к вновь назначенному министру чувство полного доверия — радовался сходству во взглядах. Это был «медовый месяц», порою долгий. Затем на горизонте появлялись облака. Они возникали тем скорее, чем более министр настаивал на принципах, был человеком с определенною программою. Государственные люди — подобно Витте, Столыпину, Самарину, Трепову — почитали, что их программа, одобренная царем, представляла достаточно крепкую основу, чтобы предоставлять им свободу в проведении деталей намеченного плана. Однако ж государь смотрел на дело иначе. Зачастую он желал проводить в действие подробности, касавшиеся даже не самого дела, а известной его частности или даже личного назначения.
Встречаясь с подобным отношением, министры реагировали согласно своему индивидуальному темпераменту. Одни, как Ламсдорф, Кривошеин, Сухомлинов, мирились и соглашались. Другие, менее податливые, либо стремились действовать по-своему, ведя дело помимо царя, либо же пускались переубеждать его. Первый из этих способов вызывал живейшее недовольство государя, но и второй таил в себе немалые опасности для министра.
Царь схватывал на лету главную суть доклада, понимал, иногда с полуслова, нарочито недосказанное, оценивал все оттенки изложения. Но наружный его облик оставался таковым, будто он все сказанное принимал за чистую монету. Он никогда не оспаривал утверждений своего собеседника; никогда не занимал определенной позиции, достаточно решительной, чтобы сломить сопротивление министра, подчинить его своим желаниям и сохранить на посту, где он освоился и успел себя проявить. Не реагируя на доводы докладчика, он не мог и вызвать со стороны министра той энергии, которая дала бы тому возможность переубедить монарха.
Он был внимателен, выслушивал не прерывая, возражал мягко, не подымая голоса. Министр, увлеченный правильностью своих доводов и не получив от царя твердого отпора, предполагал, что Его Величество не настаивает на своих мыслях. Царь же убеждался, что министр будет проводить в жизнь свои начинания, несмотря на его, императора, несогласие. Министр уезжал, очарованный, что мог убедить государя в своей точке зрения. В этом и таилась ошибка… Где министр видел слабость, скрывалась сдержанность. По недостатку гражданского мужества царю претило принимать окончательные решения в присутствии заинтересованного лица. Но участь министра была уже решена, только письменное ее исполнение откладывалось.
Повторяю: спорить было противно самой природе царя. Не следует упускать из виду, что он воспринял от отца, которого почитал и которому старался подражать даже в житейских мелочах, незыблемую веру в судьбоносность своей власти. Его призвание исходило от Бога. Он ответствовал за свои действия только пред совестью и Всевышним. Императрица поддерживала в нем всеми силами эти взгляды.
Царь отвечал пред совестью и руководился интуициею, инстинктом, тем непонятным, которое ныне зовут подсознанием (и о котором не имели понятия в XVI веке, когда московские цари ковали свое самодержавие). Он склонялся лишь пред стихийным, иррациональным, а иногда и противным разуму, пред невесомым, пред своим все возрастающим мистицизмом.
Министры же основывались на одних доводах рассудка. Их заключения взывали к разуму. Они говорили о цифрах, прецедентах, сметах, исчислениях, докладах с мест, примерах других стран и т. д. Царь и не желал, и не мог оспаривать таких оснований. Он предпочитал увольнять в отставку лиц, переставших преследовать одну с ним цель.
Впрочем, царь, как многие другие русские, считал, что судьбы не обойдешь.
ЦАРЬ НИКОГДА НЕ ИМЕЛ СЕКРЕТАРЯ
Помазанник Божий, царь держался сознательно и систематически высот, куда не мог проникнуть простой смертный.
Многим ли известен следующий значительный факт: всероссийский император никогда не имел частного секретаря. Он был до такой степени педантичен в исполнении своих обязанностей, что сам ставил печати на свои письма. Только при большой спешке бывало, что государь поручал эту второстепенную обязанность своему камердинеру. Последний, впрочем, должен был представлять свою работу, чтобы царь мог самолично убедиться в ее исполнении.
Он не имел секретарей. Впрочем, официальные документы, письма не строго частного характера писались канцеляриями. Танеев составлял «рескрипты» сановникам, министр двора — официальные письма членам царской семьи, министр иностранных дел по должности ведал корреспонденциею с иностранными монархами и т. д. Секретарь государя мог бы иметь и другие задачи: классифицировать корреспонденцию, наблюдать за ходом дел, принимать входящие и т. п. Достаточно работы для двух-трех доверенных приближенных.
Но тут-то и заключалась трудность. Надо было бы довериться кому-либо. А царь недолюбливал доверять свои мысли посторонним.
Вдобавок была и другая опасность: секретарь стал бы расти в значении, сделался бы необходимым, влиял бы на монарха. Влиять на того, кто желал слушаться лишь своей совести! Одна эта возможность должна была сама по себе встревожить Николая II.
Министр двора поддерживал царя в этом решении, не желая вторжения постороннего лица между государем и его первым слугою.
Императрица имела частного секретаря, графа Ростовцева. Царь — никого. Он желал быть одним. Одним пред своею совестью.
Помнится мне возвращение из Компьена, где мы присутствовали на памятном смотру французской армии. Разговоры шли между военными, и, естественно, во время долгих часов путешествий, мы разбирали волнующий нас вопрос: может ли французская армия выдержать напор войск кайзера?
Все будущее русской политики зависело от ответа на этот вопрос. Некоторые наши специалисты находили, что французские войска менее дисциплинированны и устойчивы, нежели германские. Другие утверждали, что французский мужик защищается на собственной земле как лев. Будущее подтвердило последнее мнение. Мы воодушевились, мы спорили.
Государь слушал внимательно, но не сказал ни слова.
СДЕРЖАННОСТЬ ЦАРЯ
В Ливадии в моменты отдыха, который Николай II иногда себе давал, я часто имел честь сопровождать Его Величество в поездках верхом. Вначале, еще мало зная государя, я пытался во время прогулок разговаривать на злобы дня: о последних политических событиях, газетных новостях. Царь отвечал чрезвычайно неохотно и сейчас же переводил беседы на другие, безобидные, темы: о лошадях, о теннисе и т. п. При этом, когда кем-либо затрагивался вопрос, на который Николай II не желал отвечать, он менял аллюр шага на рысь, при которой разговаривать было трудно.
Я вскоре понял причину: только с министрами, на докладах, царь говорил серьезно о делах, их касающихся. Со всеми другими, с членами ли императорской фамилии, с приближенными ли, государь тщательно старался избегать ответственных разговоров, которые могли бы его вынудить высказать свое отношение по тому или иному предмету.
Это было ему тем легче, что Николай II обо всем говорил бесстрастно. Помню момент получения известия о гибели русского флота под Цусимою. Телеграмма была принята в пути в императорском поезде. Царь послал ее Фредериксу для передачи военному министру Сахарову и свите. Прочитав ее, мой министр пошел к государю в купе и долго там оставался.
Пришел скороход оповестить нас, что Его Величество в столовой, за вчерашним чаем. Вошли поодиночке, сели молча. Никто не решился заговорить о зловещей телеграмме. Молчание было прервано царем. Он заговорил о бывших в тот день смотрах войск и других незначительных событиях. В течение часа ни одного слова о Цусиме не было помянуто.
Вся свита была ошеломлена безучастием императора к такому несчастию. Когда царь ушел, Фредерикс рассказал о своей беседе с государем в купе. Николай II был в отчаянии: рухнула последняя надежда на благополучный исход войны. Он был подавлен потерею своего любимого детища — флота, не говоря о гибели многих офицеров, столь любимых и облагодетельствованных им…
— Его Величество просит к себе военного министра. Генерал Сахаров долго совещался с царем. По окончании разговора он подтвердил нам, сколь обеспокоен государь известием.
— Царь обсуждал со мною события, проявляя полное сознание будущих трудностей. Он мне начертал мероприятия, вызванные новым положением.
Позже я мог убедиться, насколько катастрофа при Цусиме глубоко потрясла государя, вызвав серьезную перемену в его характере.
ОТЕЦ
Отеческая любовь Николая II была исключительной нежности. Он жил своими детьми и гордился ими. Никогда не забуду того, как царь впервые показал мне своего наследника: цесаревичу было тогда всего лишь несколько месяцев.
Их Величества плавали в финских шхерах. Дверь каюты наследника выходила прямо на палубу. Я шел мимо в тот момент, когда выходил государь.
— Вы, кажется, еще не видели цесаревича во всей его красе? Пойдемте, я вам его покажу.
Мы вошли. Наследник полоскался в ванночке. Государь заметил:
— Пора ему кончать ванну. Увидим, оскандалится он или нет. Пожалуй, при вас кричать не будет.
Мальчика вынули из ванны и без особых затруднений обтерли. Тогда царь снял с него простынку, поставил ножками на руку, другою держа его под мышками, и показал мне его во весь рост. Действительно, это был чудно сложенный ребенок. Затем государь накинул на него простыню и отдал няне.
Мы вышли. Царь говорил со мною еще несколько минут о своем красавце сыне, спрашивая, заметил ли я пропорциональность ног и туловища и так называемые браслетки, то есть как бы ниткою обвязанные конечности — признак хорошего питания.
На следующий день государь сказал императрице в моем присутствии:
— А мы вчера с Мосоловым делали смотрины цесаревичу. Александра Федоровна ничего не ответила, но я видел, что она осталась недовольна этою экспансивностью мужа.
СУПРУГ
Николай II не только любил жену: он был в нее положительно влюблен, даже с легким оттенком ревности к вещам, к занятиям и людям, отвлекающим ее внимание от него.
Во всяком браке, даже самом совершенном, один любит, другой позволяет себя любить. В царской чете государь был любящим всею силою души. Царица отвечала горячею нежностью, счастливая быть любимою человеком, которого она глубоко ценила.
Впрочем, именно Ее Величество скорее проявляла ревность ко всему, что могло отделять ее от мужа. Добросовестная, какою только может быть немка, она понимала, что государю нужно работать, и не только не мешала ему, а, напротив, скорее подталкивала мужа. Но все, что за работу не считала, например прием, разговор с посторонними людьми и т. п., недолюбливала как отнимающее у государя время, которое они могли проводить вдвоем. Она понимала одиночество утренних прогулок царя, во время которых тот обдумывал свой решения, лишь бы они не превышали времени, на них ассигнованного. Она не признавала отклонений, увлечений какою-либо творческою мыслью, заставляющею думать вне законного времени.
Особенно соблюдались часы вечернего чтения. Трудно себе представить что-либо, что могло бы заставить государыню согласиться отказаться хотя бы на один вечер от этих чтений с глазу на глаз у камина.
Царь читал мастерски и на многих языках: по-русски, по-английски (на нем разговаривали и переписывались Их Величества), по-французски, по-датски и даже по-немецки (последний язык был государю менее известен). Заведующий собственною Его Величества библиотекою Щеглов представлял царю каждый месяц по крайней мере двадцать интересных книг, вышедших за этот период. В Царском Селе книги эти были разложены в комнате близ покоев императрицы. Меня как-то заинтересовал стол, где лежали уже выбранные Николаем II книги для чтения, но камердинер меня к ним не подпустил.
— Его Величество склыдывает их в известном порядке и не любит, ежели не находит их точно в том виде, как он их сам разложил. И детей не приказано допускать в эту комнату без императрицы и кого-либо из фрейлин.
Среди этих книг государь избирал себе ту, которую читал супруге: обыкновенно историческое сочинение или русский бытовой роман.
Однажды царь сказал мне:
— Прямо боишься в Царском Селе войти в комнату, где эти книги разложены. Не знаешь, какую выбрать, чтобы взять с собою в кабинет. Смотришь — и час времени потерян. Только в Ливадии успеваю почитать, но и то половину взятых с собою книг приходится сдать неразрезанными.
И добавил с сожалением:
— Некоторые мемуары больше года, как не отдаю Щеглову: так уже хочется с ними познакомиться, да, видно, не придется.
Чтение вдвоем было главным удовольствием царской четы, искавшей духовной близости и семейного уюта.
ВАШ ПЕТР ВЕЛИКИЙ
Сознаюсь, что за все 16 лет службы при дворе мне всего лишь дважды довелось говорить с государем о политике.
Впервые это было но случаю двухсотлетия основания Петербурга. Столбцы газет были переполнены воспоминаниями о победах и преобразованиях Петра Великого. Я заговорил о нем восторженно, но заметил, что царь не поддерживает моей темы. Зная сдержанность государя, я все же дерзнул спросить его, сочувствует ли он тому, что я выражал.
Николай II, помолчав немного, ответил:
— Конечно, я признаю много заслуг за моим знаменитым предком, но сознаюсь, что был бы неискренен, ежели бы вторил вашим восторгам. Это предок, которого менее других люблю за его увлечения западною культурою и попирание всех чисто русских обычаев. Нельзя насаждать чужое сразу, без переработки. Быть может, это время как переходный период и было необходимо, но мне оно несимпатично.
Из дальнейшего разговора мне показалось, что кроме сказанного государь ставит в укор Петру и некоторую показную сторону его действий и долю в них авантюризма.
Царь долго помнил мои чувства симпатии к великому Романову.
Однажды, возвращаясь верхом по тропинке высоко над шоссе из Учан-Су с дивным видом на Ялту и ее окрестности, государь высказал, как он привязан к Южному берегу Крыма.
— Я бы хотел никогда не выезжать отсюда.
— Что бы Вашему Величеству перенести сюда столицу? — Эта мысль не раз мелькала у меня в голове.
Вмешалась в разговор свита. Кто-то возразил, что было бы тесно для столицы: горы слишком близки к морю. Другой не согласился:
— Где же будет Дума?
— На Ай-Петри.
— Да зимою туда и проезда нет из-за снежных заносов.
— Тем лучше, — заметил дежурный флигель-адъютант.
Мы двинулись дальше — государь и я с ним рядом — по узкой дорожке. Император полушутя сказал мне:
— Конечно, это невозможно. Да и будь здесь столица, я, вероятно, разлюбил бы это место. Одни мечты…
Потом, помолчав, добавил смеясь:
— А ваш Петр Великий, возымев такую фантазию, неминуемо провел бы ее в жизнь, невзирая на все политические и финансовые трудности. Было бы для России хорошо или нет — это другой вопрос.
Более мы к этому никогда не возвращались.
Впрочем, эта антипатия к великому реформатору гнездилась в природе царя. Известно, как в самом начале царствования депутация всероссийского дворянства получила памятный выговор. В ответ на приветствие по случаю вступления на престол (с надеждою о призыве к сотрудничеству) император сказал краткое слово, заключавшее знаменитую фразу: «Оставьте бессмысленные мечтания».
Эта первая публичная речь молодого монарха произвела несказанный эффект на широкие круги, возлагавшие надежду, что Николай II возобновит традицию реформ, ознаменовавших эпоху его деда Александра II, и столь круто прерванную его отцом Александром III.
НЕЛЬЗЯ БЫТЬ НЕДОСТАТОЧНО ОСТОРОЖНЫМ
Помню свой разговор с царем о Болгарии: это было в 1912 году. Болгарская армия начинала выдыхаться после непомерных усилий.
Генерал Радко-Димитриев написал мне с просьбою доложить государю, что появление русского флота вблизи Константинополя и у малоазиатского побережья могло бы повернуть весь ход кампании в пользу Болгарии. Я решился доложить об этом письме.
Царь сперва объяснил мне общее политическое положение, а затем добавил:
— Я жалею Болгарию. Но не могу же я для увенчания ее лаврами рисковать достоянием России — жизнью своих солдат.
И, подумав, продолжал:
— Нет. Не отвечайте вовсе Димитриеву, чтобы он не пал духом. Я с большим сочувствием отношусь к Болгарии, и в особенности к ее храброй армии. Но малейший намек на вмешательство может вызвать европейскую войну. Нельзя быть в таких случаях недостаточно осторожным…
Сказав это, государь разобрал поводья, и чудный его вороной пошел крупною рысью. Ехали мы долго молча. Затем царь повторил:
— Да, жаль, что вашим болгарам не могу помочь. Армия их славная.
И перешел на другую тему.
НАЦИОНАЛИЗМ ЦАРЯ
Подобно отцу, Николай II придерживался всего специфически русского. Помню фразу, сказанную им знаменитой исполнительнице русской народной песни Плевицкой после ее концерта в Ливадии:
— Мне думалось, что невозможно быть более русским, нежели я. Ваше пение доказало мне обратное; признателен вам от всею сердца за это ощущение.
Царь был большим знатоком родного языка, замечал малейшие ошибки в правописании, а главное, не терпел употребления иностранных слов.
Помню один разговор с ним по этому поводу. Как-то за чаем беседовали о русском правописании. Принимал участие и князь Путятин. По желанию государя Путятин принес составленный им список названий родни по-русски, даже весьма отдаленной, по которому тут же царь экзаменовал и нас. Никто не знал весьма многих, в свете мало употребляемых терминов, что очень радовало детей.
— Русский язык так богат, — сказал царь, — что позволяет во всех случаях заменить иностранные выражения русскими. Ни одно слово неславянского происхождения не должно было бы уродовать нашего языка.
Я тогда же сказал Его Величеству, что он, вероятно, заметил, как я их избегаю во всеподданнейших докладах.
— Верится мне, — ответил царь, — что и другим ведомствам удалось внушить эту привычку. Я подчеркиваю красным карандашом все иностранные слова в докладах. Только министерство иностранных дел совершенно не поддается воздействию и продолжает быть неисправимым.
Тут я назвал слово, не имеющее русского эквивалента:
— Как же передать «принципиально»?
— Действительно, — сказал царь, подумав, — не нахожу подходящего слова.
— Случайно, Ваше Величество, я знаю слово по-сербски, которое его заменяет, а именно «зачельно», что означает мысль за челом.
Государя это очень заинтересовало, и он заметил, что при первой возможности учредит при Академии наук комиссию для постепенной разработки русского словаря наподобие французского академического, являющегося авторитетным руководством как для правописания, так и для произношения.
Только в одной области царь (и этого нельзя ставить ему в вину) допускал послабление своего национализма: большой знаток музыки, он одинаково ценил как Чайковского, так и Вагнера. «Кольцо Нибелунгов» было поставлено на императорской сцене по его личному почину и возобновлялось регулярно в каждом сезоне.
Добавлю, что национализм Николая II не носил того крайнего, почти монолитного характера, как у Александра III. Сын был гораздо тоньше и культурнее отца, да и не располагал энергиею, чтобы приводить в действие крайности, в которые иногда впадал Александр Александрович. Николай II, правда, надевал дома красные крестьянские рубахи и даже дал их, под мундир, стрелкам императорской фамилии. Носились также с грандиозной мыслью об уничтожении современных придворных мундиров с заменою их боярскими костюмами московской эпохи. Даже поручили одному художнику изготовить нужные рисунки. В конце концов пришлось отступить пред чрезмерными затратами, которые были бы вызваны подобным планом. Когда подумаешь об одной парче да мехах, не говоря о самоцветных камнях и жемчугах…
Время было уже не то (или еще не то), чтобы проявления воинственного национализма могли успешно вызревать при дворе Николая II.
ДО ГРОБОВОЙ ДОСКИ
В одной лишь среде царь чувствовал себя по-товарищески: среди военных.
Во время обсуждения в военном министерстве вопроса о перемене снаряжения пехоты государь решил проверить предложенную систему сам и убедиться в ее пригодности при марше в 40 верст. Он никому, кроме министра двора и дворцового коменданта, об этом не сказал. Как-то утром потребовал себе комплект нового обмундирования, данного для испробования находившемуся близ Ливадии полку. Надев его, вышел из дворца совершенно один, прошел 20 верст и, вернувшись по другой дороге, сделал всего более 40, неся ранец с полною укладкою на спине и ружье на плече, взяв с собою хлеба и воды, сколько полагается иметь при себе солдату.
Вернулся царь уже по заходе солнца, пройдя это расстояние в восемь или восемь с половиною часов, считая в том числе и время отдыха в пути. Он нигде не чувствовал набивки плечей или спины, и, признав новое снаряжение подходящим, впоследствии его утвердил.
Командир полка, форму коего носил в этот день император, испросил в виде милости зачислить Николая II в первую роту и на перекличке вызывать его как рядового. Государь на это согласился и потребовал себе послужную книгу нижнего чина, которую собственноручно заполнил. В графе для имени написал: «Николай Романов», о сроке же службы — «до гробовой доски».
Конечно, впоследствии об этом узнали военные газеты, а затем и широкая публика. Не все, однако, знают, что император Вильгельм в письме к государю поздравил его с этою мыслью и ее исполнением, но, говорят, в несколько кислых выражениях. А наш военный агент в Берлине сообщил, что кайзер потребовал перевода всех статей по этому предмету из русских газет и досадовал, что не ему, германскому императору, пришла эта мысль.
После доклада этих сведений военным министром царь пожалел, что разрешил предать гласности испробованную им перемену снаряжения.
ЛУЧШЕ САМОМУ ПРОВОДИТЬ ИХ НА ФРОНТ
Царь считал себя военным, первым профессиональным военным своей империи, не допуская в этом отношении никакого компромисса. Долг его был долгом всякого военнослужащего.
Поясню примером, восходящим еще ко времени русско-японской войны.
Всем известна эта несчастная кампания: части следовали за частями; астрономические расстояния, отделявшие Европейскую Россию от театра военных действий (при незавершенной Круго-Байкальской железной дороге), пожирали наши войска совершенно бесследно. Жертвы все нарастали. Главнокомандующий Куропаткин повторял: «Терпения, терпения». Месяцы текли, а успехов все не было. Мало утешительного слышалось и писалось с фронта: доходили слухи о недоразумениях среди высшего начальства — признак нехороший.
Государь начал объезжать войска и благословлять их пред выступлением в поход. Речи царя к частям были весьма удачны и, особенно говорившиеся экспромтом, производили сильное впечатление. Заканчивались проводы войсковой части вручением ей иконы, благословлением от императрицы и государя.
Николай II становился все молчаливее. Чувствовалась под наружною сдержанностью безусловная тревога. Наконец и у него прорвались слова:
— Пожалуй, было бы лучше, чем провожать войска, самому проводить их на фронт.
Немногие из присутствовавших обратили внимание на это восклицание. Впоследствии оно было для меня настоящим откровением: в интересах почти что колониальной войны, ради сражений, протекающих где-то в Китае, в двадцати днях железнодорожной езды от столицы, царь стремился отбыть на фронт. Его долгом, думал он, было стать посреди своих воинов, разделив их тяготы.
ВЕРХОВНОЕ КОМАНДОВАНИЕ
Великая (первая мировая) война.
Зимний дворец, как и в японскую войну, превратился в громадную мастерскую для изготовления белья и санитарных принадлежностей, а затем стал огромнейшим госпиталем, обставленным по последнему слову науки благодаря необыкновенным заботам императрицы.
Первые успехи.
Все ликовали. Лично я был в особо радостном настроении, что мой родной конный полк отличился под Коушином, заставив отступить 2-ю ландверную бригаду, причем взятие батареи эскадроном барона Врангеля (впоследствии командующего Добровольческой армии) значительно способствовало этому успеху нашей кавалерии. Равно меня радовали письма сына, говорившие о славных делах лейб-казачьего полка, в котором он служил.
Однако мало-помалу потери на войне увеличивались… Наступление остановилось… затем неудачное сражение под Танненбергом… уничтожение самсоновской армии… общее отступление… бесславные сдачи крепостей… массовые эвакуации гражданского населения целых областей, в особенности еврейского, под угрозою вражеской оккупации… огульные подозрения в шпионстве.
Общественное мнение становилось тревожным.
Ставка выставила в свое оправдание две причины неудач: недостаток в снарядах и германский шпионаж. Козлом отпущения явился военный министр Сухомлинов. Для поддержания этих тезисов по требованию великого князя Николая Николаевича сменили военного министра и отдали его под суд, а для подтверждения версии о шпионаже был повешен жандармский полковник Мясоедов и начались ссылки лиц, носивших немецкие фамилии. В последнем особенно усердствовал начальник контрразведки генерал Бонч-Бруевич.
Общественность, получив возможность кого-либо обвинять, с радостью набросилась на указываемых виновников.
Что касается так называемых сфер, то мнения там расходились: одни поддерживали указываемые ставкою слухи, другие, не высказываясь во всеуслышание, видели главного виновника военных неудач в Николае Николаевиче. Великому князю ставили в вину нерешительность и, с другой стороны, такую строгость с начальствующими лицами, которая отнимала у тех всякую инициативу. Бывали случаи самоубийства из страха обидно-грубых нареканий.
Военные неудачи мало отражались на популярности Николая Николаевича: скорее порождали мысль в обществе и в высших кругах, что при условии неограниченности его полномочий успехов было бы больше.
Государь хорошо сознавал положение дел на фронте. Не обеляя полностью действий военного министра, он считал, что нападки на Сухомлинова должны были скрывать неудачные распоряжения верховного командования. Страх же шпионажа был лишь обычным средством сокрытия настоящих причин наших поражений. Царь, по своей натуре, не высказывал недовольства, которое, безусловно, накоплялось в нем.
Несмотря на правильное понимание этого периода войны, царь не сделал ни одного шага, могущего дискредитировать Верховного, до дня отрешения его от должности: вот почему оно и явилось для всех такою неожиданностью. Скажу больше: я чувствовал в царе такой наплыв любви к родине и жажды ее величия, что даже в случае больших удач он не возымел бы приписываемой ему часто ревности к популярности великого князя. В данном случае подобное чувство отходило на задний план пред искренним, глубоким патриотизмом. Возвышенность и сила этого чувства выявились особенно во время заточения государя и не покидали его вплоть до кончины.
Но одновременно он отлично сознавал и все последствия смены командования. Нет ничего опаснее во время военных действий как такая смена начальника, окруженного людьми, ему уже известными и оцененными по достоинству, и передача его обязанностей другому лицу.
Приходится коснуться вопроса о возложении царем на себя звания главнокомандующего — одного из самых загадочных и трагических обстоятельств этой эпохи. Прямолинейное и бескомпромиссное чувство военного долга пагубно отразилось на судьбах империи.
Продвижение противника в глубь России действовало удручающе на армию и народ. Царь считал, что своим вступлением в командование он поднимет дух войск и даст толчок, могущий остановить движение немцев. Конечно, в случае неудачи он рисковал своим троном, но у него было убеждение в конечной победе. Успех все бы покрыл, и Россия стала бы всесильною. Мог ли он предвидеть крушение империи и народные судороги, последовавшие за этою катастрофою, когда вокруг него никто ясно этого ему не высказывал?
Государь полагал, что он один мог сменить великого князя благодаря своему знанию командного состава армии. Этим избегалась обычная ломка ее организации. Заменою же Янушкевича Алексеевым царь надеялся придать иной ход военным действиям.
С политической точки зрения, государь считал удаление Николая Николаевича на Кавказ желательным. Оппозиционные элементы, памятуя ту роль, которую великий князь сыграл пред 17 октября, поддерживая Витте, старались использовать его имя для своих целей, хотя с тех пор Его Высочество давно перешел в лагерь самых ярых реакционеров.
Итак, постепенно создалось расхождение между ставкою и монархом. При замкнутости характера царя мало кто это замечал. Проявилось оно, когда царь высказал сперва Фредериксу, а затем и другим своим близким созревающее у него решение принять на себя верховное командование. Граф сразу высказался против этого намерения по причинам политическим. Но не все окружение царя последовало примеру министра двора. Главною же сторонницею этого решения была императрица. Она уже делила людей на черных и белых душою, а вокруг Николая Николаевича ей чудились черные.
Несмотря на единодушный совет всех членов правительства, перемена состоялась.
Решение стоило царю дорого. Сочувствия и понимания он нашел мало, но веление долга, как он его понимал, Николай II исполнил.
МНИМЫЙ ВЕЛИКОКНЯЖЕСКИЙ ЗАГОВОР
После отъезда царя в ставку столица со всею своею политическою жизнью очутилась в каком-то нелепом, как бы нелегальном положении.
Решение государя сильно отозвалось на внутреннем управлении страною. Не было настоящего кабинета, а был лишь Совет министров. Председатель его, престарелый Горемыкин, никак не мог достигнуть единомыслия со своими министрами, и результатом этого было полное отсутствие единства в управлении. Работа шла, но ею не руководили. Одни министры ездили в ставку, другие — в Царское Село, но как здесь, так и там чувствовалось влияние императрицы, вдохновлявшейся советами «нашего друга». Наступило время, которому дали кличку «министерской чехарды».
Отношения правительства к Думе становились все более натянутыми, неурядица же в управлении заставляла народное представительство все настойчивее добиваться парламентского кабинета. Исполнение этого требования представлялось государю во время войны прямо невозможным. Вдобавок он предвидел в таком случае усиление нападок в Думе на царицу. Попытка императора составить, помимо Думы, единомышленный кабинет (под премьерством Трепова, о котором говорю в главе о Распутине) из лиц, пользующихся общественным доверием, была обречена на неуспех.
Не помогли положению и постоянные тревоги английского посла, который в надежде, что парламентское правительство даст большие гарантии успешного продолжения войны, поддерживал требования министерства доверия.
При всяком свидании государя с императрицею пускались слухи о каких-то семейных раздорах.
Более осведомленные уверяли:
— Царь соглашается отправить Александру Федоровну в Ливадию.
Иные говорили:
— Да нет же, в монастырь.
Третьи же шептали:
— Если он воспротивится — неизбежен дворцовый переворот.
Думали, что переворот приведет к диктатуре Николая Николаевича, а при успешном переломе в военных действиях — и к его восшествию на престол. Переворот считался еще возможным ввиду распрей в императорской фамилии и, главное, ввиду популярности великого князя в армии.
Об этих настроениях знали полиция и контрразведка. Не знать о них, конечно, не мог и государь. Попали ли тогда в его руки какие-либо конкретные доказательства, положительно не знаю, но в переписке императрицы все время звучит нотка опасения пред влиянием великого князя на фронте, в польских кругах и т. д.
Слухи о перевороте упорно держались в высшем обществе: о них чем дальше, тем откровеннее говорили. Имел ли к таким слухам какое-либо отношение Николай Николаевич? Не думаю. Со времени отъезда великого князя на Кавказ это просто стало невероятным. В Петрограде тогда находились лишь дворы Марии Павловны и Николая Михайловича. Но из них каждый в отдельности или даже оба вместе взятые были совершенно неспособны к решительным действиям.
Думаю, что «заговор» великих князей существовал лишь в воображении «света».
Николай Николаевич послал царю телеграмму с «коленопреклоненною» просьбою об отречении. Полагаю, что этим жестом ограничивается его активное вмешательство в судьбы России.
НЕДОВЕРЧИВОСТЬ ЦАРЯ
Моральное одиночество, наложенное на себя царем с юного возраста, было тем более опасным, что Николай II относился недоверчиво даже к лицам ближайшего окружения. Один граф Фредерикс являлся исключением.
Государь вступил на престол 26 лет, когда характер его еще не сложился окончательно и когда он по недостатку опыта еще не приобрел навыка понимать людей.
Все общение его с миром сводилось в то время к недолгой службе в трех разных воинских частях. Без сомнения, жизнь представлялась ему в традиционных рамках: «В таком-то полку, роте или эскадроне все обстоит благополучно». Эта формула ежедневных рапортов послужила лейтмотивом жизненной школы будущего императора. Сам он, однако, вскоре убедился в лживости этого напева, и результатом разочарования явилась глубокая недоверчивость. Царь прекрасно разбирался во лжи, но нелегко доверялся правде. Эта-то недоверчивость и делала столь трудной задачу непосредственного окружения.
Царь боролся, сколько мог, с нежелательными течениями в управлении. Потом, уступая необходимости отъезда в ставку, предоставил продолжение этой роковой борьбы императрице. С изумительной энергией принялась она исполнять эту задачу, однако без законных полномочий. Силы государыни расточались бесплодно, по указаниям Распутина, помимо, а часто и наперекор директивам царя.
Я допускаю, что отречение было проявлением морального утомления: разочарованный собственной нерешительностью, царь думал, что его оставят в покое; он верил тому, что вместе с сыном его отпустят «работать в саду» Ливадии.
Главными же, доминирующими доводами были нежелание пролития крови при подавлении революции и надежда на дальнейшее беспрепятственное продолжение войны.
ЧАСТЬ IV ИМПЕРАТРИЦА АЛЕКСАНДРА ФЕДОРОВНА
ПРИЧИНЫ НЕПОПУЛЯРНОСТИ
Императрице Александре Федоровне не удалось стать популярною в своем новом отечестве. Рад несчастных внешних обстоятельств в соединении с болезненною застенчивостью помешали этому.
Принцесса Алиса-Виктория-Елена-Луиза-Беатриса, младшая дочь принца Людвига Гессен-Дармштадтского и принцессы Алисы, дочери английской королевы Виктории, родилась 6 июня 1872 года. В 1886 году, 14 лет отроду, она приехала в гости к своей сестре, великой княгине Елисавете Федоровне, супруге великого князя Сергея Александровича. Здесь она познакомилась с наследником, Николаем Александровичем, и молодые люди влюбились друг в друга. Два года спустя она вновь приехала в Петербург, уже как бы на смотрины. Но Александр III был против брака, считая, что цесаревич еще слишком юн (ему было тогда 20 лет), а императрица Мария Федоровна была принципиально против брака с германскою принцессою. Как истая датчанка, государыня ненавидела немцев, не прощая им аннексии Шлезвига и Голштинии в 1864 году.
Неприязнь императрицы к молодой принцессе сейчас же отразилась на отношении к ней всего русского двора. С Ее Высочеством обращались с нескрываемым пренебрежением и даже с насмешкою и иронией. Только великая княгиня Мария Павловна отнеслась к своей соотечественнице сердечно и взяла ее под свое покровительство. Из придворных только князь Н. Д. Оболенский, видя принцессу Алису оставленной, по-рыцарски пожалел ее и был к ней подчеркнуто любезен.
Когда Александр III заболел нефритом и болезнь приняла опасный оборот, великий князь Михаил Николаевич, как старейший член семьи, имел разговор с государем. Он указал, что болезнь может кончиться трагически, а так как наследник еще не женат, то могут создаться нежелательные осложнения. Государь выразил согласие на брак цесаревича и поручил Михаилу Николаевичу с ним об этом переговорить. Николай Александрович категорически заявил, что он любит принцессу Алису и ни на ком другом жениться не желает. При посредничестве великого князя было получено согласие императора на этот брак. Время до бракосочетания и сама церемония прошли в атмосфере последних дней жизни и кончины Александра III.
С первых же шагов при дворе Александра Федоровна держала себя с достоинством, а врожденную ее застенчивость приняли за отчужденность. Вдовствующая императрица, ранее противившаяся этому браку, примирилась с совершившимся фактом. Государь, с своей стороны, оставил Марии Федоровне все прерогативы супруги царствующего императора, как-то: единоличное назначение статс-дам и фрейлин, заведование ведомством императрицы Марии и Красным Крестом, и давал ей во всех церемониях место впереди своей супруги. Этим смягчалось то обстоятельство, что с браком сына вдовствующая царица отходила на второй план. Первоначальное предубеждение к невестке стало ослабевать.
Однако предоставленные Марии Федоровне прерогативы скоро начали казаться обидными молодой императрице, тем более что старый двор царицы-матери лишь с трудом мирился со своим новым положением.
Конечно, при этих условиях да при замкнутости характера Александры Федоровны трудно было ожидать внутреннего сближения обеих цариц. Отсутствие настоящей близости между матерью и женою тяготило государя во все его царствование.
Великая княгиня Мария Павловна, женщина очень умная и властолюбивая, пожелала стать наперсницею и опекуншею государыни, но сразу получила холодный и решительный отпор, благодаря чему и стала неприязненно относиться к императрице. Таким образом, на первых же порах царица имела против себя двор вдовствующей государыни и могущественный двор Марии Павловны, к которому примыкало все петербургское общество.
Перемещение графа Воронцова-Дашкова, долголетнего министра двора, наместником на Кавказ, происшедшее не без влияния Александры Федоровны, оттолкнуло от нее многочисленных родственников и все окружение этой в высокой степени великосветской семьи.
К тому же молодая императрица не имела способности поддерживать салонные разговоры и к ним относилась скорее с пренебрежением. Когда по необходимости она все же принимала пожилых светских дам и те пытались давать ей непрошенные советы, на них следовали обыкновенно меткие и резкие ответы. Все это пережевывалось в столичных гостиных и в конце концов возвращалось к императрице в весьма искаженном виде. Некоторых из этих дам императрица перестала принимать.
Так постепенно возникла та рознь между обществом и двором, которая в последние годы царствования настолько обострилась, что и общество, вместо того чтобы, по укоренившимся своим монархическим взглядам, поддерживать трон, от него отвернулось и с настоящим злорадством смотрело на его крушение.
НЕИСПОЛНЕННЫЙ ПРИКАЗ
О первом проявлении у государыни императрицы твердости характера и ее влиянии на государственные дела я писал уже, рассказывая о тифозном заболевании Николая II. Привожу здесь два других эпизода — как пример упорной настойчивости государыни и объясняющих вместе с тем непопулярность Александры Федоровны.
Двор ехал в Крым.
Императрица была в ожидании ребенка и пред отъездом просила графа Фредерикса оповестить, чтобы на пути не устраивалось никаких встреч. Об этом граф написал министру внутренних дел. Однако на одной из станций на перроне и вокруг вокзала собралась громадная толпа народа всех сословий. Александра Федоровна, увидев это, закрыла занавески окна своего вагона.
Я доложил министру, что губернатор умоляет государя показаться хотя бы на минуту в окне вагона, так как администрация не могла силою удалить толпу, уже несколько часов стоявшую у станции. Народ полон преданности и любви к государю и ни за что не желает разойтись.
Фредерикс вошел в купе императрицы, где был и царь, и доложил о происходящем. Николай II уже встал, чтобы подойти к окну, когда Александра Федоровна запротестовала, сказав, что Его Величество не имеет права поощрять неисполнение своих приказаний. Министру все же удалось убедить императора, который появился в дверях вагона.
Восторг собравшихся был стихийный. Но государыня не подняла ни одной занавески, и даже дети смотрели сквозь щелки: им запрещено было поднимать занавески.
Мария Федоровна как-то узнала об этом инциденте и, уже в Петербурге, хвалила Фредерикса за его настойчивость:
— Без нее Ники был бы вдвое популярнее. Она не отдает себе отчета, как нужна популярность. У нее немецкий взгляд, будто высочайшие особы должны быть выше этого. Выше чего?.. Любви своего народа?.. Я согласна, что не следует заискивать в популярности, но надо стремиться к ней и не упускать ни одного случая для этого. У Ники врожденное умение нравиться. Я ей говорила это, но она или не понимает, или не хочет понять, а потом жалуется, что ее не любят.
Министр передал мне этот разговор непосредственно после аудиенции у Марии Федоровны. Я его запомнил как в высшей степени характерный.
ИСТОРИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В КОЛЯСКАХ
Влияние узких взглядов маленького гессенского двора на воззрения императрицы сказывалось зачастую в вопросах этикета и протокола, столь дорогих германским княжествам, но по русскому масштабу, великодержавному русскому, производило впечатление мелочности.
При посещении императорскою четою президента Французской Республики Эмиля Лубе в замке Компьен возник инцидент, наделавший графу Фредериксу немало хлопот.
В день прибытия Их Величеств Лубе помещался вместе с царем в одном экипаже, за которым следовал второй, с императрицею и гофмейстериною Е. А. Нарышкиной.
На следующий день государь должен был присутствовать на маневрах. Президенту по конституции не полагается появляться перед войсками на лошади, и в первый же вечер шеф протокола Крозье, сообщая программу следующего дня, высказал весьма основательное предположение, что президент Лубе поедет в коляске с императрицею.
Государыня не согласилась, указав, что это будет похоже, словно царь эскортирует президента. Никакие уговоры не действовали, и пришлось прибегнуть к хитрости, чтобы переубедить французов.
Фредерикс начал убеждать Крозье:
— Царь и президент выедут на маневры вместе. Мыслимо ли, когда Его Величество сядет верхом, просить гофмейстерину выйти из второй коляски, чтобы уступить место президенту? Неужели он согласится нанести такой афронт одной из самых видных наших придворных дам?
Как всегда галантные, французы после долгих переговоров поддались на наши аргументы, и Лубе, сидя один в своей коляске, пропустил вперед экипаж императрицы, направившийся к палатке для высочайших гостей.
На параде в день отъезда уладить дело было труднее. До самого последнего момента французы настаивали, чтобы президент ехал в коляске с государынею. Лубе твердил, что ему неудобно не сопровождать императрицу. Вопрос этикета разбирался до последней минуты, но упорство Ее Величества взяло верх: на параде она ехала в первой коляске со своею гофмейстериною, а президенту пришлось быть во втором ландо, куда он поместил премьера Вальдек-Руссо и еще двух министров.
Год спустя состоялся ответный визит Лубе в Россию. Повторились те же трудности, да еще с осложнениями: нельзя же отказывать гостю, главе союзного государства, в праве поместиться рядом с императрицею. Остановились на следующем компромиссе: царь выедет верхом. Президент будет сидеть с императрицею, но для объезда лагеря выбрали шарабанообразный экипаж с двумя рядами сидений: задним — для государыни и Лубе, и передним, лицом к лошадям, — для царицы-матери и великой княгини Елисаветы Федоровны. Запряжен был шарабан а-ла-Домон, то есть без козел, с жокеями на лошадях. Экипаж не понравился вдовствующей императрице, которая считала, что переднее сидение сделано выше заднего. Мария Федоровна долго не соглашалась сесть в этот экипаж, но упорство ее невестки взяло верх и вся церемония прошла согласно желаниям Александры Федоровны.
НЕМЕЦКАЯ БЕРЕЖЛИВОСТЬ
Благодаря немецкому происхождению императрица имела склонность к экономии во многих жизненных мелочах. Примером может послужить инцидент с пенсиею, предполагавшейся для выдачи А. А. Вырубовой.
Последняя занимала при дворе Александы Федоровны исключительное положение, хотя не имела никакого официального звания и не искала его. Каждый день государыня приглашала Анну Александровну во дворец. Они вместе играли в четыре руки, вышивали и рукодельничали, беседуя долгими часами. Царица называла Вырубову своим «личным другом».
Эта дружба восходила к началу нынешнего столетия.
В первый же год после моего назначения моя семья проводила лето в Петергофе, где мы жили на казенной даче. Соседями нашими была семья Александра Сергеевича Танеева, главноуправляющего канцелярией) Его Величества. Две его дочери, Анна и Александра, ходили к нам играть в теннис и очень скоро подружились с моими дочерьми.
Широко образованный, выдающийся музыкант, очень умный и ловкий, А. С. Танеев вырос при дворе и достиг высшей ступени иерархической лестницы, наследовав должность главноуправляющего от своего отца. Очень близкий к Их Величествам, он, однако, тщательно скрывал свое влияние на них. Был он как истый царедворец человеком весьма льстивым.
Стремясь создать своим дочерям положение при дворе, А. С. говорил государыне о музыкальных способностях Анны, и императрица, сама любившая музыку и охотно игравшая на рояле, особенно в четыре руки, пригласила ее к себе. Анна Танеева стала бывать у царицы, и между ними завязалась личная дружба, в основании которой, надо полагать, легло экспансивное обожание Танеевой Их Величеств.
Сближение государыни с Танеевой всех очень удивило. Анна Александровна при заурядной внешности не выделялась особым умом: это была просто светская барышня весьма веселого нрава.
История брака и развода А. А. Танеевой с лейтенантом Вырубовым общеизвестна, и потому я не буду на ней останавливаться. Александра Федоровна принимала большое участие в этой личной драме Вырубовой, и после развода они еще более сблизились. Анна Александровна всюду сопутствовала царской семье. Граф Фредерикс, которого коробило ее постоянное присутствие, не оправдываемое никаким официальным положением, говорил с императрицею о необходимости создать для Вырубовой придворную должность, чтобы оправдать присутствие ее в свите. Государыня отнеслась к этому вопросу равнодушно, заявив, что может иметь приятельницу без официального звания.
Ввиду ограниченности средств семьи Танеевых и того, что Вырубова расходовалась на туалеты, сопровождая повсюду государыню, Фредерикс поднял вопрос о необходимости выдать ей вспомоществование. Ее Величество сама назначила сумму в 2000 рублей в год и не пожелала ее увеличить, когда граф выразил предположение, что этого будет мало.
Вскоре представился случай денежной выдачи, причем инициатива исходила от самой Вырубовой. Двор переехал в Царское Село, и по желанию царицы туда переселилась А. А. Она сообщила об этом Фредериксу, прибавив, что с радостью переедет, но что ей тяжело содержать дачу в Царском. Тогда Фредерикс принял за счет высочайшего двора и аренду, и содержание.
После своего появления при дворе Распутин подружился с Вырубовой и очень ее полюбил. Она была связующим звеном между ним и государынею.
Отмечу также как пример бережливости императрицы распоряжение, данное ею кабинету. Его Величества приобрели для великих княжон ко дню их рождения и именин по три жемчужины, дабы к их совершеннолетию у каждой было жемчужное колье. Князь Оболенский, в бытность его управляющим кабинетом, неоднократно докладывал, что это непрактично. Лучше, выждав случай, купить целые ожерелья и дарить великим княжнам по три жемчужины. Ее Величество признала, что это будет слишком большой единовременный расход.
В конце концов Оболенский с разрешения графа Фредерикса обошел приказание государыни и приобрел четыре хорошо подобранных колье. От них в указанные дни присылались императрице по три жемчужины в особом футляре.
Наиболее типичный пример бережливости императрицы относится ко времени официального визита короля Эдуарда Английского на Реведьский рейд в 1908 году.
Как всегда у англичан, число жалуемых орденов было крайне ограниченно. Почти всем, даже старшим лицам нашей свиты, были розданы вместо звезд и лент прекрасные и выбранные с большим вкусом подарки — по предварительно составленному списку. Более значительные подарки раздавались лично королем. Так, я получил из его рук еще задолго до отъезда удивительно красивый портсигар, сплошь покрытый черной эмалью, с ажурным бриллиантовым вензелем Его Величества. Получив подарок и видя, что и другим членам свиты король раздает подарки лично, я отправился к государю с теми вещами, которые я приготовил для английской свиты, и спросил, не раздаст ли государь их лично. Император сначала отказался, но в это время подошла Александра Федоровна и сразу его уговорила. Но, начав рассматривать подарки, она захотела изменить их назначение. Мне пришлось пояснять, почему это было бы не совсем удобно.
Время шло, и государь сказал:
— Если ты хочешь, чтобы я сам их раздавал, то некогда теперь делать перемены, — и спрятал вещи к себе в карман.
Императрица мне заметила:
— В другой раз представляйте мне заранее подарки на выбор. Я нахожу, что вы подобрали слишком дорогие.
Тут я показал только что полученный портсигар, и Ее Величество созналась, что он никак не дешевле мною выбранных. Государь в это время вернулся в отличном настроении. Видимо, всем его подарки понравились, да это было и неудивительно. Понсонби, один из старших адъютантов Эдуарда VII, выбирал со мною подходящий для каждою по его вкусу и положению подарок.
ИСТОРИЯ С «ГОТСКИМ АЛЬМАНАХОМ»
Государыня больше самого царя была убеждена во всемогуществе императорской власти. Мне вспоминается инцидент с «Готским Альманахом». Александра Федоровна не сомневалась в том, что наша цензура может с успехом запретить печатание тех или иных данных в иностранной прессе. Она отказывалась верить, что я в качестве заведующего придворной цензурой не могу наложить запрет на ежегодник, публикующийся за границею.
Как-то раз Фредерикс по возвращении из Царского Села сказал мне, что императрица весьма недовольна тем, что в «Готском Альманахе» под рубрикой «Россия» значится: «династия Гольштейн-Готторп-Романовых». Она требует, чтобы упразднили первые два имени под угрозой запрещения ввоза «Альманаха» в Россию.
Я давно знал этот вопрос. «Готский Альманах» ежегодно присылал нам корректурные листы, касающиеся России. Мы вносили все перемены, случившиеся за год. При этом я неизменно лично вычеркивал слова «Гольштейн-Готторп». Все исправления редакция аккуратно вносила в новое издание, а на вычеркнутое наименование династии внимания не обращала.
Как-то я сделал по этому поводу письменный запрос. Мне ответили, что, по мнению редакциии «Альманаха», наименование династии исторически точно (император Павел — сын герцога Петра Гольштейн-Готторпского) и изменено быть не может. Министр, которому я доложил об этом, приказал запретить ввоз «Готского Альманаха» в Россию.
Такая мера мне показалась прямо чудовищной. Я умолял графа доложить дело государю и добиться отмены решения царицы. Министр взял мою всеподданнейшую записку, но доложил ее не императору, а Александре Федоровне, которая приказала явиться мне с этим докладом. Разговор на аудиенции был такой:
— Неужели вы не можете найти способа заставить эту упрямую редакцию вычеркнуть два слова? — спросила меня государыня.
— Я им писал и письменно получил отказ.
— А если я вам разрешу уведомить их, что вы обращаетесь к ним по моему приказанию?
— Это значило бы, Ваше Величество, рисковать получением в ответ цитат из исторических актов, подтверждающих правильность их наименования династии. И пожалуй, они предадут гласности всю переписку.
— Тогда запретите ввоз этого издания в Россию.
— Это тем более невозможно, так как вызовет общеевропейский £кандал. Самый аристократический, легитимистический «Альманах» запрещен для ввоза в Россию. Конечно, доищутся этих двух слов, вызвавших запрещение; пойдут пересуды по всей столице и за границею, «Альманах» будет тайно ввозиться в Россию дипломатами и даст пищу для обсуждения деликатного династического вопроса, совершенно широкой публике нашей неизвестного. Поверьте, Ваше Величество, годами печатают этот заголовок, и никто на него не обращает внимания. Лучше его игнорировать, чем подымать шум. Но, быть может, великая княгиня Виктория Федоровна, как принцесса Саксен-Кобург-Готская, найдет ход в редакцию и уговорит снять эти слова?
Тут мой доклад оборвался, и императрица не возобновляла разговора на эту тему и с Фредериксом.
НЕЛЬЗЯ БРАТЬ КО ДВОРУ ТОЛЬКО ДУРНУШЕК
После этих примеров упорного характера императрицы не могу не привести хотя бы один из многих случаев удивительной доброты и деликатности императрицы даже к мало ей знакомым людям, если они возбудили ее симпатию и произвели на нее благоприятное впечатление.
В июле 1902 года Их Величества посетили Ревель и пожаловали по этому случаю в фрейлины дочерей трех местных баронов и дочь вице-губернатора Келеповскую.
На пожалование первых трех Александра Федоровна заблаговременно испросила согласие императрицы-матери. Все они были ранее неизвестны государыне и оказались далеко не красивыми. Девица Келеповская, барышня лет 18 и удивительной красоты, показалась Александре Федоровне очень симпатичною. После приема городских дам государыня, переговорив с царем, позвала меня и спросила, нет ли у меня в запасе еще одного фрейлинского шифра. Я ответил утвердительно.
— Принесите мне шифр, — сказала царица. — Я желаю дать его девице Келеповской. Нельзя же брать ко двору только некрасивых барышень. Нужно сдобрить их хотя бы одной красавицей.
Я принес шифр и спросил, заготовить ли письмо от министра двора с указанием, что Келеповская жалуется фрейлиною Их Величеств императриц.
Государыня задумалась и ответила:
— Погодите с письмом. Я еще протелеграфирую императрице Марии Федоровне.
Тут подошел царь.
— Конечно, телеграфируй. Но шифр можешь дать ей сейчас. Мама, конечно, согласится.
С самого начала царствования прерогатива придворных пожалований была предоставлена царице-матери. Александра Федоровна приказала дать пока шифр только трем баронессам. Келеповская так и уехала ни с чем, очень грустная, особенно потому, что, кроме этих четырех, других представлявшихся барышень не было.
Уже поздно вечером, гуляя по палубе «Штандарта», на котором двор прибыл в Ревель, государыня подозвала меня и сказала, что получен утвердительный ответ от Марии Федоровны.
— Вам не трудно будет, — прибавила государыня, — теперь же съездить в город и отвезти Келеповской шифр? Кто-то из моих девиц, по-видимому, проболтался, что она получит шифр; бедная девочка, наверное, всю ночь проплачет. Я хотела бы, чтобы она еще с вечера получила шифр.
Я, конечно, тотчас же исполнил поручение. Бедную барышню я, действительно, застал в слезах. Радость ее была безмерная, и на другой день Келеповская провожала Их Величества уже с шифром на плече, к великому удивлению ревельской знати.
ОТВЕТ ВЕЛИКОЙ КНЯГИНЕ МАРИИ ПАВЛОВНЕ
Характерный инцидент врезался мне в память. Великая война продолжалась все кровопролитнее. Государь уговорил графа Фредерикса, совсем больного, поехать отдохнуть в Ливадию. Там же находились графиня с дочерью, которым Его Величество предоставил помещение в свитском доме. Я рассчитывал лишь проводить графа и вернуться либо в Петербург, либо в Могилев, смотря по обстоятельствам или, правильнее сказать, по желанию моего министра.
Вскоре по приезде Фредерикс получил телеграмму от великой княгини Марии Павловны о том, что она едет в Крым и что государь разрешил ей остановиться в Ливадии. Возник вопрос, куда поместить Ее Высочество. Во дворце, кроме комнат, занимаемых членами августейшей семьи, других, приспособленных для жилья, не было. Поместить же великую княгиню в царских покоях граф не решался, зная, что это императрица, наверное, не одобрит. К тому же во дворце шел обычный летний ремонт.
Кроме того, возник вопрос и о продовольствии. Фредерикс приказал мне телеграфировать гофмаршалу, чтобы он выслал в Ливадию поваров и лакеев с необходимою посудою и прочим. На это граф Бенкендорф ответил, что прислуга и все необходимое не прибудут вовремя, почему он и поручает мне устроить пропитание местными средствами. Министр остался очень недоволен этою телеграммою и удивлялся неисполнительности Бенкендорфа, всегда столь корректного. Для меня, однако, было ясно, что эта депеша была послана с ведома, если не по приказанию, императрицы. Это еще более взволновало графа, а волнения были ему весьма вредны. Поэтому я решил действовать на свой страх и ответственность.
К дворцу я приказал поставить еще больше лестниц и лесов и прислать еще рабочих. Графиня Фредерикс велела своему повару позаботиться о продовольствии. Помещение приспособили в свитском доме вполне удобно. Я встретил великую княгиню в Севастополе и дорогой объяснил, что по случаю ремонта ее пришлось устроить в свитском доме. Мария Павловна осталась вполне довольна своим помещением, особенно когда я показал дворец, где рабочие усердствовали вовсю.
На следующий день с утра великая княгиня делала объезд госпиталей и осталась ими отменно довольна. После обеда у Ее Высочества собралось несколько дам, которых она очаровала своею любезностью. Все шло хорошо, и я предложил ей поехать на следующий день на Ай-Петри, а после завтрака у княгини Юсуповой на ее новой вилле в горах — в Гурзуф.
Часов в 8 утра были поданы автомобили. Меня поразило то, что Мария Павловна приказала своей фрейлине Олив сесть во вторую машину, а сама поместилась вдвоем со мною в первую. Только что мы выехали из Ливадии, как она дрожащею от волнения рукою вынула из своего ридикюля телеграмму и передала мне. Это был английский ответ императрицы на телеграмму великой княгини, гласивший приблизительно так: «Удивляюсь, что вы, не предварив хозяйку, остановились в Ливадии. Что мои госпитали в порядке, мне известно».
Надо пояснить, что после постройки нового дворца Ливадия была подарена государем императрице, что и значилось при въезде и выезде на особых столбах.
— Как вам нравится эта дерзкая телеграмма? А вот мой ответ.
Я прочел длиннейшую депешу и сказал:
— Надеюсь, что Ваше Высочество еще не отправили ее.
— Нет, я хотела прежде с вами посоветоваться.
До самой Ай-Петри мы обсуждали слово за словом ответ. Я облегченно вздохнул, когда Мария Павловна наконец сказала:
— Да. Вы правы. Лучше будет, если я просто не отвечу. Мое достоинство и мои годы не позволяют мне отвечать на подобное обращение той молодой принцессы, которую я учила, как держать себя в обществе…
Это было за полгода до того, как убийство Распутина дало последний толчок к расхождению императорской четы с большинством членов династии.
ПРИЯТЕЛЬНИЦЫ ИМПЕРАТРИЦЫ
Для меня нет никакого сомнения, что государыня была вполне удовлетворена и счастлива своею семейною жизнью. Чувствовалось, что Их Величества жили душа в душу. Для заполнения тех часов, когда Александра Федоровна не видела мужа, у царицы была нежная дружба с княжной Орбелиани. Восторженность фрейлины была, видимо, приятна государыне. К тому же княжна была не только умна, но и весьма остроумна, время с ней проходило незаметно и приятно. Она была всею душою предана императрице и пользовалась полным ее расположением.
Когда мы однажды в Спале собрались у лестницы, ожидая выхода Их Величеств к обеду, княжна вдруг на ровном месте оступилась и упала на пол. Лейб-медик Гирш мне сказал, что это плохая примета: первое проявление наследственной болезни, от которой умерла и ее мать, — прогрессивного паралича.
Княжна прекрасно знала свою участь и мужественно переносила несчастие. Когда я однажды зашел к ней в комнату во дворце, она мне показала четыре палки — костыли различных образцов, стоявшие в углу, и объяснила, чрез какие промежутки времени ей придется пользоваться каждою следующей, пока она еще будет в состоянии двигаться. Так было с ее матерью, за которой она ухаживала до ее кончины.
Хотя болезнь прогрессировала и княжна потеряла возможность двигаться, она, прикованная к креслу, все же всюду сопутствовала государыне: в поезде, на «Штандарте», в летних резиденциях. Царица каждый день навещала княжну и рассказывала ей о всех новостях. Императрица скрывала от больной, что она приблизила к себе других, боясь сцен ревности, но избежать их не могла, и часто свидания их сопровождались упреками и слезами, которые царица кротко прощала больной. Орбелиани пролежала 8 лет, и императрица неизменно за нею ухаживала.
Дружба с княжною со времени ее паралича была если не заменена, то во всяком случае дополнена приближением к себе А. А. Танеевой (Вырубовой). В последней, полагаю, нравились императрице помимо восторженности беспомощность и стремление видеть в Ее Величестве покровительницу, что у Орбелиани совершенно отсутствовало. У Александры Федоровны по отношению к Вырубовой чувствовалось желание защитить и помочь ей.
Кроме этих двух женских фигур, игравших значительную роль в умственной и душевной жизни императрицы, часто заполняла часы досуга царицы ее камер-фрау Герингер. Отношения к ней Александры Федоровны скорее походили на те, которые она проявляла к фрейлинам, с тою, впрочем, разницею, что Герингер не позволяла себе ревновать императрицу. В постоянной близости к государыне находилась и Е. А. Шнейдер, но круг ее интересов ограничивался исключительно августейшими детьми и самыми разнообразными поручениями.
Близость княжны Орбелиани длилась до самой смерти последней. Дружба с Вырубовой прекратилась лишь ссылкою Их Величеств в Сибирь и заключением А. А. в крепость. Дружеская привязанность девицы Шнейдер, камер-фрау Герингер и камер-юнгфер Занотти была неизменна. То же можно сказать и о фрейлинах последних лет, баронессе Буксгевден и графине Гендриковой. (Гендрикова и Шнейдер были убиты большевиками, не покинув службы при царице). Больше друзей-женщин не было, за исключением кратковременного приятельства с черногорскими княгинями.
Я не помню ни одного случая, когда бы императрица приглашала лиц, не принадлежащих к тесному кругу двора и ближайшего окружения. Даже великие княгини делали лишь редкие визиты, и то скорее по случаю какого-либо семейного торжества или когда приглашались к завтраку и дневному чаю.
СПИРИТЫ
Меня очень удивляла интимность императрицы с обеими черногорками, великою княгинею Милицею и княгинею Анастасией) Николаевными. Они жили в Дюльбере, роскошной вилле, построенной у моря великим князем Петром Николаевичем, супругом Милицы. Анастасия, в то время женя князя Юрия М. Романовского, гостила тут же у сестры. Дюльбер расположен в 2–3 верстах от Ливадии, и черногорки проводили ежедневно по нескольку часов в обществе императрицы: то они у Ее Величества, то она у них. Долго причины этой дружбы мне были непонятны. Говорили, что она основана на общем мистицизме и опытах спиритизма. Я этому верю, не зная других причин.
Хотя по характеру и воспитанию императрица совершенно не походила на княгинь, получивших чисто русское воспитание в Смольном институте, дружба эта длилась, на удивление всех, кто о ней знал, вплоть до внезапного конца, и прежние друзья виделись с тех пор лишь на официальных выходах. Отмечу, что, невзирая на этот разрыв, государь продолжал дружить с великим князем Николаем Николаевичем и после его брака с Анастасиею Николаевною.
Причины размолвки Их Величеств с княгинями так и остались для меня тайною. Предполагаю, что даже Фредерикс не знал хорошо о них.
Мне стало потом известно, что Папюс, один из медиумов, был выслан по повелению государя. С другим же, Филиппом, долго возились, но и он впоследствии уехал, после того как наш агент министерства внутренних дел в Париже Рачковский собрал о нем исчерпывающие сведения. Хотя они были, безусловно, достоверны, Рачковский меньше чем через год лишился места. Позже, сколько я слыхал, государю угодно было вернуть ему свое доверие.
Имя Филиппа в отличие от Папюса часто упоминалось в переписке императрицы в связи с предсказаниями, которым Александра Федоровна, видимо, придавала большое значение.
Слыхал я и о попытках примирения со стороны черногорок, но, по-видимому, из этого ничего не вышло.
Еще несколько слов о невероятном окружении Распутина в бытность государя в Могилеве, в ставке. Уезжая в Румынию, я уже знал, что у старца есть штат поклонниц, всюду за ним следовавший и его прославлявший. Кроме Вырубовой там состояли Муня Головина, племянница О. В. Карнович, впоследствии княгиня Палей, и несколько других. Появилась тогда в печати фотографическая группа из 10–12 поклонниц Распутина. Я всех их мог бы назвать.
В последний мой приезд из Ясс я заинтересовался этим штатом, который, по получаемым мною письмам, имел такое огромное влияние.
Одни мне говорили:
— Чтобы быть милостиво принятым Ее Величеством, нужно обратиться к Муне.
Другие, наоборот, советовали:
— Нет, серьезнее будет переговорить с княжною Гедройц, главным врачом (хирургом) госпиталя Ее Величества.
Третьи уверяли:
— Неужели вы не знаете такой-то, старшей сестры? Она подсказывает императрице назначение на высшие должности.
Я зашел на полчаса на вечер, где присутствовали все эти дамы, и мне показалось, что нахожусь в сумасшедшем доме, где и хозяева и гости одинаково страдают манией величия. Я немедленно сбежал. Через день, в бытность мою в Царском Селе, я слыхал от людей, знавших всю эту компанию, хотя к ней и не принадлежавших, что все дамы, которых я видел, императрице, действительно, известны, но, конечно, ни о каком серьезном их влиянии говорить нельзя. В большинстве это были сестры с приличным именем.
Этот уродливый во всех отношениях кошмар, если и не вокруг, то все же в соприкосновении с императрицей, заставил меня благодарить Бога, что более не нахожусь в Петербурге.
НАБОЖНОСТЬ ИМПЕРАТРИЦЫ
Скажу несколько слов и о религиозных настроениях Александры Федоровны.
Православная обрядность очень понравилась ей, еще когда она была совсем юною принцессой. Ее стали постепенно подготовлять к переходу в нашу веру, и она, действительно, к ней обратилась. Ее Величество шокировала необходимость троекратного отречения от прежних заблуждений, и наше духовенство нашло возможным выпустить этот обряд из чина миропомазания.
Я часто имел случай видеть императрицу на церковных службах. Она обычно стояла как вкопанная, но по выражению ее лица видно было, что она молилась. Когда отец Александр (Васильев) стал ее духовником, он громко читал все молитвы, даже обычно читаемые вполголоса в алтаре. Царица очень любила его службу и выстаивала ее всю. Заболев, она слушала службу из своей молельни в Ливадии, откуда, открыв двери, можно было все хорошо видеть и слышать. Тут же стояла и кушетка на случай недомогания. В Царском Селе Александра Федоровна любила ходить молиться в темные приделы Федоровского собора, ею же построенного. Мистическое настроение императрицы с годами прогрессировало: ко времени появления Распутина она уже была подготовлена к тому, чтобы подпасть под любое влияние.
ВДОВСТВУЮЩАЯ ИМПЕРАТРИЦА
Императрица-мать после кончины Александра III продолжала занимать тот же Аничков дворец, в котором она жила со дня своего замужества, будучи еще цесаревною, а затем и во время всего царствования своего супруга, не пожелавшего переезжать в Зимний дворец.
По закону вдове императора полагалась лишь выдача по цивильному листу 100 000 рублей в год. Тотчас после кончины государя Николай II объявил своей матери, что она со своим двором по-прежнему может жить в Аничковом дворце и что все расходы на ее содержание, равно как и содержание двора, он принимает на свой счет. Это весьма понятное решение сына по отношению к матери стоило, однако, министерству двора немало денег, весьма существенно увеличив расходы на двор государя. Я неоднократно слышал со стороны управляющих кабинетом Его Величества жалобы, что двор вдовствующей императрицы обходится не меньше двора государя. К тому же там расходы ускользали от контроля, и всякие меры для законного их отчета вызывали жалобы служащих и недовольство императрицы. Частые поездки Марии Федоровны за границу — в Данию и Англию — в императорских поездах и на яхте «Полярная звезда», всегда находившейся в ее распоряжении, все более и более длительное пребывание вне России, сопряженное с широкими выдачами подарков во время путешествий, падали тяжелым расходом на кабинет.
Фредерикс, зная о тратах вдовствующей царицы, конечно, поднимал об этом вопрос, стараясь ввести расходование сумм при дворе Марии Федоровны в нормальный порядок.
Главною причиною этих крупных трат была безграничная доброта императрицы. Все, приходящие в соприкосновение с нею, были очарованы ее улыбкой и приветливостью. Отличалась она большою снисходительностью к людям. Вот, как пример, рассказ графа Фредерикса из того периода, когда он еще заведовал придворно-конюшенной частью.
Один из кучеров Ее Величества, подавший ей сани, был настолько нетрезв, что во время езды заснул на козлах, облокотившись на передок саней. Казак, стоявший на запятках, к счастью, успел соскочить, выхватил из рук кучера вожжи и, став опять на запятки, правил лошадьми и благополучно довез императрицу во дворец. Государыня вызвала Фредерикса и запретила не только докладывать об этом Его Величеству, но и наказывать провинившегося. С трудом ему удалось лишить кучера права впредь возить императрицу.
Зная неуклонную строгость своего супруга, Мария Федоровна постоянно скрывала от царя проступки мелких служащих, искренне веря, что они хорошие люди, душевно преданные ей и государю.
Министр, желая доказать Ее Величеству ненадежность прислуги, как-то упросил императрицу при возвращении ее из-за границы разрешить таможенным властям осмотреть багаж сопутствующих ей лиц. Сначала Мария Федоровна отказывалась. Но Фредерикс вспомнил, как однажды, тоже при возвращении из-за границы, Александр III приказал осмотреть в Вержболове багаж не только сопровождающих, но и собственный Их Величеств. Затем он сам уплатил за вещи царицы, купленные за границею, и приказал прислуге тоже уплатить пошлину, да еще со штрафом за утаенные предметы. Выслушав графа, императрица согласилась на осмотр. Мало кому известно, что на основании русских законов монарх не освобождается от таможенных пошлин, как то делается за границей.
На этот раз Мария Федоровна вернулась на «Полярной звезде» и осмотр производился в Кронштадте. Было обнаружено, что прислуга везла много сигар, игральные карты и разные материи для продажи. Пошлин оказалось на большую сумму. Императрица не только не уволила ни одного «контрабандиста», но уплатила за большинство пошлину из своих средств.
Двор царицы-матери мало изменился с прошлого царствования, Так как состоял он из людей пожилых, то его роль светского центра уменьшилась, и он не имел того значения, которое приобрели дворы меньшие, но более деятельные.
В штате императрицы-матери занимала совершенно особое положение ее долголетняя камер-фрау Мария Петровна фон Флотова. Несмотря на скромную должность без всякого придворного ранга, дававшегося обыкновенно вдовам чиновников, она была весьма влиятельною особою при Аничковом дворце. Камер-фрау заведовали гардеробом и драгоценностями. Все заказы по этой части проходили через их руки, и эта должность требовала и доверия, и ответственности.
Относительно кандидатов на придворные чины и звания — протеже Флотовой — я всегда был уверен, что они получат просимое. Если даже при представлении списка государь их не отмечал, то я, умудренный опытом, составлял для них второй приказ, так как в последнюю минуту Николай II всегда присылал министру записку о включении их в приказ, очевидно, по просьбе императрицы-матери. Вообще камер-фрау Флотова влияла на назначения и в других ведомствах и добивалась для многих лиц должностей, их положению не соответствующих.
Нужно отметить как постоянных посетителей Аничкова дворца, кроме лиц, близких Александру III, командира и офицеров Кавалергардского имени императрицы Марии Федоровны полка, начальства ведомства императрицы Марии, равно как и всех почетных опекунов. Все эти лица старались чрез государыню проводить своих родственников и фаворитов на более или менее значительные должности, и благодаря этому из года в год увеличивалось число придворных пожалований. Не могу припомнить случая, когда царь отказал бы своей матери, если она за кого-нибудь просила.
Во внешней политике императрица имела, конечно, влияние в Дании. Французские послы и высокопоставленные их соотечественники обязательно представлялись ей как вдове государя, положившего начало союзу с их страною. Истая патриотка-датчанка, она не любила германское посольство, как и вообще все немецкое. С английским двором у Ее Величества, сестры королевы Александры, жены Эдуарда VII, были серьезные связи. Что касается внутренней политики, то у царицы-матери, я думаю, не было ясно обрисованного взгляда на положение в России.
ЧАСТЬ V ЦАРСКАЯ ФАМИЛИЯ
ДЕТИ
Дети были главною радостью царской четы. Работа мало давала мне досуга следить за наследником и великими княжнами: они как-то незаметно для меня вырастали. Так как императрица специально не поручала фрейлинам присматривать за детьми, те избегали вмешиваться в их воспитание. Благодаря этому я могу о ранних годах молодого поколения царской семьи судить лишь по отрывистым случайным впечатлениям.
Цесаревич был вначале здоровым и жизнерадостным ребенком. Его страшная наследственная болезнь, гемофилия, проявилась лишь впоследствии. Мне хорошо помнится, как он, 3–4 лет, приходил к столу, когда подавали десерт, и, поболтав около родителей, подбегал к гостям и непринужденно с ними разговаривал, не проявляя застенчивости. Бывало, часто залезая под стол, цесаревич хватал сидящих за ноги и был в восторге, когда эти лица пугались. Раз даже он стащил у одной из фрейлин башмак, с которым явился около отца. Государь его выбранил и приказал тотчас же вернуть обувь, что цесаревич исполнил, но опять-таки под столом… Вдруг фрейлина вскрикнула… Оказалось, что ребенок положил ей в башмак землянику. Конечно, холодное и мокрое прикосновение к ноге ее испугало. Наследника отправили в свои апартаменты и долгое время, когда бывали гости, не пускали в столовую, на что он очень жаловался. Больше под стол он не подлезал.
После появления тяжелого недуга цесаревич продолжал быть веселым вне приступов, но в глазах его уже замечался грустный оттенок, а временами его милое красивое лицо казалось безжизненным.
Делались опыты нахождения товарищей для игр с наследником. Брали детей матросов, потом детей или племянников дядьки цесаревича Деревенько, потом решили никого не брать.
В гувернеры цесаревичу пред самою войною взяли швейцарца Жильяра, человека умного и образованного, притом выдающегося педагога. Жильяр мне пояснил трудность воспитания цесаревича: только что наладится дело его учения и воспитания, как мальчик заболевает. Гемофилия вызывает ужасные страдания при внутренних кровоизлияниях. Конечно, ребенок после многих бессонных ночей с нестерпимыми муками совершенно изнервничается, а затем вновь исподволь приходилось гувернеру доводить ученика до прежнего уровня знаний и поведения.
СЕРЕБРЯНЫЕ САЛАЗКИ
Великие княжны довольствовались в детстве самыми незатейливыми развлечениями. Приведу два примера.
Их Величества присутствовали вместе с семьею на пятидневных маневрах войск Московского округа, живя в императорском поезде, передвигавшемся от одной стоянки до другой и возвращавшемся на ночь на открытую местность близ станции Рошково, чтобы не мешать железнодорожному движению. Это было в августе 1902 года.
В поезде находилась кроме обычной свиты великая княгиня Ольга Александровна. Дети были в восторге от этой поездки, делая большие прогулки в незнакомых им местах. Особенно их радовала игра, выдуманная Ольгою Александровною. Поезд стоял на высокой насыпи. Дети садились на большие серебряные подносы и, пользуясь ими наподобие салазок, спускались по откосу. Затем с трудом поднимались по крутой насыпи с подносом на спине. Эту игру повторяли и вечером, после обеда, в присутствии Их Величеств. Помню, как члены французской депутации, приглашенные к столу, обратились ко мне с некоторым страхом, нужно ли будет и гостям участвовать в этом развлечении. Я их успокоил.
Девочки держали пари, кто из них первая прибудет вниз. Кто-то из фрейлин должна была первая скатиться, чтобы присутствовать на финише. Генерал-адъютант Струков объявил детям, что он первый очутится внизу. Дети не верили. Когда состязавшимся скомандовали спуститься, Струков в парадной форме, с Александро-Невскою лентой, держа свою почетную саблю с бриллиантами (за взятие Андрианополя) в руках, прыгнул с высоты более трех саженей с насыпи, рискуя сломать себе ноги, и, конечно, опередил детей. Императрица очень его журила за эту выходку удали, но французы были в восторге.
ПОДАРОК СИБИРЯКА
Другой случай детской радости касается ручного соболя.
Я сидел у себя в канцелярии, изготовляя спешный доклад о придворных пожалованиях, и приказал никого не принимать. Входит старый курьер и докладывает:
— Осмелюсь доложить Вашему превосходительству, что тут пришли старичок со старушкою прямо из Сибири. Принесли в виде подношения государю живого ручного соболя. Очень уж просят доложить, говорят, что не на что будет переночевать.
— А тебе жаль их стало?
— Точно так.
— Ну, давай их сюда.
Вошли весьма симпатичные на вид старичок со старушкой, и он говорит мне:
— По ремеслу я охотник, и удалось мне взять живым молодого соболя, приручив его; со старушкою и решили поднести его царю. Соболь-то вышел редкостный. Собрали все, что было, денег: говорили мне, что хватит до Питера и обратно. Вот и поехали.
Показывает мне соболя, который тут же вскочил на мой письменный стол и стал обнюхивать представления к придворным чинам. Старик как-то свистнул, соболь — прыг прямо ему на руки, залез за пазуху и оттуда выглядывает. Я спросил, как они ко мне попали.
— Денег у нас хватило только до Москвы. Оттуда решили идти пешком, да какой-то добрый барин, дай Бог ему здоровья, купил нам билеты до Петербурга. Утром приехали и прямо пошли в Зимний дворец. Внутрь меня не пустили, а отправили к начальнику охраны. Тот велел отвести к вам. Ни копейки не осталось, а видеть царя вот как хочется.
Я решил, что живой соболь может доставить большое удовольствие малым еще тогда княжнам. Старику дал немного денег и поручил парочку добросердечному курьеру.
Пред тем я спросил старика, кто его в Сибири знает.
— Ходил к губернатору перед отъездом, да он говорит: «Иди, вряд ли тебя допустят. А писать мне о тебе не приходится».
Я послал телеграмму губернатору, чтобы проверить слова старика и узнать, надежен ли он. В те времена нужно было быть весьма осторожным. Чрез день получился удовлетворительный ответ, и я телефонировал княжне Орбелиани, рассказав ей о соболе. Час спустя узнаю, что императрица приказала прислать обоих стариков в Зимний дворец, и поскорее, так как дети с нетерпением ждут соболя. Все с тем же курьером я приказал их отвести, а после представления вернуться ко мне.
Ждал я их долго. Оказывается, что они более часа оставались у детей, и все время была при этом государыня. Долго рассказывали старик и старуха, как милостива была к ним царица.
Старик предложил, было, взять соболя с собою, пока для него не устроят клеточку, но дети отпускать зверя не хотели, и наконец императрица приказала его оставить. Старик мечтал видеть царя, без чего, сказал он, не может вернуться в Сибирь. Ответили, что дадут знать, когда он может видеть государя.
— Боюсь только, как бы соболек мой не нашкодил во дворце: он ведь к хоромам не привык.
На другой день с утра я получил приказание прислать во дворец сибиряков к 6 часам вечера. Вернулись они с соболем после восьми. Вот рассказ старика:
— Так и было. Соболек мой много нашкодил, поломал и погрыз. Когда я пришел, так он сразу ко мне за пазуху спрятался. Вошел царь. Я со старухою ему в ноги бросился. Соболек-то вылез и тоже, видно, понял, что пред государем. Притаился и смотрит. Пошли мы с царями в детскую, где приказали мне выпустить соболька. Дети стали с ним играть: при нас он не дичится. Царь приказал нам со старухою сесть на стулья и говорит:
— Ну, теперь расскажи все: как задумал сюда ехать, как ехал и как наконец к царице попал?
Я рассказал, а царь все спрашивает о Сибири, об охоте там, о нашем житье-бытье. Затем царица сказала, что детям пора обедать. Тогда царь спрашивает, как обходиться с соболем. Когда я указал, он порешил, что в комнатах у детей его оставить нельзя. Надо будет отдать его в охотничью слободку в Гатчине.
— Царь-батюшка, ведь его, кормилец мой, жаль отдавать на руки незнакомому охотнику. Позарится на шкурку, да еще зарежет, а скажет, что околел. Знаю я охотников. Мало у них любви к зверю. Лишь бы шкурку получить.
— Нет, брат, я бы выбрал хорошего. Но, пожалуй, лучше будет тебе его отдать. Вези его домой, ходи за ним, пока жив будет, и считай, что исполняешь мое повеление. Смотри за ним как следует, так как это уже мой соболь. Теперь иди, скажи Мосолову, чтобы министр дал приказание, как тебя наградить за подарок. Смотри же, хорошо гляди за моим соболем. С богом и доброго пути!
На другой день был у Фредерикса всеподданнейший доклад, и государь, не ожидая вопроса, сказал министру, что провел 2 часа в беседе со стариками и что это было для него праздником: так интересно было ему узнать быт сибирских охотников и сибирского крестьянства вообще. Приказал дать старику часы с императорским гербом, а старухе брошку, несколько сот рублей за соболя и широко оплатить дорогу назад в Сибирь.
Старики уехали счастливыми, увозя с собою соболя. Одни княжны очень жалели, но «папа сказал, что это так нужно».
Дети учились английской грамоте от самой императрицы, по-французски и некоторыми предметами общеобразовательного характера с ними занимался г. Жильяр, по-немецки — гоф-лектриса Шнейдер, а русскую словесность и общие предметы преподавал Петров, учитель гимназии. Жильяр и Петров были весьма опытными преподавателями, в особенности первый. Целью родителей было не давать детям слишком многочисленного штата незнакомых учителей.
Когда я начал службу при дворе, дети росли без надзора воспитательницы. В детских комнатах были няньки, но как только княжны выходили из этих апартаментов, надзора за ними, в сущности, кроме материнского, не было. Александра же Федоровна была вообще на людях не очень подвижна и, кроме того, не делала детям замечаний при посторонних.
Императрица много страдала в жизни от своей застенчивости и решила приучить дочерей с детства к общению с посторонними людьми. Поэтому, когда Ольге Николаевне минуло 10 лет, то она, равно как и Татьяна и Мария Николаевны, 8 и 6 лет, завтракали за общим столом. К завтракам государыня часто не выходила. Конечно, дети были тут под надзором царя и фрейлин. Хотя и очень живые, за столом они держали себя натурально и мило, вели себя безукоризненно. Серьезнее и сдержаннее всех была Татьяна.
Постепенно главный надзор за детьми перешел к Е. А. Шнейдер. Последняя приходилась племянницей лейб-хирургу Гиршу. Она состояла учительницей великой княгини Елисаветы Федоровны с прибытия Ее Высочества в Россию. Долгое время Шнейдер жила при дворе без всякого официального положения. Затем граф Фредерикс создал для нее должность гоф-лектрисы, считая неудобным сопровождение ею всюду великих княжон без какого-либо придворного звания.
Екатерина Адольфовна была удивительно предана как государыне, так и детям, что и доказала мученическим своим концом, вызвавшись сопровождать царскую семью в Сибирь. Она была очень культурна, исключительно скромна и очень работоспособна. Императрице она служила и секретарем, и гардеробмейстершею. Все покупалось и заказывалось через ее посредство. Была она и учительницею самой государыни по русскому языку, а детей, пока они были маленькими, — по всем предметам. Если кого из княжон надо было куда-нибудь сопровождать, делала это всегда Екатерина Адольфовна. При этом фрейлен Шнейдер отличалась очень ровным характером и удивительной добротой.
Как эта худенькая, кажущаяся слабенькою барышня могла поспевать делать все то, что ей поручали, да еще со всегдашней готовностью, было прямо поразительно.
ИХ РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Я уже говорил, как окончилась единственная попытка дать княжнам воспитательницу в полном смысле этого слова.
Ни у одной из великих княжон никогда не было и настоящей подруги-сверстницы. Кроме свиты в соприкосновение с детьми приходили только ближайшие родственники — дети великой княгини Ксении Александровны. Они жили в Ай-Тодор, всего в 2 верстах от Ливадии. Обычно их звали к дневному чаю и к теннису во время пребывания большого двора в Крыму. По соседству были и другие родные — дети Георгия Михайловича, Константина Константиновича, Анастасии и Милицы Николаевных, но запросто приглашались только дети Александра Михайловича, и то не все семеро зараз. К теннису приглашались еще один или два офицера со «Штандарта», фрейлины великокняжеских дворов и дочь графа Фредерикса, графиня Эмма, но все это не были однолетки княжон.
И все же в Ливадии детям, по их словам, было весело, после «Штандарта» — веселее всего.
В период между 1911 и 1913 годами, если не ошибаюсь, императрица устроила бал для двух старших княжон. Кавалерами были все те же моряки со «Штандарта» да несколько офицеров Крымского конного дивизиона. Гофмаршал Бенкендорф был в ту пору в Ливадии и лично взялся за устройство бала. Дети были в неописуемом возбуждении как в ожидании бала, так и на самом балу.
Из других развлечений помяну, что ежегодно разыгрывалась большая лотерея-аллегри, организованная самой императрицей, продававшею на ней билеты совместно с детьми. Александра Федоровна, конечно, безумно утомлялась, а дети очень веселились.
Думаю, с полной откровенностью, что княжнам и в голову не приходило, что можно жить иначе. Они были нетребовательны. Одно кинопредставление по субботам давало пищу разговорам на неделю.
Представления происходили в ливадийском манеже. Мне был поручен выбор лент. Императрица указала такую программу: сначала актюалитэ, фильмы, снятые за неделю придворным фотографом Ягельским, затем — научный либо красивый видовой, в конце же — веселую ленту для детей. Выбор был трудный, и мне не раз приходилось просить гофмейстерину Нарышкину просматривать предложенные фильмы, чтобы остановиться на подходящем для княжон. Елисавета Алексеевна была весьма строгий цензор и часто требовала, чтобы из ленты вырезали самые веселые места.
Однажды, выбирая подходящий фильм, после долгих обсуждений с Е. А. Нарышкиною мы остановились на картине «Бой быков». В начале сеанса должен был идти фильм о параде в Ливадии. Этой ленты, сознаюсь, я не успел предварительно просмотреть, думая, что в параде не может найтись чего-либо неподходящего, и на этом успокоился, полагаясь на Ягельского, опытного фотографа.
Началось представление.
Вижу государя со свитою, вижу графа Мусина-Пушкина (командующего Одесским военным округом). Все хорошо. Идут войска, и граф стоит как вкопанный. Части начинают отходить от линии жалнеров. Пушкин левою рукою указывает проходящим держаться ближе к жалнерам, но они этого не исполняют. Лицо графа делается свирепым, и он грозит кулаком.
Тишина в манеже нарушается детским хохотом. Я вижу в полумраке, как император кусает себе губы, чтобы не рассмеяться. Я в отчаянии от своей оплошности, но и сам не могу удержаться от улыбки.
Представление кончилось. Ни царь, ни царица ни словом о происшедшем не обмолвились, мне же хотелось провалиться сквозь землю. Проводив Их Величества до коляски, я решил возможно скорее бежать домой, когда почувствовал, что кто-то берет меня под руку.
Это был граф Александр Иванович Мусин-Пушкин, мой бывший начальник дивизии, когда я служил молодым офицером в конном полку, ныне же — командующий войсками округа.
— Милый друг, да что это такое?! Посади твоего Гана под арест! Что это за манера! Во-первых, он врет. Никогда я кулаком не грозил… Непременно посади его на неделю под арест. Нельзя же показывать командующего войсками, да еще государю, в таком виде, в каком он никогда не бывал!..
Я успокоил графа, обещал лично разобрать дело и вырезать из ленты этот пассаж. Что и сделал, выбранив при этом сконфуженного Ягельского.
ФИЗИЧЕСКИЙ И ДУХОВНЫЙ ОБЛИК КНЯЖОН
Опишу княжон, когда им было от 12 до 18 лет.
Ольга Николаевна была в это время по возрасту совсем барышня, хотя и держала себя еще подростком. У нее были красивые светлые волосы, лицо — широким овалом, чисто русское, не особенно правильное, но ее замечательно нежный цвет лица и удивительно выразительные и добрые глаза, при милой улыбке, придавали ей много свежести и прелести.
Татьяна была выше, тоньше и стройнее сестры, лицо у нее более продолговатое, и вся фигура — породистее и аристократичнее, волосы немного темнее, чем у старшей. На мой взгляд, Татьяна Николаевна была самою красивою из четырех сестер.
Мария Николаевна была в то время весьма крепко сложенным подростком с веселым русским лицом и необычайною силою.
Анастасия совсем маленькою обещала стать красавицею, но не оправдала ожиданий. У нее было менее правильное, чем у сестер, лицо, зато весьма оживленное. Она была смелее других сестер и очень остроумна.
По словам фрейлен Шнейдер, характер Ольги Николаевны был ровный, хороший. Напротив, Татьяна имела характер трудный, скорее скрытный, но, быть может, с более глубокими, чем у сестер, душевными качествами. Мария Николаевна была добра, не без некоторого упрямства и по способностям ниже двух старших. Анастасия, с пока еще не установившимся характером, обещала быть весьма способною.
Во время войны, сдав сестринские экзамены, старшие княжны работали в царскосельском госпитале, выказывая полную самоотверженность в деле. Младшие сестры тоже посещали госпиталь и своею живою болтовнею помогали раненым минутами забывать свои страдания.
У всех четырех было заметно, что с раннего детства им было внушено чувство долга. Все, что они делали, было проникнуто основательностью в исполнении. Особенно это выражалось у двух старших. Они не только несли, в полном смысле слова, обязанности заурядных сестер милосердия, но и с большим умением ассистировали при операциях. Это много комментировалось в обществе и ставилось в вину императрице. Я же нахожу, что при кристальной чистоте царских дочерей это, безусловно, не могло дурно повлиять на них и было последовательным шагом императрицы как воспитательницы. Кроме госпиталя Ольга и Татьяна Николаевны очень разумно и толково работали и председательствовали в комитетах их имени.
ВЕЛИКИЕ КНЯЗЬЯ
Взяв за отправную точку 1900 год, время моего вступления в должность начальника канцелярии, скажу, что императорская фамилия была и многочисленна, и полна сил: у царя тогда имелись в живых один брат его деда, четверо дядей, десять двоюродных дядей, один брат, четверо двоюродных братьев и девять троюродных. Всего двадцать девять — достаточно, чтобы стать в случае нужды в защиту главы семьи. Все они, казалось, были заинтересованы в борьбе за свои привилегии, за свое положение.
Я сознательно не перечисляю особ женского пола. Мне хочется в этой главе указать политическую роль, сыгранную членами царской семьи. Государь недолюбливал политических разговоров, а тем более с родственниками. Исключением являлись лишь великая княгиня Мария Павловна (о ней я говорю ниже), которая, как он знал, была хорошо осведомлена в германской политике благодаря своим немецким родственникам, а также две черногорские княгини, Милица и Стана Николаевны, всегда готовые давать политические советы. Их дворы были центрами обмена мнений по международным вопросам. Они с успехом заменяли не назначаемого в столицу нашу черногорского посланника и всемерно защищали интересы своего отца. Но влияние у государя не было пропорционально их рвению. Это, впрочем, не помешало Черногории играть в русской политике гораздо большую роль, чем она имела на то объективных данных.
Обе сестры Его Величества держались совершенно в стороне от государственной жизни. Большинство же других женских членов династии вступили в иностранные браки, жили за границею и лишь изредка гостили при дворе.
Сколько из вышеупомянутых членов императорской фамилии, солидарных с монархом как по династическому принципу, так и по своим интересам, оказались рядом с царем в трагические минуты отречения?
НИ ОДНОГО
В Пскове вблизи государя не было никого из его семьи. Великие князья узнали о совершившемся факте, и их мнения никто не спрашивал ни до, ни после. Семья была бессильна что-либо изменить. И Николай Александрович, и Михаил Александрович приняли свои решения одни, без всякой попытки снестись с родными, не посоветовавшись ни с кем из них, ни даже между собою. Революционная волна была для них столь неожиданна, что отрезала всякую возможность совещаний.
Однако государь в роковой день не мог внять совету семьи не только по материальным условиям, но и вследствие постепенно сложившихся отношений. Этот росчерк пера во Пскове стоил жизни семнадцати членам династии меньше чем за два года. Большинство этих погибших не покинули России исключительно из преданности своему монарху, не желая побегом усугублять его положение.
Как создались такие отношения и какую форму они приняли в каждом отдельном случае, это я постараюсь выяснить дальше. Пока же изложу положение членов императорской фамилии в самый момент отречения.
Великий князь Дмитрий Павлович за несколько недель до того был отправлен на персидский фронт за причастность к убийству Распутина — акт, которым он надеялся спасти царя и династию.
Великий князь Кирилл Владимирович во главе командуемого им гвардейского экипажа отправился в Думу, надеясь этим способствовать установлению порядка в столице и спасти династию в критический момент. Попытка эта не нашла поддержки и осталась безрезультатною.
Наместник на Кавказе Николай Николаевич коленопреклоненно умолял царя об отречении.
Великая княгиня Мария Павловна вместе с сыном, Андреем Владимировичем, находилась в Кисловодске.
Бывшие на фронте великие князья остались пассивными свидетелями переворота. Находившиеся в Петербурге не объединились вокруг Михаила Александровича, когда после отречения государя за себя и наследника он стал императором.
Сферы своими слухами опередили Его Величество в отречении. Они приняли известие об отречении кто равнодушно, а кто даже с радостью. В Яссах я получал из Петрограда многочисленные возбужденно-радостные письма, и мне казалось, что столица объята повальным сумасшествием.
РАЗЪЕДИНЕНИЕ ИМПЕРАТОРСКОЙ ФАМИЛИИ
Первый удар по солидарности царской семьи был нанесен вторым супружеством императора Александра II. Брак с княжною Долгорукою, впоследствии княгинею Юрьевскою, был вторым морганатическим союзом в семье. Первым явилась свадьба великого князя Константина Павловича, косвенно повлекшая за собою восстание декабристов, первое русское освободительное движение.
Супружество государя Александра Николаевича вызвало единодушное осуждение всей царской семьи, лишь выигравшее в силе оттого, что его не осмеливались открыто проявлять при императоре. Две сцены особенно отчетливо врезались мне в память.
В Петергоф прибыли с визитом к Александру II германские владетельные принцы. Это было весною 1877 года. Время было тревожное. Ожидалась со дня на день война с Турцией. Государь пожелал, чтобы наследник устроил в честь гостей бал. Цесаревич, по-видимому, считал, что время для балов было неподходящее; но подчинился желанию своего августейшего родителя.
На бал была приглашена, вероятно по желанию царя, княжна Долгорукая. Помню, как сейчас, величественно-красивую фигуру Александра II, стоящего под колоннадою, ведущей в гостиную, и впереди него, в нескольких шагах, княжну.
После ужина танцы продолжались, и был объявлен котильон. В это время государь уехал, провожаемый до экипажа наследником. Вернувшись в зал, цесаревич прямо между танцующими парами прошел к эстраде, на которой играл оркестр лейб-гвардии Преображенского полка. Несмотря на то что среди танцующих была и цесаревна Мария Федоровна, он громким голосом крикнул:
— Спасибо, преображенцы! Домой!
Танцы резко оборвались. Наследник удалился с цесаревною во внутренние покои; смущенные гости поспешно разъехались.
Этот инцидент был первым мне известным, как очевидцу, проявлением разлада, намечавшегося в это время между Зимним и Аничковым дворцами. Причин было несколько, но главной являлось увлечение Александра II княжною Долгорукою. Эта, ставшая общеизвестной, связь, а особенно последовавший затем брак царя, оскорбляли наследника. Он считал их несовместимыми с достоинством русского императора. Свое отношение к браку отца Александр III проявил и тем, что по вступлении на престол немедленно сменил министра двора и все ближайшее окружение почившего императора.
Второй инцидент произошел после кончины Александра II.
В феврале 1881 года я приехал в Петербург в отпуск из Софии, где состоял флигель-адъютантом и командовал конвоем князя Болгарского. Накануне 1 марта я сговорился с моим товарищем по полку, флигель-адъютантом, но отбывающим свой ценз на командира полка в Белостоке, С. И. Бибиковым вместе позавтракать в ресторане Дюссо. Последний помещался на углу Большой Морской и Кирпичного переулка, где был затем меховой магазин Лелянова. До 1876 года, когда было устроено офицерское собрание полка в казармах, офицеры конной гвардии там постоянно завтракали, обедали и ужинали в одном из больших кабинетов. Напротив был ресторан Бореля, где преимущественно бывали кавалергарды; затем его хозяином стал Кюба, всем петербуржцам известный.
В конце нашего завтрака вбежал к нам взволнованный хозяин, француз Танти. Он только что разговаривал с лицом, видевшим раненого государя, которого везли в Зимний дворец.
Мы выскочили и побежали к дворцу. На площади уже собирался народ. В подъезде Его Величества знакомый нам швейцар подтвердил, что только что привезли раненого государя. Бибиков как флигель-адъютант, имеющий всегда доступ к императору, решил подняться наверх и уговорил меня идти с ним. Мы вошли в фельдмаршальскую галерею. Там у дверей в кабинет государя несколько человек свиты, в том числе генерал-адъютант Салтыков, и прислуга растерянно бегали взад и вперед. Бибиков спросил Салтыкова, можно ли войти, и затем вошел в кабинет. Я не решился последовать за ним, но видел, как он приблизился к группе лиц, стоявших, очевидно, вокруг места, где лежал умирающий государь. Среди них я узнал графа Адлерберга, который заслонял мне лицо царя. Когда Бибиков вышел, мы вместе отправились из дворца. На углу Невского и Морской мы остановились, чтобы решить, куда идти дальше. В это время с Невского показались парные сани, в которых сидел в генеральском пальто наследник цесаревич Александр Александрович с цесаревной Марией Федоровной. Они ехали медленно, так как Невский был запружен народом.
Мы успели повернуться и приложить руку к козырьку. Будущий император отдал нам честь, его супруга поклонилась. Сани повернули к арке Главного штаба и медленно, среди толпы приближались к Зимнему дворцу. Мы с Бибиковым вернулись туда. На площади пришлось уже проталкиваться. Народ стоял безмолствуя. Лишь время от времени слышались негромкие проклятия убийцам, «скубентам». Какая-то баба, сторонясь, крикнула нам вслед:
— Эх вы, военные! Не сумели сберечь царя.
Мы вошли во двор. Он тоже был полон людей всякого звания. На входящих и выходящих из дворца, видимо, никто не обращал внимания. Мы все еще надеялись на спасение жизни государя, хотя Бибиков и говорил мне, что, судя по виду раненого государя, надежды нет. Едва мы вышли из ворот, чтобы снова подняться наверх, как вся толпа и мы с нею опустились на колени… Штандарт на дворце был приспущен в знак траура.
Я послал телеграмму князю Александру Болгарскому и получил ответ ждать его в Петербурге, куда он в тот же вечер выезжает. Его Величество был близким родственником императорской фамилии как сын принца Александра Гессенского, родного брата покойной государыни Марии Александровны.
На другой день я узнал, что для князя приготовили помещение в Зимнем дворце, со стороны набережной, то самое, где год тому назад он жил. Тогда же из-за опоздания поезда, в котором ехал Его Высочество, отложили обед в его честь, и это спасло государя от взрыва в Зимнем дворце. Народовольцы надеялись заложенной там бомбой уничтожить большую часть членов императорской фамилиии.
3 марта в сопровождении одного лишь адъютанта прибыл князь Болгарский. Он участвовал в торжественной перевозке тела Александра II в Петропавловскую крепость. Чтобы присутствовать в соборе, князь спустился из своих апартаментов к салтыковскому подъезду. Тут у широкой лестницы в ожидании появления Их Величеств собрались с правой стороны все великие князья и княгини, с левой — небольшая траурная группа: княгиня Юрьевская с тремя малютками детьми.
Она была в черном, с опущенной вуалью, дети — две девочки и мальчик — тоже в траурном платье. Распахнулись двери, вошли Их Величества и направились здороваться к высочайшим особам. Государь затем обернулся, в тот самый момент, когда княгиня Юрьевская приподняла свою вуаль.
Царь уверенными мерными шагами подошел к ней. Императрица сделала несколько шагов за государем и остановилась. Его Величество, обменявшись несколькими словами с княгинею, обернулся, видимо, думая, что Мария Федоровна стоит за ним. Императрица опять двинулась вперед и опять остановилась. Тогда княгиня Юрьевская быстрыми уверенными шагами подошла к ней. Мгновение они стояли друг против друга. Затем Ее Величество быстро обняла княгиню и обе заплакали. Юрьевская кивнула детям. Те подошли и поцеловали руку императрицы. Государь тем временем был уже в дверях. Царица, видя это, быстро пошла за ним. Начался отъезд высочайших особ.
Когда князь Александр выходил со мною, траурная группа Юрьевской с детьми стояла, как окаменелая в углу громадного почти опустевшего вестибюля. Для них была заказана отдельная панихида.
Хотя с тех пор прошло более 50 лет, но картина, длившаяся всего несколько минут, запечатлелась на вею жизнь в моей памяти. Она произвела такое же впечатление на князя, особенно то мгновение, когда императрица и Юрьевская стояли друг против друга, миг нерешительности Марии Федоровны, подать ли руку княгине или обнять ее. Если бы она подала ей руку, княгиня, жена ее свекра, Александра II, должна была по этикету поцеловать ее.
ВЫСОЧАЙШИЕ ОСОБЫ, НО НЕ ВЕЛИКИЕ КНЯЗЬЯ
Второй удар по целостности царской семьи относится к царствованию Александра III. Видя разрастание императорской фамилии и боясь за престиж великокняжеского сана, Его Величество принял меру, которую он считал необходимою, но которая не всеми членами семьи была одинаково оценена.
«Учреждение об императорской фамилии» было изменено в том смысле, что отныне участвовали в уделах одни дети и внуки императора. Первые два поколения потомков государя носили титул великих князей и получали ежегодно сумму в 280 000 рублей от уделов. Правнуки, с титулом князей крови, получали при совершеннолетии имущество стоимостью в один миллион рублей, движимое и недвижимое, по выбору. Оно переходило по первородству, и обладатель его имел звание Высочества. Остальные потомки были лишь Светлостями и имуществом не обеспечивались вовсе.
Эта мера закрепила деление высочайших особ на две категории. Против нее в царствование Александра III и при министре двора графе Воронцове трудно было ожидать открытого протеста. Со сменою государя императорская фамилия надеялась получить и большую свободу действий. Новый царь был молод, и старшие родственники рассчитывали влиять на него.
Когда эти чаяния не оправдались, молва возложила вину на императрицу. Выросши в англо-германской среде, где вся энергия, не находившая внешнего проявления из-за конституционных преград, обращалась на вящее наблюдение за родственниками, Ее Величество была сторонницею строжайшей дисциплины.
Другой повод к недовольству великих князей давало отношение императора к постановлениям семейных советов. Председатель их, старший из присутствовавших членов семьи, должен был доводить до сведения государя о постановлениях собраний через министра двора. Николай II часто не только не одобрял желания большинства, но и клал прямо противоположные резолюции. Несмотря на все старания изменить порядок доклада, император сохранил его, чтобы избегнуть всяких личных пререканий с родственниками. Невозможность делать непосредственные доклады по семейным делам великих князей считали ненормальным явлением. Это отражалось на солидарности их отношений к главе династии и косвенно сказывалось на графе Фредериксе.
Стали множиться морганатические союзы. Неравномерные и неоправдываемые санкции, иногда чрезвычайные по строгости, скоро отменялись. Виновных прощали, возвращали в Россию на прежнее положение, но прежних отношений восстановить было уже нельзя. Раненое самолюбие давало себя знать.
Появление Распутина внесло окончательный разлад в императорскую фамилию, разделило ее на «белых» и «черных». В коллективном письме к государю, вызванном отправкою Дмитрия Павловича на персидский фронт за причастность к убийству «старца Григория», в этом единственном общем выступлении членов императорской фамилии, поведение великого князя объяснялось велением совести. Трудно было сильнее осудить окружение Ее Величества.
ПАТРИАРХ РОМАНОВЫХ
Из трех великокняжеских поколений, которых нам приходится здесь касаться, старшее — Александра II — имело одного остававшегося в живых представителя, генерал-фельдцехмейстера Михаила Николаевича.
Менее одаренный, чем его братья, человек благородного и уравновешенного характера, исключительной осанки, великий князь провел большую часть своей карьеры наместником на Кавказе. Здесь же он командовал нашими войсками в турецкой кампании 1877–1878 годов и получил георгиевскую ленту.
Оставив пост наместника, великий князь был назначен председателем Государственного совета, оставался на этом посту до реформы совета в 1905 году. Последние годы своей жизни великий князь по климатическим условиям проводил зиму на юге Франции и умер на своей вилле в Каннах в конце 1909 года.
Хотя в мое время он не играл крупной политической роли, но по возрасту и положению занимал исключительное место среди семьи. Никто из родственников не стал бы ему перечить. Благодаря своему такту и влиянию он являлся настоящим миротворцем. С кончиною его прекратилось и внешнее династическое единство.
ЖИВОЕ ВОСПОМИНАНИЕ XVIII ВЕКА
Великая княгиня Александра Иосифовна, принцесса Саксен-Альтенбургская, вдова другого брата Александра II, Константина Николаевича, принадлежала, если не по рождению, то по мужу, тоже к старшему поколению династии. Она держалась очень консервативных взглядов, и петербургское общество казалось ей весьма передовым и непривычным. Ее любимою резиденциею был Павловский дворец, представлявший исключительное художественное целое.
В мире не существовало другого подобного ансамбля времен Директории. Дворец, построенный в конце XVIII века, был полон мебели, штофа, люстр, фарфора, бронзы этой эпохи. При ремонте обивки мебель покрывали штофом того же времени — так велики были его запасы, унаследованные великою княгинею. Во время своего путешествия во Франции граф и графиня Северные (под этим именем, как известно, ездили инкогнито Павел Петрович и Мария Федоровна) заказали такие неисчерпаемее богатства материалов для своего дворца, что он был ими полон до самой революции 1917 года. Только перед началом великой войны решились провести в дворец электричество прямо взамен восковых свечей: ни керосина, ни газа там никогда не было.
Атмосфера этого патриархального двора всегда производила на меня такое впечатление, будто я попал в позапрошлое столетие, и всегда действовала успокоительно.
НАДО ЗНАТЬ СВОЕ РЕМЕСЛО
Второе поколение — поколение Александра III, властного консерватора и народника, — было представлено в 1900 году его четырьмя родными и десятью двоюродными братьями. Первыми были великие князья Владимир, Сергей, Алексей и Павел Александровичи.
Не существовало в Петербурге двора популярнее и влиятельнее, чем двор великой княгини Марии Павловны, супруги Владимира Александровича. Да и сам великий князь умел пользоваться жизнью полнее всех своих родственников. Красивый, хорошо сложенный, хотя ростом немного ниже своих братьев, с голосом, доносившимся до самых отдалённых комнат клубов, которые он посещал, большой любитель охоты, исключительный знаток еды (он владел редкими коллекциями меню с собственными заметками, сделанными непосредственно после трапезы), Владимир Александрович обладал неоспоримым авторитетом. Никто никогда не осмеливался ему возражать, и только в беседах наедине великий князь позволял себе перечить. Как президент Академии художеств он был просвещенным покровителем всех отраслей искусства и широко принимал в своем дворце талантливых людей. В качестве старшего дяди царя он мог бы занять рядом с Михаилом Николаевичем особо доверенное положение, стать хранителем единства семьи и ее традиций. Причину, почему он этой задачи не осуществил, следует, быть может, искать в отношениях между дядею и племянником. Государь Николай II испытывал перед Владимиром Александровичем чувство исключительной робости, граничащей с боязнью. Великий князь, вероятно, заметив впечатление, производимое им на императора, стал держаться в стороне от государственных вопросов.
Острый перелом в отношениях между двумя дворами относился к 1905 году. 8 октября старший сын Владимира Александровича Кирилл сочетался браком в Тегернзе в Баварии в присутствии великой княгини Марии Александровны, с ее согласия и благословения, но не испросив высочайшего разрешения, с разведенною великой герцогиней Гессенской, принцессой Викториею-Мелитою Саксен-Кобург-Готской, дочерью великой княгини Марии Александровны. Новые супруги были двоюродными братом и сестрой. (Великий герцог Эрнст был единственным братом императрицы Александры Федоровны).
Вскоре после свадьбы Кирилла Владимировича стало известно, что он приезжает в Петербург один принести повинную за брак без разрешения государя. Как родители его, так и он сам ожидали, что после заслуженного выговора со стороны Его Величества он будет прощен.
Великий князь приехал в 9 часов вечера прямо с вокзала во дворец своих родителей, а в 10 часов ему доложили, что явился министр двора и желает его видеть по приказу царя.
Граф Фредерикс объявил Кириллу Владимировичу, что император повелевает ему в тот же день выехать обратно за границу и что доступ в Россию ему впредь воспрещен. О прочих налагаемых на него наказаниях он узнает по прибытии на место своего жительства. В тот же день в 12 часов ночи великий князь покинул Петербург.
Владимир Александрович был глубоко оскорблен этой мерою, принятой государем по отношению к сыну без уведомления отца, и на другой же день отправился к императору. После его возвращения свите стало известно, что Владимир Александрович заявил царю о своей обиде и высказал, что при таких обстоятельствах он государю больше служить не может и просит сложить с него командование войсками гвардии и Санкт-Петербургского военного округа. Император на это согласился и соизволил назначить на его место великого князя Николая Николаевича.
При передаче должности Владимир Александрович почел себя сугубо обиженным тем, что Николай Николаевич не только его не посетил, но и отчислил трех его адъютантов по должности командующего войсками, в том числе и Илью Татищева. Последнего, впрочем, вскоре взял в свою свиту государь.
Крутая мера, принятая по отношению к Кириллу Владимировичу, конечно, приписывалась главным образом влиянию императрицы Александры Федоровны. Полагали, что оскорбленная браком великого князя с разведенной супругой своего брата, она и добилась столь сурового наказания, тем более что Кирилл Владимирович являлся третьим лицом по престолонаследию. Отношения Марии Павловны и царицы, конечно, от этого еще ухудшились.
После рождения у Кирилла Владимировича дочери возник острый вопрос — как именовать новорожденную от брака, не признанного государем. Этот вопросдолго обсуждался. Фредерикс совещался с министром юстиции и никак не мог найти выхода. Наконец император согласился признать брак и дать новорожденной соответствующий ее рангу титул. Но великому князю все-таки не было разрешено вернуться в Россию. Это соизволение последовало лишь после смерти Владимира Александровича, когда Кириллу Владимировичу вернули и прочие великокняжеские преимущества.
Великая княгиня Мария Павловна, герцогиня Мекленбург-Шверинская, умная, образованная и любезная женщина, представила удивительно подходящую пару для Владимира Александровича. Их супружеская жизнь, несмотря на то что и муж и жена были натуры волевые и характера самостоятельного, протекала вполне благополучно. Великая княгиня окружала себя выдающимися людьми и в своем дворце в Петербурге, и в многократных заграничных поездках. Вела она и обширную переписку со многими видными деятелями Европы. Сходство ума ее с императрицей Екатериной доходило до того, что Марию Павловну считали свободномыслящею. В действительности она была передовою женщиной и считалась с условиями времени.
Приведу пример поразительного умения Ее Высочества очаровывать людей. Великокняжеская чета была приглашена на освящение памятника царю-освободителю в Софии, где Владимир Александрович представлял государя. Во дворце был назначен парадный обед, а после него прием. Перед самым обедом мне удалось урвать от нашей перегруженной программы несколько минут, чтобы наскоро посвятить Марию Павловну в то, с кем она встретится и что представляют собою приглашенные. И в течение более 3 часов за обедом и приемом великая княгиня была оживленным центром непрерывной беседы и успела всех очаровать. При этом она не допустила ни малейшей оплошности. Когда я поздравил ее с успехом и высказал удивление ее дипломатическими способностями, она ответила:
— Надо знать свое ремесло. Вы можете повторить это и большому двору.
Должен сознаться, великая княгиня знала свое «ремесло» в совершенстве. Двор ее первенствовал в Петербурге. Ее рождественские базары в залах дворянского собрания затмевали все другие благотворительные затеи. Ей удавалось собирать значительные суммы, привлекая на свои приемы лиц богатых, которые по своему рождению и положению в обществе не имели бы доступа в высшие его слои и охотно открывали свои кошельки, чтобы отблагодарить Марию Павловну за гостеприимство.
Ее Высочество любила награждать своих помощников и любимцев придворными званиями, и я страшно волновался, когда перед праздниками она звала меня к себе. Помню, мне как-то пришлось ей указать, что пожалование ее протеже того звания, о котором она просит, будет неслыханною вещью. Она выслушала меня с неудовольствием и, когда я уходил, сказала:
— Раз вы не хотите сделать этого для меня, я найду другую протекцию. Но мой кандидат получит именно то придворное звание, к которому он более всего подходит.
И действительно, в последнюю минуту государь прислал Фредериксу записку сделать такого-то церемониймейстером. Высочайшее повеление было исполнено, и за это министра и меня ругали во всех клубах. Граф не выдержал, поехал к великой княгине и в дружеском тоне просил не подводить вперед ни царя, ни его. Мария Павловна не рассердилась и ответила:
— Другой раз обещайте и не делайте. Тогда одна я буду вас бранить.
— Это будет для меня еще большим огорчением, — возразил граф.
Она рассмеялась, и такие инциденты больше не повторялись. Ее Высочество очень любила и ценила моего начальника.
Двор великой княгини блистал фрейлинами, которые были одна краше другой, притом все умницы и веселого нрава. Мария Павловна требовала, чтобы и вся прислуга имела элегантный и красивый вид. Из своих гостей она сближалась только с теми, кто умел разговаривать и не давал скучать.
С этими-то ближайшими и наиболее влиятельными родственниками отношения большого двора и стали наиболее натянутыми. Ревность между двумя дворами, поддерживаемая постоянными мелкими уколами, порождала инциденты, подобные описанному мною с ялтинскими госпиталями. Этот случай положил конец родственным отношениям между императорской четой и Марией Павловной.
ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, ДВОР И ОБЩЕСТВО
В 1909 году скончался в Париже великий князь Алексей Александрович, брат императора Александра III. Сложив с себя звание генерал-адмирала после гибели эскадры Рожественского при Цусиме, он последние годы своей жизни провел во Франции.
Это был один из самых красивых по внешности членов императорской фамилии. Я убедился в Париже, насколько он поражал своею наружностью. Как-то, гуляя на бульварах, я заметил впереди себя высокого мужчину. Прохожие, видя его, останавливались, а некоторые даже восклицали: «Какой красавец!» Подойдя ближе, я узнал великого князя, в штатском платье, с покупками в руках.
Алексей Александрович еще совсем молодым человеком увлекся фрейлиной Жуковскою и, как говорили тогда, вступил с нею в тайный брак и имел от нее сына, получившего фамилию графа Белевского. Впрочем, по более поздним справкам у членов императорской фамилии, слухи о браке князя Алексея Александровича неверны. Брак с фрейлиной Жуковской заключен не был.9
До брака Александра II с княжною Долгорукою, положившего начало другому ряду морганатических супружеств семьи Романовых, в русской истории был только один пример такого брака — великого князя Константина Павловича с графинею Грудзинской (княгиня Лович). Все другие браки или остались совершенно неизвестными, или о них знал весьма ограниченный круг лиц, как например о браке императрицы Елисаветы и князя Разумовского.10
Алексей Александрович был человеком атлетической силы, обладал большою жизненною энергиею и любил военно-морскую среду, в которой провел большую часть своей жизни. Он жил в прекрасном дворце на Мойке, где, правда, весьма редко, но все же иногда устраивал балы, зато очень блестящие и роскошно обставленные. Давались они главным образом в царствование брата великого князя императора Александра III, который временами их посещал. Великий князь в то время очень дружил с герцогом Евгением М. Лейхтенбергским, состоявшим тогда в браке с Зинаидой Дмитриевной Скобелевой, получившей впоследствии титул и фамилию графини Богарне.
Предлог к этому пожалованию якобы был следующий. Сын Евгения Богарне от брака его с принцессою Баденскою Максимилиан приехал в Россию в царствование императора Николая Павловича и благодаря своей исключительной красоте увлек собою любимую дочь государя великую княжну Марию Николаевну. Еще по случаю брака его отца король баварский пожаловал Богарне титул герцогов Лейхтенбергских. Император в свою очередь наградил детей великой княгини званием Императорского Высочества и князьями Романовскими. Вдобавок — правда, после всех других членов царской семьи, настоящих и будущих — он и его потомство получили право членов императорской фамилии, все же без права пользования удельными доходами. Таким образом, герцоги Лейхтенбергские, нигде и никогда не царствовав, почитались, правда в одной только России, высочайшими особами, согласно примечанию, внесенному императором Николаем I в основные законы империи.
Баварский посланник после пожалования Александром III супруге Евгения Максимилиановича титула графини Богарне хотел протестовать, так как предварительно не снеслись с его двором. Но престиж царя был так велик, что ретивый дипломат должен был умолкнуть.
Зинаида Дмитриевна, или, как обыкновенно ее звали, Зина Богарне, была удивительно привлекательна, красива и жизнерадостна. В ее честь и для ее удовольствия великий князь Алексей и открыл двери своего дворца петербургскому бомонду. Графиня недолго блистала как царица нашего большого света. Она скончалась совсем еще молодой после короткой болезни.
У Евгения Максимилиановича была от первого, также морганатического брака дочь,11 которая еще при жизни мачехи начала выезжать и вскоре вышла замуж за князя Льва Михайловича Кочубея. Долли Кочубей, как ее обычно звали, также пользовалась немалым успехом в обществе.12
Видной петербургской дамой являлась и сестра Зины Богарне княгиня Надежда Дмитриевна Белосельская-Белозерская, муж которой князь Константин Эсперович был очень близок Александру III, хотя политического значения не имел. В молодости Белосельские много принимали в своем доме на Невском, у Аничкова моста, а летом — в своем дворце на Крестовском острове. Позже, когда их громадное состояние пошатнулось, они продали дом великому князю Сергею Александровичу накануне его свадьбы.
Дочери княгини Надежды Дмитриевны вышли замуж: одна, Елена, — за князя Виктора Кочубея, начальника уделов, а другая, Ольга, — за князя Владимира Орлова, начальника канцелярии главной квартиры, правнука графа Алексея Орлова, временщика императрицы Екатерины II. Первая, по своим и мужа вкусам, не любила светской жизни, чувствовала себя лучше в историческом имении Кочубеев под Полтавою Диканьке и там принимала лишь близких друзей князя. Ольга Орлова, напротив, любила приемы у себя на Мойке. Особняк этот по внутренней обстановке походил на музей. У нее собирались дипломаты и дамы, щеголявшие в платьях от лучших портних Парижа.
Как и у Орловых, дипломаты находили гостеприимство у графини Клейнмихель, рожденной графини Келлер, в ее доме на Сергиевской. У нее, конечно, не было той роскоши, как у Белосельских и Орловых, но ум и привлекательность хозяйки давали возможность не без успеха конкурировать с ними.
Упоминаю об этих домах как знакомых мне ближе других. Кроме них много принимали графиня Бетси Шувалова, рожденная княжна Барятинская, Воронцовы, Шереметевы и т. д. (последние две названные семьи не очень любили иностранцев). На этих приемах дипломатов поражали роскошь нашей Северной Пальмиры.
Я упомянул о жене и дочери Евгения Максимилиановича, этих двух львицах петербургского света, чтобы обратить внимание, как был силен царский престиж того времени. Дамы, имевшие лишь косвенное отношение к императорской фамилии, пользовались совершенно особым положением в обществе, и с ними обращались почти так же, как с высочайшими особами.
Благодаря обилию блестящих великосветских домов при Александре III, когда дворцовых приемов было совсем мало, и в царствование Николая II, когда из-за здоровья императрицы тоже не было таких частых празднеств, как при Александре II, Петербург все же оставался одною из самых элегантных и светских столиц Европы.
Я упоминаю лишь о тех домах, которые принадлежали исключительно к аристократии, и не говорю о немалом количестве разных нуворишей, старавшихся не отставать от большого света. Жизнь Петербурга мало изменилась со времен моей молодости, то есть с последней четверти XIX века, до японской войны. Лишь после этой катастрофы начал замечаться некоторый упадок светской жизни. Однако уже с 10-го года нынешнего столетия казалось, что в высшем обществе возвращаются к старым нравам. Но недовольство в низах, все увеличиваясь, подкапывало оптимизм света, и во время великой войны это настроение с первых же наших неудач перешло в мрачный пессимизм. Легкомысленные представители общества думали исключительно о своем благополучии. Ища виновника неудач России, они обрушились на государя, а особенно на Александру Федоровну.
Видя невозможность отдалить императрицу от царя, они стали мечтать о дворцовых переворотах, не понимая, что при тогдашнем настроении низов он неминуемо поведет к революции и к их же гибели. Безнаказанность убийства Распутина дала пример для дальнейшего самоуправства, но уже в массах.
С великим князем Алексеем Александровичем я был очень мало знаком, и пришлось мне впервые прийти с ним в более тесное соприкосновение по следующему поводу.
Супруга принца Александра Петровича Ольденбургского Евгения Максимилиановна имела большую конфетную фабрику «Рамонь», в которую вложила почти все свое состояние. Дела этого предприятия шли очень скверно, и ему грозило банкротство. Тогда принц Ольденбургский обратился к министру двора с просьбой о займе из удельного ведомства. Князь Кочубей, начальник уделов, запротестовал, не желая устанавливать прецедент. Министерство финансов также решило, что подобный кредит по закону выдан быть не может. Тогда Александр Петрович прибегнул к помощи членов императорской фамилии.
Государь поручил Алексею Александровичу собрать семейный совет под своим председательством, чтобы обсудить, как помочь Евгении Максимилиановне и не допустить несостоятельности. На этом совете были, кроме членов императорской фамилии, граф Фредерикс, министр финансов В. Н. Коковцов, князь Кочубей и я в качестве секретаря.
Собрался совет в роскошной столовой великого князя. Открыв совещание, он предоставил слово Коковцову. Министр в цветистой речи с обычным своим умением изложил во всех подробностях дело. Красноречие его длилось более получаса. Аудитория, не привыкшая слушать столь продолжительные речи, немного осовела. Когда Владимир Николаевич кончил, то его несколько озадачило обращение великого князя:
— В чем же именно дело?
Коковцов ответил, что он только что изложил это в своем докладе высокому собранию. Но председатель обратился к нему со вторичной просьбой высказать в кратких словах, что именно требуется от членов царской семьи, дабы помочь Евгении Максимилиановне. Министру пришлось исполнить эту просьбу.
После краткого обсуждения решили, что помочь Евгении Максимилиановне должен прежде всего ее супруг принц Александр Петрович, и лишь когда на это не хватит у него средств, можно прибегнуть к императорской фамилии. Тут же приняли резолюцию, подсказанную тем же В. Н. Коковцовым, которую я сейчас же письменно изложил. Протокол был всеми присутствующими подписан, и великий князь должен был представить его на высочайшее утверждение. Прощаясь со мной, Алексей Александрович сказал, что вызовет меня после всеподданнейшего своего доклада.
Прошло более недели. Меня не вызывали, и я решил поехать сам к Его Высочеству. Великий князь принял меня очень любезно. На мой вопрос, утвердил ли государь решение совета, он сказал, что на другой день после совещания искал протокол и, не найдя его, подумал, что он, быть может, остался у меня. Я напомнил Алексею Александровичу, где именно я ему передал злосчастную бумагу. Начались новые поиски, в которых деятельное участие принимал камердинер великого князя Чемодуров.13
Поиски остались тщетными. Тогда великий князь заявил, что особой беды нет: хотя бумага и пропала, но он помнит приблизительно ее содержание и доложит государю устно.
Исполнил ли Алексей Александрович свое предложение об устном докладе, я не знаю, но слыхал, что затем было еще два семейных совета под председательством уже великого князя Константина Константиновича, на которых присутствовало очень мало членов императорской фамилии. Эти совещания пошли навстречу пожеланиям Александра Петровича. Часть членов царского дома оказалась, впрочем, не согласна с принятым решением и предоставила государю протест, указывая, что дела Ольденбургского дома не касаются императорской фамилии, тем паче что у принца есть большие капиталы в Ольденбурге, из которых он пусть и помогает своей супруге.
В конце концов министр двора доложил об этих разногласиях государю. Его Величеству благоугодно было все же оказать крупную материальную помощь принцессе. Многие из великих князей остались этим крайне недовольны.
ВЕЛИКИЕ КНЯЗЬЯ СЕРГЕЙ И ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧИ
За все время, мною описываемое, вплоть до своей безвременной кончины, великий князь Сергей Александрович был генерал-губернатором нашей первопрестольной столицы. Очень высокого роста, весьма породистой красоты и чрезвычайно элегантный, он производил впечатление исключительно холодного человека. Я лично очень мало знал его, но думаю, что он был бы отличным администратором Москвы, но веком раньше. Офицеры Преображенского полка, которыми он много лет командовал, очень любили Его Высочество.
Государь относился к нему с явным уважением, но, по-видимому, особенной интимности между дядей и племянником не было, хотя они были женаты на двух сестрах, к тому же очень дружных. Симпатии великого князя клонились к крайне реакционным течениям, но влияние его на императора не сказывалось. Преследуемый террористами, Сергей Александрович пал жертвой покушения эсеров.
Великий князь Павел Александрович в сравнительно молодые годы обвенчался с дочерью короля эллинов Георга и королевы Ольги Константиновны. Брак этот был очень счастливым. Великую княгиню Александру Георгиевну, сверстницу и двоюродную сестру всего молодого поколения императорской фамилии, все очень любили. Этой симпатичной чете было легко занять выдающееся положение в Петербурге. Через год у них родился ребенок — великая княжна Мария Павловна, год спустя — второй, Дмитрий Павлович, после родов которого Алесандра Георгиевна скончалась. Молодой, но блестящий двор Павла Александровича опустел. Великий князь со своим детьми уехал в Ильинское, подмосковное имение брата Сергея Александровича, с которым он был очень дружен. Бездетная супруга Его Высочества Елисавета Федоровна ревностно взялась за воспитание осиротевших племянников, стараясь заменить им мать.
Еще до рождения сына Павел Александрович получил в командование мой родной конный полк, куда в день своего рождения был зачислен и Дмитрий Павлович. В полку искренне любили и ценили великого князя за поддержание старых традиций и блестящей строевой репутации конногвардейцев.
Вдовец, живший далеко от детей, великий князь увлекся женой одного из адъютантов своего брата Владимира Александровича — фон Пистолькорса. Ольга Валериановна развелась с мужем, но государь не счел возможным дать Павлу Александровичу разрешение на морганатический брак ввиду близости великого князя — дяди императора к престолу. Но увлечение взяло верх над долгом послушания главе дома, и великий князь, сдав полк, обвенчался тайно за границей. Император оказался в тяжелом положении. Ему пришлось применить максимальное наказание. Его Высочество был лишен всех чинов и должностей с воспрещением въезда в Россию.
После убийства Сергея, любимого брата Павла, государь вернул дяде генерал-адъютантский мундир и вызвал его для присутствия на похоронах. Некоторое время спустя после долгой переписки разрешили в конце концов вернуться и его морганатической супруге. Тут возник вопрос о месте, которое Ольга Валериановна, получившая титул и фамилию графини Гогенфельзен от короля баварского, может занять при дворе, где до сих пор морганатических жен не появлялось. Великий князь составил на этот счет шесть довольно смелых пунктов, об утверждении которых просил государя. В них было заметно сильное влияние графини на супруга. Но и государь находился под влиянием императрицы. Он вычеркнул наиболее новаторские требования Павла Александровича, решив, что Ольга Валериановна получит лишь ранг жены генерал-адъютанта. Но он согласился, чтобы графиня была представлена своим новым родственницам, великим княгиням, не через посредство их гофмейстерин, а самим великим князем, ее супругом. Также было разрешено ей не расписываться во дворцовых книгах, а оставлять визитные карточки.
Павел Александрович был искренне благодарен своему племяннику за урегулирование трудного вопроса. Но мелкие препятствия создали у него осадок неприязни к императрице, хотя наружно отношения казались вполне сердечными.
Великокняжеская чета с детьми поселилась в Царском Селе во вновь выстроенном ими дворце. Графиня благодаря покровительству Марии Павловны старшей, с давних пор весьма благоволившей к ней, хорошо была принята петербургским обществом, которое очень охотно стало посещать новый жизнерадостный двор Павла Александровича.
Когда началась война, графиня не пожелала более носить немецкой фамилии. По ходатайству великого князя государь пожаловал его семье фамилию Палей — казачьего атамана, бывшего в родстве с Карнович (девичья фамилия Ольги Валериановны) — с княжеским титулом. Это, если не ошибаюсь, единственный случай пожалования княжеского титула за все царствование Николая II.
При дворе и между членами царской семьи Павел Александрович не имел того авторитета, каким пользовался его брат, Владимир Александрович. Это сказалось в трудную минуту, когда государыня оставалась одна в Царском Селе и не имела твердой мужской поддержки. Причастность Дмитрия Павловича, сына Павла Александровича от первого брака, к делу об убийстве Распутина еще увеличила рознь между дворами.
Павел Александрович продолжал жить в Царском Селе до ареста большевиками. Княгиня Палей проявила чудеса храбрости, пытаясь, но тщетно, спасти своего супруга. Великого князя расстреляли; сына ее одновременно умучили в Алапаевске. Княгиня с двумя дочерьми бежала во Францию.
СЫНОВЬЯ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ КОНСТАНТИНА НИКОЛАЕВИЧА
Великий князь Николай Константинович, старший сын Константина Николаевича, страдал неизлечимым психическим расстройством. Он провел большую часть жизни в Туркестане, где и скончался после революции, еще до захвата там власти большевиками.
Второй брат, человек весьма красивый, высокого роста, элегантный, Константин Константинович, поэт, писавший под псевдонимом «К. Р.» был женат на принцессе Саксонской. У них было девять человек детей. Великий князь любил искусство, и особенно увлекался литературой. Назначенный начальником военно-учебных заведений, он много сделал для молодого поколения наших офицеров и был ими очень любим.
Я близко знал младшего брата Его Высочества Дмитрия. Великий князь по скромности характера мало кому и в России был известен, хотя отличался редкими качествами. Политической роли великий князь никогда не играл. Он был всесторонне образованным человеком и интересным собеседником, но в беседе с ним не следовало касаться ни вопросов современной политики, ни психологии женщин: Дмитрий Константинович был определенный женофоб.
Любимой темой его разговора являлись лошади, коннозаводство и коневодство. Этим двум отраслям хозяйства он посвятил себя полностью, основательно их изучил и применил свои познания сначала на купленном им большом конном заводе в Дубровке Полтавской губернии, а впоследствии — как заведующий государственным коннозаводством. От этой должности он, впрочем, скоро отказался, считая, что может принести больше пользы, сосредоточив все внимание на собственном заводе. И это было не фраза, а искреннее убеждение Его Высочества.
С Дмитрием Константиновичем я впервые познакомился, когда после долгого пребывания в Болгарии вернулся в свой полк, куда великий князь был зачислен во время моего отсутствия. В полку он мало с кем сходился и никакой выдающейся роли не играл. Причиной были страшная застенчивость и педантическое распределение дня. Все его время уходило на служебные занятия, чтение и самообразование, а также на аккуратное посещение богослужений. Кроме того, Дмитрий Константинович строго придерживался «сухого режима» — не пить ни вина, ни других спиртных напитков — и избегал мало-мальски фривольных разговоров. Поэтому он посещал лишь официальные собрания.
Великий князь мне позже рассказывал, почему никто из сыновей генерал-адмирала Константина Николаевича не стал моряком. Оба старших брата вышли в офицеры: Николай Константинович — в конную гвардию, а Константин Константинович — в Измайловский полк. Дмитрия же Константиновича с детства предназначали в моряки. Безумно любя лошадей, великий князь просился в конногвардейцы, как и старший брат, но отец заявил, чтобы он не смел даже мечтать о гвардии, а готовился в моряки. Его Высочество подчинился, надел морскую форму и был отправлен в учебное плавание. Оказалось, что он моря не переносит и страшно страдает от морской болезни. Вернувшись домой, под впечатлением морских передряг, великий князь усердно помолившись, отправился в кабинет к родителю. Он стал на колени перед отцом и умолял избавить его от морской службы. Константин Николаевич ничего слышать не хотел. «И Нельсон, — говорил он, — страдал морской болезнью, а все же стал знаменитым адмиралом». Наконец сжалилась мать, и лишь после долгих ее просьб строгий родитель согласился отдать Дмитрия Константиновича в конную гвардию. Так как старший брат в бытность в полку вел жизнь весьма рассеянную, то Дмитрию Константиновичу была дана строгая инструкция: ему не подражать. По добросовестности натуры он родительский приказ исполнял пунктуально.
Уже командуя конногренадерским полком, Дмитрий Константинович, убедился, что «сухой режим» мешает его сближению с офицерами и исходатайствовал у своей матушки разрешение пить вино. После этого он скоро сдружился с полком и имел прекрасное влияние на офицеров, которые его искренне любили.
Я ближе сошелся с Дмитрием Константиновичем на «лошадином вопросе». Узнав Его Высочество и преодолев его застенчивость, я искренне привязался к нему. Когда Александр III поручил Дмитрию Константиновичу произвести опыт снаряжения кавалерии лошадьми через государственное коннозаводство, великий князь просил государя дать ему в помощь меня как более опытного в приемке лошадей. И в течение многих лет я помогал великому князю, состоя при военном министре по кавалерийской части. Два года мы ездили с Его Высочеством по заводам, а затем я гостил у него в Дубровке, где мы вместе составляли отчет о нашей командировке.
В наших странствиях нам приходилось заезжать в такие захолустные города, куда, конечно, никто из членов царской семьи, да и из других высокопоставленных лиц, никогда не заглядывал. Дмитрий Константинович, по своей скромности, старался по возможности избегать всяких встреч и приветствий. Но стоило мне заикнуться, что его долг как великого князя показаться собравшемуся народу, и он, как ему это ни было трудно, выходил и очень хорошо отвечал на приветствия. Но затем Его Высочество убегал в свое купе и опускал занавески, чтобы его больше не беспокоили.
Помню, как-то раз мы услышали, сидя в купе, разговор двух парней:
— Ну что, видал великого князя: каков он?
— Человек как человек, только «долготелистый».
— А звезда у него на груди была?
— Нет.
— Так, пожалуй, это и не великий князь…
Надо заметить, что у всех Константиновичей, и особенно у великого князя Дмитрия, были длинные шеи при высоком росте. Великому князю очень понравился данный ему крестьянином эпитет, и он много раз его потом вспоминал…
ЕСЛИ Б ЗАВЕДОВАТЬ ТОЛЬКО ЛОШАДЬМИ…
Относительно государственной службы великих князей Дмитрий Константинович высказывался так:
— Конечно, великие князья должны проходить службу субалтерн-офицерами в частях, но так, чтобы с ними обращались наравне с прочими офицерами. Если полюбят строевую службу, пускай двигаются в общем порядке. Однако назначение их на высшие должности я не считаю правильным, так как все же они безответственны. Если же у них окажутся непорядки, то это уменьшит престиж государя.
— А вы бы приняли заведование государственным коннозаводством?
— Охотно бы принял, если бы приходилось заведовать только лошадьми. Но там есть люди, и вы видели, с какими недостатками. Знаю, что меня прочат на это место, и чувствую, что в деле выращивания конного состава я мог бы быть действительно полезен, но с людьми, боюсь, не справлюсь. Не принять этого назначения я не могу. Но приму с условием, что меня освободят от службы, как только я увижу, что с делом справиться не могу.
Однажды великий князь поручил мне передать довольно значительную сумму на поддержание бедной церкви в деревне, через которую мы проезжали. Я ему заметил:
— При таких щедрых дарах вам, пожалуй, не хватит ваших удельных доходов.
— Удельные деньги нам даются не для того, чтобы мы на них сибаритствовали, а для поддержания престижа широкой помощью и добрыми делами.
Незадолго до войны Дмитрий Константинович, которого я давно не видел, протелефонировал мне и попросил выбрать день, когда я буду свободен, чтобы отобедать у него и потом посидеть. За обедом Его Высочество огорченно жаловался, что никто из его многочисленных племянников лошадей не любит и коннозаводством не интересуется. А поднятие и постепенное улучшение русских пород требует работы нескольких поколений.
Мечтой великого князя было воскресить орловско-ростопчинскую породу лошадей, постепенно улучшая ее подбором и воспитанием. Достигнутые им результаты были, действительно, поразительны.
Пожертвовать свой завод государственному коннозаводству он боялся, так как там работали по той системе, которая временно была в моде.
После обеда Дмитрий Константинович принес проект своего духовного завещания, и мы до поздней ночи обдумывали, как упрочить будущность завода, в который великий князь вложил и все свое состояние, и всю свою немалую энергию.
Было решено, что Его, Высочество еще раз позовет меня, чтобы до представления завещания на утверждение государю окончательно решить вопрос о заводе. Вскоре началась война, а за нею последовала революция. Случайно я узнал, что Дубровский завод разграблен, жеребым кобылам вспороли животы, как и на заводе князя Владимира Орлова. Сам же великий князь был расстрелян в Петропавловской крепости 15 января 1919 года вместе с великими князьями Павлом Александровичем и Николаем Михайловичем. Жаль такого хорошего человека и жаль гибели умело созданного им серьезного государственного начинания.
ДЕЛО В СЕРАПИНЕ
У фельдмаршала, великого князя Николая Николаевича старшего, были два сына — Николай Николаевич младший и Петр Николаевич. Перед тем как описывать младшее поколение, расскажу о своей встрече с их родителем, характерной для старшего поколения императорской фамилии.
В 1874 году я был вольноопределяющимся — одним из первых в Конном полку. Тогда переводили от рекрутских наборов со сроком службы в 15 лет к общевоинской повинности. Я и мои товарищи из гвардии держали офицерский экзамен в Константиновском пехотном военном училище, впоследствии артиллерийском, на Загородном проспекте. Нас экзаменовалось человек 20, из них 6–7 из гвардейских кавалерийских полков. Помню до сих пор, что было четверо кавалергардов — князь Михаил Дондуков-Корсаков, Богдан Хвощинский, Ладышенский и князь П. Вяземский и два лейб-гусара — Сафонов и граф Рибоньер. Я был единственным конногвардейцем.
К нам присоединились еще два армейских вольноопределяющихся — князь Сергей Алексеевич Кропоткин и Ушаков. Наша компания во время экзаменов быстро сошлась, и мы виделись ежедневно. По окончании каждого экзамена мы вместе посещали находившийся против училища серапинский трактир. Это было очень опасно, так как нижним чинам в то время вход в трактиры и рестораны строго воспрещался. Поэтому мы ходили в трактир с заднего хода, откуда и попадали прямо в отдельный кабинет, где хозяин редким гостям «из господ» давал завтраки по особому заказу. Обыкновенные посетители, лавочники и мастеровые, сидели в двух залах за столиками и пили без конца чай с блюдечка.
После экзамена по артиллерии, почитавшегося особенно трудным, мы около полудня отправились в Серапино. Все были налицо, кроме Ушакова. Расстегнувшись, мы весело пропускали уже по третьей рюмке, заедая вкусными грибами со сметаной и другими яствами, как распахнулась дверь из залы, и мы увидели статную фигуру Николая Николаевича старшего, в вицмундире Конного полка, с андреевской лентой через плечо и в генеральской каске. Он быстрыми шагами шел в наш кабинет.
Если бы молния ударила в середину закусочного стола, думаю, что мы бы обалдели меньше, чем при виде командующего войсками Петербургского военного округа.
Мы выстроились и ждали притаив дыхание.
Великий князь вошел. Половой затворил за ним дверь.
— Что вы тут делаете? — последовал грозный вопрос.
— Экзамен держали, Ваше Императорское Высочество.
— Хорош экзамен! В кабаке пьянствуете…
Молчание.
— А где тот, который убежал, когда я ему приказал подойти?
Опять молчание.
— Такой большой, в мундире армейской кавалерии. Какого полка — не успел разобрать… Не может быть, чтобы вы не знали. Он, очевидно, сюда шел.
— Мы здесь все в сборе, — отрапортовал Кропоткин. — Не знаем, кто мог быть у ворот.
— Ну, завтра разберем. Вы все отправляйтесь к своему начальству, доложите, что я вас застал в кабаке. Как фамилии?
Мы все назвались. Когда Дондуков сказал свою фамилию, великий князь заметил:
— А твоему отцу скажи, чтобы надрал тебе уши за пьянство.
Дверь отворилась. Его Высочеству подали шинель, и он удалился. Вся публика — толстые лавочники в косоворотках — стояли с потными лицами и смотрели на великого князя. Мы бросились к окну и видели, как Николай Николаевич в своей эгоистке (так назывались дрожки для одного седока) крупной рысью отъехал.
Наша компания стояла перед закускою как в воду опущенная. Дондуков опомнился первый:
— Ну что ж… Надо ехать. Все же для куражу выпьем еще по рюмке.
Вошел хозяин, неся миску с ухою. Ставит на стол и говорит:
— Видно, князь-то очень осерчал. Вошел так, что шинель спала с плеч во дверях. Говорит: «Где юнкер, что от меня удрал?» Не могу знать, тут есть юнкера в кабинете. — «Веди туда». — Я и повел, ослушаться нельзя было.
Великий князь часто проезжал по Загородному проспекту с доклада у государя в Царском Селе, и трактирщик давно знал его по виду.
Мы все отправились к своим эскадронным командирам, гадая, чем это для нас кончится.
На другой день по приказу Его Высочества мы все со своим начальством явились во дворец на Благовещенской площади. (Затем он был отдан под Ксенинский институт).
Начальства было больше, чем провинившихся. От трех полков командиры эскадронов, дивизионеры и полковые командиры, бригадные и начальники дивизий, все недовольные, что им приходится в мундирах являться к командующему войсками. Все в отдельности по очереди ругали каждого из нас, пока не вышел великий князь. Он также нас пожурил, но так и не узнал имени вольноопределяющегося, рассердившего его своим бегством.
Каждого из нас назначили на 15 лишних дежурств по конюшне. Мы начали, было, отбывать наказание, но через несколько дней нам сообщили, что по просьбе отца Дондукова великий князь разрешил отпускать нас на экзамены, и мы их благополучно сдали.
Нас всех, кроме Ушакова, произвели в портупей-юнкеры. Ушаков не только экзаменов больше не сдавал, но и нам на глаза не появлялся. Кончив срок службы, он исчез с петербургского горизонта и бросил мысль о всякой военной и гражданской карьере.
Наконец, правда разновременно, произвели нас и в офицеры, меня — лишь в феврале.
Пришлось являться к высшему начальству. Я опять отправился во дворец Николая Николаевича — должен сознаться, не без некоторой опаски. Вышел великий князь, такой же красивый и обаятельный, на этот раз с улыбкою на лице.
— А… Серапинского героя произвели. Поздравляю тебя… Уверен, что будешь служить молодцом. Помни всегда, что ты имеешь честь носить мундир славного Конного полка, который я ношу с юношества. Желаю тебе быть героем не серапиского трактира, а на поле брани.
Его Высочество подал мне руку. Я, как тогда полагалось, поцеловал его в плечо. Он весело кивнул мне и вернулся в свой кабинет.
Я не шел, а летел, полный счастья от слышанных милостивых слов. Думаю, будь случай, я совершил бы любой геройский подвиг.
От великого князя отправился в Аничков дворец к наследнику цесаревичу, командиру гвардейского корпуса. Меня ввели в кабинет Александра Александровича. Он встал из-за письменного стола, его громадная фигура повернулась ко мне. Я отрапортовал, кто я и по какому случаю явился.
— Желаю вам счастливой службы, — сказал будущий император Александр III и подал мне руку.
Когда я сделал движение, чтобы поцеловать его в плечо, наследник с такой силой, держа меня за руку, остановил, что я не мог выполнить свое желание.
Едучи домой, я думал только о приеме у Николая Николаевича, жалея в душе, что будущий царь меня принял не по старой традиции.
Мощь цесаревича мне импонировала. Но ни у него, ни у кого из его поколения не было величественного, неотразимого шарма в словах и движениях, отличавшего всех сыновей Николая Николаевича. На разводе я среди других был представлен Александру II и сознаюсь, что испытал волнение, даже трепет перед самодержцем всея России. Это чувство я и позже неизменно испытывал при всех моих встречах с императором Александром II.
ГЕНЕРАЛИССИМУС
Впервые я познакомился с великим князем Николаем Николаевичем младшим еще при жизни его отца Николая Николаевича старшего. Я был представлен молодому великому князю на ровенских маневрах в 1888 году. Как адъютант военного министра Ванновского я сопровождал его в Ровно.
Предполагался большой кавалерийский маневр. На нем должны были встретиться 30 эскадронов с каждой стороны. Одной стороной должен был командовать генерал-адъютант Струков, а другой только что произведенный в свитские генералы командир лейб-гвардии гусарского полка великий князь Николай Николаевич. Его Высочество приехал явиться к Банковскому. Тот представил меня и сказал, что я, интересуясь маневрами, желал бы на следующий день находиться при штабе великого князя. Николай Николаевич на это весьма любезно согласился.
Великий князь впервые командовал такой крупной частью, да еще в присутствии своего отца — фельдмаршала. Должен признаться, что Его Высочество очень хорошо справился с этой, все же не легкою, задачею, хотя немного нервничал и часто рассылал зря своих ординарцев, которых у него было более десятка. Он требовал, чтобы они все время шли в карьер, даже там, где спешки не было. Когда Николаю Николаевичу казалось, что ординарец скачет недостаточно быстро, он кричал «Ходу! Ходу!» весьма гневным голосом, хлеща при этом и свою ни в чем не повинную лошадь.
День прошел благополучно, в весьма интересных передвижениях. К заходу солнца великий князь развернул все свои эскадроны для общей атаки конницы Струкова, появившейся с другого конца весьма обширной долины.
Наш отряд разворачивался правильно, но, видимо, Его Высочество не мог еще рассчитать времени, необходимого для развертывания столь крупного отряда и, сильно нервничая, разослал весь свой штаб для отдачи приказания строиться в карьер.
Была минута, когда казалось, что наш фронт едва-едва успеет построиться к подходу струковского отряда. Великий князь крикнул: «Ординарец!» Никого больше не оставалось, и подъехал я. Он обратился ко мне:
— Видите ли эту группу, которая еще разворачивается? Скачите туда, прикажите, чтобы карьером разворачивалась.
— Смею доложить, что как раз к ней подъехал ваш ординарец, да другой за ним туда же скачет. Как прикажете?
— Конечно, нечего туда ехать, — был ответ.
Но при этом я заметил на красивом лице великого князя гримасу. Очевидно, ему было неприятно, что я заметил его излишнюю суетливость. Стоя рядом с Николаем Николаевичем, я спокойным голосом сказал ему:
— Не прикажете ли мне поехать к резерву, чтобы заполнить прорыв в середине фронта? Он только-только поспеет сделать это до атаки.
— Верно. Поезжайте, и ходу!..
Картина атаки этих двух громадных масс кавалерии, освещенная последними лучами заходящего солнца, была, действительно, удивительно красива.
На бивуаке оба начальника кавалерии со свитами шли вместе. Струков с разрешения великого князя подозвал меня и рассказал ему, как мы вместе воевали на Балканах. Его Высочество заметил:
— Боевая практика имеет значение. Один Мосолов мне вовремя напомнил придвинуть резерв, и из-за этого признали, что я тебя победил.14
Впечатление, произведенное Николаем Николаевичем при этой первой встрече с ним, было в общем хорошее. Конечно, я жалел, что не заметил у него особого, скажу «русско-рыцарского», обаяния, присущего его отцу и вообще сыновьям Николая Павловича. Некоторая злобность в нем мне показалась на первый взгляд знаком сильной воли. Очень подкупала в его пользу наружность и некоторая резкость манер, дававшая впечатление решительности.
Маневры кончились парадом, на котором я в последний раз видел фельдмаршала Николая Николаевича старшего. Он так красиво делал заезд пред императором, салютуя своим жезлом, осыпанным бриллиантами, переливавшимися на солнце!
Здоровье Его Высочества не позволяло ему больше показываться, и он скончался через 5 лет, в 1891 году, окруженный лишь своими старыми, еще со времени войны, адъютантами, которые не покидали его до последней минуты и ухаживали за ним как сыновья.
После перерыва в несколько лет должность генерал-инспектора кавалерии перешла к его сыну. Следует отдать справедливость великому князю: он сделал много для воспитания и приведения в порядок нашей кавалерии. При нем она могла считаться одной из лучших в мире.
Что же касается характера Николая Николаевича младшего, то в нем преобладал атавизм Ольденбургского дома. Мать Его Высочества великая княгиня Александра Петровна, дочь Петра Георгиевича Ольденбургского, была весьма схожа характером со своими братьями, Александром и Константином Петровичами. Они все были очень способны, но крайне неуравновешенны, вспыльчивы и без достаточных задерживающих центров. К тому же Николай Николаевич, как мне говорили, унаследовал от своей матушки и ее мистицизм.
Александра Петровна еще с 70-х годов не жила более с мужем, переехала в Киев, где окружила себя священниками и монашенками, а впоследствии основала там монастырь и сама была пострижена.
Сын ее под влиянием супруги Анастасии Николаевны увлекся Филиппом и Папюсом и чуть не втянул в это увлечение императрицу Александру Федоровну, о чем петербургское общество в мое время много говорило. Полагаю, что со временем откроются факты, выясняющие эти события и, быть может, они переложат ответственность за крушение империи с одних плеч на другие.
У меня же эти неразгаданные события отчасти поколебали доверие к Николая Николаевичу. После роли великого князя, мною описанной, перед изданием манифеста 17 октября, когда он действовал под влиянием рабочего Ушакова, это доверие пошатнулось настолько, что я лично не ожидал ничего хорошего от назначения Его Высочества верховным главнокомандующим. Письмо его государю перед отречением последнего свидетельствует о крайне узком кругозоре и весьма невозвышенной душе. Да простит ему Господь его прегрешения, которые нам, людям той эпохи, так трудно оправдать.
Во Франции, в изгнании, Николай Николаевич не сумел воссоединить русских монархистов в единое целое и, не пожелав признать главенства великого князя Кирилла Владимировича, значительно способствовал бессилию наших легитимистов, лишенных возможности стать под единомышленное возглавление.
Великий князь Петр Николаевич был уравновешеннее брата и походил на родительницу меньше него. Слабого здоровья, почти чахоточный, он не проявлял никаких стремлений к власти. Хотя и человек одаренный, Его Высочество не вкладывал в свое дело генерал-инспектора инженерных войск той пылкости, которую проявлял Николай Николаевич к своей кавалерии.
Женатый на Милице Николаевне, дочери князя Черногорского, он мало вмешивался в политические интересы жены и держался в стороне от всяких интриг.
ПЯТЕРО МИХАЙЛОВИЧЕЙ
Перейдем к сыновьям великого князя Михаила Николаевича. Их было шесть, но один умер еще ребенком. Остальные пятеро были мало между собой схожи.
Старший, Николай Михайлович, видный, очень умный, отличался пристрастием к интригам. Начав службу в Кавалергардском полку, он покинул его под предлогом, что военные обязанности препятствуют его историческим трудам, к которым он имел не только действительное влечение, но и немалые способности. Но вне круга интересов он лишь критиковал и ничего не создавал. Из писем Его Высочества к царю видно, что он умел нравиться и обнаруживал несомненный ум, однако тщетно было искать в этих письмах хотя бы одну приложимую на практике мысль.
Николай Михайлович оставался в стороне во время войны. В яхт-клубе, где его любили слушать, едкая критика великого князя немало способствовала ослаблению режима. Всеразлагающий сарказм порождал в обществе болезненное отрицание авторитета царской власти. Императрица не терпела Николая Михайловича искренне и откровенно. Великий князь был одним из главных инициаторов коллективного письма великих князей, которое запечатлело рознь в императорской фамилии. Сосланный в свое имение на юге России, он не был в Петербурге, когда вспыхнула революция.
Второй брат, Михаил Михайлович, не принимал абсолютно никакого участия в русской жизни. После морганатического брака в 1891 году с графиней Меренберг, возведенной в графини Торби (дочерью герцога Насаусского, родной внучкой поэта Пушкина), он более не возвращался в пределы империи.
За ним следовал Георгий Михайлович, женатый на принцессе греческой Марии Георгиевне. Во время войны ему поручилось развозить по фронту ордена. Насколько знаю, в последнее время перед катастрофой он находился под сильным влиянием старшего брата Николая Михайловича.
Четвертый брат, Александр Михайлович, муж Ксении Александровны, сестры государя, занимал при дворе исключительное положение. Он был сверстником государя и его другом детства. Талантливый и честолюбивый, он недолго занимал пост, специально для него созданный, министра торгового мореплавания. Во время войны он посвятил себя военной авиации, которою издавна занимался. После него остались воспоминания, где Его Высочество ревностно защищал необходимость назначения великих князей на все видные и ответственные посты империи.
Склонный к мистицизму, Александр Михайлович стал проповедовать после катастрофы и своего посещения Америки теории, якобы внушаемые ему свыше и близкие к непротивленчеству Льва Толстого. Они должны были, по его словам, спасти Россию от большевиков оккультным путем. Слушателей, а тем паче слушательниц, он находил немало.
Младший из братьев, Сергей Михайлович, был генерал-инспектором артиллерии. Его управление ведомством вызвало немало нареканий во время войны из-за недостатка снарядов и амуниции в войсках. Будучи постоянно на фронте, он менее поддался растлевающему влиянию Николая Михайловича, но все же не мог оказать поддержки Его Величеству в момент отречения. Отношения их были, по-видимому, не такие, чтобы государь стал с ним советоваться в критические минуты.
ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ
Немного приходится сказать о третьем поколении сверстников — скорее не государя, а его детей. Оно состояло из брата императора, трех сыновей Владимира Александровича, сына Павла Александровича и девяти троюродных братьев Его Величества. Последние приходились внуками императору Николаю I и уже не титуловались великими князьями.
С политической точки зрения можно говорить о первых пятерых великих князьях.
Брат государя, великий князь Михаил Александрович, был на 10 лет моложе царя. Он отличался исключительной добротой и доверчивостью. С начала войны он командовал Кавказской кавалерийской, так называемой дикой дивизией, которая многократно отличалась в боях. Смелый, физически сильный, великий князь выказал себя способным начальником, и если бы после отречения государя он был поддержан, быть может, судьбы России и пошли бы по совершенно иному руслу.
Витте, всегда стремившийся, где мог, противопоставить кого-либо императору Николаю II, всюду хвалил способности Михаила Александровича, которому он давал уроки политической экономии. Он подчеркивал его правдивость и откровенность, чем великий князь очень походил на сестру свою Ольгу Александровну. Но влияние его на брата было ничтожным. До рождения цесаревича Алексея Михаил Александрович был наследником престола как ближайший родственник царствующего монарха. Но он не получил титула цесаревича, который носил при жизни его старший брат Георгий Александрович. Факт этот очень комментировался при дворе Марии Федоровны, но он легко объясняется надеждою молодой императрицы, что у нее скоро родится сын.
Владимир Александрович имел трех сыновей: Кирилла, Бориса и Андрея. Старший был моряком и находился на броненосце «Петропавловск», когда его потопили японцы на Порт-Артурском рейде. Кирилл Владимирович тогда один из немногих остался в живых. Вернувшись в Петербург после чудесного спасения, он, как только был в состоянии, явился к царю.
Отношения между большим двором и двором великого князя Владимира Александровича были в те времена натянутыми, и эта натянутость усилилась, когда до Их Величеств дошли сведения о предполагаемой женитьбе великого князя Кирилла Владимировича на Виктории Федоровне. Только после того как государь признал этот брак и великая княгиня Виктория Федоровна в 1909 году приехала в Петербург, благодаря ей эти отношения несколько улучшились.
После смерти царя, наследника и Михаила Александровича Кирилл Владимирович стал главой семьи. Несколько лет тому назад, в эмиграции, великий князь принял императорский титул, официально об этом, однако, не сообщив другим дворам. Сыну своему князю Владимиру он тем же актом дал великокняжеский сан.
Второй брат, великий князь Борис Владимирович, не был женат и двора не держал. Живя в Царском Селе холостою жизнью, он мало интересовался политическою судьбою своей родины. Во время войны он был казачьим походным атаманом при ставке.
Младший из братьев, великий князь Андрей Владимирович, блестяще окончил Военно-юридическую академию и стал советником и идейным вождем молодого поколения своей семьи. Он и в эмиграции продолжал интересоваться политическими вопросами и лучше всех членов императорской фамилии был в них осведомлен. Человек очень даровитый и умный, Его Высочество вдобавок и трудолюбив.
Великий князь Дмитрий Павлович был лишь немногим старше дочерей государя. Их Величества искренне любили его и старались скрасить его полусиротскую молодость. Причастность великого князя к убийству Распутина произвела сильное впечатление на государя, поставившего на коллективном письме родственников, заступившихся за Дмитрия Павловича, известную резолюцию: «Никто не имеет права убивать».
Не вдаваясь с точек зрения морали и целесообразности в оценку тех действий, к которым великий князь был причастен, нельзя не отметить, что Его Высочество оказался единственным членом императорской фамилии, принявшим активное участие в попытке спасти царя и родину.
Из всего сказанного видно, как невелико было влияние семьи на царскую чету. Они видались большею частью на официальных торжествах, в условиях, невозможных для какой-либо серьезной беседы, а интимные встречи были весьма редки. Под конец царствования и они прекратились.
ПОСЛЕДНИЕ ПОПЫТКИ ПРИМИРЕНИЯ
Мне остается еще рассказать о своем участии в последней попытке примирения между членами императорской фамилии и царской четой.
В ноябре 1916 года я прибыл посланником в Румынию. В конце января 1917 года королева Мария спросила моего мнения — согласится ли государь выдать одну из великих княжон, своих дочерей, за ее сына Карла, наследника румынского престола (ныне ставшего королем). Об этом я уже раньше говорил с гостившей у королевы сестрою ее, великой княгинею Викторией Федоровной. После долгого обсуждения этого вопроса с королем, королевой и великой княгиней я, воспользовавшись данным мне государем разрешением сноситься с ним непосредственно по общим с королевским двором семейным вопросам, запросил у Его Величества разрешения приехать в Петербург для конфиденциального ему доклада.
Я прибыл в столицу накануне назначенного мне приема в Царском Селе. Разумеется, я тотчас же явился к Фредерик-су и доложил о цели своего приезда. Тут же мы разговорились об общем положении. Министр сообщил мне о разрыве, происшедшем между Их Величествами и членами императорской фамилии после убийства Распутина. На мой вопрос, как он смотрит на создавшееся положение, граф ответил:
— По возвращении государя из ставки Его Величество, принимая меня с докладом, объявил мне, что уже все решил вместе с императрицею. Мне же он поручил только исполнить его повеление относительно командирования великого князя Дмитрия Павловича на персидский фронт, приказав до отъезда держать Его Высочество под домашним арестом. «Прочее уже сделано», — прибавил государь.
— Очевидно, — говорил мне Фредерикс, — государь, зная мое отношение к Распутину, не желал обсуждать со мною своих решений. Я до вчерашнего дня не видел Их Величеств. На моем докладе в Царском Селе императрица оставалась в кабинете государя. Я высказал Их Величествам, как мне горестно видеть вражду в царской семье, и указал на необходимость примирения. После долгого разговора сначала государь, а потом и императрица согласились, что надо так или иначе выйти из положения. Я тогда же высказал, что прежде всего следует государыне помириться с Марией Павловной, что весьма облегчит дальнейшее примирение. Императрица согласилась пойти на мировую с великою княгинею, если та сделает к этому первый шаг — признает, что они обе были неправы, и обещает Ее Величеству сплотить всю семью вокруг государя. В данное трудное время это совершенно необходимо.
Далее граф добавил:
— Императрица поручила мне поговорить с Марией Павловной как бы от себя, но не забывая, что она, государыня, согласна мириться лишь на указанных условиях. Великая княгиня ждет меня через полчаса. Но, раз вы здесь, я беру на себя ответственность послать вас вместо себя. Я чувствую себя сегодня так нехорошо, что не сумею быть убедительным.
Действительно, у графа был один из тех дней, когда ему был необходим отдых и когда с минуты на минуту можно было ожидать кровоизлияния в мозг. Не зная подробно ни положения, ни последних событий, я все же прямо от Фредерикса поехал к великой княгине. Я решил сказать, что нашел министра больным и, зная, что великая княгиня его ждет, приехал побеседовать с ней о положении дел и передать привет от королевы Марии и великой княгини Виктории Федоровны.
Мария Павловна приняла меня очень любезно и выразила удовольствие, что я уговорил графа не выезжать. Она сама боялась, как бы этот разговор не обострил его болезненного состояния. Наша беседа продолжалась более часа. Ее Высочество признала, что примирение с императрицей необходимо по соображениям как патриотическим, так и по династическим. Но когда я заикнулся, чтобы она сделала первый шаг, она наотрез отказалась и не пожелала больше говорить на эту тему. Перед моим уходом великая княгиня сказала мне все-таки, что если граф Фредерикс пригласит ее от имени императрицы приехать в Царское Село, она поедет.
Я доложил министру о результате моих переговоров. Было решено, что, как только Фредерикс почувствует себя лучше, он отправится к Марии Павловне и скажет ей, что, как он надеется, Александра Федоровна на днях пригласит ее в Царское Село к чаю. Однако, как я впоследствии узнал, приглашение это не состоялось.
ЧАСТЬ VI ОКРУЖЕНИЕ ЦАРЯ
НАЗНАЧЕНИЕ ГРАФА ФРЕДЕРИКСА15
Этот труд не посвящен политической истории России. Потому не буду касаться полностью вопроса отношения царя к министрам, то есть к людям, которые в первую очередь были ответственны за ведение политики.
Чтобы судить о делах государственных, император принимал доклады главных сановников империи. Но где черпал он необходимые данные, чтобы судить о личности самих министров? Говорили и неоднократно повторяли, что сведениями личного характера снабжало императора его окружение. Влияние этого окружения всегда преувеличивали. Постараюсь в этой главе охарактеризовать каждого из лиц, близких к Его Величеству.
Начну с графа Фредерикса, министра двора, Old Gentleman, как звала его царская чета, убежденная в преданности исполнителя деликатной, а порой и трудной задачи укрепления взаимоотношений государя с членами императорской фамилии.
Граф Фредерикс был потомком шведского офицера, плененного русскими войсками и поселенного в Архангельске. Один из предков министра был придворным банкиром Екатерины II и получил баронское достоинство. Отец графа был военным, участвовал во взятии Парижа, командовал 13-м Эриванским полком, а впоследствии состоял генерал-адъютантом при императоре Александре II.
Граф Владимир Борисович поступил юнкером в лейб-гвардии конный полк, равно как и граф Воронцов-Дашков. Они одновременно были произведены в офицеры. Во время службы своей в этом полку Фредерикс был пожалован флигель-адъютантом и затем более восьми лет командовал конною гвардией. Когда Воронцов был министром двора, Александр III приблизил к себе Фредерикса, назначив его сперва управляющим придворно-конюшенною частью, а затем помощником министра двора. В начале царствования Николая Александровича, в 1897 году, граф занял пост министра.
Причиною отставки Воронцова явилось следующее: граф Илларион Иванович, зная молодого государя с детских лет, относился к нему покровительственно, что Его Величество находил вполне естественным. В дневнике будущего царя не проходит записи, где бы имена Воронцовых не встречались либо в связи с каким-нибудь приемом у них, либо при упоминании ежедневных чаев на катке, в саду Аничкова дворца. Молодую императрицу этот тон шокировал. После коронации и Ходынки, за которую известные круги обвиняли министра двора, Воронцов стал просить государя освободить его от должности, но царь его удерживал. Велико же было удивление графа, когда однажды Его Величество принял отставку министра. При оставлении им должности Воронцову было предоставлено право пользоваться придворною каретою и ложею в императорских театрах. Позже, в 1905 году, он был назначен наместником на Кавказе.
Утверждение Фредерикса, состоявшего в течение года временно исполняющим обязанности министра, было для придворных кругов полною неожиданностью. У него не было ни больших связей, ни, казалось, нужного родства. Называлось много кандидатов. Придворный муравейник, как всегда в случаях назначения на высокую должность, от которой зависит карьера многих, зашевелился. Однако ни один из многих кандидатов, предлагавшихся и поддерживавшихся группами и партиями при дворе, чем-либо особенным не выдвинулся и лично государю близок не был. Император разрешил вопрос утверждением Фредерикса.
Как государь, так и царица привыкли к графу во время общения с ним, по-должному оценили его простоту, кристальную честность и умение исполнять их волю с большим тактом.
Новый министр был очень состоятелен, и это давало ему независимость, столь необходимую среди придворных влияний и интриг. Фредерикс по натуре любил порядок и прямо не выносил неосновательных трат. Благодаря этой аккуратности его часто упрекали в скупости, несмотря на его очень значительное богатство. Но это были несправедливые нарекания. Я был частым свидетелем его постоянных широких расходов. Он просто не любил давать себя эксплуатировать.
Как пример того, что он тратил деньги, где почитал нужным, и тратил широко, приведу следующее: вскоре по назначении графа командиром Конного полка ростовщик, часто снабжавший офицеров деньгами, просил о допущении его сына отслужить воинскую повинность в полку. Фредерикс согласился, но предупредил отца, чтобы вольноопределяющийся не рассчитывал быть офицером полка. Когда сын этого ростовщика Э. выдержал офицерский экзамен, отец обратился к командиру с просьбой о принятии сына в число офицеров. Фредерикс крайне деликатно разъяснил ему невозможность этого. Тогда Э. заявил, что на следующий же день опротестует векселя офицеров на сумму, если не ошибаюсь, в 79 000 рублей, довольно крупную по тому времени, и этим лицам придется покинуть полк.
Фредерикс показал Э. на дверь, но тут же собрал офицеров-должников и каждому вручил чек, покрывавший долг ростовщику. На другой день Э. был полностью удовлетворен, сын же его был произведен в офицеры в другом полку, кончил Академию Генерального штаба и впоследствии занимал крупную должность.
Состояние Фредерикса заключалось в больших домах близ Николаевского вокзала в Петербурге с тысячами мелких квартир, имении в Финляндии площадью чуть ли не в целый уезд и имении Сиверское по Балтийской железной дороге, где летом жила его семья и которое ему дохода не приносило, так как постоянно улучшалось. Кроме того, у него были значительные капиталы. Управлял он своим состоянием лично.
ПЕРВЫЙ ВИЗИТ К МИНИСТРУ
Помню, как сейчас, день, когда после моего назначения начальником канцелярии министерства двора в 1900 году я впервые явился к моему бывшему командиру полка, ныне моему министру, с докладом и после почти двадцатилетнего перерыва вновь увидел кабинет графа Фредерикса.
Петербург был единственною столицею конца XIX века, где еще имелись казармы в центре города. Три воинские части расположены были на самых людных и аристократических улицах: преображенцы рядом с запасными половинами Зимнего дворца с непосредственным ходом в него из казарм, конная гвардия и гвардейский экипаж в конце Большой Морской, у Поцелуева моста. Конногвардейские казармы занимали громадную площадь, представляя собой фундаментальную постройку с трех сторон огромного плаца, на котором производились учения и протекала вообще вся жизнь полка.
Как раз напротив, на Почтамтской улице, стоял небольшой красивый особняк, принадлежавший графу Фредериксу. Впоследствии дом этот приобрела своего рода знаменитость. Он был первым сожженным толпою в начальный день революции — это было первое насильственное уничтожение частной собственности.
Граф был очень привязан к своему дому и ни за что не хотел его покидать. Графиня как-то при мне говорила мужу, что неудобно министру двора не быть в состоянии сделать у себя за неимением подходящего зала большого приема, как то устраивают министры, живущие в казенных помещениях. Фредерикс возразил:
— Верно. Но зато тебе не придется переезжать, когда меня уволят с должности, и будешь по-прежнему принимать друзей в твоих пяти гостиных. Думаю, что спокойствие за будущее приятнее, чем возня с устройством больших приемов.
Он, как и все мы, не мог думать, что через десяток лет никто из всех нас не будет в состоянии считать себя обеспеченным.
Возвращаюсь к своему первому докладу: войдя в кабинет графа, я был удивлен отсутствием перемен. Нового я нашел лишь большую картину на стене, изображавшую полковой плац, видимый из окон этого кабинета, с выстроенным на нем полком, в конном строю, в кирасах и касках, а на первом плане — группу полкового начальства, пешком, беседующего с Фредериксом. Эта картина работы Самокиша была поднесена министру офицерами полка при сдаче такового новому командиру князю Барятинскому.
Как и прежде, кресло графа было у окна, в некотором отдалении от письменного стола. Тут же стоял столик и рядом — еще кресло для докладчика. Благодаря этому письменный стол оставался неизменно в педантичном порядке, со своими портретами высочайших особ и другими принадлежностями, большею частью подарками.
Я сел во второе кресло. Отныне я был «правою рукою» министра, подобно тому как он именовал «левою» графа Гейдена (начальника канцелярии императорской главной квартиры).
ДЕНЬ МИНИСТРА
Чтобы изобразить деятельность министра, опишу обыкновенное распределение его дня.
Начинался он с 10 часов утра моим докладом. Я вскрывал конверты, лежавшие на столике, — обыкновенно прошения о пособии, почему-то попавшие к министру. Фредерикс неизменно расспрашивал, почему такой-то или такая-то просит о помощи. Кончалось тем, что прошения эти передавались мне для обычного исполнения. Привожу это для того, чтобы подчеркнуть гуманную особенность Фредерикса, считавшего, что какие бы ни предстояли серьезные вопросы к разрешению, они не должны мешать ему уделять внимание и прошению неизвестной бедной вдовы, для которой выдача пособия важнее всех государственных вопросов.
Говорили не торопясь. Бывало, министр, весьма внимательно следящий за докладом, взглянув в окно на плац, восклицал:
— Смотрите, какой болван на третьей лошади с фланга. Так затягивает повод, что конь не понимает, чего же все-таки от него хочет всадник. А унтер-офицер что зевает… Однако вернемся к нашему делу; но не могу не делиться с вами впечатлениями, зная, как и для вас верховая езда близка к сердцу.
Такие отклонения бывали, впрочем, весьма редки. Обычно граф, закурив свою огромную утреннюю сигару, слушал с большим вниманием мое изложение, вникая во все подробности и высказывая всегда очень определенные решения. Конечно, главное внимание обращалось на всеподданнейшие доклады, которых бывало при каждом приеме министра у государя от 5 до 15. Фредерикc немедленно улавливал, что могло бы вызвать несогласие Его Величества по существу или по форме доклада. Впоследствии я так изучил царя, что мне почти никогда не приходилось переделывать проекты своих докладов.
ДЕНЬ МИНИСТРА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Вскоре после начала нашей совместной работы Фредерикc начал ставить меня в курс всего того, что говорилось во время его докладов государю. Министр скоро убедился в полной моей скромности относительно конфиденциальных вопросов. Касательно же себя, он соглашался, чтобы я ему не передавал доходивших до меня слухов.
— Я кристалл прозрачный, — пояснял граф, — все насквозь видно. Лучше не говорите мне того, что не надо передавать. Могу проболтаться. О делах же не проговорюсь.
И это было, действительно, так.
Помня еще Фредерикса полковым командиром, весьма вспыльчивым и часто резким, я был удивлен переменой его характера. Произошла она благодаря тому что министр делал разницу между средами придворною и полковою. Остерегаясь резких выражений и боясь их употреблять, Фредерикс старался, где только возможно, возлагать на меня обязанность передачи всяких замечаний и выговоров, оставляя за собою лишь похвалу.
По окончании доклада мы приступали к подписыванию бумаг. Граф смотрел на это как на священнодействие, фамилию подписывал стальным пером, а росчерк производил другим — гусиным16 и всегда возмущался своими коллегами, которые иногда так подмахивали бумаги, что прочесть имена их было невозможно. Фредерикс считал, что письмо или бумага, подписанная министром двора, обыкновенно должна быть четкою и красивою. В обычное время, к счастью, кроме контрассигновки подписей государя и его пометок, подписей министра бывало мало. В дни же пожалований, когда Фредериксу надо было подписывать до сотни писем, это являлось изрядным испытанием терпения докладчика.
Мои доклады кончались в первом часу. Фредерикc после завтрака с семьею в час дня совершал обязательную поездку к куаферу «Пьеру» на Большой Морской, где ежедневно брился. В случае недомогания, конечно, лейб-цирюльник призывался на дом, но министр этого очень не любил, так как поездка входила в программу дня. Во время путешествий граф отлично брился сам, но не любил в Петербурге отходить от своей старой привычки.
С 3 часов дня начинался у Фредерикса доклад начальников отдельных частей министерства двора и прием лиц, которым граф назначал аудиенции. Докладывали об этих лицах чиновники особых поручений моей канцелярии и причисленные к ней кандидаты на классную должность, которые по окончании приема, обычно в седьмом часу, телефонировали мне обо всем происходившем в течение дня у министра и о его приказаниях на следующий день. После этого, если не было спешных дел, Фредерикc обедал дома и затем проводил время в семье, которая большею частью собиралась с несколькими немногочисленными друзьями дома у графа в кабинете, или вся семья ехала в один из императорских театров, где против малой царской ложи была ложа министра двора.
Если бывали дела, волновавшие Фредерикса, он давал мне знать пред обедом, чтобы я приехал к нему в десятом часу вечера, когда порою засиживался до полуночи. В первые годы в начале одиннадцатого часа приносили в кабинет бутылку хорошего бордосского вина и сухари. Граф имел обыкновение опорожнять ее вдвоем с кем-нибудь. Впоследствии врачи воспротивились этому, и ко времени войны Фредериксу пришлось совсем отказаться от этого удовольствия.
Министр очень любил свой образ жизни и старался его по возможности не нарушать как во время путешествий, так и в летних резиденциях двора.
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ГОСУДАРЯ И ФРЕДЕРИКСА
Не могу не рассказать здесь об отношениях Их Величеств к министру.
Кроме своих двух докладов в неделю — одного по субботам утром и второго доклада по четвергам после завтрака, Фредерикс бывал во дворце очень часто. Когда Их Величества находились в Царском Селе, граф ездил к ним, помимо своих докладов, не менее двух раз в неделю: на прием или на парад какой-нибудь части, а иногда просто приглашенным на завтрак, что бывало большею частью, если императрица имела что-либо сообщить графу. Кроме того, министра звали на все интимные празднования, как-то: рождения или именины детей, елку конвоя и подобные торжества, официально не праздновавшиеся.
Но возвращении от Их Величеств Фредерикс немедленно требовал меня к себе, чтобы передать мне все последовавшие повеления государя. При этом было трогательно слышать искреннюю радость моего начальника, если он мог рассказать о какой-либо похвале или внимании к нему Их Величеств. Нужно сказать, что они на это не скупились.
Если бывало, что по нездоровью Фредерикс неделю не мог побывать в Царском Селе, царица присылала ему какую-нибудь безделушку своей работы с запискою и пожеланием здоровья от нее и государя. Никого они так не баловали, но я уверен, никто, как Фредерикс и его семья, так не ценили их внимание. Маленькие подарки и записки долгое время показывались друзьям дома с особою радостью и гордостью.
Государь особенно любил разговаривать с министром двора. Я полагаю, что это было единственное лицо всей ближайшей свиты, с кем Его Величество делился впечатлениями касательно своих отношений с великими князьями, а иногда и затруднениями с министрами. Граф имел особое чутье, как уладить то или иное недоразумение. Кроме того, когда император по природной своей застенчивости уклонялся сам от выражения кому-либо своего недовольства, то поручал это Фредериксу, который эту весьма неприятную задачу исполнял в смягченной форме.
Государь видел всегда в своем министре двора справедливого и благородного человека, каковым он и был, с ясными взглядами на события, бесконечно преданного и любящего. Я слыхал об этом неоднократно от третьих лиц, знавших это со слов самого государя. Сам же я убедился в том, что Фредерикс умел говорить правду Их Величествам, но умел ее облечь в такую форму, которая их не коробила, и вместе с тем избегал вмешиваться в вопросы других ведомств, если только государь этого от него категорически не требовал.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ МИНИСТРА ДВОРА
Фредерикс считал, что для блага монархического принципа России следует поддерживать наиболее дружеские отношения с Германией. Пруссия, по его мнению, была последним устоем принципа легитимизма в Европе: в этом плане она столь же нуждалась в нас, как и мы в ней. Граф допускал, что политика Бисмарка и особенно Вильгельма II, могла побудить нас искать сближения с Францией. Но и тогда он считал, что никакой союз с республиканскою Франциею не должен умалять династическую связь между Петербургом и Берлином.
— Ни Франция, ни даже Англия, — сказал он мне однажды, — не постоят за нашу династию. Они были бы слишком довольны переходу России к республиканскому строю, видя в этом ослабление ее мощи. Они знают судьбу Самсона, после того как Далила его остригла.
Когда Извольский, верный своей политике сближения с Англиею, стремился склонить Его Величество к посещению короля Эдуарда в Коуз, Фредерикс немедленно указал государю на опасность этого визита, который неминуемо вызовет недовольство кайзера и поведет к розни двух монархий, нежелательной для обеих династий. Когда эта поездка была окончательно решена, министр долго мне говорил о серьезных последствиях, могущих угрожать России; он считал Англию коварным союзником и не надеялся на хороший результат от этого сближения.17
— Я не профессиональный дипломат, — повторял граф. — У меня нет нужных данных, чтобы оспаривать аргументы Извольского. Да это и вне моей компетенции. Но как инстинкт, так и рассудок побуждают меня отнестись к этой поездке как к большой опасности. Извольский увлекается англоманиею. Когда меня более не будет в живых, вы увидите, что ваш старик был прав. У нас будет война, и в этой войне мы будем иметь Германию в рядах своих противников.
До последней минуты пред объявлением великой войны Фредерикс поддерживал всеми силами миролюбивые стремления государя по отношению к Германии. Как только военные действия начались, он подчинился воле царя и всецело был за доведение войны до победного конца.
ЕГО БОЛЕЗНЬ
Начиная с 1913 года Фредерикс стал страдать кровоизлияниями в мозг: временами он совершенно терял память, что длилось несколько минут, но после этого оставалось, если можно так выразиться, умственное недомогание, длившееся иногда несколько часов, иногда несколько дней. Люди, его не знавшие и встречавшиеся с ним в моменты таких местных поражений, конечно, составляли себе ложное представление о его умственных способностях.
Граф неоднократно просил Его Величество об увольнении от должности министра. Но царь не желал принять его отставку. Этому способствовало и то, что не находилось достойного заместителя. Император не раз говорил с самим министром по этому вопросу. Граф намечал в свои преемники князя Виктора Кочубея, начальника уделов, назначение которого и государь считал подходящим, но оно не могло состояться из-за категорического отказа князя принять эту должность.
Таким образом, престарелый министр, совершенно больной, был свидетелем катастрофического падения династии. Вот как рассказывал он мне о своей роли в трагические минуты отречения государя от престола:
— Вас не было. Орлов был уже на Кавказе. Воейков мне отчасти пояснил положение, но ясного представления о нем у меня не было. Да кто бы мог подумать, что отречение так отзовется на царе и на всем строе государства. Мне казалось, да и Его Величеству тоже, что императорской семье позволят поехать в Ливадию. Инстинктивно я был против всякого отречения. Я говорил государю, что и при отречении неминуемо такое же кровопролитие, как и при подавлении уже вспыхнувших беспорядков. Я умолял Его Величество не отрекаться. Он же верил, что этим облегчится ведение нами войны и будет предотвращено кровопролитие внутри страны.
Этот мой разговор с Фредериксом происходил в начале ноября 1917 года, как раз когда большевики овладели Зимним дворцом. Я, недолго спустя, бежал в Румынию. Граф же не согласился с семьею последовать моему примеру, что тогда было возможно, ожидая законного разрешения на выезд. Он оставался верным себе до конца, проведя с семьею несколько лет под постоянною большевистскою угрозою. Только незадолго перед смертью он получил разрешение на выезд вместе с дочерью в Финляндию, где и скончался. Графиня Ядвига Алоизиевна опередила мужа, и похоронена была в Ленинграде.
НАЧАЛЬНИК КАНЦЕЛЯРИИ
В марте 1900 года я принял от своего предшественника Рыдзевского канцелярию министерства двора. Смею уверить, что должность моя не была синекурою.
По вступлении в новое для меня дело я пережил немало затруднений с персоналом моей канцелярии. Большинство чиновников были сыновьями камердинеров великих князей, люди без высшего образования и нужного для службы воспитания, попавшие в министерство по протекции Их Высочеств, доставлявших тем удовольствие своим приближенным слугам. Благодаря высокому заступничеству молодые люди считали себя неуязвимыми со стороны своего начальства.
В начале моей службы они позволяли себе подсовывать мне к подписи бумаги, противоположные моим распоряжениям. Не обходилось и без злоупотреблений, в особенности при пожаловании звания «придворных поставщиков». Мне пришлось, когда я обнаружил это, хранить переписку по таким делам в письменном столе под ключом.
Постепенно мне удалось заменить этих старослужащих питомцами Александровского лицея и училища правоведения. Старых чиновников я постепенно распределил в такие управления, где они, по меньшей мере, вредить не могли. Смена эта не обошлась без недовольства покровителей. Но таких случаев оказалось меньше, чем я ожидал.
Помощником у меня был действительный статский советник Злобин, хорошо владевший пером и отличный музыкант. Он никак не мог помириться с тем, что я в полковничьем чине стал его начальником, когда он уже был штатским генералом со станиславскою лентою.
Однажды он читал мне ответ, составленный им на одну бумагу. Читал с большим пафосом. На мое замечание, что последняя фраза аннулирует весь смысл предшествующего, он, ничтоже сумняшеся, ответил:
— Да, но как она музыкальна!
При большой распорядительной работе, которую несла канцелярия, сам Злобин, увлекавшийся красноречием бумаг, с делом не справлялся, невзирая на все его другие достоинства. Я предложил дать Злобину повышение, назначив его управляющим капитула орденов. Там он был вполне на месте, считая свою должность имеющей высокое государственное значение. В капитуле орденов Злобин оставался до революции, получив все возможные русские знаки отличия. В эмиграции ему пришлось работать тапером и терпеть большую нужду. Скончался он в Берлине.
ПОСЕТИТЕЛИ
Министра двора постоянно осаждали разного рода просьбами и ходатайствами. Приемы посетителей его чрезвычайно утомляли, особенно потому что по своему добросердечию он боялся обещать нечто такое, что бы впоследствии могло оказаться невыполнимым. Щепетильного графа такие случаи очень тяготили. Он отдал распоряжение дежурным чиновникам никого к нему не пускать, а направлять всех к начальнику канцелярии. Последний, если считал нужным, просил о личном приеме у графа, предварительно посвятив его, конечно, в существо дела.
Большинство ходатайств сводилось к делам, законом не предусмотренным или даже стремящимся прямо его нарушить.18 Часто на мои заявления, что искомое противозаконно, я слышал в ответ:
— Конечно, если бы это было законно, мне бы незачем было беспокоить Его Величество.
Приемным днем была обыкновенно у меня суббота. Но высокопоставленных персон я принужден был принимать и в другие дни, и во всякие часы, что мешало нормальной работе и отнимало у меня массу времени. Такие просители никогда не ограничивались изложением дела, а вступали со мною в беседу, обмениваясь придворными и городскими новостями.
К числу высочайших особ, кроме членов Государственного совета, первых придворных чинов и т. п., безусловно причисляли себя… и члены императорского яхт-клуба.
Более почтенные по возрасту обыкновенно начинали с жалоб на свои физические недуги, настоятельно рекомендовали мне своего домашнего врача и придуманные ими средства против всяких болезней, которыми я, к счастью, не страдал. Прерывать эти излияния не приходилось. Опыт показал мне, что это только затягивает разговор и к тому же раздражает посетителя. Наконец вспомнив, о цели визита, сановник начинал расхваливать своего родственника, прося обратить на него внимание государя при ближайшем докладе списка кандидатов на придворные пожалования.
Такие же просьбы мне приходилось выслушивать и вне канцелярии, где бы я ни бывал: в клубах, в театрах, на балах…
Однажды после традиционного вторичного обеда в «Новом клубе» ко мне подсел начальник Главного тюремного управления Галкин-Врасский.
Без вступления он начал:
— Он очень красивый, страшно богатый, отлично воспитанный. Он в придворном мундире будет, действительно, украшением двора; это не то, что обезьяна, которую вы недавно пожаловали. Ему мундир пристал, как корове — седло.
— А как фамилия вашего протеже?
Галкин велел позвать маркера.
— Послушай, как фамилия красивого молодого человека, который мне проиграл три партии?
— Князь Карагеоргиевич, Ваше высокопревосходительство.
— Да нет же, Карагеоргиевича я хорошо знаю: он у меня выигрывает. А вот другого, как зовут его…
Я предложил почтенному Галкину сообщить мне фамилию письмом.
На этом дело и кончилось.
КОРОНА КНЯГИНИ ГРУЗИНСКОЙ
Я даже подносил короны.
Светлейшая княгиня Грузинская, в девичестве Безобразова, была супругою корнета конвоя Его Величества. Придавая большее значение роду своего мужа, чем это соответствовало современной действительности, она начала свою осаду министерского двора, обременяя церемониальную часть спорами о том, где полагается ей стоять на выходах. Княгиня была убеждена, что ей, супруге потомка грузинских царей, полагается быть между членами императорской фамилии.
Постоянные пререкания об этом мне настолько надоели, что я дал себе труд и раскопал постановление, еще в царствование Николая Павловича изданное, что все потомки владетельных кавказских семей в третьем колене занимают место по рангу в русской службе.
Супруг — корнет…
Когда княгиня ожидала второго ребенка, она явилась ко мне с просьбой, чтобы Его Величество согласился стать восприемником. Я доложил министру, граф — государю. Последний согласился. Император вообще в таких просьбах чрезвычайно редко отказывал, считая поощрение чадолюбия своим долгом.
Семье, в которой царь был восприемником, помимо чести представлялись еще и те выгоды, что мать получала довольно ценный подарок, а крестник воспитывался и получал образование на казенный счет, мог рассчитывать на службу по министерству двора и при нужде — на помощь из комнатных сумм.19
Княгиня довольно часто прибегала к этой возможности, жалуясь на то, что ей «нечего есть».
Как я сказал, княгине полагался подарок. Я позвонил в камерную часть и предупредил ее начальника, чтобы он выдал Грузинской вещь по ее вкусу или взамен на сумму в 600 рублей. Можно было эту сумму немного и повысить. (Ценность подарка зависела от ранга одариваемого).
Княгиня, явившись к Новосельскому, предпочла не денежную выдачу, а высказала пожелание иметь диадему. Начальник камерной части пытался объяснить, что нельзя сделать диадему за 600 рублей, но княгиня настаивала, прося украсить ее хотя бы уральскими камнями. Новосельский позвонил мне по телефону.
— Сделайте ей диадему на сумму до тысячи рублей, — распорядился я.
Через несколько времени германский посол граф Пурталес давал бал. Княгиня позвонила ему по телефону и заявила, что она владельная особа, которой государь поднес даже корону, и потребовала себе приглашение. Смущенный граф с извинениями прислал ей таковое. Тогда Грузинская обратилась в конюшенную часть с просьбою дать ей придворную карету для поездки на этот бал. Конечно, ей было отказано. Она вновь позвонила Пурталесу и попросила прислать за нею автомобиль. Посол, не понимая, с кем имеет дело, позвонил Гендрикову, и история выплыла наружу.
Шуму она наделала чрезвычайного. Государь позвал Фредерикса и потребовал объяснений. Мне пришлось сфотографировать несчастную диадему и послать длиннейший всеподданнейший доклад о том, как все это случилось. Княгиня стала притчею во языцех. Но и после этого случая она не переставала удостаивать своими посещениями канцелярию и часто создавала мне хлопоты и неприятности.
ВОВСЕ НЕ СИНЕКУРА
Читатель может из вышесказанного судить о том, что моя должность не была синекурою. Каждое утро, а зачастую и вечером я бывал у министра. Прием просителей отнимал добрую часть дня. Доклады делопроизводителей начинались с утра, до моего доклада графу, возобновлялись после моего возвращения от министра, когда я сдавал резолюции Фредерикса для исполнения в канцелярию, и повторялись еще раз днем, между приемом многих начальников подведомственных министерству установлений. Вечера я посвящал своей личной работе над самыми серьезными делами и чтением всего материала, посылаемого министру по званию его как члена Государственного совета и Совета министров (дабы держать графа постоянно в курсе дел, о которых иногда заговаривал с ним государь). Ровно 2 часа в день занимали у меня вечером подписи, рассмотрение входящих бумаг и распределение их для исполнения.
Добавлю, что в случае посещения театральных представлений Их Величествами мне приходилось по должности присутствовать в зале, — долг легкий, но все же отнимающий много времени.
Я не скоро познакомился со всеми тонкостями своей должности. Первым моим учителем был мой предшественник Рыдзевский, обучавший меня в течение нескольких месяцев. Но и после него возникали вопросы, требовавшие знания прецедентов нашего двора, не всем известных.
Даю пример традиции, о которой, впрочем, я был извещен заблаговременно.
4 июня 1901 года государь дал знать Фредериксу, жившему в Петергофе, что к ночи или к следующему утру ожидается разрешение императрицы от бремени. Министр, в свою очередь, вызвал меня к вечеру в Александрию с указанием иметь при себе манифесты о рождении нового члена императорской фамилии.
Эти манифесты составлялись в пяти экземплярах: один — по случаю рождения сына, другой — дочери, затем — на случай рождения двойни — для двух сыновей, для двух дочерей, и, наконец, для сына и дочери, хотя случая рождения двойни в какой-либо владетельной семье я не упомню.
Я выехал с вечерним поездом и прибыл прямо в Александрию, где нашел в приемной дворца графа. После нескольких часов ожидания император прислал за Фредериксом.
По закону министр двора должен присутствовать при рождении царских детей, но это, конечно, в точности не исполнялось. Министр ожидал в одной из комнат недалеко от опочивальни императрицы, где государь показывал ему новорожденного.
После долгих часов Фредерикс послал ко мне за манифестом о рождении дочери. Вскоре после того он вернулся с подписанным государем манифестом, в котором собственною Его Величества рукою было внесено имя Анастасия.
НАЗНАЧЕНИЕ В РУМЫНИЮ
Ушел я в Румынию не по своему желанию и не по желанию графа, который был недоволен этим моим назначением. Государь в утешение ему приписал в указе Сенату: «С оставлением начальником канцелярии».
Я смотрел на это назначение как на указание судьбы и сам не противился этому. При усилении болезни Фредерикса мне де-факто приходилось управлять министерством, не имея на то законных полномочий. Я справлялся со своей задачей, опираясь на годами приобретенный авторитет, который, однако, при долговременном недомогании моего начальника и с назначением Воейкова дворцовым комендантом начал умаляться.
В декабре 1916 года я приехал из Румынии и имел разговор с императрицею, вызвавший во мне раздумье и сомнение, не должен ли я остаться в Петрограде. Ее Величество правильно сказала мне:
— Критикуют все, на помощь никто не решается.
Я тогда же думал о том, что мне делать. Тошнило при мысли опуститься в грязный омут распутинского управления. Думалось, что только замараюсь и не помогу. Я чувствовал, что бессилен помочь и графу. Болезнь ощутительно сократила его волю, и он поддался самым разнообразным влияниям. Простое и здоровое чувство самосохранения говорило мне: «Беги от того, чему помочь не можешь».
И я бежал в Яссы.
БЛИЖАЙШАЯ СВИТА
Ближайшая свита государя состояла из лиц, занимавших небольшое, определенное число должностей.
В первую очередь помяну гофмаршала графа П. К. Бенкендорфа, возведенного в конце царствования в обер-гофмаршалы. Службу он начал в Конном полку. Александром III был взят в ближайшую свиту во время коронации и еще совсем молодым был назначен исправлять должность гофмаршала. Его управление длилось в течение двух царствований.
Человек умный, всесторонне образованный, весьма хладнокровный, он исполнял свое нелегкое дело незаметно для посторонних, но всегда с ровною добросовестностью. Граф держался определенных принципов и имел большой и заслуженный вес в министерстве двора. Политикою не занимался и о ней никогда не говорил.
Церемониальная часть, хотя Бенкендорфу не подчиненная, всегда советовалась с ним. Он был в мое время арбитром всех вопросов, касавшихся традиций русского двора. Государь и императрица относились к нему с большим доверием и дружбою. Все бывшие в России высочайшие особы и главы государств хорошо знали и ценили нашего гофмаршала.
Бенкендорф не последовал за государем в изгнание, как этого хотел, лишь по совершенно расстроенному здоровью. Большевики его долго не выпускали из России, а когда наконец выпустили, то граф только успел переехать границу, как скончался от разрыва сердца.
Его преемник по должности и пасынок князь Василий Долгоруков, тоже конногвардеец, был еще слишком молод, чтобы стать советником Его Величества во время пребывания в ставке, где он заведовал гофмаршальскою частью. Вернувшись с императором в Царское Село, он с ним же последовал в изгнание, где был убит большевиками.
Перейдем к дворцовому коменданту, ведавшему личною безопасностью государя. Их сменилось много за мое время. После Гессе был Д. Ф. Трепов, о котором я говорил в главах, описывавших двор в 1905–1906 годах. Предпоследним комендантом был генерал-адъютант Дедюлин, который во время пребывания Их Величеств в Ливадии, как помнится, в 1912 году, совершенно неожиданно заболел и через 10 дней скончался.
Пред его смертью явился вопрос, кем его заменить. Когда Фредерикс спросил об этом государя, то Его Величество ответил, что ничего еще не решил, но что у Александры Федоровны, кажется, уже имеется свой кандидат.
Чуть ли не за день до смерти Дедюлина появился в Ялте Воейков с женою, дочерью графа Фредерикса. Он пояснил, что приехал с докладом по вопросу о физическом воспитании юношества, которым усердно занимался еще в бытность командиром гусарского полка.
Зная близость Вырубовой с Воейковым, я понял причину его приезда. И действительно, чуть ли не в день похорон Дедюлина царица заговорила с Фредериксом о его зяте.
Министр не скрыл от императрицы, что не сочувствует этому назначению, так как характеры его и Воейкова настолько разнятся, что вряд ли совместная служба даст хорошие результаты. Прошло несколько дней, и назначение состоялось.
Генерал Воейков — человек, безусловно, талантливый, не лишен светской любезности и юмора, равно как и придворной ловкости. Сперва мне казалось, что я с ним на служебной почве, как с человеком умным, сойдусь. Но вышло не так. Он как-то в самом начале дал Фредериксу во всеподданнейший доклад какое-то совершенно неисполнимое прошение. Министр вернулся от государя совершенно сконфуженным. С этого дня граф не ставил резолюций на докладах Воейкова, не показав их мне. Хотя это держалось в секрете. Воейков в конце концов все же об этом узнал, и, конечно, это не послужило облегчению нашей совместной работы при дворе.
В момент отречения вследствие несчастного стечения обстоятельств Воейков оказался во главе крайне немногочисленной свиты, состоявшей из Нилова, Долгорукова, Граббе, Нарышкина, Мордвинова, Лейхтенбергского и Федорова (Фредерикс сопровождал государя в поезде, но был уже весьма слаб и болен). Я дальше указываю, как мало эти лица могли являться советниками царя. Поскольку это касается ближайшей свиты, Воейков как старший после министра двора и самый приближенный к императору человек несет главную ответственность за последние дни пребывания в Могилеве, за запоздалый отъезд государя и дни нахождения Его Величества в пути.
О флаг-капитане адмирале Нилове, сопровождавшем царя во всех его резиденциях и путешествиях, мало что можно сказать. Адмирал был выдвинут на занимаемую им должность благодаря своей долгой службе в качестве адъютанта при великом князе Алексее Александровиче. Его пристрастие к спиртным напиткам не делало из него продуктивного работника. Нилов был очень предан царю и покинул ставку Его Величества после отречения лишь по прямому приказанию государя.
Начальниками канцелярии главной квартиры (ведавшей военною свитою Николая II) были последовательно: граф Гейден, князь Владимир Орлов20 и генерал Нарышкин. Первый из них — друг детства Его Величества, был особенно доверенным лицом государя, но пожертвовал всем этим своему увлечению фрейлиной Олениной — первою женою, детьми и должностью.
Бывший конногвардеец, чрезвычайно состоятельный, князь Владимир Орлов скоро стал одним из ближайших к Их Величествам лиц. Культурный, любивший острое словечко князь имел большой и заслуженный вес. Он стремился уберечь Россию от надвигавшейся катастрофы, которую предвидел и признаки которой умел оценить. Без всякой заботы о личной карьере он был одинаково предан царю и идее монархизма в лучшем и наиболее возвышенном смысле. Состоя в переписке с видными политическими деятелями, он был хорошо осведомлен об окружающей его действительности и один из всей свиты был политически зрелым человеком. К его несчастью, окружение государыни было ему явно несимпатично, он не скрывал своего отношения к распутинскому штату, и императрице об этом доносили.
Я рассказал, говоря о «старце Григории», каким образом придворная карьера Орлова была разбита. Государю пришлось настоять на исполнении желания императрицы более не видеть князя в своей близости.
Орлова заменил уже во время войны Нарышкин, сын обер-гофмейстерины. Он, как и прочие лица свиты, кроме князя Долгорукова, после отречения сопровождал государя до Царского Села, а затем уехал в Петроград и во дворец больше не возвращался.
Причислены были к канцелярии главной квартиры в разное время Дрентельн, Саблин и граф Александр Ил. Воронцов-Дашков. Они чаще других сопровождали царя в его путешествиях.
Дрентельн был умным честным человеком, широко культурным и с большим характером. Я видел в нем лицо, наиболее подходящее для ближайшего окружения царя. Тактичный и обходительный царедворец (в лучшем смысле), он, думается мне, был единственным близким, к которому государь был более других привязан, не считая, понятно, Фредерикса. Беседы с ним были царю по душе. После инцидента с Орловым положение Дрентельна поколебалось. Случай с Джунковским окончательно подорвал его авторитет. Товарищ Дрентельна по полку щеф жандармов генерал Джунковский решился довести в личном разговоре с государем истину о Распутине. Вскоре после доклада генерала в ставке его уволили от должности.
Дрентельн, весьма дружный с Джунковским, вскоре после того получил в командование Преображенский полк. Это было повышение по службе, но удаление из ближайшей свиты.
Капитан Саблин, прошедший свою морскую карьеру на «Штандарте», был обязан своим приближением желанию государыни благодаря создавшейся во время плавания интимности с царскою четою, но политической роли не играл. Мордвинов, бывший адъютант великого князя Михаила Александровича, пробыл при государе недолго и роли не играл, хотя император любил с ним беседовать, равно как с графом Воронцовым-Дашковым, ближайшим ко двору по бывшему положению отца. Как граф, так и герцог Николай Лейхтенбергский, состоявший дежурным флигель-адъютантом во время отречения, никакого политического значения не имели.
Отмечу для полноты начальника конвоя Его Величества графа Александра Граббе. По словам бывших в роковые дни при государе, он не сумел внушить своим солдатам нужной верности монарху и сам не оказался на должной высоте в тяжелое время.
Врачами состояли сперва Гирш, потом Боткин и Федоров.
Боткин был известен своею сдержанностью. Никому из свиты никогда не удалось узнать от него, чем была больна государыня и какому лечению следуют царица и наследник. Он был, безусловно, преданный Их Величествам слуга, сопровождал их в Екатеринбург и там погиб вместе с царскою семьею.
Федоров, очень умный человек, был взят ко двору главным образом ради здоровья цесаревича. Он последовал за государем в ставку и пользовался в глазах Его Величества безусловным весом. На основании его диагноза император, сперва отрекшийся в пользу сына, переменил свое решение в пользу брата Михаила Александровича: Федоров уверил государя, что Алексей Николаевич останется инвалидом на всю жизнь.
Указанными лицами ограничивается мужской персонал ближайшей свиты.
Флигель-адъютанты в числе многих десятков к концу царствования дежурили посменно 24 часа. Им бы и в голову не пришло докладывать Его Величеству о чем-либо выходившем за пределы их дневных обязанностей. Впрочем, Фредерикс крайне ревностно и зорко следил, чтобы такие нарушения не могли иметь место. Да и всем нам было хорошо известно, что государь терпеть не мог, чтобы его слуги касались каких-либо вопросов вне круга своей компетенции.
Начальники уделов, обер-церемониймейстеры, управляющий собственной Его Величества библиотекой и директора императорских театров и Эрмитажа имели право личного доклада у Его Величества.
Добавлю несколько слов об окружении государя в ставке во время взятия им верховного командования. Люди, бывшие там в течение долгих месяцев, уверяли меня, что окружение царя производило впечатление тусклости, безволия, апатичности и предрешенной примиренности с возможными катастрофами. Злой рок как будто преследовал все новые назначения. Честные люди уходили, их заменяли эгоисты, ранее всего думавшие о собственном интересе. Ни один из них не мог быть полезным и беспристрастным советником царя.
Пропасть, отделявшая государя от страны, все росла. Министры приезжали редко, а приехав, тянули каждый в свою сторону. Единство действий и цели отсутствовало.
Николай II видел лишь то, что ему позволяла видеть в своей переписке государыня. Письма эти при всей своей страстности и искренности грешили исключительною односторонностью.
Средостение, о котором буду сейчас говорить, все росло, совсем отделило царя от народа и держало его еще до отречения в духовном заточении, в одиночестве — без проблеска правды, без возможности встретиться с действительностью.
Приведу здесь единственную во всех своих записках цитату из мемуаров графа Бенкендорфа, появившихся в 1928 году в «Revue de Deux Mondes» (c.537, 21 марта 1917 года):
«Отныне начинается наше заточение в Александровском дворце. Вот наш состав: г-жа Нарышкина, моя жена, баронесса Буксгевден, графиня Гендрикова, доктор Боткин и Деревенько, граф Апраксин (покинувший нас через неделю), наконец, я. На следующий день прибыл в императорском поезде мой пасынок князь Долгоруков. Мы ожидали также генерала Нарышкина, начальника канцелярии главной квартиры Его Величества, генерала графа Граббе, начальника конвоя, и полковника Мордвинова, флигель-адъютанта Его Величества. Они не появились. Жили еще во дворце г-жа Вырубова, больная, и г-жа Ден, но отдельно от нас».
Всего — шесть женщин и пятеро мужчин, из которых один выбыл 25 марта…
Из вышесказанного следует, что ближайшая свита не могла иметь политического воздействия на царя. Состояла она из специалистов своего дела, не выходивших из рамок своих задач.
Главною заботою этих лиц было удержаться среди разнообразных и порою противоречивых влияний. Лучшим для этого средством было придерживаться узкой сферы своих функций, не проявлять излишнего стороннего усердия, а главное, не вмешиваться в политическую деятельность. «Никаких историй», «спокойно на своем месте», «не возлагать на себя ответственности, от которой можно уклониться», — таковы были эти лозунги.
Впрочем, никто из ближайшей свиты и не был подготовлен к политической деятельности. Многие ее видные члены были обязаны своим положением предварительной службе в Конном полку. Граф Фредерикс, сам бывший офицер и один из наиболее блестящих его командиров, считал естественным искать подходящих кандидатов среди конногвардейцев — этой большой, но тесной семьи, к которой он сам принадлежал и которая давала все необходимые гарантии сдержанности, такта и совершенного воспитания. Между всеми носителями — бывшими и настоящими — белого с золотым прибором мундира существовала тесная солидарность.
Но, естественно, большинство бывших офицеров, привлекаемых в ближайшую свиту, не имели нужной подготовки для широкой государственной деятельности. Принадлежа к русской знати, то есть к категории лиц, естественно, стоящих в некотором отдалении от другого класса общества, люди эти поступали в придворное ведомство в большинстве случаев с образованием Пажеского корпуса или службы в элегантном и светском полку. Бывали и офицеры глубоко образованные, но большинству недоставало того тренинга, через который необходимо так или иначе пройти, чтобы успешно заниматься государственным делом. Да их и брали в придворное ведомство не для решения государственных задач, а лишь для исполнения административных специальностей.
СРЕДОСТЕНИЕ
Ближайшая свита не могла быть полезна императору ни мыслями, ни сведениями относительно внутренней жизни страны вне круга идей, которые Его Величество черпал из докладов своих министров. Но самодержец не в состоянии исполнить свои единодержавные функции без возможности личной оценки, собственного контроля и верховного наблюдения. Нельзя быть единоличным властителем страны и не получать сведений из посторонних источников, кроме административных.
Мы подходим к проблеме, доведшей вследствие невозможности ее разрешения до катастрофического конца, — к вопросу о средостении. За все время царствования средостение это служило главным объектом всех крупных политических обсуждений.
Оно мне представляется так: наверху пирамиды стоит государь, внизу — бесформенная, но деятельная масса народа. Для полного счастия и спокойствия страны достаточно непосредственных отношений между монархом и его подданными.
Царь любит народ. Он — вне сословий, политических партий и личных соревнований. Он желает блага народу. Он располагает почти неограниченными возможностями для выполнения этого желания. Себе — ему ничего не нужно: все его стремления идут к Богом переданной ему на попечение стране. Что может препятствовать его благодеяниям? Нужно лишь одно условие — точно знать, что народу необходимо.
И подданные любят своего государя: он является источником всех благ и надежд. Не все счастливы: средства державы ограниченны, и не всем дано быть богатыми. Но всех равно утешает мысль, что царь печется о своем народе всем сердцем, желая каждому — и бедному, и богатому — получить свою долю счастия. Мысль быть предметом постоянного попечения почти всемогущего существа не является ли самою большою утехою в жизни?
Повторяю, для верности этой картины необходимо одно условие: царь должен быть хорошо осведомленным.
Где же найти эту осведомленность, без которой самодержавие не в состоянии правильно функционировать?
Бюрократия, включая министров, представляет одну из преград, отделяющих государя от народа. Бюрократия — каста, имеющая свои собственные интересы, далеко не всегда совпадающие с интересами страны и ее государя. Нельзя обойтись без чиновников в стране с 150 миллионами населения, простирающейся от Варшавы до Аляски. Необходимы слуги как для контроля, так и для исполнения. Но они же клонят заменить волю царя своим влиянием. Не раз случалось, что министр представлял общественности строгость закона как последствие царских непреклонных требований, а милость — как плод министерского воздействия на государя. Зачастую было не в интересах бюрократии осведомлять императора о действительности.
Другая преграда — так называемая интеллигенция, люди, не достигшие власти, но чающие ее захвата. Для этой категории лиц прямой исход — революция.
Средостение — это бюрократия и интеллигенция, другими словами — люди, достигнувшие целей и стремившиеся их сменить. Это два врага, солидарные в стремлении умалить престиж царя. Эти две силы построили вокруг царя истинную стену, настоящую тюрьму. Стена эта, препятствовала императору обратиться непосредственно к своему народу, сказать ему как равный равному, сколь он его любит. Та же стена мешала искренним верноподанным государя (включая и молодежь, которую пропаганда еще не успела развратить) сказать царю, сколько есть им подобных, простых, благодарных и привязанных к нему людей.
Крестьянские массы любят императора. Его любит армия. Горожане толпятся по его пути и приветствуют восторженными криками. Весь народ верит в него. Чувства эти стали бы беспредельными, если бы не средостение, мешающее Его Величеству полностью осуществлять свой долг.
Мне казалось, что Николай II верил до конца царствования, что ему удалось сломить эту стену. 14 февраля 1917 года, всего за две недели до отречения, государь после моего доклада вел со мной следующий разговор.
Император обсуждал общее положение дел в России и на фронте. У меня вырвалась неосторожная фраза:
— Да, Ваше Величество, это будет и в династическом отношении удачная мера.
Царь, всегда такой сдержанный, ответил довольно резко, видимо взволнованный:
— Как! И вы, Мосолов, говорите мне о династической опасности, о которой мне в эти дни протрубили уши?! Неужели и вы, бывший со мною во время моих объездов войск и видевший, как солдаты и народ меня принимают, тоже трусите?
— Точно так. Теперь я видел войска вне присутствия Вашего Величества, и это именно заставило меня сказать Вам, государь, те слова, за которые Вы изволили разгневаться.
Император, очевидно овладев собою, ответил мне, уже опять с доброй улыбкою:
— Я на вас вовсе не рассердился, напротив… Идемте завтракать: императрица, наверное, уже вышла в столовую.
Убежден ли был все еще государь в верности своих войск и в любви своего народа или чутким умом сознавал положение и только не допускал мысли этой у окружающих его? Не берусь дать ответ, но склонюсь скорее к тому, что царь до последней минуты не считал возможной и не хотел признавать опасности, которая ему уже тогда угрожала.
ПРОСЛАВЛЕНИЕ МОЩЕЙ ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА САРОВСКОГО
Вопрос о том, как обойти средостение, постоянно занимал мысль царя. Желание войти в непосредственную близость с народом помимо посредников подтолкнуло государя на решение присутствовать на Саровских торжествах. Туда собирался со всей России боголюбивый православный народ.
Другие способы информации менее улыбались императору вследствиеего недоверчивого характера. Он сомневался в словах неизвестно при каких обстоятельствах избранных депутатов, к тому же большей частью не принадлежащих к народной массе. О делегациях разных национальных организаций говорю ниже, так же как и о влиянии случайных людей, из слов которых Его Величество мог узнать мысли и чаяния своих подданных.
Однако главную надежду на сближение с массами государь, безусловно, возлагал на непосредственную встречу с ними, будь то в войсках или среди крестьянства. Мне пришлось быть свидетелем одной из самых важных попыток последнего. Ее вызвали торжества прославления мощей преподобного Серафима.
В САРОВ
Уже давно в Петербурге ходили слухи, что в Святейшем синоде возникли пререкания о причислении Серафима к лику святых, что все Величества очень интересуются этим вопросом и что государь лично следит за дебатами архиереев.
Меня этот вопрос очень интересовал. Причиной тому было знакомство со старцем любимой моей тетки К. Ф. Мосоловой, жившей в Москве. При жизни преподобного Серафима она ездила к нему в Саров, в ее доме его уже давно почитали за святого, и с детства я слышал рассказы о нем. Тетка моя возила в Саров художника, который написал масляными красками портрет отца Серафима, возвращающегося из леса с нарубленными им дровами. Эта картина досталась мне впоследствии по наследству и долгие годы висела над киотом в моей комнате.
Как-то я гостил в Москве у тетки. Она болела и лечилась водою Вревского, которой в то время приписывали чудотворное действие. С человеком, лечившим ее этою водою, она хотела непременно меня познакомить. Каково же было мое изумление, когда в этом человеке я узнал своего товарища по выпуску в офицеры Чичагова. Носил он какое-то фантастическое одеяние — черную венгерку со шнурами. Увидев меня, он немного смутился, но и обрадовался. Оказалось, что кроме лечения он часами слушает рассказы моей тетки о чудесах Саровского старца.
Прошли годы, и я снова был в Москве, сопровождая государя. Удивился несказанно, когда один из иеромонахов подошел ко мне и заговорил на «ты». Это и был Серафим Чичагов. Затем он часто стал посещать меня в Петербурге, и я от него слыхал все подробности канонизации старца Серафима, в которой, по его словам, он сам сыграл немалую роль.
Наконец Синод признал старца достойным сопричисления к лику святых, не без некоторого, впрочем, давления со стороны государя. Это решение было принято с большим сочувствием в народе, несмотря на скорее скептическое отношение со стороны общества.
Канонизация была назначена на средину июля 1903 года, и Их Величества решили к этому дню прибыть в Саров. Из придворных особенно интересовалась поездкой княжна Орбелиани, надеявшаяся на исцеление от прогрессивного паралича купанием в источнике у скита чудотворца. Начальник Царскосельского дворцового управления князь Михаил Путятин, любивший и изучавший, как оказалось, церковную археологию, показал государю сделанный под его руководством рисунок для раки нового святого. Ему было поручено заказать раку на царский счет. Князь вместе с архимандритом Серафимом был командирован в Саров для установления порядка торжеств и высочайшего пребывания в монастыре. Это явилось для Путятина предлогом частых личных докладов Их Величествам. Должен сказать, к его чести, что он лично не воспользовался этим приближением, оставшись на своем скромном посту и работая не покладая рук из искренней преданности своим царю и царице.
Из Петергофа Их Величества со свитою, обычно сопутствовавшею им в Крым, выехали в царском поезде 15 июля и прибыли к 17-му утром на особо для них устроенную платформу близ города Арзамаса Нижегородской губернии. Там ждали их экипажи, запряженные четверками, в которых бесконечно длинною вереницею мы и тронулись по почтовой дороге. Этот способ передвижения показался императрице и фрейлинам особо занимательным. На полдороге, у границы Тамбовской губернии, была возведена громадная арка. Там встречал Их Величества местный губернатор В. Ф. фон дер Лауниц (впоследствии убитый в Петербурге на посту градоначальника) вместе с предводителем дворянства и депутациями. По всей дороге, и особенно начиная от границы новой губернии, на десятки верст тянулись огромные вереницы народа. Говорили, что помимо окрестных жителей со всех концов России прибыло в Саров до 150 тысяч человек. Они разместились в построенных для них бараках, а когда не хватило места, то столько же людей расположились лагерем под открытым небом на лугах.
Было отрадно видеть эту массу крестьян в деревенских нарядах, с бесхитростным восторгом встречавших своего «царя-батюшку». Остановок для принятия хлеба-соли было немало. Император, довольный зрелищем своего, по-видимому, счастливого, его приветствующего народа, все время отрывисто, всегда удачно отвечал на возгласы толпы. Сама государыня, обычно холодная, тоже, видимо, старалась выказывать толпе свое расположение. Царь был убежден, что народ его искренне любит, а что вся крамола — наносное явление, явившееся следствием пропаганды властолюбивой интеллигенции. Именно после Сарова все чаще в нередких разговорах слышалось из уст государя слово «царь» и непосредственно за ним «народ». Средостение император ощущал, но в душе отрицал его. Взгляд на подданных как на подрастающих юношей все больше укоренялся в Его Величестве. Государь страшился дать народу самостоятельность раньше полного его развития, веря, что это единственный способ спасти массу от пагубных увлечений.
Если спросят, высказывал ли царь свои взгляды, скажу положительно — нет. Ни мне, ни кому другому государь не говорил о своих впечатлениях с полною откровенностью. Но я не выдумываю то, что пишу. В окружении государя все его слова, даже отрывочные мысли пересказывались. Из синтеза всего за много лет слышанного у меня понемногу и вырастала картина его нравственного и умственного облика. И тут, как и во всех частях моих воспоминаний, я беру на себя смелость выделять и описывать те черты, которые мне выяснились во время моего долголетнего пребывания при дворе. Если при этом допущены ошибки, то могу лишь заверить, что они невольны.
Прибытие в Саров было удивительно торжественно. Колокольный звон, множество духовенства в блестящих облачениях, вокруг государя — толпы народа, напряженно безмолвствующего и прислушивающегося к словам царя и церковных иерархов. Последние лучи заходящего солнца, освещающего древнюю обитель, вечерня с дивным синодальным хором. Эти впечатления предшествовали моей вечерней молитве в отведенной мне узкой келье.
Не буду перечислять всех бесконечно длившихся служб. Сам обряд прославления тянулся четыре с половиною часа. Удивительно, что никто не жаловался на усталость: даже императрица почти всю службу простояла, лишь изредка садясь. Обносили раку с мощами уже канонизированного Серафима три раза вокруг собора. Государь не сменялся, остальные несли по очереди. Двор в обители жил отрезанным от остального мира. Только мне пришлось получить довольно увесистую почту, но, к счастью, там не оказалось ничего, требующего спешных докладов.
После канонизации княжну Орбелиани отвезли в чудодейственную купальню. В это время, сколько мне помнится, она уже лишилась способности ходить. Мне рассказывала ее подруга о трогательной сцене, когда государыня ее благословляла пред поездкою, на которую обе возлагали такую надежду, но которая, увы, не излечила княжну от ужасного недуга.
В день нашего отъезда Их Величества посетили скит святого и находящуюся близ него купальню, расположенные в полутора верстах от монастыря. Государь и вся свита шли пешком, только царица ехала в небольшой коляске вместе с княжной Орбелиани. Туда было проведено широкое шоссе, но немало забот было у Лауница, получившего указание Его Величества не мешать народу находиться на царском пути. Организовать это было нелегко, так как шоссе шло вдоль речки Саровки, куда круто спускалась гора, на которой высился монастырь. Были вызваны войска, сдерживавшие толпу в 150 тысяч человек, заполнившую весь спуск от обители до дороги. Солдаты держали друг друга за руки, чтобы оставить свободный проход для государя и духовной процессии.
В купальне был отслужен молебен, после которого царь со свитою, но без духовенства, отправился обратно в монастырь. Из монастыря был устроен дощатый спуск, местами на довольно высоких козлах, ведущий напрямик до шоссе, приблизительно на полдороге до скита. Повторяю, что гора была сплошь покрыта народом.
Лауниц и я шли в середине свиты, за императором. Губернатор высказывал опасение, что толпа, желающая ближе видеть царя, прорвет тонкую цепь солдат и наводнит шоссе. В это время, не предупредив никого, государь свернул круто направо, прошел через цепь солдат и направился в гору. Очевидно, он хотел вернуться по дощатой дорожке и дать таким образом большему количеству народа видеть себя вблизи. Я крикнул Лауницу: «За мною!», и мы с великими усилиями пробились непосредственно до императора, от которого уже была оттерта вся прочая свита.
Его Величество двигался медленно, повторяя толпе: «Посторонитесь, братцы». Государя пропускали вперед, но толпа немедленно опять сгущалась за ним, только Лауниц да я удержались за царем. Пришлось идти все время медленнее, всем хотелось видеть и если можно, то коснуться своего монарха. Все более теснили нашу малую группу из трех человек, и наконец мы совсем остановились. Мужики стали размахивать руками и кричать: «Не напирайте!» Опять продвинулись вперед на несколько шагов. Я предложил встать на наши с Лауницем скрещенные руки, тогда его будет видно издали, — царь не согласился. В это время толпа навалилась спереди, и он невольно сел на наши руки. Затем мы его подняли на плечи. Народ увидел царя, и раздалось громовое «ура».
Мы крикнули двум дюжим мужикам проталкиваться впереди нас по направлению к дощатой дорожке. Когда наконец мы достигли ее, там толпа была реже. Государь пошел по сходням, но, несмотря на все мои просьбы спешить, продолжал идти размеренным шагом. В этом месте доски были постланы на высоких деревянных козлах, и помост за нами вдруг с грохотом провалился, увлекая всех, сзади шедших. Царь стал увеличивать шаги, и мы благополучно достигли боковых дверей монастыря.
Лишь тогда государь заметил отсутствие свиты. На его вопрос по этому поводу я пояснил, что нас в самом начале оттерли и что я видал только, как граф Фредерикс упал, — не случилось ли с ним чего.
Царь взволновался, но возвращаться через толпу было невозможно. Он вошел в ограду монастыря и послал меня отыскивать графа. Тем временем вернулись императрица и вся свита, и я узнал, что Фредерикс, с окровавленным лицом, отправился в свою келью. Я нашел его там. Фельдшер главной квартиры накладывал большие куски английского пластыря на его лицо. Оказалось, что когда он упал, то кто-то из толпы наступил ему на щеки. К счастью, повреждения были легкие. Граф, узнав о беспокойстве государя, наспех переоделся — весь мундир его был в крови и разорван — и пошел со мною к Его Величеству. Император обрадовался увидеть его на ногах, а царица повела графа в свою келью, где вновь налепила пластырь, но уже меньшего размера. Граф вышел оттуда бодрый и, несмотря на заклеенные раны, вполне презентабельный.
На другой день была еще длинная и весьма утомительная обедня, а затем мы, все время сопровождаемые толпою, поехали в Дивеевский женский монастырь, за 15 верст. Здесь нам была приготовлена трапеза, после которой императрица пошла к какой-то знаменитой отшельнице, старице, и пробыла у нее чуть ли не 2 часа, из-за чего наш отъезд запоздал. Доехав до другой платформы, также возведенной для этого случая, мы сели в императорский поезд и отбыли в Севастополь.
Опыт сближения государя с народом легко мог стать повторением Ходынки. Он ясно указывал на опасность для императора следовать своему чисто человеческому импульсу. Царь желал проявить, так сказать, физическую ласку любимому народу, в котором за эти дни он почувствовал выражение атавистической любви к своему помазаннику, такой преданности и любви, на какую способны только русские люди. Я утверждаю, что если бы в густой толпе, которая чуть ли не задавила государя, вырос под ним из земли высокий конь, возвышающий его над народом, то царь одним возгласом, одним повелительным мановением руки мог повести эти сотни тысяч людей на верную смерть или на какую угодно победу. Такова психология толпы вообще, и русской в частности.
ПОСРЕДНИКИ МЕЖДУ ЦАРЕМ И НАРОДОМ
Перехожу к посредникам между царем и народными массами.
17 октября 1905 года государь принял решение дать стране законодательное собрание. Это был настоящий парламент, но без ответственного министерства, наподобие тогдашней германской конституции или же современной североамериканской.
Дума могла приносить двоякую пользу: осведомлять государя о главных течениях общественной мысли в России и одновременно выделять из своего состава наиболее энергичных и способных людей для постепенного обновления высшего состава бюрократии. На это возлагали большие надежды.
Мы в то время страдали исключительным безлюдием: не было достойных кандидатов для замещения высших постов.
Вспоминается замечание царя, сделанное после одного из посещений Вильгельма II:
— Хорошо ему советовать заносить при всяком новом назначении в потайной список имя возможного заместителя нового министра… Не то что заместителя, а и кандидата на вакансию ищешь и не находишь. Вероятно, в Германии число людей, способных занимать ответственные должности, больше нашего.
ПРИЕМ ДЕПУТАТОВ В ЗИМНЕМ ДВОРЦЕ
Желая поставить новое выборное учреждение на должную высоту и идя навстречу сближению царя с народными представителями, депутатов пригласили на торжественный прием в Зимний дворец, где государь сказал Думе свою первую и последнюю тронную речь.
Процессия тронулась из внутренних покоев и направилась к тронному залу. Впереди императора высшие государственные чины несли регалии: знамя и — на красных бархатных подушках — печать, скипетр, державу и корону, усыпанные бриллиантами. Их сопровождали дворцовые гренадеры в высоких медвежьих шапках, в полной парадной форме.
В тронном зале справа от выхода были размещены депутаты, а впереди них стояли сенаторы, с левой стороны — члены Государственного совета, высшие чины двора и министры.
Государь и обе императрицы с прочими членами царской семьи остановились посреди зала. Регалии были отнесены на возвышение по обеим сторонам трона, наполовину покрытого императорскою мантиею, и возложены на красные табуреты. Внесли аналой. Государь принял окропление от петербургского митрополита.
Начался молебен. Затем императрица и высочайшие особы прошли мимо государя к возвышению с левой стороны трона. Царь ждал один посреди зала, пока императрицы не заняли своих мест. Затем он мерными шагами прошел к трону и сел на него. Ему вручили тронную речь, которую он стоя прочел громким и отчетливым голосом. После этого царь спустился со ступенек трона, и выход последовал тем же порядком, но без предношения императорских регалий.
Депутаты по выслушании тронной речи отправились в Таврический дворец на первое заседание Думы, которое началось 2 часа спустя. Они были одеты самым разнообразным образом: одни — во фраки, другие — в серые пиджаки или в крестьянскую одежду; были и в отставных военных мундирах, было и немало священников в рясах, кавказцев в национальных костюмах. В зале заседаний находились граф Фредерикс рядом с Горемыкиным и все министры. Граф казался невозмутимым, но когда после чисто формального открытия мы с ним ехали домой, он не выдержал и сказал:
— Эти депутаты скорее похожи на стаю преступников, ожидающих сигнала, чтобы зарезать всех, сидящих на правительственной скамье. Какие скверные физиономии! Ноги моей больше не будет в Думе.
Нужно думать, что и Горемыкин чувствовал то же, что и граф. На трибуне, согбенный возрастом и, видимо, человек другой эпохи, он, хотя и глава правительства, не внушал авторитета, в особенности по сравнению с председателем Думы Муромцевым, который как фигурою, так и голосом импонировал всем.
Все виденное за этот день не давало надежды на правильную парламентарную работу. Правительство и депутаты показались мне врагами, которых заперли в зале заседаний, чтобы увидеть результат обоюдной борьбы.
Думаю также, что двор, с расшитыми золотом мундирами, в пышном тронном зале, вызвал в депутатах лишь чувство зависти и злобы и вовсе не поднял престижа императора. Сам же государь не мог себе представить, чтобы эти несколько сот фрондирующих людей отражали в действительности голос народа, до сих пор восторженно его встречавшего. При этих условиях царь не отказывался слушать представителей другого общественного течения, уверявших его, что Россия хочет самодержавия, но и стремившихся подвергнуть монарха влиянию именно своей группы.
Царь подписал акт, дающий народу политические права. Но тут же его стали уверять, что манифест был вырван из его рук насильно. Больше того, утверждали, что государь не имеет права отказываться от обязанностей единоличного управления, завещанного предками.
Сторонники последнего течения были особенно сильны и в окружении императрицы. Даже после отречения царя государыня не переставала настаивать, что он мог отречься от престола, но не имел права отказываться от самодержавной власти, будучи связан клятвенным обещанием при вступлении на царство передать власть такую же, какую он получил, то есть без конституционных преград.
Крайние течения восторжествовали. Первую Думу распустили. Вторая оказалась еще более радикально настроенной. О приеме ее во дворце вопрос уже не подымался.
ПЕРЕВОРОТ СВЕРХУ
После роспуска второй Думы правительство оказалось в тупике. Всем было ясно, что новые выборы не облегчат сотрудничества депутатов с министерством.
Стали вырисовываться две тенденции. Сторонники первой, и в их числе Дмитрий Федорович Трепов, желали довести законным путем конституционный опыт до конца. Они надеялись, что однородное министерство, опирающееся на благоразумный элемент новой Думы, получило бы достаточный авторитет для изменения избирательного закона конституционным порядком.
Противники Трепова стали внушать государю, что такой опыт при данном, еще далеко не успокоившемся недовольстве в стране опасен. Они видели тут прямую опасность для династии, и сам я сознавал это.
Трепов, однако, полагал, что еще опаснее было бы пошатнуть престиж верховной власти, игнорируя только что данную конституцию. Кроме того, он боялся крайних правых, черносотенных вожделений, стремившихся, чтобы власть шла у них на поводу. При такой конъюнктуре революция была бы неминуемою и, вероятно, успешною.
В этот период несогласованности взглядов, царивших вокруг государя, появилось на правительственном горизонте новое лицо — Столыпин, имевший смелость в это тяжелое для власти время взять в свои руки бразды правления. Он понимал симпатии царя к правым и пошел навстречу им, но лишь настолько, насколько они были ему нужны. Он искал среднего пути.
Государь принял предложенное Столыпиным противоконституционное действие, указом изменив закон о выборах и дав администрации возможность влиять на их результат. Новый премьер считал акт 3 июля государственной необходимостью для создания работоспособной Думы — не врага, а сотрудника правительства.
Я не мог тогда узнать, отдавал ли царь себе отчет, насколько эта мера могла подорвать его престиж. Мне казалось, что переворот сверху обязательно влечет переворот снизу. Фредерикс, во всяком случае, держал себя совершенно в стороне: дело не касалось его ведомства.
Новая Дума оправдала правительственные надежды, и при открытии ей было передано высочайшее приветствие. Эта, третья, как и следующая, четвертая, Дума была, действительно, послушным орудием в руках Столыпина, чего ему простить не мог граф Витте.
ДЕЛЕГАЦИИ
Я уже описывал в предыдущих очерках приемы при дворе многочисленных черносотенных делегаций. Они явились результатом недоверия, которое испытывал Его Величество к народным избранникам. Государь видел в депутатах Думы представителей не народа, а просто интеллигентов. Совсем другое — крестьянские делегации. Царь встречался с ними охотно и подолгу говорил, без утомления, радостно и приветливо.
Так было на полтавских торжествах. По желанию Его Величества по окончании официальной части программы он принял представителей волостей. Их выстроили на большой площади, и царь более 2 часов беседовал с ними. Он так увлекся этими разговорами, что не заметил, как прошло время. Я был поражен простотою и сердечностью, с которыми государь говорил с крестьянами. Видимо, и на крестьян разговоры батюшки-царя производили глубокое впечатление. Его Величество впоследствии часто вспоминал эти беседы со столь преданными ему славными хохлами.
Так было и в Чернигове на следующий день после покушения на Столыпина. Беседа происходила при свете факелов и продолжалась более 3 часов. Государь не пропускал ни одной волости, чтобы не поговорить хотя бы с двумя-тремя крестьянами.
ТАЙНЫЕ ДОКЛАДЧИКИ
Часто сообщалось о лицах, которым государь давал тайные аудиенции. Должен сказать, что в действительности их было немного, если не считать тех, которых Николай II принимал хотя и неофициально, но по просьбе соответствующих министров.
Из тайных докладчиков мне известна лишь группа Безобразова, Вонлярлярского и Абазы, из которых двое были кавалергардами. Поэтому Фредерикс предполагал, что они первоначально попали к государю при посредстве императрицы Марии Федоровны. Их доклады касались дальневосточной концессии на реке Ялу, которая явилась одною из причин войны нашей с Японией.
Конечно, сановники, как например Победоносцев, генерал-адъютанты Рихтер и Ванновский, если желали видеть государя, писали ему, а затем царь немедленно их приглашал якобы от себя.
Упомяну еще об одной, почти что оккультной силе — о князе Владимире Мещерском, издателе «Гражданина».
Отношения князя с императорской семьей начались давно — с его дружбы с наследником престола цесаревичем Николаем Александровичем, старшим сыном Александра II, и герцогами Лейхтенбергскими. Затем, после восшествия на престол Александра III, Мещерский ему писал и удивительно ловко выудил у Его Величества два раза ответы. Я, уже в эмиграции, имел в руках подлинники этих ответов, которые князь оставил в наследство своему молодому другу Бурдюкову. Последнего нужда вынудила их продать. Увы, великие князья в то время уже не обладали суммами, которые Бурдюков с них запрашивал за эти интересные исторические документы.
Мещерский получал ежегодно субсидию из десятимиллионного фонда на издание своей газеты. Человек он был, безусловно, умный, имел большое влияние на общественность, и особенно на администрацию, знавшую, что и Александр III, и Николай II читают «Гражданин», и боявшуюся смелых, всегда крайне язвительных разоблачений князя.
За время своей службы при дворе я не помню ни одного случая, когда бы Мещерский не добился от государя испрашиваемой им для кого-нибудь милости. Он писал непосредственно Его Величеству, и у меня перебывало в руках немало писем, писанных убийственным почерком князя, с неизменною резолюциею императора: «Исполнить».
Мне известно, что он писал царю не раз и по вопросам политическим, не говоря об аудиенциях, которых князь удостаивался не реже двух-трех раз в год. Не знаю, какое впечатление эти письма и доклады произвели на государя, так как он никогда о Мещерском не говорил даже Фредериксу.
Наибольшую огласку получила «концессия на Ялу». Вскоре после боксерского восстания в Петербурге сформировалось общество для эксплуатации дальневосточных лесов и ископаемых богатств. Во главе его стали Абаза, Безобразов и другие.
Граф Фредерикс из гоф-фурьерского журнала усмотрел, что государь им несколько раз давал совершенно негласные аудиенции. Он тогда же обратил внимание Его Величества на нежелательность таких приемов без ведома ответственных лиц. На это царь возразил, что если вести торговое предприятие бюрократическим путем, то из него ничего не выйдет. Он лично очень интересуется этим весьма широко задуманным и умным делом.
Несколько времени спустя к Фредериксу явился Безобразов и рассказал о сути предприятия. Он рисовал картину развития его в общество, подобное Ост-индской компании. Государь, по словам Безобразова, лично очень интересуется этим делом и согласился стать акционером на сумму в 200 000 рублей. Он показал графу подписной лист с десятком титулованных и высокопоставленных имен, пока еще, правда, денег не внесших. Фредерикс ответил, что о разговоре доложит Его Величеству и спросит указаний, но предупредил собеседника, что не сочувствует тому, чтобы государь становился пайщиком частной компании.
На другой день при всеподданнейшем докладе министр энергично советовал императору отказаться от участия в деле. Он указал, что никогда русский самодержец не становился акционером и что это может вызвать нежелательные толки. Нужно предвидеть также, что 200 000 рублей будут лишь авансом, а потом придется вкладывать и миллионы. Пока все подписавшиеся не дали ни гроша, но после взноса государя и они внесут свои деньги. В случае неудачи предприятия Его Величество будет нести ответственность за их потери и вынужден будет поддерживать безобразовское дело…
Государь ответил, что подумает. Через день эти господа снова имели аудиенцию, и Фредерикс получил собственноручную записку Николая II, гласившую: «Прошу вас выдать Безобразову 200 тысяч рублей». Министр, не признавая возможным контрассигновать такое распоряжение государя, поручил мне изготовить всеподданнейшую записку с просьбой об увольнениии его от должности и специально по этому делу поехал в Царское Село. По возвращении граф Фредерикс рассказал мне, что император его отставки не принял и был смущен происшедшим. Чтобы вывести государя из неловкого положения, министр предложил считать, что 200 000 рублей выдаются Безобразову в виде личного пособия.
Это был первый и единственный случай за всю долгую службу при государе, что Фредерикс решился подать в отставку из-за разногласия со своим монархом.
ПРИДВОРНЫЕ ЧИНЫ
Главною функцией двора является поддержание престижа монарха. Двор, кроме того, ведает — и это само собою разумеется — ежедневным обиходом царствующей семьи.
Русский двор был одним из самых блестящих во всей Европе. За триста лет придворным ведомством были накоплены громадные богатства. По своему великолепию русский двор приближался к Версалю Людовика XIV и Людовика XV. Этикет у нас был заимствован главным образом у Габсбургов.
Кредиты на содержание двора шли из трех главных источников (не считая, кроме того, личных средств великих князей, из коих некоторые были очень богаты).
1. Общий бюджет государства, обеспечивающий «цивильный лист», то есть средства на содержание двора государя, государыни и наследника.
2. Уделы, то есть независимое от казны учреждение. Созданные Павлом I уделы выплачивали каждому великому князю со дня его рождения 280 000 рублей в год. Уделы должны были освобождать общий бюджет страны от расходов на содержание императорской фамилии; главной их экономической основой являлись земельные угодья, выделенные императором Павлом I; благодаря очень остроумному и умелому управлению уделы считались накануне революции самым крупным из русских поместий (много миллионов десятин пахотной земли и лесов): наличного капитала было в этот момент около 60 миллионов рублей.
3. Кабинет Его Величества, то есть совокупность угодий, принадлежавших лично царю. В состав кабинета входили Нерчинские и Алтайские копи, богатые золотом и драгоценными камнями.
Двор состоял из лиц, имевших придворные чины и звания; во главе его стоял граф Фредерикс.
Придворные чины распадались на два класса. В первый входило (в 1908 году) 15 лиц, именовавшихся: обер-гофмейстер, обер-гофмаршал, обер-егермейстер и обер-шенк. Второй класс насчитывал 134 персоны, и, кроме того, было 86 лиц «в звании», два обер-церемониймейстера, обер-форшнейдер, егермейстеры, гофмаршалы, директор императорских театров, директор Эрмитажа, церемониймейстер (14 штатских и 14 «в звании»). Список этот должен быть дополнен: лицами, имевшими придворные звания, — 287 камергерами, 309 камер-юнкерами; 110 «состоящими» при Их Величествах и членах императорской фамилии, 22 духовными лицами, 38 медиками, 3 фурьерами, 18 камердинерами и 150 военными чинами (генерал-адъютанты, свитские генералы и флигель-адъютанты). В общей сумме (причисляя 260 дам разных рангов и 66 дам, удостоенных ордена Св. Екатерины) получалось внушительное число — 1543 персоны.
ЧАСТЬ VII БАЛЫ
ПРИДВОРНЫЕ ЧИНЫ
Придворные дамы носили звания обер-гофмейстерин двора Ее Величества, гофмейстерин императорского двора и великокняжеских дворов, «портретных» дам, камер-фрейлин, свитских и городских фрейлин.
К ним надо причислить дам ордена Св. Екатерины (двух степеней) и фрейлин, представленных Их Величествам после их замужества.
Ни один из придворных чинов не мог вступить в брак без разрешения государя.
Каждый придворный чин имел званию его присвоенный мундир, причем различались формы бальная, праздничная, обыкновенная и походная.
Чем выше было положение лица, тем больше было золотого шитья. У обер-гофмейстера не было ни одного шва без сверкающих арабесок и гирлянд.
Придворные звания не были абсолютно теоретическими: с ними соединялось некоторое фактическое исполнение соответствующих обязанностей.
Обер-форшнейдер следовал за блюдами, которые подносились Его Величеству во время большого коронационного обеда; два офицера кавалергардского полка сопровождали его при этом с обнаженными палашами… Обер-шенк подавал царю во время того же обеда золотой кубок с вином и возглашал:
— Его Величество изволит пить.
Обер-егермейстер присутствовал при высочайших охотах. Шталмейстеры помогали государю и государыне садиться в парадную карету, обер-шталмейстер сопровождал эту карету верхом.
ОБЕР-ЦЕРЕМОНИЙМЕЙСТЕР
Этикет и церемониал двора находились всецело в руках обер-церемониймейстера и обер-гофмейстерины двора Ее Величества.
Пост обер-церемониймейстера принадлежал графу В. А. Гендрикову, вторым обер-церемониймейстером был барон Горф.
Красивый, чрезвычайно элегантный, граф Гендриков был глубоко проникнут идеей важности исполняемых им обязанностей; это, конечно, значительно упрощало вещи, ибо церемониймейстером может быть только тот, кто серьезно относится к самой идее «церемоний». В этом смысле граф Гендриков был выше всяких похвал. Когда ему пришлось заняться приемом членов Государственной Думы, он созвал целую комиссию из лучших знатоков церемониального дела: из лиц, имевших возможность сообщить нужные сведения о народных представителях, и из «экспертов», то есть чиновников, имевших случай присутствовать за границей при аналогичных процессиях.
Став лично во главе этой комиссии, граф Гендриков обошел соответственные залы дворца, лично начертил мелом на полу те линии, по которым предполагалось выстроить сановников и депутатов. Он долго и горячо обсуждал вопросы, где — направо, налево, спереди, сзади — встанут такие-то сенаторы и такие-то представители государственных учреждений. Он, помню, сильно и явно нервничал: боялся, что депутаты — чуждый двору и дворцовым обычаям элемент — не сумеют стоять в том порядке, который им будет предуказан.
Вспоминаются мне также переживания графа Гендрикова накануне приезда великого герцога Гессенского, родственника государыни. Министр двора заранее сделал по этому вопросу доклад государю, и царь назначил князя Урусова тем лицом, которое будет «состоять» при великом герцоге.
Последний должен был приехать в 11 часов утра. В 11 часов вечера накануне Гендриков телефонирует мне отчаянным голосом:
— Катастрофа…
— В чем дело? Пожар в Зимнем дворце?
— Хуже… Жюль Урусов заболел и не будет в состоянии выехать завтра утром навстречу великому герцогу. Что мне делать?
— А вы назначьте кого-нибудь другого… — я еле удерживался от смеха.
— Немыслимо… Вы же сами сообщили мне, что Жюль Урусов назначен по высочайшему повелению. Необходимо, чтобы Фредерикс испросил новое высочайшее повеление.
— Хорошо, — ответил я, вешая трубку.
Через 5 минут я позвонил ему и сказал, что министр двора берет на себя всю ответственность: заместителем Жюля Урусова будет назначен обер-церемониймейстер.
— Вы понимаете, что теперь час поздний и беспокоить государя немыслимо.
Само собою разумеется, никакого разговора с Фредериксом у меня не было…
Гендриков задержал меня еще около часу, «ставя на обсуждение» все новые и новые кандидатуры. Наконец мы остановились на Гурко.
Через час — новый звонок:
— Гурко — немыслимо… Его парадный мундир в чистке: блестит только одна половина шитья, другая половина совсем тусклая… Что мне делать?.. Господи, что мне делать?.. У меня голова кругом идет.
Было уже около часу ночи, и положение становилось довольно сложным.
— Позвоните в «Аквариум», пусть поищут Мещерского.
В 3 часа ночи Гендриков вызвал меня еще раз и сообщил, что Мещерский поедет.
На следующий день утром я рассказал графу Фредериксу о треволнениях Гендрикова, и мы долго вместе смеялись, но граф выразил Гендрикову благодарность за его похвальное стремление в точности исполнить повеление Его Величества.
Отмечу при этом, что Николай II — так же как и отец его Александр III — был совершенно равнодушен к вопросам церемониальной части. Можно себе представить, как мучались церемониймейстеры при Александре II, не допускавшем никаких упущений в области этикета.
Гендриков решительно отказывался понимать психологию тех лиц, которые настойчиво добивались камер-юнкерского звания и после назначения манкировали своими обязанностями. Сколько хлопот бывало, например, с панихидами по великим князьям: придворные чины настойчиво их не посещали…
Гендриков выкопал старый указ Екатерины II. У царицы не было недостатка в юморе. Она высказала предположение, что не присутствующие на панихидах опасно больны: с них приказано было взыскивать по 25 рублей за каждую манкировку, а деньги должны были быть уплачиваемы духовенству за молебен о здравии раба Божия камергера или камер-юнкера такого-то.
ОБЕР-ГОФМЕЙСТЕРИНА ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВА
Никто не умел лучше обер-гофмейстерины светлейшей княгини Марии Михайловны Голицыной, рожденной Пашковской, поддерживать придворные традиции среди дамского элемента.
Трудно было бы найти особу, которая могла бы лучше, чем княгиня Голицына, воплощать все то значение, которое присваивалось высокому званию обер-гофмейстерины. Весьма породистая, уверенная в каждом своем движении, княгиня Голицына имела особо развитое чутье на все, что не соответствовало этикету. Одевалась она не иначе как по моде позапрошлого года, а шляпы ее (циркулировала по этому поводу очень злая карикатура…) считались «произведением придворно-экипажного ведомства».
У нее была совершенно особенная манера поддерживать дисциплину. Чтобы сделанное ею замечание не оставалось без последствий, она никогда ничего не говорила молодым, только что назначенным фрейлинам, считая их мелкой сошкой: она вступала в пререкания только с такими солидными дамами, которых фрейлины боялись пуще огня.
Во время высочайшего посещения Киева мы проезжали на пароходе по Днепру. Как раз напротив государыни сидела светлейшая княгиня Лопухина-Демидова, вздумавшая небрежно закурить папироску. Обер-гофмейстерина подошла к ней, взяла папироску, бросила ее за борт и громко произнесла:
— Милый друг, ты забываешь, что курить в присутствии Ее Величества нельзя…
Княгиня Лопухина-Демидова была дама вспыльчивая, но не рискнула произнести в ответ ни слова. Обер-гофмейстерина объяснила ей впоследствии:
— Я сама курю как капрал… Но нам, постаревшим при дворе вельможном, надо пример подавать молодым, слишком склонным к вольностям в присутствии молодой императрицы.
Аналогичная сцена произошла вскоре после моего назначения начальником канцелярии министерства двора. Я стоял и разговаривал с княгиней Голицыной. Вижу, подходит графиня Воронцова, имевшая «зуб» против Фредерикса и всего его окружения. Я ей низко поклонился. Она не соблаговолила мне ответить хотя бы малейшим кивком головы.
Обер-гофмейстерина тотчас же атаковала ее:
— Позволь представить тебе Мосолова: он только что назначен начальником канцелярии…
— Я его давно знаю…
— В таком случае, позволь узнать, почему ты не ответила на его поклон?.. У себя дома ты можешь поступать, как тебе угодно, но при дворе надлежит быть вежливой…
Я поспешил отойти: не могу сказать, чем кончился этот разговор…
ВЫСОЧАЙШИЕ ВЫХОДЫ
Высочайшие выходы происходили в дни особо торжественные.
Выходы делились на большие и малые. На больших должны были присутствовать все придворные чины. На малые выходы посылались особые личные приглашения.
Выход носит такое название потому, что Их Величества выходят из внутренних апартаментов и торжественно следуют в церковь. После службы Их Величества возвращаются к себе с соблюдением того же церемониала.
За полчаса до назначенного времени члены императорской фамилии собираются — когда выход происходит в Зимнем дворце — в Малахитовом зале, доступ в который имеют только высочайшие особы. Придворные арапы в парадных костюмах охраняют вход в этот зал. Придворные чины собираются в других залах дворца и приготовляются принять участие в шествии. Чины церемониальной части наблюдают за порядком: это их, так сказать, день.
Когда кортеж образован, министр двора входит в Малахитовый зал и докладывает о сем Его Величеству. Тотчас же после этого великие князья, в точности знающие каждый свое место (по близости к трону, по порядку престолонаследия), становится сзади Их Величеств. Великие княгини занимают места соответственно рангу их отцов и мужей.
В первой паре следуют государь и императрица-мать. Александра Федоровна идет во второй паре. Министр двора держится направо от государя, на шаг сзади Его Величества, сбоку. За ним — друг другу в затылок — почетное дежурство: один генерал-адъютант, один свитский генерал и один флигель-адъютант; остальные члены кортежа идут попарно.
Государь обыкновенно выходит в форме того полка, коего праздник совпадает с днем выхода или который в этот день несет караульную службу во дворце. Иногда, впрочем, государь предпочитает надеть мундир Преображенского или Лейб-гусарского полка, в коих, как известно, царь служил, проходя в них военную науку.
Военные чины на выходы обязательно являются в свитской форме, а не в форме полков, в которых числятся. Дамы должны быть в «русских» платьях со шлейфами.
«Русское» платье описано весьма подробно в «Придворном календаре». Это платье белого атласа должно оставлять открытыми оба плеча; шлейф должен быть красного бархата с золотым шитьем (фрейлины великих княгинь имели шлейфы других цветов, по особому расписанию). На голове должен красоваться кокошник красного бархата.
Дамы, просто приглашенные ко двору, могут быть одеты в платья любого цвета, но того же покроя.
Платья и кокошник, само собою разумеется, могут быть украшены драгоценными камнями в зависимости от степени богатства соответственной особы. В этом отношении приведу как пример, который меня как-то поразил, г-жу Зиновьеву, жену предводителя дворянства одного из уездов Петроградской губернии: она носила в виде пуговиц девять или десять изумрудов, величиной каждый с голубиное яйцо. Бриллианты были в мое время особенно замечательны на графине Шуваловой, на графине Воронцовой-Дашковой, на графине Шереметевой, княгине Кочубей, княгине Юсуповой и т. д.
Выйдя из Малахитового зала в зал Концертный, Их Величества останавливаются и отвечают на поклоны собравшихся там лиц, то есть придворных чинов, имеющих право входа «за кавалергардов». Выражение это происходит от караула кавалергардов, стоящего у входа в Концертный зал. Не всякий мог по желанию пересечь линию этого караула. Существовало, значит, при дворе две категории людей: имеющих и не имеющих «вход за кавалергардов».
Шествие начинается. Первые чины двора стоят лицом к государю вплоть до того момента, когда обер-церемониймейстер дает им знак начать «выход»; они шествуют тогда в порядке их ранга по отношению к царю — чем выше орден, тем ближе к Его Величеству.
Их Величества следуют, немного отступя, за первыми чинами двора. Сзади государя идут члены императорской фамилии. Затем проходят придворные дамы, сановники разного рода, министры, сенаторы, военная свита.
Шествие проходит через Николаевский зал, занятый офицерами гвардейских полков. В дальнейших залах находятся прочие, допущенные на выход лица и именитое купечество, а на хорах — корреспонденты газет.
Их Величества входят в церковь, в которую допускаются только великие князья, особо важные сановники и гофмейстерины. Все остальные ожидают конца службы вне церкви. Этот период был наиболее неприятен для церемониймейстеров, ибо они должны были следить, чтобы никто громко не разговаривал и своевременно, до конца службы, возвращался на занимаемое им в залах место. Опытные люди хорошо знали, как выйти на «черную» лестницу, где устраивались импровизированные курительные комнаты. Нередко туда забирались и великие князья, ухитрившиеся незаметно выйти из церкви. Согласно древней традиции, даже на лестнице было не принято говорить о делах или о службе.21 Церемониймейстеры никогда не заглядывали ни на лестницу, ни даже в зимний сад дворца, где иногда старые генералы дымили своими папиросами.
Возвращаясь из церкви, Их Величества останавливаются в Концертном зале, и им представляют в этот момент вновь назначенных фрейлин, а также иных дам, удостоившихся столь высокого отличия, а в январе после водосвятия — и весь дипломатический корпус с дамами.
Говоря о выходах, не могу не вспомнить мои молодые годы, когда я с офицерами Лейб-гвардейского конного полка назначаем был во внутренний караул, и раз — именно в день парадного выхода. В карауле мы находились сутки бессменно, что и в обычное время было нелегко. Допускалось снять одну крагу (перчатка с жесткими отворотами) и расстегнуть чешуйку от каски. Сидеть можно было только на особом, для караульного офицера приспособленном кресле.
В дни выходов надевалась особая форма, а именно: сверх белого мундира — супервест (род жилета из красного сукна, заменявший в пешем строю кирасу), на груди и на спине которого имелось по большому двуглавому орлу (у кавалергардов — Андреевская звезда). Другие кирасирские полки не имели такой формы. Мы носили также высокие сапоги с раструбами, а вместо рейтуз — лосины, то есть штаны из белой лосиной кожи. Облачаться в эту форму было нелегко, так как на лосинах не должно было быть ни малейшей складки… Для этого их слегка смачивали, посыпали внутри мыльным порошком, и затем (это относится и к офицерам, и к нижним чинам) два дюжих человека «втряхивали» в лосины, одеваемые обязательно на голое тело. Конечно, лосины чудно облегали ногу, но нелегко было оставаться в них 24 часа подряд, особенно когда они совсем засыхали…
В царствование Александра III супервесты и лосины остались только для выходных караулов и для балов в Николаевском зале; внутренние караулы в обычное время были отменены, ввиду того что император не жил больше в Зимнем дворце.
ПРИДВОРНЫЕ БАЛЫ
Еще более важной церемонией являлись придворные балы.
Первый бал сезона устраивался обыкновенно в Николаевском зале приблизительно на 3000 приглашенных. На балы «концертные» и «эрмитажные» приглашались соответственно 700 и 200 персон. Эти балы носили свои названия в соответствии с теми залами, которые отводились под танцы.
В Николаевском зале устраивался только один бал в году. Чтобы быть приглашенным на этот бал, надо было состоять в одном из четырех первых классов (по табели о рангах)… Приглашались также иностранные дипломаты с их семьями, старейшие офицеры гвардейских полков с женами и дочерьми, молодые офицеры как «танцоры», некоторые лица по специальному указанию Их Величеств… Сыновья лиц, приглашенных на бал, не разделяли участи своих сестер: их звали только в зависимости от их собственного чина или звания.
Церемониальная часть, само собой разумеется, не могла иметь списка лиц, имевших право на приглашение и находившихся в столице. Поэтому всякий должен был заявлять о своем существовании: для сего записывались в особый реестр у гофмаршала. Дамы, предварительно не представленные Их Величествам, записывались у обер-гофмейстерины, а та имела право отказать в приглашении. Билеты на вход во дворец рассылались за две недели до бала.
Таким образом, николаевский бал не ограничивался тесным кругом «high life». Опытный взгляд немедленно различал тех, кто не принадлежал к петербургскому «свету». Например, очень свежее и очень дорогое платье свидетельствовало, что дама слегка из выскочек. Истинные аристократки не надевали последних моделей, когда ехали на николаевский бал: там их ожидала толпа, негде было надлежащим образом развернуться — только помнут платье от Ворта или Редферна. Считались также с манерой носить форму или бальное платье и тем «нечто», благодаря которому голубая кровь «везде, как у себя дома».
Приезжать надо было около восьми с половиной без опоздания. Каждый должен был сам знать, к какому из подъездов надо было явиться. Для великих князей открывался подъезд салтыковский, придворные лица входили через подъезд Их Величеств, гражданские чины являлись к иорданскому, а военные — к комендантскому подъезду.
Зрелище было феерическое.
Январь. Лютый мороз. Дворец залит огнем на все три квартала, которые он занимал. Около монолитной Александровской колонны с ангелом наверху зажжены костры. Кареты подъезжают одна за другой. Офицеры, не боявшиеся холода, подкатывают в санях; лошади покрыты синими сетками.
Автомобили в это время считались просто игрушкой, капризной и полной неприятных неожиданностей.
Дамские силуэты нервно проскальзывают от кареты к подъезду. Видны фигурки грациозные и живые, видны и массивные фигуры пожилых тетушек и бабушек. Меха — горностаи, чернобурые лисицы… Головы ничем не покрыты, ибо замужние женщины являются в диадемах, а барышни — с цветами в волосах.
Полиция наблюдает за размещением опустевших карет.
Ни одна из дам не имеет права ввести во дворец (это не было дозволено даже при великокняжеских приемах) своего личного лакея. Одежду поэтому приходилось сдавать на хранение лакеям придворным. К каждой ротонде или сорти-де-бал надлежало прикрепить визитную карточку владельца. Лакей (белые чулки, лакированные башмаки и мундир, шитый галунами с государственным орлом) должен был вполголоса указать, где именно он будет находиться с вещами после бала. Вымуштрованные до тонкости, лакеи скользили бесшумно по паркетам…
Приглашенные поднимаются по мраморной лестнице, затянутой мягким ковром. Белые и ярко-красные мундиры, каски с золотыми и серебряными орлами; чудесные национальные костюмы приглашенных валерцев; расшитый золотом кунтуш князя Велепольского, маркиза Гонзаго Мышковского; бешметы кавказских князей, у которых чувяки делались на мягкой подошве, так что танцевали эти горные красавцы совсем бесшумно; белые ментики с бобровой опушкой; придворные мундиры с короткими панталонами и белыми шелковыми чулками…
…Да, у придворного чина ноги не должны были быть ни слишком толстыми, ни слишком костлявыми: панталоны были только до колен. Сказать правду — некоторые икры не всегда оставались там, где им быть полагалось. Особа вдруг нагибалась и начинала поворачивать свою икру, соскользнувшую на перед ноги. Это была своего рода пластическая операция.
Вероятно, в связи с этими инцидентами обер-гофмейстер двора князь Репнин, обремененный старостью и подаграми, вошел в министерство с прошением: не будет ли ему разрешено являться в длинных белых штанах, не предусмотренных регламентами? Получилось великое недоумение: докладывать ли царю это прошение, или разрешить старику белые штаны без ведома Его Величества? Фредерикс был в большом затруднении. Наконец он пошел на компромисс: заговорил о Репнине не во время доклада, а так, при случае. Царь ответил:
— Конечно, решайте это сами. А потом вдруг прибавил:
— Впрочем, нет… Этим почетным лицам будет неприятно знать, что прошение не было мне доложено… Вы придете, скажете мне, что такой-то жив, хотя и, страдает ревматизмом… Я же узнаю с удовольствием, что почтенный придворный предводитель дворянства Киевской губернии собирается на бал, несмотря на свой преклонный возраст. Доклады такого рода много времени, не возьмут…
Число прибывающих все увеличивается. Дамы парадируют в «придворных» платьях, то есть с большим декольте и шлейфом. На левой стороне корсажа прикреплен соответственно их рангу или шифр (осыпанный бриллиантами вензель — отличительный знак фрейлин), или «портрет», окруженный бриллиантами (высокое отличие, дававшее звание «портретной» дамы).
Вот свитский генерал. Его жене больше 40 лет, но она сохранила свежесть фигуры: платье с пальетками облегает ее как статую. Диадема в два ряда крупных бриллиантов («павэ») украшает ее русые волосы. На лбу сверкает бриллиант. Бриллиантовое ожерелье, декольте окружено цепочкой бриллиантов с большим цветком из тех же камней на спине, другие две цепи бриллиантов брошены через плечи и сходятся у броши, приколотой у пояса, кольца и браслеты с бриллиантами. Когда я смотрю фильмы, изготовленные в Голливуде и изображающие будто бы «великолепие» русского двора, мне хочется смеяться…
Приглашенные проходят между двух шпалер лейб-казаков в красивых бешметах и «арапов», то есть придворных негров в больших тюрбанах. Эти арапы являлись своего рода традицией…
Церемониймейстеры деловито скользят по залам. Знаком их должности является жезл — длинная трость черного дерева с шаром слоновой кости наверху, двуглавым орлом и бантом андреевской ленты.
Два слова об офицерах, приглашенных на придворный бал. Я участвовал в балах трех царствований, так что могу говорить о них с полным знанием дела.
Офицеры обыкновенно не получали личных приглашений. Полку сообщалось, что надлежит прислать столько-то танцоров. Для конной гвардии это число равнялось пятнадцати, по крайней мере в мое время. Командир полка назначал кандидатов по своему усмотрению. Счастливчики являлись накануне бала к старшему в чине полковнику, который давал надлежащие указания.
— Это, знаете, не забава… Вы не думайте там веселиться… Вы состоите в наряде и должны исполнять служебные обязанности… Танцуйте с дамами и занимайте их по мере возможности… Строго запрещается держаться группой в одном месте… Рассыпайтесь… рассыпайтесь… Поняли?
Тетка нашего командира была в это время гофмейстериной. Она только тем и занималась, что следила за молодыми офицерами. Если ей кто понравится, она посылала личное приглашение на концертный или эрмитажный бал. А если кто очень понравится, то приглашала к себе на балы, где была отчаянная скука.
Лично я ей понравился… Меня тотчас же записали в реестр церемониальной части, и я стал с этого момента получать личные приглашения, как нечто мне полагающееся.
Не все были удачливыми. Один юный мой товарищ попал на замечание из-за княжны Долгоруковой, впоследствии вышедшей замуж за Александра II. Княжна была хороша собой, и мой приятель, сам того не заметив, провел около нее целый вечер. На следующий день его немедленно вызвали к начальству.
И было ему сказано:
— Тебя представили княжне Долгоруковой… Ты мог и, скажем, должен был пригласить ее на вальс… Но афишироваться целый вечер? Это просто невероятно… Разве ты не знаешь, каково ее положение при дворе… Ты позоришь полк… Ступай и намотай себе это на ус…
Всякий поймет, почему у меня сжималось сердце, когда я первый раз отправлялся на бал…
Но возвратимся к нашему описанию.
ПРИДВОРНЫЕ БАЛЫ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Приближается торжественный момент. Их Величества выходят из Малахитового зала.
Оркестр играет полонез. Церемониймейстеры трижды ударяют своими жезлами. Арапы раскрывают двери Малахитового зала, и все склоняются.
В те времена императрице Александре Федоровне было около 30 лет. Была она очень хороша собой. Царица очень любила крупный жемчуг: одно из ее колье доходило чуть не до колен.
Сестра императрицы Елизавета Федоровна была более стройной, хотя на 8 лет старше. Любила она надевать на свои золотистые волосы диадему с кабошоном — изумрудом посередине (камень был в три квадратных сантиметра…).
Остальные великие княгини появлялись в своих фамильных драгоценностях с рубинами и сапфирами. Цвет каменьев должен был соответствовать цвету платья: жемчуга и бриллианты или рубины и бриллианты — при розовых материях, жемчуга и бриллианты или сапфиры и бриллианты — при голубых материях.
Придворный полонез являлся настоящим священнодействием. Государь шел в первой паре под руку с женой главы дипломатического корпуса. Великие князья распределяли между собою жен остальных дипломатов, а послы шествовали с великими княгинями. Обер-гофмаршал, окруженный церемониймейстерами, — каждый с жезлом в руках — шел впереди царя и делал вид, что прокладывает ему путь. После первого тура происходил обмен дамами, причем строго соблюдался ранг каждой из них. Количество туров зависело от того, сколько дам приглашено Его Величеством. Приглашенные, кроме перечисленных мною лиц, в полонезе участвовать не имели права.
После полонеза начинался вальс. В те времена вальс танцевался в два па — не так, как теперь. Лучший танцор гвардии открывал бал с девицей, заранее назначенной. Зал был необычайных размеров, но и приглашенных было немало. Все они теснились вперед, чтобы лучше наблюдать высочайших особ: вследствие этого свободное место посреди зала постепенно суживалось. При Александре II дирижером балов обыкновенно был барон Мейендорф, Конного полка; он брал своим помощником меня. Мне, конечно, приходилось заботиться о том, чтобы для танцующих было достаточно места… Я приглашал какую-нибудь барышню, достаточно дородную (например, М. Васильчикову), и мы вместе с нею заставляли зрителей потесниться. Была еще барышня Гурко, очень опытная в этом отношении. Зрители невольно отодвигались к украшенным портретами стенам.
Если какая-нибудь великая княгиня желала танцевать, то она поручала своему «кавалеру» привести указанного ею молодого человека. Но, в виде общего правила, великие княгини в «легких» танцах не участвовали. Исключение составляла только дочь Владимира Александровича Елена Владимировна. Она очень любила танцевать вальс, и ее можно было пригласить без особых формальностей. Мы все были поголовно в нее влюблены.
Лакеи обносили приглашенных конфетами, прохладительным питьем и мороженым. В соседних залах высились глыбы льда с кадушками шампанского. Было бы совершенно невозможно перечислить, даже приблизительно, лакомства, фрукты и печенья, которые громоздились на столах, украшенных пальмами и цветами.
Когда дело шло о концертном или эрмитажном бале, целый ряд зал оставался пустым. Можно было взять свою даму под руку и провести ее по бесконечной анфиладе дворцовых помещений. Вдруг вы оказывались вдали от танцев, от светских пересудов и от бальной жары. Едва освещенные, эти залы казались более интимными, более уютными… Так можно было идти почти полчаса. Это была странная, жуткая сказка, сделавшаяся действительностью. Невольно рождался вопрос, сколько еще раз придется увидеть это небывалое зрелище.22
После мазурки (во время коей государыня стоит около портрета Николая I и разговаривает со своим «кавалером», важным, но не очень старым офицером гвардии) Их Величества переходят в зал, где приготовлен ужин. Впереди, само собой разумеется, шествуют церемониймейстеры.
Стол высочайших особ накрывался на особой эстраде, и все приглашенные рассаживались спиной к сцене, так что публика, проходя через зал, могла видеть каждого ужинающего. Старшина дипломатического корпуса садился направо от государя, налево садился великий князь Михаил Александрович, в то время наследник престола. Остальные великие князья и великие княгини размещались в соответствии с их рангом вперемежку с дипломатами и первыми чинами двора, армии и гражданской службы. Без андреевской ленты за этот стол попасть было трудновато.
В том же зале находилось несколько круглых столов, украшенных пальмами и цветами: каждый из них был сервирован на 12 человек, заранее назначенных. В остальных залах всякий устраивался, как умел.
Государь сам не ужинал. Обходил приглашенных и присаживался к столу, если желал с кем-нибудь поговорить. Все это, конечно, разыгрывалось как по нотам. Царь не мог стоять около стола, ибо тогда всем двенадцати ужинающим пришлось бы вытягиваться в струнку в течение всей беседы. Дело ограничивалось следующим образом.
У каждого из столов, где царь должен был разговаривать, оставлялось для него свободное кресло. Скороход помещался, так сказать, на часах у этого кресла. Царь садился на кресло и делал знак остальным ужинающим этого стола: им разрешалось не вставать. Свита отходила на несколько шагов в сторону и ждала окончания беседы. В нужный момент скороход подавал условленный знак, и свита снова занимала свое место сзади царя.
У государя была удивительная память на лица. Если он спрашивал: «Кто эта девица?» — то можно было быть уверенным, что речь идет о какой-нибудь дебютантке и что церемониймейстеры будут застигнуты врасплох.
По окончании ужина государь брал императрицу под руку и отводил ее в Николаевский зал, где начинался котильон. Вскоре после этого высочайшие особы незаметно удалялись во внутренние апартаменты. На пороге Малахитового зала Их Величества прощались со своей свитой.
После этого министр двора, свита, церемониймейстеры и обер-гофмаршал поднимались на верхний этаж, где для них сервировался особый ужин.
Большой придворный бал кончен.
ЧАСТЬ VII ВСТРЕЧИ С ИНОСТРАННЫМИ МОНАРХАМИ
Мое повествование не имеет целью перечисление всех встреч с иностранными монархами и описание этих встреч во всех их деталях. Моею задачею — здесь, так же как и на всем протяжении моего рассказа, — является отметить некоторые интимные детали, рисующие людей как таковых.
ГЕРМАНСКИЙ ИМПЕРАТОР
Больше всего встреч у императора Николая II было с Вильгельмом IL
Чрезвычайно нервный — временами он производил впечатление истеричного человека — кайзер имел способность выводить из себя всех тех, с кем соприкасался. Помню, как в Вольфсгартене он секвестровал на 2 часа царя. После этого разговора государь был чернее тучи. Впрочем, он всегда бывал озабочен после встречи со своим германским кузеном.
У нас в этом отношении был уже выработавшийся опыт. Сошлюсь только на один пример. После одной из встреч Вильгельм II поднял на «Гогенцоллерне» сигнал:
— Адмирал Атлантического океана приветствует адмирала Тихого океана.
Известно всем, что адмирал Нилов по приказанию царя поднял суховатый ответ:
— Доброго пути.
Но никому, кажется, не известно до сих пор, что прошептал царь Нилову, прочитав дешифровку немецкого сигнала:
— Его надо просто связать, как сумасшедшего.
Что касается государыни, то она питала к своему кузену почти нескрываемую антипатию. У нее всегда болела голова, когда предстояло обедать или завтракать с Вильгельмом II. На яхте «Гогенцоллерн» она была, если не ошибаюсь, один-единственный раз. В личных отношениях она была всегда на границе вежливости: соблюдала этикет, и только…
Когда Вильгельм II шутил с детьми или брал наследника на руки, только тот, кто совсем не знал Александры Федоровны, мог не заметить, что она искренне страдала, как в пытке.
Для лиц свиты встречи с Вильгельмом II были тяжелым испытанием. Надо было быть постоянно настороже. Кайзер редко пропускал случай поставить какой-нибудь весьма щекотливый вопрос.
Он грубо шутил со своими генерал-адъютантами, даже очень почтенными. Я сам видел, как он хлопал по спине (и ниже спины) даже таких людей, как Шлиффен.
Как-то после охоты Вильгельм II посадил меня за завтраком рядом с собой, объяснив мне, что желает поставить мне несколько вопросов насчет императорских театров. Не успел я дать и двух ответов, как он вдруг закатился целой лекцией по хореографии. По окончании завтрака кайзер пресерьезно сказал мне, что остальные вопросы будут им поставлены в свое время.
А проповедь, которой он нас угостил на своей яхте! Мы приехали несколько раньше государя и увидели алтарь с Вильгельмом в качестве пастора. Сверх мундира на нем было одеяние протестантского священника. В течение битого часа он растолковывал нам смысл какого-то текста, специально для нас выбранного им в Библии.
Фредерикс говаривал, что у него выработались надлежащие привычки и что он мог не терять хладнокровия, но что и он все-таки возвращался совершенно разбитым после каждого свидания с кайзером.
Свита германского императора, по-видимому, придавала мало значения эксцентричным выходкам своего монарха. В Свенемюнде, отвечая на тост Николая II, Вильгельм увлекся и сказал экспромтом очень неожиданную речь, которая была хорошо «взята» моими стенографами. Через несколько времени немцы вручили мне текст, не имевший ничего общего с неосторожными заявлениями, только что сделанными Вильгельмом II. Канцлер Бюлов попросил Извольского передать агентству Гавас представленный им текст, так как именно эту речь кайзер должен был произнести, если бы его темперамент не оказался сильнее его осмотрительности, Извольский долго колебался, но потом уступил.
— Речь, сказанная императором, была более красива. Этот текст — более осторожен. Пусть прессе дана будет официальная версия.
Никогда не забуду приема, оказанного Вильгельмом II нашему министру иностранных дел графу Ламсдорфу при свидании в Данциге.
Граф Ламсдорф провел всю свою жизнь у Певческого моста. Очень культурный человек, он соединял большое честолюбие с удивительной застенчивостью, как это часто бывает с людьми, никогда не выходившими из недр канцелярий. Он был очень маленького роста и поэтому носил чрезвычайно высокие каблуки, вроде дамских; фуражка у него тоже была на заказ, слегка вытянутая кверху. Все это плохо вязалось с той жестокой качкой, которая нас встретила на Данцигском рейде.
Не знаю почему, но кайзер избрал Ламсдорфа своей жертвой с первой же встречи. Желал ли он показать свое презрение к «штафирке», явно страдавшему от морской болезни, как бы то ни было, но в течение всего завтрака все шутки кайзера шли исключительно по адресу Ламсдорфа. Князь Бюлов, угрюмый и нервный, присутствовал при страданиях своего коллеги, не имея возможности чем-либо ему помочь.
Отъезд с яхты дал повод к новому издевательству. Катер, на который нас должны были посадить, танцевал у трапа как пробочка. Для привычных людей это не представляло особого затруднения, но Ламсдорф совершенно растерялся. Он дважды упустил удобный момент и на третий раз был наполовину подтолкнут сзади, а наполовину схвачен на лету матросами катера. И в этот момент сверху раздался громовой раскат хохота: Вильгельм II покатывался от смеха и кричал:
— Ну, вы не очень-то ловкий моряк, господин министр.
Несколько часов спустя Ламсдорфу принесли немецкий орден. Он рассчитывал получить Черного орла, а Вильгельм пожаловал ему какой-то крестик, только что перед тем созданный. Сам Бюлов должен был сделать визит, чтобы утешить своего коллегу.
Все эти грубые выходки не имели под собою никакого серьезного основания: кайзер обладал своей манерой веселиться.
Я сам в известный момент сделался объектом весьма неумного поддразнивания. Вильгельм II вдруг стал почему-то называть меня Молосовым. Не было никакой возможности заставить его правильно произносить мое имя: между тем даже для иностранцев оно не является слишком трудным. Кайзер прислал мне свой портрет, на котором было правильно написанное посвящение, но на конверте его же размашистым почерком было начертано: «Генералу Молосову».
Мне кажется, я могу точно указать тот момент, когда я впал в немилость.
История эта довольно курьезна… На острове Карлос были устроены маневры с участием Выборгского полка, коего шефом являлся Вильгельм II. Кайзер выразил желание стать во главе одной из рот в момент, когда она пойдет в «атаку». Царю очень это не понравилось, но разубедить «кузена» было невозможно.
Мы оказались таким образом свидетелями странного зрелища: русские солдаты на кого-то нападают под предводительством германского императора, бойко помахивавшего саблей.
Маневры эти имели своего присяжного фотографа, генерала Несветевича, толкового человека, вышедшего в отставку после войны 1877 года и увлекавшегося с тех пор фотографией. Он носил форму, и это позволяло ему работать для русских газет в местах, куда его штатские коллеги не допускались.
Чтобы лучше снять кайзера, Несветевич припустил рысью и потерял при этом одну из своих калош… Само собой разумеется, что калоши не входили в установленное регламентами обмундирование офицеров.
К несчастью, Вильгельм пронесся как раз по тому месту, где лежала злополучная калоша. Он проткнул ее шашкой и торжественно принес царю. А Несветевич в это время щелкнул затвором.
Можно себе представить, какая поднялась суматоха. Кто посмел явиться на маневры в калошах?.. Наконец вспомнили о Несветевиче. Когда его вызвали, он явился с калошей на одной из ног. Вильгельм II демонстративно стал с ним разговаривать и сказал ему, что желает во что бы то ни стало иметь фотографию атаки… и, значит, калоши.
В тот же вечер я получил от министра двора приказ уничтожить дурацкую фотографию. Ученик Ниепса долго сопротивлялся. Он-де обещал именно эту фотографию германскому императору. Мы все-таки послали в Берлин какой-то другой оттиск.
Вообще Вильгельм II умел высказывать свое неудовольствие даже очень высокопоставленным лицам. Приведу по этому поводу инциденты, имевшие место в Киле после свидания государя с королем английским в Коуз (свидание это было очень неприятно кайзеру).
Мы медленно продвигались по Кильскому каналу. Кайзер не соблаговолил известить нас, что он прибудет на «Штандарт». На одном из последних шлюзов он вдруг объявился неизвестно откуда. Поднялся на императорскую яхту, весьма официально поздоровался с Их Величествами и затем спросил государя, когда он отправится в дальнейшее путешествие. Николай II ответил, что выход из Киля назначен рано утром, так как в Петербурге предполагается официальная церемония с участием Их Величеств. Кайзер ничего не сказал, простился очень холодно и уехал.
Как только мы бросили якорь в Киле, царь получил от Вильгельма II небольшую записку, нацарапанную на листке, явно вырванном из записной книжки. Кайзер просил отложить уход яхты из Киля до 8 часов утра, дабы германский флот, сосредоточенный на рейде, мог достойным образом приветствовать царя. Государь ответил в любезных выражениях: ему будет приятно, сообщил он по-английски, увидеть во всем его великолепии флот кузена. Не могу объяснить почему, каким образом, но через несколько часов мы получили контрприказ: никакого смотра не будет. И замечательно, сам государь говорил потом об этом, что во второй бумаге не было приведено никаких мотивов нового решения кайзера. Не будет смотра и не будет… Точка… Само собой разумеется, мы снялись с якоря в 5 часов утра.
Некоторые из лиц свиты все-таки поднялись спозаранку, чтобы полюбоваться неофициально немецкими броненосцами, но густой туман испортил им все удовольствие.
За завтраком государь посмеялся над их усердием и сказал, что они были наказаны за нескромное любопытство:
— Чтобы мы не могли делать сравнений английского и немецкого флотов, Вильгельм II заказал для своей эскадры туман по мерке.
Тяжелое впечатление, вызванное этим инцидентом, было рассеяно несколько позже, во время нашего последнего визита в Берлин по случаю брака дочери кайзера с герцогом Эрнстом Брауншвейг-Люнебургским: окруженный большим, чем на яхте, количеством придворных, Вильгельм II лучше приспосабливался к условиям официального визита монархов.
Чтобы закончить мои воспоминания о немецком монархе, приведу один инцидент, который имел место в Спале и который доказывает, что отношения Их Величеств к немецким их родственникам всегда носили характер какой-то скрытой и почти неосознанной неприязни.
Принц Генрих Прусский приехал в Спалу со своей женой Ириной, сестрой Ее Величества. (Этого рода визиты производились довольно регулярно: по-видимому, они имели целью осведомление о том, что думает государь и его ближайшие приближенные).
В день приезда принца Генриха государь предложил ему проехаться верхом. Мы сделали верст 20 по лесу неописуемой красоты. По возвращении принц сказал царю:
— Очень интересная прогулка. Но ей далеко до того Distanz Ritt (проезд на выдержку), о котором ты говорил мне в письме.
— Это только тренировка, — ответил государь, — завтра я тебе покажу леса более отдаленные.
И, проходя мимо меня, государь сказал:
— Принц Генрих хочет проехаться на выдержку. Пошлите поваров в то место, о котором мы говорили. Для начала я его прогоняю на 80 верст. На обратном пути спесь у него собьется.
И прибавил с многозначительной улыбкой:
— Скажите, чтобы для меня оседлали вороного.
Государев вороной происходил от чистопородного рысака и английской полукровки. У него была такая рысь, что свита должна была постоянно переходить с рыси на галоп и обратно. Всякий знает, как это утомительно. Но свита состояла из людей, привычных к такого рода поездкам. Что касается принца, то он с трудом выдержал 40 верст и, слезая с лошади, стал на нее жаловаться. На обратном пути ему предложили выбрать любую из свитских лошадей. Это не улучшило положения, и он еле держался в седле, когда мы возвращались домой. Натер себе ноги до крови и 5 суток не мог потом сесть на лошадь.
Царь утешил его, указывая, что ко всему надо привыкнуть. Но лично мне государь, проходя мимо, сказал:
— Теперь будет поспокойнее и не станет больше требовать поездок на выдержку. Удивительно, что все моряки считают себя великолепными кавалеристами…
АНГЛИЙСКИЙ КОРОЛЬ
Какой контраст с визитами Вильгельма II составлял прием английского короля в Ревеле!
Был яркий, солнечный и не очень жаркий июньский день. Яхты «Виктория» и «Альберт» появились на горизонте. Вся наша эскадра со «Штандартом» во главе двинулась навстречу. После обычных приветствий король Эдуард, королева и принцесса Виктория, их дочь, перешли на «Полярную звезду», на которой находилась императрица-мать. Был сервирован завтрак. Государь встретил короля в форме английской конной гвардии (Hors Guards) с громадной шапкой из медвежьего меха. Король возвел государя в звание адмирала английского флота, и после этого император вскоре появился в соответственной форме, более удобной для ношения, особенно в море.
После объезда английских крейсеров, эскортировавших короля, государь спросил меня, не найдется ли у меня в запасе подарка, подходящего для кают-компании. У меня, на счастье, была большая братина чеканного серебра, русской работы и русского стиля. Братина была тотчас же отвезена мною на один из крейсеров как первый подарок нового адмирала английского флота. Ковш этот пропутешествовал немало в моих ящиках с подарками.
Все это происходило чинно, с достоинством. Этикет английского двора очень отличается от нашего. У нас все великие князья с малолетства приучены стоять часами в так называемом «серкле», порядке весьма утомительном. На яхтах «Виктория» и «Альберт» дело обстояло совсем иначе. После обеда король вместе с высочайшими его гостями садился в кресла; разносились кофе и ликеры; около каждого монарха стояло свободное кресло, и лица, с которыми король желал разговаривать, садились без всякого стеснения. По окончании разговора, подчас очень длинного, король делал знак головой, и сидевший возле него удалялся, причем его место занималось другим лицом.
Что касается двух свит, то мы оставались в той же каюте, но никто не обязан был стоять: желающие могли садиться. Все вопросы ранга и социального положения отпадали, раз дело шло о служебных докладах.
Я помню, адмирал Керр, очень почтенный моряк, ходил взад и вперед по каюте, ставя мне время от времени некоторые вопросы. Каждый раз, отвечая, я вставал. Наконец он мне сделал даже замечание:
— Я не могу сидеть, так как я пятьдесят лет привык стоять на вахте. Но это не значит, что лица, не имеющие моих привычек, тоже должны стоять. Здесь же гостиная, мы здесь не на службе…
В 5 часов заиграл оркестр, и наши дамы и барышни стали танцевать. Адмирал Керр пошел кружиться одним из первых, пригласив одну из великих княжон.
Вся царская семья сохранила самое приятное воспоминание об этом визите. Наши гости умели изгнать из отношений всякого рода принужденность и нервозность.
ФРАНЦУЗЫ
Визиты французов, наших союзников, тоже оставляли хорошее впечатление. Никогда не забуду, с каким блеском прошел прием президента Фальера; его сыну тотчас же дали прозвание «дофин».
В качестве историка, занимающегося мелкими жизненными подробностями, отмечу несколько деталей: их труднее всего забыть. Поверят ли мне читатели, если я скажу, что самый глупый из анекдотов сильнее всего запечатлелся в моей памяти.
Во время пребывания французских моряков в Петербурге устроено было большое представление в их честь в Народном доме, грандиозном театре, точно нарочно построенном для такого рода оказий. По должности моей на мне лежало осведомить печать о происшедшем торжестве. Потому ли, что один из репортеров оказался недостаточно внимательным, его газета напечатала жирным шрифтом «Reception dans la maison publique de Sanct-Petersbourg».23 Редактор этой газеты, наверное, так и не узнал, сколько издевательств мне пришлось вынести из-за этой описки… Во всех наших клубах только и речи было, что об этом заголовке. Графиня Фредерикс жестоко обвиняла меня в том, что я не умею «цензуровать» иностранные газеты…
А вот еще деталь. Теперь она кажется такой незначительной… В те же времена о ней говорили неделями…
Возвращаясь со смотра в Компьен, государыня следовала в коляске, имея рядом с собой г-жу Нарышкину, обер-гофмейстерину двора. Толпа окружала коляску, которая еле двигалась вперед. Крики «Да здравствует императрица! Да здравствует императрица!» прокатывались из стороны в сторону. Вдруг какой-то маленького роста господин — он оказался в этот момент прямо перед Нарышкиной, и ему, видимо, хотелось быть любезным — закричал так громко, что покрыл весь гул толпы:
— Да здравствует дама налево!
Ему стали аплодировать, а Нарышкина получила после сего прозвище «дамы налево».
Надо сказать, что приезд иностранного двора всегда ставит церемониальную часть перед неожиданными и подчас неразрешимыми затруднениями.
В Витри во время маневров французской армии царь ездил на своей собственной лошади (это всегда делалось, в том числе и для Вильгельма II). Члены свиты, само собой разумеется, довольствовались местными лошадьми.
Когда я садился на подведенного мне коня, любезный офицер из свиты президента республики подошел ко мне и сказал:
— Ваше превосходительство, мы знаем вас как очень опытного кавалериста: мы вам отобрали поэтому чистокровного коня.
Шагом дело шло как следует. Но вот вдали показались два батальона. Царь пошел галопом. Свита последовала его примеру. Для меня же началось истинное мучение. Мой конь шел таким галопом, который годился для скачки на призы. Заметив, что я выношусь перед государем, — явно неприличное поведение для свитского генерала — я сделал вольт наружу. Но как только я кончил этот вольт, пришлось начать второй, так как моя лошадь во что бы то ни стало старалась опередить всех остальных. При этом, к стыду моему, все расстояние до французских солдат я совершил кругами, один за другим.
Слезая с этой лошади, я спросил вежливого офицера по свите президента республики:
— Она из скаковой конюшни?
— Так точно, Ваше превосходительство: она взяла в Лоншане несколько призов.
— Охотно верю… Я чуть не побил царя на пятьсот корпусов.
Во время того же визита произошел инцидент с крещением внука маркиза Монтебелло, посла Франции в Санкт-Петербурге. Еще задолго до отъезда государя маркиз просил Его Величество быть восприемником внука у купели. Царь не имел оснований отказать послу. Между тем оказалось, что наше пребывание в Компьене совпало с разгаром борьбы между кабинетом Вальдек-Руссо и клерикалами. Начались длинные и сложные переговоры. Французское правительство не желало, чтобы государь появился на официальной церемонии в католической часовне. Николай II настаивал на своем: слово русского царя должно было быть нерушимым. Насколько я знаю, маркиз Монтебелло потерял из-за этой истории свой пост посла: его вскоре отозвали из Санкт-Петербурга…
С обеих сторон каждый считал себя правым.
Во время визита в Компьен произошли еще другие инциденты, вызванные весьма похвальным намерением французов окружить нас атмосферой той эпохи, к которой относится компьенский замок.
Например, везли нас в Компьен в поезде, некогда принадлежавшем Наполеону III. Вагоны были уставлены золоченою мебелью и всякого рода гарнитурами эпохи Третьей Империи. Все это было очень стильно. Но насколько вагоны были не комфортабельны! Узко, тесно… В довершение всех несчастий вагоны оставлены были на прежних рессорах, вовсе не приспособленных для новых скоростей. Государыне чуть не сделалось дурно; все мы вышли из этих клеток разбитыми, измученными.
Самый дворец представлял чудо архитектуры… пока его осматриваешь в качестве туриста. В комнате, которая была отведена лично мне, не оказалось воды; бритвы и флаконы одеколона пришлось ставить на драгоценные шифоньерки в гостиной; все удобства находились за версту от спальни. Короче говоря, дворец был нестерпимо стильным…
Для торжественного банкета французские дамы, желая сделать удовольствие Их Величествам, оделись как бы по расписанию в платья стиля ампир (…ибо дворец был отражением эпох Наполеона I и Наполеона III…) и напудрились каким-то странным лиловым порошком. Впечатление получилось оригинальное: императрица и наши дамы, одетые весьма изящно, по последней парижской моде, среди хозяек — француженок, наряженных в костюмы эпохи Директории и Империи, в покоях Наполеона I.
Сколько споров было, например, насчет орденов! По приезде во Францию мне подали список подлежащих награждению лиц, и этот список был в три раза длиннее того, который выработан был мною в Санкт-Петербурге при активнейшем участии посла и военного агента. Когда я спрашивал:
— Ну, вот этот господин… Какую роль играл он при приеме Его Величества?
…мне говорили в ответ:
— Его не было при приеме… Но он очень влиятельная особа…
А сколько было препирательств насчет того, кому какой орден дали… Не знаю почему, но французы решительно отказывались от Св. Станислава… Отказывались даже от Станиславской звезды.
— Нет, — повторяли они, — пусть будет ниже степенью, но только Анна.
Не могли же мы давать всем этим влиятельным лицам один и тот же орден…
Закончу этот перечень наших треволнений — конечно, не следует преувеличивать значения этих инцидентов — рассказом о нашем отъезде из Компьена. И на этот раз обе стороны были правы, каждая по-своему.
Вся публика поехала на смотр. Считая нужным проследить за последними приготовлениями к отъезду, я решил остаться во дворце. К счастью, вскоре я мог удостовериться, что дворец опустел. Комендант его, чиновники, военные, прислуга — все улетучились, так как всякому хотелось увидеть смотр. Царский багаж осиротело лежал на полу, предоставленный собственной своей судьбе.
Я пошел к коменданту города. Он мне ответил, что царский багаж его не касается.
— Помилуйте, — сказал я, — ведь это же будет неслыханный скандал, если окажется, что царь принужден будет изменить свой маршрут и возвращаться с поездом во дворец, чтобы забрать багаж.
В конце концов комендант города дал мне офицера и нескольких солдат… Но когда они явились во дворец, то оказалось, что психология их весьма отлична от психологии наших солдат:
— Пардон, — сказали они, — мы вовсе не являемся царскими носильщиками.
Опять обе стороны были правы…
С великим трудом уговорил я их взяться за дело. Царь был уже в пятистах шагах от поезда в тот момент, когда мы грузили последнее место императорского багажа.
ФРАНЦ-ИОСИФ
Визиты в Вену и Мюрцштег запомнились мне с особенною ясностью главным образом вследствие разговоров, которые мне пришлось иметь с императором Францем-Иосифом.
Мы все отправились в охотничий замок, где-то высоко в Альпах, около Карлсграбена. Меня поместили в верхней части громадной морены. Мне удалось убить трех горных коз, из которых одна получила мою пулю в тот момент, когда, распластавшись, сделала скачок с одной скалы на другую, и покатилась до подножия горы. Спускаясь вниз по морене по окончании охоты, чтобы осмотреть мои трофеи, я был несказанно удивлен, увидев мою козу у ног самого Франца-Иосифа.
— Мастерский выстрел, — сказал он мне еще издали, с любезною улыбкою. («Das war ein Meisterschuss»).
Я просил прощения, объясняя, что стрелял только потому, что не был осведомлен о том, где штанд Его Величества.
Франц-Иосиф успокоил меня и сказал, что во всяком случае он не мог и не должен был убить в этот день более трех коз. Иначе он достиг бы знаменательного числа трех тысяч коз, павших от его выстрелов, и это обстоятельство дало бы место таким манифестациям и овациям охотников, которых следовало избегать в присутствии гостя — русского царя.
Император предложил мне сесть на складной стул, и мы провели вместе немало времени.
Несмотря на свой возраст, Франц-Иосиф, видимо, обладал прекрасной памятью.
— Ведь это вы были мне представлены, — сказал он тотчас же, — во время визита Сандро Баттенберга?
Я подтвердил это обстоятельство.
— Кажется, — продолжал император, — вы были одним из немногих русских, оставшихся верными Сандро… Мне даже рассказывали, что вам пришлось представлять какие-то оправдания после вашего возвращения в Россию. Расскажите мне, как было дело. Сандро мне был очень симпатичен…
Я рассказал в немногих словах, как произошла эта история, и отметил, что от грозившей мне опалы меня спасли приведенные в рапорте Александру III слова его отца на разводе в Михайловском манеже. Благодаря меня за службу в Болгарии, Александр II тогда добавил:
— Помни и вперед, что служба Сандро есть служба мне.
Франц-Иосиф был хорошо осведомлен о наших действиях в Софии.
— Я убежден, что царь очень сожалел о том, что сделали с Сандро. Заставив его уехать из Болгарии, ваши дипломаты пошли вразрез той политике, которую России было выгодно вести в княжестве. Очень у вас плохо подбирались генералы и представители, отправляемые в Софию…
Он прибавил еще, что, по его мнению, Сандро был очень талантливым человеком; «впрочем, он скорее годился вести солдат в атаку, чем княжить в таком молодом, бестрадиционном государстве, как Болгария, да еще в такую тяжелую эпоху».
Много лет прошло после этого разговора. Снова оказался я в Вене, сопровождая великого князя Андрея Владимировича, ехавшего с особою миссиею в Болгарию. После обеда, данного в честь Его Высочества, император подошел ко мне и во время разговора спросил меня, видел ли я вдову князя Александра, и сказал:
— Навестите ее, это ее обрадует. Она хорошая женщина. Раз уже вы приехали в Вену, не забудьте это сделать. Я ее очень люблю.
КНЯЗЬ ФЕРДИНАНД БОЛГАРСКИЙ
Свидания с болгарами могли бы занять немало страниц.
Принимая во внимание мою пятилетнюю службу в Софии после освободительной войны, государь назначил меня для сопровождения великих князей, представлявших Его Величество на целом ряде русско-болгарских празднеств. Возможно, что я посвящу особую книгу этим страницам русско-болгарских отношений. Настоящее мое изложение является сериею граффити без всякой политической окраски. Поэтому мне придется быть очень кратким.
Являясь бывшим адъютантом князя Александра Болгарского, я не мог рассчитывать быть персона грата при его преемнике, князе Фердинанде. Это было, между прочим, причиною, почему я просил не назначать меня «состоящим» при князе Фердинанде во время пребывания его в Петербурге. События показали, что я ошибался. Его Высочество, напротив, проявил мне симпатию я пригласил меня во время шипкинских торжеств быть его гостем в Софии, где выказал мне немало внимания.
Будущий болгарский царь весьма гордился своим зоологическим садом, и мне советовали его посетить. Придя туда как бы случайно, я встретился с князем, который повел меня по саду, славившемуся полною коллекциею змей, водящихся в стране.
— Хотите посмотреть змей?..
У меня издавна врожденное и неискоренимое отвращение ко всем пресмыкающимся. Из вежливости я, конечно, ответил утвердительно.
Князь повел меня к ящикам, наполненным этими отвратительными животными. К моему великому ужасу, он вдруг стал вынимать одну за другой змей из ящиков, предварительно надев для этого какие-то зеленые перчатки. Змеи извивались по его рукам. Кончилось дело тем, что Фердинанд подсунул мне одно из этих ужасных существ и милостиво разрешил поласкать его. С мужеством, достойным спартанца, я сделал надлежащий жест… Надо-ли прибавить, что успокоился я только тогда, когда мы перешли в другую часть сада. Очевидно, князь заметил по моему ответу, что я не поклонник змей, и так как по своему характеру он любил дразнить, то доставил себе удовольствие испытать крепость моих нервов. Затем Его Высочество повел меня в теплицы, подолгу останавливался пред пальмами и в точности называл латинское имя каждой из них.
Посещение зоологического сада, оранжерей и дворца, где мне был предложен интимный завтрак, заняли столько времени, что Ориент-экспресс, на котором я должен был уехать, задержан был на целый час по личному приказанию князя.
После завтрака Фердинанд предложил мне папиросу из своего великолепного портсигара, который подарил мне на память, вероятно, чтобы загладить шутку со змеями. По-видимому, все ученые немножко маньяки, даже когда у них короны на голове, однако милостивое и любезное отношение ко мне Его Высочества я не мог не оценить.
ШАХ ПЕРСИДСКИЙ
Визиты персидского шаха оставили в моей памяти только два анекдота. Их стоит рассказать.
На одном из придворных приемов целый ряд сановников и дам дефилировали перед восточным потентатом и были ему представлены. Отвечая на поклон одной из дам, шах громко сказал по-французски:
— Pourquoi: vielle? laide? decolletee?.. (Зачем: старые? безобразные? декольтированные?..)
Очевидно, в Тегеране приличия понимали иначе, чем в Петербурге.
Во время курских маневров шах, едучи на какой-то курорт, пожелал посетить Их Величества. Государь пригласил его присутствовать на финальном параде. Перед шахом пропустили громадное количество войск. Ему объяснили, что в параде участвуют сто тысяч солдат.
В известный момент шах подозвал знаком своего адъютанта и что-то сказал ему на ухо. Мой товарищ Бельгард, бывший в свое время инструктором персидской кавалерии, заметил, что адъютант остановился, совершенно беспомощный, около двери павильона, в котором помещались императрица и шах.
Оказывается, шах поручил ему пойти и лично удостовериться, что не одни и те же батальоны, повернув где-то сзади павильона, дефилируют по нескольку раз перед царем царей. Персидский офицер, бедняга, не знал, как исполнить столь деликатную миссию.
Бельгард свел его к тому месту, где происходила дислокация. Только этим путем удалось ему доказать, что парад производился без всякого обмана.
Государь, которому это доложили, долго смеялся над чисто восточною подозрительностью.
ВЫСОЧАЙШИЙ СТОЛ
Переходя к вопросу о ежедневном обиходе Их Величеств, начну с того, как обстояло дело со столом.
Все, что относилось к столу и к церемониалу обедов и завтраков, находилось в заведовании гофмаршала двора графа Бенкендорфа. У него было два помощника — князь Путятин и фон Боде, которым присвоена была кличка «полковники от котлет»…
Граф Бенкендорф считал себя в сфере своего ведения безраздельным хозяином и владыкой, был очень ревнив насчет своих полномочий и никому не позволял ни малейшего посягательства на свои прерогативы. Само собой разумеется, ему приходилось держаться в рамках выделенной ему части бюджета двора, но деньгами этими он распоряжался совершенно диктаторски. Ему присвоена была высокая честь: личный доклад Его Величеству. Таким образом, он получал директивы непосредственно от царя. В исключительно важных случаях сообщал о полученных им приказаниях министру двора.
Стол разделялся на три категории, или класса.
1. Стол Их Величеств и их непосредственной свиты.
2. Стол гофмаршала, для свиты не непосредственной и для сановников, приглашенных ко двору.
3. Стол прислуги с двумя подразделениями соответственно чинам.
Первый стол предназначался для лиц, специально приглашенных Их Величествами. Если особа, представлявшаяся Их Величествам, не получала приглашения к столу, то она довольствовалась у гофмаршала.
Первый завтрак подавался в апартаментах. Он состоял из кофе, чая, шоколада — по выбору. Приносили также масло, разные сорта хлеба (обыкновенный, сдобный, сладкий). Всякий мог потребовать себе ветчины, яиц, бекона.
Затем приносились еще калачи. Это была традиция, веками установленная и сугубо освященная поощрениями государыни, очень полюбившей именно калачи. Так как калачное тесто славится особливо в Москве, наши булочники создали целую легенду о том, что калач можно выпекать как следует только на воде непосредственно из Москвы-реки. Пришлось, значит, организовать доставку москворецкой воды. Были особые цистерны, и их гнали по рельсам во всякое место, где бы двор в данный момент ни находился. Калач полагается кушать горячим, поэтому его подавали завернутым в подогретую салфетку.
Блюстителями установленных обычаев при дворе была вся низшая прислуга, происходившая из дворцово-служительского сословия, существовавшего при крепостном праве. То были крепостные лично государя. Впоследствии сословие это юридически перестало существовать, но почти все придворные служители происходили из потомков этих крепостных и представляли весьма сплоченную среду, как бы племя или касту. Было почти немыслимо противодействовать традиционности, впрочем, совершенно не касавшейся их политических убеждений. При выборах в Думу дворцовая прислуга голосовала преимущественно за эсеров.
Приведу весьма характерный мой разговор с графом Бенкендорфом, опытным знатоком психологии дворцовых служителей.
Во время большого обеда в Гофбурге, данного императором Францем-Иосифом, меня поразило сходство придворных ливрей, как и способа служить за столом австрийской придворной прислуги. При подаче десерта наши соседи обратили внимание гостей на конфеты, завернутые в бумагу с фотографиями высочайших особ, и предложили нам взять по нескольку таких конфет. По окончании обеда все так быстро оставили свои места, что никто из гостей не успел взять своих конфет. Каково же было наше удивление, когда при выходе из дворца мы получили каждый оставленные нами на столе конфеты, завернутые в бумагу и завязанные шнуром цветов двора.
Я рассказал графу Бенкендорфу об этом случае и спросил его, нельзя ли и у нас ввести подобный порядок. Гофмаршал ответил, что это было бы невозможно.
По традициям нашего двора, все конфеты, не съеденные за столом приглашенными лицами, шли в распоряжение прислуги.
— Изменить эту традицию было бы слишком трудно. Будет масса недовольных… А гости все равно не получат того, что будет для них приготовлено…
Так смотрел на дело гофмаршал двора Его Величества, которого считали очень строгим, с безусловно устойчивым положением и большим авторитетом.
Завтрак подавали в полдень. В Ливадии и во время охоты свита садилась за высочайший стол в полном своем составе. В столовую надо было являться за 5 минут до назначенного времени. Государь входил, здоровался с присутствующими лицами и отправлялся к столу с закусками. Всякий брал, что хотел, и ели их стоя. Из закусок перечислю: икра, балыки, селедка и «канапе», то есть маленькие сандвичи. Подавались также два или три сорта закусок горячих: сосиски в томатном соусе, горячая ветчина, «драгомировская каша» и т. д. Государь выпивал две рюмки водки и брал себе чрезвычайно маленькие порции закусок. Государыня считала негигиеничным начинать завтрак с еды стоя и никогда не подходила к столу с закусками.
Все это продолжалось около 15 минут. Фрейлины подходили по очереди к государыне, которая разговаривала с каждой из них.
После закуски всякий садился на предназначенное ему место. Искать это место в присутствии Их Величеств не полагалось: рекогносцировка поэтому производилась заблаговременно.
За завтраком государыня обыкновенно садилась рядом с государем, направо от него, министр двора в этих случаях помещался напротив Их Величеств. Если были приглашенные, таковых сажали рядом с Их Величествами и с министром двора; члены свиты размещались по старшинству; в виде особого исключения, место по правую руку от государыни отводилось всем членам свиты по очереди, причем не делалось никакого различия между старшими и младшими.
Раньше чем покончить с вопросом о закусках, упомяну о церемонии «презента». Этот подарок государю носил почему-то французское имя «презент».
Каждую весну уральские казаки приносили царю презент, то есть больших рыб первой ловли и несколько бочек икры.
Сначала презент существовал как свободное проявление верноподданнических чувств казачьего населения. Но потом дело было урегулировано особою грамотой, обеспечивавшею казакам рыбные промыслы Урала, но обязывающей их сдавать при дворе, что будет поймано в первый день — так называемый царский.
Царский лов был важным событием. Он производился со льда, еще покрывавшего реку, и требовал поэтому особой, довольно сложной техники. Во льду пробивались проруби, и через эти проруби протаскивались сети.
Сам генерал-губернатор присутствовал при этой церемонии. Власти, конечно, выезжали в полном составе. Служился сначала молебен, а потом духовенство окропляло святой водой проруби.
Икра изготовлялась на месте, там же солили рыбу. В тот же день вечером особый поезд отправлялся на север. Презент везли бородачи казаки, высоко ценившие выпавшую на их долю честь съездить в столицу. Казаки эти ехали по избранию на круге. Избирались, конечно, особо уважаемые лица, георгиевские кавалеры.
Делегацию принимал сам царь в большой столовой дворца. Казаки входили, неся лучшие образцы рыбы и икры нового засола, светло-серой, с янтарным отливом. Подарки ставились на особый стол, и царь, а также и государыня отведывали привезенные продукты — лучшее, что можно было достать на Урале. Затем царь опоражнивал чарку водки за процветание уральского казачества. Делегация получала подарки, обыкновенно часы с двуглавым орлом.
После этого казаки отправлялись к министру двора и к автору этих строк; делали подношения они также великим князьям и разным высоким сановникам. Царский лов был обилен. На свою долю я получал около пуда икры, чудесной, и 5–6 рыб длиною в метр, а то и больше. С течением времени Урал стал менее богат рыбой (или усердие казаков стало падать?). К концу царствования презент стал почти наполовину менее обильным. Но все-таки икры хватало даже на отправку некоторым иностранным дворам, что делалось по личным указаниям Их Величеств.
Во время завтрака подавались два блюда, каждое в двух видах: яйца или рыба, мясо белое или черное. У кого был очень хороший аппетит, те могли получать все четыре блюда. Ко второму блюду подавали овощи, для которых имелись особые добавочные тарелки весьма оригинальной формы — в виде четверти луны. В конце завтрака подавались компоты, фрукты и сыр.
Лакей, державший блюдо, должен был класть вам надлежащую порцию на тарелку: таким образом, мужчинам не приходилось услуживать дамам. Но государь всегда брал с блюда сам, другие стали ему подражать, и прежний обычай понемногу стал изменяться.
Когда не было приглашенных, кофе подавался за тем же столом. Царь зажигал папиросу и указывал, что Ее Величество разрешает курить. Если же были приглашенные лица, все поднимались с мест после десерта. Их Величества отвечали на общий поклон и переходили в другую залу или в сад. Кофе пили стоя, причем Их Величества разговаривали с присутствующими. Курить можно было только после того, как государь подаст пример.
В 5 часов вечера чай подавали в апартаментах. Иногда, если была охота, мы отправлялись пить чай к какой-нибудь из фрейлин, какая была поближе. Чтобы пить чай с Их Величествами, надо было получать особое приглашение.
Выходя к обеду в 8 часов вечера, Их Величества здоровались с теми лицами, которых им не пришлось видеть в течение дня. Я всегда себя спрашивал: как это они устраивались, чтобы никогда не ошибиться… В Ливадии вечером не подавали закусок. Во время охот, наоборот, подавались особо обильные закуски.
Обед начинался с супа с маленькими волованами, пирожками или небольшими гренками с сыром. Подчеркиваю, что волованчики подавались с супом, а не как самостоятельное блюдо, то есть не так, как это делается за границей. Затем шли: рыба, жаркое (дичь или куры), овощи, сладкое, фрукты. Кофе подавался в столовой. Конечно, в торжественных случаях число блюд увеличивалось соответственно общим правилам интернациональной кухни.
Как питье подавали мадеру, белое или красное во время завтрака (пиво, по желанию), за обедом давали разные вина, как это делается во всем цивилизованном мире. К кофе — ликеры.
Каждый обед и завтрак должен был продолжаться ровно 50 минут, ни одной минутой больше, ни одной меньше. Это тоже была традиция, и гофмаршал зорко следил за ее соблюдением. Благодаря этому блюда заблаговременно приносились, и, конечно, что бы ни готовили повара и шефы, все это доходило до обедающих до известной степени в поблекшем виде.
Традиции 50 минут положил начало Александр II, который любил менять место столовой: иногда он выбирал комнату или зал, находившиеся весьма далеко от кухни. В то же время царь требовал, чтобы блюда подавались без перерыва: как только кончено с рыбой, жаркое на столе. Гофмаршалу пришлось пожертвовать кулинарным искусством во имя быстроты сервировки блюд. Выдуманы были поэтому грелки с кипятком; перемену приносили минут за 20, на серебряном блюде с серебряною же крышкою; все это ставилось на паровую грелку в ожидании момента подачи. Благодаря этим ухищрениям ритм 50 минут соблюдался. Но соусы погибали бесславно, ибо все являлось на стол в подогретом состоянии.
Фредерикс боролся всю свою жизнь с этим кулинарным саботажем и «гастрономическим скандалом». Всего его авторитета оказалось недостаточно для того, чтобы уничтожить паровые грелки. В Ливадии он решился на крайние средства: призвал инженеров и велел построить железную дорогу-подъемник. Железная дорога соединяла кухню с подвалом-буфетной, а подъемник завершал путешествие ростбифа с картошкой. Фредерикс надеялся, что его нововведения позволят блюдам являться в надлежащих облаках ароматических паров. Министр двора забыл, оказалось, ознакомиться с авторитетным мнением поваров. Сии последние уперлись. По их мнению, поезд при всем его электрическом оборудовании все-таки не мог не расплескивать соусов: где уж поезду справиться с кошачьей походкой тех поварят, которые носили блюда и которые могли остаться без дела! Приказание министра двора было исполнено: поезд задвигался. Повара ответили итальянской забастовкой: поезд стал у них ходить медленно, так медленно, что крокет де воляй остывал окончательно. В конце концов поезд перестал ходить. Коллекцию грелок водрузили с торжеством на старое место, и больше с ними никто не боролся.
Замечу, что государыня всегда находилась на особом режиме, и ее блюда приготовлялись в буфетной на спиртовках. Действительно хорошо мы ели только в царском поезде, где кухня находилась рядом со столовой и где за стол садились максимум шестнадцать человек. В поезде блюда приносились с пылу горячими; может быть, именно поэтому только в поезде государь иногда вызывал шефа, чтобы поблагодарить его за особо удачное блюдо.
Стол гофмаршала мало чем отличался от стола государя. Может быть, подавали немного меньше фруктов и ранних овощей.
Этот стол подавался самому гофмаршалу, министру двора, когда он находился в Петербурге, обер-гофмейстерским и свитским фрейлинам. Имели также право получать довольствие этого стола военное дежурство при государе и офицеры, несущие в этот день караульную службу во дворце. Лица, представлявшиеся Их Величествам и не удостоившиеся личного приглашения к высочайшему столу, завтракали за столом гофмаршала в его присутствии.
Стол прислуги, должно быть, был очень вкусным. Мой лакей все только толстел и покупал пояса подлиннее…
Приняв верховное командование, государь пошел наперекор всем традициям: приказал готовить себе только самые простые блюда. Он мне сам однажды сказал:
— Благодаря войне я понял, что простые блюда гораздо вкуснее, чем сложные. Я рад, что отделался от пряной кухни гофмаршала.
Перехожу к винам. За завтраком государь пил только мадеру: большую рюмку особо выбранной для него марки. Бутылка мадеры всегда ставилась перед прибором царя. Он не любил, чтобы ему наливал вино лакей, «всегда слишком деловитый и услужливый». Царь наливал себе вино сам. Всем остальным лакеи наливали мадеру, белое и красное вино, как это принято в известном порядке за границей. За обедом было более разнообразия в винах.
Все эти вина были превосходны. Но имелся еще заповедный погреб, «запасной», в котором содержались, так сказать, вина выдающихся годов. Граф Бенкендорф зорко наблюдал за этим заповедным погребом, настоящим предметом наших вожделений. Чтобы добраться до этого погреба, надо было пускаться на хитрости. Надо было, чтобы сам министр двора заговорил о заповедном погребе. Для сего требовался приличный предлог. Брался календарь и отыскивались святые. Когда оказывалось подходящее имя, отправлялись к Фредериксу и объясняли ему, как обстоит дело. Он призывал Бенкендорфа и говорил ему:
— У меня сегодня семейный праздник. Вы уж не откажите нам в бутылочке старого винца.
— Боже мой! Эти вина берутся на случай больших торжеств…
Приходилось слегка поторговаться и в конце концов на столе появлялись стаканы «особого назначения». Заметив их, государь смеялся:
— Опять совершеннолетие племянницы. Интересно знать, кто об этом первый вспомнил… Держу пари, что Нилов или Трубецкой…
Фредерикс особенно любил некий Шато-Икем, именовавшийся нектаром. Не было никакой надежды получить стакан нектара, если на обеде присутствовала государыня.
Заповедный погреб погиб во время Октябрьской революции. Подвалы Зимнего дворца были разгромлены. Чего не могли выпить, то вылили на мостовую. Тела пьяных лежали кучами. Площадь Зимнего дворца походила в эту ночь на настоящее поле сражения…
Строго говоря, вино, конечно, не играло при дворе той роли, которая ему была присвоена в XVIII столетии и раньше. Оставалась только одна традиция, и из этой традиции всякий волен был делать соответственные заключения.
Существовал обычай золотого коронационного кубка. В известный момент торжественного обеда, даваемого по случаю коронации, обер-шенк подавал царю большой золотой кубок, наполненный вином, и громко возглашал:
— Его Величество изволит пить!
В этот момент все иностранные гости (не исключая и дипломатов) покидали Грановитую палату. Во время последнего коронования этот слегка странный тост не был провозглашен, но церемониймейстеры все-таки просили всех «чужеземцев» удалиться в другие залы, где специально для них были накрыты столы. На пиршестве в Грановитой палате должны были присутствовать только верноподданные Его Величества.
Читатели, конечно, догадались сами, почему московские Макиавелли XVI века сочли нужным создать такой обычай…
При Александре II все подаваемые вина были иностранного происхождения. Александр III создал для русского виноделия новую эпоху: он приказал подавать иностранные вина только в тех случаях, когда на обед были приглашены иностранные монархи или дипломаты. Иначе надо было довольствоваться винами русскими. Полковые собрания последовали примеру, данному свыше. Я помню, что многие офицеры находили неуместным винный национализм: вместо собраний они стали обедать в ресторанах, не обязанных считаться с волей монарха.
Признаюсь, что в те времена надо было иметь много национального мужества, чтобы довольствоваться крымской кислятиной. Но это продолжалось недолго. Под искусным руководством князя Кочубея уделы быстро довели свои вина до высокой степени совершенства. Весьма скоро потребление иностранных вин сделалось признаком просто снобизма.
Главным вдохновителем русского виноделия был князь Лев Голицын. Считалось, что он умеет «пробовать» вино не хуже заправских дегустаторов.
Его виноградники находились в 30 верстах от Ялты. Имение называлось «Новый мир». Александр III заинтересовался этим грандиозным предприятием и предложил Голицыну пост главного администратора Массандры. Князь долго упирался и даже поставил условия: никогда не надевать никакого мундира; никогда не получать никаких званий и никаких отличий; делать в Массандре все, что заблагорассудится.
Царь удивился, но дал свое согласие. В течение некоторого времени Голицын управлял не без успеха Массандрой. Но потом у него начались счеты с главноуправляющим уделами. Он был призван к царю, но оказался настолько несговорчивым, что ему пришлось подать в отставку.
Голицын после этого посвятил себя всецело своему имению. В последние годы царствования Николая II Голицын предложил «Новый мир» в подарок государю. Зная князя как человека эксцентричного, государь предложил ему изложить письменно условия этого дарения. Оказалось, что условий этих немало, и притом они не так-то просты. Государство обязывалось создать в «Новом мире» целую академию виноделия. Голицын должен был быть ее пожизненным президентом с правом проживать в имении до самой своей смерти. По произведенным подсчетам, академия должна была вскочить уделам в крупную копейку. Царь, однако, заинтересовался планами князя и приказал не считаться с расходами.
Я помню посещение Их Величествами «Нового мира».
Подвалы имели 3 версты в длину. На перекрестках галерей устроены были круглые комнаты для «пробования» вина. Одна из этих зал называлась «винной библиотекой»: в ней находилась специальная коллекция старинных стаканов и кубков, подобранных по сортам вина. Раскупоривая знаменитые «годы», князь болтал без остановки…
— Хотела бы я знать, — сказала на возвратном пути государыня, — сколько часов может он говорить без остановки…
ЧАСТЬ IX ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБИХОД
КАК ПРОВОДИЛОСЬ ВРЕМЯ
Я могу говорить только о том, как проводили время Их Величества в Ливадии, так как только в Крыму я находился в непосредственном общении с государем и его семьей.
Утро было посвящено государем работе, за которую он садился тотчас же после короткой прогулки.
Царь принимал докладчиков, стоя впереди своего письменного стола. Садясь, он указывал посетителю кресло, а также выдвигал из стола особую доску, на которой можно было расположить принесенные бумаги. Во время доклада государь курил, причем и докладчик получал разрешение зажечь папиросу.
Царь очень ценил докладчиков, которые умели излагать даже запутанные дела, не выходя из разговорного тона. Раньше чем слушать докладчика, царь брал доклад, просматривал первые строки (чтобы уяснить себе, о чем будет идти речь) и внимательно прочитывал заключение доклада, то есть ту его часть, которая перечисляла меры, предлагаемые министром. Если сущность этих мер не была вполне ясна, царь просматривал также и остальные страницы доклада. Он не любил таких докладов, в которых были нагромождены аргументы, явно ненужные. Генерал Сухомлинов, военный министр, обладал особенным умением овладевать вниманием царя и держать его в напряжении в случае надобности часа два подряд.
Когда доклад бывал окончен, царь подходил к окну и начинал говорить о посторонних вещах, подчеркивая этим, что аудиенция кончена.
Иногда доклады делались также вечером, от 16 до 18–30.
Царь никогда не пропускал ни одной церковной службы, каковы бы ни были обстоятельства, могущие оправдать его непоявление в церкви. Служба начиналась только после прихода Его Величества и продолжалась около часу.
Царь встречался со своей семьей только за столом, во время пятичасового чая, и вечером, если у него не было особо срочной работы.
Еще до окончания завтрака государыня делала знак детям, и они бросались в сад, увлекая за собой барона Мейендорфа, начальника великих княжон; смех и крики тотчас же раздавались снаружи.
Бывший «дирижер» придворных балов, барон умел завоевать благодаря своему веселому и общительному характеру симпатии обеих императриц. Сделавшись старше, он сохранил свой веселый нрав и упрочил свое положение в глазах младшего поколения.
Он был чрезвычайно симпатичен; все его любили, но никто с ним серьезно не считался. Надо сказать, что ему сильно мешала его супруга «тетя Вера», дама честолюбивая и часто смешная.
Баронесса была председательницей Общества покровительства животных; усердие ее в области исполнения функций председательницы создавало ряд затруднений для всей администрации Крыма. Раз она потребовала, чтобы кур не носили на рынок вниз головой ввиду возможности обмороков… Губернатор отдал соответственное распоряжение. Но весьма скоро баронесса явилась к нему с жалобами.
— Я не допускаю мысли, — сказал губернатор, — чтобы крестьяне не исполнили моего распоряжения.
— Перед моей дачей все обстоит благополучно. Но за углом несчастные куры опять попадают в положение вертикальное… Я сама ходила тайком посмотреть…
Особенно знаменитою баронесса сделалась после истории с красным пуделем. Как раз в тот момент, когда она выходила из своей виллы, под ноги ей попал пудель, выкрашенный в ярко-красный цвет. Баронесса хотела поймать пса, но неизвестно откуда набежала масса дворняжек. Дальше получилась такая картина. По улице бежал красный пудель, за пуделем — дворняжки, а за дворняжками мчалась баронесса, крича:
— Держите, держите красную собаку!..
Городовой ухитрился в конце набережной поймать пуделя. Баронесса приказала ему нести собаку прямо в губернаторский дом, следуя за ним сама в величайшем волнении… Губернатор принужден был принять ее вне всякой очереди.
— Какая тут администрация! — волновалась она. — Безобразие! Позор! Я требую строжайшего наказания для того, кто позволил себе истязать эту собаку!..
— Простите, баронесса. Но в чем же состоит истязание? Дамы себе красят волосы, и это считается вполне уместным…
— А самолюбие собаки? Вы с ним не считаетесь?.. Боже мой, все дворняжки Ялты бежали за пуделем. Собака явным образом страдала…
— Вы не можете этого доказать… Пуделю, может быть, льстило, что на него обращают внимание…
Баронесса потребовала, чтобы было произведено дознание. Оказалось, что пуделя выкрасил в красный цвет один из офицеров, находившихся под начальством ее мужа… Доложено было государю: тот приказал довести до сведения баронессы, что виновного найти не удалось…
По окончании завтрака царь говорил присутствующим со своей обычной простотой:
— В таком-то часу я поеду верхом. Кто желает сопровождать меня, благоволите заказать себе лошадей.
Нам приводили небольших лошадок, привыкших лазать по откосам гор. Любителей этого рода спорта было немного. В конце концов вышло так, что я один сопровождал государя, не считая, конечно, дежурного флигель-адъютанта, который ехал, так сказать, по обязанности.
Но это недолго продолжалось. Раз в сильный дождь Николай II около Массандры шел большой рысью, распустив поводья. На мягкой глине на повороте лошадь поскользнулась. Царь упал, сильно ушиб себе ногу, но оказался в состоянии снова сесть в седло и вернуться в Ливадию; здесь силы его покинули, и он еле поднялся на крыльцо. Государыня была страшно перепугана и умоляла царя больше не делать прогулок верхом. К тому же около этого времени появились автомобили; было гораздо приятнее доезжать до определенного места и потом сразу лезть на высоту. Скоро оказалось, что один Дрентельн, исключительный ходок, в состоянии следовать за государем, который был ходоком необычайно выносливым. Царь вообще был очень крепко сложен: вне своего кабинета он редко когда садился; я никогда не видел, чтобы он к чему-нибудь прислонялся; выдержка его была замечательна.
Прогулка государя вызывала немало забот для лиц, приставленных к делу личной охраны монарха. Нельзя было не поместить некоторое количество переодетых полицейских на тех дорогах, по которым предполагал пройти государь, особенно если эти дороги пересекали деревни, населенные Бог весть какими татарами. Но царь ненавидел этих, как он называл, «ботаников» или «любителей природы». Особенное удовольствие ему доставляло обмануть всех этих господ, как бы интересовавшихся всем, чем угодно, но только не особой государя.
Отчаяние начальника дворцовой полиции было подчас неописуемо. Чтобы помочь ему, я обещал телефонировать ему всякий раз, как государь в пути изменит заранее намеченный маршрут. В таких случаях я посылал одного из ординарцев (следовавших за нами) протелефонировать на полицейский пост и благодаря этому дислокация «ботаников» вдруг менялась. Они срывались со своей беспечной прогулки и лезли вниз или наверх по козьим тропам для сокращения пути.
Раз, после одного из подобных маневров полиции, царь увидел начальника охраны в тот момент, когда тот нырял головой вперед в какую-то саклю. Царь подозвал его и спросил:
— Я изменил направление прогулки после того, как вышел из дворца. Каким образом могли вы узнать об этом? Почему вы все-таки оказались на моем пути?
Сконфуженный начальник охраны, не желая меня выдать, стал что-то бормотать о предвидении и о предчувствии. Больше ему ничего не оставалось делать…
«Любители природы» получили еще раз строжайший (о, насколько бесполезный…) приказ не задерживаться на тех тропинках, где Его Величество может пожелать гулять.
Царь нередко играл в теннис. Играл очень хорошо, и его противники, морские офицеры и фрейлины, были много слабее его. Узнав, что у Юсуповых гостит их племянник граф Николай Сумароков-Эльстон, чемпион России, Его Величество приказал пригласить его в Ливадию.
Мне рассказывали, что Сумароков, левша, выиграл все сеты. После чая государь попросил реванш. Сумароков ухитрился так попасть царю мячом в ногу, что государь упал и должен был пролежать три дня в постели. Бедный чемпион был в отчаянии, хотя вины с его стороны не было, конечно, никакой. Говорят, что Юсуповы сильно его бранили. Выздоровев, государь снова пригласил Сумарокова в Ливадию, но чемпион уже не смог играть с прежней энергией.
Если не считать свиты Их Величеств, мало кто приглашался к чаю. Даже великие княгини являлись только в том случае, если их специально о том просили. Ни государь, ни государыня никогда не стремились расширить круг лиц, могущих иметь непосредственное с ними общение.
В течение всей своей службы я никогда не видел, чтобы кто-нибудь был приглашен к Их Величествам после обеда. Со своей стороны, Их Величества никогда ни к кому вечером не ездили, если не считать императрицы-матери и великой княгини Ксении Александровны (визиты к черногоркам стоят совершенно особо).
При таких условиях вечера проводились спокойно и однообразно. Вначале государыня оставалась в гостиной, ожидая конца партии государя (безик или домино). По мере того как прогрессировала ее болезнь, императрица все реже выходила к обеденному столу. Обедала она или одна, или «в двух персонах» (с государем), как это записывалось в пресловутый гоф-фурьерский журнал, имеющий свой особый стиль.
Свита устраивала несколько столов бриджа. Но игра недолго продолжалась. Государыня вставала. Я, заваленный работой, обыкновенно уходил раньше, оставляя наблюдателя, обязанного сообщить мне, когда Ее Величество прощалась с присутствовавшими. Тогда я возвращался в гостиную.
Я был вполне уверен, что мое отсутствие остается незамеченным. Но однажды, подходя последним «к ручке», я услышал:
— Вы очень искусно возвращаетесь в нужный момент.
— Ваше Величество, у меня была срочная работа.
— Как всегда…
— Все же не могу я остаться без «ручки»…
— Я вас понимаю, — любезно сказала мне государыня, которая, по-видимому, так же, лишь по обязанности, проводила часть вечера в гостиной.
ПУТЕШЕСТВИЯ ПО ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ
Путешествия по железной дороге вызывали крупные осложнения. Я только что был назначен начальником канцелярии, как мне пришлось заняться подготовкой путешествия в Крым с заездом в Беловеж для охоты.
Сколько бумаг надо было составить!.. Дворцовая полиция: охрана во время пути. Железнодорожный батальон: охрана мостов и туннелей. Военное министерство: часовые на всем протяжении дороги. После 1906 года все вопросы охраны полностью перешли в ведение дворцового коменданта. Министерство внутренних дел: кто и где будет представляться Их Величествам. Гофмаршальская часть: подготовка резиденции. Инспектор высочайших поездов: отход и приход поездов. Кабинет Его Величества: подарки, которые необходимо взять на всякий случай, так как никогда нельзя было знать заранее, где, кто и когда удостоится высочайшего подарка; в виде правила, я возил с собой тридцать два сундука, наполненных портретами, ковшами, портсигарами и часами из всех возможных металлов и всех возможных цен.
Приготовления осложнялись тем обстоятельством, что все переезды Их Величеств окружались великой таинственностью.
Государь и государыня терпеть не могли отвечать на вопросы, куда они поедут и когда кого будут принимать. В полдень иногда я не знал еще, что поезд назначен на 3 часа пополудни… Приходилось поддерживать «дружеские» отношения с челядью: скороходами, горничными, лакеями, гоф-фурьерами… Они подбирали на ходу обрывки разговоров, и от них по телефону я узнавал, что царь или царица сказали насчет предстоящего путешествия. Эти услуги, конечно, не были бескорыстными.
Для путешествий своих царь располагал двумя поездами. По внешнему виду их нельзя было отличить один от другого: восемь вагонов голубого цвета с монограммами и гербами. Их Величества ехали в одном из поездов, второй служил, как теперь, после войны, говорят, для камуфляжа. Он шел пустой или спереди, или сзади настоящего царского поезда: даже начальники движения не могли знать, в каком именно из двух поездов находится царь и его семья.
В первом вагоне находились конвой и прислуга, Как только поезд останавливался, часовые бегом занимали свои места у вагонов Их Величеств. Во втором вагоне находились кузня и помещения для метрдотеля и поваров. Третий вагон представлял собой столовую (красного дерева); треть этого вагона отведена была под гостиную, с тяжелыми драпировками и мебелью, обитою бархатным штофом; там же стояло пианино. Столовая была рассчитана на шестнадцать кувертов.
Четвертый вагон пересекался во всю его ширину коридором и был предназначен для Их Величеств. Первое купе, двойного размера, являлось рабочим кабинетом государя: письменный стол, два кресла, маленькая библиотека. Затем шли ванная и спальня Их Величеств. Не могу сказать, как обставлено было это купе, так как я в него никогда не входил. Наконец, еще тройное купе представляло собой гостиную государыни — серо-лиловатых тонов. Если императрицы не было в поезде, купе это закрывалось на ключ.
В пятом вагоне находилась детская; драпировки были из свежего кретона, а мебель — белая. Фрейлины помещались в этом же вагоне.
Шестой вагон отводился свите. Он был разделен на девять купе, из которых одно, двойное, посередине вагона, предназначалось для министра двора.
Наши купе были много просторнее, чем в международных спальных вагонах. Комфорт был обеспечен, конечно, полностью. На каждой двери была рамка для помещения визитной карточки. Одно купе всегда оставалось свободным: в него помещали лиц, представлявшихся Их Величествам в пути и почему-либо оставляемых в поезде.
Наконец, седьмой вагон предназначался для багажа, а в восьмом находились инспектор высочайших поездов, комендант поезда, прислуга свиты, доктор и аптека. Канцелярия двора и походная канцелярия помещались, как могли, в багажном вагоне.
Я никогда не забуду первого дня, проведенного мною в царском поезде.
Накануне отъезда прислуга расположила — в соответствующих купе — одежду и туалетные принадлежности. Все лишнее бросалось в багажный вагон, доступ в который был открыт и днем, и ночью.
Мы собрались в царском павильоне за полчаса до приезда Их Величеств. Государь, государыня и дети прибыли за несколько минут до отхода. Поезд двинулся в путь тотчас же.
В 5 часов вечера скороход прошел по вагонам, заявляя, что Их Величества приглашают нас к чаю. Собрались в салоне. Государыня подошла ко мне и сказала несколько слов: видимо, для того чтобы одобрить новичка. Затем мы перешли в столовую и заняли места по старшинству. Царь и царица сидели посередине стола, один против другого. Я был в это время в чине полковника и поэтому оказался на самом конце стола. Две старшие фрейлины сидели направо и налево от государя. Соседями государыни являлись граф Фредерикс и генерал-адъютант Гессе. Когда государыня отсутствовала, ее место занималось графом Фредериксом. Общий разговор тотчас же завязывался между лицами, сидящими вблизи от царя. Остальная публика разговаривала между собою вполголоса.
Присутствие императрицы — я скоро в этом убедился, к сожалению, — создавало какую-то атмосферу принуждения и неловкости, видимо ощущаемую и самой императрицей. Мы все были веселее и разговорчивее, когда ее с нами не было.
Наиболее красочным из путешественников был, конечно, придворный хирург доктор Гирш. В момент моего назначения ему было под 80 лет; начал он свою службу при Александре II и продержался на протяжении трех царствований. Его познания в области медицины не могли быть очень свежими, и свита смотрела на него слегка снисходительно. Но государыня очень его уважала, и он, так сказать, входил в состав царской семьи. С ним советовались по поводу воспитания детей, ему прощали все его эксцентричности.
Например, он курил сигары без остановки, зажигая новую об окурок предшествующей. Между тем государыня не выносила запаха сигар.
Я слышал, как она однажды сказала Гиршу:
— Отодвиньтесь немного, а то я задохнусь.
— Ваше Величество, я курю сегодня первую и очень маленькую сигару…
— Хороша маленькая сигара… Из-под двери вашего купе шел такой дым, точно подожгли амбар табаку.
Когда Гиршу говорили:
— Никотин — это яд…
…он отвечал:
— Да, яд, но яд медленного действия. Я его принимаю пятьдесят лет подряд, и он еще ничего не смог со мной сделать.
Прислуга приносила чай. Стол был заставлен печеньем и фруктами. Алкоголя не было, но флаг-капитан Нилов не мог обходиться без рому или коньяку, и когда он выходил к чаю, лакей подавал ему соответственную бутылку.
Чай продолжался около часу. Часто государю приносили последние агентские депеши, еще им не просмотренные. Просмотрев их, он передавал листки соседу. Фрейлины при этом в счет не шли, ибо они проявляли полное равнодушие к кускам бумаги этого рода.
После чаю мы возвращались в вагоны: кто читал, кто разговаривал в коридоре.
Обед подавался в 8 часов и продолжался 50 минут. После обеда царь вставал, и мы все ему глубоко кланялись.
К чаю, подававшемуся вечером, царь выходил редко, а царица — никогда. Но чай можно было пить, кто как хотел: или в столовой, или в купе. Определенного часа для этого чая не было, так же как и для утреннего кофе.
На следующий день я пошел в столовую ровно в 8 часов утра. Почти одновременно вошел в вагон и государь. Он мне приказал сесть рядом с ним и спросил:
— Вы всегда так рано встаете?
— Ваше Величество, если бы я вставал позднее, то мне бы пришлось торопиться целый день.
— Вот это правильно. Я тоже встаю очень рано. А вот ваш начальник не имеет этой хорошей привычки. Он едва кончает свой туалет к тому времени, когда подается завтрак.
Я указал, что в Петербурге мой доклад у графа всегда начинается в половине одиннадцатого утра.
— Я его не упрекаю за то, что он долго занимается своим туалетом, что понятно в его годы, — ответил государь, — это прекрасный человек, вам будет приятно работать с ним.
Затем, после паузы:
— Вы служили при нем в полку? Его часто обвиняют в том, что он покровительствует конногвардейцам… Я его понимаю: приятно быть окруженным лицами, которых знаешь, которым можно довериться.
Поезд останавливался на больших станциях. Министр двора заранее давал государю список тех лиц, которые будут допущены на перрон. Царь выходил из вагона в сопровождении свиты и разговаривал с местной администрацией. Губернаторы получали приглашение сесть в вагон и следовать до границы их губернии. Этой же чести удостаивались некоторые военные лица; они делали свои доклады в пути; если надо было переночевать, им отводилось купе в свитском вагоне.
В течение всего путешествия государь работал в своем вагоне. Если выходил в столовую для вечернего чая, то иногда оставался там с членами свиты: устраивалась партия в домино; в случае проигрыша государь посылал лакея за деньгами, так как у него никогда не было денег в карманах. Царь даже мало знал цену деньгам. Вспоминаю по этому поводу инцидент с тройкой в Скерневицах. Лошади понесли, и экипаж остановился только благодаря мужеству казака, который схватил коренника за узду и протащился по земле на довольно длинное расстояние, с явной опасностью для жизни. Государь приказал мне вознаградить казака.
— Дайте ему или золотые часы, или двадцать пять рублей — по его выбору.
Я выдал смельчаку золотые часы и в письменном докладе указал на несоответствие стоимости часов с назначенной государем суммой.
— Это большой пробел в моем образовании, — сказал мне государь смеясь. — Я не знаю, сколько что стоит, мне никогда ни за что не приходится платить деньгами.
ЯХТА ГОСУДАРЯ
Государь особенно любил яхту «Штандарт». Построенная в Дании, она считалась лучшим из судов этого рода во всем мире. Водоизмещение ее было 4500 тонн; окрашена она была в черный цвет, с золотыми украшениями на носу и на корме. «Штандарт» имел высокие мореходные качества и устроен был с большим комфортом. Командовал яхтой контр-адмирал Ломен в качестве флаг-капитана Его Величества. Экипаж боялся его, как самого Господа Бога; Ломен, действительно, был очень требователен, а когда сердился, то становился весьма резок. Ломен утверждал, будто сам государь, находясь на яхте, был ему подчинен.24 Зато вне служебных отношений он был общителен и любезен.
Командовали яхтой капитан 1-го ранга Чагин и старший офицер Саблин. Оба они могли гордиться теми сердечными отношениями, которые у них были с Их Величествами. В письмах, которые государыня отправляла мужу в ставку, постоянно упоминается имя Саблина.
Чагин кончил жизнь трагически — самоубийством. По некоторым сведениям, женщина, с которой он был в связи, оказалась принадлежащей к группе эсеров-террористов. Верно ли это, не знаю.
Как только высочайшие особы поднимались на «Штандарт», каждый из детей получал особого дядьку, то есть матроса, приставленного следить за личной безопасностью ребенка. Дети играли с дядьками, устраивали им разные каверзы, дразнили их… Младшие офицеры «Штандарта» мало-помалу присоединялись к играм великих княжон. Когда те выросли, игры превратились незаметно в ряд флиртов, конечно, вполне безобидных. Слово «флирт» я употребляю не в том вульгарном смысле, который ему теперь дают: офицеров «Штандарта» лучше всего было бы сравнивать с пажами или рыцарями средневековья. Много раз вся эта молодежь потоком проносилась мимо меня, и никогда я не слышал ни одного слова, могущего вызвать нарекания. Во всяком случае, эти офицеры были чудесно вышколены одним из их начальников, который, со своей стороны, считался кавалером государыни.
Надо отметить, что великие княжны — я говорю о том периоде, когда две старшие были вполне взрослыми барышнями, — часто разговаривали как 10–12-летние дети.
Сама государыня становилась общительной и веселой, как только она вступала на палубу «Штандарта». Императрица участвовала в играх детей и подолгу разговаривала с офицерами.
Офицеры эти, очевидно, занимали очень привилегированное положение. Часть их каждый день приглашалась к высочайшему столу. Государь и его семья нередко принимали, со своей стороны, приглашение на чай в кают-компанию.
Страдали ли офицеры «Штандарта» излишней светскостью? Об этом часто поговаривали в военно-морских кругах (может быть, из зависти…), особенно после печального инцидента с аварией «Штандарта».
В один прекрасный день в финляндских шхерах внезапный толчок всполошил весь «Штандарт» в такой момент, когда этого менее всего ожидали. Яхта дала крен. Никто не мог предугадать, чем вся эта история кончится. Государыня бросилась к детям. Собрала их вокруг себя всех, кроме цесаревича: мальчика нигде не могли найти. Можно себе представить, какое волнение пережили родители в эту страшную минуту.
Наконец яхта перестала крениться. Моторные лодки окружили ее со всех сторон.
Царь побежал по палубе, крича, чтобы все искали цесаревича. Прошло немало времени, прежде чем обнаружили его местонахождение. Оказалось, что дядька Деревенько при первом же ударе о скалу взял его на руки и пошел на нос яхты, считая вполне правильно, что с этой части «Штандарта» ему будет легче спасать наследника в случае полной гибели судна.
Паника улеглась, и пассажиры сошли в шлюпки.
Возник вопрос об ответственности за происшедшее. Виноватым, очевидно, мог быть только финн лоцман, старый морской волк, ведший яхту в момент инцидента. Бросились к картам; оказалось — в этом не могло быть ни малейшего сомнения, — что скала, на которую сел «Штандарт», не была никому до сего известна.
В принципе отвечает за безопасность Их Величеств флаг-капитан. Таковым являлся адмирал Нилов, царь и бог на яхте.
После катастрофы поведение Нилова было таковым, что государь счел нужным лично пойти за ним в его каюту. Войдя не постучав государь увидел, что Нилов рассматривает карту и держит в руке револьвер. Царь поспешил его успокоить, сказав ему, что избежать суда по закону невозможно, что суд должен, во всяком случае, быть созван; но оправдательный приговор является неизбежным, так как все сводится к слепой игре случая. Государь унес револьвер Нилова.
Теперь уже нет в живых ни одного из участников этой драмы. Инцидент с револьвером создал между царем и адмиралом род трогательной дружбы. Эта дружба всегда оставалась загадкой для тех, кто не знал ее источника и удивлялся ей, считая, что царь и адмирал были слишком не похожи друг на друга по характеру, по воспитанию и по общей культурности.
Заговор молчания создался при дворе почти немедленно вокруг аварии «Штандарта». Всякий знал, что малейшая критика по адресу офицеров яхты вызвала бы немедленные санкции по адресу критикующего.
Офицеров выбирали на яхту с таким расчетом, чтобы они умели создавать атмосферу идиллии и сказки… Весьма возможно, что их технические познания были не вполне на уровне необходимого…
АВТОМОБИЛИ ЦАРЯ
Первые автомобили марки «Серполет» появились в Петербурге в 1901 или 1902 году. Одна из этих машин была куплена графом Фредериксом, другая — великим князем Дмитрием Константиновичем (отмечу, что первый из высочайших любителей нового способа передвижения был рьяным поклонником конного спорта…). Автомобили были еще плохо разработаны и часто останавливались без всякой видимой причины.
Раз граф попросил у царя разрешения взять свой автомобиль в Спалу на время охоты. При первом же нашем выезде нам пришлось вылезти из экипажа и самолично толкать его в сторону, так как автомобиль загородил проезд самому царю. Весь двор продефилировал мимо нас, и шутки сыпались на нас как горох. Графу пришлось переменить механика, и нам удалось сделать два новых выезда, на этот раз без особых приключений. После этого граф предложил государю — дело было в воскресенье — проехаться на автомобиле. Царь согласился, видимо без всякого восторга. Только отъехали от подъезда, как пришлось остановиться. Послали за лошадьми, и несчастную машину убрали. Свита отнеслась к этому инциденту с таким сарказмом, что граф окончательно отказался от своей затеи.
На следующий год один из офицеров Конного полка, Квитко-Основьяненко, привез в Ялту другой автомобиль, более усовершенствованный, но полиция запретила ему пользоваться этой машиной, так как она пугала лошадей. Квитко обратился к графу Фредериксу с просьбой снять запрет. Пришлось пойти со всеподданнейшим докладом. Государь, видимо, вспомнил инциденты, имевшие место в Спале, и ответил кратко и бесповоротно:
— Дорогой граф… Пока я живу в Ливадии, автомобили не должны появляться в Крыму.
Прошел еще год. Государю пришлось сделать несколько поездок в автомобиле с великим герцогом Эрнстом во Франкфурт и окрестности Дармштадта. Даже государыня рискнула сесть в этот странный экипаж, похожий на омнибус без лошадей. По-видимому, государь стал с этого момента относиться более снисходительно к автомобилям.
Вернувшись в Царское Село, мы однажды увидели князя Владимира Орлова подъезжающим ко дворцу на элегантной машине («Делоне-Бельвилль»). После завтрака государь пожелал прокатиться на этой керосиновой штуке. Объехали кругом парка, и государь тотчас же посоветовал и государыне сделать «экскурсию».
Орлов поспешил предложить машину Их Величествам. Прогулки сделались почти ежедневными, и это было тем легче, что гараж князя обогатился новыми, более усовершенствованными машинами. Князь, можно сказать, не отходил от руля машин. Он возил, куда было нужно, Их Величества. Боясь покушения или несчастного случая, он не позволял своему шоферу заменять себя.
Месяцев через шесть Фредерикс спросил государя, не желает ли царь приобрести сверхусовершенствованную машину. Царь ответил с поспешностью:
— Конечно, конечно… Мы злоупотребляем любезностью Орлова, и это становится неделикатным. Закажите две или три машины. Поручите это дело Орлову. Он разбирается в автомобилях лучше всякого профессионала.
В конце года императорский гараж был уже обставлен очень полно. Сначала появилось десять автомобилей, потом двадцать; выросла даже школа шоферов. Орлов продолжал лично возить царя. И только тогда, когда фабрика прислала ему особо рекомендованного шофера (француза), князь согласился поручить ему драгоценную жизнь Их Величеств. Но даже и с этим новым шофером он принимал большие предосторожности: недели четыре он ездил с ним рядом, наблюдая…
Через несколько лет у царя образовался один из самых обширных автомобильных парков в Европе…
ЦАРСКИЕ ОХОТЫ
Главная царская охота находилась в Беловежской пуще, особо охраняемом месте в несколько тысяч десятин в Гродненской губернии. В Беловеже веками охотились польские короли. В 1888 году Беловеж был объявлен личною собственностью государя.
Пуща была знаменита по разнообразию древесных пород, произраставших в ней, а особенно зубрами, последними зубрами Европы. Их было около 800. Звери тщательно охранялись. Даже участникам императорской охоты разрешалось стрелять только отбежавших от стада зубров, ибо эти одиночки были особенно злы и нападали на других зубров.
Беловеж считался одной из самых завидных охот во всей Европе. Вильгельм II страстно желал быть туда приглашенным, но царь так никогда и не сделал ему этого удовольствия.
Почти после каждого свидания с кайзером царь говаривал Фредериксу:
— Опять он напрашивался в Беловежскую пущу, но я сделал вид, что ничего не понимаю.
…Во время войны Беловеж был занят немецкими войсками. На одном из убитых солдат мы нашли приказ кайзера насчет сохранения зубров. За убийство зубра или другого крупного животного грозило наказание, до смертной казни включительно.
В 7 часов утра все охотники в соответствующих костюмах собирались перед дворцом. Государь выходил в сопровождении государыни и двух фрейлин.
Мы располагались парами в тройках, егеря ехали сзади. В лесу мы ехали по просекам, длинным, как громадные аллеи, и совершенно прямым. Трава устилала наш путь мягким ярким ковром.
Приехав к заранее приготовленным стандам, тянули жребий. Эта лотерея составляла предмет особой гордости царя; он сам тянул номер со всеми другими приглашенными. Как известно, за границей монархи получают лучшие станды, а гости второго разряда довольствуются такими местами, где иногда и курка не спустишь за целый день.
В описываемый день нас было двенадцать человек, и распределились мы по двенадцати стандам.
Каждый станд закрывал охотника до пояса. Сзади стоял егерь, роль которого сводилась к заряжению ружей. Только у царя были два егеря с рогатинами, чтобы они, в крайнем случае, могли остановить раненого зверя.
Государыня сидела в станде мужа. Царица проявляла чрезвычайное хладнокровие, чего нельзя было сказать о фрейлинах, сидевших в второстепенных стандах: они весьма некстати вскрикивали и мешали целиться надлежащим образом.
Вечером, после обеда, мы все вышли на балкон. Внизу были разложены трофеи. Егеря освещали их факелами. Музыканты исполнили туш, и главный егерь, обнажив свой кинжал, указал на туши убитых государем зубров; затем с такой же церемонией приветствовались и другие охотники, в порядке успешности их стрельбы.
Однажды великий князь Николай Николаевич и князь Кочубей одновременными выстрелами убили большого оленя с тридцатью двумя концами на рогах. Каждый из соперников пожелал сохранить эти рога, и между ними завязался спор. Вступился царь.
— Я здесь хозяин. Мои рога.
Но он приказал заказать за границей две точные копии этих рогов (рекордные для Беловежа); копии эти были присланы двум стрелкам.
Царь стрелял очень хорошо. Но из самолюбия стрелял только наверняка.
По окончании охоты каждый участник получал печатный список убитых им зверей.
ЭПИЛОГ
ИЮЛЬ 1914 ГОДА
После отъезда президента Французской республики нам казалось, что политический горизонт как будто проясняется. Фредерикс сказал мне, что государь не боится последствий сараевского убийства и думает, что все устроится. Наоборот, военный министр, с которым я беседовал в тот же день, держался противоположного мнения. Сухомлинов полагал, что серьезность кронштадтского свидания с Пуанкаре побудит Вильгельма II более остро поддерживать требования Австрии, эвентуально неприемлемые.
Я телеграфировал сыну, находившемуся в отпуске где-то на берегу Женевского озера, немедленно возвращаться в Россию.
Вечером Фредерикс снова был с докладом у государя. Царь на этот раз был озабочен: Вильгельм II прислал ему депешу, в коей предупреждал, что всякое вмешательство третьей державы в австро-сербский конфликт вызовет войну. Государь сказал министру двора, что, несмотря на все свое миролюбие, должен был принять совместно с военным министром некоторые меры, подготовляющие мобилизацию. Эти меры могли быть оставлены, если бы переговоры с Австрией оказались для нас возможными.
Ультиматум Сербии был опубликован на следующий день. Государь вместе с Фредериксом поехал в Красное Село, где состоялся Совет министров.
Вечером я представил Фредериксу проект частичной мобилизации, гофмаршальской части на случай выезда государя на фронт. Граф ответил:
— Нет-нет… Я не могу испрашивать такое высочайшее повеление. Государь убежден, что войны не будет.
30 июля Сазонов приехал в Петергоф и имел весьма продолжительную беседу с государем. По окончании аудиенции Сазонов прошел к министру двора и сообщил, что начальник штаба получил приказ начать мобилизацию. Спустя несколько дней я узнал, что Янушкевич, получив этот приказ, снял трубку своего телефона, чтобы никакие другие распоряжения не мешали ему работать. Он считал, что раз начатая мобилизация не может быть ни в коем случае остановлена.
На следующий день я поехал по срочному делу в Петербург. Возвращаясь, видел, как граф Пурталес, немецкий посол, входит в придворный вагон вместе со своим секретарем. Как только поезд двинулся, я прошел в отделение посла.
Пурталес быстро поднялся, схватил меня за обе руки и воскликнул:
— Надо во что бы то ни стало остановить, остановить эту мобилизацию! Иначе — война…
— Это невозможно, — ответил я. — Мобилизация развивается нормально. Как остановить на всем ходу автомобиль, идущий со скоростью ста верст в час?
Граф ответил мне:
— Я просил государя принять меня. Я должен просить его остановить мобилизацию. Ведь она объявлена только сегодня утром.
Нервозность посла поразила меня. Я старался успокоить его и рекомендовал тотчас же после аудиенции повидать Фредерикса. Я был убежден, что министр двора сумеет убедить государя послать Вильгельму II телеграмму с необходимыми разъяснениями: что, мол, мобилизация еще не означает войны и что армия будет демобилизована, как только начнутся непосредственные переговоры между двумя заинтересованными державами.
— А главное, — сказал я ему, — не просите у государя невозможного.
— Нет-нет! — закричал граф. — Если он немедленно не демобилизует, война неизбежна.
Я заметил, что его молодой секретарь старается поймать взгляд посла, чтобы остановить его: Пурталес производил впечатление сошедшего с ума человека.
Я отправился прямо к Фредериксу, чтобы передать ему мой разговор с послом. Граф Пурталес пришел к нам на полчаса позже, совершенно убитый. Он просил Фредерикса, чтобы тот немедленно пошел к государю и посоветовал послать Вильгельму депешу: нечто вроде объяснений, почему именно была произведена мобилизация. Фредерикс отправился во дворец.
Вернувшись, сказал мне, что государь составил очень хорошую депешу, которая тотчас же была отправлена в Берлин. Фредерикс прибавил при этом:
— Вы увидите… Эта депеша обеспечит нам мир.
Не успел он произнести эти слова, как телефон зазвонил. Я взял трубку. Это был голос Сазонова. Я передал трубку Фредериксу.
Министр двора вдруг побледнел.
— Хорошо… хорошо… я это сделаю.
Сазонов сообщал, что Пурталес вручил ему объявление войны.
Ответ на последнюю депешу царя получен был в тот момент, когда войска уже двигались навстречу друг другу. Депеша Вильгельма осталась на столе государя и не могла быть опубликована вместе с другими документами, касавшимися объявления войны. Я узнал ее содержание только впоследствии, из воспоминаний графа Палеолога.
На следующий день офицеры гвардии были приняты в Зимнем дворце. После молебна государь дал торжественную клятву не заключать мир до тех пор, пока враг будет находиться на русской территории. Особая овация была сделана при этом Палеологу, представителю нашей славной союзницы.
Мой сын успел добраться до границы с последним поездом, вышедшим из Берлина. Видя, что немцы арестовывают русских офицеров, он выскочил из поезда и перешел границу пешком, несмотря на стрельбу часовых.
ПОСЛЕДНИЕ АУДИЕНЦИИ
В августе 1916 года в Могилеве государь сказал мне, что собирается назначить меня чрезвычайным посланником в Бухарест. Назначение это должно было совпасть с вступлением наших войск в Румынию.
Заметив мое удивление, государь стал мне объяснять, почему он принял такое решение.
По полученным им сведениям, королеву румынскую, его кузину, очень беспокоило, как сложатся отношения между командным составом русской армии, румынским королем и румынским населением. Сам государь полагал, что военное начальство не всегда достаточно считается с указаниями, исходящими от дипломатов, то есть людей штатских. Посему надлежало назначить в Бухарест такого человека, который имел бы достаточный авторитет в глазах именно русского военного начальства. Так как я имел долгий стаж в свите Его Величества, то моя воля должна была оказаться значительной для начальника русской армии, действовавшей на румынском фронте.
После этого объяснения мне ничего более не оставалось, как сказать государю, что мне будет бесконечно грустно покинуть то место, которое мне давало право быть в непосредственной близости к монарху.
Государь, не желая огорчать графа Фредерикса, с которым я установил столь тесное сотрудничество, решил поэтому, что Фредерикс не будет поставлен в известность о моем назначении, и государь лично сообщит графу о временной миссии, выпавшей на мою долю. Указ же о моем назначении будет содержать оговорку о том, что я остаюсь в должности начальника канцелярии двора.
Вскоре после моего прибытия в Румынию королева спросила меня, не согласится ли государь на брак наследника престола, принца Кароля, с одной из великих княжон, дочерей Николая II. Я отправился в Петроград, чтобы сделать по сему вопросу особо конфиденциальный доклад.
После моего доклада государь сказал:
— Я разделяю вашу точку зрения, но не знаю, как отнесется к этому вопросу императрица.
— Когда можно мне будет снова представиться Вашему Величеству для получения, ответа королеве румынской?
— Я ничего не скажу Ее Величеству. Попросите у нее аудиенции; передайте ей привет королевы и изложите ей дело.
— Слушаю, Ваше Величество.
— Отчего у вас испуганный вид? Разве вы теперь не дипломат? Дело входит в вашу компетенцию и как посланника, и как чина министерства двора. Сделайте доклад Ее Величеству.
Аудиенция была мне назначена на следующий день в 4 часа дня в Царском Селе. По выходе от государыни я получил от камердинера Его Величества указание, что государь гуляет в саду и желает меня видеть.
Я передал содержание моего разговора с государыней. Ее Величество имела намерение пригласить королеву и принца Кароля в Царское Село на пасхальные праздники. После этого будет видно, возможен ли предполагаемый брак.
— …Само собой разумеется, — прибавил я, — если на это последует разрешение Вашего Величества.
— Я не думал, что ваша миссия увенчается таким быстрым успехом. Вы, оказывается, умеете быть очень убедительным.
Несмотря на эту похвалу государя, я чувствовал, что ему было бы приятнее узнать об отказе государыни. Расставаться с дочерью было неприятной перспективой для отца.
Через несколько дней у меня был еще один доклад у государя, после которого я завтракал с Их Величествами. Императрица дала мне свои последние указания относительно моего доклада румынской королевской чете.
Уехав в тот же день в Яссы, я больше не видал Их Величеств.
ПОПЫТКИ СПАСТИ ЦАРСКУЮ СЕМЬЮ
В 1918 году я находился в Киеве. Немцы занимали Украину, и гетман Скоропадский обеспечивал некоторый призрак местного правительства.
В Киеве я встретился с князем Кочубеем, моим товарищем по министерству двора, и с герцогом Георгием Лейхтенбергским, бывшим сослуживцем по Конному полку.
Нашей единственной мыслью было спасти государя и его семью, заключенных в Екатеринбурге.
Герцог Лейхтенбергский был нашим посредником в сношениях с германскими властями. Двоюродный брат баварского кронпринца, он имел свободный доступ к генералу Эйхгорну, начальнику оккупационных войск, и генералу Гренеру, начальнику штаба.
Немцы оказались очень предупредительными. Открыли нам кредиты и обещали предоставить в наше распоряжение пулеметы, ружья и автомобили. Наш план заключался в том, чтобы зафрахтовать два парохода и послать их с доверенными офицерами вверх по Волге и по Каме. Предполагалось образовать базу верстах в 60 от Екатеринбурга и затем действовать смотря по обстоятельствам.
Мы послали в Екатеринбург разведчиков, из которых один состоял прежде в охране, а другой служил в Кавалергардском полку. Они должны были войти в сношение с немецкими эмиссарами, тайно пребывавшими в городе, содействием которых необходимо было заручиться, ибо иначе нельзя было рассчитывать на успех дела.
Я знал, что государь не согласится променять заточение у большевиков на плен в Германии. Чтобы уточнить создавшееся положение, я написал Вильгельму II письмо, которое передал графу Альвенслебену, причисленному к особе гетмана. Граф должен был в тот же день выехать в германскую главную квартиру.
В этом письме я просил германского императора заверить государя, что ему и его семье будет дан свободный пропуск до Крыма, где он не будет считаться военнопленным Германии.
Можно себе представить, с каким лихорадочным нетерпением ждали мы возвращения графа Альвенслебена.
Приехав обратно в Киев, он не подал мне ни одного признака жизни. Тогда я сам пошел к нему. Граф Альвенслебен сконфуженно объяснил, что кайзер не мог дать никакого ответа, не посоветовавшись со своими министрами. Он рекомендовал мне повидать графа Мумма, дипломатического представителя Германии при гетмане.
Граф Myмм категорически отказался помогать нам. По его словам, он был поражен, узнав, что военная власть нам обещала свою помощь. Впредь мы не должны рассчитывать на помощь Германии.
В течение двух часов я делал всяческие усилия переубедить его. На мое предложение еще раз обратиться к императору Вильгельму Мумм дал мне понять, что в данное время мнение кайзера в делах иностранной политики уже не имеет прежнего значения, и не соглашался с тем, что для Германий важен вопрос о спасении царя.
Мои старания не увенчались успехом. Через несколько дней после этого мы узнали о екатеринбургской трагедии.
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН25
Абаза А. М., контр-адмирал, управляющий делами Особого комитета Дальнего Востока (1903–1905) — 185, 186
Адлерберг К. В., граф, министр двора и уделов (1870–1881) — 120
Александр II Николаевич (1818–1881), российский император с 1855 г. — 69, 70, 82, 119–124, 129, 131, 142, 143, 152, 185, 191, 199, 200, 214, 221, 223, 232
Александр III Александрович (1845–1894), российский император с 1881 г. — 51, 65–67, 69–71, 82–84, 91, 92, 106–108, 120, 122, 125, 128–131, 137, 142, 153, 167, 185, 191, 196, 214, 223, 224
о. Александр (Васильев Александр Петрович, 1867–1918), протоиерей, духовник царской семьи — 105
Александр Гессенский, принц, брат имп. Марии Александровны — 121
Александр Михайлович, вел. князь (род. 1866), сын вел. князя Михаила Николаевича, генерал-адъютант, адмирал, председатель Совета по делам торгового мореплавания (1900), главноуправляющий (на правах министра) Управления торгового мореплавания и портов (1902–1905) — 114, 146, 147
Александр Петрович, принц Ольденбургский (род. 1844), генерал-адъютант, генерал от инфантерии, член Гос. совета — 132, 133, 145
Александр (Сандро) I фон Баттенберг (1857–1893), князь Болгарский (1879–1886) — 120–122, 214, 215
Александра (1844–1925), английская королева с 1901 г., дочь датского короля Кристиана IX, жена английского короля Эдуарда VII, сестра имп. Марии Федоровны — 108
Александра Георгиевна, вел. княгиня (1870–1891), дочь греческого короля Георга I, жена вел. князя Павла Александровича — 134
Александра Иосифовна (урожд. принцесса Саксен-Альтенбургская), вел. княгиня (1830–1911), жена Константина Николаевича, брата имп. Николая I — 124
Александра Петровна (урожд. принцесса Ольденбургская), вел. княгиня (1839–1900), жена вел. князя Николая Николаевича (старшего) — 145
Александра Федоровна (урожд. Алиса-Виктория-Елена-Луиза-Беатриса, принцесса Гессен-Дармштадтская, 1872–1918), российская императрица (государыня, Ее Величество), жена имп. Николая II — 5, 6–12, 15, 18–21, 23, 25, 27–30, 32–34, 45–47, 50, 55, 61, 67, 76, 77, 79, 80, 85, 86, 88–106, 111–115, 117, 123, 125, 126, 131, 135, 145, 146, 148–151, 153, 158, 166–171, 175, 177–180, 182, 183, 192, 193, 200–204, 208, 210–212, 216–220, 222, 223, 225, 227–233, 235–239, 244, 245
Алексеев Михаил Васильевич (1857–1918), генерал от инфантерии, начальник штаба Юго-Зап. фронта, главнокомандующий Сев. — Зап. фронта — 88
Алексей Александрович, вел. князь (1850–1910), 4-й сын Александра II, генерал-адъютант, генерал-адмирал, член Гос. совета — 125, 128–130, 132, 133, 169, 171
Алексей Николаевич, вел. князь (1904–1918), цесаревич (наследник), сын Николая II — 5, 6, 46, 78, 79, 109, 110, 148, 204, 236
Алиса, принцесса Гессен-Дармштадтская, жена Людвига IV Прусского, вел. герцога Гессен-Дармштадтского — 91
Алиса-Виктория-Елена-Луиза-Беатриса, принцесса Гессен-Дармштадтская — см. имп. Александра Федоровна
Альвенслебен, граф, военный представитель Германии при гетмане Скоропадском — 245, 246
Анастасия Николаевна, вел. княжна (1901–1918), младшая дочь имп. Николая II — 116, 166
Анастасия (Стана) Николаевна (черногорка), вел. княгиня (род. 1867), дочь черногорского князя Николая II Негоша, жена Ю. М. Романовского, герцога Лейхтенбергского, затем вел. князя Николая Николаевича (младшего) — 104, 114, 117, 145
Английская королева — см. Александра, английская королева
Английский король — см. Эдуард VII, английский король
Андрей Владимирович, вел. князь (род. 1879), сын вел. князя Владимира Александровича и вел. княгини Марии Павловны — 118, 148, 214
Андроников Владимир Михайлович, князь, офицер Уланского Его Величества полка, брат князя M. М. Андроникова — 21
Андроников Михаил Михайлович, князь (1875–1919), политический авантюрист, личный друг имп. Николая II и Распутина — 21–24, 61
Апраксин Петр Николаевич, граф (род. 1876), гофмейстер, с 1913 г. состоял при имп. Александре Федоровне — 172
Барятинская Мария Викторовна, княжна, фрейлина имп. Александры Федоровны — 32
Барятинский, князь, командир полка конной гвардии — 155
Баттенберг Сандро — см. Александр I фон Баттенберг
Безобразов Александр Михайлович, статс-секретарь, член Особого комитета по делам Дальнего Востока (1903–1905) — 185–187
Белевский, граф, сын вел. князя Алексея Александровича — 129
Белосельская-Белозерская Надежда Дмитриевна, княгиня, жена К. Э. Белосельского-Белозерского, сестра З. Д. Богарне, герцогини Лейхтенбергской — 130
Белосельский-Белозерский Константин Эсперович, князь — 130
Бельгард, возможно — Бельгард Алексей Валерианович (род. 1861), член Гос. совета и начальник Главного управления по делам печати, гофмейстер (1909), сенатор (1912) — 216
Бенкендорф Павел Константинович, граф (1853–1921), генерал от кавалерии, обер-гофмаршал имп. двора (1893–1917), член Гос. совета — 101, 114, 167, 168, 172, 217, 218, 222, 223
Бибиков С. И., флигель-адъютант — 120, 121
Бисмарк Отто Эдуард Леопольд фон Шёнхаузен (1815–1898), князь, рейхсканцлер (1871–1890) — 159
Богарне (урожд. Опочинина) Дарья Константиновна, графиня (1844–1870), первая жена князя Е. М. Романовского, герцога Лейхтенбергского — 130
Богарне Евгений — см. Лейхтенбергский Евгений, герцог
Богарне Евгений Максимилианович — см. Лейхтенбергский, Евгений Максимилианович князь Романовский, герцог
Богарне Зина — см. Лейхтенбергская, Зинаида Дмитриевна, герцогиня
Богарне Максимилиан — см. Лейхтенбергский, Максимилиан, герцог
Боде фон, помощник гофмаршала — 217
Болгарский князь — см. Александр I фон Баттенберг
Бонч-Бруевич, генерал, начальник контрразведки — 86
Борис Владимирович, вел. князь (1877–1943), сын вел. князя Владимира Александровича — 148
Боткин Евгений Сергеевич (1865–1918), лейб-медик имп. Николая II и его семьи — 5, 171, 172
Будберг Александр Андреевич, барон (1854–1914), статс-секретарь, главный управляющий канцелярией по принятию прошений, на высочайшее имя приносимых (1899–1913) — 7, 55, 57, 59, 60
Буксгевден Софья Карловна, баронесса, фрейлина имп. Александры Федоровны — 103, 172
Бурдюков [Бурдуков, с 1916 г. Бурдуков-Студенский] Николай Федорович (род. 1867), камергер, чиновник особых поручений при министре внутренних дел, сотрудник газеты «Гражданин» — 185
Бюлов Бернхард, князь (1849–1929), имперский статс-секретарь иностранных дел (1897–1900), рейхсканцлер и министр-президент Пруссии (1900–1909) — 67, 204, 205
Вагнер Рихард (1813–1883), немецкий композитор — 83
Вальдек-Руссо Рене (1848–1904), премьер-министр Французской республики—85, 211
Ванновский Петр Семенович (1822–1904), генерал от инфантерии, военный министр (1881–1898), министр народного просвещения (1901–1902), член Гос. совета — 65, 66, 143, 185
Васильковский А. С. генерал-адъютант, приближенный имп. Александра III, управляющий Аничковым дворцом (1891–1895) — 71
Васильчиков, князь, командир гвардейского корпуса в Санкт-Петербурге — 35, 38, 39
Васильчикова Мария Александровна, фрейлина (1880–1916) — 200
Велепольский, князь — 197
Верман фон, барон — 129
Верман, баронесса — см. Жуковская, фрейлина
Виктория (1819–1901), английская королева с 1837 г. — 91
Виктория (Виктория-Александра-Ольга-Мария), принцесса, дочь английского короля Эдуарда VII — 208
Виктория Федоровна (Виктория-Мелита, принцесса Саксен-Кобург-Готская, герцогиня Гессенская), вел. княгиня (род. 1876), первая жена Эрнста-Людвига, вел. герцога Гессенского, затем жена вел. князя Кирилла Владимировича — 99, 125, 148–150
Вильгельм I (1798–1888), германский император с 1871 г. — 70
Вильгельм II (1859–1941), германский император (1888–1918) — 42, 59, 67, 85, 159, 181, 203–208, 210, 239, 241–243, 245, 246
Витте (урожд. Хотимская, по первому браку Лисаневич) Матильда Ивановна, жена С. Ю. Витте — 31, 51–53, 68
Витте Сергей Юльевич (1849–1915), граф с 1905 г., министр путей сообщения (1892), министр финансов (1892–1903), председатель Комитета министров (1903–1905), председатель Совета министров (1905–1906), член Гос. совета и председатель Комитета финансов (1906–1915) — 9, 14, 15, 19, 26, 28–31, 41–45, 47, 50–53, 55–68, 75, 88, 147, 184
Витя — см. Витте С. Ю.
Владимир Александрович, вел. князь (1847–1909), 3-й сын Александра II, главнокомандующий войсками гвардии и Санкт-Петербургского военного округа (1884–1905) — 35, 125–127, 134, 135, 147, 201
Владимир Кириллович, князь, сын вел. князя Кирилла Владимировича — 145
Воейков Владимир Николаевич (род. 1868), генерал-майор свиты, дворцовый комендант, зять В. Б. Фредерикса — 63, 160, 167–169
Вонлярлярский В. М. (род. 1852), гвардейский полковник в отставке, крупный новгородский помещик и лесопромышленник, владелец золотых приисков на Урале — 185
Воронцов-Дашков Александр Илларионович, граф, флигель-адъютант, полковник лейб-гвардии Гусарского Его Вел-ва полка, причислен к канцелярии главной имп. квартиры — 170
Воронцов-Дашков Илларион Иванович, граф (1837–1916), генерал-адъютант, министр имп. двора и уделов (1881–1897), председатель Красного Креста (1904–1905), наместник на Кавказе (1905–1915), член Гос. совета — 27, 92, 122, 152, 153, 164
Воронцова, графиня — 192, 194
Воронцовы, род — 131
Врангель Петр Николаевич, барон (1878–1928), штабс-ротмистр, впоследствии генерал-лейтенант, руководитель белых вооруженных сил на Юге России — 86
Вуич Н. И., помощник (1901–1906), затем управляющий делами Комитета министров, сенатор — 56
Вырубов Александр Васильевич, лейтенант, полоцкий уездный предводитель дворянства, муж А. А. Вырубовой — 96
Вырубова (урожд. Танеева) Анна Александровна (1884–1956?), фрейлина имп. Александры Федоровны — 10, 95–97, 103, 104, 168, 172
Вяземский П. П., кавалергард — 140
Габсбурги, династия — 187
Галкин-Врасский [Врасской], начальник Главного тюремного управления — 163
Гапон Георгий Аполлонович (1870–1906), священник, организатор «Собрания русских фабрично-заводских рабочих г. Санкт-Петербурга», агент охранного отделения — 35, 36
Гейден А. Ф., граф, флигель-адъютант, начальник главной квартиры имп. двора — 27, 55, 155, 169
Гедройц Вера Игнатьевна, княжна, доктор медицины, старший врач Царскосельского дворцового лазарета для раненых — 105
Гендриков Василий Александрович, граф (1857–1912), обер-церемониймейстер (с 1900 г.) — 165, 190, 191
Гендрикова Анастасия Васильевна, графиня, фрейлина имп. Александры Федоровны — 103, 172
Генрих (Генрих-Альберт-Вильгельм), принц Прусский, брат имп. Вильгельма II, адмирал — 207, 208
Георг I (1845–1913), греческий король с 1863 г.
Георгий, герцог Лейхтенбергский — 245
Георгий Александрович, вел. князь (1871–1899), сын Александра III — 71, 148
Георгий Михайлович, вел. князь, сын вел. князя Михаила Николаевича, генерал-адъютант, генерал-лейтенант, состоял при ставке Верховного главнокомандующего, ездил с особой миссией в Японию (1915–1916) — 114, 146
Герингер, камер-фрау имп. Александры Федоровны — 103
Гессе Петр Павлович (1846–1905), генерал-адъютант, дворцовый комендант — 40, 168, 232
Гессенский, великий герцог — см. Эрнст-Людвиг, великий герцог Гессенский
Гессенский, род — 6
Гирш Г. И., гоф-медик, хирург — 29, 33, 102, 113, 171, 232, 233
Гогенфельзен, графиня — см. Палей, княгиня
Голицын Л. С., князь, основатель завода шампанских вин в «Новом свете» (Крым) — 224
Голицын Николай Дмитриевич, князь (1850–1925), сенатор (1903), член Гос. совета (1915), председатель Комиссии по оказанию помощи военнопленным, председатель Совета министров (дек. 1916) — 19
Голицына (урожд. Пашковская) Мария Михайловна, св. княгиня, обер-гофмейстерина — 192
Головина, подруга Т. А. Родзянко, приближенная Г. Распутина — 8, 9
Головина Мария Евгеньевна (Муня), одна из наиболее приближенных лиц к Г. Распутину, его секретарь — 104, 105
Гонзаго Мышковский, маркиз — 197
Горемыкин Иван Логгинович (1839–1917), сенатор, член Гос. совета (1899), председатель Совета министров (21 IV — 8 VI 1906, 1914–1916) — 47, 57, 60, 65, 88, 182
Горчаков Константин Александрович, св. князь, шталмейстер — 35
Горф, барон, второй обер-церемониймейстер — 190
Государыня — см. имп. Александра Федоровна
Граббе Александр Николаевич, граф (род. 1864), генерал-майор свиты, командир собственного Его Вел-ва конвоя (с 1914 г.) — 169, 170, 172
Гренер, генерал, начальник штаба немецких оккупационных войск на Украине — 245
Григорий, Гришка — см. Распутин Г. Е.
Грингмут Владимир Андреевич (1851–1907), редактор газеты «Московские Ведомости» — 51
Грудзинская, графиня — см. Лович Жаннетта Антоновна, княгиня
Грудзинская, графиня — см. Лович Жаннетта Антоновна, княгиня
Грузинская (урожд. Безобразова), св. княгиня — 164, 165
Гурко, барышня — 201
Гурко [Ромейко-Гурко] Василий Иосифович (1864–1937), генерал, председатель Комиссии по описанию русско-японской войны (1906–1911), начальник 1-й Кавказской дивизии (1911–1914), командир 6-го армейского корпуса (1915–1916), командующий Особой армией на Юго-Зап. фронте — 16
Гурко, возможно — Гурко Владимир Иосифович, камергер — 191
Гучков Александр Иванович, крупный московский домовладелец и промышленник, основатель и лидер партии октябристов, председатель II Гос. Думы, член Гос. совета (май-окт. 1907) — 24
Дагмара Датская — см. Мария Федоровна, императрица
Даманский Петр Степанович (1859–1916), сын священника Олонецкой губернии, с 1886 г. в канцелярии Синода, с 1912 г. товарищ обер-прокурора Синода, сенатор — 9, 10
Данилович Григорий Григорьевич (1825–1906), генерал-адъютант, генерал от инфантерии, воспитатель имп. Николая II — 71, 72, 75
Дедюлин Владимир Александрович (1858–1913), генерал-адъютант, генерал-лейтенант, Санкт-Петербургский градоначальник (янв. 1905), командир отд. корпуса жандармов (дек. 1905), дворцовый комендант (сент. 1906–1913) — 168
Ден, г-жа, возможно — Ден Юлия Александровна, жена капитана 1-го ранга Карла Акимовича Дена — 172
Деревенько [Деревенко], матрос, дядька цесаревича Алексея Николаевича — 110, 172, 236
Джунковский Владимир Федорович (род. 1865), генерал-майор свиты, московский губернатор (1905–1913), товарищ министра внутренних дел и командир отд. корпуса жандармов (1913–1915), командир 8-й Стрелковой сибирской дивизии — 170
Дмитриев — см. Радко-Димитриев
Дмитрий Константинович, вел. князь (1860–1919), сын вел. князя Константина Николаевича, генерал-адъютант, главноуправляющий Гос. коннозаводства — 136–139, 237
Дмитрий (Димитрий) Павлович, вел. князь (род. 1891), сын вел. князя Павла Александровича, флигель-адъютант (1912), после убийства Г. Распутина, в котором принимал участие, выслан в Персию в отряд ген. Баратова — 73, 118, 123, 134, 135, 148–150
Долгорукая (Долгорукова), княжна — см. Юрьевская Екатерина Михайловна, княгиня
Долгоруков Василий Александрович, князь (1868–1918), пасынок П. К. Бенкендорфа, помощник гофмаршала и гофмаршал (1914) — 168–170, 172
Дондуков-Корсаков Михаил, кавалергард — 140–142
Дрентельн Александр Александрович фон (1868–1925), генерал-майор свиты, флигель-адъютант (1903), командир лейб-гвардии Преображенского полка (1915), член ближайшей свиты Николая II — 170, 228
Дубровин Александр Иванович (род. 1885), доктор, издатель газеты «Русское Знамя», редактор журнала «Летопись войны 1914–1917 г.г.», состоял в свите Николая II в качестве историографа, основатель «Союза русского народа» — 45, 46, 51
Дурново Петр Николаевич (1844–1915), товарищ министра (1900–1905), затем министр внутренних дел (1905–1906), сенатор, член Гос. совета (с 1906 г.) — 64
Евгений М., герцог Лейхтенбергский — см. Лейхтенбергский, Евгений Максимилианович, герцог
Евгения Максимилиановна, принцесса Ольденбургская (род. 1845), дочь Максимилиана, герцога Лейхтенбергского и вел. княгини Марии Николаевны, жена Александра Петровича, принца Ольденбургского, попечительница Комитета о сестрах Красного Креста, общины Св. Евгении и Максимилиановской лечебницы — 132
Екатерина II (1729–1796), российская императрица с 1762 г. — 127, 130, 152, 157, 191
Елена Владимировна, вел. княжна, дочь вел. князя Владимира Александровича — 201
Елизавета Маврикиевна (урожд. принцесса Саксен-Альтенбургская), герцогиня Саксонская, вел. княгиня (род. 1865), жена вел. князя Константина Константиновича (с 1884 г.) — 136
Елисавета (Елизавета) Викторовна — см. Мдивани Елисавета Викторовна
Елисавета (Елизавета) Петровна (1709–1761), российская императрица с 1741 г. — 129
Елисавета (Елизавета) Федоровна (урожд. принцесса Гессен-Дармштадтская), вел. княгиня (1864–1918), жена вел. князя Сергея Александровича, сестра имп. Александры Федоровны — 33, 91, 95, 113, 134, 200
Жильяр Пьер, швейцарец, гувернер цесаревича Алексея Николаевича — 110,113
Жуковская (баронесса фон Верман, ум. 1893), фрейлина — 129
Зальца (?), генерал, корпусной командир — 39
Занотти Магдалена Францевна, камер-фрау имп. Александры Федоровны — 103
Зилотти, адъютант морского министра, возможно — Зилотти Сергей Ильич (1862–1914), генерал-адъютант по адмиралтейству, старший адъютант, с 1911 г. помощник начальника Главного морского штаба — 62
Зиновьева, г-жа — 194
Злобин, статский советник, помощник А. А. Мосолова по канцелярии, управляющий капитулом орденов — 162
Игнатьев Алексей Павлович (1842–1906), граф (с 1877 г.), генерал от кавалерии, член Гос. совета (с 1896 г.), председатель Особых совещаний по охране гос. порядка и по вопросам вероисповедания — 66
Извольский Александр Петрович (1856–1919), русский посланник в Дании (1903–1906), министр иностранных дел (1906–1910), русский посол во Франции (1910–1917) — 159, 160, 204
Император — см. Николай II
Императрица — см. Александра Федоровна
Императрица-мать, вдовствующая императрица — см. Мария Федоровна
Ирина (урожд. принцесса Гессен-Дармштадтская), жена Генриха Прусского, сестра имп. Александры Федоровны — 207
Каналоши-Лефлер Ф. Ф., начальник канцелярии дворцового коменданта — 47
Канищев, генерал, начальник артиллерии — 35
Карагеоргиевич, князь — 163
Карнович О. В. — см. Палей, княгиня
Кароль (Карл), принц (1893–1953), сын румынского короля Фердинанда I, румынский король (1930–1940) — 21, 149, 244
Квитко-Основьяненко, офицер Конного полка — 237
Келеповская, фрейлина — 99, 100
Керр, английский адмирал — 209
Кирилл Владимирович, вел. князь (1876–1938), старший сын вел. князя Владимира Александровича, контр-адмирал Гвардейского экипажа, глава дома Романовых в эмиграции — 118, 125, 126, 145, 148
Клейнмихель (урожд. графиня Келлер) Мария Эдуардовна (род. 1846), графиня — 131
Коковцов Владимир Николаевич, граф (1853–1943), товарищ министра финансов (1896–1902), гос. секретарь (1902–1904), министр финансов (1904 — окт. 1905, апр. 1906–1914), председатель Совета министров (1911–1914), член Гос. совета — 11, 24, 25, 132
Константин Константинович, вел. князь (1858–1915), сын вел. князя Константина Николаевича, генерал-адъютант, генерал от инфантерии, главный начальник (1900–1910), затем генерал-инспектор военных учебных заведений, почетный президент Академии наук (с 1889 г.), поэт (подписывался инициалами К. Р.) — 114, 133, 136, 137
Константин Николаевич, вел. князь (1827–1892), 2-й сын имп. Николая I, генерал-адмирал — 124, 136, 137
Константин Павлович, вел. князь (1779–1831), брат имп. Николая I — 119, 129
Константин Петрович Ольденбургский, сын Петра Георгиевича, принца Ольденбургского — 145
Кочубей Виктор Сергеевич, князь (род. 1860), генерал-адъютант, начальник Главного управления уделов (1899–1917) — 28, 130, 132, 160, 224, 240, 245
Кочубей Дарья Евгеньевна (Долли), дочь Евгения Максимилиановича, герцога Лейхтенбергского, жена князя Л. М. Кочубея, вторым браком за бароном В. Е. Гревеницем — 130
Кочубей (урожд. княжна Белосельская-Белозерская) Елена Константиновна, княгиня, жена В. С. Кочубея — 130
Кочубей, княгиня — 194
Кочубей Лев Михайлович, князь — 130
Кривошеин, министр, возможно — Кривошеин Александр Васильевич (1858–1923), ближайший сотрудник Столыпина, управляющий делами начальника Переселенческого управления Министерства внутренних дел, товарищ министра финансов (1906–1908), главноуправляющий Землеустройством и земледелием (1908 — окт. 1915), член Гос. совета, глава правительства барона Врангеля — 75
Крозье, шеф протокола при посещении имп. Николая II Французской республики — 94
Кропоткин Сергей Алексеевич, князь — 140, 141
Крыжановский Сергей Ефимович (род. 1861), товарищ министра внутренних дел (1906–1911), статс-секретарь (1911), сенатор, начальник канцелярии Гос. совета (1917) — 54
Ксения Александровна, вел. княгиня (род. 1875), сестра имп. Николая II, жена вел. князя Александра Михайловича — 114, 146, 230
Куропаткин Алексей Николаевич (1848–1924), генерал от инфантерии, военный министр (1898–1904), главнокомандующий русскими военными силами на Дальнем Востоке, член Гос. совета (с 1906 г.) — 85
Ладышенский, кавалергард — 140
Ламсдорф [Ламздорф] Владимир Николаевич (1837–1907), министр иностранных дел (1900–1906) — 29, 75, 205
Лауниц Владимир Федорович, фон дер (1855–1906), генерал-майор, тамбовский губернатор, Санкт-Петербургский градоначальник — 177, 179
Лейхтенбергская, Зинаида Дмитриевна (урожд. Скобелева), графиня Богарне, герцогиня, жена Евгения Максимилиановича Романовского, герцога Лейхтенбергского — 129–130
Лейхтенбергские, герцоги — 129, 185
Лейхтенбергский, Евгений Богарне, герцог (1781–1824), пасынок Наполеона I, вице-король Италии, муж дочери Баварского короля Амалии — 129
Лейхтенбергский, Евгений Максимилианович князь Романовский, граф Богарне, герцог (род. 1847) — 129–131
Лейхтенбергский, Максимилиан-Евгений-Иосиф-Август-Наполеон Богарне, герцог (1817–1852), муж вел. княгини Марии Николаевны, почетный член Академии наук и Академии художеств, с 1843 г. президент последней; его детям присвоено наименование князей Романовских — 129
Лейхтенбергский, Николай Николаевич, герцог (род. 1868), флигель-адъютант, полковник лейб-гвардии Преображенского полка, сын Николая Максимилиановича князя Романовского, герцога Лейхтенбергского (1843–1890) — 169, 170
Лейхтенбергский, Юрий Максимилианович князь Романовский, герцог (род. 1852) первый муж Анастасии Николаевны (черногорки) — 104, 245 (?)
Лисаневич Д. С., первый муж М. И. Витте — 51
Ллойд-Джордж Дэвид (1863–1944), английский военный министр, затем премьер-министр — 160
Лобанова-Ростовская, княгиня — 201
Лович (урожд. графиня Грудзинская) Жаннетта Антоновна, княгиня (1799–1831), с 1820 г. жена вел. князя Константина Павловича — 129
Ломен, контр-адмирал, флаг-капитан, капитан имп. яхты «Штандарт» — 235
Лопухин Алексей Александрович (род. 1864), директор департамента полиции (1903–1905); эстляндский губернатор, уволен в отставку в конце 1905 г. — 40, 41
Лопухина-Демидова, св. княгиня — 192
Лубе Эмиль (1838–1929), президент Французской республики (1899–1906) — 94, 95
Людвиг IV (1837–1892), герцог Гессен-Дармштадтский с 1877 г., отец имп. Александры Федоровны — 91
Людовик XIV (1638–1715), французский король с 1643 г. — 187
Людовик XV (1710–1774), французский король с 1715 г. — 187
Макаров Александр Александрович (1857–1919), товарищ министра внутренних дел, директор департамента полиции (1906–1909), статс-секретарь (1909–1911), министр внутренних дел и шеф жандармов (1911–1912) — 24, 25
Максимович Константин Клавдиевич (род. 1849), генерал-адъютант, помощник командующего имп. главной квартиры (с дек. 1915 г.) — 67, 68
«Мама» — см. имп. Александра Федоровна
Мария (урожд. принцесса Саксен-Кобург-Готская), румынская королева, сестра вел. княгини Виктории Федоровны — 149, 150, 243, 244
Мария Александровна (Максимилиана-Вильгельмина-Августа-София-Мария, урожд. принцесса Гессен-Дармштадтская, 1824–1880), российская императрица, жена имп. Александра II — 69, 121, 125
Мария Александровна, вел. княгиня — 125
Мария Георгиевна (урожд. принцесса греческая), вел. княгиня, жена вел. князя Георгия Михайловича — 146
Мария Николаевна, вел. княгиня (1819–1876), герцогиня Лейхтенбергская, дочь имп. Николая I, жена Максимилиана, герцога Лейхтенбергского — 129, 130
Мария Николаевна (1899–1918), вел. княжна, 3-я дочь имп. Николая II — 113, 116
Мария Павловна (урожд. герцогиня Макленбург-Шверинская, 1854–1923), вел. княгиня, жена вел. князя Владимира Александровича — 89, 90, 92, 100–102, 117, 118, 125–128, 135, 150, 151
Мария Павловна, княжна, дочь вел. князя Павла Александровича — 134
Мария Федоровна (1759–1828), российская императрица, жена имп. Павла I—124
Мария Федоровна (Луиза-София-Фредерика-Дагмара, 1847–1928), российская императрица, дочь датского короля Кристиана IX, жена имп. Александра III — 29, 33, 51, 70, 91, 92, 94, 95, 99, 100, 106–108, 119, 120, 122, 148, 182, 185, 193, 208, 229
Матильда Ивановна — см. Витте Матильда Ивановна
Мдивани Елисавета (Елизавета) Викторовна, жена Захария Аслановича Мдивани — 8–10, 12
Мдивани Захарий Асланович, генерал-майор свиты, командир 13-го лейб-гренадерского Эриванского полка (1912–1915), начальник штаба Кавказского корпуса — 8
Мейендорф, барон, дирижер придворных балов — 200
Мейендорф, генерал-майор свиты, начальник великих княжон — 227
Мейендорф Вера, баронесса, председательница Общества покровительства животных — 227
Мещерский, князь — 191
Мещерский Владимир Петрович, князь (1839–1914), камергер, издатель и редактор газеты «Гражданин» — 185, 186
Милица Николаевна (черногорка), вел. княгиня (род. 1866), дочь черногорского князя Николая I Негоша, жена вел. князя Петра Николаевича — 104, 114, 117, 146
Милюков Павел Николаевич (1859–1943), историк, публицист, член III и IV Гос. Думы, один из лидеров кадетской партии — 47, 50
Михаил Александрович, вел. князь (1878–1918), сын имп. Александра III, командир Кавказской кавалерийской (дикой) дивизии — 29, 73, 118, 147, 148, 171, 201
Михаил Михайлович, вел. князь, сын вел. князя Михаила Николаевича — 146
Михаил Николаевич, вел. князь (1832–1909), сын имп. Николая I, генерал-фельдмаршал, генерал-фельдцехмейстер, наместник Кавказа и главнокомандующий Кавказской армией (1863–1881), председатель Гос. совета (до 1905 г.) — 31, 34, 91, 92, 123, 125, 146
Монтебелло Луи Густав Ланн, маркиз, французский посол в России (1891–1903) — 211
Мордвинов Анатолий Александрович (род. 1870), адъютант вел. князя Михаила Александровича (1906–1913), флигель-адъютант (с 1913 г.) — 169, 170, 172
Мосолова К. Ф., тетка Александра Александровича Мосолова — 176
Мумм, граф, дипломатический представитель Германии при гетмане Скоропадском — 246
Муромцев Сергей Андреевич (1850–1910), юрист, профессор Московского университета (с 1877 г.), один из лидеров и основателей партии кадетов, председатель I Гос. Думы — 47, 182
Мусин-Пушкин Александр Иванович, граф, генерал-адъютант, командующий Одесским военным округом (1890–1903) — 115
Мясоедов Сергей Николаевич (1865–1915), жандармский полковник, с 1901 г. начальник Вержболовского отд. СПб Варшавского жандармского управления, в 1909–1912 г.г. в распоряжении военного министерства, обвинен в шпионаже и казнен — 86
Наполеон I (1769–1821), французский император (1804–1814) — 212
Наполеон III (1808–1873), французский император (1852–1870) — 211,212
Нарышкин, спортсмен-охотник, приближенный вел. князя Николая Николаевича (младшего) — 61
Нарышкин Кирилл Анатольевич (1868–1924), флигель-адъютант, генерал-майор, помощник начальника военно-полевой канцелярии имп. Николая II, начальник главной квартиры имп. двора (с 1916 г.) — 27, 169, 170, 172
Нарышкина (урожд. Куракина) Елисавета (Елизавета) Алексеевна (род. 1840), обер-гофмейстерина, статс-дама, вдова Анатолия Дмитриевича Нарышкина — 7, 8, 94, 115, 172, 210
«Наш друг» — см. Распутин Григорий Ефимович
Нельсон Горацио (1758–1805), английский адмирал — 137
Немешаев К. С., начальник Юго-Зап. железных дорог (1896–1905), министр путей сообщения (1905–1906), член Гос. совета — 63, 64
Несветевич, генерал в отставке — 206
Николай I Павлович (1796–1855), российский император с 1825 г. — 67, 69, 129, 130, 144, 147, 164, 201
Николай II Александрович (1868–1918), российский император (1894–1917) — 10–13, 15–21, 24–35, 37–40, 42–61, 63–85, 87–95, 97–100, 104, 106, 108, 109, 111–113, 115–119, 123, 125, 126, 128, 131, 133–135, 146–150, 152, 153, 156–161, 164–187, 190, 191, 193, 194, 200–204, 206–208, 210–213, 215–220, 222–224, 226–246
Николай, герцог Лейхтенбергский — см. Лейхтенбергский, Николай Николаевич, герцог
Николай Александрович, цесаревич, старший сын Александра II — 185
Николай Константинович, вел. князь, сын вел. князя Константина Николаевича — 136, 137
Николай Михайлович, вел. князь (1859–1919), сын вел. князя Михаила Николаевича, военный деятель и историк — 89, 139, 146, 147
Николай Николаевич (старший), вел. князь (1831–1892), 3-й сын имп. Николая I, фельдмаршал, командующий войсками Санкт-Петербургского военного округа (1864–1880), главнокомандующий русской Дунайской армией в первый период русско-турецкой войны 1877–1878 гг. — 139, 140–144
Николай Николаевич (младший), вел. князь (1856–1929), сын вел. князя Николая Николаевича (см. выше), командующий войсками гвардии и Санкт-Петербургского военного округа (1905–1914), верховный главнокомандующий (1914–1915), наместник Кавказа и командующий Кавказским фронтом — 11, 45, 55–57, 60, 61, 86–90, 104, 118, 126, 139, 143–146, 240
Николай (Никита) I Петрович Негош (1841–1921), князь, затем король Черногорский — 146
Нилов Константин Дмитриевич (род. 1856), адмирал, флаг-капитан (адъютант по военно-морской части), член ближайшей свиты имп. Николая II — 169, 203, 223, 236
Новосельский, начальник камерной части министерства двора — 165
Новосильцев, товарищ по полку А. А. Мосолова — 7
Оболенская Елизавета Николаевна, княгиня, фрейлина — 32
Оболенский Алексей Дмитриевич, князь (род. 1855), товарищ министра внутренних дел (1897–1901), товарищ министра финансов (1902–1905), обер-прокурор Синода (1905–1906), член Гос. совета — 50, 56
Оболенский Николай Дмитриевич, флигель-адъютант имп. Александра III, управляющий кабинетом имп. Николая II — 52, 56–60, 91, 97
Оленина А. А., фрейлина — 32, 169
Олив, фрейлина вел. княгини Марии Павловны — 101
Ольга Александровна, вел. княгиня (род. 1882), дочь Александра III, в первом браке жена Петра Александровича, принца Ольденбургского; в 1916 г. вступила в морганатический брак с Николаем Александровичем Куликовским — 110, 148
Ольга Константиновна (1851–1926), греческая королева, дочь вел. князя Константина Николаевича, жена греческого короля Георга I — 134
Ольга Николаевна, вел. княжна (1895–1918), старшая дочь имп. Николая II— 113, 116, 117
Ольденбургский дом — 133, 145
Опочинина — см. Богарне Дарья Константиновна, графиня
Орбелиани [Джамбакуриан-Орбелиани] Софья Ивановна (ум. дек. 1915), фрейлина имп. Александры Федоровны — 32, 102, 103, 112, 177–179
Орлов Алексей Григорьевич (1737–1807), граф, брат Григория Григорьевича Орлова, фаворита Екатерины II; А. А. Мосолов ошибся, назвав его временщиком — 130
Орлов Владимир Николаевич (1868–1927), князь, флигель-адъютант, помощник начальника (1901–1906), затем начальник канцелярии главной квартиры имп. двора (1906–1915) — 11, 27, 55, 56, 130, 139, 157, 160, 169, 170, 238
Орлов Николай Алексеевич (1827–1885), князь, русский посол в Париже, отец Владимира Николаевича Орлова — 169
Орлов Федор Григорьевич (1741–1796), брат Григория Григорьевича Орлова, фаворита Екатерины II — 169
Орлова (урожд. кн. Белосельская-Белозерская) Ольга Константиновна, княгиня, жена Владимира Николаевича Орлова — 130
Павел I Петрович (1754–1801), российский император с 1796 г. — 98, 124, 187
Павел Александрович, вел. князь (1860–1919), сын имп. Александра II, генерал-адъютант, генерал от кавлерии, командир гвардейского корпуса (1916), инспектор войск гвардии — 125, 133–135, 139, 147
Палей Ольга Валериановна (урожд. Карнович) фон Пистолькорс, графиня Гогенфельзен, княгиня (род. 1865), морганатическая жена вел. князя Павла Александровича — 104, 134, 135
Пален Константин Константинович фон дер, граф (род. 1862), гофмейстер, сенатор (1906), лишен придворного звания в 1916 г. — 55
Палеолог Морис Жорж (1859–1944), французский посол в России (1913–1917) — 243
«Папа» — см. имп. Николай II
Папюс, медиум — 104, 105
Петр I Алексеевич, Великий (1672–1725), русский царь (1682–1721), российский император с 1721 г. — 80, 81
Петр III Федорович (1728–1762), принц Гольштейн-Готторпский, российский император с 1761 г. — 98
Петр (Константин-Фридрих-Петр) Георгиевич, принц Ольденбургский (1812–1881), генерал от инфантерии, сенатор, член Гос. совета — 145
Петр Николаевич, вел. князь (род. 1864), сын вел. князя Николая Николаевича (старшего), генерал-инспектор инженерных войск — 104, 139, 145
Петров, учитель гимназии, преподаватель великих княжон, возможно — Петров Петр Васильевич, советник, чиновник особых поручений IV кл. — 113
Пистолькорс Ольга Валериановна фон — см. Палей Ольга Валериановна, княгиня
Пистолькорс Эрик Августович фон, адъютант вел. князя Владимира Александровича — 134
Плевицкая (урожд. Винникова) Надежда Васильевна (1884–1941), эстрадная певица — 82
Победоносцев Константин Петрович (1827–1907), обер-прокурор Синода (1880 — окт. 1905), член Гос. совета — 55, 185
Поливанов Алексей Андреевич (1855–1920), генерал, помощник военного министра, военный министр (1915–1916) — 24
Половцев [Половцов], возможно — Половцов Александр Александрович (1832–1909), статс-секретарь, член Гос. совета, председатель Русского исторического общества — 35
Понсонби, адъютант английского короля Эдуарда VII — 98
Попов, профессор, терапевт-клиницист — 29, 33
Протопопов Александр Дмитриевич (1866–1918), промышленник, министр внутренних дел (1916) — 15–21
Пуанкаре Раймонд (1860–1934), президент Французской республики (1913–1920) — 241
Пурталес Фридрих (1853–1928), граф, германский посол в России (1907–1914) — 165, 242, 243
Путятин Михаил Сергеевич (род. 1861), князь, генерал-майор, штабс-офицер для поручений при управлении гофмаршальской части имп. двора (1900–1911), начальник Царскосельского дворцового управления (с 1911 г.) — 83, 177, 217
Пушкин Александр Сергеевич (1799–1837) — 146
Радко-Димитриев (Дмитриев) (1859–1918), болгарский генерал, болгарский посланник в России, в 1914 г. вступил в русскую армию — 82
Разумовский Алексей Григорьевич (1709–1771), граф, фаворит имп. Елизаветы Петровны — 129
Распутин (Новых) Григорий Ефимович (Гришка, старец, «наш друг»; 1864 или 1865–1915), крестьянин Тобольской губернии, авантюрист, пользовавшийся влиянием при царском дворе (1905–1916) — 5–21, 24, 25, 88–90, 97, 104–106, 118, 123, 132, 135, 149, 150, 170
Раухфус Карл Андреевич (1835–1915), лейб-педиатр, директор больницы принца Ольденбургского в Санкт-Петербурге — 5
Рачковский Петр Иванович (1853–1911), заведующий заграничной агентурой департамента полиции в Париже (1885–1902), заведующий политической частью департамента полиции Министерства внутренних дел (1905–1906) — 104
Редигер Александр Федорович (1853–1918), генерал от интфантерии, начальник канцелярии военного министра (1890–1905), военный министр (1905–1909), член Гос. совета — 56
Репнин, князь, обер-гофмейстер, предводитель дворянства Киевской губернии — 198
Рибоньер, лейб-гусар — 140
Рихтер, генерал-адъютант, член Гос. совета — 55, 57, 185
Родзянко Михаил Владимирович (1859–1924), один из лидеров партии октябристов, депутат III и IV Гос. Думы и ее председатель (1911) — 7
Родзянко (урожд. Новосильцева) Тамара Антоновна — 7, 8, 21
Рожественский Зиновий Петрович (1848–1909), вице-адмирал, генерал-адъютант, начальник Главного морского штаба, командующий 2-й Тихоокеанской эскадрой, разгромленной при Цусиме, в отставке с 1906 г. — 128
Романовский Юрий М., князь — см. Лейхтенбергский, Юрий (Георгий) Максимилианович, герцог
Романовы, царская династия — 6, 34, 70, 98, 129
Ростовцев Яков Николаевич, граф, зав. канцелярией имп. Александры Федоровны и ее личный секретарь — 50, 51, 77
Румынская королева — см. Мария, румынская королева
Румынский король — см. Фердинанд I, румынский король
Рыдзевский, начальник канцелярии министерства двора — 161, 166
Рыдзевский К. Н., товарищ министра внутренних дел, шеф жандармов (1904–1905) — 35
Саблин Николай Павлович (род. 1880), флигель-адъютант, капитан 1-го ранга, ст. офицер имп. яхты «Штандарт» (1911), командир «Штандарта» (с 1916 г.) — 170, 235
Сазонов Сергей Дмитриевич (1860–1927), товарищ министра иностранных дел (1909–1910), министр иностранных дел (1910–1916) — 241–243
Саксонская принцесса, жена вел. князя Константина Константиновича — см. Елизавета Маврикиевна, вел. княгиня
Салтыков, генерал-адъютант — 120
Самарин Федор Дмитриевич, видный деятель земского движения, член Гос. совета (1907–1908) — 64, 75
Самокиш Николай Семенович (1860–1944), художник-баталист, член Петербургской академии художеств — 155
Сафонов, лейб-гусар — 140
Сахаров Виктор Викторович (убит 22 XI 1905), генерал-лейтенант, военный министр (1904 — июнь 1905) — 78
Святополк-Миркий Петр Данилович (1857–1914), князь, генерал-лейтенант, генерал-адъютант, командующий отд. корпусом жандармов, товарищ министра, затем министр внутренних дел (1904–1905) — 36, 40
Серафим, архимандрит — 177
Серафим Саровский, Св. (Мошин Прохор Сидорович, 1760–1833), монах Саровской пустыни (1793–1833), канонизирован в 1903 г. — 175, 176, 178
Сергей Александрович, вел. князь (1857–1905), 4-й сын Александра II, московский генерал-губернатор (1891–1905), убит в Москве И. П. Каляевым — 91, 125, 130, 133, 134
Сергей Михайлович, вел. князь (1869–1918), сын вел. князя Михаила Николаевича, генерал-инспектор артиллерии (с 1905 г.), полевой генерал-инспектор артиллерии при Верховном главнокомандующем (1915–1917) — 147
Скобелева Зинаида Дмитриевна — см. Лейхтенбергская, Зинаида Дмитриевна, герцогиня
Скоропадский Павел Петрович (1873–1945), крупный помещик Черниговской и Полтавской губерний, флигель-адъютант свиты имп. Николая II, командующий Кавказской дивизией, глава формирований Центральной рады на Украине — 245
Сольский Дмитрий Мартынович (1833–1910), граф, статс-секретарь, председатель департамента гос. экономии Гос. совета (1893–1903), председатель комиссии для разработки законоположения о новых парламентских учреждениях, председатель Гос. совета и Комитета финансов (1905–1906) — 54, 55
Сперанский С. И., генерал-лейтенант, начальник Санкт-Петербургского дворцового управления (1891–1914) — 40
Стана Николаевна, черногорская княгиня — см. Анастасия Николаевна (черногорка), вел. княгиня
Старец — см. Распутин Г. Е.
Столыпин Петр Аркадьевич (1862–1911), саратовский губернатор (1903–1906), председатель Совета министров и министр внутренних дел (1906–1911) — 47, 75, 184, 185
Строганов, граф, обер-шенк, морганатический муж вел. княгини Марии Николаевны — 129
Струков, возможно — Струков Александр Петрович (1840–1912), генерал-адъютант — 110, 143, 144
Сумароков-Эльстон Николай, граф, чемпион России по теннису — 229
Сухомлинов Владимир Александрович (1848–1926), генерал от кавалерии, Киевский генерал-губернатор (1905), начальник Ген. штаба (1908–1909), военный министр (1909–1915) — 75, 86, 87, 226, 241
Танти, француз, хозяин ресторана Дюссо в Санкт-Петербурге — 120
Таганцев Николай Степанович (1843–1923), юрист, сенатор, член Гос. совета — 64
Танеев Александр Сергеевич (род. 1850), статс-секретарь, обер-гофмейстер, управляющий имп. канцелярией (1896–1917), член Гос. совета — 55, 77, 96
Танеева Александра Александровна, дочь А. С. Танеева — 96
Танеева Анна Александровна, дочь А. С. Танеева — см. Вырубова Анна Александровна
Татищев Илья Леонидович, адъютант вел. князя Владимира Александровича, затем в свите имп. Николая II — 126
Татьяна Николаевна, вел. княжна (1897–1918), вторая дочь имп. Николая II — 113, 116, 117
Теляковский Владимир Аркадьевич (1861–1924), директор имп. театров (1901–1917) — 63
Толстой Иван Иванович (1858–1916), граф, гофмейстер, вице-президент Академии художеств, министр народного просвещения (1905–1906), нумизмат и археолог — 61, 64, 65
Толстой Лев Николаевич (1828–1910), граф, писатель — 147
Торби (урожд. графиня Меренберг) Софья Николаевна, графиня (ум. 1929), жена вел. князя Михаила Михайловича, внучка А. С. Пушкина — 146
Трепов Александр Федорович (1862–1928), товарищ статс-секретаря, сенатор (с 1906 г.), член Гос. совета (1914–1917), министр путей сообщения (с окт. 1915), председатель Совета министров — 13, 15–19, 89
Трепов Владимир Федорович (1860–1918), таврический губернатор (1902–1905), член Гос. совета (1908–1911) — 47, 49
Трепов Дмитрий Федорович (1855–1906), московский обер-полицмейстер (1896–1904) петербургский генерал-губернатор (янв. 1905), товарищ министра, затем министр внутренних дел (с апр. 1905), дворцовый комендант (окт. 1905–1906) — 36, 37, 39–49, 55, 56, 58, 59, 62, 63, 75, 168, 183
Трепова (урожд. Блохина) Софья Сергеевна, жена Дмитрия Федоровича Трепова — 48
Трубецкой, возможно — Трубецкой Георгий (Юрий) Иванович (род. 1866), генерал от кавалерии, командир собственного Его Величества конвоя (1906–1913), генерал-майор свиты, помощник коменданта имп. главной квартиры (1915) — 223
Трубецкой Павел (Паоло) Петрович (1866–1938), скульптор, автор памятника Александру III (бронза, 1900–1906), поставлен на Знаменской (ныне Восстания) площади в Петербурге в 1909 г., снят в 1937 г., сейчас находится в Русском музее в Ленинграде — 69
Тютчева Софья Ивановна, фрейлина, воспитательница великих княжон (1911–1912), внучка поэта Ф. И. Тютчева — 11, 12
Урусов Юлий (Жюль) Дмитриевич, князь, шталмейстер — 190, 191
Ушаков, армейский вольноопределяющийся — 140, 142
Ушаков M. А., рабочий экспедиции заготовления государственных бумаг, организатор «Независимой социальной рабочей партии» — 61, 145
Фальер Арманд (1841–1931), президент Французской республики (1906–1913) — 209
Федоров Сергей Петрович, лейб-хирург, профессор — 5, 6, 169, 171
Фердинанд I (1865–1927), румынский король с 1914 г. — 149
Фердинанд I Кобургский (1861–1948), князь Болгарский с 1887 г., царь (1908–1918) — 214, 215
Филипп, медиум — 104, 145
Флотова Мария Петровна фон, камер-фрау имп. Марии Федоровны — 107, 108
Франц-Иосиф I (1830–1916), австрийский император с 1848 г. — 213, 214, 218
Фредерикс Владимир Борисович (1838–1927), барон, граф (с 1913 г.), генерал-адъютант, помощник министра (1893–1897), затем министр имп. двора (1897–1917), член Гос. совета (с 1905 г.) — 5, 8–12, 15, 22, 23, 27–35, 37–40, 44–48, 51–61, 63, 70, 73, 74, 78, 88, 90, 93, 94, 96–101, 104, 106, 107, 113, 114, 123, 126, 128, 132, 149–161, 165–172, 180, 182, 184–188, 191, 192, 198, 204, 221, 223, 232, 237–239, 241–244
Фредерикс Эмма Владимировна, дочь графа В. Б. Фредерикса, фрейлина, жена Владимира Николаевича Воейкова — 114
Фредерикс (урожд. Богушевская) Ядвига (Гедвига) Алоизиевна, графиня, статс-дама, жена В. Б. Фредерикса — 101, 161, 210
Фриш, помощник Фулона, петербургского градоначальника, сын Э. В. Фриша, члена Гос. совета — 38
Фулон [Фуллон] И. А., петербургский градоначальник (1904–1905) — 38
Хвощинский Богдан, кавалергард — 140
Хис Чарльз, воспитатель и преподаватель англиийского языка имп. Николая II — 71
Царь — см. Николай II
Цесаревич — см. Алексей Николаевич
Чагин Иван Иванович (застрелился осенью 1912 г.), капитан 1-го ранга, контр-адмирал свиты, участник русско-японской войны, командир имп. яхты «Штандарт» — 235
Чайковский Петр Ильич (1840–1893), композитор — 83
Чемодуров [Чемадуров] Терентий Иванович, камердинер вел. князя Алексея Александровича, затем имп. Николая II — 133
Черногорки, дочери черногорского князя Николая I Негоша — см. Анастасия и Милица Николаевны, вел. княгини
Черногорский князь — см. Николай I Петрович Негош
Чертков М. И., генерал-адъютант — 38
Чичагов Серафим, возможно — Чичагов Леонид Михайлович (род. 1856), священник с 1898 г., в монашестве с 191? г. — 176
Шаховской Всеволод Николаевич (1874–1954), князь, министр торговли и промышленности — 14, 17, 19
Шереметева, графиня — 194
Шереметевы, род — 131
Ширинский-Шиматов Алексей Александрович (род. 1862), князь, гофмейстер, обер-прокурор Синода (26 IV — 9 VI 1906), член Гос. совета (с июня 1906) — 24
Шлиффен, генерал-адъютант имп. Вильгельма II — 204
Шнейдер Екатерина Адольфовна (ум. 1918), гоф-лектриса имп. Александры Федоровны — 103, 113, 114, 116
Шувалова графиня — 194
Шувалова (урожд. кн. Барятинская) Елизавета (Бетси) Владимировна, жена П. П. Шувалова — 131
Щеглов Василий Васильевич, заведующий собственною Его Величества библиотекой — 49, 80
Эдуард VII (1841–1910), английский король с 1901 г. — 97, 98, 108, 159, 206, 208
Эйхгорн, генерал, начальник немецких оккупационных войск на Украине — 245
Эрнст, герцог Брауншвейг-Люнебургский, зять имп. Вильгельма II — 207
Эрнст-Людвиг (1868–1937), великий герцог Гессенский (1892–1918), брат имп. Александры Федоровны — 125, 190, 237
Юрьевская, Долгорукая (Долгорукова) Екатерина Михайловна, княгиня (1844–1922), морганатическая жена имп. Александра II с 1880 г. — 119–122, 129, 199
Юсупова, княгиня, возможно — Юсупова Ирина Александровна (род. 1895), дочь вел. князя Александра Михайловича и вел. княгини Ксении Александровны, в замужестве с 1914 г. за графом Ф. Ф. Сумароковым-Эльстоном, с 1914 г. княгиня Юсупова — 101, 194
Юсуповы, князья — 229
Ягельский, придворный фотограф — 115, 116
Янушкевич Николай Николаевич (1868–1918), генерал от инфантерии, начальник Академии Генштаба (1913), начальник Генштаба, начальник штаба ставки Верховного главнокомандующего — 88, 242
Комментарии
1 Во время пребывания Их Величеств в Крыму в Ливадию вызывались для охраны царской семьи полки по наряду со всей России. На полковой праздник лейб-эриванцев привезли из Ливадии в Красное Село.
(обратно)2 По основным законам, связь между державным главою и правительством не может прерываться ни на минуту. В случае тяжкой болезни, мешающей государю выполнять свои обязанности, назначается регент. Ввиду того что мысль о регентстве была сначала императрицею, а позже и самим царем отвергнута, граф Фредерикс настаивал на необходимости видеть государя всякий день, тем желая соблюсти букву закона и хотя бы формально являться царю, будучи пред министрами как бы передатчиком его воли.
(обратно)3 «Полковниками от котлет» называли военных, исполнявших различные хозяйственные функции при дворе.
(обратно)4 Государыня почти до трагического конца своего царствования по-русски говорила только с духовенством и низшей прислугой.
(обратно)5 Основан великим князем Владимиром Александровичем, светлейшим князем Константином Горчаковым и А. А. Половцевым. Помещался в доме князя Васильчикова на Дворцовой набережной.
(обратно)6 Статс-секретарь, государственный секретарь (начальник канцелярии Государственного совета). Составитель всех законопроектов того времени. Пользовался в сферах репутацией тонкого юриста.
(обратно)7 Рондисты — писари, специалисты по переписке особо торжественных бумаг: манифестов, рескриптов, грамот и т. д. такие бумаги переписывались только от руки, «рондо». Естественно, никаких помарок и подчисток не допускалось. Работа была чрезвычайно кропотливая и медленная. Манифест Витте был первой бумагой такого рода, написанной на пишущей машинке.
(обратно)8 Граф Иван Иванович Толстой, гофмейстер, товарищ президента императорской Академии художеств. Был недолгое время министром народного просвещения в кабинете Витте.
(обратно)9 Она впоследствии вышла замуж за барона фон Вермана и в 1893 году скончалась в Дрездене.
(обратно)10 Для полноты упомяну неравнородный союз великой княгини Марии Николаевны, вдовствующей герцогини Лейхтенбергской, сестры Александра II, с обер-шенком графом Строгановым. Брак этот был заключен с высочайшего соизволения.
(обратно)11 Первым браком Евгений Максимилианович был женат на Опочининой, получившей титул и фамилию графини Богарне.
(обратно)12 Она во время великой войны развелась и вышла замуж за барона Гревеница, с которым тоже вскоре развелась и просила высочайшего соизволения именоваться графиней Богарне, но в этом ей было отказано.
(обратно)13 После кончины Его Высочества он был взят государем к себе на ту же должность.
(обратно)14 Струков в течение многих лет был адъютантом отца великого князя Николая Николаевича и знал его с детства. Я был ординарцем у Струкова во время взятия им Андрианополя в 1877 году.
(обратно)15 Фредерикс ко времени его назначением министром двора был еще бароном и только впоследствии был награжден государем графским достоинством. Для упрощения буду единообразно титуловать его графом.
(обратно)16 Этими перьями снабжал князь Владимир Орлов, который нашел целый запас в своем Стрельнинском дворце, перешедшем к нему от предков времен Екатерины Великой.
(обратно)17 Отказ Ллойд-Джорджа от приема царской семьи в Англии после запроса об этом временного правительства доказал до известной степени правоту взгляда графа Фредерикса.
(обратно)18 Благодаря изъятию всех высочайших особ из компетенции общих судебных установлений многочисленные претензии к членам императорской фамилии должны были восходить чрез министерство двора на высочайшее рассмотрение.
(обратно)19 В канцелярию часто обращались с просьбами о вспомоществовании. На этот предмет в моем распоряжении была специальная сумма в 40 000 рублей ежегодно, именовавшаяся «комнатною». Название произошло оттого, что раньше этою суммою для вспомоществования и раздачи нуждающимся распоряжались личные камердинеры императоров. Граф Воронцов, заметив, что при этих выдачах проявляется неумелость, а кроме того, по введении охраны государя доступ просителям во дворец стал невозможен, распорядился ведение этой суммой передать в канцелярию. Пособия раздавались потомкам придворно-служительского сословия и лицам, имевшим какое-либо отношение ко двору, в случаях острой нужды, для окончания учебных заведений и, в виде исключения, гвардейским офицерам, не имевшим возможности содержать себя в полку, где служили их отцы и деды.
(обратно)20 Сын Николая Алексеевича Орлова — бывшего посла в Париже, внук Федора Григорьевича, брата временщика при императрице Екатерине.
(обратно)21 Кроме тех дней, когда выход назначался в дни пожалований в придворные чины и звания, высочайший приказ о коих раздавался в залах дворца.
(обратно)22 Описание николаевского бала было отчасти составлено княгинею Лобановой-Ростовской, которой автор приносит свою искреннюю благодарность.
(обратно)23 Прием в публичном (вм.: народном) доме Санкт-Петербурга.
(обратно)24 Флаг-капитан Его Величества отвечает за безопасность государя с того момента, как тот покидает сушу и садится — все равно, на броненосец, на яхту или в шлюпку. В этом последнем случае флаг-капитан лично становится на руль.
(обратно)25 Указатель относится только к воспоминаниям А. А. Мосолова. Так как повествование ведется от первого лица, его автор, Александр Александрович Мосолов (род. 1854), в перечне имен не указан. Составитель И. С. Шаркова приносит извинения за возможные неточности в датах из-за расхождения в источниках информации.
(обратно) (обратно)
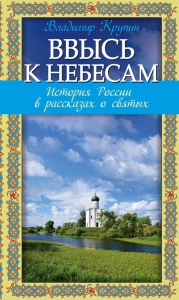
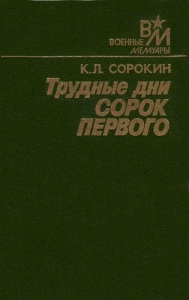

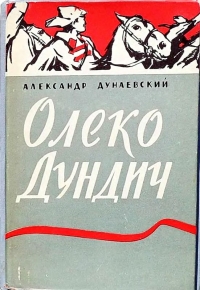

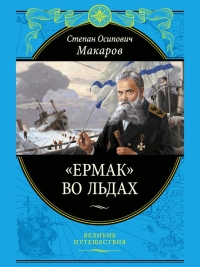
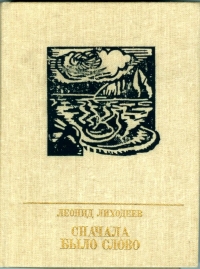
Комментарии к книге «При дворе последнего императора», Александр Александрович Мосолов
Всего 0 комментариев