Сукнев Михаил Иванович Записки командира штрафбата. Воспоминания комбата 1941–1945
Тимофеев Алексей «Ты сердце не прятал за спины ребят…»
Одним из таких командиров, о которых сложена популярная песня «Комбат», и был автор этой книги Михаил Иванович Сукнев. С ним меня познакомил в августе 2000 года сотрудник мэрии Новосибирска Олег Владимирович Левченко, ценитель военной истории. «Сукнев — легендарный человек, исключительная, яркая личность, — рассказал мне Олег. — Больше трех лет был на передовой, несколько раз ранен. А в каких невероятных переделках участвовал! Чего стоят только схватка с баварцами, бои на Заволховском плацдарме, штурм Новгорода, четыре месяца командования штрафбатом…»
О штрафбате и общении с бандитами из «Чёрной кошки» Михаил Иванович потом скажет: «Надо бы пропустить это в печать. Интересно и поучительно для других командиров батальонов, как надо вести себя с таким контингентом в боях. Стыдно было смотреть телефильм «ГУ-ГА» Одесской киностудии о штрафниках. Ничего подобного у нас и близко не бывало!»
М. И. Сукнев был награжден двумя орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени, двумя орденами Красной Звезды, многими медалями, среди которых медаль «За отвагу» и две медали «За боевые заслуги». Но из своих наград больше всего ценил два ордена Александра Невского, которым награждались офицеры от командира взвода до командира дивизии «за проявление, в соответствии с боевым заданием, инициативы по выбору удачного момента для внезапного, смелого и стремительного нападения на врага и нанесения ему крупного поражения с малыми потерями для своих войск…». То есть сходное с тем, что совершил в 1240 и 1242 годах в битвах со шведами и немецкими рыцарями князь Александр Невский, ободрявший свою дружину словами: «Не в силе Бог, но в правде».
Образ святого благоверного князя пришлось вспомнить советским партийцам-атеистам летом 1942-го, когда армия Паулюса уже выходила к Волге… Орден Александра Невского был учрежден 29 июля 1942 года. В Великую Отечественную войну этим орденом было награждено более 42 тысяч офицеров Красной армии, но награжденных им дважды — всего несколько десятков человек.
Довольно странно, но изображение ордена Александра Невского всегда тиражировалось в печати гораздо реже рисунков и фотографий других орденов. А ведь многие специалисты считают этот орден самым красивым из всех орденов СССР. Его знак изготовлялся из серебра, пятиконечная звезда с золотыми ободками покрывалась рубиново-красной эмалью. На круглом окованном щите — рельефное изображение Александра Невского. Щит окаймлен лавровым позолоченным венком. Позади щита скрещены позолоченные бердыши. Внизу — меч, копьё, лук, колчан со стрелами.
Первый из врученных М.И. Сукневу орденов Александра Невского имеет номер 12009.
Весь день в том далеком уже 2000 году я записывал на диктофон воспоминания 80-летнего ветерана. Вскоре в журнале «Слово» был опубликован очерк о комбате. Этот материал, видимо, разбередил память Михаила Ивановича, и он прислал из Новосибирска большой конверт, где было письмо с хорошим отзывом и замечаниями, а также рукопись с более подробным изложением своей фронтовой биографии. До этого М.И. Сукнев много лет работал над книгой о событиях Гражданской войны в Сибири, участником которой был его отец. Но о боях Великой Отечественной Михаил Иванович не писал. Как видно из рукописи, слишком тяжел был груз пережитого… «Оборона — малая земля. Страшней черта и всех нечистых. И даже смерти, которая минует тебя ежедневно, отчего ты стынешь душой — леденеет сердце. И ты уже не ты, а кто-то иной, инопланетянин…»
Лучшие силы, молодость и здоровье комбата Сукнева были отданы тем страшным боям с жестоким и сильным противником. Михаил Иванович писал: «На свою самореабилитацию мне понадобилось двадцать с лишним лет… Я дожил до сих годов, и то достаточно…» Военная карьера, стремительная поначалу, от выпускника военного училища до командира стрелкового батальона, не состоялась. «В 1953 году, — сообщал Михаил Иванович, — меня вновь призвали в армию на двухгодичные курсы командиров полков, планировали на учебу в академию, но обе медкомиссии я не прошел…» Лишь в 2000 году, ко Дню Победы, майор в отставке М.И. Сукнев вместе с другими ветеранами получил очередное воинское звание, стал подполковником.
Михаилу Ивановичу выпало воевать на Волховском фронте. В своих мемуарах командовавший этим фронтом маршал К.А. Мерецков писал: «Я редко встречал местность, менее удобную для наступления. У меня навсегда остались в памяти бескрайние лесные дали, болотистые топи, залитые водой торфяные поля и разбитые дороги…» Воевавший здесь немецкий полковник X. Польман вспоминал: «Тяжелые и чреватые большими потерями оборонительные сражения продолжались три суровых зимы и два лета… 900 дней солдаты из всех немецких земель, а с ними испанцы, фламандцы, голландцы, датчане, норвежцы, латыши и эстонцы боролись здесь против жестокого врага, преодолевая тяжелые климатические и природные условия. Пережитые испытания оставили неизгладимый след в памяти каждого из них. Однако… послевоенная литература по истории войны отводит ему (Волховскому фронту. — А. Т.) очень мало места…»
Бывшему комбату М.И. Сукневу также больше памятно не победоносное наступление в Прибалтике в 1944-м, а изнурительное до сверхпредела окопное противостояние нашествию оккупантов на суровой Новгородской земле.
Поколение М.И. Сукнева, поколение победителей, еще щедро зачерпнуло былинной силы старой Руси, перед которой в конечном итоге не устояла немецкая, по-европейски отлаженная машина. А причина слабости и неготовности советских командиров начала войны — не только в репрессиях 1937 года, но и в революционном терроре 1917-го, когда офицеров солдаты и матросы расстреливали и сбрасывали с борта кораблей… Традиции были порушены, в отличие от той же Германии, где офицерский корпус хранил вековые прусские устои.
Был взорван храм Христа Спасителя, воздвигнутый прежде всего как памятник победителям Отечественной войны 1812 года с именами героев на мемориальных плитах. В церкви Рождества Богородицы над могилами Пересвета и Осляби, героев Куликова поля, до конца 1980-х годов грохотал компрессор завода «Динамо». Были вскрыты и осквернены мощи святого князя Александра Невского…
Вот что пишет в статье «О готовности Красной армии к войне в июне 1941 г.» историк А. Филиппов:
«Не исследован вопрос — какой опыт современной войны (кроме Гражданской) мог получить наш высший комсостав 30-х годов (в том числе и репрессированный), служа с окончания Гражданской войны до 1937 г. в нашей малочисленной, отсталой тогда, территориально-кадровой армии, в которой кадровых дивизий было два десятка (26 %) на двадцать военных округов (во внутренних округах их не было вообще), армейских управлений не существовало с 1920 по 1938 г., крупные маневры начали проводиться только в 1935–1937 гг. и т. п.
Беда в том, что Красная армия так и не успела стать кадровой ни в 1936, ни к 1938, ни к июню 1941 г. С 1935 г. она развивалась экстенсивно, увеличивалась в пять раз — но все в ущерб качеству, прежде всего офицерского и сержантского состава…
Войска были плохо обучены методам современной войны, слабо сколочены, недостаточно организованы. На низком уровне находились радиосвязь, управление, взаимодействие, разведка, тактика…» (Военный вестник (АПН). 1992. № 9.)
О предвоенных репрессиях в армии хорошо известно, а многие ли знают вышеуказанные факты?
…Михаил Иванович Сукнев — из тех сибиряков, чье участие на фронтах Великой Отечественной имело решающее значение. Сибиряки — это отмеченные и немцами, и нашими полководцами самые стойкие полки и дивизии в 1941-м под Москвой и в 1942-м под Сталинградом. Это А. И. Покрышкин, первый и единственный в годы войны трижды Герой Советского Союза.
Сам Сукнев, с его глазомером, реакцией и бесстрашием, несомненно, мог стать одним из выдающихся асов-истребителей. Даже пехотным оружием он исхитрился сбить два самолета точно теми приемами, о которых писал Покрышкин.
М. И. Сукнев — из тех комбатов, о которых сказано немного. В фотоальбомах советских лет, выпущенных к юбилеям Победы, много фотографий полководцев, юных героев, безымянных рядовых… Честь им и слава. А комбатов нет, кроме одного известного снимка. Тому, видимо, есть причины. Те, кто в боях выдвигался на батальон или батарею, — это, в большинстве своем, была подлинная организующая народная сила. Карьеристы искали другие пути.
За полтора десятка лет работы над темой Великой Отечественной войны мне доводилось беседовать с несколькими бывшими командирами батальонов, батарей, авиаэскадрилий, напоминавших такого комбата, как М. И. Сукнев. Они сходны набором фронтовых ран и наград, физической и духовно-нравственной мощью, происхождением из заповедных глубин России, разносторонней одарённостью.
С Михаилом Ивановичем во время долгой, хотя и единственной встречи мы спорили о вере и религии, о революции и сегодняшних событиях. Ветеран умел выслушать другое, нежели собственное, мнение. Главным для него всегда оставалась судьба своей страны, своего народа.
Михаил Иванович был художником, получившим профессиональное образование. На стенах его скромной квартиры я увидел написанные маслом пейзажи — горы Алтая, Обь… Одна из работ М.И. Сукнева — в Горно-Алтайском музее. Да и словом ветеран владел… Лишь иногда его бодрый или язвительный рассказ прерывался глухим кашлем, который, кажется, сдерживал слёзы…
За прошедшие годы нескольким издательствам предлагалось издать рукопись комбата. И вот час ее настал. К сожалению, автор не увидит свою книгу изданной. 25 января 2004 года Михаил Иванович ушёл из жизни.
Большую помощь при подготовке книги к печати оказал О. В. Левченко.
В последнем из отправленных мне писем Михаил Иванович просил поддержки: «На войне человек день прожил и может писать очерк, рассказ. Все характеры увидишь и поймёшь. А у меня три года прошли в окопах… Если можно, попробуйте опубликовать эту повесть, ибо в ней есть то, чего нет в печати и уже не будет…»
Алексей Тимофеев,
член Союза писателей России
Глава 1 Волховский фронт
В ноябре 1941 года мы, выпускники военно-пехотного училища, лейтенанты, прибыли в 3-ю Краснознаменную танковую дивизию. Меня определили в разведбатальон. И вот мы под Новгородом. Город красивый, стоит на высоте, километров двадцать до него, видны белокаменные соборы и стены торговой части. Было обидно — сдали город, а теперь ищи убежища в снегах…
17 декабря 1941 года был создан Волховский фронт, в состав которого вошла и наша дивизия.
3-я танковая дивизия, отмеченная после финской войны, потеряла всю боевую технику и 80 процентов личного состава. Отступали они от Прибалтики. Командиры встретили нас, смотрят на красные петлицы, ждали-то они танкистов. Но Ставка поставила на танковой дивизии крест, решили сделать из неё 225-ю пехотную. Дивизия с этим номером, Кемеровская, вся погибла под Киевом. Нам дали её знамя. Мой полк № 1349.
В дивизию было призвано много местных жителей прифронтовых районов Новгородчины. Сразу после окончания формирования дивизия была направлена на фронт под Новгород, а затем в район деревень Лелявино, Петровское, Заполье, Теремец, Дымно, где происходили жесточайшие бои по созданию, а потом и по удержанию «коридора» для окруженной 2-й Ударной армии генерала Власова. Ширина того «коридора» составляла всего 3–6 километров. Большинство этих деревень сейчас исчезло с карты России…
Полк формируется. Нас, разведчиков, послали на Ильмень-озеро. Пурга, зима началась как следует. До немцев три километра. Посмотрели в бинокль, решили идти за «языком». Дня через три пошли, пятнадцать человек с винтовками. Я — командир взвода. Обходим полыньи, от воды — пар, мгла. И вдруг из мглы перед нами возникают немцы, тоже разведка, столько же человек. Вокруг гладь, ни бугорочка, на три километра чистенький снежок… Мы посередине озера, между нами несколько метров. Постояли. Что делать? Винтовка есть винтовка, автомат есть автомат. Ближний бой. Мы их ополовиним, они нас всех срежут. А те тоже думают. Они ведь не знают, что у нас винтовки, оружие закручено белым. Идти на самоуничтожение никому не хочется… Мы пятимся назад, и они тоже. Пятились, пятились и скрылись. Вернулись мы, особому отделу об этом, конечно, ни звука, всех могли пересажать.
О командире нашей дивизии П. И. Ольховском и комполка И. Ф. Лапшине я скажу ниже…
Уже шёл декабрь. Под Москвой немцев разбили, была разбита и Тихвинская группа. Наша дивизия прошла по берегу Волхова, дошла до поселения аракчеевских времен Муравьи с большим кавалерийским манежем, в котором кирпичные стены были толщиной в полтора-два метра. Здесь дивизия остановилась. Меня в это время послали в тыл за пополнением. Приехали обратно к Новгороду. Начались сильнейшие снегопады, никакие машины не пройдут. Мы пошли к Муравьям. Мороз за сорок градусов. Подошли на рассвете. А тут стрельба. Смотрим с опушки, внизу около Волхова, дым стоит, артиллерия немецкая бьет, сверху — летает немецкий самолет-разведчик. Залегли. Потом пошли вниз, к окопам. В это время на санках привезли наших разведчиков, человек пять. Яркий снег режет глаза. Маскировочные белые халаты все в крови. Невозможно представить. Никогда этого не забуду. Вот тут мне стало страшно… А то — пойдем! Вперед! А оружия, боеприпасов мало. Немцы бьют, а наши молчат. Артиллерию только подтягивать начали, в середине января пришли восемь орудий.
7 января 1942 года началась наступательная Любанская операция войск Волховского и части сил Ленинградского фронтов с целью деблокирования Ленинграда. Войскам Волховского фронта (4-я, 52-я, 59-я и 2-я Ударная армии) противостояли в полосе между озерами Ладожским и Ильмень 16–17 дивизий группы армий «Север». Планировалось окружить и уничтожить любанскую группировку войск противника и в дальнейшем выйти в тыл с юга к немцам, блокировавшим Ленинград.
После прорыва в глубину обороны противника в районе Мясного Бора 2-я Ударная армия завязла в глубочайших снегах и не достигла Любани, чтобы нанести удар с тыла группе армий «Север». Справа от 2-й Ударной в районе станции Спасская Полисть завязли части наших двух армий — 305-я и часть 225-й стрелковых дивизий, достигнув железной дороги, под давлением противника отступали на село Заполье к Лелявину. К концу января стал очевиден провал Любанской операции. Причины провала указаны командующим Волховским фронтом К.А. Мерецковым в мемуарах «На службе народу». Он пишет: «Общее соотношение сил и средств к середине января складывалось, если не учитывать танковых сил, в пользу наших войск: в людях — в 1,5 раза, в орудиях и минометах — в 1,6 и в самолетах — в 1,3 раза. На первый взгляд это соотношение являлось для нас вполне благоприятным. Но если учесть слабую обеспеченность средствами вооружения, боеприпасами, всеми видами снабжения, наконец, подготовку самих войск и их техническую оснащенность, то наше «превосходство» выглядело в ином свете. Формальный перевес над противником в артиллерии сводился на нет недостатком снарядов. Какой толк от молчащих орудий? Количество танков далеко не обеспечивало сопровождение и поддержку даже первых эшелонов пехоты. 2-я Ударная и 52-я армии вообще к началу наступления не имели танков. Мы уступали противнику и в качестве самолетов, имея в основном истребители устаревших конструкций и ночные легкие бомбардировщики У-2.
Наши войска уступали врагу в техническом отношении вообще. Немецкие соединения и части по сравнению с нашими имели больше автоматического оружия, автомобилей, средств механизации строительства оборонительных сооружений и дорог, лучше были обеспечены средствами связи и сигнализации. Все армии фронта являлись у нас чисто пехотными. Войска передвигались исключительно в пешем строю. Артиллерия была на конной тяге. В обозе преимущественно использовались лошади. В силу этого подвижность войск была крайне медленной.
Наша пехота из-за отсутствия танковой и авиационной поддержки вынуждена была ломать оборону противника штыком и гранатой, неся при этом большие потери. Там же, где удавалось организовать поддержку пехоты танками и авиацией, потерь было меньше, а успехи значительнее. Конечно, лесисто-болотистая местность и глубокий снежный покров создавали существенные трудности в использовании боевой техники, но они были преодолимы и с лихвой окупались.
Я не раз возвращался к изучению операции по форсированию Волхова, перечитывал старые сводки, донесения и распоряжения, вспоминал и размышлял. С позиций сегодняшнего дня отчетливее видны наши промахи и недоработки военных лет. Следует отметить, например, что вновь прибывшие части 59-й и 2-й Ударной армий, сформированные в короткие сроки, не прошли полного курса обучения. Они были отправлены на фронт, не имея твердых навыков в тактических приемах и в обращении с оружием».
* * *
В момент отхода 305-й дивизии к Заполью мы, заместитель командира 1-го батальона 1349-го полка старший лейтенант-танкист Слесарев и я, с двумястами красноармейцев и командиров рот, взводов через Муравьи в обход простреливаемого села Дубровино, пройдя по льду Волхова, вбежали броском в пылающее пожарами Лелявино. Пробираясь с трудом между застывшими телами убитых — наших и противника, мы ворвались (через 300 метров) в село Заполье, где и встретились с отступающими бойцами 305-й сибирской дивизии.
Гитлеровцы и франкисты из «Голубой дивизии» начали сильную контратаку на Заполье, обстреливая нас из минометов. Не выдержав, наши начали с боем отступать в Лелявино. Я прикрывал из ручного пулемёта (станковых у нас ещё не было) всю группу до первых окопов в Лелявине, выкопанных еще нашими же войсками, отступавшими от Новгорода на Ленинград в августе 1941-го. Здесь образовалась нейтральная полоса левобережного плацдарма. Противник выдохся и остановился в Заполье. Сколько я уложил атакующих гитлеровцев из РПД — никто не считал. Но бил я без промаха, даже по силуэтам в ночи.
Недаром, обучаясь в Сретенской Полковой школе, я брал призовое место по Забайкальскому военному округу в стрельбе из ручного пулемета Дегтярева, за что мне был вручен знак «Отличник РККА». Здесь-то и пригодилась моя снайперская стрельба. Фрицев мы не пропустили в Лелявино, уложив за время боев их, включая нейтральную полосу, до пяти тысяч солдат и офицеров. Но и своих потеряли убитыми при отступлении от железной дороги Новгород—Чудово и здесь перед Лелявино, которое прозвали по фронту «проклятой Лялей», не меньше, чем противник. Кровавая дорога от Волхова и «Ляли» тянулась до Больших и Малых Вишер в госпитали 52-й армии и фронта. Везли раненых навалом на крытых брезентом грузовиках. Сквозь щели днищ кузовов струилась кровь, застывая в воздухе. Мороз доходил ночами за минус сорок.
В Лелявино подходили подкрепления, в большинстве это были сибиряки. Оружие: винтовки современные и выпуска 1918 года. Попадались и учебные с зашлифованными отверстиями на патроннике ствола. Шли в дело гранаты Ф-1, бутылки-самопалы с горючей смесью против танков…
Фрицы остановились, захлебнулись в собственной крови перед нашим Лелявинским плацдармом, точнее, «пятаком», одним из тех, которые позднее будут называться «малыми землями» в угоду генсеку Брежневу.
Из разведвзвода я был направлен в 1-й стрелковый батальон 1349-го полка в Муравьи. Здесь располагались штабы нашего полка и дивизии — по центральной дороге, в подвалах трехэтажных кирпичных домов, наполовину разрушенных снарядами (как и манеж, о котором я уже упомянул), поначалу во время ноябрьских боев нашей артиллерией, выбивавшей отсюда немцев, а сейчас — немцами, громившими поселение всеми видами оружия, вплоть до мортир крупного калибра, которые превращали местечко в груды кирпича и крошева.
Приказ: мне сформировать 1-ю пулеметную роту батальона, выбрав по ротам лучших бойцов и командиров взводов. Основой роты стал первый полученный пулемет «Максим» — копия образцов времен Первой мировой войны, только с гофрированным кожухом. «Что ж, буду и я Чапаевым!» — подумалось. Только тачанку нельзя пускать, а жаль!
С приказом в кармане, точнее, в планшете, где ползком, где перебежками, по окопам, ходам сообщений или по открытым местам бегом во всю прыть, с комиссаром — младшим политруком Яшей Старосельским, мы шастали от одного снесенного артогнем села к другому, от Муравьев в Кирилловку, Пахотную Горку, Слутку. Пять километров по фронту было дано одному неполному 1-му батальону полка! Правда, усиленному артиллерией, от которой сидели с пехотой на НП наблюдатели — корректировщики огня на «пожарный случай», поскольку снарядов было в обрез!
Обратно в манеж мы со Старосельским вернулись с тридцатью бойцами и несколькими сержантами, знакомыми по службе в армии с этим пулемётом. Тут мы узнали об ужасной смерти нашего комбата — краснознаменца с Финской кампании, танкиста капитана Гаврилова. В помещении, где он находился, было нижнее окно полукругом, от земли снаружи сантиметров на двадцать, сделанное, видимо, для вентиляции этого глухого крепостного каземата. Я сразу заметил, что два таких окна-бойницы были загорожены лишь дощечками и каким-то хламом — «от мороза». Подумал: врежет снаряд у такого «вентилятора», и тогда!.. Так оно и произошло.
Той ночью Гаврилов при свете коптилки за столом писал домой письмо. Его первый заместитель Слесарев, уставший после боевых дней за Волховом, спал на топчане у передней стены.
Снаряд с тяжелым гулом взорвался у окна. Один из осколков, отрикошетив дважды от железобетонного потолка, попал в голову комбата. Половина головы со лбом отвалились, кровь хлестанула по всему этому бункеру, обрызгав стены, потолок… и Слесарева, который вскочил, с ужасом глядя на лежащего грудью на столе Гаврилова…
Надо было мне, когда я побывал здесь, получая приказ о пулеметной роте, сказать, чтобы заложили мешками с песком эти амбразуры, ибо снаряды то и дело рвались за стенами манежа.
Фрицы старались вовсю, чтобы развалить и манеж, и городок Муравьи, но из десятка снарядов разрывались только один-два, остальные раскалывались, и мы обнаруживали в них жженую глину. Видно, рабочий класс Европы воевал с фашизмом в этой отрасли…
У нас в роте уже четыре пулемёта, и на каждый по семь пулемётчиков, которых надо было учить на ходу. Двое командиров взводов: доброволец из учителей, лейтенант Сергей Исаев и лейтенант Егор Градобоев, только что из военно-пехотного училища.
Манеж выходил фасадом-громадой на берег Волхова. Там же высилась водонасосная башня — кирпичная, одетая в толстый бетон. Эта башня стала нашим дотом, куда я поставил один пулемет. Туда можно было добираться только подземным бетонным водоводом — на животе по льду. Поверху днем били снайперы, ночью — сплошной пулеметный огонь вперемежку со взрывами мин. Снег здесь сметало ветрами будто в трубе, вырыть ход сообщения в ледяной тверди было невозможно. Установили пулеметы в Пахотной Горке, в Кирилловке, что рядом с Муравьями, и два на втором этаже манежа.
Двести пятьдесят метров фасада, полуразрушенного снарядами, противник обстреливал ожесточенно всеми видами оружия, стараясь все испепелить, и особенно водонапорную башню, где находился НП батальона и полка. Установив пулеметы в окнах второго этажа, обложенных мешками с песком, в бинокль я днями наблюдал за той стороной Волхова, смотрел на местечко Уголки, где было домов двадцать, расположенных огородами вдоль низкого берега. Мне были видны амбразуры дзотов, огневых точек. Как-то вижу: два фрица у крайнего справа дома в сенях без передней стены пилят дрова. Силуэты немцев — будто игрушечные «два кузнеца», что напомнило детство. И напомнило девушку, которую в Лелявине фрицы выбросили из окна ее дома и сожгли живьем. Она лежала на снегу обгоревшая, что врезалось в мою память на всю жизнь.
— Ну, максимка, не подведи! — сказал я и дал контрольный выстрел чуть левее сеней и цели. По горизонту — точно. Расстояние — под шестьсот метров, но вижу цель отлично. Даю очередь. Оба фрица замертво рухнули. По селу, по улице, по ходам сообщений забегали фрицы, будто тараканы, ошпаренные кипятком. Побежали и к этому дому на окраине. Пришлось еще уложить несколько фрицев. С верхнего, третьего этажа, еще уцелевшего, это засекли артиллеристы нашего полка. Дня через три в дивизионной газете появилась заметка, что такого-то числа «лейтенант Сукнев М. из пулемёта уничтожил двух фашистов, ранил несколько, чем открыл первым в дивизии СНАЙПЕРСКИЙ СЧЕТ».
Тогда же я придумал еще один «творческий трюк». Пока фрицы бегали по селу, я пристрелял несколько амбразур трассами так, что позади такой точки по траншеям разлетались пули. На самой левой и «вредной» точке, обстреливающей пространство между манежем и водонасосной башней, я, пристреляв (прострелив) ее, зафиксировал свой пулемет.
Ночью, когда заработал пулемет фрица с той амбразуры, я тотчас погасил эту смертную трассу. До утра и на другую ночь амбразура врага молчала. На другую ночь я погасил следующую. Потом еще несколько ночей я подавлял очередями эти огневые точки.
Потом мы обнаружили такую немецкую хитрость: будучи в разведке за «языком» в Заполье, увидели в траншее противника, что пулеметчика в дзоте нет, но пулемет стреляет. Оказалось — спасаясь от стужи, от страха фрицы, привязав за спусковой рычаг пулемета веревку или провод, укрываясь в глубине землянок или блиндажей, дёргали за рычаг, ведя таким образом стрельбу «по воробьям». Но пулемет у них особенный. Дойдет сектор обстрела до крайней точки справа или слева и снова двигается автоматически по горизонту…
Своему методу засечек амбразур я научил пулеметчиков роты. Будучи впоследствии в других полках, командуя батальонами, я такого метода нигде не встречал и тоже учил ему пулемётчиков.
Глава 2 Дуэль с баварцами
Образовалась линия обороны Заволховского плацдарма стратегического значения. От села Лелявино до Дымно — 25 километров по реке Волхов, а в глубину, по центру на Мясной Бор, — 6 километров. Линия обороны была очерчена как бы боевым выгнутым луком, концы которого противник пытался смести огнем с лица земли, не решаясь идти в контратаки из-за страшных зимних потерь. К тому же у него в тылу в окружении оставалась 2-я Ударная армия, которая вела бои до начала июня 1942-го! Там, в котлах, героически сражались наши, а кто-то сдавался в плен. Об этом мы тогда не знали, защищая фланги своего плацдарма ценой большой крови! Части нашей 52-й, 4-й и 59-й армий, оставив сильные заграждения на левобережье Волхова, отошли на новое формирование, обрекая на гибель 2-ю Ударную…
Шла жесточайшая оборона плацдарма. Наш 1-й стрелковый батальон 1349-го стрелкового полка залёг там в окопы 20 января 1942-го и вышел оттуда 10 февраля 1943-го, чтобы погибнуть уже в шестой или седьмой раз при штурме твердынь Новгорода…
Батальон каждые четыре месяца менялся почти полностью. Убитые, раненые, умершие от разрыва сердца, цинги и туберкулеза. Оставались единицы, в их числе я, старшина роты Николай Лобанов, командир взвода пулеметчиков Александр Жадан и по десятку человек по ротам. Раненые и больные исчезали и не возвращались более на этот вулкан!
Помню конец мая, где-то правее нас, за лесами немцы добивали 2-ю Ударную армию. Там гром артиллерии не затихал. Вели стрельбу то противник, то наши, и у нас — ежедневная «профилактика». Проходит пятнадцать, чуть более минут — и снова от снарядов земля дыбом!..
Оборона — малая земля. Страшней черта и всех нечистых. И даже смерти, которая тебя минует ежедневно, от чего ты стынешь душой — леденеет сердце. И ты уже не ты, а кто-то иной, инопланетянин.
Смотришь в кино «романтику» войны и диву даешься: где она была?..
Заволховский плацдарм буквально горел от взрывов артиллерийско-минометного огня, от бомбовых ударов с воздуха стервятников на «юнкерсах». Плацдарм был накрыт смертельной сетью пулеметных трасс. Но защитники этой дорогой Новгородской земли стояли насмерть, выдерживая шквал огня. Из-за неимения необходимого запаса снарядов наша артиллерия молчала, не подавляя фашистские батареи. Это злило и выливалось в ярость, понятно, не на фрицев, а на наших «высших» деятелей…
…Боями за Заволховский плацдарм наши части приковали к себе не менее шести-семи немецких и испанскую дивизию, тогда так необходимых гитлеровскому командованию для захвата блокадного Ленинграда. Мы, бойцы, командиры и комиссары, на Лелявинском «пятаке» в полтора квадратных километра своим далеко не полным слабовооруженным батальоном вели непрерывный бой.
Мы не успевали досчитываться товарищей, как их уносила эта свинцовая буря. Сегодня приняли с «большой земли» пополнение, а к утру многих уже нет в живых, а кто-то даже не дошел до той же 3-й стрелковой роты, выдвинувшейся углом вперед по центру обороны в сторону противника к самому Заполью, сожженному и разрушенному, кроме одного дома у могучих тополей, кои и по сей день стоят богатырями…
Середина нашей обороны, где не осталось ничего, кроме снежного поля, просматривалась противником слева, из-за ручья Бобров, от опушки лесного массива через широкий, с крутыми склонами лог, оканчивающийся устьем этой тихой, страшно топкой речушки, впадающей в Волхов. Здесь была оборона 1-й роты старшего лейтенанта Петрова, КП которого находился в блиндаже внутри уже полуразрушенной церкви, что высилась по-над Волховом, на высоком обрыве. Отсюда главная траншея тянулась вдоль лога, достигая обороны 3-й роты старшего лейтенанта Столярова, самой опасной для ее бойцов. Левый фланг роты простреливался от опушки леса, а по центру — с запада от Заполья по фронту. Правей (севернее), параллельно береговой линии, тянулась оборона 2-й роты, принимая на себя ружейно-пулемётный огонь от Заполья и севернее, на свой правый фланг. Здесь образовался разрыв в обороне батальона от соседа справа из нашего 299-го полка. Этот разрыв не особенно волновал невозмутимого комбата, который сменил погибшего Гаврилова, капитана Алешина. «Пусть Сукнев со своими пулемётчиками перекроет эти ворота фрицам», — резюмировал он. Алешин ни разу так и не побывал в ротах по всей обороне, давая через меня указания комротам и получая от меня «свои соображения» по улучшению фортификационных сооружений. Оно понятно — танкист до мозга костей, пройдя финскую войну, отмеченный высокими наградами, Алешин предпочитал рисковать своей жизнью только в качестве танкиста, а в пехоте — ни-ни!
Поневоле я стал занимать в батальоне положение первого заместителя командира, а настоящий зам, мой старший товарищ Слесарев, бывало, скроется где-то в ротных блиндажах и сутками не заметен. Он тоже ждал назначения в танковую часть… Оно, возможно, было и к лучшему. Плохо, когда, как говорится, пироги печет сапожник, сапоги тачает пирожник.
Так, находясь ночами все время в движении, я проходил слева направо по первым траншеям всю оборону батальона, бывая ОБЯЗАТЕЛЬНО у своих пулеметчиков. А потом докладывал Алешину — что и как. Мой друг Григорий Гайченя — адъютант старший батальона, старший лейтенант, прибывший в мае, больше находился в блиндаже комбата, по телефону составляя сводки о раненых, убитых, что-то ещё примечательное о противнике и т. д.
В каждой роте по норме должно было быть по четыре станковых пулемета. Всего на батальон — ДВЕНАДЦАТЬ! И плюс четыре — в пулеметной роте со своим участком обороны, в данном случае — на стыке с соседом, где оказался разрыв, пустое место. Жди разведку фрицев, потом они могли зайти со стороны реки и бить по нас из автоматов.
Но батальон имел только пять пулемётов с неполным комплектом патронов, поэтому мы открывали стрельбу «только в цель» и по команде сверху. Я оставил в ротах по одному «Максиму», себе поставил два на 300 метров обороны по фронту, чтобы «почувствовать правым локтем» соседа, моего однокашника по Сретенску и Свердловску Николая Филатова.
* * *
В этой войне те, кто ее прошел сквозь море огня в первых линиях боевых действий и чудом выжил, узнали сполна цену многих наших «отцов-командиров»! Грошовая!!! Цвет армии, лучших командиров и командармов, «вождь» с подручными НКВД «своевременно» отправил в иной мир, будто в угоду германскому командованию. Мало перед войной осталось в нашей армии толковых офицеров и генералов. Василевский, Рокоссовский, начальник Генштаба Шапошников… На своем уровне я немного встретил порядочных командиров. Остальных привозили откуда-то с тыла… Никакой инициативы. Пока приказа нет, никуда не пойдет. А поступит приказ, уже поздно… Я пишу только то, что мне пришлось самому видеть и пережить. Сколько понапрасну было пролито крови рекой под командованием генерала армии К. А. Мерецкова, командующего Волховским фронтом…
К. А. Мерецков в мемуарах «На службе народу» пишет о гибели 2-й Ударной, о дважды гибели нашей 225-й стрелковой дивизии, оправдывая эти жертвы спасением Ленинграда. Наш командующий писал: «В то тяжелое для нашей Родины время все мы стремились к тому, чтобы быстрее добиться перелома в борьбе с врагом, и, как ни тяжело признаваться в этом, допускали ошибки, некоторые же, в том числе и автор этих строк, в те дни иногда не проявляли достаточной настойчивости, чтобы убедить вышестоящее начальство в необходимости принятия тех или иных мер». Признает также Мерецков, что «неудачно были подобраны отдельные военачальники. Позволю себе остановиться на характеристике командующего 2-й Ударной армией генерал-лейтенанта Г. Г. Соколова. Он пришёл в армию с должности заместителя наркома внутренних дел. Брался за дело горячо, давал любые обещания. На практике же у него ничего не получалось. Видно было, что его подход к решению задач в боевой обстановке основывался на давно отживших понятиях и догмах. Вот выдержка из его приказа № 14 от 19 ноября 1941 года:
«1. Хождение, как ползанье мух осенью, отменяю и приказываю впредь в армии ходить так: военный шаг — аршин, ими ходить. Ускоренный — полтора, так и нажимать.
2. С едой не ладен порядок. Среди боя обедают и марш прерывают на завтрак. На войне порядок такой: завтрак — затемно, перед рассветом, а обед — затемно, вечером. Днём удастся хлеба или сухарь с чаем пожевать — хорошо, а нет — и на этом спасибо, благо день не особенно длинен.
3. Запомнить всем — и начальникам, и рядовым, и старым, и молодым, что днем колоннами больше роты ходить нельзя, а вообще на войне для похода — ночь, вот тогда и маршируй.
4. Холода не бояться, бабами рязанскими не обряжаться, быть молодцами и морозу не поддаваться. Уши и руки растирай снегом!»
Ну чем не Суворов? Но ведь известно, что Суворов, помимо отдачи броских, проникающих в солдатскую душу приказов, заботился о войсках. Он требовал, чтобы все хорошо были одеты, вооружены и накормлены. Готовясь к бою, он учитывал все до мелочей, лично занимался рекогносцировкой местности и подступов к укреплениям, противника. Соколов же думал, что все дело в лихой бумажке, и ограничивался в основном только приказами».
От себя к этим словам добавлю, что особенно жестоким и бездарным был командующий нашей 52-й армией генерал-лейтенант Яковлев.[1] Вместо того чтобы снабжать армию, довольно немногочисленную, необходимым боезапасом, он гнал батальоны и полки в заранее провальные операции с большими потерями, что я видел и пережил.
Как-то меня вызвали в полк, в Муравьи. Я встретил здесь своего друга по Свердловскому училищу Николая Ананьева, добровольца из какого-то института. Он стал, как и я, капитаном и прикрепил к отложному воротнику на телогрейке петлицы со «шпалами». Находясь на НП полка на верхотуре водонапорной башни в центре городка, я увидел внизу генерала Яковлева со свитой, спустился вниз и доложился, показав журнал наблюдений за огневой системой противника. Заметив, что Ананьев прикрепил «шпалы» к телогрейке, генерал, ни слова не говоря, при мне трахнул Николая по голове этими журналами, аж страницы вылетели! «Почему знаки различия на телогрейке?! Спороть петлицы!» — приказал генерал своему адъютанту Бороде (кстати, впоследствии моему хорошему приятелю). Тот ножницами срезал петлицы со «шпалами». Ну, думаю, сейчас Николая разжалуют, но обошлось. Еще что-то крякнул генерал и скрылся на КП дивизии… О Яковлеве говорили в штабах армии: «Бездарь и солдафон!»
Не лучше был и командир нашего 1349-го полка, из капитанов ставший майором, Иван Филиппович Лапшин. Это был эталон бездарности и упрямства, равнодушия к подчиненным и беспощадности к ним же. Страшный человек — такой командир в боевой обстановке. Он говорил сквозь зубы и редко, в основном междометиями. Ни одной книжки он, видно, за всю жизнь не прочитал, но перед начальством был угодник и выглядел представительно… Командовал он разведбатом в 3-й танковой дивизии, но образование военное имел — примерно за трехмесячные курсы. Немного участвовал в Гражданской войне. Таких я и встречал в дальнейшем, как по заказу.
«Сукнев — будущее нашей армии, если выживет» — так характеризовал меня заместитель Лапшина по строевой части, тогда тоже капитан, Токарев Николай Федорович. Живой человек, прекрасный товарищ. Грамотный и решительный. Ума палата. Мой незабываемый старший друг. Особенно мы сдружились после того, как в одну зимнюю ночь я ему дважды спас жизнь. Об этом еще расскажу. Токарев вскоре примет 299-й стрелковый полк и будет звать меня к себе заместителем первым по боевой части, но я вежливо отказался, жалея «свой» 1-й батальон, который ещё был жив в канун марта 1943 года. И в этом случае я страшно ошибся!..
Запомнились два характерных случая с участием Лапшина.
Перед уходом батальона в Лелявино Лапшин решил пустить разведку в поиск за «языком» через лед Волхова. Оказался тут и я, выставив на поддержку разведке свой пулемет «Максим». Шестеро русских богатырей от двадцати до двадцати пяти лет в маскхалатах, с винтовками (автоматов не было тогда даже в дивизии) двинулись наискосок к немецкой обороне, то и дело светящейся ракетами. Перед их уходом я одному успел шепнуть: «Не приближайтесь к проволочному заграждению! Отлежитесь — и назад!»
Было совершенно ясно: люди, при лунном свете сквозь облака, будут расстреляны наверняка! Так оно и произошло: даже не допустив до проволоки, фрицы из пулеметов расстреляли нашу разведку!
Попыхивая трубкой, наш полковой командир молча повернулся и зашагал в манеж в свой штаб. Ни оха, ни вздоха. Разведчики пролежали там в снегу до буранов, когда их вынесли и похоронили.
Тогда я понял, что это страшный человек. И старался по возможности не встречаться с ним.
Если забежим вперед, в зиму 1942/43 года на Лелявинском «пятаке» произошел еще один сходный случай. Однажды в декабре, когда я уже стал командиром 1-го стрелкового батальона, появились от «самого» Лапшина восемь полковых разведчиков. Позарез нужен «язык».
Ночь была опять светлая, лунная. Нейтралка на Заполье — будто на ладони. Людей в маскхалатах трудно заметить, но тени выдают — все они будто на картинке. Старший, молоденький лейтенант, стоял у нас на КП в растерянности — обстановка не та! Посылать разведчиков, которые не изучили систему огня и расположения противника, смерти подобно! Но это, как всегда, до комполка Лапшина не доходило: взять и все!
Что делать? Мне жаль и этих людей: не зная броду, не суйся… Почти за год я изучил здесь каждый метр своей и чужой обороны. И твердо был уверен — разведка будет уничтожена! Снова мне стало очень жаль этих парней, будто на подбор рослых и сильных. Задаю вопрос им всем: «Вы бывали здесь, если решились брать «языка»?» Молчание. И потом: «Нет». Уверенности в успехе операции я у них на лицах не заметил. И пожалел их во имя добра… Говорю им — от 3-й роты, что углом выдвинулась вперед, от дальнего дзота, бросьте десятка два гранат и объявите: «Обнаружены, обстреляны!..» Так они и сделали. А спустя десяток дней, в пургу, взяли «языка» соседи.
Комиссар Мясоедов и наш оперуполномоченный особого отдела Дмитрий Антонович Проскурин донесли Лапшину об этом «фортеле». Но тот до времени затаился, поняв, что я его «сильно поправил» в проведении разведки.
…Одно меня устраивало — лучше быть в Лелявине под огнём врага, чем встречаться с Лапшиным. Тут мы были хоть в огне ада, но вдали от бездарного начальства. К нам можно было попасть только песчаным берегом Волхова, ночью. Днем берег простреливался противником с берегового выступа на километр.
Чтобы не допустить какую-либо «комиссию» или проверяющих от полка и дивизии, нечего делать, по совету комбата Алешина я открывал стрельбу из ручного пулемета по огневой точке противника на береговом выступе, который был выше нашего всего на какой-то метр. Фриц отвечал, и пули сыпали «вдоль по Питерской» — по берегу. Незваные гости «сматывали удочки», так и не побывав у нас. Но были и желанные гости, таких я сам сопровождал от лога. В логе у нас располагались медсанвзвод во главе с Николаем Герасимовым и хозяйственный взвод Федорова, энергичного незаменимого техника-интенданта (звание, приравненное к старшему лейтенанту).
Командиром же нашей 225-й стрелковой дивизии был полковник Петр Иванович Ольховский — доброй души человек, но полководец липовый. В 3-й танковой дивизии он был начальником артиллерии, а приняв командование стрелковой дивизией, занялся не своим делом, стал именно «сапожником, который начал печь пироги»…
* * *
…В начале марта 1942-го мы буквально «поплыли» — траншеи заполнила снеговая вода после сильных оттепелей. По всей обороне, особенно к берегу Волхова, вытаивали сотни и сотни убитых немцев, испанцев из «Голубой дивизии», наших бойцов и командиров…
Мы очутились посередине необъятного кладбища. Ночами похоронные команды из дивизии или армии собирали наших, складывали их «копнами» по берегу, чтобы позднее относить берегом, отвозить в тыл. Там ныне стоит высокий бетонный памятник над тысячами наших погибших в боях героев.
Прихожу на свой КП роты в центре обороны, от моего блиндажика — спуск в лог, а за ним вид вдаль по берегу. И лежат «копнами» наши бойцы, многие разуты… Жуткое зрелище — десятки этих «курганов» из мёртвых тел, где каждую минуту может оказаться кто-то из нас! Немцы и испанцы лежали по одному и кое-где кучками, как их убили зимой наши бойцы. Ночами я обычно передвигался перебежками, поверху, рядом с траншеями и ходами сообщений, где сразу начерпаешь воды и грязи полные сапоги. Но свернуть в сторону нельзя: в темноте наткнешься на будто металлические руку или ногу не оттаявшего ещё трупа… Позднее мы будем зарывать трупы наших врагов там, где они лежали, в ямки метр глубиной. Они потом по ночам светились каким-то мерцающим огнем…
Здесь после боёв останется поле, избитое воронками глубиной до пяти-шести метров от тяжелых снарядов. Поле казалось будто лунным. Ни кустика, ни травинки — голая, изрытая глина, напичканная осколками, костями и отравленная толом.
Кого больше здесь погибло? Пожалуй, одинаково. На нейтралке я насчитал немецких трупов тысячи четыре-пять. Испанцев же половину мы переколотили, половина замерзла. Как-то зашли мы в их блиндаж, человек 10–12 лежат, все застыли. Документы собрали, вернулись. Наград не получили, «язык»-то живой нужен. Смотришь, бывало, в стереотрубу или бинокль, стоит противник, обмотался одеялами, которые набрал в соседнем селе, и прыгает. Мы смеёмся, мы-то были одеты тепло.
Противник интенсивно обстреливал церковь на юру перед устьем ручья Бобров. Всю снесли снарядами. «Верующие» католики расправлялись с православной церковкой, внутри которой вырыл себе блиндаж комроты 1-й. Я ему посоветовал сменить место КП: «Врежет «тяжёлый» — могила готовая!» Он не послушал и где-то спустя трое суток, в начале апреля, во время очередного обстрела нашей обороны тяжёлым снарядом обрушило накат блиндажа и похоронило командира роты, двоих связистов и девушку-санинструктора! Разрывать не стали. Так они и по сей день покоятся в этой безвестной могиле…
Однажды ночью я пробирался напрямую оттуда к себе на КП, и срикошетившей пулей мне сбило с головы каску, прогнув ее на затылке. Это была моя смерть, но она прошла вскользь, а сколько еще будет всего впереди… Я был уверен, что ни я, ни те, кто со мной, на нашем «пятаке» не выживут, ибо этот конвейер смерти проворачивался каждую ночь: к нам поступало пополнение, привозили боеприпасы и термосы с питанием, назад в тыл — убитых, раненых и больных, иногда «пачками»!..
Своим подчинённым я приказал: рыть ходы сообщений и траншею в мой рост и плюс четверть, то есть 188 сантиметров. И сам первый брался за кирку, лопату, пешню вместе с командирами взводов. Моему примеру последовали и стрелковые роты. По мере углубления ещё не отошедшей от льда земли резко уменьшились потери в батальоне.
…Каждую неделю хотя бы однажды я избегал верной гибели. Это четыре раза в месяц, а за год? Может быть, архангел Михаил был подле меня или дьявол готовил для себя… Чуть не погиб… Это слово «чуть» было на нашем языке нормой. Кто из защитников этой «цитадели» выживал дольше всех, тот черствел душой, становился «задубевшим» и равнодушным к смерти, подкарауливавшей на каждом шагу. Мысль сидела в голове одна: хоть бы пронесло мимо снаряд, пулемётную очередь и особенно коварные мины, которые были слышны уже над головой, когда поздно укрыться!
Как-то сидим ночью у командира 3-й роты Столярова, поистине добропорядочного, интеллигентного человека. Но военным он, конечно, не был. Не мог жестко требовать, был другом каждому. «Ты — умница-преподаватель, но зачем тебя сюда занесло? Учил бы ребятню, нашу смену», — говаривал я ему. Но он, настоящий патриот, хотел быть на линии фронта… В печурке гудит огонь, вместо щепы — тол. С нами — старшина роты Севастьян Костровский, он же и внештатный писарь, недавно из тыла и тоже сельский учитель-доброволец. Рассказывает нам, как с новым пополнением численностью до взвода они несколько дней назад двигались от Муравьев сюда через село Дубровино. От самых Муравьев на поле шириной в два километра и по селу, полусожжённому, где шли ожесточенные бои в декабре, по всему пространству лежали наши убитые воины. После смерти у них отросли большие ногти, волосы, бороды и усы…
Вдруг зашелестела плащ-палатка — полог на входной двери, раздался снаружи взрыв мины, и в наш блиндаж-землянку ввалился часовой. Падая, он успел произнести: «Гады, убили!» Не выпуская из рук винтовки, он упал нам под ноги с раскроенным пополам черепом — кровь разлилась по всему полу! Я со своим ручным «Дегтяревым» вышел и залёг между этим блиндажом и своим дзотом, застыв, вглядывался «в ту сторону». И только там вылетит строчка трассы, как я бью наверняка во вражескую амбразуру. И так почти до рассвета. Только с рассветом у меня отошло от сердца то, что случилось, в который уже раз, с ещё одним защитником плацдарма…
* * *
Бродя по первой линии, я нашел лог, в котором навалом были оставлены немцами ящики. Патронов — сотни тысяч! А у нас в обрез своих. «Вот бы пулемёты нам — тогда, фриц, держись!» — воскликнул я вслух. Набрал патронов из разных ящиков и все разные; бронебойные, бронебойно-зажигательные, обыкновенные, разрывные с красным капсюлем. Пуля калибра 7,9 мм против нашей — 7,62. Вот чем нас фриц «угощает»!
Если противник всю ночь палил по нас, высвечивая небо и все вокруг тысячами осветительных ракет, наша сторона молчала — ни звука. Это бесило фрица: а вдруг русские двинут в атаку? Или пустят разведку? Явно они «давали труса»! На батальон у нас, например, было тогда всего два противотанковых ружья (ПТР) с запасом патронов «на вес золота». Если выстрелил и промазал — пиши объяснение!
И будто меня услышал кто-то: начальник хозвзвода привёз прямо на КП пулемётчиков четырнадцать немецких пулеметов МГ-34! И один дюралевый станок весом не больше семи килограммов. Весь пулемет с сошкой — 12 килограммов. Это против нашего «Максима» в 70 килограммов. А бой — что-то новое, мощное.
Как известно, МГ-34 являлся основным пулемётом у немцев. Был принят на вооружение в 1934 году и использовался как «единый пулёмет» (ручной, лёгкий станковый, зенитный и танковый). Темп стрельбы — 700–800 выстрелов в минуту. Прицельная дальность — 2000 метров.
Тотчас пулемётчики приволокли ящики с патронами из того склада в логе. Прежде чем раздать МГ, и изучил их досконально. Совершенство, верх военно-технической мысли. Гениальная простота конструкции.
Стрельба: подача ленты справа и слева — как удобней. Охлаждение воздушное. Но когда раскаляется ствол, замена его занимает три секунды. Три щелчка — и новый ствол в ствольном кожухе, веди стрельбу! Лента металлическая гибкая, по пятьдесят патронов, соединяется патроном стыковкой «в гнездо», и она может быть бесконечной, только успевай наращивай. Ни сырость, ни сушь в жару — не помеха! Наш же — капризный. То перекос патрона, то отсырела хлопчатобумажная лента, то закипела вода в кожухе и т. д.
Сборку, разборку — все усвоил. И раздал по своим взводам. Задача — не давать фрицу покоя, ночами с ложных огневых точек из траншеи вести ответный огонь беспощадно! Так с середины апреля того года батальон усилился немецкими пулемётами. У меня станок, остальные пулемёты на сошках. Тотчас я пристрелял опушку леса за ручьем Бобров, самую опасную и вредную. Из ложного дзота правее нашего КП, в котором были и немцы в обороне, я несколько ночей «давал жизни» пулемётчикам противника. И выбивал настоящую чечётку! Особенность: у нашего РПД имелся общий спусковой крючок, ухитряйся, когда дать одиночный выстрел, тройной или пять! Это не каждому дано: обычно вылетает три-четыре пули. У немецкого «зверя» два спусковых язычка. Длинный — на длинную очередь, на нём короткий на одиночные. Вот и «чечётка»!
И вдруг пулемёт отказал. Сломался боёк затвора. А где взять запасной? Распиливаем шомпол от немецкой винтовки, делаем новый стержень с бойком. И снова поломка! Боёк как бритвой срезает. Не пойму почему. Вышли со старшиной Лобановым из блиндажа, поставили пулемёт на приклад. Лобанов копается в затворе, а я глянул в дуло, что категорически запрещено уставом. Отвёл ствол чуть в сторону, внезапно раздался выстрел над самым моим ухом. Неделю я не слышал на правое ухо. Это была еще одна моя верная смерть.
У других моих пулемётчиков тоже отказали бойки. Ломаю голову ночь, другую, и вдруг — ура! Вскакиваю с топчана, хватаю злосчастный пулемёт и, вынув ствол, обнаруживаю на его конце, у утолщения на дуле, в пламегасителе — слой нагара! Минуты, нагар удалён, пулемёт заработал как зверь.
* * *
Одним из особенно памятных эпизодов тех боев был такой. К испанской «Голубой дивизии», перемолотой нашими частями, подошло подкрепление — дивизия из баварцев! Они пьяные выходили на опушку за ручьём и орали: «Эй, рус Иван! Мы вам не Испания! Бавария! Дадим вам жару!» — так переводили те, кто немного знал немецкий. Теперь отпала необходимость посылать разведку за «языками» — сами объявились…
30 апреля того года, примерно в 15 часов, пьяные баварцы в который уже раз выкатили на опушку леса за Бобров ручей орудие, гурьбой в пятнадцать или более глоток стали орать нам всякие гадости и открыли стрельбу по нашим блиндажам, дзотам, землянкам, оставшимся ещё строениям в Лелявине. Термитными снарядами жгут нас прямой наводкой. Ну, решил, сейчас я вам покажу Баварию! Я вам, гады, устрою! Вгорячах ставлю свой пулемет МГ на станке на накат КП роты. Стоя на земляном уступе, жду момент. Лобанов, за ним — новый комиссар роты Голосов, потом зам по строевой Голосуев держат ленту внизу. Ленту составили под две тысячи патронов! Три ствола положил справа от руки на накате. Даю контрольный выстрел. Тотчас баварцы, мастера своего дела, перевели стрельбу на меня. Один снаряд с гулом и жаром низко надо мной грянул мимо! Даю еще выстрел, попадаю по щиту орудия. Еще два снаряда принимаю, успевая скрыться за накат и появиться у пулемета, чтобы дать выстрел — или два. Ещё снаряд. Всё! Даю пять-шесть бронебойно-зажигательных по орудию. Оно замолчало. Вспышек нет. Жму на спуск и даю длиннейшую очередь! Орудие кувырком. Фрицы, будто тараканы-прусаки, бросились в стороны, но до окопов было шагов тридцать! И ни один из них не добежал до спасительного окопа, все полегли на той опушке замертво!
Война для командира — вторая и главная военная академия. В данном случае я пусть и удачной стрельбой, но обнаружил свой КП и надо было тотчас в ночь покинуть его. Дураку понятно, что если мы нанесли какой-то урон врагу, то он нам заплатит втрое дороже огнем артиллерии, вплоть до сверхтяжелых мортир.
Утром — Первомай, праздник. Мы на КП роты подняли свои сто наркомовских грамм и чокнулись. Вдруг, далеко на юго-западе от железной дороги, от села Подберезье донесся «вздох» сверхтяжелой мортиры! Потом зашелестел вверху снаряд, приближаясь к нам. И завыл, ускоряя полет на снижении. «Не наш!» — воскликнул я, ибо мы уже по звуку в одно мгновение просчитывали, куда ложится снаряд, если от одного орудия. Земля дрогнула. Наш «светлячок» в землянке погас. Снаряд взорвался левее. В землянке появился старшина роты Бабичев, у него в бороде и усах солома. Он оглох. Кричит! Оказывается, снарядом его выбросило из окопа у входа в бывший немецкий блиндаж, где примостилось трое пулеметчиков на завтрак. Все погибли — блиндаж завалило… А ведь я приказывал не занимать немецкие блиндажи, они все пристреляны. Жестикулируя, показываем Бабичеву, оглохшему окончательно, — беги к Герасимову в санвзвод! Но сами мы на какие-то секунды ещё задержались на КП. И снова «вздох» «кривой пушки», как мы прозвали сверхтяжелую мортиру-чудовище. И скоро снаряд, снижаясь на наш блиндажик, завыл: наш! Я, обхватив столб, что посередине блиндажа, успеваю крикнуть: «Ложись! Кто выживет — отпишите домой!..» Снаряд врезался с недолётом в 10 метров по обрезу воронки, блиндаж перекосило как бы «ромбом». На нас с потолка и стен посыпалась земля, будто из мешка. Надо было скорей бежать вниз по логу к Волхову под обрыв, но мы, словно парализованные пережитыми страшными секундами, не можем двинуться с места. И ещё «вздох» — снаряд с шорохом, потом с воем приближался и взорвался, сделав перелёт тоже 10 метров! Вход и переднюю стену из бревен выбило. Накат завалился в одну сторону, сделав нам настоящую ловушку. Немцы увидели взлетевшие вверх доски, решили, что нас добили.
Ещё снаряд пропахал канаву ниже где-то у артиллеристоа и не взорвался… И воцарилась гробовая тишина. Мы со всех ног, разбросав бревна, ринулись наверх. Встали на краю огромной воронки — дом пятистенный войдёт! Обойдя воронку, мы быстро логом побежали к реке. Видим — из подполья разобранного на накаты дома выползают по одному наши артиллеристы «сорокапятки», лица у всех мертвенно-зелёные. Я увидел их командира орудия лейтенанта Молчанова, который после уничтожения мной из пулемёта орудия немцев додумался выдвинуть свою пушчонку и сделать несколько выстрелов по металлолому, тем обнаружив свою позицию. Крикнул Молчанову:
— Это тебе за белые перчатки! Моли Всевышнего, что обошлось!
При стрельбе Молчанов взмахивал рукой в парадной белой перчатке. Снаряд немецкой мортиры вошел в землю, пробил боковую подпольную доску, завертелся в дыму от горящего дерева и… не взорвался! Люди Молчанова в тот момент завтракали и оцепенели от дикого страха. Сидели, смотрели на снаряд, помирали, но вот он остановился и стало тихо.
Обстрел мортирой прекратился. Мы лопатами роем котлован для нового блиндажа, врезаясь в обрыв к реке — место, куда, по нашим наблюдениям, не доставали снаряды противника и тем более пулеметы.
Появился командир 3-й роты Столяров, неся на плечах брус. Он улыбался и был очень рад, что мы так легко отделались от очередной смерти! Первомай 1942 года мы отмечали усиленным строительством добротного блиндажа, для чего несли доски и брус от дебаркадера. А в обед произошло еще одно ЧП. Столяров с нами, сидим у ямы будущего сооружения, переговариваемся. И вдруг свист и взрыв метрах в десяти от нас — шальной осколочный снаряд!.. Мы сникли запоздало головами и сидим истуканами. Но обошлось — никто не пострадал. Это было великое счастье, опять редкостный случай! Еще раз костлявая только взмахнула косой над нами!..
На другой день, закончив строительство, мы обедали. Зам по строевой части Голосуев, сидя у передней стены этого погреба, травил очередной анекдот, которыми он был будто напичкан. Свет проникал от входа через оставленную щель сверх поворота окопа-входа. Снаряд с воем пронесся высоко в небе, но нам хоть бы что. Мы привыкли и не к такому!.. Снаряд взорвался далеко за Волховом. Голосуев травит ещё что-то. И вдруг осколок от снаряда влетел в щель-просвет и врезался в лоб рассказчику! Кровь ручейками хлынула у него по щекам. Голосуев быстро вырвал осколок. И мы тут же его перевязали. Николай Лобанов, старшина роты, увел Голосуева в медсанвзвод.
Больше мы старшего лейтенанта весельчака Голосуева не видели. Видно, ранение было серьёзным, хотя он, уходя, не показал и виду — кремень-парень!
Внизу, под крутым береговым склоном, у самой реки, мы устроились прямо по-барски. Обили стены рейкой с дебаркадера, Лобанов даже повесил на стену спасательный круг! Топчаны, вместо обычных земляных, из досок. Стол дощатый. Накатов — пять-шесть, отчего в этом убежище стало потише, особенно от пулемётных трасс и взрывов снарядов. От лога мы скоро выкопали ход сообщения глубиной в два метра, а сверху накрыли дощатой решёткой с дёрном для маскировки с воздуха. Ход вёл к левому нашему пулемётному дзоту. А оттуда — ко второму, перекрывавшему стык с соседями огнём пулемётов в три ствола «Максимов» и двух МГ. Теперь фрицам на этом стыке не пройти! И нам поспокойнее. Этот ход-траншея с полами из досок стал как бы эталоном для всех: у пулемётчиков потери в людях прекратились!
* * *
Несколько слов о комиссарах, политработниках. Они были призваны, как правило, из запаса, не пройдя в армии службы и дня. Добровольцы партийные работники с гражданки. Только у нас — Яша Старосельский (родом из Витебска), недавний выпускник Военно-политического училища. Но и он необстрелянный новичок. В пулемете — ни в зуб ногой. Славный паренек, мы с ним подружились. Яша все время хотел идти со мной, когда я отправлялся проверять все свои огневые точки. Хотя я был против и комиссару советовал пробираться по линии обороны только ходами сообщений. Но в них то вода по колено, то грязь. То ли дело пробежать «верхом», но тогда можно из 100 пуль поймать 99!
Я ходил напрямую от своего лога до 3-й роты, а оттуда уже по ходам в другие. Ходил один. Яшу не брал категорически и никого вообще. Тех, кто пойдет со мной, или ранит, или ещё хуже — убьёт. Тут нужно особое, прямо-таки звериное чутьё. Если прозеваешь — конец. Я успевал реагировать на любую пулемётную трассу с той стороны, успевал уклониться или даже подпрыгнуть, пропустив очередь понизу! И такое бывало.
Однажды в середине апреля Яша Старосельский всё-таки увязался со мной. Возвращаясь из 3-й роты, я успел отскочить в сторону от трассы, крикнуть Яше: «Прыгай вверх!» Но он лёг, результат — обе ноги прострелены. Его я унёс на свой КП, оттуда Яшу унесли к Герасимову в санвзвод и эвакуировали в Валдай, в госпиталь. А там отняли ногу до колена… Со мной иногда ходил, командир взвода, москвич Николай Лебедев, отличный и смелый лейтенант. В каких только переплетах мы не были. И ему прострелило ногу так, что её отняли ниже колена. Я бывал потом у него в гостях в Москве на квартире…
Есть тип людей: поначалу что-то сделает, а потом подумает! Мгновенная реакция. Это необходимо только в экстремальных ситуациях, на полях боев. Но в обычное мирное время можно попасть в неудобное положение… Видно, я из таких — неведомым чутьем осязал смертельную опасность!
Был такой случай. Идут к нам вечером заместитель командира полка Токарев с замом комбата Слесаревым. Пароль не знают. Вытаскиваю револьвер: «Руки вверх! Стреляю без предупреждения!» — «Ты что?! Я — Токарев, замкомполка!» — «Не знаю. Пароль! Телефонист, держу их на прицеле. Ну-ка, вызови полк, кто у нас тут пришёл?»
Ответ из штаба поступил. Только после этого говорю: «Проходите». Так я Токареву и полюбился. Потом пошли мы к Муравьям, в штаб полка. Командиры немного выпившие. Идут в полушубках на лыжах, разговаривают громко, они — друзья-танкисты ещё по финской. А через Волхов зимой хорошо всё слышно. Тишина. Мороз. Я рядом с ними, смотрю — идут трассы куда-то, пусть идут. Вдруг боковым зрением заметил пулемётную трассу. Наша! Одному подножку, второму по затылку, сам тоже падаю. Очередь над нами — тр-р-р. Встали, пошли. Снова они заболтали. Опять очередь. Я их опять с ног сбил. И снова очередь прошла, всех троих положила бы. Не дошли метров пятьдесят до манежа, начался артобстрел. Токарев с комбатом сразу сбросили лыжи и бегом. Вокруг везде камень, кирпич, — на лыжах не пройдёшь. А у меня заледенели крепления на лыжах и ножа нет. Достал револьвер, перестрелил верёвки и бегом к своим пулемётчикам. Вдруг посыльный: «Сукнев, к командиру полка!» Опять обуваюсь, всё ледяное, они-то с тыла приходят, у них валенки не сырые. Прихожу, докладываю. Сидят комполка Лапшин, Токарев, комиссар полка Крупник. «Ну-ка, разувайся! — приказывает Токарев. — Покажи ногу, вторую. Я же говорил, что он не самострел». А те не доверяли никому…
После Яши Старосельского комиссаром роты стал Алексей Евстафьевич Голосов, младший политрук, лет тридцати. Но он был танкист, механик-водитель. Комиссара из него не получилось, и мы отправили его на трехмесячные курсы командиров рот куда-то в тыл. Вернувшись, он принял 3-ю роту вместо погибшего в бою Столярова. Потом его отозвали в 299-й полк командиром 1-го стрелкового батальона. Погиб Голосов в бою при штурме Новгорода…
Комиссар батальона Плотников, его имени и отчества не помню. Он был доброволец из Новокузнецка (тогда Сталинска), ушел на фронт с поста секретаря парткома завода металлургов. Прекрасный товарищ, но в военном деле — ученик. В конце мая того 1942 года он часто приходил к пулеметчикам и к нам на КП, к землякам. Говорили о войне, о блокадном Ленинграде, а больше — о мирном, отрезанном войной начисто. Ему было далеко за сорок, старшему политруку (одна «шпала» в петлицах и звездочки на рукавах).
Как-то он появился после моей стрельбы по немецкому самолету-разведчику, похожему на наш «кукурузник» У-2. Я упражнялся в стрельбе из МГ-34, как только появлялся этот «соглядатай». Летал он так низко, что видны были лица обоих пилотов. Комиссар роты Голосов наблюдал в бинокль, отмечая после каждой моей очереди:
— По фонарям попало, но пули отскакивают!
Но вот под градом моих трассирующих очередей разведчик берет резко влево и исчезает.
Появился встревоженный комиссар Плотников и набросился на меня: почему я веду стрельбу от КП роты, ведь выше, недалеко, КП батальона! Есть запрещение командования вести стрельбу, обнаруживая себя! И еще что-то в том же роде. Вскоре Плотников остыл, улыбнулся, тяжеловатой походкой зашёл в блиндаж. Поговорили. Тогда я заметил, что у него под глазами нездоровая синева и лицо бледнее обычного…
Кстати говоря, в середине мая был получен приказ Ставки: «Бить врага, где бы он ни был замечен. Из всех видов оружия и беспощадно». Это развязало руки нашим пулемётчикам. Дрались на пулемётах с немцами! Счёт я потерял, каждый почти день стрелял… Ходил первое время — ручной пулемёт Дегтярева на шее вместо автомата. Тяжеловат, но мне подходил. Надёжный.
Вскоре Алешина и Плотникова вызвало командование в Муравьи в штаб. Переправившись через Волхов далеко внизу от нас, они стали перебежками продвигаться по полуразрушенному и наблюдаемому противником селу Дубровину. Остановились. Сели за стенку избы. И пока Алешин зажигал спичку, чтобы прикурить папиросу, Плотников тихо умер!.. А до этого у нас умер от разрыва сердца молодой капитан Мельников…
Прибыл новый комиссар, старший политрук Мясоедов, лет за пятьдесят. Он у нас ни разу не появлялся, а всё находился на КП батальона, где неутомимый оптимист комбат Алешин резался в шахматы, в которых понимал толк. Мясоедов исчезнет из батальона в начале сильных боевых операций в марте 1943 года.
Комиссар полка старший политрук Старлепский — из кадровых военных, ещё из 3-й танковой дивизии, так и не появился на нашем «слишком рискованном» участке. Комиссар Крупник, прибывший вместо Старлепского, не сработался с «человеком каменного века», как я его называл про себя, комполка Лапшиным. В ноябре, когда я принял батальон, Крупник приходил к нам и сетовал на тупость Лапшина. Видно, Павла Абрамовича комполка так допек, что он пришёл ко мне как к «единомышленнику»… поплакаться в жилетку.
Позднее, когда я принял батальон штрафников, со мной служил майор Федор Калачев. Политработник он был прекрасный, что «не потрафило» тому же Лапшину, который не терпел тех, кто его умнее.
Отличным организатором и помощником командиру 2-го батальона Григорию Гайчене был Федор Кордубайло. О их гибели я еще расскажу…
Комиссар дивизии Гильман — полковник! Он был именно НАСТОЯЩИМ полковником, которого сняли с полка за что-то и прислали в нашу дивизию «для исправления». Высокомерный, барственный, бездушный к подчинённым, он не пользовался никаким авторитетом ни в дивизии, ни в полках… Тем более в батальонах, где он почти не бывал.
Младший врач полка Мариам Соломоновна Гольдштейн (ставшая после войны Ярош) отписывала мне потом, что творилось в полку и в дивизии, характеризуя каждого «деятеля» и своих полковых героев-разведчиков, которых она «вела». О ней будет ещё сказано, это была смелая и прекрасная молодая женщина.
Как видим, разные они были люди, те комиссары, которых я знал на войне. Действительно, главное — не место, которое занимает человек, а то — каков он.
Однажды комиссар дивизии Гильман появился у нас в Лелявино. Причём не один, а с элегантной женой Верой — высокой русской красавицей, благоухавшей тонкими духами. Гильман созвал командиров рот, вручил им по медали «За боевые заслуги» (большего, видно, не заслужили); мне — «За отвагу».
— Сукнев, проведи мою половину туда, — кивнул на передний край Гильман. — Покажи ей настоящего немца!
Ничего себе, думаю. А если обстрел, снайпер, который запросто мог влепить пулю в лоб? Повёл красавицу по ходу сообщения к нашему дзоту, прикрытому дёрном, с «окнами» для пулемётной стрельбы.
Иду впереди, отшвыривая ногой голубых лягушек, чтобы не раздавить. Вошли в дзот, мои пулемётчики рты разинули: молодая красавица, да ещё в лёгком платье, да с большими серыми глазами. Заведи им немца — меньше было бы эффекта!
— Показывай фрицев, товарищи! — подмигнул я командиру взвода лейтенанту Исаеву, который зарделся от изумления. Он понял.
— Вот, смотрите в амбразуру! Видите, роют окопы — во-он у леса!
— Вижу, — выдохнула Вера.
— Это фрицы!
— У-ух, сволочи! — выругалась наша гостья от всей души.
Но это были наши пулемётчики из другого дзота, роющие новый ход сообщения.
Гильману я доложил об этом вояже. Тот тоже всё понял, улыбнулся. И они вскоре в ночь ушли к переправе. На мой взгляд, рисковать такой женщиной мог только сумасшедший!
Время от времени я уходил в 3-ю роту в самый отдаленный дзот, в полном смысле тупиковый окоп с крышей из жердей и амбразурой в лог по ручью Бобров, который вдали время от времени переходили гитлеровцы с мешками, по-видимому цемента, к Заполью. Там были топкие места.
Здесь за несколько дней сидения я подстрелил одного офицера. Другого фрица продержал в холоднущей воде у гати около часа, но он всё же удрал сломя голову.
Один раз в то лето я увидел, как «очередь» немецких солдат в Заполье насиловала женщину, положив ее на низкую крышу погреба. Посмотрев в бинокль, засек ориентиры, дал из «Максима» очередь, стараясь не задеть женщину. Смотрю в оптику — фрицев будто ветром сдуло, а их жертва, одергивая юбку, тоже бросилась бежать, не поняв, откуда стреляли!..
Подкараулил как-то генерала-гитлеровца. Он стоял по пути из Заполья в Подберезье на проселке с офицером и разговаривал. Мне видны были генеральские золотые лампасы на галифе. Даю команду командиру взвода минометчиков Николаю Ананьеву, передав точные координаты цели. Тот бросил одну мину, но она, не долетев, разорвалась подле меня на бруствере, да так, что меня отбросило взрывной волной… Тогда я своему однокашнику по Свердловску объявил: «Молодец, а кошка дура!» — и ещё что-то в этом роде… Он, видите ли, вёел стрельбу трофейными минами, за неимением своих. Наш миномёт 82-мм калибра, а трофейные мины — 81. Дополнительный заряд — и веди стрельбу. А тут Ананьев «не рассчитал»…
* * *
В конце мая 1942-го в небе появились наши бомбардировщики-тихоходы без сопровождения истребителей. Со стороны Новгорода, от бывшего нашего военного городка Кречевицы, появились три «Мессершмитта» и за полчаса сбили все наши самолеты! Мы буквально выли при виде такого расстрела. Неужели командованию не было известно, что в Кречевицах есть аэродром с базированием истребителей, о чем знали у нас все командиры-танкисты, которые оставляли Новгород и этот городок при отступлении?!
В июне появились и наши истребители. Над нами на большой высоте завязался бой. Десяток немецких и столько же наших истребителей «скрестили шпаги»! Мы, пулемётчики, стоим у своего КП. Я — босой на горячем песке. Смотрим вверх. Если фриц отвалил, стреляем по нему из винтовок — впустую, но отводим душу!
Вдруг в воздухе слышится звон, и осколок, размером с охотничий нож, коснувшись моего чуба и чуть не задев нос, врезался в песок, пройдя между моими пальцами на левой ноге! Всего один сантиметр — и я был бы на том свете!..
Осколок прилетел с неба, где шёл отчаянный бой. Потом сбили немца. Он, спускаясь на парашюте, ловил свой ветер. Если его начинало относить к нам, то лётчик раскачивался в свою сторону, уменьшая парашют стропами. Но всё-таки его понесло в нашу сторону и за Волхов. Там его взяли в плен. Говорили, что сбит был немецкий ас-полковник. И когда ему показали, кто его сбил — девушку-истребителя, то он заплакал от стыда и позора.
* * *
Случались во время нашей обороны самые разные напасти и случаи. Волхов разлился по правобережью на несколько километров. Перевозка людей и грузов — лодками. И тут на наш «пятак» навалились полчища мышей-людоедов! Именно так. Стоит в блиндаже задремать, как тут же эта гадость старается тебя укусить за ухо! Всю зиму мразь отъедалась на убитых, усеявших своими телами всё в округе и на нейтралке. А тут всех прибрали… В блиндаже бойцы спят, а один дежурит, чтобы не покусали эти враги. Крыс тоже бегало немало. Этих стреляли из револьверов, пистолетов, травили, но всё впустую. И вдруг подошло к нам подкрепление: сотни, а возможно, и тысячи огромных лесных ежей, которых привлекли мыши как добыча. Идёшь по окопу, смотри под ноги: ежи, ежи, ежи…
Пошли сильные дожди. Стало сыро и холодно. В окопах грязь. Все пространство от леса до реки заполнили новые пришельцы — голубые лягушки. Тысячи! Бросишь такую вверх, и она на фоне голубого неба «исчезает». Таких мы в Сибири не видывали. Когда спала вода — на десятки километров в приволховских лесах, лужах стоял лягушачий «стон»…
* * *
В Лелявине остался без хозяев огромный серо-голубой котище. Васька — так я его назвал. Будто стал «пулемётчиком», шатался по всем землянкам и был везде «наш» — завтракает, обедает, ужинает. Считай, как сыр в масле катается. Однажды его ранило в ногу, я унёс кота в медсанвзвод к Герасимову. Вылечили. Опять рана — осколок проделал у кота в горбинке носа дырку, стал сопеть; тогда он самостоятельно побежал к Герасимову лечиться! Умница, а не кот!
Звук снаряда — он тотчас в блиндаже. Самолёты — тоже нам сигнал тревоги.
Лобанова кот не любил, как и тот его. Забегая в блиндаж, Васька прижимался ко мне, высматривал, что на столе, и, вдруг протянув лапу, хватал, что ему надо! Но это только когда не было здесь Лобанова.
Как-то прихожу в землянку и почувствовал аромат духов. Девушка?! Может, Мариам наведывалась? Не понимаем, откуда такие ароматы…
Однажды я караулил, как кошка мышь, фрица, наблюдая в оптику снайперской винтовки из амбразуры дзота за логом. Перевёл прицел на нейтралку. Не верю своим глазам. Подумал — заяц пробирается по минному полю противника, ан нет — Васька! Да так аккуратно — былинки не заденет. Шёл кот деловито от противника к нам! Под вечер он появился у нас ужинать, и от него снова веяло духами… фрицев… У них он завтракал, у нас ужинал. Немцы его ещё и духами обрызгают. О Ваське можно было бы сочинить рассказ для детей, но это не по теме…
* * *
Однажды под вечер в блиндаже при свете коптилки пишу домой письмо. Вдруг от 3-й роты слышны взрыв и звериный рев! Подумал — наверно, медведь или лось подорвался на мине на нейтралке. Снова тишина. Потом какая-то тяжесть надавила на накат и послышалось урчание. Точно, медведь на блиндаже! Выскакиваю, забыв, что пистолет остался на столе. Медведь бурый, здоровенный, без правой лапы, скатился с блиндажа — и в реку!
Хватаю на всякий случай винтовку из пирамидки у входа, перезаряжаю СВТ — пустой магазин! Вторая винтовка — тоже не заряжена! У пулемёта — ни души. Вот, думаю, санаторий, а не война!..
Медведь плыл вдоль берега, я бросал в него камни, чтобы уходил за Волхов. Потом рассказывали, что артиллеристы добили беднягу, медведя-калеку, и пустили его в котёл…
* * *
Ночью появляюсь в блиндаже у бойцов, будучи и командиром роты пулемётчиков, и позднее комбатом. Ко мне все внимание и радость в глазах: комбат жив, и мы выживем!
Я не читаю нотаций, не упоминаю об уставах, не делаю разноса нерадивым… Говорим обо всем: о доме, о Сибири, о России. О положении у нас и на фронтах, о котором я и сам не особенно информирован был — знал только то, что в газете, и то была она у нас раз в неделю одна. Дивизионная.
Среди бойцов были и деревенские, и немного городских, люди со всей страны.
Собираюсь уходить — не отпускают, просят, чтобы еще побыл у них. Однажды один мне сказал: «Вот у нас бывает комиссар, придет, помолчит, что-то выспросит. Сделает замечание и уходит. И нам с ним не о чем толковать. А вот вы придете, товарищ комбат, — у нас душа нараспашку!» И это была правда. А если бы во время такой беседы заглянул кто-то в блиндаж, то он комбата принял бы за обыкновенного окопного красноармейца.
* * *
Николай Лобанов, парень лет двадцати двух, доброволец из химинститута в Уфе, решил проучить нашего чекиста-особиста Проскурина за доносительство. Тот всегда приходил к нам — гадать сны у Лобанова. И вот пришёл однажды, говорит:
— Я видел во сне часы, на которых было время 12 часов. Что это, Николай?
— Часы — это месяц. Время — могут убить в полночь! — «приговорил» Лобанов особиста. И тот в течение месяца не вылазил с КП батальона, даже позеленел от недостатка воздуха в этом полусыром подвале-яме.
* * *
В июне 1942-го в небе появились наши штурмовики Ил-2. Они прошли бреющим из-за Волхова к железной дороге над нашей обороной, у немцев — взрывы, пальба. И вот они, герои, снова бреющим проходят над нашей головой, покачивают нам на прощание крыльями. Лихие парни! Чего не сказать о «ночных ведьмах» на У-2. Послушать ныне, так это они выиграли войну в воздухе! Я — очевидец. Адвокатов мне не надо.
Ночью за Волховом слышим шум мотора нашего «кукурузника». Противник молчит, прекращает стрельбу. Мы отдыхаем, вглядываемся в темное небо, но кроме звука приглушенного мотора — ничегошеньки. Потом и звук пропадает. Где-то в километре от нас рвется серия небольших бомб. «Ночной бомбардировщик» отбомбился и возвращается. Мотор включает, когда минует нашу передовую, уже над Волховом, и исчезает…
Здесь немецкая оборона была так запутана, что наши разведчики не могли разобраться в их траншеях и заграждениях. Где доты, дзоты, огневые точки? Так что «ведьма» только попугала тех же баварцев и улетела в свой тыл, на отдых… Никакой цели она не разгромила, не разбомбила, а в лётной книжке отметка — выполнен боевой вылет, противник понёс потери…
В ноябре меня назначили командиром батальона. Пулеметную роту я передал лейтенанту Александру Карповичу Жадану, он из Харькова (умер в 1986 году). Григорий Иванович Гайченя с Украины, адъютант старший, капитан, принял 2-й стрелковый батальон, который находился в соседнем селе Теремец в двух с половиной километрах от нас, в полном окружении, исключая реку Волхов в тылу. Поначалу батальон 1347-го полка старшего лейтенанта Бурлаченко под шумок захватил это место, причем бескровно, внезапно. Бойцы это место прозвали «островом Буяном», который они не отдадут врагу! Если Лелявинский плацдарм был у немцев как на ладони, особенно с юга из-за ручья Бобров, с опушки лесного массива, то Теремец будто специально был расположен для обороны. С западной окраины село спускалось к Волхову под углом десять градусов. Противник, ведя артобстрелы, если брал ниже, то снаряды не долетали метров на пятьдесят до первых траншей обороняющихся. Если брал чуть выше, то они рвались по Волхову. Так же и пулеметные трассы не достигали защитников, пролетая выше или рикошетя впереди. Наших можно было поражать только минометным, навесным огнем, от которого хорошо укрываться в блиндажах и дзотах под накатами.
Это село немцы так и не взяли: танки утопили, авиация не брала, снаряды делали перелеты. Наши зарылись, будто в доте. Один танк, завязший по башню, они откопали и тоже сделали из него дот.
У нас все командиры рот сменились: раненые, убитые, больные… Отправляю раненых и убитых ночью, принимаю новое пополнение и развожу его по ротам, чего не делал наш маэстро-шахматист, добряк Алешин, который получил на новом месте танковый батальон. Его заместитель Слесарев уехал за шефом. А комиссаров всех упразднили, они стали заместителями командиров по политической части. И правильно.
* * *
С середины января по июль 1942-го батальон не мылся в бане. Не менял бельё. Я обносился вконец. Сапоги носил немецкие с широченными голенищами. Бельё — из чёрного шелка, даже паразиты скатывались, и мы были относительно чистыми. «Мылись» ночами, раздеваясь до трусов — и в сугроб! Вода была на вес золота. В снегу масса убитых, а на Волхове лед промерз до полутора метров. Приносим лёд и ставим в ведрах на печурку…
Инициативу проявил ещё Алешин, организовал бригаду строителей. Разобрали дебаркадер и из него, в «штольне», в обрыв встроили баню. Когда дошёл до меня черед, то я всех согнал с полка, жарясь «насмерть» веником!
С тыловиками случались у меня крутые разговоры. Обносились мы, как я уже сказал, до того, что с трупов немцев снимали сапоги. Вот до чего дошли нас свои снабженцы! Прихожу к ним:
— Дадите обмундирование?
— Да вас всё равно поубивают там…
— Сейчас же чтобы было! Иначе взлетите на воздух. Гранату брошу, я успею уйти, но вы уже тут остаетесь, — шучу я.
— Сейчас, сейчас! Пиши, Костя, чтобы одеть первый батальон!
* * *
Я второй день командир батальона. И вдруг ночью дезертировал некто Ведерников. Это значило: комбата и ротного под суд трибунала, вплоть до разжалования. Оперуполномоченного Проскурина тоже в «кондей»! И это не вымысел, могло быть и такое. Был устный приказ, который передал нам Проскурин: «Украинцев ставить впереди огневых точек. Рядом, по возможности, сибиряков и позади дзота — комсомольца или коммуниста!» Это чтобы не сбежал к немцам украинец, тот, у которого семья в оккупации. То же относилось и к тем из местных, у кого семья осталась «на той стороне».
Я приготовил свои сумки, амуницию и жду ареста. Вдруг зуммер от соседа, моего однокашника по полковой школе в Сретенске и училищу в Свердловске Николая Филатова, комбата-1 в 299-м полку.
Николай слегка поиздевался надо мной дружески, потом заявил: «Посылай конвой. Твой Ведерников у меня арестован!»
Я смутно помнил, что был у нас такой солдат Ведерников. Я также знал, что кого-то увозили в санроту или медсанбат с опухшими по какой-то причине ногами. Потом мне Николай Николаевич Герасимов, начсанвзвода, доложил, что один солдат пьет по стакану соляного раствора и стоит на часах в окопе без движения, отчего у него опухают ноги. Он, Герасимов, это зло пресек, предупреждая в ротах: кто «опухнет», того под трибунал за дезертирство! Мариам Гольдштейн напомнила мне подробности о Ведерникове, этот «сачок» шёл на всё, чтобы избежать передовой. Он и начал опиваться солью. Но был разоблачён. Тогда этот сектант-евангелист из местных жителей решил дезертировать. В мглистую ночь, находясь в первых дзотах на посту, он ушёл в сторону противника в Заполье. Здесь нейтралка шла зигзагом и как бы натыкалась на проволочные заграждения соседа справа. Дезертир сбился со своего направления и, подойдя к заграждениям соседа, крикнул: «Сталин — капут! Плен! Плен!»
Там наши не сообразили: сумасшедший фриц или кто еще? Может, обезумел и вместо «Гитлер» кричит «Сталин»?
Когда дезертира завели в блиндаж комбата Филатова, то тут же и разоблачили… Лобанов с Орловым тотчас привели Ведерникова к нам в батальон. Вскоре был вынесен приговор трибунала — за дезертирство РАССТРЕЛЯТЬ!
В лог, где был когда-то КП батальона, созвали всех местных, по нескольку красноармейцев из рот, на ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ РАССТРЕЛ, чтобы никому не было повадно. Командовал чекист Дмитрий Антонович Проскурин.
Вывели Ведерникова на лёд Волхова, десять стрелков после зачитки приговора по моей команде дали залп. Ведерников успел перекреститься…
Тут начался артиллерийский обстрел. Мы — бегом в лог. Я толкнул Мариам Гольдштейн в блиндаж. Артобстрел прекратился, никого не задело. Мариам констатировала смерть, и труп казненного унесли…
* * *
Как-то весной 1942-го «Юнкерсы» снова бомбили соседа справа из 2-й Ударной армии. Немцы заходили на пикирование с нашей стороны. Я стоял в первом своём дзоте у внешней площадки для стрельбы, наблюдал: стервятники отбомбились и делали с воем другой заход.
У меня наготове пулемёет МГ с коробкой в сто патронов для стрельбы в воздух или на ходу. Рядом оперуполномоченный Проскурин, было ему лет за сорок, как обычно добродушный, с лёгкой усмешкой, славнецкий мой приятель. Но это с виду… Вести стрельбу по самолётам, целясь — дело безнадёжное. У меня свой метод. Бить надо не переднего, а замыкающего. Кричу Проскурину: «Дмитрий Антонович, подставляйте плечо, давайте собьём на пару «Юнкерс»!» Наклонил его к брустверу, кладу на его плечо пулемёт и даю длинную трассирующую очередь впереди замыкающего «Юнкерса». И он точно влетает в эту бронебойную струю! Мотор стервятника заглох. И «Юнкерс» отвалил влево, планируя на Подберезье к железной дороге, но не дотянул, сел в лесной массив, то есть превратился в металлолом, но с живым экипажем. Такое я наблюдал когда-то в Свердловском военном училище — на учебных полётах наш двухмоторный самолёт при посадке отклонился и врезался в лес. Целы остались хвостовая часть и фюзеляж, остальное — вдребезги! Дмитрий Антонович подтвердил сбитие «Юнкерса», и мне вручили орден Красной Звезды. За наградами я не гнался, что вручали, то и ладно! Главное — победить врага и домой!
* * *
Был один случай в марте того смертного года. Мне понадобилось побывать в соседнем селе Теремец, где держал крепкую круговую оборону наш 2-й батальон.
В наказание за излишние возлияния, проще говоря пьянство, приказал пулемётчику Орлову, парню лет двадцати, могучего борцовского склада, тянуть санки с ящиками патронов для батальона в Теремце.
— Эх, товарищ комроты! Всегда готов! — вскричал совершенно бесстрашный Орлов, эта забубённая головушка. Бывало, обыщем его, посадим в заброшенную землянку на лёд для протрезвления, а он высунется оттуда и, подняв руку с фляжкой, полной водки, кричит: «Товарищ комроты! Пригребайте ко мне!» Я на него рукой махнул: не набирается до пьяного состояния, и то ладно.
С левого берега ручья Бобров в устье мы ползем по льду. Я, как обычно, с РПД, Орлов при карабине. Груз патронов приличный, но ему нипочем. Когда мы под самым обрывом над Волховом утюжили животами лед, сверху нас окликнул немецкий часовой, мы замерли. Полежав без движения, двинулись дальше и благополучно появились в Теремце. Побывав «в гостях», мы налегке пустились назад. И снова фриц нас окликнул. Орлов, ни слова не говоря, метнулся вверх, в секунды достиг траншеи и скрутил фрица так, что тот испустил дух. Орлов тащил его к нам держа за ноги, волоком. Орлову достался автомат и несколько заряженных рожков. Он красовался с автоматом по батальону, ибо у нас своих автоматов не было ни единицы! Однажды прибыл к нам комдив Ольховский, попарился в баньке и отобрал у Орлова автомат, за что вручил ему медаль «За отвагу» (вторую в батальоне после меня). Тогда я уяснил истину: такими атлетами, как Орлов, не делаются, они рождаются, как Стеньки Разины…
* * *
Фрицы давали нам передышки в свои католические праздники. Тогда по нас за сутки — ни одною выстрела! У противника шла гульба, к нам доносился только визг женщин под губные гармошки! За ручьём Бобров в лесу — настоящий содом. В тот их праздник я, как всегда, находился в 3-й роте у «своего» заброшенного дзота со снайперской винтовкой. Рядом со мной был старший лейтенант-артиллерист, разведчик от «Катюш», только что появившихся на фронте. Прошу его: «Дайте залп по этому бардаку! Там не женщины, а продажные стервы! Фашистская подстилка!»
Старший лейтенант подумал и согласился. Масса фрицев и испанцев гуляют, будто на празднике, а не на войне! Послышался скрежет, и полетели ракеты. У немцев в глубине лесного массива земля и деревья поднялись на воздух. Не понять, где обломок, где тело! Через проволоку в нашу сторону перелетел, будто на крыльях, человек. Скатился к ручью, перебрел его и побежал к нам, кричит: «Гитлер капут! Я — свой!» Мы его приняли. Это оказался ефрейтор из испанской «Голубой дивизии» по имени Педро. «Язык» нам достался ценный и взятый без потерь. А с той стороны слышались крики, стоны и валил густой дым от горящих блиндажей и леса.
Дня через три фрицы очухались: минут сорок артиллерия их бронепоезда от железной дороги месила нашу оборону с грязью и землей. Мы потеряли ранеными человек пять и убитыми — до десяти. Но это были потери обычные, как и в другое время…
Вскоре голос Педро звучал из динамика по Волхову для той стороны с призывами к «голубым» франкистам уезжать домой, кончать эту кровавую бойню! Не знаю, послужило ли это испанцам наукой. Но их дивизия скоро исчезла из поля зрения нашего армейского и фронтового командования.
* * *
Из окруженной и, можно сказать, погибшей 2-й Ударной армии даже в августе и сентябре 1942 года выходили наши люди, точнее, выползали истощённые, как дистрофики. К нам в 3-ю роту приползли трое: подполковник медслужбы — женщина, капитан особого отдела и старший лейтенант. В лесах они питались даже кониной-падалью…
Кто-то добрый сунул капитану кусок хлеба с маслом. Врач не успела этот хлеб вырвать из рук капитана, он проглотил половину и через секунды забился в судорогах, умер!..
Таких людей твердого сплава надо было бы комфронта Мерецкову награждать, представлять к званию Героя Советского Союза, но, увы…
* * *
В конце июля 3-й роте приказали атаковать Заполье, без артподготовки, рассчитывая «на внезапность». Я об этом не знал, ибо был отправлен на десять суток на отдых в ближний прифронтовой лес.
Кто руководил этой атакой-аферой — не помню. Сорок человек с винтовками при одном РПД наперевес ринулись на Заполье. И вдруг навстречу, с засученными рукавами, немецкие автоматчики, которые тоже готовились к налету на Лелявино! Завязалась рукопашная, но автоматы в таких стычках незаменимы. И наши, потеряв только убитыми двадцать человек, отпрянули назад в окопы и уже оттуда встретили противника залпами и пулемётными очередями! Ценою жизни товарищей рота предотвратила серьёзный налёт.
Погиб смертью героя командир роты, мой друг Столяров… Погиб даже без ордена посмертно и без воспоминаний о нём, как и обо всём нашем батальоне, да и о 1349-м полку!..
Шли осень, зима, приближался февраль 1943-го. Мы снова «обновились» почти на три четверти. Даже мое воистину стальное здоровье пошатнулось. Мой друг Герасимов делал мне массаж. Нам давали настой из сосновой хвои от цинги, многие заболели туберкулезом.
Как-то, будучи в полку за Волховом, встретились с моей приятельницей Мариам Соломоновной. Она, врач-терапевт, тут же меня прослушала. Заставила откашляться и, вертя меня, поставила диагноз:
— Миша, у тебя возможен туберкулёз! Ты заметно похудел, и твой кашель мне не нравится.
Но лечение я отложил до конца войны, отказавшись пройти рентгеновское обследование. А ведь уже тогда я был бы зачислен в инвалиды войны 1-й или 2-й группы и отправился бы в тыл, служить в военкомате, куда отправляли таких по здоровью.
Играя мускулами, я хорохорился перед Мариам, демонстрируя свою неуязвимость. И тогда произошло самоизлечение туберкулезного очага в верхушке правого лёгкого, который позднее, в 50-х годах, «дал мне жизни» вспышкой рассеянного туберкулеза лёгких в закрытой форме. Но и то ладно… Я стойко тянул на себе воз войны. Не сдавался и тут без боя…
* * *
Год сидели мы как бы в карцере, который ещё целят разгромить, взорвать. Такое ощущение. После этого ада мне остальное не стало страшно. На бруствер голову положу, подремлю, очнусь. Спасали здоровье и молодость.
Сибиряки, земляки мои, вообще выделялись среди других. Дотошные, крепкие. Сибиряк сидит до последнего, он не побежит никогда. Помню, когда еще мы наступали на Заполье, а потом отошли назад, потеряли пулеметчика Кобзева, парня с Алтайского края. А он остался на нейтралке и дня три-четыре там сидел. Нашли его, спрашиваем: «Ты чего?» Отвечает: «Как чего? Караулю, чтобы немцы не наступали здесь». Всю ответственность взял на себя одного.
Много лет спустя давал я объявления в наших местных газетах, хотел найти их. Ведь много у меня было солдат с Алтайского края. Но никто не отозвался…
* * *
10 февраля 1943 года наш полк, да и вся дивизия, оставив Лелявино, Теремец, Муравьи и другие участки обороны, начали фланировать вдоль правобережья Волхова, «демонстрируя», что наши части фронта готовятся к наступлению, и это заметил противник. Сюда он стянул до семи отборных дивизий, так нужных ему для захвата борющегося Ленинграда! Нам же, комбатам, этой стратегии тогда не дано было знать…
Глава 3 Коренной сибиряк
Где я вырос? Начну со слов из старой песни…
Родился я в тот самый год В сырую мрачную погоду, Когда восставший весь народ Боролся за свою свободу.В августе 1919 года началось грозное зиминское крестьянское восстание, которое положило начало партизанскому движению против Колчака в Алтайской губернии. Хваленые колчаковцы только в моем родном селе расстреляли человек двадцать. Война шла кровавая… Как раз во время подавления восстания я и родился — 21 сентября. Отец мой был в руководстве восставшими, поэтому мать таскала меня по буеракам, белые искали нас.
До мая 1918 года у нас была Советская власть, потом — эсеровский переворот, а в ноябре Колчак взял диктатуру. Повстанцев расстреливали, ловили на заимках.
Я — коренной сибиряк. Дед мой по отцу, Лев Герасимович Чоботов, был родом из села Шурап Лапшевской волости Чистопольского уезда Казанской губернии. Судьба его сложилась так. Отец отвез сына из села в Чистополь учиться. Стал он хорошим мастером — портным по шубам, верхней одежде. Приехал однажды в село на сенокос, управляющий налетел на него с плетью: «Почему плохо косишь?!» Ведь уже и после отмены крепостного права крестьяне-должники ходили к помещику на отработку. Дед стащил управляющего с лошади. Но не бил. Однако ему, двадцатилетнему парню, «за неповиновение управляющему на сенокосной отработке» вложили 25 плетей. И он бежал от стыда из дома. Прибился к бурлакам, валил лес и плавил до Астрахани. А через два-три дня после его бегства загорелась помещичья усадьба. Кто поджег? Началось следствие. Дед был задержан в Астрахани, его привезли в Чистополь и судили. В поджоге он до самой смерти не признавался, но в 1875 году был сослан в Сибирь «на вечное поселение». Умер Лев Герасимович, когда ему уже за восемьдесят было, мне — одиннадцать лет.
И вот она, Сибирь: Тобольская губерния, Тюкалинский уезд, село Карбаиново (ныне Омской области). Первоклассный портной, не пьющий и не курящий, имея золотые руки мастера по пошиву всего шубного, что носила Сибирь, дед скоро стал состоятельным человеком, имел свой выезд. Мотаясь по уезду, исполняя заказы хозяевам, летом он почти бездельничал, поскольку к крестьянскому труду не был приучен. В одно лето он пустился за хмелем в далекие Алтайские горы. Уехал аж на год! Вернулся с хмелем, что не рос в тех местах и имел большой спрос, и с молодой женой Марьей Никитичной, по-девичьи — Сукневой.
Когда у них родился сын Иван, мой отец (13 ноября 1891 года), священник, накричав на Чоботова, что он невенчанный, записал младенца на фамилию матери. Так мой род стал не Чоботовыми, а Сукневыми (ударение стало на «у»).
Мы все неверующие, кроме моей матери, она — из крестьян воронежских или курских, но родилась уже здесь, в Осколкове. Молилась за меня в войну…
У молодой семьи родился ещё сынок — Яша, затем Чоботовы уехали в Петропавловск, продав лошадь и выезд. Лев Герасимович работал на строительстве железной дороги рабочим-тачечником. Перевез одну кубосажень — получай рубль! В Омске деда перевели в артель плотников, позднее — каменщиков, класть печи и стены. Способный, он овладел и этим ремеслом в совершенстве. Но семью настигли беды: умерла Марья Никитична от тифа, косившего в Омске население, особенно рабочих в бараках. Потом умер от оспы Яша. И Лев Герасимович подался по селам вниз по Иртышу. Летом клал печи, строил дома и надворья по найму, зимой обшивал хозяев шубным, проживая у них на всем готовом. Но стал страшно тосковать по сыну.
Иван лет в пять пошел в школу, предварительно усвоив букварь, купленный отцом. Часто Иван читал Евангелие вечерами в избе хозяев, куда набивались соседи. Так Иван запомнил почти наизусть эту святую книгу, которую, как и отец, считал сказками, не более.
В Иване проснулся математик! Он отличался в решении задач. Бежал всегда впереди класса. Окончив пятиклассную «министерскую школу» с блеском, особенно по математике, Иван стал помогать отцу зарабатывать хлеб насущный физическим трудом, по мере сил. Они очутились в селе Карбаинове, где начали было строиться, но их сбил с толку лесничий, рассказав о сибирских таежных местах, где можно строить «хоромы и жить припеваючи»!
Они отправились в Восточную Сибирь, побывали на знаменитой речке Бирюсинке, но, исколесив многие веси и города, вернулись на родину матери Ивана в Барнаульский уезд и остановились в волостном селе Осколкове. Здесь у выросшего уже Ивана случилась несчастная любовь — его девушка вышла замуж за другого… Ивану оставалось корпеть над задачами из высшей математики, которую преподавал ему местный учитель Горбунов. Ему было в диво, что паренек так крепко углубился в математику. В гимназию бы его, в университет! Но, увы! Дамоклов меч в виде ссылки отца висел над головой подростка — выше пяти классов учение исключено!
В 1913 году Иван Сукнев уже служит на Дальнем Востоке, на Русском острове в горной артиллерии, канониром. Умный парень, он превосходил даже офицеров по математическим наукам, но был нелюбим ими как «крамольник». Ершистый был, честь понимал.
Началась Первая мировая война. Отец в составе 1-й горно-артиллерийской батареи участвовал в боях на Кавказском фронте. Подули ветры февраля 1917-го. Сукнев становится депутатом дивизионного комитета, все солдаты — за него горой. В марте на съезде Советов Кавказского фронта отец знакомится с большевиками, вскоре стал членом РСДРП(б). Теперь все канониры были на стороне большевиков в вопросах о войне и мире, о переделе частной собственности, о земле и воле.
Но в разгар революционных событий на Кавказском фронте Ивана Сукнева свалила цинга. Товарищи отправили его в Трапезунд в лазарет, откуда отца эвакуировали на судне в Батуми, а затем отправили на родину «до выздоровления».
Сын с отцом встретились в селе Усть-Журавлихе, что на реке Чарыш. Зажили дружно, работали. Революционные события дошли и сюда. Преследуемые кулачеством, Иван с молодой женой Ириной Алексеевной (по-девичьи Захаровой, а по погибшему на фронте мужу — Знаменщиковой) уехали в Осколково.
В зиминском восстании отец руководит в Осколкове боевым районом восставших крестьян. Восстанием было охвачено пять уездов Алтайской губернии, восставших сел — под 400. В августе оно началось, но вскоре было подавлено. Две тысячи повстанцев, руководимые штабом, вырвались из окружения белых и ушли в Касмалинские леса Славгородского уезда. Сукнев руководит оперативным отделом партизанской армии Западной Сибири.
Белых разбили. Пришла Красная армия. Советская власть вступила в свои права. Иван Львович Сукнев — председатель ревкома по делам казаков в станице Антоньевке Бийского уезда. Организует из семей казаков, у которых мужчины бежали «за бугор» (из-за своих злодеяний при подавлении восстания), коммуну «Рассвет», которая стала позднее колхозом-миллионером имени Ленина. А Иван Сукнев вписан в историю этой станицы как спаситель беззащитных семей казаков… Казачек начали грабить из соседних сел те, кто на руку нечист, забирали хлеб, вещи и прочее. Отец навел порядок. Охрана у него была из двенадцати вооруженных партизан. Гонялись за бандой атамана Шишкина и другими. Это целая эпопея Гражданской войны. Она так и не закончилась…
Затем Иван Сукнев — ответственный секретарь Сычевского волостного комитета партии. Он дружит с председателем волисполкома Гвоздковым. Дело у них пошло на лад, в отличие от других волостей.
Всегда в семье Чоботовых и Ивана Сукнева была честность во всём. Никто не нарушал заповеди Евангелия, что не вдруг встретишь ныне! Малограмотная Ирина Алексеевна — строгая, очень умная, дружелюбная с окружающими людьми, настоящая русская женщина во всей её красе. Понимала людей. Со всей округи шли женщины к ней поговорить. Наверно, от нее у меня такое качество — могу сразу определить, какой человек хороший, какой плохой.
Отец отвергал священников и церковь, однако всегда молился перед тем, как сесть за стол обедать. Я вспоминаю друзей моего отца — это были люди высокой чистоты, нравственные, только честным трудом зарабатывавшие свой кусок хлеба.
Иван Львович оставил воспоминания, дополненные мной и изложенные в рукописи «Повести трудных годин».
* * *
Себя я помню очень рано, отрывками — с трех лет. Даже родители удивлялись.
В начале 1920-х годов прокатилась волна мятежей крестьян, недовольных непосильной продразверсткой. Отец принимал активное участие в работе с населением. Но внезапно был выведен из состава партноменклатуры якобы за попустительство уполномоченным ОГПУ — расстрел без суда и следствия карателя-колчаковца. После переездов по ряду лесничеств и сел мы оказались в Бийске. Здесь отец получил должность директора лесозавода. Жили мы на улице Льва Толстого, 54.
Мне шёл шестой год. Я поступил во второй класс школы им. Достоевского. Тогда я зачитывался «Вечерами на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя до того, что боялся ночами выходить во двор… Всё прочитанное оставалось в памяти. «Муму» Тургенева, «Жилин и Костылин» Л. Толстого, рассказы М. Твена, сказки Пушкина… Тогда и позднее издавались объемистые книги — сборники по литературе, в которых печатались отрывки из русской и зарубежной классики, которые я читал от корки до корки! С ранних лет я взялся за грифельную доску и рисовал, рисовал, больше на военные темы. Потом появилась бумага и акварельные краски. Что видел, то писал или рисовал с натуры. В третьем классе, да и в последующих, я выполнял ребятам задания учителя рисования, особенно девчатам-неумехам. Учитель был доволен, и меня стали уважать школяры.
Моя матушка водила меня в Бийске в кино и драматический театр. Высокая, стройная, с тонкими чертами лица, одетая небогато, но элегантно, мама была для меня свет в окне! Хотя иногда одаривала меня под горячую руку хорошей затрещиной! Остались в памяти первые увиденные мной фильмы, особенно «Красные дьяволята». Герои этого фильма — Машка, Мишка и Джо — будённовцы. Мы с ребятней играли в «сыщики и разбойники», в «белых и красных». Последние побеждали. Я — заводила. Мы делали шашки из дерева. Уже военный из меня получался. Соседние улицы побогаче жили, а мы победнее, дети красных партизан. Мы в свою кучку, они в свою. Улица на улицу.
Отца перевели на работу председателем промартели «Да здравствует труд!». Артель снабжала город колбасами, копченостями, овощами, имела маслобойки, кондитерские цехи, хлебопекарни. Обеспечивала население гужевым транспортом, ибо автомобилей еще не было, они начали появляться в середине 1929 года.
Мы переехали с улицы Льва Толстого за реку, заняв полдома на углу переулка им. Гоголя и Луговской. Тогда я учился в четвертом классе школы им. Гоголя. Был я все время «на ходу». Все знать, все видеть, все обследовать, все испытать — моя натура, моя стихия.
В четвёртом классе я нежно влюбился в красивую девочку Надю Геращенко. Но это всё прошло издали и тайно…. Познакомился с художником — взрослым больным человеком. Он писал маслом на фанерках и картоне пейзажи, и я днями пропадал у него, глядя на такую чудную работу, какой мне казались лубочные картинки. Стал осваивать технику рисования тушью и пером. Получалось неплохо, так оценивали мои способности преподаватели.
Усидеть на месте я долго не мог. В сандалиях, в шортах, пошитых из отцовского армейского ранца — брезентухи, окантованных понизу красной полоской, поначалу без рубашки, а потом в майке с короткими рукавами я гонял по Бийску рысаком! И тут натолкнулся на необычное: подле Успенского собора, в старом центре, в саду, в пятистенном доме обнаружил огромное количество книг, да каких! Полные собрания сочинений русских классиков, а также зарубежных: Майн Рид, Вальтер Скотт, Фенимор Купер, Конан Дойл, Джек Лондон, Жюль Берн, Мопассан, А. Дюма и ещё, и ещё! И фолиант русских сказок в сафьяновом красном переплете с заглавием сусального золота и окантовкой по страницам. «Бова Королевич», «Еруслан Лазаревич», «Илья Муромец», «Василиса Прекрасная»… А какие иллюстрации — тончайшая графика пером! Такого искусства нет ныне… Мой друг Владимир Колесников, член Союза художников в Новосибирске, занимавшийся историей русских сибирских завоевателей и землепроходцев и владевший искусством графики, заявил мне: таких фолиантов в СССР было одиннадцать. Все они — ценой на вес золота. Увы, я утратил тот том — украли.
Мы, дружки, ватажкой делали набеги на этот домик с реквизированными книгами старинной печати. Проломив ход в крыше, спускаемся, зажигаем свечки и начинаем «шурудить». Таскали книги по моему выбору к нам домой, хранили-прятали на чердаке в большом сундуке, окованном полосками жести.
С той поры я стал заядлым книгочеем. Набрал себе томов 500 — путешествия, приключения.
Мог читать с вечера до рассвета. Матушка была очень экономна и, жалея мое здоровье, как она говаривала, вечером отбирала у меня настольную керосиновую лампу. Тогда я садился на подоконник и при свете луны читал того же Дюма «Три мушкетера»… Мягкий свет полной луны, силуэт раскидистой ели под окном, доносившееся близкое журчание речки Маймы (приток Катуни), и мои герои… Полная идиллия!.. А днем ребята мои придут, зовут на игры или на стадион. Сами книг не читают. И все же я их приучил, начиная с простых, интересных по сюжету. И мои Васька и Витька уже так зачитывались, что мне уже приходилось их отзывать от книжек.
И ещё одна особенность. Неподалёку от нашего дома, который сохранился в Бийске по сей день, были слободы, татарская и еврейская. Там и поныне находятся действующие мечеть и синагога. Я дружил с еврейскими ребятами, мне нравилось, что они интеллигентны, музыкальны. Некоторые из них играли на скрипке, виолончели. Начинал и я у них учиться. Заходил посмотреть и в синагогу, и в мечеть.
Татарские ребята не пускали русских сверстников в сад Тэтэн-Годе. Попадется кто — побьют слегка, и выдворят из сада: не тронь наших красавиц чернооких! Меня же пускали, принимая за своего. Я был загорелый до черноты, носил тюбетейку. Ходил даже с месяц к ним в школу, изучал татарскую письменность и язык.
На мой вопрос, почему меня пускали даже за парту, а других нет, мой любимый дедушка Лев Герасимович пояснил, что у него бабушка была чистокровная казанская татарка. «Вот и ты смахиваешь, видать, на неё!» — говорил он.
Я любил слушать рассказы деда у него в столярке, где он жил. Рассказы о Стеньке Разине, о приволжских городах, о «хождениях по людям»… Незабываемо!
И вот наступил 1929 год. НЭП упразднили. Деревню разоряли на глазах всего мира! Предприятия артели, которой руководил отец, одно за другим сворачивались из-за отсутствия сырья. Так и хозяйство, где трудились агроном-садовод Петр Александрович Матусевич с женой Марией Казимировной — замечательные светлые люди, — осталось «у разбитого корыта».
К коллективизации я отношусь сугубо отрицательно, я ее видел своими глазами. Если хозяин зажиточный, даже бывший красный партизан, — сослать!
Нашу семью потрясло сообщение о выселении в Нарымский край брата моей матери Трифона Алексеевича Захарова из Осколкова. Он сроду не имел батраков, наследовал хозяйство от своего отца, никогда не знавшего отдыха от работы по хозяйству и в поле. А чтобы семейные не разленились, зимой гонял ямщину с товарами из Барнаула до предгорий, куда переселил взрослого сына. Это была старинная сибирская семья, патриархальная и православная. Увезли Трифона Алексеевича с семьей с четырьмя ребятишками в Красный Яр, за Томск… Обчистили донага, забрали все нажитое за то, что жил «крепко», хотя мясо дозволялось только в праздники…
Захаров засевал 50–60 гектаров земли, сдавал хлеб и царю, и Советской, власти. С братом на пару имел молотильный агрегат. 10 лошадей, 10 коров, 50 овец. Для гор это середнячок. Вот я был в Катон-Карагае, там бедняк имел по 10 коров и лошадей, 100 овец. Середняк там имел 20–30 коров, ульев сотню, лошадей 20–30–40. А уж богач имел косяки. Что это такое? Считать он умел только до 100. В ущелье между камней загоняет лошадей и делает черту. Через два-три года снова загоняет, смотрит, сколько прибавилось — одна или две сотни. Лошадей поставляли и в Москву, и в царский двор. Староверы они, не курили, пили не водку, а медовуху. Мёда было столько, что не знали, куда девать.
Всё лето от Бийска по Чуйскому тракту переселяли день и ночь раскулаченных, везли их по две-три подводы в ряд. Мы, ребятня, бегали смотреть… А зрительная память у меня абсолютная, я и сейчас могу нарисовать, как сидели эти люди, что на них было… Ходили мы на паромную переправу. Здесь сутками напролет кособокий желтый буксир «Анатолий» тянул баржу к центру города, и снова за спецпереселенцами. Тянулись повозки с несчастными, стекаясь к переправе с предгорий и от гор Алтайских. Семьями, от мала до велика. Чтобы передать буханку хлеба несчастным, надо было подкрасться к повозке, чтобы не заметил конный конвойный огэпэушник. Такую ватажку я сколотил, нам было жалко несчастных. И я, научившись многому из книг, особенно о Шерлоке Холмсе, был с ребятами неуловим!
У меня есть список, в ФСБ получил, по родному селу Осколкову. 600 дворов, более 100 из них разгромили свои же проходимцы и бездельники, у которых пашни зарастали годами бурьяном. Выселяли даже в соседние волости, но конфискуя все, вплоть до сундуков с добром. Оставляли только то, что надето на себе, чтобы везти «не голяком»…
Притом настоящие кулаки — «жилы» — или сбежали в города, кто в Новосибирск, кто в Барнаул, или были расстреляны еще до 1924 года. Приезжали партизаны, находили белого или того, кто выдавал. А в деревне не скроешься, все знают друг друга ужасно. Выдавал? Расстреливал наших? И без суда ставили к стенке.
После того как тысячи середняков были высланы в дальние края, в 1930 году в губернии начался голод. Все рассыпалось. Ввели продкарточки. Чтобы получить краюху черного хлеба, твердого как кирпич, непонятного цвета, надо было мне, как старшему из ребят в доме, занимать очередь с вечера, и то с номером, написанным мелом на спине — за двести, триста! Там и ночую, отлучусь на час-полтора, утром прибегу и получу хлеб. Самый хлебный и богатый продовольствием Бийск стал полунищим! А ведь только живой воды не было на рынках, в магазинах. Подвоз из сел продовольственных товаров прекратился. Началась бешеная спекуляция… Отца направили власти в село Алтайское поднимать промартель Центросоюза кооператоров. Но он смог только пустить в ход мельницу водоприводную да пристроить новый цех маслобойный по последнему слову техники с гидравликой. Здесь мы немного ожили: были хлеб, растительное масло. Завели несколько десятков кроликов, гусей, кур, корову и поросят. Я занимался кроликами, но есть забитых на мясо не мог. Жаль было веселых зверьков!
В декабре 1930-го умер Лев Герасимович Чоботов, унося с собой тайну поджога помещичьей усадьбы и откровенную неприязнь к «поповщине». Но я у него обнаружил в сундучке приклеенный к крышке изнутри портрет графа Льва Николаевича Толстого. Возможно, дед был когда-то толстовцем. Тогда я этого не понимал, ибо был совершенный атеист, как и мой отец, еще и в Бийске, — председатель-общественник Союза безбожников. Тогда он в спорах «клал набок» всех священнослужителей своими знаниями Библии, Ветхого и Нового Заветов, отмечая несоответствия и разногласия в священных книгах.
Я ещё в Бийске, лет с шести, бегал в церкви и соборы, когда там не было служб. Глазел на иконостасы, лики святых в богатых окладах, любовался всем, что сияло в них. Во мне просыпался художник.
Изучая на местах ход Гражданской войны в Алтайской губернии, читая мемуары своего отца, я убедился: у нас церкви не закрывали коммунисты. Это ложь! Где-то пьяный сторож, смоля цигарку, подпалил деревянную церковку — «коммунисты»! В том же селе Зимине, откуда началось крестьянское восстание против колчаковского режима, охватившее всю губернию и достигнувшее Кузбасса, церковь закрыли сами селяне, ибо местный священник при подавлении восстания передавал карателям списки на активистов восстания и сторонников Советов. Священника расстреляли по суду, ибо по его доносу погибло от карателей 54 человека. В недалеком Романове, где меня крестила матушка (без ведома отца), священник был «свой» — ни за белых, ни за красных, за святой крест! Его и пальцем не тронули, и церковь работала. В том же Бийске единственный пример — местные деятели по недомыслию разобрали по кирпичику высоченную колокольню Троицкого собора, на которую я не раз взбирался, обозревая город с завидной высоты. Устроили здесь городскую пожарную команду. Рядом же Успенский собор — громада по сей день служит, красуясь огромными голубыми куполами в старом центре. До Великой Отечественной войны работал Александровский собор. Надо было печь хлеб — устроили в соборе электропечь. Кто? Сам нечистый не разберется! Архиерейский собор, расположенный возле военного гарнизона, действует и поныне. В заречной части — церковка у кладбища, она и по сей день там.
Где-то в глубинках Горного Алтая церкви закрывались под клубы молодежью, ибо оттуда уехали священники. В Горно-Алтайске церковь, построенная предками русского художника Г. И. Гуркина — моего учителя, работала до 1980-х годов. Тоже из-за пьянства сторожей она сгорела, как и облдрамтеатр. Но ее быстро восстановили, и она служит.
Возможно, в Алтайское отец приехал еще с каким-то заданием, но он ни словом не обмолвился в своих воспоминаниях об этом. К нам на окраину по дороге на село Сараса зачастил руководитель уголовного розыска районной милиции Болотов. Сильный, статный и очень добрый к нам, мальцам, человек (о нем есть публикация в сборнике очерков на тему о борьбе с бандитизмом на Алтае).
В 1930 году в Горном Алтае начались крестьянские мятежи против чудовищной коллективизации и высылки в северные края лучших хлеборобов-тружеников, уважаемых на селе людей. Этим изуверством ведал НКВД, зачастую принуждая к пособничеству трусливых или алчных до чужого добра мужиков. Постановляли на сборищах и высылали без имущества и скота, а Барнаульская партийная краевая организация помалкивала, ибо один глас в защиту кого-либо из намеченных на выселение, даже в соседнее село, стоил головы такому смельчаку! Все, кто выступил против, исчезли. У меня есть их списки. Командира лучшего партизанского полка, в Первую мировую он был фельдфебелем, три Георгия получил, расстреляли по навету своих же однополчан… Итак, 1930 год, лето. В горах бывшие партизаны подняли вооруженные мятежи. Болотов мотался по району со своими помощниками, но мятежники были неуловимы. Они заворачивали обозы с «выселенцами», отправляя их по домам. Если охрана сопротивлялась — пуля! Не лезь куда не надо! Болотов однажды исчез. Мы с отцом с шестами ходили по речке Сарасе до одноименного села вверх, проверяя каждый омут в поисках тела Болотова, явно убитого мятежниками.
Как-то идем вверх по тихой речушке логом меж невысоких гор. Вдруг отец толкнул меня в кусты и сам за мной. Впереди поперек лога со склона на склон спускалась банда мятежников на лошадях и с… красным знаменем. Знамя колыхнулось по ветру, и я читаю: «За власть Советов, без большевиков!»
Настоящая война шла в горах. Красная армия долго не могла погасить мятежи. Бывших красных партизан призывали выступить добровольцами «против кулацких банд»! Так партизаны скрестили свое оружие с бывшими соратниками по борьбе против колчаковщины!
Однажды мы, мальчишки, стремглав бежим к тракту, проходящему у подножия горы Шиш. Везли, как мы поняли по хвостовому оперению, торчавшему из кузова одной из машин, дюралевый самолет-биплан. Мне он был знаком. «Сибревком» — осталось название на искореженном фюзеляже. Самолет сбили мятежники в горах. На нем в 1927 году мой отец, выиграв по лотерейному билету Осоавиахима полет над городом, прокатился и был страшно доволен видом города и окрестностей с такой высоты! Тогда я «добегал» за пятый класс, до школы — километра четыре. Туда и обратно — восемь. И все бегом, вприпрыжку: и здорово, и радостно, и воздух божественный! А дома — хорошее питание, особенно свиное соленое сало, которое я ел досыта! Эти пробежки дали мне возможность потом пробегать за один дух до 10 километров. Здоровья — некуда девать! Это и спасало потом на фронте, в окопах…
Болотова нашли весной 1931-го под копной сена, убитым зверски. В банду ушел младший брат старика мельника Улеева, который ругал того: извечный батрак, а пошел на такое! Вот тебе и политика! Отца вызвали в Бийск. Оттуда попутчик передал записку на мое имя: «Револьвер с припечки передай Кузьмину, и немедля…»
И отца долго зачем-то держали в Бийске…
Потом он появился, и мы тотчас отправились на своей серой лошади битюжного вида «кибиткой кочевой» в Бийск. С родителями, кроме меня, две сестрички: Наташа и Роза.
В Бийске мы прожили до сентября 1932 года. Отец смонтировал довольно сложный агрегат — просорушку. Это мельница, очищающая просо от шелухи и перерабатывающая его в пшено. От начальственных постов, как я помню, Иван Львович наотрез отказался, хотя знал бухгалтерию, как талантливый математик, в совершенстве.
Помню, как горели склады Совмонтувторга и Торгсина в старом центре города. Стояла страшная жара и сушь. Выгорал большой квартал складских помещений. На глазах у ошалевших жителей исчезали в пламени отрезы тканей, да каких: шелка, газа, бархата. Люди бросались в огонь, чтобы спасти хоть отрез бархата или вельвета, но их милиция отгоняла, а пожарников не хватало! Будто собаки на сене! Гасили пожар в течение недели. Началась распродажа обгоревших, потерявших товарный вид остатков. Мы, подростки, бросились в палатку, где продавали на вес вроссыпь, без пачек, папиросы. Помятые, но много годных, отдавали их нам по бросовым копейкам. И что странно: в Бийске работала табачная фабрика имени Розы Люксембург, но табака не хватало, той же махорки и особенно папирос.
Берём по мешку таких папирос, сортируем, кладём на лоток через плечо и вечерами идём к кинотеатру, дому крестьянина, к вокзалу. Продаём, понятно, целые папиросы: «Аллегро», «Красное Знамя», «Эсмеральда», «Пушки», «Северная Пальмира» и т. д., коих горожане и в глаза не видывали. Товар наш — нарасхват. Тогда я заработал на сласти, кино и тому подобное неплохо. Отложил денег до 100 рублей в стол в комнате.
Затем зарабатывали другим способом. Извозчиков тоже не хватало. Мы, ребятня, с двухколёсными тележками, собранными невесть из чего, от пассажирских вагонов развозили по городу чемоданы, мешки и т. д. за определенную плату. И снова в моем столе в укромном уголке прибавилась энная сумма…
Однажды к нашей компании, собиравшейся за забором-штакетником, из-за которого виднелась железнодорожная станция, примостились красиво одетые молодые люди и с ними один мой сверстник. Одет — куда мне! С шиком.
Взрослые куда-то уходили, а мы среди нескольких чемоданов проводили в разговорах время. И вдруг узнаю, что эта шайка ворует чемоданы у пассажиров. В вечерней сутолоке при выходе из вагонов они предлагали свои услуги помочь донести груз до извозчика. Потом ловко подменяли чемоданы с вещами на пустые с кирпичом! Мне была интересна такая «романтика» после книг Конан Дойла… Кстати говоря, и в наши дни на том вокзале будь начеку — воруют!
Отец начал о чём-то догадываться. Что за люди со мной? Однажды двоих из них арестовали и водворили в вагон-застенок на вокзале. Мой сверстник со всем добром исчез. Отец сделал у меня обыск. Обнаружил 100 рублей — это по ценам тех лет была приличная сумма. Откуда деньги? Отец чуть не изорвал их, но матушка вырвала купюры у отца и заявила: «Мой сын не вор. Ты ничего о семье не знаешь! Он трудом заработал это!» Вердикт матушки был законом в семье.
Из этого пригорода — Казанки, где обитало ворье, мы уехали своим транспортом в Улалу (затем этот город назывался Ойрот-Тура, ныне Горно-Алтайск). «На укрепление национальных окраин», как гласила директива ЦК ВКП(б) (с 1922 года была образована Ойротская автономная область, в 1948-м её переименовали в Горно-Алтайскую).
Отец стал директором Государственного областного строительного банка. Я поступил в седьмой класс, ибо просидел в шестом два года: помешали переезды и книгочейство.
Запомнив многое о странах света по приключенческим книгам, я не имел равных в школе по географии, ботанике, зоологии, истории, литературе. Поэтому нет-нет да и пропускал уроки, особенно по математике и физике.
Собираюсь в школу, беру очередной том Жюля Верна или Конан Дойла и «ухожу в Южную Америку в Амазонскую сельву», то есть в лес, в горы. Еще в Бийске стал выписывать журналы «Вокруг света» и «Всемирный следопыт». Учеба, за исключением гуманитарных предметов, меня мало интересовала. По указанным выше предметам я был первый в школе.
Рисование не оставлял, и все на военные темы. Я начал думать в девятом классе: идти в военное училище или стать художником? Уезжать на учебу — нужны средства, а их нет. Отец работал директором Стройбанка, не пил, но зарплаты его хватало нам только на самое необходимое. Мать вела хозяйство, я и две сестры вкалывали по хозяйству. Жили хорошо только благодаря физическому труду. Держали лошадь, корову.
Десятилетки в Горно-Алтайске не было. В техникум и педучилище я не хотел идти. И тут как раз — появилась у нас художественная школа, филиал Пензенского училища. Организовал школу Григорий Иванович Гуркин, старый художник, ученик великого И. И. Шишкина. В 1934 году я поступил (был принят единогласно) в новую художественную школу. Из 50–60 человек зачислили 15–16. Учились мы три года без перерыва на летние каникулы — за курс среднего художественного училища. И все в стиле строгого реализма. Вот тут мне пригодилось знание русских классиков, когда исполнялись задания по иллюстрации книг в графике, рисунках. Я вошел в пятерку лучших в своем наборе по живописи, композиции, иллюстрациям и т. д., за что нам, этой пятерке, выдавалась повышенная стипендия в 60 рублей (против 35 в педучилище, где мы были прикреплены на «кошт»). Талантливые были ребята мои однокашники: Леонид Богданов — блестящий портретист с натуры; Александр Пьянов — автор изумительных композиций в графике; Родион Александров — отличный рисовальщик с натуры; Михаил Белоносов — пейзажист… Вел наш курс Алексей Алексеевич Луппов — ученик К.С. Петрова-Водкина. Руководил школой Евгений Григорьевич Дулебов — хороший портретист. Мы не знали выходных дней, летних каникул. Задания на дом — этюды, натура. Летом уходили в горы с этюдниками и рюкзаками. Это был тяжкий труд. Из 30 принятых с начала 1933 года к июлю 1937-го отсеялась половина — не выдержали.
Я предпочитал пейзажи. На природе я вырос. Какие виды в Горном Алтае — многим известно. Зайдёшь на гору — видны Бабурган, Чептоган. Ходили с этюдниками пешком, человек десять, на Телецкое озеро. Гуркин пишет этюд, ты сиди позади, тоже пиши, смотри, как он работает. У нас был только реализм, никакой абстракции, модерна.
В 1937 году, после трех лет учебы, получил я свидетельство об окончании школы с правом преподавать в средних школах и техникумах, иллюстрировать книги. Работал поначалу заведующим клубом в селе Элекмонар и художником. Получал зарплату за себя, сторожа и техничку в Чемальском доме отдыха ВЦИК СССР, которым заведовала ссыльная жена «всесоюзного старосты» М.И. Калинина, Екатерина Ивановна, с которой мы не раз, при подписи чеков, беседовали на литературные темы. Это была прекрасная, жизнерадостная (возможно, старавшаяся скрыть свою трагедию) элегантная женщина. Потом, как говорили в области, она исчезла в ГУЛАГе навсегда… В 1935 году в Горно-Алтайск пожаловал сам Михаил Иванович. Мы, ребята, забрались на крышу облисполкома и с верхотуры глазели на него, садящегося в эмку. На прощание он помахал провожающим чинам своей шапкой — каракулевым пирожком…
Надо сказать, жизнь оставалась трудноватой. Чтобы купить себе красивую рубашку, шелковую майку, мы, школяры, с седьмого класса летом подряжались пилить дрова на почте, в облсберкассе, других мелких учреждениях, располагавшихся в деревянных старых домах, откуда уехали «богатеи». Такая команда одноклассников была и у меня — Василий Беспалов (умер в 1988 году), Виктор Голомазов (убит на фронте в Отечественную) и я дружно трудились с пилой и колунами. Потом нас подучили и подрядили тянуть по городу радиолинии. Лазили по столбам на «когтях». Получив денежки, бежали в промтоварный универмаг, оставшийся от купца. Дают шелковые майки с коротким рукавом! Народу — тьма! Снимаем с себя рубашки и по пояс голые ныряем в толпу. С заветного прилавка хватаем, что надо нам купить, и — к кассе под крики: «Воры, держите их!» Но все обходилось. К тому же мы были парни довольно-таки физически сильные. Летом работали на строительстве новой почты, сберкассы, большого магазина. Поднимали наверх носилками кирпич, цемент и т. д.
Пристрастились к занятиям спортом. Работали на брусьях, турнике, разгонялись по кругу на «гиганте», играли в городки… Успевал я и дома по весне: 12 соток огорода будто плугом вспахивал за пару дней, а уж потом матушка со старшей дочкой Наташей сажали что надо. Но и я имел «свои» грядки: сажал табак, который по осени срезал, сушил, складывал и сдавал в потребкооперацию. Зарабатывал на костюмчишко, хоть и полушерстяной, но приличный. В девятом классе у меня была сила — некуда девать. Сказались здоровое детство и отрочество: днями гоняли по горам, жевали до оскомины корни солодки, кандык, слизун, ягоды дикой малины, смородины, которые ведрами приносили домой.
Идём со школы вечером. На мосту через речку Майму останавливаюсь. Говорю своим друзьям Беспалову и Голомазову: «Только не ниже живота, бей во всю силу!» И они начинали меня дубасить по плечам, по груди, в живот. Тело пружинило и наливалось силой. Своего рода русский кулачный бой.
Но вот повзрослели. Моих дружков Ваську и Витьку в художественную школу не приняли — нет и близко способностей к искусству! Витька поступил в педучилище, третье среднее учебное заведение в городе (еще были зооветтехникум, фельдшерско-акушерская школа и вечерний рабфак для взрослых).
На третий год учёбы мы, пятерка лучших, участвовали в московских художественных выставках, откуда получали некоторые суммы за проданные работы. Это было весьма престижно.
Дружил я с беднейшими ребятами, но умными, или из интеллигентных семей, но простыми в общении, как сам я. Так подружились мы с Игорем и Олегом Кабальеро — испанцами, их отца сослали на Алтай. Отец, лет сорока пяти, работал директором Госбанка. Он не раз выезжал с нами в лес, в деревушку староверов Сиульту. У костра, жаря на палочках пойманных хариусов, исполнял арии из опер и по-русски, и по-испански, да так, что позавидовать мог бы иной профессионал. Я дружил с мачехой Игоря и Олега, она была лет на двадцать моложе мужа. Это была красавица-испанка из дворянской семьи. Она прекрасно рисовала.
Надвигалась страшная пора репрессий… В 1938 году семья Кабальеро исчезла. Я потерял прекрасных друзей. Отец их застрелился, мачеха уехала в Испанию. Ребята навсегда уехали из города.
Надо сказать, что в середине 1930-х годов в Ойрот-Туре (Горно-Алтайске) проживало много ссыльных интеллигентных семей разной национальности — поляков, словаков и чехов, австрийцев. Были и русские из дворянских фамилий. Человек пятьдесят корейцев организовались в овощеводческую артель. Это был расцвет города и области. Вечером — будто на Невском проспекте, красивые люди в красивой одежде. Руководящие должности в госучреждениях занимали они. Правда, нас, местных, эти приезжие, как правило, сторонились. О себе не говорили. Это было смерти подобно, как мы поняли потом…
…В восемнадцать лет мне очень нравилась Анна Малетина, с сестрой которой мы сидели за одной партой. Анна училась в педучилище. Написал ей записку с объяснением. Передали: «Анна посмеялась над твоим посланием». Это меня обидело до сердца. Пройдет время, я уже художник облдрамтеатра. Сижу читаю книжку при входе в городской сад, позади театра. Мимо моей скамьи проходят две молоденькие учительницы, приехавшие из района. Одна из них, Анна Малетина, приостановилась, такая небольшая, стройненькая, черноглазая, симпатичная, прощебетала: «Здравствуй, Миша». Но Миша привстал, хмуро глянул на нее, кивнул и молча сел на лавку, углубившись в чтение, держа книгу вверх ногами. Больше я Анну не встречал. И потерял навсегда, о чем сожалел и даже страдал. Потом познакомился с одноклассницей моей сестры Наташки Аллой Мороховой — высокой, белокурой, с черными, как сливы, красивыми глазами, прекрасным лицом. Ее отец был адыгеец, мать — белоруска. Алла (на самом деле Анастасия) стала частой гостьей в нашей семье. Дружили, не более. У нас не хватило времени соединиться навсегда: я уезжал в Пензу в художественное училище, чтобы экстерном сдать экзамены за весь курс. Когда возвращался домой, мы разминулись по дороге из Горно-Алтайска на Бийск с семьей Аллы, которая уезжала в то тяжёлое время от греха подальше в свой Майкоп. Сутки Алла сидела у нас и заливалась слезами. Но, увы! Мы с Аллой переписывались до начала войны, потом я потерял её адрес…
В Пензу мы выезжали, как я считаю, напрасно. Наc, пятерку лучших из Горно-Алтайска, зачислили на третий курс. С осени до весны мы работали над тем, что прошли ещё у себя на Алтае, и ничего никого! Если ты талант — не повторяйся в учёбе, а занимайся творчеством. Так в 1938 году, весной, мы возвратились в свой город, создали товарищество художников. Я отправился в Элекмонар, как было сказано выше. Помню, как мы собрались на курсе в ожидании нашего директора Е. Г. Дулебова, чтобы получить дипломы. Он все не появлялся. Пришла заплаканная его жена, Ольга Ивановна, преподававшая у нас литературу и русский язык. Сообщила ужасное: «Ночью приехали энкавэдэшники и увезли Евгения Григорьевича!» Как?! За что?! Это был святой человек, голубь. Интеллигент от рождения. Он отдавал ученикам душу свою.
Мы наскоро сфотографировались с Алексеем Алексеевичем Лупповым, он уже стал за директора, своей «обоймой»: Сашка Пьянов, Родя Александров, Миша Белоносов, Ленька Богданов и я. Это было будущее в искусстве Горного Алтая, плеяда художников, преданных искусству на всю жизнь. Их никого уже нет. Только я среди них сиротой…
Белоносов умер в начале 1980-х годов в Барнауле, был он профессиональным художником. Остальные, кроме меня и Луппова (у него не было левой руки), погибли на разных фронтах. Погибли и другие таланты в этой страшной бойне, исчезли лучшие — цвет нации…
Недалеко от Элекмонара, где я работал в клубе — в селе Анос, арестовали нашего учителя Григория Ивановича Гуркина. Его картины и материалы были свалены в кладовых этого клуба. Незаконченные холсты с пейзажами. Не меньше центнера масляных художественных красок: французских, индийских, да каких! Белила — лучшие в России, досекинские. Чистые грунтованные холсты, московские или ленинградские. Надо было спасать всё это, ибо было объявлено: все работы Гуркина и его сына Геннадия, в 1937 году расстрелянных в Барнауле (как сообщили мне письменно в 1990-е годы из Барнаульского КГБ), снять. А эти работы заполняли Горно-Алтайский музей, с них мы делали копии. Всего по Сибири было до 5000 работ. И все поснимали… Тогда я вывез верным друзьям до «лучших времён» все работы учителя, что остались дома после ареста. Краски раздал своим ребятам — пусть пишут доброе и прекрасное. Ведь от качества красок во многом зависит качество произведений. А какие были кисти — сказка!
Репрессии шли полным ходом. Арестовали директора педучилища Дубасова. За ним друга нашей семьи еще по Бийску агронома Петра Александровича Матусевича, святой простоты человека, о таких говорят — и мухи не обидит. Заливалась слезами его жена Мария Казимировна. С того времени началось что-то невообразимое в городе. Люди начали по ночам исчезать… Подвалы НКВД, где правил майор Жигунов, были полны арестованных, которые вскоре «испарялись». Женам, добивавшимся свидания с мужьями, объявляли: «Разберутся, разрешат…» Но не «разобрались и не разрешили». «Свидания» начались в 1950-х годах, когда за городом, далеко от восточной окраины, начали строить цех для гардинной и мебельной фабрик. Бульдозеры вырыли из земли более полутора тысяч скелетов с пробитыми пулями черепами!!!
В 1997 году горно-алтайская газета «Звезда Алтая» в трёх номерах опубликовала фамилии расстрелянных местным НКВД жителей области и города, почти всех репрессированных — 1700 душ! За 1937, 1938, 1939 годы и единицы — за последующие, когда расстреляли и самого палача Жигунова. Его помощник-сержант застрелился. «Собакам — собачья смерть!» — говорили в городе.
Всю интеллигенцию, руководителей госучреждений, ликвидировали подчистую! Больше «выдергивали» из сел Элекмонарского района: замечены в «связях с Екатериной Калининой» или Г. Гуркиным — следовал мутной воды поклеп! Читаешь страшный список и ума не приложить: как можно умудриться расстреливать людей по 10, 50, а иногда и за 100 человек, успеть закопать подле города и чтобы все это было незаметно! Ведь мы ходили в эти места на этюды и ничего не видели…
Город опустел. Одичал. Люди боялись друг друга. Репрессировали всех подряд: интеллигенцию, рабочих, колхозников, мещан, больше всего — ссыльных. Исчезла с лица земли вся артель корейцев; в списке убитых читаю: десять Кимов, в том числе председатель, расстреляны тогда-то, во столько-то часов и минут ночи. Машина смерти! Пускали «в распыл» семьями: мужа, жену и сына! Погибло 12 женщин.
Были у меня подозрения. В конце улицы Социалистической — главной, где поворот вправо с начала Алферовской, нашей, — стоял у моста в бараках кавалерийский дивизион милиции. Все — необычно нелюдимы. Форма с темно-синими петлицами. Этих «кавалеристов» никто не знал. Вход — закрыт. За ним — лошади, люди с винтовками. Это место я старался пройти побыстрей!.. Расстреливать людей могли только эти люди, точнее — нелюди…
Вот с такими настроениями я уезжал побыстрей в армию. Отца моего друга Виктора Голомазова тоже расстреляли. О чем он не говорил ни слова, иначе — сам туда же!
Поступил на работу художником-оформителем в облдрамтеатр, в русскую труппу. Помнится мой «дебют» — постановка трагедии М. Ю. Лермонтова «Маскарад». Вот тут-то мне помогло полное собрание его сочинений с иллюстрациями. Спектакль прошел с большим успехом и долго не сходил со сцены. Ставил режиссер-ленинградец Волохов. Это была труппа выпускников Ленинградского театрального института (или училища), направленных на «укрепление культуры национальных окраин страны».
Ещё один штрих той эпохи. В феврале 1937-го по всей стране широко отмечался день гибели А.С. Пушкина — СТОЛЕТИЕ. Мы помпезно оформили двухэтажное здание педагогического училища, к которому была прикреплена по общеобразовательным дисциплинам и денежной стипендии наша школа.
Иллюстрации произведений поэта во все стены на оберточной, жесткой бумаге гуашью, клеевыми красками написали: по сказкам — Леонид Богданов; «Полтава» — Александр Пьянов. Я оформил внизу в большом классе «Бахчисарайский фонтан», там выступали девушки из училища в бутафорских пышных нарядах. Родион Александров и Михаил Белоносов рисовали сцены из «Медного всадника», из «Дубровского»… Всем ведал незаменимый, талантливейший художник Алексей Алексеевич Луппов, кстати говоря, брат танкиста — Героя Советского Союза.
Вот они на фото передо мной, мои любимые и близкие друзья-товарищи, незабываемые А. Пьянов, А. Дерябин, Л. Богданов, В. Заморев, М. Белоносов, Р. Александров и в центре он, наш Учитель…
В то же время я усиленно занимался двухпудовыми гирями. Рост мой — 179 сантиметров, вес тогда был более 95 килограммов, сплошные мускулы. Правой рукой с плеча, не кладя на пол, поднимал двухпудовик до 60 раз, будто футбольный мяч, левой — 30. И всякие вольты гирями, без натуги… Такая сила нам была нужна. В городе шатались вечерами полупьяные хулиганистые пакостники. Нападали на девчат. Дебоширили на танцах в городском саду под духовой оркестр. В летних ресторанах-палатках избивали русских парней, нападая десять на одного.
Иду однажды домой с танцев. Жили мы на окраине в Лисавенковском логу (тогда Татанаковском). Вижу, бьют одного паренька. Снимаю пиджак, брюки, вешаю их на забор, остаюсь в одних трусах и майке. Останавливаю драку. Четверо или пятеро бросаются на меня. Принимаю позу глухой защиты. Бьют по спине, груди, по плечам, но голову не достают. А мне только смешно и приятно. Поддаю толчком тыльной части ладони одному так, что тот летит с тротуара. Еще одного укладываю другим приемом. Третьего бью несколько раз, он бросается наутек. Последнего загоняю под деревянный тротуар, не бью, просто прошу: «Лезь, или пришибу до смерти!»
Парня выручил. Это оказался мой друг, безобидный как овца, Костя Новоселов, из интеллигентной семьи. Он станцевал с девушкой, которая понравилась этим хулиганам.
Однажды, тоже за девушку, что «станцевал», меня в саду колошматили десять лбов. Уходил от ударов в глухую защиту. Сдачи не давал — могут кольнуть ножом! Потом я их переловил по одному и избил за подлость так, что один из них подавал на меня в суд, но обошлось. И что примечательно: все эти «башибузуки» были намного старше меня.
Если же мне приходилось идти домой поздно из театра, где надо было иногда подменять кого-либо из актеров, внезапно отсутствующих, то меня сопровождал верный товарищ Козлов Василий Иванович. Неимоверной силы — меня подминал в борьбе.
Глава 4 Военная косточка
2 февраля 1939 года мы, художники, сидели в ресторане и обедали. Вдруг появился начальник третьего отделения облвоенкомата, усатый командир, и ко мне: «Сукнев, ты до особого распоряжения был. Не хватает одного новобранца в кавалерию. Команду отправляем сегодня! Поедешь?» Я согласился. Хотя мечтал о другом — об авиации, хотел быть летчиком. Но у меня был серьезный физический недостаток: в детстве, еще сосунком у материнской груди, меня белогвардеец капитан Серебренников, в селе Осколкове, вырвал из рук бабушки и бросил с силой на русскую печь. От удара головой о стенку у меня повело левый глаз, и я стал им косить. За что страдал, когда меня обзывали в детстве в школе пакостники, которых, впрочем, я за то лупцевал нещадно. Эта травма повлияла, вероятно, и на весь мой характер — вспыльчивый и обидчивый, хотя и скоро отходивший.
В четырнадцать лет в Горно-Алтайске местные врачи сделали мне операцию, но без необходимых инструментов и приборов. Левый глаз остался чуть скошенным внутрь. Это сделало неосуществимым мое желание быть летчиком. А тогда плакаты так призывали молодежь в авиацию, на планеры и самолёты!..
…На лёгких санках мы подъехали к нашему дому, где никого из родных не оказалось. Открыл замок. Сбросил выходную одежду, надел на себя старье. И был готов… По прибытии к военкомату нас тотчас посадили на грузовик, крытый брезентом, и повезли; я сидел у заднего борта и увидел свою матушку, идущую из магазина, помахал ей рукой. Видела она или нет, не знаю. Но я исчез из дома на девять лет!
На врачебной комиссии доктор Шпицин, когда мы разделись до трусов, подозвал ко мне девчат-медичек, воскликнул восхищенно:
— Девушки, где ваши глаза были! Это же настоящий русский богатырь! — Доктор постучал с глухим звуком в мою грудь кулаком.
Я был весь обвит мускулами, будто резиновыми жгутами. Сильные были и мать, и отец, без всяких вредных привычек. Отец только курил трубку не затягиваясь, и то начал на фронте Первой мировой, в двадцать шесть лет. Я увлекался еще и велосипедом, до Бийска по Чуйскому тракту «фугую» 100 километров, только пыль сзади. Машин не было.
До Бийска доехали к вечеру. Поздно. Но нас быстро погрузили в вагоны-теплушки воинского маршрута.
Все мы, призывники, были будто на подбор: рослые, сильные, крепкие и грамотные, меньше семи классов образования ни у кого не было. Среди нас и двое учителей-добровольцев. Они, чтобы попасть в кавалерию, пришли к военкому-капитану с верёвками в руках. Объявили: «Если не возьмёте в эту команду, то мы повесимся тут же!» Ультиматум был принят, и вот они едут рядом со мной: Ромка Плешков, впоследствии — заводила-взводный, и его дружок Васька Фролов — Василий Яковлевич. Оба родом из села Усть-Кан Ойротской области.
Никто из нас не судим, не хулиган, не вор, все с чистой совестью. Таких брали в первую очередь во флот, в кавалерию, в танковые и летные части. Ещё когда я учился в Пензе в 1937–1938 годах, ко мне приходили мои дружки по Горно-Алтайску во главе с Костей Липовцевым, красавцем парнем. Они были в длиннополых шинелях, с шашками, при шпорах, в буденовках с синими звездами. Звали меня идти в кавалерийское училище к ним. Они даже договорились с начальником училища принять меня без экзаменов! Подумав, я отказался, о чем позднее жестоко сожалел: училище преобразовали в танковое! А Липовцев выжил в войну, стал полковником и военкомом в Барнауле.
…Бийск. Здесь все улицы и переулки мне знакомы до последнего домика! Как рассказывал, был я здесь и за «рикшу», а до этого бегал по городу сломя голову, находя интересные здания, храмы и так просто, из любопытства, — видеть людей. Впечатлений осталось на добрую повесть… В Бийске к нам добавилось еще призывников на пять товарных вагонов-теплушек. Под Барнаулом, на станции Алтайская, прицепили еще шесть вагонов с призывниками. В Новосибирске еще — на весь воинский маршрут. Подметил, что повторяю маршрут своего отца в 1913 году — направление на Владивосток, на Русский остров…
Спустя неделю утром мы обнаружили, что находимся на станции Шилка. Город Сретенск — место ссылки дворянских семей… Перед вагонами стоят командиры в коротких шинелях с алыми петлицами — пехота! «Мы в кавалерию! Не выйдем из вагонов!» — поднялся ропот. Но плетью обуха не перешибить. Уговариваю своих: идем в стрелковую часть, в полковую школу, а там — зеленая улица в высший командный состав. Кто-то засмеялся, кто-то принял это за истину. И мы вразнобой пошагали по льду Шилки на ту сторону реки в гарнизон — городок 833-го запасного стрелкового полка Забайкальского военного округа.
Перед казармами нас выстроили, объявили: «Кто в полковую школу в пулеметную роту, два шага вперед!» «Ребята, давай всем гамузом!» — крикнул я своим землякам, а их было точно на взвод, 40 человек. И мы сделали свой роковой шаг: теперь нам служить не два, а три года командирами отделений.
Итак, мы в полковой школе младших командиров. Если ты — среди лучших по боевой подготовке, то станешь помкомвзвода или даже старшиной роты. Заманчиво! Вот так были настроены тогда призывники… Здесь же происходил «естественный отбор» кандидатов на учебу в военных училищах. Если выдержишь эту бешеную гонку, понравится, войдешь в «строку военной жизни», — будешь отличным командиром. Но не все это выдерживали и оставались в армии только до истечения срока срочной службы. Три года — и домой!
Восемь месяцев служба шла в усиленном темпе! Подъем в семь часов. Зарядка на плацу, даже если мороз за сорок градусов, в одних гимнастерках, бегом. Впереди — комвзвода, далее ротный и наш батальонный командир Королёв… Умывание. Строй. В столовую, а потом из нее идем только строевым шагом «руби ногой»! По пути за строем наблюдает начальство. Учеба — знание назубок уставов: БУП — боевой устав пехоты, СУП — строевой, УВС — внутренней службы. Всё только на отлично.
Стрелковые тренажи, баллистика. Составная часть строевой подготовки: подход к «комполка», «роты» по уставу, четко, с подчеркнутой уверенностью. Через неделю мы все потеряли голоса — хрипели! Но потом голос уже становится настоящий командирский. Кто не приобрел таковой — переводились в хозяйственные, интендантские подразделения, по выбору.
Боевая подготовка. Преодоление штурмовой полосы: ползком по-пластунски, бегом по буму, преодоление траншей или эскарпов, бросок на врага — прокол чучела штыком. Броски гранат на дальность и в цель. Прошло два месяца, и мы уже стояли на постах по объектам с боевыми винтовками, всё по уставу.
Строевая — всегда с песнями. Я — правофланговый ведущий строя взвода, роты. Мой рост 179 сантиметров — эталон ведущих строй хоть дивизии на парадах. Рядом со мной, на полголовы выше, Вася Фролов. Он сейчас несчастен. Жена изменила, вышла за другого. Но парень держится. Его уважает сам комбат Королев за то, что на турнике Василий «делает курбет» — переворот и встает на ноги.
На турнике, брусьях, «кобыле» (коне) первым идет Фролов, вторым я, остальные за нами. Последним казах Алагызов, «мешок с песком». Но ему помогают товарищи. Слабоват Никулин Иван Макарович, именуемый так самим старшиной роты, строгим, настоящим строевиком. Никулин стал после войны полковником.
Часто у нас проводились ночные подъёмы по тревоге. Время было напряжённое: за Аргунью и в тайге бродили хунхузы. Уходим в темноту с заряженными боевыми винтовками, РПД и «Максимами», которыми вооружён наш взвод.
Рядом со мной и Фроловым в строю высокий белобрысый Николай Филатов. В 1942 году он стал комбатом в 299-м полку нашей 225-й дивизии, командиром дивизионной разведки. Потом я его потерял из виду: видно, уехал на учебу в академию. За Филатовым — здоровенный, неуклюжий с виду Ивлев.
Четыре отделения — пулемётный взвод. Помкомвзвода — старший сержант Стригин (после войны стал лейтенантом КГБ в Казахской ССР, где я с ним встречался). Взводный — младший лейтенант Соколов, непревзойденный мастер штыкового боя и русского кулачного боя, по натуре славнецкий командир, выслужившийся со времен Гражданской войны от рядового.
На боевых стрельбах первенство, без хвастовства, было за мной. Стал я своего рода палочкой-выручалочкой полковой школы. Все отстреляются, а две-три мишени еще торчат, а тут наблюдатели — идет соревнование по стрельбе в полку. Кто последний, того — на разнос к комполка полковнику Новикову. В тот день из «Максима» отстрелялись мы ничего. А вот из винтовок и РПД — туговато, еще нет навыка. Ложусь за ручной пулемет Дегтярева. Ребята тайком суют мне оставшиеся боевые патроны. Заряжаю, выстрел — мишень сникла. Второй — другая. И третий — тоже в цель!
Василий Яковлевич Фролов приходил не так давно ко мне домой в Новосибирске, вспоминали свою службу начиная с полковой школы… Фролов потом стал старшиной в отдельном погранбатальоне на станции Отпор, где и прослужил всю войну. Он, который уже раз, удивлялся: за все восемь месяцев я не послал «за молоком» в мишени ни одной пули из РПД! «Какие в тебе силы были, так стрелять можно только в сказке!» Причём из винтовки, из «Максима» я особо не отличался, а вот из РПД — сам удивлялся: не было мне равных по всему Забайкальскому военному округу в армейских соревнованиях по стрельбам! Целишься и воображаешь прямую линию, точно ее наводишь, будто кто-то тебе специально протянул нитку. За все восемь месяцев учебы я ни разу не промахнулся. Ни разу! И на 200, и на 300, и на 500 метров, мишени и беговые, и поясные, и в рост.
Дисциплина. Все по строевому уставу — от корки до корки, исполнение буквальное. Рядовой перед командиром отделения стоял навытяжку. Тот — перед помкомвзвода тоже. Старшина роты — эталон опрятности, подтянутости, перед ним — все мы по стойке смирно. Даже наш взводный был как-то характером помягче. Если курсант не исполнил что-либо уставное, даже приветствуя, следуют наряды вне очереди, взыскания, вплоть до понижения по службе. А командиры выше батальона, полка и штабные нам недосягаемы. У нас мечта: стать капитанами! Верх гордости!
Мы наблюдали за начштаба полка капитаном Калмыковым. Стройный брюнет. Элегантно-военный вид. В ремнях. В петлицах с золотыми позументами горит капитанская «шпала». На рукавах широкий красный шеврон окаймлен золотистыми шевронами. Гимнастерка сидит как влитая. Не военный, а выставочный экспонат! До введения погон, я считаю, не было лучшей формы, чем в РККА, во всём мире! Мы спали и видели себя КАПИТАНАМИ!..
Нас «выучивали» майор Королев, старший политрук Волошин, лет тридцати, комвзвода Соколов. Строевая подготовка — это буханье ботинками по плацу до изнеможения. Строй за строем, и все в одно дыхание. Морозище трещит! А мы уже на стрелковом тренаже на берегу Шилки с учебными винтовками клацаем затворами, не видя мишеней за туманом из незамерзающей полыньи. Трем уши в своих буденовках, шапок-ушанок еще не было.
Воскресенье. Закончена уборка. Нынче идем в кино в город. Идем ротой строем по городу, расположенному, кажется, на краю света… В зале звучит команда: «Садись!» Сеанс окончился: «Выходи строиться!» И идем в гарнизон. На девчат глядим с вожделением издали, как и они на нас, но не все: особо породистые лицом и статью, из дворянок, выказывают нам одно презрение, бросят слово: «мослы». Это «враги народа», как мы понимали. Нас в город поодиночке не отпускали. Только в наряде. Идем, в окнах видим танцующих в клубе. Передаем винтовки одному, а двое — в клуб: потанцуем, отведем душу и обратно на мороз, не дай бог, на старшину наскочишь! Тогда — строжайшее наказание за оставление наряда вне устава.
Помнятся форсированные марши на 40–50 километров в таёжную глушь в полном боевом. Вещмешок за спиной, на себе — части «Максима», катки, щит и десяток коробок с учебными патронами. Полковая школа — это батальон. Три стрелковых и одна пулеметная рота. Колонной по четыре бежим изо всех сил! Солнце печёт немилосердно. Приходится стальную каску крутить на голове, чтобы охлаждать «солнечную сторону». Боевые охранения: впереди, с полкилометра дистанция, справа и слева, позади — арьергард с санитарными повозками, батальонной кухней и разными сопровождающими. То и дело подаются команды: «Кавалерия слева!» — следует поворот колонны туда. Первые ложатся, клацая затворами, загоняя учебный патрон. Вторая шеренга — с колена уперлась прикладами винтовок оземь, штыки ощетинились. Третья и четвертая — прицел постоянный! «Танки справа!» — и тоже строится соответствующий боевой порядок. «Воздух!» — все врассыпную! «Артобстрел!» — вперед бегом, на что только способен. Выйти из-под обстрела — тоже по уставу.
Привал. Обед. С нами «сам» Королев, травит анекдоты про «медные котелки», про бывалых вояк. Жалуюсь — широкие у меня ноги, ботинки жмут. «Покажи», — говорит. Показываю. Восклицает: «С такими ногами тебя и пнем не собьешь! Молодец!» И к старшине: «Подобрать обувь курсанту Сукневу!» Обедаем вместе с командирами всех рангов у дороги на траве. По-суворовски! Портреты А.В. Суворова и других российских полководцев только выставили тогда в помещениях всех частей РККА.
В таких маршах в глухомань «староверческую» мы искренне уважали своих начальников, начиная с командиров отделений. За весь тот год у нас не было случая, чтобы курсант ослушался командира, нарушил воинскую дисциплину.
Мы гордились: приняли военную присягу. Слова там были такие:[2]
«Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик, вступая в ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии, принимаю присягу и торжественно клянусь быть честным, храбрым, дисциплинированным, бдительным бойцом, строго хранить военную и государственную тайну, беспрекословно выполнять все воинские уставы и приказы командиров, комиссаров и начальников.
Я клянусь добросовестно изучать военное дело, всемерно беречь военное и народное имущество и до последнего дыхания быть преданным своему Народу, своей Советской Родине и Рабоче-Крестьянскому Правительству.
Я всегда готов по приказу Рабоче-Крестьянского Правительства выступить на защиту моей Родины — Союза Советских Социалистических Республик и, как воин Рабоче-Крестьянской Красной Армии, я клянусь защищать ее мужественно, умело, с достоинством и честью, не щадя своей крови и самой жизни для достижения полной победы над врагами.
Если же по злому умыслу я нарушу эту мою торжественную присягу, то пусть меня постигнет суровая кара советского закона, всеобщая ненависть и презрение трудящихся».
Теперь у нас боевое оружие, и тут же в оружейной — боевые патроны и гранаты на случай настоящей боевой тревоги.
За восемь месяцев этой гонки у нас отсеялся один Алагызов — ну не было от природы у парня необходимых данных на командира отделения: ни голоса, ни строевой подготовки. Остальные твердо решили: идти в армию «на всю жизнь»! Дисциплина, готовность идти «в огонь и в воду», снизу до верхов — абсолютные, с лихим апломбом, что ли! Фуражки одеты лихо, чуть набекрень. У нас не сапоги, а ботинки, но начищены до зеркального блеска. Все подтянуты, опрятны. Нельзя забыться ни на минуту. Однажды я сунул руки в карманы галифе, и доброжелательный наш комиссар школы старший политрук Волошин, прервав беседу, тут же приказал: «Курсант Сукнев! Встать! Выньте руки! Ещё раз — обещаю наряд вне очереди!» От неожиданности я резко вскочил и в душе был обижен, но дисциплина в РККА была железной.
На рубеже реки Великой, между Псковом и Островом, когда наши войска занимали здесь оборону в апреле 1944 года, я с командованием полка проезжал на лошадях, чтобы передвинуть полк на другое место, и вдруг заметил нашего… комиссара Волошина. Он был капитаном и комбатом. Я — его ученик — майор… Мы побеседовали минуту-другую и разъехались навсегда.
Начало 1940 года. Нас, выпускников полковой школы в звании сержантов, развозят по всему Забайкальскому военному округу. Меня провожал старший сержант Стригин. Мы посидели в ресторане на станции Шилка, заказали было по 100 граммов водки. Нам подали. Мы, подумав, попросили официантку унести спиртное: старшему сержанту и сержанту не дозволено вообще употреблять горячительное, тем более в ресторанах! Мы — эталон чести, достоинства и моральной чистоты РККА!
Тогда вступил на пост новый нарком обороны СССР маршал С. К. Тимошенко. Всех командиров он заставил «сбавить вес» — бегать по кругу на физзарядках, хоть мороз под минус сорок на дворе, впереди своих подразделений. Тогда можно было сразу отличить по внешнему виду и форме комсостав и интендантство.
Кстати говоря, посмотрите на нынешних полковников и особенно генералов российских: немногие из них спортивного воинского вида, зато немало сверхвесовых пузачей! Чего не заметить в тех же США или ФРГ, где офицеры — спортивная элита армии.
В то время в казармах — земляных бараках у нас все стены были завешаны плакатами с выдержками из приказов маршала Тимошенко. Дисциплина и выучка в армии резко повысились.
Моё мнение такое. Кто не побывал в узде военной службы в полковой школе, тот уже, считай, наполовину посредственный командир. Этого не учитывает нынешнее российское военное руководство, выпуская из военных училищ неоперившуюся молодежь, которая командовать-то не умеет по-настоящему. Пример — боевые действия в Чечне. Полковники и генералы, как правило не проходившие такую кузницу учебных подразделений, как тогдашняя полковая школа, делали такие «ошибки», что оставалось только диву даваться. Служат такие не по призванию. Результат — неоправданная гибель их подчиненных. Даже мы, будучи сержантами, не допустили бы такого. Мы, сержанты, а потом курсанты военных училищ по призванию, уже на второй год войны стали командирами рот и даже батальонов, как автор этих строк. До высоты этих должностей в мирное время надо было служить лет десять…
А где же у современных кавказских «чудо-богатырей», полковых и прочих командиров, суворовская выучка? После почти пятилетнего высшего военного училища и академии? Можно ли вести колонны войск без головных, фланговых и тыловых охранений во время боевых действий?! Можно ли вести боевую технику колоннами без посылки вперед усиленных подразделений сапёров с миноискателями? Как можно во временных казармах располагаться на ночлег воинскому подразделению без надлежащих охранений: секретов, часовых? Это не ошибки, а воинские преступления, которые караются беспощадно военным трибуналом! Смотрел передачи о боевых действиях в Чечне и видел такие «фортели» командиров, что выключал этот «ящик» — невозможно было смотреть на полную военную безграмотность!
Не так давно у нас в Новосибирске в училище внутренних войск вручили выпускникам-лейтенантам дипломы… ЮРИСТОВ! Но теперь они и станут не командирами взводов, рот и батальонов, чего от них ждали, а ЮРИСТАМИ, негодными ни к строю, ни к боевым действиям. Они не прошли «естественного отбора», о чём я говорил выше.
Должен сказать также, что военный, настоящий командир, — это как поэт, художник, музыкант. Он рождается, а не делается. Считаю, что те, кто у нас были настоящие, перед войной оказались или в лагерях, или на том свете. Академик Арбатов как-то в телепередаче «Моя война» сказал, что наши офицеры были лучше, чем немецкие, а вот солдаты — наоборот. Или академик лжет, или он не знает войны. Стыдно было его слушать. У немцев, как я слышал, совсем по-другому подготовка велась. Родился мальчишка, и он сразу принадлежал вермахту, вступал в военизированные организации, где производился отбор. Есть задатки учёного — иди делай оружие. Если способности тактика — поступай в пехотное училище. И так далее. Мямля никогда не попадал в командиры взвода, как у нас бывало. Я за три года фронта хорошо узнал качества и немецкого солдата, и немецкого офицера.
На учениях девять человек из нашего взвода полковой школы стали помкомвзвода, я — старшиной пулемётных рот в 65-й Краснознаменной стрелковой дивизии, которой командовал тогда подполковник П.К. Кошевой, будущий маршал Советского Союза. Рядом Цогульский Дацан, в четырех километрах от станции Оловянная. Мы жили в полевых условиях. Длинный ров. Крыша, она же потолок из дерна. Нары дощатые, пол глинобитный. В матрацах набито душистое сено, отчего в такой «казарме» пахнет полем. Но здесь климат суровейший. Зимой в мороз подует сильный ветер, бросая горсти песка в лицо, отчего выступает кровь. Летом — жара сильнейшая. Но полежать в холодке — значит заболеть воспалением легких или фурункулезом, что я и нажил. Вечная мерзлота — на глубине полметра, что усложняло рытье окопов на стрельбищах и боевые учения возле сопки Семеновская, где в Гражданскую был разбит последний казачий отряд атамана Семенова…
Я много работал над повышением своего командирского уровня. Чья рота стала первой в дивизии на стрельбищах — наша! Кто прошел показательным строевым шагом мимо высокого командования — наша рота! От голоса подаваемой команды в строю зависит и настрой подразделения. У меня был голос настоящего кадрового командира, за что, помимо прочего, меня ставили в пример в дивизии после армейских учений под Читой.
В воздухе ощутимо повеяло приближением войны, даже в нашей страшной глухомани на брегах ледяной воды реки Онон. Начался призыв в военные училища. Я собрал своих парней: Алексея Егорова, Василия Фролова, Романа Плешкова, Николая Филатова, Андрея Мезенцева, Николая Клочкова, Клюева, Ивлева, Андрея Овсепяна, Ивана Никулина. Был здесь и мой старый знакомый — приятель Зиберт, который проживал в Чемальском санатории ВЦИК СССР в Элекмонарском районе, где его матушка практиковала врачом-терапевтом. Убедил почти всех идти в пехотное Свердловское военное училище! Только закончив общевойсковое училище, можно стать на армейские высоты. Почти все согласились и подали заявления командованию. Роман Плешков — в летное училище… Вася Фролов отказался — он уехал в отдельный пограничный батальон старшиной.
В Свердловске нас в училище приняли с помпой: хоть сразу прикрепляй на петлицы по два лейтенантских «кубаря»! Зачеты сдали с блеском! Я и Клочков стали старшинами-курсантами. Я — 11-й пулемётной роты. И снова соревнования: чья рота лучшая, самая боевая. Из 120 курсантов пулемётной роты около 90 прошли строй в полковых школах. Остальных пришлось «подтягивать». Самые трудные неучи начали понимать, что сделали ошибку, решив тянуть лямку военного всю жизнь. Кто-то и из других рот подавал рапорт о переводе в армейские роты рядовыми… Понятно, новичкам, кто поступил впервые в армейскую среду, в училище было трудновато, но не нам.
Я в свободное время брал книжки из библиотеки училища и читал, читал. Роту свою 11-ю пулемётную так выпестовал, что она стала образцовой в училище. Конечно, в Свердловске лучшими были мои однополчане по Сретенску и Дацану.
Пролетел год в учениях, больше теоретических: материальная часть пулеметов, орудий, хождение по азимуту, деривация, девиация, работа с военными оптическими прицелами и т. д. Изучали теорию военного искусства, особенно наших русских полководцев, их биографии и баталии. Мой командир роты старший лейтенант Тертичный был доволен: рота, даже следуя в столовую, проходя мимо начальства, дает такой строевой шаг, что можно на парад на Красную площадь. Тогда я убедился еще раз: от четкости, бодрости в голосе командира зависит успех и строя, и боя!
— Строевым!.. — Рота бухает сапогами враз. Иду мимо комбата — майора. Рука к козырьку (пилотке) и доклад — куда и кто.
Ещё одно достоинство было у меня: пение. Мальцом еще в Усть-Чарышской Пристани на Оби я переболел корью, потом в Бийске скарлатиной. Потом появился голос — крепкий, звонкий. Была и наклонность к музыке.
В Сретенске, бывало, идем строем ротой по городу. Помкомвзвода Стригин командует: «Сукнев, запевай!» И даю голосом такой тон, что строй подхватывает дружно и в ногу: «Пала темная ночь у приморских границ, лишь дозор боевой не смыкает ресниц!..» Когда слушаешь нынешний строй, хоть и в училище, — это разнобой, галдение, но не строевая песня с боевым задором.
Идем из столовой — у училища сам начальник. Тут уж надо покрепче! «Строевым!» И… «Руби ногой!» — это был верх строевого шага, который нынче забыт.
* * *
Война… Все закрутилось, как в фантастическом смерче. 22 июня застало нас в училище, в пригороде Свердловска Уктус-городке, у озера Уктус. Чудесное, живописное место. Прослушали у столба с репродуктором-«тарелкой» выступление по радио В.М. Молотова. Тотчас начальника училища завалили рапортами об отправке на фронт: разбить врага окаянного, и все тут! Потом пришло отрезвление…
В стенах училища формировался полк для фронта под Москву, из бывших красных партизан и коммунистов. Коммунистический полк. Ко мне подошел товарищ моего отца по партизанской войне против колчаковщины в Гражданскую. Узнал меня. (Фамилию его я забыл.) Он был моложе моего отца и попал добровольцем в полк.
Такие коммунистические полки формировались по всей стране. Их вооружение: винтовки, пулеметы «Максим», РПД, ПТР, гранаты. Одеты в летнее обмундирование, в пилотках. Но все в сапогах, в отличие от линейных частей в ботинках и обмотках. Это они своей жизнью остановили чудовищную машину гитлеризма на полях сражений, идя в атаки с винтовками наперевес. Они, коммунисты, труженики полей и заводов!
Уктус-городок. Вечерняя поверка. Курсанты в строю. Перед строем батальона стоят чины из училища и военного округа. Читает один из них, в форме НКВД, приказ И.В. Сталина о расстреле командования Западного особого военного округа, Героя Советского Союза Павлова, командующего, и следом его командиров. У нас устали ноги стоять по команде «смирно», а все нет конца списка расстрелянных «изменников родины», командиров и комиссаров. Список был под триста человек… Отбой!
У нас в голове сумбур. Как так, расстрел всего командования военного округа?! Не может быть. Ведь это кадровые командиры…
Война разгоралась не в пользу наших войск. Гитлеровцы прямо-таки пёрли на многих направлениях. Нам не понять: почему так много наших пленных? Почему отступают, ведь «Красная Армия всех сильней…». В голове — ералаш. Идет война, а у нас шли учения по тактике боя, которая нам вряд ли понадобится в настоящих боях; проходили боевые стрельбы, изредка объявлялись учебные тревоги, проводились даже эстафетные соревнования…
Наступили уже первые дни ноября 1941-го. До окончания училища оставалось пять месяцев. Но вдруг нас, кадровых, человек под триста, подняли в полночь и зачитали приказ о присвоении нам воинского звания лейтенант! «Ура!» — хотелось крикнуть от гордости, но не то было время… Еще сотне курсантов, наиболее подготовленных, проучившихся шесть—восемь месяцев, присвоили звание старший сержант с правом занимать должности помкомвзвода и старшин рот с условием: после трех месяцев участия в боевых действиях им автоматически присваивается звание младший лейтенант.
В Кирове к нашему эшелону прицепили четыре вагона с девчатами-связистками. Форма на них сидела, как говорится, как на корове седло. Девушки были обмундированы в армейские брюки и телогрейки, в шапки со звездочками. Но стало веселее «донжуанам». Я воспринял это отрицательно: девушки в армии — помеха некоторым буйным головам — командирам и интендантам… Другое дело — медсестры и фельдшеры: эти направлялись в санроты и медсанбаты.
Нас высадили на станции Бологое. Спустя трое суток отправили под Тихвин, где шли бои по уничтожению вражеской группы войск, пытавшихся охватить блокадный Ленинград вторым кольцом. Оттуда отправили на станцию Бежецк и в Крестцы под Новгород, занятый противником.
Глава 5 Штурм Новгорода
…Страшный год на Лелявинском плацдарме и закончился страшно — штурмом Новгорода 15 марта 1943 года.
Нас отвели в прифронтовой лес на формирование. Близость новгородских развалин говорила — будем брать город!
Наш, как и другие, батальон обновился даже за последние дни на Лелявинском плацдарме. Кроме выжившего Александра Жадана, которого пули не брали, пришли новые командиры рот, взводов, сержанты и старшины. Последний санинструктор из «стариков» батальона Архипов, мой земляк-сибиряк, был тяжело ранен. Лежа на повозке, он попросил, чтобы я пришел проститься с ним. Это был отважный, на вид грубоватый, лет тридцати, опытный фельдшер. Своих лечил, но, уходя с разведчиками за «языками», умело воевал, не щадил фрицев. Мы с ним простились, он был эвакуирован, «потеряв любимого командира», как передавали мне потом его слова…
* * *
Здесь, в лесу, явно больные туберкулезом были отправлены по госпиталям. В их числе был и писарь, старшина 3-й роты Севастьян Костровский, мы с ним встречались в 50-х годах в туберкулезном санатории «Лебяжье», там же в поселке он заведовал краеведческим музеем… Так что для меня земля стала невелика — куда ни поеду, обязательно встречу своего бойца или командира… Тоже больной санинструктор 3-й роты, приятель Костровского, не успел пройти врачебную комиссию и погиб вскоре в бою.
* * *
Полк формировался почти заново, все три батальона. 1-й — под моим командованием; 2-й — Григория Ивановича Гайчени, выпускника Белоцерковского военно-пехотного училища; 3-й — Петра Кальсина.
Численность батальонов составляла под четыреста штыков. Автоматов не было, имелось только несколько штук у комбатов и командиров рот, ППС (пистолет-пулемёт Судаева).
Сделали ещё один большой переход от района села Слутка к шоссе Новгород—Москва. Вижу, связистки Алла Зорина и Маша Белкина, моя неспетая песня, тянут санки с тяжеленными батареями и конструкциями раций М-8. Берусь за верёвку, тяну один, — Мария, конечно, довольна!
Остановились ещё раз и надолго в лесу. Стояла мягкая, ясная погода. Днями снежок подтаивал, ночью подмерзал настом.
Мы надеялись: штурма, о котором говорило командование, не будет. Мы, комбаты, не верили в своего командира полка. Где он, там гибель людей совершенно неоправданная! Не верили, но таили в себе чувство надвигавшейся опасности…
Наш новый адъютант старший батальона Федор Шкарлат и я выезжаем на санках по вызову к командованию дивизии. Рыжий мой конь несет легкую кошеву сильной рысью. Навстречу — амазонка, фельдшер медслужбы, три кубика в петлицах на шинели. Стройнющая, красивая и молодая!
Придержали коня, пригласили её к себе в батальон. Посмеялись. И разминулись навсегда! Слышали, что она у артиллеристов. Поделилась с подружками, рассказала, что встретила двоих красавцев капитанов и «почти влюбилась». В кого, не сказала… Одному «красавцу» шёл двадцать третий, другому — двадцать второй год. И надо же: сколько лет миновало, но помню весь её облик и черты лица.
* * *
Обсудив детали, в дивизии назначили срок: ШТУРМ назначается на середину марта! Детали — окончательные — перед ним! У нас оставалось «свободного времени» дней пятнадцать. 8 марта мы, молодые, Николай Ананьев, Сашка Григорьев (этот освоился в штабе полка), Шкарлат и еще кто-то, гурьбой сделали «налет» на медсанбат и поздравили девчат-медиков. Я с Федором Калачёвым, комиссаром батальона, — Мариам, которая перешла из полка туда, а Калачев — Галину, хирурга-красавицу в русском стиле (фамилия ее мной забыта).
Было весело. Мы поймали, Галине белочку, которая медиков в их рубленом домике чуть не перекусала, летая по воздуху под истошный женский визг…
Выступал у нас, в лесу прифронтовом, армейский ансамбль. Я встретил здесь «своего» музыканта, с которым мы обнялись по-братски. Он был у меня в пулеметной роте в Лелявино. Лет тридцати. Однажды он, придя к нам на КП из дзота, обратился ко мне прямо-таки с мольбой:
— Я вижу, у вас тут есть «хромка» и вы на ней неплохо выводите аккорды. Имеете слух. Но я-то — настоящий музыкант!
Мы дали ему свою «хромку», кем-то принесенную из тыла, и он нам сыграл так, что мы все рты разинули: это был настоящий классный баянист! Все, что можно было, он «выжал» из обыкновенной двухрядки! Я написал рапорт на имя начальника армейского ансамбля, не зная ни звания его, ни фамилии, — «на деревню дедушке». Но подписи мы поставили: комбат Алешин В.К., комиссар Плотников, командир роты Сукнев М. И.
Алешин подмахнул бумагу, рассмеялся:
— Если будешь с ансамблем у нас, не забудь пригласить!
Наш музыкант на седьмом небе, он мгновенно исчез, чтобы явиться пред очи начальника ансамбля. И, как сейчас в лесу он мне рассказывал, — там все были в восхищении от его игры на баяне.
И вот он соизволил появиться у меня в шалаше (блиндажей не было) с баяном. Я пригласил Машу Белкину с подругами-связистками и кого-то из медичек.
Больше часа музыкант играл нам по заказам и увертюры из классиков. Благодаря нашему маэстро Мария меня наградила поцелуем в щёку. Казалось, между нами зарождалось то, что называется любовью. Однако ближайшие события произошли такие, что уже было не до того!..
Получен приказ командарма-52 Яковлева: штурм левобережной торговой части Новгорода назначен на 15 марта 1943 года в 6.00. Штурм — без артиллерийской подготовки, рассчитанный «НА ВНЕЗАПНОСТЬ»!!! Нашей дивизии — атаковать противника по фронту. Справа 299-й полк подполковника Токарева Н.Ф. Левей — наш 1349-й полк подполковника Лапшина И.Ф. 1-му батальону во взаимодействии с батальоном 299-го полка, которым командовал капитан Голосов А.Е. (бывший комиссар пулеметной роты у нас), было приказано овладеть церковью Рождества, где немцы создали сильный оборонительный узел, захватить траншеи, идущие от церкви, и через разрыв в земляном валу ворваться в город. Если будет достигнут успех, к нам подойдет на помощь отдельный отряд морских пехотинцев численностью до трехсот бойцов-автоматчиков. Левее нашего батальона шел 3-й капитана Петра Кальсина, выдвинутого на должность комбата из штабистов полка, не имевшего военной подготовки среднего командного училища. В душе я был этим недоволен, ведь действия соседа — это немаловажный элемент успеха. Еще левей — 2-й батальон Григория Гайчени, тоже уже капитана, смелого, инициативного командира, кстати говоря, почему-то любимца Лапшина. Эти два батальона атакуют с фронта земляной вал в обороне противника.
С юга, по урезу устья Волхова, откуда начинается город, ведет наступление 1347-й полк (фамилию командира не помню). Но, говорили, умница-подполковник…
Позади, слева, то есть южнее, у нашего атакующего полка оставались развалины Кириллова монастыря, зацементированного под мощный узел сопротивления, огромный чудовищный дот, буквально напичканный пулемётными гнездами и миномётами. Возможно, были и орудия прямой наводки.
Если мы не овладеем церковью Рождества, то у нас в тылу останется этот узел противника. Так что мы попадаем в огневой «фокус» с трех сторон всем полком!
Что думали командарм Яковлев и комдив Ольховский — нам неизвестно. Даже для комбатов не была проведена «игра» на схеме города. Мы не имели никакого понятия, куда поведем людей и что впереди!
Трое суток дивизия гремела по лесу колесами повозок и орудий. Шум и гам слышались по всему прифронтовому лесу. Тут не надо было противнику применять радиопрослушивания — явно русские готовились к атаке.
И вот перед нами — пространство для броска в три километра по ровному, гладкому как стекло, пойменному полю, которое днями подтаивает, а ночью подмерзает, образуя легкий, но твердый наст — хоть катайся на коньках! Это поле упиралось где-то в фантастический для нас древний «земляной» вал, очерченный на военной карте-километровке как именно вал из земли с окопами противника, впереди которого — проволочные заграждения. Какие и во сколько рядов? Есть ли минные заграждения? Неизвестно! Без данных разведки о противнике, которые должны быть доведены именно до командиров батальонов и рот, бой заведомо будет неудачен, а тут смертелен на все сто!.. Того, что было необходимо сделать, наши отцы-командиры не сделали, что является воинским преступлением, а не «ошибкой». ПРЕСТУПЛЕНИЕМ, виновные в котором наказываются военным трибуналом. Что думал Военный совет армии во главе с Левиным, благословляя две дивизии на «подвиг» без победы?! Не знаю.
Вторая дивизия, 305-я, по приказу должна была действовать правее шоссе, за 299-м полком, после форсирования Малого Волховца овладеть крепостью — Хутынским монастырём, превращённым в развалины и доты католиками-немцами… Но там командир оказался, как увидим, выше на голову Яковлева и Ольховского…
Но и командующий фронтом К.А. Мерецков — не посторонним же он был наблюдателем!
* * *
15 марта 1943 года. 6.00. Еще темно. Мы на исходной позиции атаки-штурма по обрывистому пойменному берегу, здесь — Малого Волховца, который светился ледком в 100 метрах впереди. Команды на штурм нет.
Как известно из истории, царь Иван Грозный Казанскую крепость поначалу забросал бомбами и потом двинул войско на штурм. Великий Суворов, ставший перед этой войной эталоном воинской славы и успешных битв, прежде чем двинуть войска на штурм крепости Измаил, основательно громил войско противника снарядами! А что у нас?
Время 6.15. Начинался рассвет. Ещё минут десять — стала видна белая церковь Рождества. Слева вырисовывается чудовищный дот — Кириллов монастырь. На краю берега, возле траншеи, мы застыли в ожидании команды. Двадцатилетние красавцы-богатыри — командиры рот: черноглазый Кузьменко Петр Михайлович, капитан Хоробров Василий Иванович, старший лейтенант Чирков Петр Семенович, уже четвёртый, как и вышеуказанные, командир 3-й роты, бравый и бесстрашный командир пулеметной роты старший лейтенант Жадан Александр Карпович — мой воспитанник из сержантов, адъютант старший Шкарлат Федор, которого я оставлял, чтобы с командой собрал оружие на пути наступления (что он не исполнил). Замполит Мясоедов перед штурмом «испарился», а вновь назначенный кто-то так и не появился. Вместо хитрющего Дмитрия Проскурина — нашего оперуполномоченного особого отдела, появился новый капитан, фамилии не помню. Рядом с нами в траншее собрались все трое политруков рот: Белимов, Ремизович У.И., Вакуленко. У пулеметчиков Жадана — никого, «сам с усам», — говаривал он.
Тут же вновь прибывшие заместители по строевой части в ротах: лейтенант Васин И.А. и старший лейтенант Гербигер М. Т. (здесь выживет, погибнет в октябре в батальоне Гайчени). Командиры взводов — все новички, их фамилий я не помню, они остались в делах Центрального архива Министерства обороны в Подольске… Но у пулемётчиков — «непотопляемые» старший лейтенант Градобоев Евгений Ефимович и Исаев Сергей Дмитриевич.
Надо еще вспомнить о Градобоеве. В начале холодного июня 1942-го, вечером, к нам в батальон в Лелявино прибыл инженер полка капитан Этлин, молодой грамотный специалист. Наступила ночь, темная, непроглядная. Мы с ним вышли к КП роты, расположенному на возвышенности, рассуждаем — где построить мосты через траншею для танков и артиллерии в намечающемся грандиозном наступлении, пока, правда, неизвестно когда. И я зазевался. А рядом мои пулемётчики роют окоп поглубже. К нам присоединился и Градобоев — спокойный, молчаливый парень. Впереди остановился Этлин, я — ближе к окопам, за мной — Градобоев.
И вдруг от леса за ручьем Бобров пулеметная трасса — единственная и короткая — и прямо в цель! Этлина свалила пуля наповал, у меня у лба и затылка прошли две, задев за каску так, что она слетела с головы. Слышу, у Градобоева булькает кровь! Лежу, боясь тронуть голову. Тронул — целая! Повернул головой туда-сюда — шея на месте. Этлин не шевелится, мне понятно, что он убит. А Градобоеву пуля выбила половину нижней челюсти.
Что значит увлечься какими-то планами, да на открытом опаснейшем месте! Спустя время вернулся в роту Градобоев с обезображенным пулей ртом. Я его по-товарищески пожурил: «Зачем тебя сюда принесло — мы ведь погибнем тут, как пить дать!» Мои слова оказались пророческими.
* * *
С нами у Новгорода был и мой адъютант Николай Лобанов. После трёхмесячных курсов он возвратился младшим лейтенантом, ещё через четыре месяца стал лейтенантом, его я учил на начштаба батальона. Лобанова я оставил на месте: контролировать связь и писать письма родственникам, если кто из нас погибнет…
6.30. Команды нет!
Я — к Лапшину. Прошу его вызвать комдива Ольховского и отменить штурм без соответствующей артподготовки. Ведь наша полковая, в одну батарею, артиллерия — это капля в море. Говорю:
— Товарищ подполковник, позвоните командиру дивизии. Отставьте. Вы же на убийство нас посылаете. Всех! Живым никто не вернётся.
— Не могу! Приказ командарма! — резко ответил Лапшин.
Я почти молил не губить не только батальон, но и весь полк, ибо от нас видны колокольни Новгорода. Это значило — противник нас просто расстреляет на этом пойменном ледяном поле! Не помогло! Я было сам направился к Ольховскому, к штабу дивизии, в ближний лес. Но Лапшин «проявил характер»:
— Запрещаю, капитан Сукнев!
Здесь уже могло последовать строгое наказание за обращение к вышестоящему начальству; минуя прямого командира!
6.45. Команды нет!
Ну, думаем, отменят штурм. Обойдемся, если это дезориентирование противника для отвлечения его сил от других участков фронта, стрельбой из окопов от основной линии обороны. Но не тут-то было…
Дежурный телефонист батальона передал от Лапшина:
— Начинать штурм! Команда ноль-первого!
Мы поняли, что нам из этого боя живыми не выйти! Мы обнялись. Командиры рот, наш штаб прощались друг с другом. Но я наказал ротным:
— По нам будет страшенный артобстрел! Только бегом вперед! И ближе к проволочным заграждениям, так можно спастись! А там, если проскочим, драться до последнего! Вперёд!
И никаких призывов, ни лозунгов, вроде «За Родину! За Сталина!», у нас не было.
Справа из тыла 299-го полка начал залпами стрельбу артполк дивизии. Ударила наша полковая батарея, но куда — неизвестно! Возможно, подумал я, под гром орудий артполка нам удастся проскочить и броситься врукопашную, где равных нам не должно быть, ибо последнее пополнение наполовину состояло из сибиряков, обстрелянных, побывавших в боевых переплетах. Если рукопашная, то немцам несдобровать — штыковые атаки они не выдерживали.
Но только наши достигли плотными цепями по-ротно, со штыками наперевес, льда Малого Волховца, как на просветлевшем небе за Новгородом грозовыми вспышками замерцали орудийные залпы противника. Вверх понеслись звездочками ракеты «ишаков» — кассетных миномётов.
Своих я не вижу, они впереди полка, «уступом справа». По цепям батальона Кальсина слева прошлись трассы крупнокалиберных пулемётов. Трасса — несколько человек падают. Но цепи смыкаются и убыстряют бег! Это надо было видеть. Это был воистину массовый героизм, невиданный мной никогда! Эти русские чудо-богатыри пошли на смерть, исполняя свой долг перед Родиной. Не за Сталина, не за партию. За свой родной дом и семейный очаг!
Моя группа с резервным пулеметом «Максим» следовала позади своих цепей метрах в пятидесяти (строго по уставу). Был со мной комвзвода Сергей Исаев (похожий обликом, да и характером, пожалуй, на Иисуса Христа)… И вдруг видим — грохочущая стена стали, будто цунами, надвигалась на нас! И грянул беспрерывный взрыв, от которого у меня чуть не лопнули барабанные перепонки в ушах, а многие надолго оглохли. Немцы открыли стрельбу из 500, если не более, орудий, и все снаряды осколочно-бризантные или шрапнель! Не достигая земли, они рвались над ней в 10–15 метрах, поражая всё живое. Оглядываюсь на свой «Максим» — снаряд угодил по пулёмету и расчёту, на середине Волховца поднялся султан воды. И пулемет, и люди исчезли под водой. Так погиб славный Исаев…
Стену огня и дыма пронизывали тысячи пулеметных трасс и град автоматных очередей, что подсказало: мы уже перед проволокой немцев. Справа впереди блеснули церковные кресты на колокольнях.
Тут к нам прибился Алексей Голосов — комбат 299-го полка. Он потерял своих и сбился с пути. Мы с ним обнялись и простились. Голосов, передвигаясь по-пластунски, исчез в стене дыма (в этом бою он погиб), я со своими продолжал сумасшедший бег. Попадались убитые наши, по двое-трое, но это были не трупы, это были бестелесные останки! Пустое обмундирование, без голов, пустые мешки с сапогами, даже без костей! Взрыв бризантного снаряда над головой — и человека нет, он уже «без вести пропавший». При взрыве такого снаряда температура достигает двух тысяч градусов, и человек испаряется мгновенно.
Мы наткнулись на проволочные заграждения, а наши, где-то еще дальше, уже в траншее противника, вели штыковой и огневой бой. Первыми проскочили к «рогаткам» с колючей проволокой Кузьменко и Хоробров. Разбросав их, они повели свои роты на траншеи между церковью и земляным валом. Там шел бой, а мы повисли на проволоке в пять рядов!
Половина 3-й роты Чиркова прорвалась туда, 2-я прошла прямо и наткнулась на «земляной» вал — стену из камня и бетона высотой с четырёхэтажный дом! Люди, кто успел, отхлынули назад и заняли у проволоки воронки от взрывов снарядов. Спас мой друг, начальник артиллерии полка Петр Наумов. Он, зная, видно, «секрет» штурма, догадался и дал команду своей батарее, чтобы сделать нам воронки, иначе я бы не писал этих строк…
На поле, гремящем молниями взрывов, опустился туманом пар и толовый газ. Видимость — 15 метров. Вот в этот момент командованию и надо было бы двинуть к нам отряд морских пехотинцев, ибо две наши роты, понятно, с потерями, но прорвались в город в проход между каменными стенами, вдоль шоссе, и завязали неравный бой, длившийся часа три.
Мы засели в воронке. Четверо с командиром роты Чирковым при пулёмете «Максим». Потом, не дождавшись подкрепления, а связь была порвана окончательно, я с остатками роты бросился к траншее, где уже были немцы. Завязалась продолжительная перестрелка. Немцы не дали нам поднять головы… И мой КП с остатками роты снова занял прежнюю позицию «по воронкам».
Батальоны Кальсина и Гайчени, атаковавшие в лоб, натолкнулись на каменные стены «земляного» вала и отхлынули назад, оставив на поле убитыми по одной трети батальонов, унося столько же ранеными. Батальоны отступили на исходное положение атаки. А почему бы им не идти в затылок нашему батальону? Тогда, может быть, прорыв был бы обеспечен на какое-то время, чтобы подтянуть резервы из дивизии.
Дым рассеялся. Поле перед проволокой было усеяно убитыми. Над нами закружился немецкий разведчик, знакомый нам по Лелявину, такой же «костыль». Самолет, видимо, произвел съемку, ушел, и минут через двадцать от Рождественской церкви из динамика раздались звуки вальса Штрауса! Мы слушаем музыку в воронке, наполовину заполненной выступившей подпочвенной водой, поскольку здесь близко река. Если вода ещё поднимется — нам смерть! В полулежачем положении, в грязи с головы до ног, будто земляные черви, роем края воронки, меся глину.
За валом в ближних зданиях, видно, наши ещё вели бой. Как они туда прорвались? Орлы там были… Слышна была сильная перестрелка: автоматная — немцев, винтовочная — наших. Потом и там всё затихло. Под пологом тумана наши успели вынести из немецких траншей раненого Хороброва и многих других. Здесь проявили геройство наши пулемётчики Матвеев и Кобзев, бойцы еще лелявинской закалки. Матвеев сунул ствол своего «Максима» в амбразуру фрицев и длинными очередями уничтожил их. Потом взялся за другой дот и также его подавил, потом вытянул пулемет на свою сторону. Кобзев уничтожил еще один, но был убит…
Тишина. Солнце греет. Вальс окончен. Слышим голос диктора с сильным акцентом: «Господа русские, переходите к нам. Вы обречены! Ваши командиры послали вас на смерть. Даем вам пьят-надцать минут… Смешаем с землёй…»
Прошли эти минуты. Начался артобстрел — кругом земля встала дыбом. Так минут десять. И снова… Теперь передавали песни Руслановой. Ее голос разносился над этим мертвым полем, на котором кое-где ещё были живые наши люди.
«Господа солдаты! Обещаем вам все блага. Бейте юдо-комиссаров, переходите к нам. Даем пьят-надцать минут!»
Снова нас буквально «полоскают» снарядами. Головы не высунуть — снайперы бьют со стены и колоколен церквей. Так продолжалось полдня. Снова и снова нас призывали:
«Убивайт командир, юдо-комиссар, переходите к нам! Нет — побьём всех!..»
Опять минуты на размышления, музыка и пальба наших из винтовок в сторону немецкого динамика!
Никто не сдался, только кто-то один впереди поднимал руку, чтобы немцы прострелили её…
Мы из своего «окопа» нет-нет выглядываем на секунду, чтобы уточнить: кто где из живых. Тут не зевай. Старший лейтенант Чирков, голубоглазый парень, поднял шанцевую лопатку вверх — звяк! Лопатка была выбита из руки с дыркой от пули. Время до темноты тянулось бесконечно! Вот когда день стал для нас врагом номер два…
Потом выше нашей воронки затрещали по немцам пулеметные трассы и с гулом пронеслись снаряды — это «проснулись» наши командиры и пустили по этой пойме к нам на помощь морских пехотинцев, отборных ребят. Надо было пустить ко мне этот отряд, когда кругом была чернота от разрывов снарядов, клубы дыма. Но командиры наши упустили время… Дождались, пока все утихло. Как узнаем позднее: только матросы вступили на пойму из траншеи, как, потеряв убитыми и ранеными несколько человек, отпрянули назад… Было там проклятий в адрес «высших» командиров не счесть…
Наконец на мертвое поле опустилась мглистая ночь, редко освещаемая ракетами противника. Мы опасались, как бы фрицы не обошли нас с тыла, от Кирилловского монастыря или Рождественской церкви. Вдруг связист объявил:
— Есть связь. Вас, товарищ комбат!
Из трубки слышу знакомый голос Маши Белкиной. Отзываюсь. Она спрашивает, как у нас тут. Ответ:
— Живыми не выйдем…
Маша говорит:
— Ты выстоишь и твои товарищи, вы вернётесь, я верю…
На проводе комдив Ольховский. Вот это да!
— Послушай, капитан, жив, и то ладно! Ты там покомандуй за своего Лапшина. Из всех, кто остался у вас, организуй круговую оборону и доложи лично мне!
Комдив сказал ещё несколько ободряющих слов.
Задача не из простых: под носом у противника, когда хотя и ночное время, но видимость — 100 метров и более, а вал с немцами всего в 50 метрах, надо пробраться по воронкам к своим оставшимся в живых людям… А тут наш особист-капитан ноет: он потерял свой пистолет ТТ, за который следует отчитаться. Я заверил капитана, что доложу о нем — в бою выбило пистолет из рук. И особист ушёл в полк, ибо такому чину не положено быть в зоне боевых действий. Оставив Чиркова у пулемёта в воронке, я броском перебежал в другую воронку с живыми. По мне запоздало прошлась очередь из пулёмета. Значит, фрицы нас и ночью караулили.
Четверо бойцов по моему указанию начали шанцевыми лопатками расширять воронку под небольшой окоп. «Смотрите в оба!» — наказал я им и, высмотрев на поле тело убитого, делаю туда бросок. Пулемет фрица снова дал очередь: пули вошли в мертвое тело. Я буквально прилипаю к земной настовой тверди: если пробьёт труп, то и в меня влетит пуля. Прикрываю голову локтем… И так до утра по всем воронкам, бросок за броском. Проклятый фриц-пулеметчик охотился за мной. Потом началось непростреливаемое пространство, и пулемет отстал. Из-за проволочного заграждения мне навстречу вышел командир пулеметной роты Александр Жадан, так свободно, будто ничего страшного не происходит! Встретились. Поговорили. Он побывал в траншее противника, успел ухлопать немецкого офицера, завладев его «парабеллумом». Потом его с уцелевшими солдатами выбили из траншеи. Жадан был словно заговорен свыше от пуль и осколков. Как и я, грешный…
Прошёл воронок двадцать. Из трёх батальонов мы обнаружили живыми человек восемьдесят. Из них организовали «круговую оборону» для галочки командованию, которое доложит верхам: «Дивизия продвинулась на два километра пятьсот метров вперед!» Все это мы хорошо понимали…
Утро. Мы сидим по воронкам, голодные и холодные. Связь есть, но кашевары не дошли до нас. Высоко в небе пролетают немецкие крупнокалиберные снаряды, исчезая из вида на излёте у земли за обороной полка. Нас по-прежнему подстерегают снайперы.
Где-то к обеду над нашими головами защёлкали пули, явно снайперов, и не одного. По кому? Мы не сразу поняли. И вдруг на краю воронки вырос в свой громадный рост мощный по-медвежьи солдат из хозвзвода Шохин! За спиной у него термос с супом. В руке другой термос — с кашей. Весь Шохин увешан фляжками с чаем, водой и наркомовской водкой… Одна из фляжек прострелена, но Щорхин этого не замечает.
— Здравия желаю, товарищ комбат! — гаркнул он.
Мы его мигом стащили в воронку за ноги. Идя к нам по открытому полю, он не понял, что снайперы метят именно в него, а полное спокойствие русского, видимо, сбило с толку немецких стрелков.
Ещё в Лелявине я списал Шохина из пулемётчиков, направив в хозвзвод к Федорову. Шохин постоянно засыпал на часах в окопах, но силищу имел лошадиную. Что и требовалось в хозвзводе.
Я снял с себя медаль «За боевые заслуги» и прикрепил её на груди Шохина. О себе подумал: «Всё равно погибну…»
* * *
Пять суток мы в воронках. Днями нас подтапливает вода, ночами под ногами шуршит наст-ледок. У нас «Максим» и три РПД — мы начеку!
Маша Белкина вызывает меня, передаёт:
— Ноль-первый вызывает к себе!
Это к Лапшину. Что ещё он задумал, не знаю, но не добро — это ясно. Решаю подстраховаться докладом комдиву Ольховскому: доложил об исполнении его приказа о круговой обороне. Тот ответил коротко:
— Молодец, капитан!
За мной пришёл мой друг, миномётчик Николай Ананьев. Дал мне «водицы» из фляжки. Глотнув, я не почувствовал даже вкуса водки! Мы там, в воронках, сидели будто мыши, выплеснутые из кадушки, сухой оставалась только голова под каской! Синели пальцы на руках, губы, нос. Ноги потеряли чувствительность. Только ночью еще можно было попрыгать вокруг воронки, а мне, как командиру «круговой обороны», пробежаться меж убитых по другим воронкам.
С Лапшиным разговор был коротким, как выстрел:
— Почему вы не собрали с поля оружие? Это пахнет трибуналом!
— Как только освободим Новгород, если будем живы, то и соберём оружие там, за «земляным валом» высотой с четырехэтажный дом! — отпарировал я, не заботясь о своей карьере, ибо тогда решил: если выживу, то с окончанием войны прощусь с армией, в которой своими глазами видел засилье лизоблюдов и нечистоплотных карьеристов.
На этом наш разговор окончился. Что сделал батальон? Что там сейчас? Какие потери? — об этом Лапшин не задал ни одного вопроса.
Говорил мне постоянно Токарев: «Иди ко мне, брось Лапшина… Вы друг друга стрелять скоро будете!» Я отказался. Привык к своему батальону, не мог оставить ребят. А эти ребята все погибли под Новгородом. Из 450 человек в строю осталось 15…
В справке Центрального архива Министерства обороны РФ об этом сухо сообщается: «Войска 52-й армии со второй половины февраля 1943 года по 15 марта 1943 года готовились к операции по овладению Новгородом и междуречьем рек Волхов и Малый Волховец. Подготовительный период использовался для обучения войск, устройства дорог, подготовки тылов, разведки с целью уточнения группировки противника и для сосредоточения войск. 15.03.1943 года 52-я армия перешла в наступление с задачей форсировать реку Малый Волховец, уничтожить противостоящего противника и овладеть городом Новгородом… Войска армии встретили сильное огневое сопротивление противника… С 16 по 20 марта 1943 года включительно все попытки перейти в наступление успеха не имели. Приказом Волховского фронта на основании распоряжения Ставки ВГК наступление войск 52-й армии было прекращено…»
* * *
В полночь я сидел у друзей в шалаше (блиндажей не было). Вдруг со стороны обороны батальона донеслись частые автоматные очереди и редкие винтовочные выстрелы. Связь с Чирковым прервалась. Услышал крик: «Сукнев, там немцы напали на наших!» Тотчас мы завели грузовик, посадили в кузов 15 лейтенантов, только что прибывших из училища, вооружились 10 РПД и погнали к берегу Волховца.
Передвигаемся цепью с пулемётами, наготове, но впереди — мёртвая тишина. Или немцы заняли наши воронки, или прикончили наших и исчезли в своих окопах?! Последнее оказалось верным: на месте мы обнаружили последних убитых из нашего батальона…
Ещё несколько дней я пробыл на той «освобожденной земле», затем, передав «оборону» Жадану, отправился в резерв полка: 1-го и 3-го батальонов не существовало. Остался один, в сотню человек, у Гайчени. Из него свели 1-й батальон, который занял оборону, отойдя с затопленной вешней водой Волхова поймы на основную линию.
Мой штаб — Федор Шкарлат, адъютант Николай Лобанов, появившийся наконец замполит, майор Федор Калачев и ещё кто-то… Нас поселили в отдельном рубленом сарае рядом со штабом полка в лесу. Отсыпаемся. Оттаиваем. Отъедаемся. Пытаясь отойти от этого ада — лелявинского, за ним — штурмового.
Два других полка при том штурме Новгорода понесли незначительные потери. 299-й Токарева, захватив «плацдармик» под Синим Мостом на шоссе Новгород—Москва и оставив там две роты, рассредоточил полк по правобережью Малого Волховца. 305-я дивизия на Хутынь не поперла, а отстрелялась из окопов, подняв суматоху у противника. Там потерь не было!
Мы же умылись кровью. Потери тяжелейшие и абсолютно неоправданные. И ничего, с Лапшина и Ольховского как с гусей вода!..
После войны уже я стоял на том валу — огромной стене. По ней на тройке можно ехать. Когда я рассказывал об этом штурме экскурсоводу, которая возила нас, ветеранов, по Новгороду в 1984 году, она заплакала — не знала о том, сколько здесь полегло…
* * *
В тот год в армии ввели погоны. Почти как царские! Я, сын красного партизана, надену белогвардейские погоны вместо шевронов на рукавах и капитанской «шпалы» (мечта моей юности)?! Из старшего офицера я перехожу в средние. Без шевронов не отличишь строевого командира от интенданта. В погонах все одинаковые. Это, я считаю, было не на пользу дисциплине в армии. Не пойдёт!
Тогда меня вызвал оперуполномоченный «Смерша» в полку Синицын и самолично спорол с меня шевроны, снял «шпалы» и вручил погоны капитана.
Глава 6 «Теперь Сукнев бессмертный…»
Итак, один оставшийся от полка 1-й батальон под командованием Григория Гайчени занял оборону аж в шесть километров — по правому берегу Волхова от Кирилловки до села Слутка. Кем заполнили прорехи в обороне, не знаю. Мне приказ: 5 мая явиться в штаб армии на сборы комбатов. Так я очутился под селом Большая Влоя возле Волховской ГЭС имени Ленина. Сборы планировались на десять суток.
Собрались комбаты, человек семьдесят со всего Волховского фронта. Молодые, прошедшие огонь и воду, даже более грамотные, чем кадровые. Самородки и самоучки. Парни что надо: выправка, осанка, молодцеватость и острый ум в глазах!
Руководил сборами первой партии генерал-майор Аргунов — невысокий, но громогласный и всевидящий. Руководителями занятий по тактике и теории были еще один генерал-майор и двое полковников.
На сборах нас неплохо обмундировали. Снимали мерку, и тут же в палатках швеи-мастера из блокадного Ленинграда шили на нас нововведенные кители и галифе. Выдали хромовые сапоги. Вместо фуражек — офицерские пилотки.
Снова строй. Тактика. Теория. Подъем-отбой! Как же это все очертело, мы и так были будто заведенные автоматы: ночью, бывало, вскакиваем и подаем команды… Я подружился с сослуживцами по бывшей 3-й танковой дивизии, майором Василием Платицыным, командиром танкового батальона 7-й танковой бригады. Это был мой ровесник. Развеселый человек, радушный и общительный. Наши койки в палатке на десятерых стояли рядом. И мы, когда все уже улеглись, еще долго разговаривали. Он мне многое рассказывал о войне в Финляндии, о боях там 3-й танковой дивизии…
Утром все в строй, а мы с ним в лес на природу. Кто помоложе, те пусть потопают на строевой. Это заметил Аргунов, но меня и себя спасал Платицын, известный в армии танкист.
Позднее, в январе 1944-го, Платицын отличился в боях в районе Новгорода, был удостоен звания Героя Советского Союза. После войны ушел в отставку по здоровью, лишился зрения, но не сломался, а окончил Московский государственный университет, аспирантуру, работал юристом.
…Как-то мы с Василием подошли к артиллеристам, которые располагались рядом за леском. Пушки 152-мм. Веселые солдаты решили разыграть меня: попросили найти предохранитель. На теле орудия слева нажимаю на кнопку, отвожу её вправо. Всё точно.
— Ну, пехота, молодца! — заржали крепкие парни.
— На сколько достаёте из этой игрушки? — спросил я.
— На двадцать три километра, а «по площади» — все двадцать пять!
— Снаряды есть?
— Сколько требуется!
— Ставим вопрос — всех вас на прямую наводку к нам! Хватит вам здесь «сачка давить». Мы, пехота, по горло в крови от артогня фрицев!
Смех погас… Вскоре так оно и произошло: орудия многих калибров были поставлены на прямую наводку.
Прибыл со своей бригадой музыкантов Леонид Утёсов! Мы его все знали по кино и слушали по радио. А тут вот он, собственной персоной! На сцене, под летней крышей полукругом, его музыканты и дочь Эдит. Скетчи, одесские шуточки, песни Эдит и её отца под музыку оркестра — это было незабываемое зрелище.
Вечерело. Концерт окончен. И вдруг из-за оркестра появились невысокий, кругленький, розовощекий генерал армии Мерецков — наш командующий Волховским фронтом — и за ним, на голову выше, Маршал Советского Союза Тимошенко!
Аргунов отдал команду:
— Товарищи офицеры! Смирно!
— Не надо, — махнул рукой Тимошенко, и, пройдя с Мерецковым вперед, они сели в первый ряд: Тимошенко впереди меня, Мерецков впереди Платицына.
Просьба Аргунова к маэстро — повторить концерт! Но это было уж слишком: два часа песен, игры, акробатики, люди устали, темнело. Однако вспыхнул свет от заведённого бензинового движка. Будет повтор? Но тут послышался отдаленный рокот немецкого самолёта. Свет погасили. Зрители разошлись. Высокие чины удалились к Аргунову в палатку, и встреча маршала и генерала с офицерами была окончена. Да и можно ли назвать это встречей?
Утром я задержался в палатке — мне принесли из мастерской новенькое обмундирование. Надев его, я крутился перед оконцем палатки: снова ошибка, немного жмет китель под мышками. Внезапно раздвинулась плащ-палатка у входа, и вошел первым полковник интендантской службы Грачев — начальник тыла фронта. За ним выдвинулся Мерецков. Выше его головы — голова Тимошенко, тогда нашего кумира — со времен назначения его наркомом обороны еще до войны, когда он крепко подтянул армию.
Грачев ко мне. Вертит меня туда и сюда, как манекен. Хвалит:
— Ну что, форма отличная. И сидит прекрасно!
Фигура у меня была тогда хорошая, спортивная.
Я не успел и рта раскрыть, чтобы доложиться по уставу, как высшие чины удалились. И больше мы их не видели…
Это посещение оставило у комбатов неприятный осадок. Ночью мы в разговоре осудили своих «вождей» — ни слова от них, ни спроса, ни вопроса, будто мы все тут пустое место, а не те, кто прошёл ад войны… Большинство из комбатов, пройдя путь до батальона, смотря не раз смерти в глаза, не имели даже медали, не говоря об орденах. Так Тимошенко, не говоря о Мерецкове, стал гаснуть в моих глазах…
* * *
Где-то 15 мая я прибыл в полк, красуясь в новой форме, в капитанских погонах с четырьмя звёздочками. Пилотка набекрень, сапоги — как зеркало. На руке — новенькая шинель из английского драпа. Доложился Лапшину и новому начштаба полка майору Очкасову — выдвиженцу из помначштаба-5. Лапшину пришлось пожать мне руку и сказать:
— Отдохни дня четыре и получи задание!
* * *
Находилась при Мариам Гольдштейн старшая медсестра Настя Воронина, высокая, голубоглазая, с косами светлыми, как и вся она, девушка лет двадцати. Не знаю, почему и когда, она влюбилась в меня отчаянно. Мне она нравилась, но не более. В полку я бывал в три-четыре месяца раз. И то на минуты, чтобы снова очутиться в огне боев.
Обмыли мы с товарищами прилично мое «новьё» в шалаше. Вскоре я получил задание Лапшина: принять отряд, обороняющий «малую землю», «пятак» на Малом Волховце у Синего Моста. Приказ есть приказ, и я пошел туда, как обычно, один. Перед этим отдал Насте Ворониной, чтобы сохранила, шинель, новое обмундирование, сапоги и чемоданчик. У меня пока, кроме пистолета, планшетки, полевой сумки и снаряжения, ничего не было: ни людей, ни штаба, а какой-то там «отряд».
Иду по глубокому ходу сообщения параллельно с шоссе Новгород—Москва. От Синего Моста доносится серьёзная перестрелка. Знал, куда послать Сукнева Лапшин! Надеялся на него или хотел избавиться… И вдруг вижу слева, на бруствере, во весь рост лежит молодой капитан-артиллерист, судя по киноварным кантам на новеньком (как у меня) кителе и галифе. Головы у капитана нет. Документов никаких. Есть такая особенность — если ты высунул голову из траншеи, а рядом ударил снаряд, то головы нет, она улетучивается… Пожалел несчастного, иду дальше…
Вспомнилось, как на Лелявинском «пятаке» однажды я не спал трое суток. В первой траншее по-над берегом Волхова, в блиндажике я свалился и мертвецки заснул. Не слышал взрыва снаряда, но, открыв глаза, увидел: блиндаж наполнился стеной пыли и песка, сыпавшегося с потолка-наката. У входа — двое убитых наповал осколками связистов и рядом полевой телефон. Появились другие связисты, унесли погибших. Противник то и дело накрывал нас пачками артиллерийских снарядов. Мне надо было добраться до КП своего полка, к новому заместителю, подполковнику. Со мной пошел старший сержант-пограничник, наблюдатель. Выждав момент, делаем бросок: я первый, он чуть следом за мной. И тут снова нас накрыли снаряды. Я успел допрыгнуть в траншею, оглянулся — моего спутника не было, будто он испарился! Переждав, я возвратился по своему следу, но пограничника так и не обнаружил. Вспомнил: когда бежали, то один из снарядов разорвался позади меня, почти рядом, и меня по воздуху бросило в траншею, куда мы стремились!.. Стало понятно: при попадании снаряда в человека он исчезает, испаряется при страшной температуре взрыва. Таких погибших бюрократия от военных называла без вести пропавшими… Так «пропал» и мой комроты Чирков Петр под стенами Новгорода. Его матушка стала получать пенсию только с 1975 года из-за того, что сообщили: «без вести пропал», а он погиб в воронке, которая затянулась илом после взрыва снаряда… Через 30 лет я всё-таки разыскал документ о его гибели в том бою.
Переправился на ту сторону Волховца лодкой под прикрытием моста и бетонных опор. Вижу, навстречу идет Андрей Мезенцев — однокашник по училищу и тоже капитан, с орденом Красного Знамени за отличие в штурме. Молодец подполковник Токарев: он наградил за тот бой до тридцати отличившихся командиров и рядовых!
Мы, однокашники, теряли своих лучших друзей. Первым пал на поле боя в мае 1942-го в 299-м полку Алексей Егоров, мой однополчанин еще по Сретенску. В июне погиб Михаил Моржаков, бывший курсант, старшина 12-й роты в Свердловске. Исчез из поля зрения Николай Филатов. Кто следующий?!
Я принял назначенное мне «место отсидки» под мостом, где непрерывно от быков отскакивали, высекая искры, пули. Здесь стрельба шла с обеих сторон круглосуточно, там и тут крепостные укрытия. Пали́ в белый свет как в копейку!
Просидел я здесь весь май и половину июня. Из полка — ни звука. Сборный отряд, наполовину из морских пехотинцев, подчинялся 299-му полку и даже нашей дивизии. Видимо, в штабе полагали — держат «место» за Волховцом, и то хорошо! Ведь уже доложено наверх, что мы там закрепились. Но и здесь, нет-нет, появлялись раненые или приносили убитых, переправляя их потом на правый берег…
Моё намерение повидаться с комполка Токаревым не увенчалось успехом, в это время он исчез из моего поля зрения в армейских кадрах, а за него уже был московский осетин Ермишев Иван Григорьевич. Перейти под крыло Токарева мне так и не удалось!
* * *
Возвращаюсь в свой полк. Кто ни встречается со мной — шарахается, как от чумного! Не пойму, страшный я стал какой-то или что? Прихожу в сан-пункт к Настеньке Ворониной. Она, увидев меня, аж присела на топчан с расширенными от испуга или от радости глазами. Спросил: что происходит, почему от меня шарахаются? Настя, ахая, сообщила: на меня давным-давно отправлена домой «похоронка» с извещением о том, что я убит. Не веря своим глазам, она даже положила руку на мое плечо:
— Ты ли, Миша?
— Да я! Чёрт-те что! — вскричал я, и узнаю суть дела и подробности: того капитана, которого я видел на бруствере без головы от попадания снаряда, в новеньком форменном кителе, приняли за меня! Но не обратили внимания на петлицы и канты артиллериста.
— Настя, как же ты забыла, я же оставил тебе на хранение своё обмундирование и шинель!
Настя окончательно растерялась, приняв на себя вину о слухах…
* * *
До начала октября меня направили курировать — судить тактические учения в ближний прифронтовой запасной полк. Там у меня украли полевую сумку с важнейшими документами, кое-какими наградами, записями и адресами… Переживал страшно. В голове не укладывалось: как можно служить в РККА и красть? Что же это, армия или сброд?!
Вернулся в полк. В первых числах октября, еще было тепло, 1-й батальон Гайчени бросили форсировать Волхов и брать высоту Мысовая, расположенную неподалеку от новгородского пригорода Кречевицы. Это была не высота, а береговой мыс на западной стороне реки. На рассвете без надлежащей артподготовки, не подавив основные огневые средства противника, батальон на лодках (в которых каркасы были обтянуты брезентом) достиг середины реки и был встречен ураганным артиллерийским и пулеметным огнем немцев. На противоположный берег высадились две трети батальона, остальные пошли на дно Волхова с лодками и пулеметами… Это был расстрел, как и при штурме Новгорода!
Семь дней бился батальон, погибая в неравной схватке. Они все-таки прорвались до шоссе Подберезье—Новгород, уже северо-западнее высоты! Но помощи не было ни от полка, ни от дивизии. Эту высоту хотели взять «на авось», что стоило полку гибели батальона, его командира Григория Гайчени и замполита Федора Кордубайло. Что думали они, погибая?..
Без резервов, необходимой артподготовки им было приказано брать высоту с форсированием реки шириной 600 метров. Это — безумие!
И снова Лапшин, Ольховский и штаб дивизии — молчок…
Высоту Мысовая перед этим уже брали, но по приказу командарма Яковлева почему-то оставили. И противник укрепил её неприступно.
На седьмой день Лапшину доложили с той стороны: пропал Гайченя. Тогда Лапшин послал туда командира пулемётной роты Александра Жадана с заданием найти Гайченю и доложить. Жадан рассказывал: «Как я выполз из этой страшной свалки наших и фрицев, не понимаю!» Но Гайченю он так и не нашёл.
Я же был в окопах со своим полуштабом батальона «запасным». Если подойдет подкрепление, то я приму его и форсирую Волхов, вступлю в бой! В том огне, которым поливала нас немецкая артиллерия по всей обороне в Слутке, мы не имели ни минуты отдыха. Ждали — какой снаряд твой…
Я пробрался ходами сообщений в северную часть села, которого уже не было как такового. В одной из воронок делала первую перевязку приносимым и приводимым с той стороны раненым Саша Лопаткина — Шурочка, как мы все ее звали. Снаряды пачками рвались рядом. Я увидел ее черные глаза во все лицо — глубокие, с каким-то самоотверженным выражением. Руки Шурочки были по локоть в крови! Но ни осколку, ни взрыву рядом, ни пулеметной очереди, прошедшей поверху, она не кланялась!
Этого мне никогда не забыть. На встречах ветеранов дивизии Александра Лопаткина, москвичка, не появилась. И где она, что с ней — мне неизвестно… Это была самая отважная из санинструкторов полка. Где особенно горячо — там Шура Лопаткина! У неё был друг — майор Федор Калачев. Но в декабре 1943-го его сразила страшная экзема, и он был отправлен в тыл. Больше я с ним не встречался…
Начиная операцию по овладению Мысовой, командование — все сверху донизу — не подумало о резерве на развитие наступления. В результате батальон погиб полностью, и в нем те командиры взводов, кто выжил после МАРТОВСКОГО ШТУРМА, — все! Николай Герасимов на встрече в 1984 году говорил мне: «Как я тогда выжил, не пойму!»
Кто-то тогда в октябре 1943-го брякнул, что по дороге на Кречевицы видели, как немцы вели в плен высокого молодого белокурого офицера, и Лапшин, поначалу хотевший подписать на своего любимца Гайченю наградной лист на орден Красного Знамени, положил ручку на стол: «Как бы чего не вышло…» Мне было стыдно и гадко за то, что в армии я встречаю среди своих начальников бездушных карьеристов!
Когда батальон полностью погиб, Лапшин, собрав по берегу человек десять «болтающихся штабных», посадил их в лодку и крикнул резервному комбату: «Сукнев! Давай на помощь Гайчене! Сукнев!» — но тот, будучи в окопе по-над Волховом, испарился из Слутки подальше от греха. Я исполнил бы этот страшный приказ, но пристрелил бы этого идиота!.. А там — все равно держать ответ перед Всевышним!
* * *
Теперь, собрав остатки со всех служб, сколотили подобие 1-го батальона. Во 2-м у Кальсина было две роты. Мне приказано принять только что прибывший 3-й батальон.
Сформировали из вновь прибывшего пополнения, под триста пятьдесят штыков, батальон. Командиры на местах. Лапшину потребовалась зачем-то рекогносцировка переднего края, куда должен был встать в оборону полк. Нам было известно здесь всё до последнего пенька! Мы давно уже здесь стоим, все пристреляно. Какая рекогносцировка?! Зачем? Мои офицеры, третьей группой по счету, направились по ходам сообщений к переднему краю. Противник уже засек предыдущих. Постояли, похлопали глазами. Река. Тот берег, а там — кто знает, что и как?!
Возвращаясь на КП батальона, идем по прямому ходу сообщения, кто-то же вырыл такую ловушку! Командую: «Идем быстрей! Тут неладно». Только мы туда зашли, снаряд как даст! Все мои пять человек на бок, все ранены осколками, хорошо, что не смертельно. Всех — в госпиталь! Меня как подкосило чем-то, упал, ничего не пойму. А это снова смерть моя была…
* * *
Дней через десять моих командиров рот, легко раненных, выписали из медсанбата. Мы заняли на том же участке оборону, КП батальона я выбрал в обширном овраге, который был вырыт кирпичным заводом, с выездом к Волхову. На созванном совещании в полку Лапшин поставил нам «очередную задачу» — по мере возможности добыть «языка».
Проверяя на чистоту личное оружие, я обнаружил, что ствол моего револьвера почему-то повело в ненормальное положение. В рамку и барабан врезался огромный осколок величиной с голубиное яйцо. Тогда-то стало мне понятно, почему меня сбило с ног разрывом снаряда во время рекогносцировки!
Я показал Лапшину это «сокровище». Тот подбросил осколок на ладони и объявил собравшимся командирам: «Смотрите! Это была смерть Сукнева! Теперь он бессмертен!»
Я обычно не носил револьвер, ибо в окопах кобура терлась о стенки узких ходов сообщений. Был у меня ППС рожковый Судаева. А тут взял и, двигаясь по траншеям, сдвинул кобуру на спину. Это и спасло меня от гибели — осколок мог пройти от поясницы в лёгкие.
Глава 7 Штрафбат. «Чёрная кошка»
Середина октября 1943 года. Было относительно тепло и солнечно, против прошлой страшной зимы, когда немцы и испанцы целыми подразделениями замерзали до смерти в окопах в своих летних шинельках и пилотках, в сапогах.
Глиняный карьер стал нашему батальону «крепостью», куда не залетали снаряды противника, тем более пули. Вдруг зуммер — звонят с КП полка. Лапшин, вызвав меня к телефону, выкинул шутку:
— Сукнев, я тебя снимаю с командира батальона! — Это мне удар прямо в лоб и плевок в душу!
— Ну и что, поживем в тылу — хватит для меня и Лелявина! — почти со злостью отвечаю. Ясно — дальше передовой все равно никуда не отошлют. Даже солдату в обороне легче выжить, чем командиру взвода, роты, батальона. Солдат сидит в одном месте и сидит, а ты должен бегать от одного к другому. Ловить пули и осколки.
Лапшин, поняв, что «пересолил» в шутке, засмеялся:
— По рекомендации командования дивизии тебя назначают командиром отдельного штрафного батальона! Согласен? Это повышение, у тебя же почти тысяча человек будет. Дмитрий Антоныч, все за тебя.
— В чье подчинение этот батальон? — уточняю.
— Дивизии и штаба 52-й армии. Но снабжение и довольствие от нашего полка.
— Согласен! — чуть не вскричал я, ибо это означало конец пребывания в подчинении этого неприятного человека…
* * *
Сдав батальон устно новому комбату Кальсину, мчусь в штаб дивизии. Принял меня подполковник Лось — мой хороший знакомый, однако его положение первого заместителя комдива Ольховского связало мне язык. Именно Лось меня рекомендовал на новое «поприще» с согласия «Смерша» и тут же зачитал выдержки из приказа наркома обороны СССР И.В. Сталина № 227 от 28 июля 1942 года:
«…Сформировать в пределах фронта от одного до трех (смотря по обстановке) штрафных батальонов (по 800 человек), куда направлять средних и старших командиров и соответствующих политработников всех родов войск, провинившихся в нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости, и поставить их на более трудные участки фронта, чтобы дать им возможность искупить кровью свои преступления против Родины».
Ну и ну! Неожиданный поворот.
Тогда я совершил серьезную ошибку, повлиявшую на мою судьбу, — отказался стать заместителем командира 299-го полка у подполковника Токарева, своего кумира.
И сейчас не все продумал: батальон будет под тысячу штыков, автоматов не было. Надо было бы мне поставить пожестче вопрос: это уже почти бригада, и необходимо сопровождение артиллерией — полковыми орудиями и минометами. Ведь я становился ни «вашим», ни «нашим» для полка, дивизии, а штаб армии, как говорится, «за морем телушка полушка…». И до Лося это не дошло.
На время формирования и некоторой учебы по тактике и стрельбе батальон должен был занять упомянутый выше глиняный карьер, куда можно было ввести в «штольни», вырытые в стенах, до тысячи человек. А 3-й батальон уходил ближе к переднему краю обороны севернее села Слутка. Мне задача: пока батальон в пути, выбрать лучших командиров рот и взводов, а также сержантский состав из полков дивизии. Старший адъютант батальона — старший лейтенант Николай Лобанов, заместитель по части строевой и боевой — капитан Кукин, комиссар, то есть замполит — майор Федор Калачев. Командиры рот: 1-й — капитан Шатурный Николай Николаевич, сибиряк из Томска; 2-й — старший лейтенант Крестьянинов; 3-й — старший лейтенант Петрик Иван Федорович и пулеметной — отважный Александр Жадан. Все командиры взводов, сержанты и старшины рот ждут прибытия контингента! Гадаем, кого пришлют? Объявлено, что календарный зачет службы в штрафном батальоне год за шесть лет! (Но это, увы, был обман.)
Штрафные батальоны, как известно, были созданы по образцу немецких. Перед нами, кстати, стояли немецкие штрафники.
Батальон — разношерстную толпу — под усиленным конвоем привели энкавэдэшники. И сдали мне под «личную ответственность».
Знакомимся с делом каждого штрафника. Среди них офицеров от младшего лейтенанта до старшего (капитанов не было) — под сто пятьдесят человек, все осуждены за «нарушения воинской дисциплины», за драки, «прелюбодеяния», за то, что утопили танк, направляясь «попутно» в деревушку к знакомым девчатам, и т. п. И даже из наших войск в Афганистане попали ко мне двое лейтенантов, которые подрались на квартире пожилого командира полка из-за его любвеобильной молодой жены. Лейтенантам дали от одного до трех месяцев штрафного. Как этот срок пройдет или штрафник раньше отличится, подписываем документ, и он отправляется в свой полк, надевает погоны, служит дальше.
Эта рота элитная, думаю, не подведут лейтенанты! 2-ю роту сформировали из 200 гавриков — одесских и ростовских рецидивистов, которым заменили штрафным батальоном длительные сроки отбывания наказаний в тюрьмах и лагерях. Несколько привезены с приговорами к смертной казни — расстрелу. Это медвежатники, аферисты, громилы по квартирам и налётам, но умнейший народец. Рассудительные, технически образованные, всё же такие механизмы, сейфы в сберкассах, вскрывали. Им лет по 28–35, физически крепкие. Как они мне объяснили, одессит — это русский, грек, украинец и еврей… Анекдоты потом рассказывали — от смеха падаешь.
3-я рота — басмачи, 200 человек таджиков, туркмен и ещё откуда-то из Средней Азии. Они все, как мы говорили, «бельмей», по-русски якобы не понимали поначалу. Их поручили Николаю Шатурному, сносно говорившему по-таджикски.
Каждого из штрафников «пропускал через свои руки», допрашивал, вездесущий наш, бывалый по Лелявину, оперуполномоченный «Смерша» Дмитрий Антонович Проскурин, уже в звании капитана госбезопасности.
В большом котловане провели митинг с вновь прибывшими. Слово комбату, то есть мне. Вот где, пожалуй, пригодились мои познания, почерпнутые из приключенческой и криминальной литературы всех времен и народов. Главное — подход к душе, особенно это относится к опасным преступникам, в данном случае к умнейшим во всех отношениях одесситам и ростовчанам.
Я знал душу человека. Возвращаясь к разговору о том, каким должен быть командир, снова, скажу: он должен быть начитан, не только детективы, но вся классика у него должна быть в голове, и Пушкин, и Лермонтов, и Некрасов, и другие поэты и писатели. Иначе командира не будет!
Так вот, объявляю: с этого часа тот, кто состоит здесь, в батальоне, не преступник, не вор, а воин Советской Родины, её защитник. И чтобы я не слышал слова «штрафник» — мы здесь все равны, и если придется умереть в бою за Родину, то на равных!.. Вы обыкновенная отборная часть. Теперь давайте отличаться. Какое задание получено — в огонь и в воду. Моё слово — закон, по уставу. Тут они все воспрянули духом. Началась подготовка батальона к выходу в оборону или в наступление, а может быть, к худшему — разведке боем за проклятыми «языками», которые доставались нашим войскам слишком дорого!
Всё шло как надо. Только рота Шатурного, так называемая «бельмей», говорить по-русски, стрелять из немецких трофейных винтовок отказывалась. Надо было видеть: идёт строевая подготовка. Шатурный наступает на ногу басмача и командует: «Левой, левой», а тот всё старается поднять правую. Шатурный наступает на носок валенка и продолжает «учить». Народец хитрющий… Выбираю несколько рослых и по лицам сообразительных басмачей, грамотных, как пишется в их личных делах. Переводчик — Шатурный. Доказываем им, что они, басмачи, лучшие стрелки и наездники-кавалеристы, и «нечего придуряться…». Почти все без толку! Не поддаются.
Как назло, рядом в лесу встал из резерва до распределения батальон… СВЯЗИСТОК! Да каких: одна краше другой! Одесситы сразу ко мне, комиссара Калачева они избегали. Просят разрешить им пригласить в гости девчат-связисток, только на один вечер, в их «штольни».
— Вам, товарищ комбат, приведём самую красивую! — предложил один, с которым мы ещё встретимся в Одессе после войны…
Знаю, если отказать — в бою первая же пуля моя! Что делать? Придётся разрешить, но при этом достать СЛОВОМ до души! Иначе беды не избежать ни им, ни мне. Подгуляют, разберутся по парам… Говорю:
— Одно главное условие: тишина и никаких излишних возлияний, товарищи! В полночь чтобы в расположении батальона никого из связисток не было. Мне же не положено быть при вашем бале-маскараде!
Сто благодарностей в мой адрес. И ночь прошла наполовину весело, но к утру все мирно-тихо. Даже наш «Смерш» этот «бал» прозевал, а комиссар Калачев, друг мой, промолчал. С этого часа у одесситов и ростовчан, серьёзного воровского мира, я стал больше, чем товарищ, — БОГ!
В последующих боях они старались защитить меня от шальных пуль, подставляя себя, боясь потерять «такого» комбата… Кстати говоря, мою охрану составлял взвод автоматчиков из одесситов. Этот взвод был и резервом в бою.
Смотришь фильм 1989 года Одесской киностудии «ГУ-ГА» о штрафниках, и не хватает зла на сценаристов — сплошная ложь, вымысел! Даже написал на киностудию письмо. Но кто нас, фронтовиков, слушает? Картинка из фильма. Идет строй в ряд по четыре, с ПРИМКНУТЫМИ ШТЫКАМИ на винтовках на ремне. Разве так ходили? Ведь запнулся и переднего убил. Или такой эпизод. Никто не хочет петь строевую. Комбат кладет строй несколько раз на пыльную дорогу: «Встать! Ложись! Встать! Ложись!» Какая же чушь. Ведь в первом же бою такого командира ждет пуля или нож в спину.
…Но вот прошло время военной подготовки. Звонок от самого комдива Ольховского.
— Сукнев, к вам со мной завтра в полдень будет генерал Артюшенко! Смотр. И гляди, что не так, он бьёт в ухо! — смеётся полковник.
— Сойдемся характерами, — ответил я Ольховскому.
А Артюшенко действительно мог. При мне одному полковнику как дал! Ну, думаю, до этого не допущу, я — строевой, гвардеец. Перед этим мне друг, помощник начальника штаба из дивизии Волков привез прямо в лес новенькие майорские погоны, которые мы с ним и обмыли.
* * *
Следующий день. Полдень. Батальон выстроен по лесной дороге, нами же утоптанной. Впереди офицерская рота. За ней — медвежатники, как я уже говорил, грамотнейшие технари на все руки, чуть ли не интеллигенция. Последняя — пулемётчики, тоже из офицеров. И замыкающие — рота басмачей.
Из лесной просеки перед строем появилась кошевка, которую нёс строевой вороно́й, в белых чулках, рысак. Из кошевы вышли начальники — наш комдив и генерал. Остановились перед строем. Даю команду: «Батальон, смир-рно! Равнение на — средину!» — и чеканю шаг с рукой у виска, от строя прямо к генералу Артюшенко, высокому, как и маршал Тимошенко, только молодому, не так давно произведённому из полковников в тихвинских боях. Доложил строго, звонко, точно по уставу, ни задоринки, ни «пылинки». Вижу, Артюшенко понравилось. «Слава богу, пронесло!» — подумалось. И Ольховский довольно усмехается. Он невысокий ростом. Стоят они с генералом будто Паташон с Патом…
Артюшенко вдоль строя идёт, я следом. А один басмач ночью заснул у костра, сжёг половину полы. Я его поставил в четвёртый ряд, а он вдруг вылез в первый. Ругаю его: «Какой чёрт тебя вытащил! Три шага назад! Чтоб скрылся с переднего ряда!» Артюшенко захохотал, говорит потом: «Ну ладно. Давайте — маршем пройти».
Командую своим орлам, командирам рот: «Шагом марш!» И всё — руби ногой! — пошли. Ну там снег, идут в валенках, рубить-то нечем. Первыми — русские офицеры, очень хорошо прошли. Одесситы за ними следом — ничего прошли. Потом эти басмачи. Все такие неуклюжие, малорослые. Может быть, бандиты они хорошие, а вояки никакие, это их в кино героями показывают. Но старались и они. В интервал между ротами выскакивают человек пять вперёд и пляшут какую-то свою национальную «увертюру», кричат: «Ла-ла-ла». Артюшенко как грохнет, сколько духу захохотал. Махнул рукой: «Поехали!»
В ухо я не получил от благодушного, как мне казалось, генерала-фронтовика, командира нашего 14-го корпуса
…Мы заняли оборону центром в селе Слутка, где не осталось ни одного дома, избы, все изрезано траншеями и ходами сообщений, на высоком берегу против высоты Мысовая, где погиб 1-й батальон Гайчени. Там, на западном склоне, на кладбище, могила Григория Гайчени, потом обнесенная металлической оградкой. На мраморной плите — его портрет и имя… О его комиссаре Фёдоре Кордубайло, русском греке, ни слова, хотя он после геройской гибели Гайчени вел батальон дальше в прорыв и погиб тоже героем… Тогда здесь погибли многие командиры взводов и солдаты из нашего, лелявинского, 1-го батальона.
* * *
3-ю роту — из басмачей — вывели в первые траншеи в Слутке. Это движение противник заметил, но молчал в ожидании нашего нового безумного броска на высоту…
Шатурный командует, чтобы один из взводов роты стрелял залпами по той стороне. Но на всё ответ — «бельмей». Другой взвод — тоже «бельмей». Но я-то знал, что басмач должен снимать из винтовки пулей птицу с неба!
Шатурный руками разводит. Пришлось вмешаться.
— Товарищи «бельмей»! — обращаюсь к роте. — Ставим вам на пятерых по ящику патронов — это под триста штук. И чтобы к утру в них не было ни одного не выстреленного патрона. Если у кого останется, того лично буду расстреливать! Бельмей?
Закивали головой. И всю ночь дружные залпы из трофейных винтовок доносились от Слутки.
Сами немцы обычно ночью стреляли трассирующими всю ночь. Всегда, когда к передовой подходишь, видны красноватые, зелененькие, розовые трассы. Вся их передовая живет до утра. И ракеты осветительные вешают. А наша сторона молчит. Во-первых, стрелять незачем, во-вторых, патроны экономить надо, их обычно был недостаток. А те лупят. И как? Если холодно, они днем пристреляют цели, шнур привяжут к рычагу, сидят в блиндаже за 300 метров от окопа и дергают. Наши разведчики, бывало, придут — пулемет стреляет, пулеметчика нет. Ползают, ползают по траншее, а обратно придут пустые, без «языка». Так было у Лелявина и потом.
Басмачи палят, всё исполнили. Уперев приклад в землю, между ног, палили в тёмный свет, как в копейку. А немцы молчат — не поймут, что за стрельба залповая гремит. И пули-то немецкие, и трассирующие, и разрывные, но к ним не летят. Может, подумали, что русские с ума сошли…
Двое басмачей-штрафников совершили самострелы: с расстояния в несколько метров выстрелили себе в ладони из винтовок. Такое каралось расстрелом…
В той же впадине-овраге я поставил на исполнение приговора пятерых автоматчиков-одесситов. Залп — одного расстреляли. Поставили второго, здорового мужчину. Залп — и мимо! Ещё залп — и тоже мимо! В царское время, говорили одесситы, при казнях, если оборвалась веревка или пуля не сразила приговоренного, его оставляли в живых. Одесситы — это ходячая энциклопедия: чего только от них не наслушаешься…
«Спасая положение», чекист Дмитрий Антонович Проскурин выхватил из кобуры свой пистолет и, прицелясь, с усмешкой, как обычно, выстрелом убил приговоренного!
Я ему бросил: «Это убийство!» — но он снова усмехнулся. Это к характеру тогдашних энкавэдэшников…
* * *
Командование дивизии пыталось-таки наш батальон бросить снова на захват этой высоты, которая нам не была и нужна. Но тут узнаем: мы переданы 59-й армии генерала И.Т. Коровникова — блестящего военачальника! Но я послал вперед несколько басмачей, которые имитировали атаку через волховский лед и вернулись тотчас. Немцы искрошили лед в крошево снарядами, но впустую.
Командование дивизии молчит. Полка тоже. Будто проглотили горькую пилюлю. Конечно, я рисковал головой, но меня тут поддерживал наш незаменимый оперуполномоченный Проскурин. А у него, чекиста, был авторитет «выше наркома», в нашем, конечно, масштабе!
Приближался январь 1944-го, решительного. Разведчики дивизии, корпуса, армии, наконец, не могли взять «языков», так нужных перед предстоящим наступлением наших войск. Тогда кто-то из штабных «умников» придумал понятие: «разведка боем» за «языком». Противник немедленно принял контрмеры. Выдвигает на ночь впереди своих заграждений посты пулемётчиков, по-над берегом. И только наша разведка ротой или даже двумя подберется к берегу, еще на льду, как от основной немецкой обороны поднимаются осветительные ракеты — и наши видны как на ладони. И их расстреливают в упор!
Разведку боем называли разведкой жизнью… Потому что перед настоящей разведкой боем надо сначала как следует обработать передний край противника артиллерией. А у нас додумались — без всякой подготовки. Те подпускают вплотную, обратно никто не возвращается. На глазах у меня убивало по роте… Все лежат белые, как гуси-лебеди, в маскхалатах, никто не шевельнется. Позади же 500 метров льда, где спрячешься? Ровное поле, где-то жёлтенькие пятна от мин. Пуля догонит далеко. А у них на каждые десять метров — пулемёт. Чётко, по науке. Все пристреляно.
…Однажды последовал вызов всех комбатов корпуса к Артюшенко: зачем — неизвестно. Собрались в большом строении из отесанных сосен. За дощатым столом возвышается Артюшенко Павел Алексеевич, рядом Петр Иванович Ольховский и еще кто-то из штаба дивизии. На стене позади них висит большая карта-трёхверстка.
Артюшенко обратился к командирам батальонов — как правило, молодым выдвиженцам из нашего брата, довольно грамотным, сменившим бездарных «старичков», которых повысили до командиров полков или отправили по штабам.
Комкор рассказал обстановку. Скоро начнется общее наступление. Нужен «язык» во что бы то ни стало!
— Кто из батальонов возьмёт «языка», комбату — орден Красное Знамя. Исполнителям — Красная Звезда!
Вдруг Артюшенко спросил:
— А где этот, у которого «аля-ля-ля!»?
Понятно, о басмачах, значит, обо мне. Я сидел, спрятавшись за среднюю стойку-столб. Пришлось показаться.
— А ну, комбат, иди к карте, — сказал Артюшенко, усмехаясь. — Бери указку. Командуй войсками: как нужно брать Новгород?
После разгромного штурма в марте мне это было ясней ясного. Я примерно распределил войска по окружению города с глубоким обходом с севера, форсируя Волхов, и с юга, через Ильмень-озеро. И в точку!
— Ну, комбат, ты пойдёшь далеко! Диспозиция — прибавить мелочь! — сказал мне Артюшенко дословно.
…Разошлись. А впереди — 25 декабря (католическое и протестантское Рождество), я этот день знаю, немцы не стреляют, пьют крепко, им разрешено. Наблюдатели тоже не удерживаются. Бдительность притуплена.
Одесские разбойнички высмотрели один засадный пулемет, что выдвигался немцами в начале ночи. Рассчитали точно: когда появятся пулеметчики, когда будут сменяться. Откуда бросают осветительные ракеты. Систему огня дотов и дзотов. Пришли ко мне на КП, докладывают, да еще как! Не каждый командир так изложит диспозицию по захвату «языка».
— Товарищ комбат, засекли мы один их секрет. Но пойдём днём. Ночью подкараулят, ракета — и нам конец.
— Что вы, ребята, днём?! — удивляюсь я.
— Мы перебежим Волхов перед самым заходом солнца.
Что ж, 500 метров не так далеко для молодых глаз.
— Разрешите нам, шестерым с комроты Крестьяниновым, перейти Волхов до темноты! И из засады брать фрица!
Ребята настаивают: украдем фрица, и все тут!
Это что-то новое. Идти при закатном солнце, когда противник изволит ужинать, в Рождество приняв приличную дозу застольного. На то и расчёт.
Но слева высится кирпичная труба электростанции высотой до пятидесяти метров. И там НП противника. Вся оборона сплошь утыкана огневыми, пулеметными точками, глядящими на Волхов из амбразур…
Я собрал свой штаб. Советуемся. Калачев, Лобанов, зам по строевой Кукин, командир роты Крестьянинов. Проскурина не было. Одесситы настаивают. Они идут на смерть, чтобы «заслужить доверие народа»!
Мы знали, что воры к немцам не убегут. Те им всё равно воровать не дадут…
И мы согласились.
Шестеро разведчиков с командиром Крестьяниновым в маскхалатах, бросками, где по-пластунски, где юзом, где, согнувшись, бегом, миновали лед Волхова и успели залечь вокруг окопа — пулеметной засады немцев.
Темнота сгустилась. С той стороны — тишина. Немцы повесили по нескольку ракет. И вдруг слышим глуховатый взрыв гранаты Ф-1. Ещё через несколько минут появились разведчики, неся на руках немецкого унтер-офицера, легко раненного в бедро.
Как рассказали одесситы, минута в минуту появился немецкий наряд, трое с пулемётом. И тут среди воров один, совсем неопытный, вытащил кольцо из гранаты — эфки. И держит. А рука-то устала. Куда бросать? Бросил в немца, идущего сзади, двоих убил. А старшего, пулемётчика, схватили. Пока волокли, немцы молчали. Уже притащили, и тут как грянет артиллерия. Всю оборону батальона накрыли, через каждые три-четыре метра ложится снаряд или мина. Они обнаружили, что с поста украден унтер-офицер, хотели уничтожить «языка» вместе с нами. У них унтер — это фигура была, не то что у нас старший сержант. Все шестеро воров в землянке легли на немца, лишь бы он живой остался. Ворам свобода нужна…
Обошлось. Мы на КП батальона. Вызываю по телефону дежурного по штабу дивизии. Требую Ольховского, который изволит отдыхать! Его подняли, и он у трубки.
— Товарищ ноль-первый, приказ Артюшенко мы выполнили: взят «язык»!
— Какой «язык»? — не понял спросонья полковник.
— Взят немец, унтер-офицер, нашими!
— Давай, давай его сюда! Бегом! — обрадованно вскричал Пётр Иванович, окончательно очнувшись от сна.
Погрузив «драгоценность» на сани, разведчики и Крестьянинов прямиком увезли «языка» в штаб дивизии. Ольховский лично вручил Крестьянинову орден Красного Знамени, остальным — Красной Звезды! Вот так штрафники! Вот так медвежатники! Утерли нос всей нашей армии и Волховскому фронту!
Нигде в исторической литературе этот случай не отмечен. Пишу о нем я первый.
* * *
14 января 1944 года войска левого крыла Ленинградского и Волховского фронтов начали общее наступление, Новгородско-Лужскую операцию. После часовой сильнейшей артиллерийской подготовки волховчане северней Новгорода десятью дивизиями, южнее — через озеро Ильмень, бросились лавинами на врага! Я, не скрою, был доволен: примерно так же я «играл» по карте-трехверстке перед генералом Артюшенко.
Перерезались дороги на юг к Шимску и на север от Новгорода на Лугу. Противник оказывался в полном окружении и рвался в этих направлениях. Наш батальон в 800 штыков при 10 станковых и 40 РПД рассредоточили поперек шоссе, справа и слева по берегу Малого Волховца на случай, если противник начнет прорыв окружения по этому шоссе. Я лично расположил бойцов по траншеям, огневым точкам, скоординировал систему ружейно-пулеметного огня. И мы приготовились.
Позднее узнали: когда противнику были отрезаны пути на юг и на север, в Новгороде оказались в окружении до пяти тысяч немецких солдат и офицеров. Это были те, кто еще в 1941-м расчищал себе дорогу огнем и мечом на Ленинград. Отборные части!
Мой батальон поставили, чтобы отступающие немцы не могли вырваться из Новгорода. Я был как заградотряд, но не против своих, а против немцев. Хотя академик Арбатов утверждает, что нас караулили сзади заградотряды. Неправда! У нас их не было. У нас достаточно этого «Смерша» было, который всё видел. Сразу тебе шею свернут… Обычно, если немцы наступали, они окружали нас, где заградотряд поставишь?
Наш правый фланг располагался напротив устья протоки Малый Волховец, у местечка Стрелка, за ним видны Кречевицы. Левый фланг пересекал шоссе за Синим Мостом возле разрушенной церкви. Роту басмачей я усилил взводом офицеров. Внезапно от Новгорода, еще занятого противником, появился старый знакомый — самолет-разведчик, который нас выслеживал еще в Лелявине и под Новгородом на том пойменном поле перед земляным валом… Верхнеплан «Физелер Шторьх», утверждали знатоки. Здесь, где мы стояли, напротив Хутынского монастыря, берега реки высокие и одинаковые. Я как раз находился у пэтээровцев, имевших три противотанковых ружья. Самолет прошел на уровне берегов, покачивая крыльями, чтобы лучше осмотреться в поисках слабых мест в нашей обороне. Потом, обойдя Хутынь с запада, снова приближается по этому же пути. Такую глупость допускать можно школяру, но не боевым лётчикам!
Успеваю зарядить ружьё, приготовиться к стрельбе, всё рассчитал. И только самолёт поравнялся с нашей позицией, метрах в пятидесяти, я выстрелил. Отбил надолго себе правое плечо с непривычки — отдача сильнейшая! Но самолёт с остановившимся мотором, вихляя с боку на бок, как подбитая птица, резко снижался и уткнулся в противоположный берег Волхова у Стрелки! Двое лётчиков выметнулись на прибрежный лёд и тут же нашими были взяты в плен.
Наш новый адъютант батальона лейтенант Гильман, родной племянник замполита дивизии полковника Гильмана, вызвал своего дядю по телефону и доложил о сбитом самим комбатом самолёте, что «тянуло» на орден.
* * *
1349-й полк Лапшина в составе всего лишь одного 3-го батальона и нескольких мелких подразделений, форсировав дважды Волхов, минуя Хутынь, проследовал, можно сказать, без боев до пригорода Новгорода — Деревницы. Здесь Лапшин облюбовал шикарный офицерский бункер с коврами на стенах, не вызвав для проверки саперов с миноискателями. Занимать непроверенные помещения было строго запрещено, ибо гитлеровцы изощренно всё минировали, даже подбрасывали с самолётов детские игрушки, начинённые взрывчаткой. Из штаба полка пришел связной, довольно наглый штрафник из интендантского десятка. Он вручил мне записку от начальника артиллерии полка майора Петра Наумова, которой сообщал: «Высылаю тебе трофейный офицерский белый шарф…» Но этот тип заявил, что «потерял его дорогой»: вор есть вор, я его отослал от штаба в роту. Этим шарфиком Наумов «искупал свою вину»: находясь все время при штабе, он познакомился с Машей Белкиной, моей знакомой, не более, и стал её… мужем. Что ж, пара прекрасная! Я был совсем не в обиде на друга.
* * *
Тем временем Лапшин вызвал в тот бункер всё командование полка: замов, помощников, начальников служб и командиров батальонов. Чтобы быть в курсе происходившего в городе и в полку, с которым надо было координировать действия нашего батальона, я послал туда старшего лейтенанта Николая Лобанова, выросшего в офицеры из рядового-пулеметчика. Следом получаю приказ из дивизии: «Сниматься и следовать в город в район моста через Волхов». Среди мрачных развалин заснеженного Хутынского монастыря были замечены несколько гитлеровцев, видно отставших от своих. Я предложил лейтенанту Гильману, вооруженному автоматом, с двумя другими автоматчиками из офицеров отличиться на орден — подобраться туда и уничтожить фашистов. Гильман охотно согласился, я же дал ему в придачу к автомату гранату Ф-1, засучив на правой руке маскхалат с рукавицей, пришитой к рукаву. Предупредил лейтенанта: смотри, чтобы граната не попала в рукавицу! Они по-пластунски двинулись вверх по глубочайшим сугробам. Сверху, заметив троих гитлеровцев, лейтенант Гильман бросил гранату. Но она попала… в рукавицу маскхалата. Гильману крикнули те, кто был рядом, чтобы руку засунул поглубже в сугроб. Это исключило бы поражение смертельное, пусть будет потеряна рука. Но он лихорадочно начал извлекать гранату — и последовал взрыв…
Это было несчастье, которое допускали даже опытные разведчики, вгорячах, когда надо было внезапно принимать бой.
Положили на носилки погибшего. Батальон тронулся к центру города, к железнодорожному мосту, не имея связи ни с дивизией, ни с полком. Где-то на половине пути мы встретились с Лобановым, который только что был в 1349-м полку Лапшина. Доложил Лобанов невероятное. Он опоздал на совещание к Лапшину, поэтому пришел тогда, когда от бункера остались одни развалины. Рядом лежали мертвые тела, искалеченные взрывом огромной силы… Выживший помначштаба полка рассказал Лобанову о случившемся.
Последним на совещание прибыл Наумов и присел у входа. Совещание было в разгаре, о чём шла речь, я не помню, до меня это вообще не дошло. Наумов, заметив два конца провода, торчащих из стены, механически соединил их. Раздался взрыв фугаса, который всех присутствующих выбросил вверх вместе с накатами! Погибли майор — новый замполит полка, подполковник — заместитель по строевой, начальник штаба Очкасов. Наумова, товарища моего, который спас нас под Новгородом, разорвало в клочья, ничего от него не нашли… Остальные были тяжело контужены, как и сам Иван Филиппович Лапшин!
Позднее на перепутьях 3-го Прибалтийского фронта, у реки Великой, я встретился в последний раз с полковником Лапшиным, который вел «урок тактики» для командиров нескольких полков и для меня, грешного. Но это был смех, а не урок.
И ещё один памятный момент из пребывания в Новгороде. Центр города заняли полки и штаб 225-й дивизии. Вдруг по мосту через Волхов промчались санки. Серого коня гнал немец, и только санки проскочили на берег, как взрывом разнесло мост от берега до берега. Фрица перехватили. Добрый по натуре Ольховский, оказавшийся здесь же, начал избивать немца, ругаясь на чем свет стоит. Понятно, такой мост взорван!
В день взрыва в блиндаже Лапшина меня не нашли. Видно, намеревались в штабе дивизии назначить меня командиром полка, ибо я, по мнению многих, заслужил это, будучи комбатом два года. Но гибель лейтенанта Гильмана, к которой я имел косвенное отношение, повлияла на то, что мою кандидатуру отвел замполит дивизии. И это несмотря на поддержку моей кандидатуры начальником оперативного отдела дивизии подполковником Лосем, командиром 299-го полка подполковником Николаем Токаревым и заместителем начальника штаба дивизии подполковником Волковым.
Дня через два наш батальон перешёл в распоряжение 1349-го полка, которым уже командовал мне незнакомый майор. Оба, и командир и его замполит, довольно пожилые, конечно, с нашей молодой колокольни. Было мне тогда всего-то двадцать четыре года…
* * *
Батальон остановился в центре разрушенного Новгорода. Здесь была у меня мимолетная встреча с Машей Белкиной, потерявшей мужа. Она была необычайно бледна и печальна. Мои разговоры не доходили до неё…
Получив приказ из штаба дивизии развивать наступление к нескольким селам, расположенным близ озера Ильмень, мы оставили город. Перед нами сразу открылось огромное поле. Все это пространство было утыкано могильными католическими крестами топорной работы. Фашисты несли огромные потери.
Батальон почти без боев прошёл четыре селения, после чего нас завернули резко к западу к реке-заливу Веряжа, где мы заняли также без боя село Моисеевичи. Вечером сюда подошёл 1349-й полк, почти обескровленный… Где-то слева действовал единственный оставшийся в полку 3-й батальон, которым я когда-то командовал. Переходя шоссе Новгород—Шимск, под прозрачным льдом мы видели размазанные колёсами танков и автомобилей останки немцев — сплошняком! Это поработала штурмовая авиация, расстреливая бегущих колоннами фрицев. Следом катили наши танковые бригады.
Мы заняли позицию напротив выселка с церквушкой. Название выселка — Георгиевский. Мы его называли Георгием. Справа широким заливом от Ильмень-озера тянулась Веряжа, в ширину не менее 500 метров. По приказу начальника штаба дивизии мы должны были выбить противника из Георгиевского, но артиллерийской поддержки нам не обещали!.. Надо преодолеть 500 метров ровного снежного поля! Вечером я отправил две сильные разведгруппы с заданием подобраться как можно ближе и ворваться в поселок. Вперед по-пластунски начали движение одесситы-разбойнички. Правей, по берегу Веряжи, — офицеры-штрафники, солдаты временные.
И надо же было такому случиться: только наши подобрались на бросок, как за Веряжей, в береговом селе Храмцове, занятом противником, вспыхнуло несколько пожаров. Оттуда фрицы готовились уходить. Но здесь в свете зарева от пожаров немцы, обнаружив наших, начали бросать вверх осветительные ракеты и открыли пулемётно-миномётную стрельбу. Без потерь, но разведки вернулись. Утром из дивизии вновь приказ и опять от начштаба, будто командир исчез: «Взять Георгия, и точка!» Я по телефону требую поддержки артиллерией или минометами. Оттуда свое: взять и доложить! Это являлось грубейшим нарушением боевого устава — не подавив пулеметные точки, наступать на открытой местности нельзя. По-моему, такой волчий по жестокости приказ отдавал Орлов. На встрече ветеранов 225-й дивизии в сентябре 1984 года в Новгороде я виделся с полковником Орловым, начальником штаба дивизии, уже восьмидесятилетним. На мои расспросы: кто был тогда начштаба дивизии, он невнятно что-то мямлил, заметно уклоняясь от вопросов «в лоб»…
С трудом вызвал по телефону командира минометной батареи, своего друга еще по Свердловскому училищу, Николая Ананьева, кричу ему: «Поддержи огнем по Георгию! Я двину батальон!» Ананьев что-то буркнул в трубку, и я не понял: есть ли у него мины или «в обрез», как всегда! Десятки мин взорвались по выселку, но не задев колокольни и деревянной церквушки, что явилось просчетом. Под прикрытием пулеметов «Максим», открывших сильный огонь, батальон по красной ракете бросился вперед, в атаку! Но взрывы наших мин вдруг прекратились, и мы остались в поле «голенькими»! Ранены командиры рот Крестьянинов и Николай Шатурный! Посылаю туда Николая Лобанова, заменить Крестьянинова. Через считаные минуты мне сообщили: Лобанов убит! Справа, в роте одесситов, — двадцать убитых и столько же раненых! Есть потери у 1-й роты, офицерской! Даю зелёную ракету — отбой. Перед этим я, заменив у «Максима» пулемётчика, вёл стрельбу по колокольне, и оттуда немецкий пулемет прекратил стрельбу. К выселку слева по траншее бежал фриц, я короткой очередью уложил его.
Единственная вражеская мина, прилетев от выселка, разорвалась передо мной. Результат — я оглушён, ранен в нос и в лоб осколками. Лицо залило кровью…
Всего за войну был я несколько раз ранен и контужен. Контузии вообще считать трудно — рядом рвётся мина, ты живой, но оглушенный, как рыба, отлежишься и идёшь.
Наложив бинты, санинструктор Александра Лопаткина, черноглазая и не по-женски отважная, подозвала моего заместителя по строевой части капитана Кукина, похожего на меня и по характеру, и по облику.
— Прими батальон! Я ничего не вижу, всё идёт кругами! — выдохнул я ему.
Тотчас меня Александра увела в медпункт, откуда я попал в медсанбат, расположенный у штаба нашего 14-го корпуса.
Поначалу замену комбата в батальоне никто не заметил — дым и взрывы. В ту же ночь на броневичке Кукин с группой солдат смело и прямехонько примчались в тот поселок, и фрицы, было их 15, дружно подняли руки. Они выполнили приказ своего командования: сдержать нас до этого часа.
Разъяренные штрафники никого в плен не взяли, прикололи всех штыками.
Уходя в медпункт, я зашел на секунды в дом, занятый под штаб полка. Здесь были новые командир полка и замполит. Я бросил им с гневом слова:
— Вы наблюдатели, а не командование! Почему не поддержали нас артиллерией?!
Но они только пожали плечами. Что понимали они, ещё не нюхавшие пороху!..
* * *
Пройдёт время. Окончится война. Я — в Одессе после госпиталя в ожидании назначения в Молдавию, в Бендеры, военкомом.
Гулял по городу, историческим местам, что я очень любил, посещал Дом моряка и Оперный театр, где больше глазел на скульптурные изваяния и стиле барокко. И вдруг почувствовал затылком, что меня кто-то «ведёт», — это чутье осталось у меня на всю жизнь, с фронта.
Холостой, ещё крепкий парень, да ещё старший офицер, да ещё с двумя орденами Александра Невского (остальное не надевал), я нравился многим одесским девушкам из разных кругов. Однажды попал в гости к молоденькой женщине, у которой муж погиб в море. Уютный, небольшой красивый домик на Молдаванке. В комнатках — изумительная опрятность. Кто она? Украинка, гречанка, русская или еврейка? В Одессе не всегда поймёшь.
Я завёл разговор о штрафниках одесских… Она заинтересовалась. И вдруг из прихожей, где двери в сени были на нескольких запорах, появился громадный матрос. Я локтем тронул за кобуру пистолета, но не шелохнулся.
— Петро! Это наш человек! Ступай! — только и сказала моя амазонка, одна из красивейших особенных одесситок. И матрос словно провалился. И точно — ушёл через погреб в катакомбы…
А вскоре иду по Пушкинской. Навстречу — старший лейтенант в форме с иголочки. Невысокий, стройный и с орденом Красной Звезды на груди. Называет меня: «Комбат»! Значит, мой, но не могу вспомнить кто, столько их в батальоне перебывало, по всей стране я их потом встречал!
Это был один из той шестерки разведчиков-штрафников, что взяли за Волховом «языка». После чего их освободили, наградили и откомандировали в обыкновенные части. Затем, пройдя курсы младших лейтенантов, они вышли в офицеры, ведь, как правило, ниже среднего образования не имели.
На мой вопрос: «Что будешь делать?» — одессит усмехнулся: «Ишачить за рублики от получки до получки, даже как офицер, как вы, наши из того батальона никто не будет. Нам надо снять миллион из сейфа и жить на широкую ногу. Того света нет, как вы говаривали нам, значит, на этом — все брать».
Он даже предложил мне написать заявление, чтобы вступить в их «малину», как я понял, причем даже на «дело» не ходить, а только для «вескости» их «подполья». Я пожурил его, что мало их перевоспитала война, сказал, к «ним» я не вступлю — не то место в этой жизни… Потом говорю: «Но мне интересно на ребят посмотреть твоих». Я знал, что все шестеро остались живы. «Ну, поехали». Тут он отошёл позвонить по телефону, и вскоре подъехала эмка. Привезли меня в какой-то подвал, окна в машине были закрыты шторками. Пусть, говорит мой старший лейтенант, посмотрят на тебя, а то еще ограбят на улице.
Сидели там мордовороты, все почти в матросской форме. Воры в Одессе почему-то носили матросскую форму. В большом зале со сценой, где я восседал в окружении моих однополчан, братьев-разбойничков, шли танцы под аккордеон и пианино. Но на душе у меня было неспокойно… Слева подсела красотка — пить воду с лица! Справа мой «старший лейтенант». Потом подошло ещё несколько «офицеров», в том числе из нашего штрафного. Чествовали меня шампанским! Ведь как-никак однополчане! Возможно, подумал я, здесь не все и воры? Но нет, истые разбойники, особенно один из них, с бычьей шеей силача, всё поглядывал на меня, если не злобно, то очень настороженно и недоверчиво. Об этом я шепнул своему «офицеру». Бык перешёл к другому столу. И всё как будто пошло в строку…
Меня отвезли к вокзалу, откуда до нашего Будённовского дома, где размещался резерв, было рукой подать. «Старлей» еще раз спросил о моем решении. Я остался твёрд. Мы расстались, и больше я его не встретил, но «кошка» всё-таки меня «пасла». А вдруг я окажусь «предателем»?! Но это было исключено: хоть убей меня, я не знал, куда меня возили в машине. Жалею только, что упустил возможность «припугнуть» «Чёрной кошкой» начальника резерва округа, полкового интенданта лет под шестьдесят, который меня вынудил из-за пустяка подать рапорт об увольнении из армии. Но, увы!
Иногда думал потом: как все-таки я мог решиться на такой смертельный шаг — явиться в бандитское гнездо? Ничего тогда не боялся! Хотел взглянуть — что же стало с моими «воспитанниками»? Кого излечила от воровства война и смертный бой с общим врагом?!
Могу сказать одно — даже матерые урки верили в меня, не говоря о мире честном…
Мы разошлись по-товарищески. «Старлей» пообещал, что никто в Одессе комбата «ихнего» и пальцем не заденет. Только при встречах с урками я должен сообщать: «Комбат Одесского штрафного батальона!»
Но от ежемесячного «пособия» в тридцать тысяч рублей я наотрез отказался. До меня дошло — в Одессе действовала так называемая «Чёрная кошка», одна из многочисленных банд, наводивших ужас на многие центральные города. Разгул бандитизма.
Тогда в Одессе офицеров раздевали и грабили даже днём, отбирая документы, награды, вплоть до Золотых Звёзд Героев Советского Союза, как у моего соседа по резерву. Подойдут, нож приставят и разденут. Это днем, а ночью наши только по пять-шесть человек ходили.
Я же шатался по городу и днями и ночами, любуясь громадами штормовых волн, и никто меня пальцем не тронул.
В ноябре 1945 года штаб «кошки» правоохранительные органы разгромили. Бандиты наметили, как я потом узнал, в один день ограбить все сберкассы в городе. Но кто-то их, видимо, застукал. Главарей в числе двенадцати решили было вешать возле вокзала на «марсовом поле». Однако в последние минуты виселицы убрали и, увезя бандитов в казематы, расстреляли. Вешали только изменников Родины, как бывшего генерала Власова…
Глава 8 Два ордена Александра Невского
…После ранения у Георгиевского валяюсь несколько дней в палатке медсанбата. Раны на носу — задета осколком кость — и на лбу — глубокая борозда от осколка — затянулись. Потом меня выписали, и я перешел в другую палатку 14-го корпуса, которым командовал, как мы помним, генерал-майор Артюшенко. Жду новое назначение, думаю — хоть «к черту на кулички»! Еще когда я смотрел на ту кровавую кашу в блиндаже комполка, что-то перевернулось в душе. А тут еще люди закипели, почему меня не поставили на полк. И я сказал: «Все, ребята, крест. Я больше в этой дивизии не вояка. До свиданья…»
Как-то я шел из пункта снабжения, держа в охапке «полевое довольствие», на плечи накинул шинель. И вдруг навстречу идет высокий, молодцеватый генерал Артюшенко, причем один. Помня, что он «бьет по уху» даже полковников проштрафившихся, а я иду не по форме, вытягиваюсь и точно, как выстрел, представляюсь:
— Товарищ генерал, майор Сукнев! Только что из госпиталя и из ПФС с запасом. Извините, что не по форме!
Генерал был в настроении, не обращая внимания на мои извинения, спросил:
— Где же твои эти: «а ля-ля»? Ха-ха-ха! — напомнил он мне смотр штрафного батальона, когда басмачи вместо строевого шага проследовали мимо с национальными плясками.
— Кто жив, воюют. Но уже не штрафниками — срочными!
Тогда в разговоре я успел вставить вопрос о своей «безработице», надеясь на место в корпусе импонирующего мне генерала, а также доложил о неисполнении приказа Артюшенко о награждении комбатов при взятии «языка». Всех участников той дерзкой операции наградили орденами, кроме комбата.
— Ну, этот Петр Иванович! Заспал, наверное. Сегодня вечером прошу в штаб, получишь работу. И остальное…
Вечером Артюшенко буднично вручил мне орден Красного Знамени. Подвел к карте на стене и положил конец указки на город Новый Шимск, в котором противник создал за время войны сильный оборонительный участок с системой надолб, мощнейших дотов, ходов сообщений, крытых траншей, противотанковых эскарпов. Все простреливалось до метра всеми видами вооружения.
— На подготовку — трое суток. Примешь десант танковый и стремительно — на Шимск.
В эти трое суток я не знал покоя и сна. Я был уверен, что десант пойдет в лобовую атаку на смерть, отвлекая противника на себя. В это же время основные части корпуса начнут прорыв северо-западнее. И на Сольцы, Псков!
Не радовала и последняя награда завтрашнему «упокойничку»… Шимск разделён рекой Шелонь, недалеко от города впадающей в озеро Ильмень. На том правом берегу Новый Шимск, укреплённый противником по последнему слову военной техники, на этом — Старый Шимск со штабом и частью войск 14-го корпуса. Форсируя Шелонь по льду, мы потеряем танки и десант наполовину! Ибо лёд не выдержит тяжести, а артиллерия противника его «расчистит». Ворвёмся мы в город, а там все перегорожено надолбами, сетью глубоких траншей, противотанковых эскарпов, все простреливается из орудий прямой наводкой. Когда мы окажемся в этом огневом мешке, нас попросту расстреляют! Неужели генерал этого не понимает? Не урок ли был, когда мы в марте прошлого года дивизией пошли без артподготовки на штурм крепостных стен Новгорода?! Все говорило о том, что генерал решил посылать «разведку жизнью», как понималось это опытными фронтовиками в первых траншеях войны.
Здесь надо не 20 танков с десантом, а все 100 и орудий 300 на «обработку» укреплений противника! А дивизион «Катюш»… Их залп здесь — просто комариный укус…
Пишу последние письма домой, кое-каким знакомым девушкам. Родной тетушке Федосье Алексеевне Терентьевой. У нее убиты в Мясном Бору муж Иван Алексеевич и старший сын Георгий. Младшего Анатолия взяли в армию десантником…
* * *
Наверное, мои молитвы, а точнее, правильные мысли по проведению этого боя-аферы, дошли до Артюшенко. Утром, когда «Катюши» уже встали колонной по шоссе для залпа по Новому Шимску, когда в ближнем лесу завелись и зарокотали моторами танки, на которых примостился десант автоматчиков, Артюшенко дал отбой!.. Ура генералу! Так и хотелось крикнуть. Ибо такая работка меня совершенно не устраивала!
* * *
Прошло несколько дней. Однажды просыпаюсь в холодной палатке, понятно, спал не раздеваясь, накрывшись драповой шинелью. Слышу, в палатке человек на десять, но пустующей, резкий разговор женским и мужским голосами. Выглядываю из-под шинели: моя приятельница по 1349-му полку, теперь проходившая службу в медсанбате, Мариам Гольдштейн, капитан медицинской службы, ссорится с врачом медсанбата. О чем они спорили, я не прислушивался, а еще плотнее накрылся шинелью и заснул. Это была моя последняя на фронте встреча с Мариам Соломоновной. Встретились мы в 1985 году, обменивались в письмах воспоминаниями…
Я перебрался в свободный от хозяев дом, где побывали немцы. Стены, полы, окна завешаны матами из камыша. Русская печь не потухала. Вот так «нордические» жители Третьего рейха переносили обыкновенную, довольно мягкую по сибирским меркам новгородскую зиму.
Здесь меня нашли мои однополчане и однокашники по Свердловскому училищу Александр Григорьев и Николай Ананьев. Оба — капитаны. Высокие, красивые русской статью офицеры. И что примечательно — интеллигенты, новая смена высшему офицерскому корпусу (если выживут). Они были серьезны и печальны, заговорщицки переглянулись, сели за стол по правую и левую руку от меня, готовые к какому-то действию. Думаю, что это парни, мои закадычные дружки, задумали? Сообщил ужасную весть Григорьев: погибла от авиабомбы при налете на село Теребутицы, где находился штаб полка, Мария Белкина! Тогда я понял, что мои дружки боялись, как бы я не застрелился — такой был у меня тогда взрывной характер: в огонь или в воду без размышлений!
Я принял эту весть тяжело, но их успокоил: наша любовь, о которой знавал весь полк, не состоялась. Умолчал я о том, что Маша стала женой Петра Наумова, который погиб в новгородском бункере, как мы помним.
Надо сказать, что девушки в нашем полку были очень строгими в своем пребывании среди мужского населения. Галина Кузнецова, связистка, подружилась с Григорием Гайченей, они стали мужем и женой. Вскоре она уехала домой рожать, Гайченя погиб на высоте Мысовая под Новгородом… Гале не посчастливилось.
Анна Зорина подружилась с Николаем Лобановым. Но вскоре Николая Петровича не стало в бою под выселком Георгиевским на реке Веряже. Мария Белкина с кем ни подружится — тот погибнет или будет искалечен. И в полку сложилось суеверие: кто с ней подружится, того ждет какое-то несчастье. В боевой обстановке — пуля или осколок… Когда мы с ней стали друзьями (что не зашло дальше нескольких поцелуев), прошел слух: или меня, или Марию возьмёт рок… Настоящим другом Марии стал Пётр Наумов, о чём мои друзья и не подозревали.
Мы поговорили ещё о делах в полку, кто и что там, и они уехали на грузовичке. Это была наша последняя встреча…
Павел Алексеевич Артюшенко был, безусловно, боевой генерал, герой сражения за освобождение Тихвина от гитлеровцев. Решительный, не терпящий нарушений дисциплины и воинского долга, особенно со стороны старших офицеров-командиров. С жуликами из интендантов, кои всегда были и есть, он поступал круто.
Но понять его можно было не всегда…
* * *
В тот день шел снежок. В Новом Шимске фрицы притихли в ожидании действий наших войск. Где-то севернее, по реке, в лесах шла перестрелка из орудий и пулеметов. Потом и там на короткое время затихало. Шли бои местного значения.
В избу пришёл адъютант генерала: «Сукнева к самому!»
Привёл себя в надлежащий порядок, бегу в штаб корпуса.
Принял Артюшенко тотчас же. У него уже находился незнакомый мне подполковник — высокий, лет под пятьдесят, похожий на цыгана. Фамилия — Воронов.
— Поедем снимать бездельников! — сказал нам генерал.
И скоро лихой вороной, с белыми чулками рысак нёс наши легкие санки вдоль леса по проселочной дороге, ведущей к станции Медведь, перелесками, лесами, полянами. Рослые Артюшенко и Воронов да еще два ручных пулемета с ящиком запасных дисков к ним заполнили санки. Я же еле держался за заднюю перекладину санок, иногда бороздя по глубокому снегу на дороге валенками.
Слева видим вагон-товарняк, покосившийся немного набок. Железной дороги нет — фрицы уволокли рельсы. Кругом лежит снежище огромными сугробами.
Артюшенко и мы следом сошли, передав часовому рысака. Я вызвал из темноты вагона командира полка, подполковника. Он вылез — толстенький, упитанный боровок, какой-то мягкий, не военный, похож на хозяина лавочки или столовой.
— Кто ещё в вагоне, вызвать! — грозно приказал Артюшенко.
Вышли две молоденькие связистки или санитарки, застеснялись.
— Так, — сказал грозно Артюшенко. — Батальон в окружении бьётся вот уже полсуток, а ты, сволочь, прохлаждаешься с этими, — кивнул он на девчат, которые так и замерли на месте, боясь дышать. И генерал, размахнувшись, ударил подполковника в ухо так, что тот кувырком завалился в снег! — Явиться в штаб корпуса. Снимаю тебя и твоего заместителя с полка! — объявил Артюшенко, и мы помчались на рысаке дальше, приближаясь к первой линии позиций этого полка.
Скоро, минуя лес, мы очутились на возвышенности, посередине поля. Здесь расположился штаб полка и стоял танк Т-34, готовый к действиям. Артюшенко представил Воронова майору, начальнику штаба этого полка, как командира полка, а меня — как первого его заместителя.
В это время несколько пуль прилетели от первых окопов, звякнув по броне танка. Оттуда донеслась новая яростная перестрелка наших и немцев из автоматов и винтовок. Там шел бой с нашим окружённым батальоном, отважно отбивавшим атаки врага.
Генерал умчался тотчас, мы осматриваемся. Из батальона прибежал сержант, который объявил, что немцы вот-вот зайдут с тыла к ним и конец! Оставив Воронова на месте на связи, по которой он вызывал артиллерию, мы с сержантом, с резервной ротой, бросились в лес. Налетели на фрицев с тыла, автоматы наши работали бешено.
Не ожидавшие грозного «ура» у себя за спиной, фрицы, не отвечая на стрельбу, бежали в глубину рощи к Шелони. Батальон занял круговую оборону.
Бой длился до утра. На рассвете мы не обнаружили немцев на нашей стороне реки, они бежали на ту сторону, поливая наши позиции, если можно было назвать таковыми канавы в сугробах, огнем из минометов и пулеметов. Потом все стихло. И вдруг заработали наши батареи, накрыв позиции противника сплошным огнем: это была уже работа Воронова, он оказался опытным артиллеристом и дал точную корректировку батареям.
Вернулся к танку, к штабу полка. Связист передал Воронову приказ Артюшенко: «Воронову и Сукневу — быть в корпусе. Комполка Попов — восстановлен».
Ну и комедия!..
Мы, Воронов и я, весело отшучиваясь, пешком возвращались в Старый Шимск, увлекаясь разговорами из фронтовой и домашней жизни. Так короче путь в десять вёрст… Часто — то дальний перелет, то недолет — взрывались снаряды, нарушая благостную лесную тишину.
Наступила ночь, а мы в пути. Голодные — хоть падай! Запасов никаких. Потом видим справа в просвете сосняка костры. Я бреду по пояс в снегу, за мной мой «старик» еле-еле передвигается. И вот мы в кругу артиллерийской части. Воронов тут свой! Отужинав и заодно позавтракав, мы в ночь двинулись дальше. Потом я потерял навсегда из виду Воронова, славнецкого офицера, с кем я мог бы отлично служить до конца войны и дружить после нее. Но, увы! Куда его направили, не знаю. Меня же — в штаб 54-й армии, а оттуда в полк, совершенно мне незнакомый…
* * *
Чем выше твой пост в армии, тем тяжелее переносится перемена мест из части в часть. Так и у меня — сорвался из 1349-го полка, приняв этот штрафной батальон, который мне никак не светил удачами: у одного дитя семь нянек, и все командуют вразброд!..
Новый мой командир полка был Новак (или Новаковский, точно не помню) — длинный и упитанный, рыжеватый, неуклюжий и нескладный подполковник, только что призванный из тыла, с гражданки. Но вредный, упрямый, самолюбивый и безграмотный как военный, да еще в должности комполка.
Уже в составе 3-го Прибалтийского фронта мы двинулись в наступление на Сольцы, к Порхову и на Псков. Полк наш — тоже в движении. Но пока без боев. Утро. Строй моего 1-го батальона. Комполка стоит перед строем, одна пола полушубка на четверть короче другой, но он этого не замечает. Сказал что-то невразумительное. Думаю: да, с этим командиром из московских мещан мне явно не по пути. Но долг есть долг, у меня в подчинении четыре сотни солдат и офицеров, которых надо на ходу готовить к боям и беречь их жизнь. Батальон это понял и стал горой на моей стороне и по уставам и по душе.
Миновали Сольцы. Люди бегут из леса, отовсюду, встречая нас, освободителей. Обнимают, на глазах — слёзы радости!
Продвигаемся вперед круглые сутки. Впереди боевые охранения, позади обоз, полковая артиллерия, другие службы. Передо мной, а я шел впереди своего батальона (хотя была лошадь для комбата), ползут сани с большой будкой, из которой торчит железная труба и дымит. Внутри будки сиднем сидят комполка и его замполит — слащавый, лет тридцати, тоже полувоенный, с розовыми щеками и холёным лицом.
Остановка — двадцать минут. Переутомленные люди тут же ложатся на дорогу и засыпают. «Пара верховных», как уже солдаты прозвали Новака (Новаковского) и замполита, выходят по нужде и снова прячутся в будку с железной печкой, которую тянут две лошади. Будка трофейная.
Впереди, где-то южнее, но еще далеко, должен быть Порхов. Ночь. Оттуда видны зарницы огромных пожаров и глухой, будто гроза, звук взрывов: значит, там хозяйничают гитлеровцы. Отступая, они жгут наши села и города, грабят все напропалую, в первую очередь, понятно, съестное и зимнюю одежду.
Полк идёт в ночь. Началась пурга. Большое поле. Ветер со снегом такой, что только держись на ногах! Рядом с батальоном появилась какая-то часть. Подле меня оказалась девушка с рюкзаком, сумкой с красным медицинским крестом и карабином на ремне. «Человек с ружьём»…
Узнаю её: Настя Воронина! Значит, это наш полк — 1349-й… Настя со слезами ко мне, она готова, чтобы я взял её в свой батальон санинструктором, что было вполне возможно, без команды сверху. Я понял: она всё ещё меня любит. Но сердцу не прикажешь — уважаю, обожаю, Настя, но нет любви! Она выгорела у меня в душе, её выжег огонь войны, особенно после Лелявинского «пятака»! Я мучился лёгкими, кашлял. Когда теплело от весеннего солнца, меня сбивал на ходу сон, это был туберкулез правого лёгкого, очаг, о котором я узнал только в 50-х годах…
Мы простились с Настей, прекрасной девушкой с ружьем, и навсегда… А может быть, и зря? Она была высокая, стройная, очень симпатичная светлая девушка — Настасья Воронина.
* * *
Я снова впереди батальона. Ветер. Дорога с раскатами… Будка бельмом маячит перед глазами, закрывая впереди дорогу. Тихо говорю ездовому, нашему сибиряку, ловко правящему вожжами:
— Земляк, ты на хорошем раскате сделай так, чтобы твой «дом» встал вверх дном!
Тот понял и рассмеялся:
— Будет сделано!
На одном из поворотов он разогнал и свернул лошадей так, что будка опрокинулась набок и ее пассажиры выскочили вон, все в саже, ругая на чем свет ездового. А тот только ухмылялся, поднимая будку с другими солдатами. Но будка с печкой уже занялась огнем и спустя считаные минуты сгорела. Лошадей успели вывести.
И всё равно, теперь эти «командиры» пересели на сани-розвальни, которые достали ушлые снабженцы у местных жителей. Остановка. Идущая рядом со мной, держась под руку, старший лейтенант медицины, девушка опустила руку. Свернув с дороги, пробрела по сугробу и уткнулась лицом в снег, мгновенно уснула. На зимней дороге — все в лёжке сна!
Остановились в лесах перед Порховом. Нашу разведку, что сунулась вперед к какому-то сельцу, фрицы встретили огнем, кого-то ранили, кто-то убит… Полк встал, топчась на месте. Наш командир-москвич не знал, что делать без команды сверху, а там тоже неразбериха. Слева на юге видно огромное зарево пожаров — горит Порхов, где безнаказанно хозяйничают гитлеровцы, поджигая жилища, взрывая здания, объекты… Без команды от комполка беру из батальона до взвода добровольцев, больше сибиряков, и на рассвете веду их вперёд, где занялся пожар в ближнем селе.
Мои все в маскхалатах, я в шинели с погонами, но в шапке со звездочкой. И только мы появились на окраине, как фрицы на машине бежали из села. Горел один дом, который начали тушить жители. Завидев нас, они выбежали из ближнего леса толпой! Ребят моих девчата взяли в крепчайшие объятия! Целуют, обнимают. Радуются краснощекие новгородки, северные русские красавицы. А я стою здесь же, и ко мне — ни одной!
Потом понял: на мне погоны, и они приняли меня за пленного офицера-немца! Они же не знали, что у нас введены погоны. А у ребят погоны под маскхалатами.
Догнал нас связной от комполка:
— Сукневу вернуться в полк!
— Передай ему: пока не перехвачу дорогу на дамбе от Порхова на Псков, не вернусь. Пусть поможет артиллерией!
Это было первое моё неисполнение приказа своего прямого начальника, что каралось в военное время трибуналом и расстрелом. Но победителей не судят! И я повел своих следом за фрицами.
Километрах в трех от села была дамба, высотой до пятидесяти метров, тянувшаяся от Порхова на Псков, по ней — шоссе. Немецкий пост, охранявший дамбу, пока не уйдут все их войска от Порхова, мы тотчас смели огнем автоматов. Первыми шли мы с военфельдшером, оба с автоматами. Медик из полка увязался за нами, храбрый парень лет двадцати пяти, при сансумке, со всем необходимым для оказания первой медпомощи. На дороге, кроме убитых немцев, никого не видно — ни в сторону Порхова на юг, ни на Псков. Только следы кованых немецких сапог на шоссе, с которого ветер сдувал снег. Оставив троих бойцов на месте, я отправил с донесением в полк своего солдата, а мы с фельдшером спустились вниз за дамбу и направились в небольшое лесное сельцо Чижи, где из труб изб вился дымок.
Подошли к большому заснеженному огороду. За ним виднелись банька и забор. Вдруг из-за забора выглянула белая бородка — наверное, дед. Хорошо не рассмотрели, там снова мелькнуло что-то белое. Мы на открытом месте. Если там фрицы, то поздно — убьют. Тогда я оставил на прикрытие фельдшера, сам двинулся к баньке. Иду и жду пулю, но автомат держу наготове. Умирать — так с громом.
Подошёл к забору. Вижу неподалёку деда, прячущегося за избу. Крикнул:
— Дедок! Пригребай ко мне! Свои пришли!
Тот показался, но топчется на месте, бормоча:
— А хто вы?.. А што вы?.. Чево изволитя?
— Мы русские. Видишь у меня на шапке звёздочку Красной армии?
Вот тогда дед кинулся ко мне. Уже подходило и моё «прикрытие».
Мы вошли в большой дом, где нас встретили местная учительница лет сорока и ещё кто-то из женщин. В это время от дамбы донеслись крики и крепкая великорусская ругань, там поднимали вверх технику и лошадей. Теперь здесь все уже были уверены, что пришла Красная армия!
Учительница пришила пуговицу на моей шинели. Затем дед повёл нас «освобождать из плена» девушек из Порхова, которые прятались от немцев. Долго кружили по заснеженным лесным тропинкам и вошли в длинный барак-подвал, крытый дёрном. Первым я, за мной дед.
Девчата, а их было до двадцати, увидев офицера в погонах, брызнули вверх на нары и забились в темноту.
— Привет порховским комсомолкам от Красной армии! Перед вами майор Михаил и военфельдшер Николай! Оба — холостяки!
Тогда девчата чуть не задушили нас, бросаясь на шею с высоты нар. Мы обменялись адресами: я обещал после войны побывать у них, и тогда моей любимой будет одна из них!.. Пройдет время, кончится война, я буду проездом в Порхове, но, увы! Не имел адреса ни одной той девушки: утопил полевую сумку с блокнотами, форсируя реку Гаую… А жаль.
* * *
В те дни наступления я понял, что командующие 54-й армией и фронтом бездеятельны, они позволили взорвать и сжечь наполовину Порхов. А ведь можно было двинуть сюда не более полка, усиленного артиллерией, и город был бы спасён от оккупантов-грабителей!
* * *
…Где-то за местечком Сольцы, пройдя лесные массивы, наши войска и мой полк остановились перед открытым полем, за которым виднелись кирпичные строения какой-то МТС. По проселку или шоссе, по обочинам в глубоких снегах, все встали затылок в затылок и ни с места! Пройдя чью-то часть, я двинулся к тем строениям. Хоть батальон отдохнет по-человечески! У МТС было кирпичное здание в один этаж, здесь меня встретил попутчик, капитан-артиллерист с рацией. Смотрим в проем выбитого окна, а там в 300 метрах… «Тигр» с плотным десантом на борту в белых маскхалатах! Немцы что-то заметили, танк развернул орудие и сделал два выстрела по нашему окну, но стена выдержала осколочные снаряды! Артиллерист дал команду своим на опушку. Оттуда послышался орудийный выстрел, но мимо! Это стоило жизни орудию и его расчету… Выхватываю у бойца, который был здесь же, рядом с артиллеристом, РПД и даю длинную очередь по танковому десанту. Оставив свалившихся замертво нескольких десантников, танк ринулся вперед и скоро скрылся по дороге на Псков. После этого наши войска, выжидая, кто будет позади, а не впереди, двинулись на Сольцы, крадучись, по-воровски. Будто здесь не наша земля. Так вели нас здесь наши полководцы… Я не понимал такого пассивного поведения командиров полков и дивизий в наступлении, в «шествии» до реки Великой, где командиры в очередной раз поломали себе шею, точнее, своим бойцам, которые наткнулись на сильнейшую оборонительную линию противника, о чем не ведала наша разведка…
* * *
Мы встали перед новой укрепленной обороной противника, перед сельцом Весна, за которым неподалеку — река Великая. Наш 1-й батальон был левофланговым. В 100 метрах проходило шоссе по высокой насыпи, мы же в зарослях кустарников с редкими большими деревьями рыли день и ночь окопы полного профиля — рубеж атаки наших войск. Ночами напролет я находился в первых траншеях на огневых точках. Однажды у нас появились соседи — разведчики из 1349-го полка 225-й дивизии! Опять рядом моя дивизия…
Старший разведки Петр Андрианов, боевой паренек, рассказал мне о нашем полку и сообщил печальное: прямым попаданием снаряда убиты в блиндаже мои друзья Николай Ананьев — начальник артиллерии полка — и Александр Григорьев — помощник начальника штаба полка!
Теперь меня уже ничто не связывало с этим полком. Последние мои однокашники по Свердловскому училищу ушли в иной мир…
Не доложив «наверх» о разведке, я увязался в ту же ночь с нею, вооружившись автоматом, за «языком». Фрицы подпустили нас к самой проволоке. Кто-то случайно за нее задел, и по всему заграждению зазвенели пустые консервные банки, развешанные на проволоке. Старый проверенный прием! Под сильным, хотя и неприцельным пулемётным огнем наша группа врассыпную бросилась к своим траншеям. И обошлось!
Мы потеряли связь с командиром полка. Он не появлялся никогда в батальоне, я не подходил к телефону по его вызову. Докладывали то начальник штаба — адъютант старший, то замполит, капитан из гражданских, из запаса, тоже не нюхавший еще по-настоящему фронтового пороху.
Находясь в окопах и траншеях, я не раз попадал под прицельный огонь немецких снайперов. Об этом предупредил всех своих. Как-то высунулся у своего блиндажика-шалаша из кустарника по пояс, глядя в бинокль. Пуля снайпера прошла совсем близко от моего правого бока и попала прямо в сердце нашего замполита, который незаметно для меня появился рядом!..
Прошло ещё время. Наступила вторая половина апреля. Снег сошёл, но земля ещё была промерзшая, ледяная. Однажды рассвет застал меня на своем левом фланге. Чтобы сократить путь к КП батальона, я пошел по открытому месту между шоссе и зарослями кустарника. Вдруг в сантиметре от моего уха с треском прошла пуля вражеского снайпера! Понятно — сейчас еще пуля, и мне конец. Падаю, будто подкошенный! Но вперед головой, что понял запоздало, — надо было назад, по полету пули. Но снайпер оказался малоопытный, этого не учёл и больше не стрелял. Я же целый день пролежал на этом поле. От жестокой стужи, проникавшей от земли, спасался, крутясь в полушубке, но так, чтобы не заметил враг. Этого не заметили и в батальоне, наблюдая за мной. Решили, что убит комбат и к нему нет подхода! А шашек для дымовой завесы не было, вспомнил и я, кусая себе губы от ярости и бессилия. Только стемнело, я броском очутился в окопе. Так, наверное уже во второй десяток раз, костлявая промахнулась косой!
Лёжка на ледяной перине обернулась для меня двадцатью днями лечения в медсанбате, откуда я постарался при выписке попасть на приём к своему старому знакомому по Волховскому фронту подполковнику Волкову в отдел кадров армии. Зная обо мне досконально все (когда-то, как я уже упоминал, именно он привез мне новые погоны майора), он дал мне направление в 783-й полк 229-й стрелковой дивизии нашей 54-й армии. Но я попал из огня да в полымя. Командиром полка оказался подполковник… которому генерал Артюшенко при мне дал в ухо и снимал с должности на сутки. К счастью, этот пухленький, довольно примитивный человечек меня не узнал, ибо кулачище генерала тогда, видно, отшиб у него память.
Я принял батальон, занимавший оборону на высоких береговых гривах реки Великой, как и противник на том берегу. На зеленях взошедшей ржи на косогоре белыми лебедями лежали сотни убитых наших людей в маскхалатах, погибших в ходе неудачного наступления в марте, которое координировал представитель Ставки Климент Ворошилов. Я видел знаменитого маршала издали, когда он в окружении офицеров стоял в кузове грузовика и смотрел в бинокль в сторону противника…
Наши войска, наступая почти от Пскова и до Острова, захлебнулись тогда в собственной крови, продвинувшись в районе села Весна всего на один-два километра, прогнав противника на ту сторону реки.
И поныне, если вспомню эти места, перед глазами будто наяву видятся мне наши русские солдаты и офицеры, рядами лежащие головой в сторону противника и белым-белые в своих маскхалатах на зеленеющем весеннем полюшке… А за рекой зияют мрачными дырами амбразуры дзотов и дотов врага.
Кто погнал наших в атаку на пулемёты противника — тьма египетская!
* * *
…Ночами противник прямо-таки полоскал нашу оборону фейерверками из разноцветных пулемётных трасс. Уму непостижимо, сколько же у фрица было боеприпасов! Горы, Монбланы! Я принял свои контрмеры, проверенные ещё с начала 1942 года. Поначалу в одном, потом в другом и третьем взводах пулемётной роты ставлю днем на пристрелку немецких амбразур «Максимы» из дзотов, поначалу три.
Говорю ребятам: «Ловись, рыбка, маленькая и большая!» И как только ночью заработает какая-то амбразура, тотчас пулеметчики гасят её начисто! И так по всему фронту батальона. Комполка это в диковину. Он удивляется, что на нашем участке вскоре фашистские пулеметы почти все молчали, а в других батальонах по-прежнему соревновались, кто больше выпалит по нас…
Однажды комполка появился. Прошел со мной по траншее, низенький, толстенький, задевая чистенькой шинелькой за стенки траншеи, чертыхаясь. Заметил кем-то оставленный на бруствере пулемет Дегтярева, напустился было на меня: почему брошен и заржавел приклад? Я не замечал этот пулемет, но тут проверил его заводской номер, таковой не числился в батальоне, что значило — оружие оставлено теми, кто лежит на зелёном полюшке. Комполка не извинился, что-то мыкнул и ушёл. Но мне он уже был попросту смешон, плевать я хотел на этих недоучек-комполков, кои уцелели от «чистки» в армии. Сволочь, она и есть таковая: как грязь весной или осенью прилипает к сапогам. Так и в армии. Я молод. Подкован в военном деле, литературе. Гуманитарий. Художник не без таланта. Да и в свои двадцать три года комбат-майор. Если не убьют, то до генерала — рукой подать! Тогда я возьмусь за лапшиных, новаковских и прочих. А пока — война. Досаждал и комиссар батальона — замполит, капитан, лет за пятьдесят, из добровольцев. С ним говорить было не о чем, ни о военном, ни о гражданском, ни о чем — крепкий дуб с темным неприятным лицом. Он был глазами и ушами комполка в батальоне.
Не было у меня заместителя по строевой части, чему я не придавал значения, справлюсь один. Видя мое бесстрашие даже под огнем противника, солдаты и офицеры скоро прониклись ко мне уважением. С таким комбатом не пропадём! Это узнали и в полку. Всё же командир вскоре, видно, узнал меня, но виду не подавал. И, побаиваясь, что я выше его во всех отношениях, тихой сапой умалял мой авторитет.
Полк сняли с позиций, передвинули далеко влево, ближе к городу Остров, загнав батальоны в места, залитые весенней ледяной водой! Ходили по пояс мокрые. Оборона представляла собой вместо окопов «флеши». Плетень-оградка вкруговую, двойная стенка забита илом. На дне — гать из чащи, благо кругом густейшие кустарники и ивняк, тальники. А река Великая плещется под ногами, добираясь ледяным холодом до души…
КП батальона и хозвзвод с кухней располагались на бугре, окруженном кустарником, где прибрежная часть оставалась сухой. И надо было загнать батальоны в воду! Мои предложения комполка не принял.
Вспоминается и такой случай. Однажды разведчики соседнего полка ночью взяли «языка» на участке обороны моего батальона. Две разведки встретились в воде. Немцы в высоких резиновых сапогах, наши — по пояс в воде, все промокшие, но отчаянные, сразились, и вот он, «язык»! Комполка вызвал меня на свой КП и приказал:
— Идите к этим разведчикам и отберите у них «языка». Они взяли его не на своем участке, а у нас!
Я посмотрел на него и ужаснулся: это же дурак набитый, под завязку! Приказание я исполнил, но по-своему. Когда появился в батальоне, у своей кухни, чуть ниже соседние разведчики несли на своих плечах «языка» — здоровенного немца, говорю их командиру, старшему сержанту:
— Живей уходите отсюда! Наш полковой приказал отнять у вас этот трофей!
— А пусть заявится, отсюда уж ему не уйти живым, сволочи! — последовал ответ.
После сильных встрясок в боевой обстановке, где всегда — риск и опасность, солдата не задевай. Чины не спасут, можешь получить пулю, а там рассуждай, кто виноват…
Мне оставалось сказать ему:
— Молодец! Теперь и мы попытаемся взять «языка», если фриц сам сюда подплывёт.
Комполка о «языке» больше не заикался, но авторитет его в глазах нашего батальона упал ниже захудалого ефрейтора.
* * *
…Всю ночь я бродил от «флеши» к «флеши», промокший до нитки. Опасался, что немцы предпримут вылазку и возьмут у нас человека. Однажды перебирался по зарослям, как обычно в одиночку, хотя положен был ординарец, и тут мне померещилось при вспышке осветительных ракет с той стороны реки, что в кустах — лодка с людьми! Даю по ней длинную очередь из своего РПД, с которым здесь не расставался. В свете вспышек вижу, что там только кустарник торчит из воды…
В другой раз, на рассвете, иду туда же. Вдруг справа, за деревом, на меня уставился фриц в маскхалате с капюшоном на голове. Пулемёт у меня дулом влево к реке. Фриц — справа. Не успею первым дать очередь! Бросаю на воду коробок спичек и спокойно двигаюсь дальше.
Отделением мы появились здесь спустя минуты, но даже места лежки немца не обнаружили. Галлюцинации! Да, это уже болезнь… Поизносились нервы…
Однажды в полку появилась комиссия «Смерша». Кто-то донес на комполка. Возможно, оперуполномоченный «Смерша» полка, я его не знал лично. Первым делом комиссия сняла в буквальном смысле медали «За отвагу» и ордена Красной Звезды с двоих медичек, что были при комполка в блиндаже — «не проявили доблести и геройства». Ещё с каких-то медичек и связисток сняли награды, как незаслуженные. Комиссия начала шерстить «туфтовых героинь» и в соседних полках, в дивизии и вообще в армии… И правильно, конечно.
У меня в батальоне женщины вели себя прилично. Старший повар — молодая женщина, жена старшины взвода, сверхсрочника. Впервые я увидел женщину в поварах. Ее помощница — молоденькая симпатичнейшая еврейка, хлопочет тут же. Имени ее не помню. Когда я приходил в свой «тыл» принять пищу и присаживался к их балаганам, она не находила себе места, старалась изо всех сил обслужить меня, к чему я не привык, ибо не так давно сам вышел из сержантов.
Как-то остались мы вдвоем, она смотрит на меня огромными черными глазами, в которых страдание и восхищение. Я понял: она «больна» мною, и это зря, ибо я не смогу ей ответить взаимностью, третий год я под огнем и рискую жизнью, а тут еще из ледяной купели, где стынет кровь…
Как-то наша хозяйка, старший повар-кашевар, сказала мне доверительно, что эта девушка безумно любит меня и готова идти за мной на край света! Уговорил сержанта-кашевара, чтобы приняла все силы воздействия и отвела эту любовь у девушки, которая не доведет ее до добра.
* * *
…Выхожу на рассвете из своей реки, мокрый до пояса, опять уставший, до чёртиков. У кухни вдруг вижу на гнедом коне сидит генерал-майор, мне незнакомый, с ним сопровождающий старший лейтенант, тоже верхом. Генерал начал орать на меня, что «непорядок», что «валяется оружие»… Я не понимаю, о чём речь, и молчу как рыба.
Потом он разглядел меня, сменил гнев на милость, начал спрашивать: с какого времени на войне, какие имею награды, и бросил адъютанту:
— Запиши. Майора представить к ордену Красного Знамени! Отправить на курсы комбатов «Выстрел» в Солнечногорск! Хватит на него войны!
— Служу Советскому Союзу! — ответил я бодро.
И генерал исчез. Ордена Красного Знамени я не дождался, а вот на курсы меня вскоре направили, и я решил: с войной покончено, пусть другим теперь достанется этот тяжкий крест…
Миновал тогдашний холодноватый июнь. Перед Солнечногорском меня направили на сборы командиров полков в штаб 54-й армии. Тишина и благодать!
Нашу группу подполковников и майоров — кто-то комполка, а кто-то из заместителей, один я, белой вороной, комбат — вёл полковник Лапшин Иван Филиппович, давний мой знакомый…
Наша группа построена в одну шеренгу. Лапшин ставит перед нами тактическую задачу за батальон. На вопрос, кто ее решит, все молчали. Мне смешно — задача для командира взвода пулеметчиков! Поднимаю руку. И тут Лапшин меня узнал и осекся: как же, однополчане! Но он что-то смекнул, махнул рукой мне, бросил:
— Майор Сукнев, вы пока не отвечайте!
Лапшин знал, что в тактике, хотя бы и за полк, мне равных мало. Несколько чинов решали задачу, но всё не так.
— Сукнев, решайте! — кивнул мне Лапшин, маститый преподаватель тактики.
Это было проще пареной репы: я такую «репку» уже пробовал, причем именно с помощью Лапшина: попадал с ротой и батальоном под пулеметы противника, которые не подавила перед атакой наша артиллерия!
А ведь устав, ещё и ещё раз повторю, — это железные положения. Не подавив огневые точки противника, не губи людей бесцельной атакой по ровной, не пересечённой местности! Появился однажды и последний мой командир полка. Он удалился в избу-квартиру Лапшина, и они там долго о чем-то рассуждали. Оба мои «приятели» в кавычках. Видимо, тогда-то, посовещавшись, они и ускорили мою отправку на курсы «Выстрел», куда я прибыл в середине июля 1944-го…
И.Ф. Лапшин, как я узнал позднее, погиб в 1945 году.
Уходил я в ночь из батальона с тяжёлым сердцем. Казалось бы, надо мне радоваться, что избавляюсь от такого креста, ан нет: уже привык к солдатам, офицерам, своим девчатам-кашеварам. Обошел все «флеши», бродя по воде и снова жалея людей, что их загнали в воду, когда можно было бы отойти на 100 метров и возводить укрепления на суше. Но не смог я сломить упрямство комполка, которому не пошел впрок кулак Артюшенко. Генерала Артюшенко я потерял из виду навсегда…
Моя «любовь» провожала меня с километр, сдерживая рыдания. Я сам пережил такое и понимал её. Но не судьба.
Позади оставались хорошо видные с высоты холмов, куда вела дорога, пулеметные трассы гитлеровцев, которых, как бы там ни было, наши войска гнали все дальше на запад от самых стен Ленинграда. Чем дальше я уходил, тем тише слышался пулеметный треск и разрывы мин. «А что меня ждёт в том же Солнечногорске? — подумалось мне. — Снова армейская муштра! Я уже отвык от мирной, монотонной, надоедливой казарменной жизни». И на сердце стало так тяжко, что я прилег на траву, уходя мыслями туда, откуда доносились звуки выстрелов, разрывов снарядов и мин. Выживут ли мои орлы на этой треклятой водяной обороне? Как бы фрицы не проникли между «флешами» в наш тыл!
В штабе 54-й армии инспектор отдела кадров майор Афанасьев, вручая мне направление в Солнечногорск на курсы «Выстрел», доверительно сказал: «Не пойдёт учёба в строку, возвращайся. Где-где, а «работка» там найдётся», — кивнул он в сторону реки Великой, которая стала «нейтральной полосой» от города Острова до Пскова.
* * *
И вот Солнечногорск. Учебный центр и казармы обнесены высокой кирпичной стеной. Рядом большое озеро. С севера к нему подступает лес. Где-то неподалеку, говорят, расположена артиллерийская академия. У нас — общевойсковые высшие офицерские курсы имени Маршала Советского Союза Б.М. Шапошникова. Здесь, как нам объяснили, один из центров по разработке тактики и методики боевой подготовки, ведется работа по изысканию новых форм и способов боевых действий подразделений, анализируется и обобщается опыт войск.
Повышали здесь квалификацию на командиров рот — три месяца, командиров батальонов — шесть и командиров полков — два года.
Приняли меня хорошо. Расположили в казарме, по пять человек в комнате. Чистота. Опрятность. Уют. И лето в разгаре.
Начались занятия по тактике, стрелковому делу, изучению боевой техники нашей и противника. Военное искусство. Баллистика. Строевая. Боевая. Турники и брусья…
Первое время ночами мне не спалось: тишина настораживала. Тихо — значит фрицы готовятся к чему-то?! Измучившись, я выходил на свежий воздух в ночь и долго сидел на крыльце, находясь в каком-то «подвешенном» состоянии. Современная наука утверждает, что необходима реабилитация от стрессов на войне. Но, увы! Тогда об этом не думали.
Эти тревоги и галлюцинации еще долго будут преследовать не только меня, но и многих из тех, кто вернулся с первых линий войны…
Мне задавали не раз вопросы корреспонденты газет и телевидения: почему фронтовики после Великой Отечественной войны часто спивались? Журналисты, прежде чем взяться за перо или микрофон, изучили бы азы истории войн человечества, а особенно Великой, нашей войны! Узнали бы хоть что-нибудь о боевой службе командиров рот и батальонов. Взводные вообще погибали или получали раны вместе с бойцами в первых боях на все 100 процентов, за исключением единиц. Оставались в живых только по стечению обстоятельств, те, кто не месяц-два, а годы находился в первых линиях траншей под бешеным воздействием огня противника, да какого — оголтелого, самоуверенного в своей безнаказанности и в победе над «руссиш швайн», русскими свиньями, как они орали нам из своих «гнёзд»… Командиры указанных рангов в других странах получали после войны большие пенсии, льготы, привилегии, у них смотрели не на возраст, а на степень участия во Второй мировой войне. А у нас? Стыд и позор. Ребята возвращались к своим более чем скромным очагам, в страшенную бедность. Их ждали неуютность, голодное существование. Из армии их увольняли по состоянию здоровья… И никаких реабилитационных центров. Короче говоря, подыхай как хочешь! И многие фронтовики находили утеху, чтобы ускорить свою погибель, в водке, в разных алкогольных суррогатах. И гибли, гибли на глазах аппаратчиков из ВКП(б), а потом КПСС — «руководящих и направляющих», но кого и куда?
Три года пробыть на фронте — это было мало кому дано из тех, кто не поднялся выше комбатов, командиров батальонов и батарей! Месяц-два, а то и сутки-двое, и твоя гибель неизбежна!
Я уже знал свою норму — стакан водки, больше нельзя. Вино не берет, стакан на меня действовал как 50 граммов. А не выпьешь, из окопа не вылезешь. Страх приковывает. Внутри два характера сходятся: один — я, а другой — тот, который тебя сохранять должен.
Меня как-то вызвали в полк с передовой, что со мной случилось, не знаю. Вытащил пистолет и стал стрелять в землю. И сам не пойму, почему стреляю. Нервы не выдержали.
Фронтовики натолкнулись на каменную стену чиновников от партии, которая придавила Советскую власть на местах и верхах, толкнула на эшафот своих, защитников, настоящих, не обозников, а тех, кто лежал у пулеметов, палил из орудий прямой наводкой по врагу, кто не щадил своей жизни ради правды на земле!.. Теперь ходишь в великие праздники и видишь: одни полковники, подполковники, здоровенные, ядреные участники обозов в Великую Отечественную, лезут на экраны телевидения, на страницы газет, ибо нас уже мало остается и некому таких «поправлять»…
* * *
Измучившись вконец на занятиях «Выстрела», командиры-фронтовики бросались на что-то для разрядки: на спортивные упражнения, брусья, турники или на книги, что кому интереснее. А другие, вырываясь в Москву, не зная, куда себя девать, пили, пока есть деньги. После таких ночей слушаешь лекцию, а сам «на ходу» спишь. Преподаватели, народ терпеливый, понимали нас, окопных волков.
Через месяц я стал приходить в себя, становился «мирным» офицером, затерявшимся в массе таких же. Здесь на курсах обитали и некоторые коренные москвичи. Окончив курс на командиров роты, переходили на курс командиров батальонов, так и учились до конца войны… И ведь удавалось таким пройдохам… Мы же, сибирская глухомань, их не понимали…
Как-то будучи в Москве по увольнительной, я нашел по оставленному мне адресу своего командира пулеметного взвода лейтенанта Николая Лебедева. Он, инвалид без ноги ниже колена, работал мастером на шоколадной фабрике, проживал на улице Огородная в Сокольниках. Здесь, в гостеприимной семье, с множеством родственников, мы хорошо проводили время в воскресные дни. Николай был женат на прекрасной душевной женщине, работнице той же фабрики. Здесь, в семье Лебедева, я впервые с февраля аж 1939 года очутился в домашней мирной обстановке.
Середина августа. Второй месяц я «грызу военную науку», но она мало похожа на ту, что на самом деле требуется на фронте. Там нужен не только устав, а голова в прямом смысле. Учиться мне наскучило. Все, что доводилось до нас, я знал, будто азбуку. И подал рапорт начальнику курсов об «отправке меня на фронт».
Не пишу, как я ломал пики у начальства, но оно со мной не согласилось. Тогда мы с одним майором из украинцев, тоже громогласным комбатом стрелковым, ночью перебрались через кирпичную стену и бежали на фронт!
Появился я у того же Афанасьева, уже подполковника. И он направил меня в штаб 198-й стрелковой, Ленинградской дивизии. Похвалив меня за «находчивость».
Конец августа. Мы, офицеры полка, расселись у большого помещичьего дома, беседуем. Неожиданно узнаю: заместитель командира дивизии у них — полковник Токарев. Скоро появился джип, и в нем «мой» Токарев: светло-рыжий, веселый, живой. Он тоже меня заметил. Встреча была такая, что всю жизнь буду помнить. Наконец я очутился среди стоящих офицеров-командиров.
Позвонив по телефону, Токарев мне объявил:
— Друг, валяй в 506-й полк и принимай 2-й стрелковый батальон. Потом посмотрим.
И сообщил мне, что командир полка — «наш старый знакомый» по 225-й дивизии подполковник Ермишев Иван Григорьевич, с которым и я не раз встречался на военном пути. Он москвич, точнее, московский осетин.
Батальон я принял от комбата Дыкмана — кавалера двух орденов Красного Знамени, отважного майора моих лет. Он отправлялся в Академию Генштаба — вот это дело, не то что «Выстрел».
Батальон готовился первым форсировать реку Гаую, где 3-й Прибалтийский фронт уперся в сплошную линию немецкой обороны, оборудованной по последнему слову военной науки. Поучиться бы нашим военачальникам перед Отечественной и соорудить такие «этапные» линии сопротивления. Но, увы!
На следующий же день, вернее, в ночь с 3 на 4 сентября батальон должен форсировать на лодках реку Гаую в районе местечка Яунамуйже и, опрокинув противника, зацепиться на том берегу, чем дать возможность переправы полка, а затем частей дивизии.
Мой Дыкман на седьмом небе! Рад, что избежал этой смертельной опасности, он уже в мыслях в Москве. Не передав батальон, он получил направление в полдень 3 сентября и «испарился» из дивизии. Как и положено…
Мы, командование, определили: противник в этом месте как бы отошел от самого берега с крутыми обрывами. Образовался небольшой выступ. В полночь на лодках 4-я рота моего батальона форсировала реку. Причем так тихо, что противник не бросил даже ракеты. Удалось обеспечить внезапность нападения.
С командиром роты Татаринцевым мы двинулись вперед к лесу. Завязался огневой бой. Но мы уже зацепились за берег. Отвлекали на себя противника, остальные части начали переправу уже с артиллерией.
Немцы окончательно проснулись, открыли шквальный пулеметно-автоматный огонь. Рота залегла, но продолжала во тьме по-пластунски продвигаться к траншеям противника. Я отошел на край берега к связистам, двоим молодым парням, устроившимся под одиночной ветлой. Предупредил:
— Меняйте позицию! Врежет снаряд в ветлу — вам конец!
Здесь подошли на лодках еще две роты нашего батальона. И по моей команде пошли на помощь 4-й роте. С криками «ур-ра-аа!» наши ворвались в траншею. Давим на немцев. По нас ударила артиллерия. Осколком снаряда меня ранило довольно чувствительно. Осколок влетел под правую лопатку, отчего правая рука повисла плетью — задело нерв!
Пошёл в наступление уже весь полк.
Я отправился на другой берег только тогда, когда все определилось. Контратаки отбили. На рассвете меня подхватили медицинские инструкторы, заткнув тампоном рваную кровоточащую рану. Спускаясь с обрывистого берега в лодку, заметил поваленную снарядом одинокую ветлу, окоп и двоих убитых моих связистов, они так и не переменили своего места, как я приказал.
Лежу на носилках снаружи палатки. Меня провожают в медсанбат дивизии командир полка Ермищев, замкомдива Токарев и сам комдив полковник Фомичев, пользующийся доброй славой в армии. И тут появился вдруг представитель «Смерша» из Москвы! Он прибыл в дивизию «по следу дезертира из армии майора Сукнева М. И.». Но, узнав все обо мне, в том числе и о последнем бое с форсированием реки, заявил: «Дезертировал с «Выстрела» на фронт! Что ж, победителей не судят!» Ну а если бы не бой и не мое ранение? Могли отправить в подобный моему штрафбат, но уже на положении рядового!..
В медсанбате молодой, но опытный майор медицинской службы сделал мне операцию, но извлечь большой осколок, засевший справа под мышкой, не смог. Потянет его, чтобы вынуть, — рука моя немеет. Оставит — рука работает. «Пусть затянется, — решает хирург. — Потом видно будет». Но этот металл размером три сантиметра на два с половиной так и остался под лопаткой. Летая на самолётах по работе до пенсии, я каждый раз предупреждал милиционеров, пропускавших на посадку, что во мне сидит осколок, который при проходе тревожно звенит…
Грузовиком меня отправили поначалу в город Выру, а оттуда поездом в Лугу, где сделали первую перевязку, довольно болезненную. В палатке мы с капитаном, раненным в руку, крутили патефон. Я левой рукой, он правой. Слышу с нар из темноты знакомый голос:
— Сукнев, здорово! Привет от 1349-го!
Это оказался начальник ОВС (обозно-вещевого снабжения) полка старший лейтенант интендантской службы Прибыш. Земляк-однополчанин! Он гонял на лошади, катаясь, и упал, результат — перелом ноги. Рассказывая, Прибыш громко смеялся над своим «ранением».
В ленинградском госпитале возле Смольного я пролежал больше месяца. Приносили цветы. Приходили стайки ленинградских пионеров, представители рабочих предприятий, интеллигенции.
Умер на соседней койке политрук-блокадник от сердечного приступа. Ночами, особенно от палаты «животиков», доносились стоны и истошные крики… Однажды получаю из дивизии поздравительную телеграмму — награждён орденом Александра Невского! Для военного моих лет и звания это высокая честь! Тогда этот орден считался в Ленинградской области и в Прибалтике не ниже, чем звание Героя Советского Союза!
Ехал я обратно на фронт через Москву. Побывал в гостях у Лебедевых. Дня три провели в душевных застольях. Теплые встречи с сестрами Николая, знакомства, обещания и даже объяснения…
Поезд двинулся на запад. По перрону бежит за вагоном моя прекрасная знакомая Паша Лебедева, московская красавица, и машет мне платочком… И бежит, бежит, будто хочет уехать со мной… И с ней я с той минуты никогда больше не встречусь.
* * *
Узнаю обстановку в штабе дивизии у своего любимого начальства, Токарева, нисколько не изменившегося с начала 1942-го, когда мы были в 225-й дивизии на Волхове. Замени ему погоны на капитанские — точная копия тогдашнего…
Наш 2-й Прибалтийский фронт осадил так называемую курляндскую группу войск противника. Вторую группу немцев части Ленинградского фронта прижали севернее Риги на островах и полуострове Эзель.
Токарев, в свою очередь, вытянул из меня все, что я видывал в глубоком тылу. Рассказал ему, как живет народ. Нищета. Заботы. Слезы. Разбой воровской. Ожидание конца бесконечной войны… А тут что же получается? Красная армия скоро возьмет Берлин, а наша 10-я гвардейская армия зажала со всех сторон противника и не идет вперед, почивает на прошлых лаврах? Токарев меня поддержал: надо двигаться и сокрушить окруженную здесь группу войск гитлеровцев. Справа от нашей армии была 54-я армия. Слева, у Либавы — соединения 1-го Прибалтийского фронта (командующий генерал И. X. Баграмян). Оттуда непрерывно доносились громы артиллерии. С моря попавших в капкан фрицев караулили корабли Балтийского флота. Посмотрели по карте. Дивизия стояла в направлении на местечко Эзере, узел шоссейных дорог в центре полуострова. Далее открывался путь на город Салдус. Полки топтались на месте в ожидании команды сверху.
Токареву я внушил тогда:
— Вы в бою, наступайте! Громите противника. При чём тут командование?
И он согласился.
— Иди в полк. А там, если надо будет, примешь его и действуй по-чапаевски! — засмеялся заразительным смехом Николай Федорович.
Путаясь по ночному лесу с проводником из нашего полка, я появился на КП полка, в землянке Ермишева. Доложил о прибытии. Тот встретил меня с распростертыми объятиями, так как любил смелых, инициативных командиров, хотя сам, невысокий брюнет, был по характеру тиховатый, далеко не решительный.
Ермишев сказал, что мой 2-й батальон стоит перед поселком в 20 усадеб, и оттуда противник перестал вести стрельбу. И вот я в первой траншее батальона. Впереди — ночь и тишина. Необычно. Чувство «окопного волка» подсказало — поселок с добротными постройками, откуда доносится рев недоеных коров, пуст!
Беру с собой 20 автоматчиков, идем смело в поселок. Никого! Ни души. Слышно только громкое мычание коров, ржание лошадей, гоготанье гусей.
Приняв все меры предосторожности, батальон втянулся в поселок. Проверяем жильё. Никого. Я приказал: «Брать только простыни на портянки, но не вещи. Будем расстреливать на месте за мародёрство!»
Проверяю очередной дом. Мин нет. Открываем гардеробы, набитые меховыми женскими шубами, платьями из шёлка и ещё из какого-то материала, которого я вовеки не видывал в своей Сибири! Обстановка — шик!
Но где же жители? Мы поняли — запуганные распространявшимися немцами слухами о «зверствах» Красной армии, они скрываются в ближних лесах. А леса тут были настоящие, буквально дебри.
Мы напоили скот. Задали животным корма. Птице насыпали зерна. И покинули поселок, продвигаясь вперед. Заняли новую линию обороны, не зная, где противник. Идти дальше одним — можно попасть в окружение. Докладываю по телефону обстановку в штаб полка.
После этого полк и дивизия продвинулись на километр. Без боя. Противник, явно сокращая ширину фронта до минимума, готовился к решительному прорыву в Восточную Пруссию, к которой приближался 1-й Прибалтийский фронт.
Дней через пять я явился в штаб дивизии по вызову. Проходя этот поселок, зашел в дом, крытый черепицей. И что же вижу? Молоденькие машинистки стрекочут на машинках. Холеные адъютанты и ворье-интендантики (потом станут «настоящими полковниками») тут же обретаются. Открываю один, второй гардеробы — пусто! Хожу по поселку — в домах все пограблено. В оградах, там и тут, люди заколачивают ящики, посылки с добром. Подхожу к капитану медицинской службы из нашего полка. Он заколачивал ящик со швейной машиной. Другой ящик уже стоял рядом, готовый к отправке. Подняв голову, капитан поздоровался со мной и спросил:
— Товарищ майор, а что вы не посылаете домой ничего?
— Мне нечего посылать. А вот ты — мародёр, последнее взял у латыша-трудяги! Сволочь! — И ещё бы несколько секунд, я мог пустить в ход свой «вальтер» — любимый мой пистолет на войне. Но тут меня позвали к комполка решать «боевую задачу»… Так латышский поселок был начисто ограблен нашими тыловиками, но не боевыми офицерами, которые жали врага на всех участках фронта. Хотя многие командиры полков оказались нечистыми на руку, отправляли домой то, что попадало в руки…
Тогда действительно Верховный главнокомандующий издал приказ, разрешающий воинам РККА посылать посылки домой. Вот и посылали. Но это касалось войск, которые уже перешли границы Германии, где из городов бежала буржуазия, бросая магазины, склады, все награбленное на оккупированных территориях, все, что не могли теперь поднять на воз…
На другой день Ермишев вызвал меня к полевому телефону и предложил занять пост своего первого заместителя по строевой части, с обязанностями руководства боевыми операциями батальонов, их формирований и т. д. Я дал согласие. Было это 10 ноября 1944 года.
В ночь на 21 декабря, находясь в батальонах, после миномётного обстрела я двинулся в боевых порядках на захват местечка Топас, рядом с разрушенным до основания городком Эзере, который был узлом нескольких шоссейных дорог. Тогда в бою был растрепан перешедший в контратаку фашистский батальон, его потери убитыми составили не менее 130 солдат и офицеров, а у нас — всего несколько раненых. За это меня наградили вторым орденом Александра Невского.
Засветилась мне Золотая Звезда Героя Советского Союза…
Вызывает к полевому телефону Ермишев и предлагает немедля двумя батальонами взять Эзере! Обещает необходимую артиллерийскую подготовку и поддержку. Вызывает на свой КП в Топасе, расположенный в 200 метрах от меня. Прихожу. Там оказался член Военного совета (фамилии его не помню). На столе лежит красная коробочка. Ермишев предложил мне открыть её.
В коробочке оказалось удостоверение, ещё чистое, но с печатями, а также орден Ленина и Золотая Звезда Героя! Если я возьму Эзере — коробка моя!!!
Подумав, рассудил в уме и высказал свое мнение, к которому Ермишев прислушивался:
— Сейчас будут потери серьёзные. А вот вечером, в темноте, после артобстрела захватим Эзере!
Комполка утвердил мой план. И только батальоны вышли на исходный рубеж атаки, как противник, редко постреливая наобум из двух-трех пулеметов, снялся и оставил Эзере. Так мне лишь «улыбнулась» Золотая Звезда. Но зато люди остались живы и здоровы, что я больше всего и ценил.
* * *
В полку появилась рота снайперов… из девушек и молодых женщин! По обязанности распределяю их по батальонам, а там уже комбаты — по ротам и «гнёздам».
Когда я ныне смотрю на встречи ветеранов войны, где блестят своими наградами женщины-снайперы, невольно вспоминается то время. И уж на склоне своих дней повторяю: что лишнее в действующей армии, так это женщина с ружьём! Бессмысленно и неэффективно!
Стоят передо мной высокие блондинки, грудь — чудо, а на ней по одному, по два ордена аж Красного Знамени. А сами такие глазастые, так и смотрят по сторонам в поисках кавалеров. Снайперши! Все подобные ситуации я повидал на фронте…
Развели их по местам. И они исчезли. Ни днями, ни на рассвете на наших передовых линиях не слышно стрельбы. Иду по траншее в 1-м батальоне, на постах стоят свои, и ни одной женщины-снайпера! Которые расположились по блиндажам с командирами взводов, старшинами рот или с командирами…
Надо прямо сказать: чтобы застрелить из снайперской винтовки хотя бы одного фрица, надо не одну неделю наблюдать за обороной противника. И когда вдруг мелькнет голова немца, который выбрасывает лопатой землю из траншеи, не упустить этого мгновения! А это не каждому и опытному снайперу дано. Будучи, как я уже упоминал, одним из лучших стрелков в Забайкальском военном округе, я в Лёлявине караулил фрицев все лето 1942 года — то из дзота, пустовавшего днями, то из удобного скрытого места, с расстояния до 500 метров. И за то лето я из снайперской винтовки уложил только двоих, в том числе офицера. Если бы я был снайпером, то награда мне была бы не выше медали «За отвагу»! А тут у женщин-снайперов через одну ордена Красного Знамени, Красной Звезды, а медалей «За отвагу» — не перечесть…
Прошла неделя. Командир снайперской роты заявляется ко мне на КП полка. Ермишев отсутствовал, так как приехала на «полуторке» его жена из Москвы на свидание и за «трофеями», хотя мы ещё находились в границах СССР.
Командир роты не мог собрать своих снайперов — исчезли в окопах, и все. Наконец нашёл, но три — как в воду канули! Всё ведающий помначштаба Алексей Цветков, впоследствии полковник в отставке в Новосибирске, а тогда старший лейтенант, подсказал: «Одна скрывается у того-то, другая у того-то и третья там-то…»
Нашли. Командир роты принёс мне их книжки с отметками об «убитых» фрицах, подтверждаемых подписями солдат и сержантов. Возвращая ему эту, грубо говоря, туфту, я сказал, чтобы он увозил своих снайперов, и побыстрее. Иначе я их разоружу и снайперские винтовки, так необходимые нам в батальонах, отберу. На весь батальон у нас была лишь одна такая винтовка. А тут целый арсенал…
И ещё один момент. Полковые интенданты сдавали бельё в стирку по прифронтовым сёлам женщинам и девушкам, которым после окончания работы выдавались справки, что они были в таком-то полку, дивизии и т. д. Спустя годы эти «воины» из прачек стали «участниками Великой Отечественной войны». Или поработали несколько девушек на полковой кухне в 10 километрах от позиции и, получив такие справки, возвращались по домам. И они тоже, оказывается, «активные участники ВОВ»! Почти подростки, рядовые 1926 и даже 1927 годов рождения, только что прибыли в часть в ту же нашу оборону, и кончилась война. Но они, побыв здесь сутки или меньше, тоже «участники ВОВ», и теперь многие из них «инвалиды ВОВ». А мы, настоящие воины Красной армии, которые дрались по году, по два, а я три года и четыре месяца, были посажены на полуголодную пенсию. Ведь никакого бюджета на всех, у кого были справки, не хватит.
Война подходила к завершению. Подполковник с 1941 года Иван Григорьевич Ермишев, казалось, «без меня никуда». Поселил меня к себе в трофейный огромный блиндаж. Тогда-то я познал впервые в полной мере: лучше быть хоть маленьким начальником, чем даже большим заместителем начальника. Да еще такого капризного, как Иван Григорьевич. Царство ему Небесное. По мельчайшему поводу он приходил в «кавказскую» ярость. Мог (как князь горский) запустить в молоденькую девушку — личного повара тарелку с не понравившимися ему супом или щами. Аж осколки по блиндажу! Командирского в нем было мало. Ни знаний, ни храбрости, ни фигуры, ни голоса. Все так, серединка на половинку! Он исчезал к своей приехавшей супруге на десяток деньков, возвращался и спустя день снова исчезал в своем «домике» далеко от полка. Меня это устраивало, поскольку давало в руки самостоятельность. Я «набивал себе руку» на командира полка, о чем давал мне понять Николай Токарев, первый зам комдива полковника Фомичева.
Вызов к телефону. Токарев звонит из первых траншей. Говорит по-товарищески и доверительно, но приказывает: принять у него наблюдательный пункт дивизии! Как будто у него не было в штабе других офицеров! Но это меня вполне устраивало, ибо я просто не мог сидеть на месте без дела. Побывав в тылу, я насмотрелся на муки своего народа. И считал, что надо немедленно кончать войну, и с ПОБЕДОЙ! Не околачиваться без дела, хотя и на фронте!
НП дивизии располагался в 500 метрах от позиций противника, расположенных по открытому полю, позади которого шли курляндские леса, густые, непроглядные. НП находился в подвале. Внутри — печурка-буржуйка, настоящие стеариновые свечки, два топчана, дощатый стол. Несколько чурок — вместо стульев. У аппарата дежурил телефонист.
«Будешь тут сидеть вместо меня. Когда скажу, тогда уйдешь в полк!» — объявил Токарев. Хлопнул меня по плечу, бросил: «Держись! Гляди в оба!» И исчез. Но из своего месторасположения тотчас наладил со мной связь, чтобы не тревожить комдива.
Рота прикрытия была из штрафников: сержантов и солдат, что проштрафились по пьянке, подрались с офицерами и т. п. А также кто-то из старших сержантов и старшин, которые заворовались в интендантствах… Но все готовы идти «на подвиг», чтобы снять с себя клеймо штрафника. Кончается война, надо успеть.
В ночь на 24 декабря наши разведчики незаметно углубились в тыл к немцам, в ближний лес, оборвали телефонную связь противника, присоединили к их проводу свой (трофейный) провод и протянули его к себе в блиндаж! Ловись, рыбка большая и маленькая! Ждут. Клюнуло: здоровенный фельдфебель, проверяя обрыв линии связи, не заметив ночью поворота к нам, появился у засады и был связан в мгновение. Он все же успел выхватить «парабеллум» и выстрелить. Попал себе в ногу, но ранен был легко. Четверо наших ребят кое-как его связали-спеленали и принесли на плащ-палатке ко мне в блиндаж!
У меня был ординарец-переводчик Алексей. Был шофёром, попал в плен. Освобождён нашими и отбывал «срок» в штрафниках. Умный парень, хорошо знающий немецкий язык. В плену Алексей заряжал автоаккумуляторы в полевой мастерской.
Фельдфебель — краснолицый, бесстрашно злой, богатырского сложения. За бортом куртки у него была пришита красная с черно-белыми полосками лента Железного креста. На фото, найденном у фельдфебеля, он стоял в окружении многих офицеров-гитлеровцев. Как ни упирался он, но сказал, что в полукилометре за их позициями стоят три дивизиона зенитных орудий на случай налёта советской авиации.
Изъяв у немца большую пишущую ручку из слоновой кости, которую вполне можно было использовать как холодное оружие, я отправил его в штаб дивизии.
С вечера на 25 декабря, который напомнил мне о «языке», взятом год назад на Волхове в этот же день, я заметил: противник не вел огня, не бросал осветительных ракет. Что это? Неужели отступают? Но это невозможно. Некуда им отходить, а можно только идти вперед на прорыв. Но скоплений войск не видно и не слышно. Ломаю голову. И решаюсь.
Ставлю в известность командира роты штрафников: надо провести разведку поиском за «языками». Старший лейтенант подхватил этот довольно рискованный почин. Рота штрафников рассредоточилась по огневым точкам вокруг НП дивизии. Командир роты отобрал добровольцев, готовых идти на смерть, но снять с себя позорное звание штрафник! Вызвался небольшой, можно сказать, «интернационал». Старший сержант из интендантов — еврей, владеющий в совершенстве немецким; сержант — белорус и рядовой — казах, молоденький паренек. На прикрытие готовим один взвод.
И как-то я был уверен, что дело выгорит! На рассвете 25 декабря, в Рождество у немцев, мы с саперами подобрались к проволочным заграждениям противника и, не обнаружив никого по траншеям вправо и влево, спокойно проверили миноискателями наличие мин, проделали проход в заграждении, куда вошел наш «интернационал» из троих штрафников, а за ним прикрытие в 10 автоматчиков. Взвод расположился будто у себя в обороне по траншее, загородив свои фланги здесь же набросанными «ежами».
Немедленно возвращаюсь на НП, ибо мне не положено быть дальше своих позиций, а я и так чуть не ушёл с разведчиками. По полевому телефону сообщил Токареву об «операции» и получил от него «благословение». По другому предложению — двинуть в пустующие окопы загулявшего противника наш 506-й полк, он обещал «решить». Для поддержки разведки координирую действия с полковой артиллерией.
Вызываю к телефону Ермишева с тем же предложением, что и к Токареву. Тот, почти умоляюще, начал отнекиваться: видите ли, справа от нас польская часть, и «если немцы узнают о поляках, то двинут туда и нам во фланг». Я понял: моему комполка необходимо мирно-тихо отсидеться в ожидании, когда враг начнет сам сдаваться на милость победителей. И я принял другое решение: вывел всю роту штрафников на позиции противника! А там, думаю, будем действовать по обстановке.
Мой ординарец Алексей вызвал меня наверх из блиндажа. Вижу, подходит группа подвыпивших немцев, которых конвоируют наши трое разведчиков. Пленные играют на губной гармошке, вразнобой поют и кричат: «Гитлер капут!»
Двадцать три немца. Мы наскоро обыскали их на предмет наличия оружия, и я отправил их под конвоем нашей тройки прямо в штаб дивизии к комдиву Фомичёву. Пока они отсутствовали, доложил о пленных Ермишеву, который остался очень доволен!
Через час ребята-разведчики вернулись и сразу явились ко мне в блиндаж. Они гордо показали мне привинченные к гимнастеркам ордена Славы!
Обстановка становится более ясной. У немцев там, где были наши штрафники, есть еще блиндажи, в которых гуляют фрицы-зенитчики. Предлагаю, ибо разведчикам нельзя отдавать приказы, что зачастую делали некоторые недалекие командиры, еще раз пойти и привести пленных из другого блиндажа. Они согласились.
Тут уж я не выдержал — иду в траншею к штрафникам, протянув к себе провод полевого телефона. Держу на связи артиллеристов.
Пройдя лес, разведчики вышли снова на обширную поляну, в центре которой стоял танк с открытым люком. Танкисты, которые тоже хорошо отпраздновали Рождество, вовсю храпели. Справа один за другим располагались блиндажи, дистанция между ними метров тридцать. Наши парни подкрались к третьему, откуда слышались гвалт и шум развеселья фрицев, распахнули двери. Старший сержант скомандовал по-немецки: сдаваться, и точка! С поднятыми руками фрицы вышли, минуя свое оружие — винтовки в пирамиде снаружи блиндажа. И, подхватив большую бутыль с ромом, с готовностью направились с нашими в плен!
В этот момент пост в танке очнулся. Потом из четвертого блиндажа, офицерского, появился их командир. Он понял все и пальнул вверх из пистолета, давая знак танкистам. Те пальнули вслед группе пленных, но промахнулись!
И вот наша геройская тройка снова прибывает на НП дивизии, и с нею 22 «языка»! Спустя час ребята возвратились ко мне в блиндаж, показывают еще по ордену Славы.
…Повторяю для уточнения: это произошло 25 декабря 1944 года в 198-й стрелковой дивизии 10-й гвардейской армии 2-го Прибалтийского фронта. Кому бы я ни рассказывал об этом случае — не верят. Но я редко встречался с настоящим боевым фронтовым офицером из стрелковых частей. А обозники — они в такие дела не верующие. Да, за три с лишним года, побывав в военных переплетах, можно издавать книжку о различных невероятных случаях. Но для этого надо было выжить, что не каждому дано.
* * *
Под Новый год я свалился с сильнейшим приступом гастрита и воспалением легких. А вышеописанная эпопея окончилась тем, что штрафная рота при поддержке артиллерии капитально заняла первые траншеи обороны противника. Двинулась дальше к зениткам. Там, подбив сторожевой танк противника, закрепилась, отбив несколько контратак. Все-таки вынуждена была отойти и занять прежнее место у фрицев. Сюда уже подошел 1-й батальон нашего полка. Гром нашей артиллерии разнесся по фронту так, что я, когда стоял здесь и ставил другим разведчикам задание, почувствовал вдруг, что у меня остановилось сердце на несколько секунд! С этого часа появился у меня еще один недуг.
* * *
Мой друг полковник Токарев, отправляясь на учёбу в Академию Генерального штаба, написал приказ по дивизии об освобождении Ермишева И. Г. от должности по возрасту и о моём назначении командиром 506-го стрелкового полка, но не довел дело до конца. Ермишев негодовал.
Вообще в полку обстановка неважная сложилась. Война еще не кончилась, а все уже начали праздновать… А я должен командовать, воевать.
Новый, 1945 год встретили. Приходит вторая партия офицеров, я им: товарищи, разойтись, Новый год уже прошел. И всех распустил. Многим это, конечно, не понравилось. Мне просто позорно все это было. Я буквально рвусь вперёд. Никаких! А после отъезда Токарева мне в дивизии не на кого было надеяться. И я решил после госпиталя в полк не возвращаться. В госпитале пролежал довольно долго, обострились все болезни: гастрит, бронхит, головные боли от контузий. Но я тогда ещё могучий был…
В апреле получил новое назначение. День Победы встретили под Бухарестом. Слышу — стрельба, в соседнем полку вверх идут трассирующие. У нас тишина. Потом в штабе зашевелились — Победа! Выскочили на улицу — тоже давай палить!
После дня Победы все наши части снялись. Мы пошли в Одессу.
* * *
Война закончилась. Я — в резерве, первый заместитель командира полка, в сентябре уже должен был получить звание подполковника. Все мои трофеи — бинокль, два комплекта обмундирования, рубашка и несколько кусков мыла. Деньги ещё на фронте сдал в фонд обороны.
В Одессе я оказался в госпитале. Подлечившись, прозябал в комендатуре округа до ноября 1946 года в ожидании места военного комиссара города Бендеры, откуда меня обещали направить в академию. Но однажды, не выдержав этой волокиты с трудоустройством, я подал рапорт на увольнение из армии, совершив роковую ошибку. Надо было бы додуматься в крайнем случае подать рапорт о направлении меня как художника-профессионала в Москву, в Студию имени М.Б. Грекова, куда принимались художники из военных. Но, увы!
На родине в Барнауле меня пригласили в органы МВД, старшим инспектором по боевой подготовке личного состава краевой милиции. Присвоили звание подполковника милиции. Но эта служба меня не устраивала, и я ушел навсегда от формы и оружия… Долго не мог на одном месте остановиться. Напишу несколько картин, деньги получу, жену, дочь под бок и дальше поехал… Бои сколько снились… И всё же чего-то не хватало после войны… Получил инвалидность 3-й группы, а с начала 1980-х годов 2-ю группу инвалида Великой Отечественной войны.
На гражданке заочно окончил Высшую партийную школу (ВПШ). Потом сельхозтехникум, став добровольцем, директором совхоза на пять лет. Но не нашел общего языка с партийными органами, угнетавшими всю Советскую власть и руководителей предприятий. Я хотел жизнь крестьян поднять. Вдовы фронтовиков с детьми в мазанках жили, как при царе Горохе. Но с райкомом не пошли дела. Неразбериха была в сельском хозяйстве, иррациональность. Секретарь райкома оказался партийным проходимцем, думал только о себе. Надо мной на бюро пытались издеваться. «Все, ребята, — говорю, — мне город лучше. Я — бешеный, не выдержу». На машине шофёров замучил, день и ночь гонял, занимался строительством и финансами.
С 1958 года — в Новосибирске. Тот секретарь райкома жил в соседнем доме. Встретились на улице, он улыбается:
— Это же прошло всё!
— Нет, не прошло. Вы вредитель, а не руководитель!
Я непримиримый. И в райком, горком с тех пор не заходил.
В Новосибирске я работал по строительству, в 1974–1979 годах был директором Новосибирского творческо-производственного комбината Союза художников РСФСР.
Тридцать лет у меня отняла рукопись исторической трилогии «Повести трудных годин», которая была одобрена Барнаульским книжным издательством. Но времена изменились, и книга о Гражданской войне на Алтае не увидела свет…
О войне 1941–1945 годов можно было бы вспоминать без конца. И чего только там не было. Уму непостижимо!
Приложения[3]
Приложение 1
ВЫПИСКА
из личного дела майора в отставке СУКНЕВА Михаила Ивановича о его участии в действующей армии в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.
ноябрь 1941 декабрь 1941 3-я танковая дивизия, отд. развед.батальон, Сев.-Зап. фронт Командир развед. взвода декабрь 1941 февраль 1942 1 стр. б-н, 1349 с.п., 225 ст.див., Волховский фронт Зам. ком. 3 стр. роты по строевой части февраль 1942 сентябрь 1942 1-й с. б., 1349 с.п., 225 стр.див., Волховский фронт Командир пулем. роты сентябрь 1942 ноябрь 1943 1-й с. б., 1349 с.п., 225 стр.див., Волховский фронт Командир стрелкового батальона ноябрь 1943 февраль 1944 225 ст.див. 59 армии, Волховский фронт Командир отд. штраф. батальона февраль 1944 июнь 1944 783 стр. полк, 229 стр.див., Ленинградский фронт Командир стрелкового батальона июнь 1944 сентябрь 1944 506 стр. полк, 198 стр.див., 54 арм. 3-й Прибалтийский фронт Командир стрелкового батальона сентябрь 1944 октябрь 1944 Ранение в бою. Госпиталь № 1171. Ленинград На излечении по раненям и контузии октябрь 1944 ноябрь 1944 506 стр.полк, 198 с.д., 10 гв.арм., 2-й Прибалтийский фронт Командир 2 стр. батальона ноябрь 1944 апрель вкл. 1945 506 стр.полк, 198 стр.див., 10 гв.арм., 2-й Прибалтийский фронт Зам. ком. 506 с.п. по строевой частиВыписка верна:
Военный комиссар Ленинского района г. Новосибирска, подполковник П. С. Тананакин
15 апреля 1990 г.
Приложение 2
Копия
БОЕВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
На командира 1-го стрелкового батальона, 1349 с. п., капитана Сукнева Михаила Ивановича
1919 г. р. Алтайского края, Алейского района, с. Осколково. Русский. Чл. ВКП(б) с 1942 г. Образование: Ойрот-Туринская художественная школа в 1937 г. — художник-профессионал. Военное: Полковая школа сержантов при 833 зап. стр. полку в сентябре 1939 г.; Черкасское (2-е Свердловское) Военно-пехотное училище ком. состава в ноябре 1941 г. Лейтенант. В Отечественной войне с ноября 1941 г. Награжден мед. «За Отвагу», орд. Красной Звезды, именные часы.
Предан делу партии Ленина — Сталина и Социалистической Родине. Мужественный и решительный командир. Требователен к себе и к подчиненным. Тактически грамотен. Много уделяет внимания сколачиванию батальона в боевом отношении.
При выполнении боевого задания, 20 марта 1943 года, на подступах к г. Новгород — за овладение валом, что восточнее Новгорода — 100 метров, командуя батальоном, капитан Сукнев, проявляя личное мужество и отвагу, умело вел личный состав к намеченной цели, преодолевая рубеж за рубежом под огнём противника, преодолевая три водных преграды, появлялся, где замечалась медлительность движения батальона. Достигнув намеченного рубежа по приказу командования, капитан Сукнев закрепился на нем, подготовив личный состав к отражению возможных контратак противника.
Батальон в ходе боев нанес урон противнику: подавлен огонь 4-х огневых точек противника и уничтожено 125 гитлеровцев.
Пользуется деловым авторитетом среди личного состава. По характеру вспыльчив, физически здоров, в походах вынослив.
Вывод: должности командира стрелкового батальона соответствует: командир 1349 с. п. подполковник
Лапшин И. Ф.
30 марта 1943 г.
С боевой характеристикой согласен: командир 225 стр. дивизии, полковник
П. И. Ольховский.
31 марта 1943 г.
Приложение 3
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
Сукнев Михаил Иванович. Майор. Командир 2-го стрелкового батальона, 506 стр. полка, 198 стр. дивизии. Представляется к ордену «Отечественная война 1-й ст.». 1919 г. р. Русский. Член ВКП(б) с IX. 1942 г. Участник Отечественной войны с 15 ноября 1941 г. Ранения и контузии в Отечественной войне: Т — 21.01.44 г.; Л — 15.02.1941 г.; К — 28.04.42 г.; Л — 4.09.1944 г.
В РККА с 02.1939 г. Призван Ойрот-Туринским РВК, Ойротской обл. Награждён орденами: «Красного Знамени» 21.02.1944 г., 10.05.44 г.; Красной Звезды 15.04.1942 г.; медаль «За отвагу» 14.06.1942 г.
Адрес домашний: г. Ойрот-Тура, ул. Алферовская, № 25, Сукнева Ирина Алексеевна.
Майор Сукнев М. И. в Отечественной войне участник многих боев против немецко-фашистских захватчиков, где проявил себя смелым, решительным и волевым командиром. В боях за переправу р. Гауя в районе г. Яунамуйжа в ночь на 4 сентября, после сильной перестрелки и артиллерийско-миномётной подготовки, противник силою до батальона предпринял разведку боем переднего края обороны 4-й стрелковой роты. Майор Сукнев в это время находился в этой роте, готовя личный состав к предстоящей боевой операции. Оценив обстановку, майор Сукнев приказал подпустить врага на близкое расстояние и огнём из всех видов оружия заставил противника залечь. Поднял роту в атаку и, несмотря на превосходящие силы противника, заставил его отойти с потерями в живой силе до роты. Вторичная контратака противника также была успешно отбита. Будучи ранен, майор Сукнев не ушёл с места боя до тех пор, пока не были отражены контратаки противника, нанося ему потери.
За умелое организованное управление боем и проявленную смелость майор Сукнев М. И. достоин Правительственной награды — ордена «Отечественная война 1-й ст.».
Командир 506 стр. полка
И.Ф. Ермшиев.
6.09.1944 г.
Достоин награждения орденом «Александра Невского» — ком. 198 стр. дивизии, полковник Фомичев. 10.09.1944 г.
Достоин награждения орденом «Александра Невского» — командир 7-го стр. корпуса генерал-майор Егоров. 12.09.1944 г.
Приказом войскам 54 армии № 0164/н от 25.09.1944 г. награждён орденом «Александра Невского». Помощник нач. 2 отделения ОК 54 армии капитан Марков.
Приложение 4
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
Сукнев Михаил Иванович. Майор. Заместитель командира 506 стрелкового полка по строевой части, 198 стр. дивизии, 10 гв. армии. Представляется к ордену «Отечественная война 1-й степени».
[...]Майор Сукнев в боях с немецко-фашистскими захватчиками за Советскую Родину проявил себя знающим свое дело и бесстрашным офицером. Так, в ночь с 20 на 21 декабря 1944 г., когда противник в районе д. Топас перешел в контратаку превосходящими силами с целью выхода во фланг нашим наступающим частям, тов. Сукнев М.И. под сильным огнем врага лично выдвинулся в боевые порядки и принял руководство отражением контратак. В результате противник потерял более ста тридцати убитыми, вынужден был откатиться назад, не добившись своей цели.
За умелое руководство и организацию отражения контратак, уничтожение превосходящих сил противника, за личный героизм, проявленный при этом, тов. Сукнев достоин Правительственной награды ордена «Отечественная война 1-й степени».
Командир 506 стр. полка
И. Ермишев.
21.12.1944 г.
Достоин награждения орденом «Отечественная война 1-й степени», командир 198 стр. дивизии, 10 гв. армии полковник Фомичев. 22.12.1944 г.
Достоин награждения орденом «Александра Невского». Командующий 10-й гвардейской армии генерал-лейтенант Казаков. 18.01.1945 г.
Верно: И.О. начальника O.K. 10 гв. армии майор Тимофеев.
Приложение 5
Без публикации
ПРИКАЗ
НАРОДНОГО КОМИССАРА ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР
№ 227
28 июля 1942 г. г. Москва
Враг бросает на фронт все новые силы и, не считаясь с большими для него потерями, лезет вперед, рвется в глубь Советского Союза, захватывает новые районы, опустошает и разоряет наши города и села, насилует, грабит и убивает советское население. Бои идут в районе Воронежа, на Дону, на юге у ворот Северного Кавказа. Немецкие оккупанты рвутся к Сталинграду, к Волге и хотят любой ценой захватить Кубань, Северный Кавказ с их нефтяными и хлебными богатствами. Враг уже захватил Ворошиловград, Старобельск, Россошь, Купянск, Валуйки, Новочеркасск, Ростов-на-Дону, половину Воронежа. Часть войск Южного фронта, идя за паникерами, оставила Ростов и Новочеркасск без серьезного сопротивления и без приказа Москвы, покрыв свои знамена позором.
Население нашей страны, с любовью и уважением относящееся к Красной Армии, начинает разочаровываться в ней, теряет веру в Красную Армию, а многие из них проклинают Красную Армию за то, что она отдает наш народ под ярмо немецких угнетателей, а сама утекает на восток.
Некоторые неумные люди на фронте утешают себя разговорами о том, что мы можем и дальше отступать на восток, так как у нас много территории, много земли, много населения и что хлеба у нас всегда будет в избытке. Этим они хотят оправдать свое позорное поведение на фронтах. Но такие разговоры являются насквозь фальшивыми и лживыми, выгодными лишь нашим врагам.
Каждый командир, красноармеец и политработник должны понять, что наши средства небезграничны. Территория Советского государства — это не пустыня, а люди — рабочие, крестьяне, интеллигенция, наши отцы, матери, жены, братья, дети. Территория СССР, которую захватил и стремится захватить враг, — это хлеб и другие продукты для армии и тыла, металл и топливо для промышленности, фабрики, заводы, снабжающие армию вооружением и боеприпасами, железные дороги. После потери Украины, Белоруссии, Прибалтики, Донбасса и других областей у нас стало намного меньше территории, стало быть, стало намного меньше людей, хлеба, металла, заводов, фабрик. Мы потеряли более 70 миллионов населения, более 800 миллионов пудов хлеба в год и более 10 миллионов тонн металла в год. У нас нет уже теперь преобладания над немцами ни в людских резервах, ни в запасах хлеба. Отступать дальше — значит загубить себя и загубить вместе с тем нашу Родину. Каждый новый клочок оставленной нами территории будет всемерно усиливать врага и всемерно ослаблять нашу оборону, нашу Родину.
Поэтому надо в корне пресекать разговоры о том, что мы имеем возможность без конца отступать, что у нас много территории, страна наша велика и богата, населения много, хлеба всегда будет в избытке. Такие разговоры являются лживыми и вредными, они ослабляют нас и усиливают врага, ибо если не прекратим отступления, останемся без хлеба, без топлива, без металла, без сырья, без фабрик и заводов, без железных дорог.
Из этого следует, что пора кончить отступление.
Ни шагу назад! Таким теперь должен быть наш главный призыв.
Надо упорно, до последней капли крови защищать каждую позицию, каждый метр советской территории, цепляться за каждый клочок советской земли и отстаивать его до последней возможности.
Наша Родина переживает тяжелые дни. Мы должны остановить, а затем отбросить и разгромить врага, чего бы это нам ни стоило. Немцы не так сильны, как это кажется паникерам. Они напрягают последние силы. Выдержать их удар сейчас, в ближайшие несколько месяцев — это значит обеспечить за нами победу.
Можем ли выдержать удар, а потом и отбросить врага на запад? Да, можем, ибо наши фабрики и заводы в тылу работают теперь прекрасно и наш фронт получает все больше и больше самолётов, танков, артиллерии, миномётов.
Чего же у нас не хватает?
Не хватает порядка и дисциплины в ротах, батальонах, полках, дивизиях, в танковых частях, в авиаэскадрильях. В этом теперь наш главный недостаток. Мы должны установить в нашей армии строжайший порядок и железную дисциплину, если мы хотим спасти положение и отстоять Родину.
Нельзя терпеть дальше командиров, комиссаров, политработников, части и соединения которых самовольно оставляют боевые позиции. Нельзя терпеть дальше, когда командиры, комиссары, политработники допускают, чтобы несколько паникеров определяли положение на поле боя, чтобы они увлекали в отступление других бойцов и открывали фронт врагу.
Паникёры и трусы должны истребляться на месте.
Отныне железным законом дисциплины для каждого командира, красноармейца, политработника должно являться требование — ни шагу назад без приказа высшего командования.
Командиры роты, батальона, полка, дивизии, соответствующие комиссары и политработники, отступающие с боевой позиции без приказа свыше, являются предателями Родины. С такими командирами и политработниками и поступать надо как с предателями Родины.
Таков призыв нашей Родины.
Выполнить этот призыв — значит отстоять нашу землю, спасти Родину, истребить и победить ненавистного врага.
После своего зимнего отступления под напором Красной Армии, когда в немецких войсках расшаталась дисциплина, немцы для восстановления дисциплины приняли некоторые суровые меры, приведшие к неплохим результатам. Они сформировали более 100 штрафных рот из бойцов, провинившихся в нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости, поставили их на опасные участки фронта и приказали им искупить кровью свои грехи. Они сформировали, далее, около десятка штрафных батальонов из командиров, провинившихся в нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости, лишили их орденов, поставили их на ещё более опасные участки фронта и приказали им искупить свои грехи. Они сформировали, наконец, специальные отряды заграждения, поставили их позади неустойчивых дивизий и велели им расстреливать на месте паникеров в случае попытки самовольного оставления позиций и в случае попытки сдаться в плен. Как известно, эти меры возымели свое действие, и теперь немецкие войска дерутся лучше, чем они дрались зимой. И вот получается, что немецкие войска имеют хорошую дисциплину, хотя у них нет возвышенной цели защиты своей родины, а есть лишь одна грабительская цель — покорить чужую страну, а наши войска, имеющие возвышенную цель защиты своей поруганной Родины, не имеют такой дисциплины и терпят ввиду этого поражение.
Не следует ли нам поучиться в этом деле у наших врагов, как учились в прошлом наши предки у врагов и одерживали потом над ними победу?
Я думаю, что следует.
Верховное Главнокомандование Красной Армии приказывает:
1. Военным Советам фронтов и прежде всего командующим фронтами: а) безусловно ликвидировать отступательные настроения в войсках и железной рукой пресекать пропаганду о том, что мы можем и должны якобы отступать и дальше на восток, что от такого отступления не будет якобы вреда; б) безусловно снимать с поста и направлять в Ставку для привлечения к военному суду командующих армиями, допустивших самовольный отход войск с занимаемых позиций, без приказа командования фронта; в) сформировать в пределах фронта от одного до трёх (смотря по обстановке) штрафных батальонов (по 800 человек), куда направлять средних и старших командиров и соответствующих политработников всех родов войск, провинившихся в нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости, и поставить их на более трудные участки фронта, чтобы дать им возможность искупить кровью свои преступления против Родины.
2. Военным Советам армий и прежде всего командующим армиями: а) безусловно снимать с постов командиров и комиссаров корпусов и дивизий, допустивших самовольный отход войск с занимаемых позиций без приказа командования армии, и направлять их в Военный Совет фронта для предания военному суду; б) сформировать в пределах армии 3–5 хорошо вооружённых заградительных отрядов (до 200 человек в каждом), поставить их в непосредственном тылу неустойчивых дивизий и обязать их в случае паники и беспорядочного отхода частей дивизии расстреливать на месте паникеров и трусов и тем помочь честным бойцам дивизий выполнить свой долг перед Родиной; в) сформировать в пределах армии от пяти до десяти (смотря по обстановке) штрафных рот (от 150 до 200 человек в каждой), куда направлять рядовых бойцов и младших командиров, провинившихся в нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости, и поставить их на трудные участки армии, чтобы дать им возможность искупить кровью свои преступления перед Родиной.
3. Командирам и комиссарам корпусов и дивизий: а) безусловно снимать с постов командиров и комиссаров полков и батальонов, допустивших самовольный отход частей без приказа командира корпуса или дивизии, отбирать у них ордена и медали и направлять их в Военные Советы фронта для предания военному суду; б) оказывать всяческую помощь и поддержку заградительным отрядам армии в деле укрепления порядка и дисциплины в частях.
Приказ прочесть во всех ротах, эскадронах, батареях, эскадрильях, командах, штабах.
Народный комиссар обороны
И. СТАЛИН
Приложение 6
Не для печати
ПРИКАЗ
НАРОДНОГО КОМИССАРА ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР
№ 298
28 сентября 1942 г. г. Москва
С объявлением Положений о штрафных батальонах и ротах и штатов штрафного батальона, роты и заградительного отряда действующей армии.
Объявляю для руководства:
1. Положение о штрафных батальонах действующей армии.
2. Положение о штрафных ротах действующей армии.
3. Штат № 04/393 отдельного штрафного батальона действующей армии.
4. Штат № 04/392 отдельной штрафной роты действующей армии.
5. Штат № 04/391 отдельного заградительного отряда действующей армии.
Заместитель Народного комиссара обороны СССР армейский комиссар 1 ранга
Е. Щаденко
ПОЛОЖЕНИЕ О ШТРАФНЫХ БАТАЛЬОНАХ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ АРМИИ
26 сентября 1942 г.
«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель Народного комиссара обороны генерал армии Г. Жуков
I. Общие положения
1. Штрафные батальоны имеют целью дать возможность лицам среднего и старшего командного, политического и начальствующего состава всех родов войск, провинившимся в нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости, кровью искупить свои преступления перед Родиной отважной борьбой с врагом на более трудном участке боевых действий.
2. Организация, численный и боевой состав, а так же оклады содержания постоянному составу штрафных батальонов определяются особым штатом.
3. Штрафные батальоны находятся в ведении Военных Советов фронтов.
В пределах каждого фронта создаются от одного до трех штрафных батальонов, смотря по обстановке.
4. Штрафной батальон придается стрелковой дивизии (отдельной стрелковой бригаде), на участок которой он поставлен распоряжением Военного Совета фронта.
II. О постоянном составе штрафных батальонов
5. Командиры и военные комиссары батальона и рот, командиры и политические руководители взводов, а также остальной постоянный начальствующий состав штрафных батальонов назначаются на должность приказом по войскам фронта из числа волевых и наиболее отличившихся в боях командиров и политработников.
6. Командир и военный комиссар штрафного батальона пользуются по отношению к штрафникам дисциплинарной властью командира и военного комиссара дивизии; заместители командира и военного комиссара батальона — властью командира и военного комиссара полка; командиры и военные комиссары рот — властью командира и военного комиссара батальона, а командиры и политические руководители взводов — властью командиров и политических руководителей рот.
7. Всему постоянному составу штрафных батальонов сроки выслуги в званиях, по сравнению с командным, политическим и начальствующим составом строевых частей действующей армии, сокращаются наполовину.
8. Каждый месяц службы в постоянном составе штрафного батальона засчитывается при назначении пенсии за шесть месяцев.
III. О штрафниках
9. Лица среднего и старшего командного, политического и начальствующего состава направляются в штрафные батальоны приказом по дивизии или бригаде (по корпусу — в отношении личного состава корпусных частей или по армии и фронту — в отношении частей армейского и фронтового подчинения соответственно) на срок от одного до трёх месяцев.
В штрафные батальоны на те же сроки могут направляться также по приговору Военных трибуналов (действующей армии и тыловых) лица среднего и старшего командного, политического и начальствующего состава, осужденные с применением отсрочки исполнения приговора (примечание 2 к ст. 28 Уголовного кодекса РСФСР).
О лицах, направленных в штрафной батальон, немедленно доносится по команде и Военному Совету фронта с приложением копии приказа или приговора;
Примечание. Командиры и военные комиссары батальонов и полков могут быть направлены в штрафной батальон не иначе как по приговору Военного трибунала фронта.
10. Лица среднего и старшего командного, политического и начальствующего состава, направляемые в штрафной батальон, тем же приказом по дивизии или бригаде (корпусу, армии или войскам фронта соответственно) (ст. 9) подлежат разжалованию в рядовые.
11. Перед направлением в штрафной батальон штрафник становится перед строем своей части (подразделения), зачитывается приказ по дивизии или бригаде (корпусу, армии или войскам фронта соответственно) и разъясняется сущность совершённого преступления.
Ордена и медали у штрафника отбираются и на время его нахождения в штрафном батальоне передаются на хранение в отдел кадров фронта.
12. Штрафникам выдается красноармейская книжка специального образца.
13. За неисполнение приказа, членовредительство, побег с поля боя или попытку перехода к врагу командный и политический состав штрафного батальона обязан применить все меры воздействия вплоть до расстрела на месте.
14. Штрафники могут быть приказом по штрафному батальону назначены на должности младшего командного состава с присвоением званий ефрейтора, младшего сержанта и сержанта.
Штрафникам, назначенным на должности младшего командного состава, выплачивается содержание по занимаемым должностям, остальным штрафникам — в размере 8 руб. 50 коп. в месяц.
Полевые деньги штрафникам не выплачиваются.
Выплата денег семье по денежному аттестату прекращается и она переводится на пособие, установленное для семей красноармейцев и младших командиров Указами Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1941 года и от 19 июля 1942 года.
15. За боевое отличие штрафник может быть освобождён досрочно по представлению командования штрафного батальона, утвержденному Военным Советом фронта.
За особо выдающееся боевое отличие штрафник, кроме того, представляется к правительственной награде.
Перед оставлением штрафного батальона досрочно освобожденный становится перед строем батальона, зачитывается приказ о досрочном освобождении и разъясняется сущность совершенного подвига.
16. По отбытии назначенного срока штрафники представляются командованием батальона Военному Совету фронта на предмет освобождения и по утверждении представления освобождаются из штрафного батальона.
17. Все освобожденные из штрафного батальона восстанавливаются в звании и во всех правах.
18. Штрафники, получившие ранение в бою, считаются отбывшими наказание, восстанавливаются в звании и во всех правах и по выздоровлении направляются для дальнейшего прохождения службы, а инвалидам назначается пенсия из оклада содержания по последней должности перед зачислением в штрафной батальон.
19. Семьям погибших штрафников назначается пенсия на общих основаниях со всеми семьями командиров из оклада содержания по последней должности до направления в штрафной батальон.
ПОЛОЖЕНИЕ О ШТРАФНЫХ РОТАХ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ АРМИИ
26 сентября 1942 г.
«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель Народного комиссара обороны генерал армии Г. Жуков
I. Общие положения
1. Штрафные роты имеют целью дать возможность рядовым бойцам и младшим командирам всех родов войск, провинившимся в нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости, кровью искупить свою вину перед Родиной отважной борьбой с врагом на трудном участке боевых действий.
2. Организация, численный и боевой состав, а также оклады содержания постоянному составу штрафных рот определяются особым штатом.
3. Штрафные роты находятся в ведении Военных Советов армий. В пределах каждой армии создаются от пяти до десяти штрафных рот, смотря по обстановке.
4. Штрафная рота придается стрелковому полку (дивизии, бригаде), на участок которого она поставлена распоряжением Военного Совета армии.
II. О постоянном составе штрафных рот
5. Командир и военный комиссар роты, командиры и политические руководители взводов и остальной постоянный начальствующий состав штрафных рот назначаются на должность приказом по армии из числа волевых и наиболее отличившихся в боях командиров и политработников.
6. Командир и военный комиссар штрафной роты пользуются по отношению к штрафникам дисциплинарной властью командира и военного комиссара полка, заместители командира и военного комиссара роты — властью командира и военного комиссара батальона, а командиры и политические руководители взводов — властью командиров и политических руководителей рот.
7. Всему постоянному составу штрафных рот сроки выслуги в званиях, по сравнению с командным, политическим и начальствующим составом строевых частей действующей армии, сокращаются наполовину.
8. Каждый месяц службы в постоянном составе штрафной роты засчитывается при назначении пенсии за шесть месяцев.
III. О штрафниках
9. Рядовые бойцы и младшие командиры направляются в штрафные роты приказом по полку (отдельной части) на срок от одного до трех месяцев. В штрафные роты на те же сроки могут направляться также по приговору Военных трибуналов (действующей армии и тыловых) рядовые бойцы и младшие командиры, осужденные с применением отсрочки исполнения приговора (примечание 2 к ст. 28 Уголовного кодекса РСФСР).
О лицах, направленных в штрафную роту, немедленно доносится по команде и Военному Совету армии с приложением копии приказа или приговора.
10. Младшие командиры, направляемые в штрафную роту, тем же приказом по полку (ст. 9) подлежат разжалованию в рядовые.
11. Перед направлением в штрафную роту штрафник ставится перед строем своей роты (батареи, эскадрона и т. д.), зачитывается приказ по полку и разъясняется сущность совершенного преступления.
Ордена и медали у штрафника отбираются и на время его нахождения в штрафной роте передаются на хранение в отдел кадров армии.
12. Штрафникам выдается красноармейская книжка специального образца.
13. За неисполнение приказа, членовредительство, побег с поля боя или попытку перехода к врагу командный и политический состав штрафной роты обязан применить все меры воздействия вплоть до расстрела на месте.
14. Штрафники могут быть приказом по штрафной роте назначены на должности младшего командного состава с присвоением званий ефрейтора, младшего сержанта и сержанта.
Штрафникам, назначенным на должности младшего командного состава, выплачивается содержание по занимаемым должностям, остальным — в размере 8 руб. 50 коп. в месяц.
Полевые деньги штрафникам не выплачиваются.
15. За боевое отличие штрафник может быть освобождён досрочно по представлению командования штрафной роты, утвержденному Военным Советом армии.
За особо выдающееся боевое отличие штрафник, кроме того, представляется к правительственной награде.
Перед оставлением штрафной роты досрочно освобожденный становится перед строем роты, зачитывается приказе досрочном освобождении и разъясняется сущность совершенного подвига.
16. По отбытии назначенного срока штрафники представляются командованием роты Военному Совету армии на предмет освобождения и по утверждении представления освобождаются из штрафной роты.
17. Все освобожденные из штрафной роты восстанавливаются в звании и во всех правах.
18. Штрафники, получившие ранение в бою, считаются отбывшими наказание, восстанавливаются в звании и во всех правах и по выздоровлении направляются для дальнейшего прохождения службы, а инвалидам назначается пенсия.
19. Семьям погибших штрафников назначается пенсия на общих основаниях.
Приложение 7
СТАТУТ ОРДЕНА АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО
Орденом Александра Невского награждаются командиры Красной Армии, проявившие в боях за Родину в Отечественной войне личную отвагу, мужество и храбрость и умелым командованием обеспечивающие успешные действия своих частей.
Награждение орденом Александра Невского производится Указом Президиума Верховного Совета СССР.
Орденом Александра Невского награждаются командиры дивизий, бригад, полков, батальонов, рот и взводов:
За проявление, в соответствии с боевым заданием, инициативы по выбору удачного момента для внезапного, смелого и стремительного нападения на врага и нанесение ему крупного поражения с малыми потерями для своих войск;
За выполнение боевого задания, настойчивую и четкую организацию взаимодействия родов войск и уничтожение полностью или большей части действующих превосходящих сил противника;
За командование артиллерийским подразделением или частью, стремительно подавившими артиллерию врага, превосходящую по силе, или уничтожившими огневые точки противника, мешающие продвижению наших частей, или разрушившими группу ДЗОТов и ДОТ, или настойчиво отразившими атаку крупной группы танков, нанеся ей тяжелый урон;
За командование танковым подразделением или частью, успешно выполнившими боевую операцию, причинившими большой урон живой силе и технике противника и полностью сохранившими свою материальную часть;
За командование авиаподразделением или частью, настойчиво и успешно совершившими ряд боевых вылетов, нанесшими жестокий урон живой силе и технике противника и без потерь вернувшимися на свою базу;
За стремительные действия и инициативу по расстройству или уничтожению инженерных сооружений противника и обеспечение развития успеха в наступательном порыве наших частей;
За систематическую организацию бесперебойной разнохарактерной связи и своевременное устранение ее повреждений, обеспечившие успех крупных боевых операций войск;
За умелое и стремительное выполнение десантной операции с наименьшими потерями для наших войск, причинившей большое поражение противнику и обеспечившей успех общей боевой задачи.
Орден Александра Невского носится на правой стороне груди и располагается после ордена Богдана Хмельницкого III степени.
Примечания
1
Яковлев Всеволод Федорович (1895–1974). Генерал-лейтенант (1940). В Гражданскую войну — командир полка. Окончил Военную академию им. М.В. Фрунзе (1934). В советско-финляндскую войну командующий и замкомандующего 7-й армией. С конца июня 1941 г. командующий войсками Киевского особого военного округа. В ходе Великой Отечественной войны начальник тыла Юго-Западного фронта, замначальника Генштаба, командующий 4-й (сентябрь — ноябрь 1941) и 52-й (январь 1942 — июль 1943) армиями, помощник командующего Степным фронтом (август — октябрь 1943). В 1943–1946 гг. командующий войсками Белорусского и Ставропольского военных округов. Награждён двумя орденами Ленина и четырьмя орденами Красного Знамени.
(обратно)2
Документ публикуется с сохранением орфографии и пунктуации.
(обратно)3
Документы публикуются с сохранением орфографии и пунктуации.
(обратно)

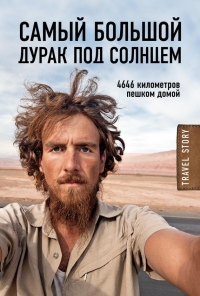

Комментарии к книге «Записки командира штрафбата. Воспоминания комбата 1941–1945», Михаил Иванович Сукнев
Всего 0 комментариев