Михаил Васильевич Авдеев. У самого Чёрного моря Книга I
ПЛАМЯ НАД ПЕРЕКОПОМ
Вместо пролога
Надолго оставит в России великие следы эта эпопея Севастополя, которой героем был народ русский.
Лев Толстой.— Мишка! Смотри слева! Слева-а-а!..
Крик ударяет в наушники.
Стремительно оглядываюсь.
Кажется, уже поздно: от «мессера» тянутся ко мне желтые, огненные нити. С сухим треском лопается плексиглас. Дюраль поет и визжит, раздираемый пулями.
Штурвал от себя — проваливаюсь вниз.
Как раз в ту секунду, когда вижу заслонившую все небо — так он близко — тень самолета с черными крестами на крыльях.
Нет, кажется, на этот раз жив. Пробую самолет. Вроде бы слушается.
Неизвестно откуда рядом оказывается машина Гриши Филатова. Лицо его растерянно улыбающееся.
Ничего, друг, мы еще поживем!..
Черт! «Юнкерсы» снова заходят на цель. Наверное, решили, что с нами покончено.
— Гриша! Гриша! Иду в атаку!..
Не знаю, услышал ли он меня или чутье опытного летчика подсказало ему мгновенное решение, только оглянувшись, я увидел, что словно незримая нить привязала ведомого к моему хвосту: при резком броске вверх он не отстал, надежно прикрывает меня.
Значит, все в порядке. Иду…
Громада «юнкерсов» стремительно росла, расцветилась несущимися навстречу мне стремительными огненными трассами.
Когда думаешь, что стоит одной из них скользнуть по кабине — и смерть, как-то холодновато становится под сердцем. Это врут те писатели, кто утверждает, что есть люди без нервов. Воюют не роботы, и главное — победить в себе даже минутное колебание. Главное, чтобы твои нервы оказались крепче нервов врага.
Ага! Они рассыпаются! Это уже неплохо.
Пристраиваюсь к левому ведомому «юнкерсу». Нажимаю гашетку.
Раз. Второй. Третий.
Треска я не слышу и понимаю, что попал только, когда проскакиваю вперед: дымящий «юнкерс» идет к земле.
Свечой ухожу вверх. Филатов вцепился в «юнкерса». Молодец! С таким ведомым не пропадешь!
«Филатовский» немец начинает дымить. Валится в бухту.
Разворот. Вижу — немцы беспорядочно сбрасывают бомбы в море. Бросаю самолет к ближайшей машине. И в ужасе смотрю на стрелку бензомера: горючего едва ли хватит дотянуть до аэродрома.
Даю команду отходить…
Это потом, на земле, в памяти всплыли подробности боя. А тогда… Тогда вряд ли я мог расчленить на составные его элементы. Пожалуй, единственное, что я чувствовал тогда — ярость…
Что ж, я не был одинок в этом чувстве. И в этой атаке.
Атак тогда было — не занимать!..
У самого моря
Прислонясь широкой спиной к стволу белой акации, комиссар угрюмо смотрел в выжженную солнцем крымскую степь.
Стояла золотая осень середины сентября сорок первого года. Было еще по-летнему жарко, но небо уже поднялось выше, раскинув до самого горизонта свою чисто вымытую синь. В безветрии слух едва улавливал глухие вздохи дальнобойной артиллерии на Перекопе. Комиссар прислушивался к этим тяжелым вздохам родной земли и украдкой от стоявшего поблизости командира эскадрильи вздыхал и сам.
Немцам не удалось взять Перекопский перешеек с ходу и они стягивали туда главные силы 11-й армии Манштейна. Ей противостояла наша наспех созданная в середине августа отдельная 51-я армия, поддерживаемая частью воздушных сил Черноморского флота.
Прошло с полчаса, как улетела к Сивашам на штурмовку вражеской автоколонны четверка истребителей, пора бы вернуться, а ее все нет и нет. Комиссар молча посматривал то на ручные часы, то на командира. Но командир тоже молчал. Говорить в такие минуты не хотелось. Правда, и беспокоиться будто бы ни к чему — на задание пошли опытные летчики, пошли на этот раз снова парами, как летают немцы, — ведущий и ведомый. Это сильная группа: Филатов и Минин, Капитунов и Аллахвердов. Но вчера она была намного сильней, когда вел ее командир и был в ней штурман эскадрильи Ларионов.
Теперь Жени Ларионова нет. В сороковом он служил на Балтике. Сражался в морозном небе над Карельским перешейком с белофиннами. На Черное море прибыл с орденом Красного Знамени.
Высокого молодого летчика знала вся Евпатория. И не только потому, что грудь его украшал орден. Человек широкой души, он и пел замечательно. Как начнет тихо, тихо:
Любимый город Может спать спокойно…Тепло становится на душе. И затихают тогда ребята 5-й эскадрильи.
Замечательный летчик, он в бою над Перекопом прикрыл своего командира.
«Мессершмитт» зашел сзади. И тут Евгений понял — отверни он в сторону, пушечные трассы прошьют самолет командира.
Ларионов принял удар на себя.
Гитлеровец повторил заход. На горящем самолете Ларионов вырвался вперед. Он давал знать ведущему: «Берегись — сзади опасность!»
И тогда самолет Жени ринулся в свое последнее пике…
Нашли и похоронили его пехотинцы. И комиссару не пришлось даже произнести первую речь над могилой первого погибшего в бою летчика 5-й эскадрильи. Он произнес ее вечером, за ужином. И кто знал, сколько их суждено ему произнести за войну? А может, завтра кому-то выпадет нелегкая участь сказать прощальные слова и у его, комиссарской, могилы. На войне ведь никто не огражден от смерти…
Речь была короткая, тяжкая и звучала как клятва, зовущая к мщению. Он вложил в нее столько чувств, столько ненависти к врагу, что каждый готов был тут же идти за комиссаром на смерть и на подвиг. Но вся беда комиссара была в том, что он не летчик и не мог вместе с командиром вести эскадрилью в бой, не мог личным примером…
* * *
Комиссара Ныча знали многие летчики Черноморья. Многие, включая и командующего военно-воздушными силами Черноморского флота, служили под его началом.
Пилоты искренне любили этого слегка толстоватого, чубастого, типичного украинца. Любили за постоянную улыбчивость, рассудительный спокойный нрав, а главное, — за неподкупную прямоту душевную. Поэтому и звали его любовно «Батько Ныч». Это был признанный батько на всем Черноморье.
Говорил Батько по-русски с мягким акцентом и некоторой примесью украинских слов, от чего слушать его было приятно. До войны он заочно закончил Военно-политическую академию, был начитан и мог в любое время и по любому поводу «держать речь» без шпаргалок, содержательно и с определенными выводами. Многим казалось, что он — политработник от рождения, и другим комиссара себе не представляли.
Такое мнение было недалеко от истины. Когда Ныч был еще подростком, через его родное село Иванковцы на Каменец-Подольщине прошла банда Тютюнника. Она перебила небольшой отряд красноармейцев, а комиссара — молодого, красивого парня в черной бурке — изрубила шашками. Тогда-то Иван Ныч и задумался: каким же человеком был комиссар, если его так ненавидели враги! И ему хотелось стать таким же, или хоть чуточку похожим на него, и уничтожить всех бандитов.
С годами образ зарубленного тютюнниковцами комиссара не оставлял Ивана, а утверждался все ярче и настойчивее. Не покинул он его и тогда, когда Ныч сам стал комиссаром, душой эскадрильи. И эта душа ныла сейчас от невидимой раны.
— Тьфу, наваждение, — чертыхнулся он. Командир удивленно поднял брови, глянул искоса.
— Ты, что?
— Да, так, ничего… — уклонился он от прямого ответа: не место было для подобного разговора, да и нужно ли вообще обнажать комиссару свои слабости?
Командир не настаивал. Он знал — секретов от него комиссар не держит, придет время — сам расскажет.
* * *
Полевой аэродром возле маленькой деревушки Тагайлы с воздуха был совсем неприметен. От деревни убегала в степь лесозащитная полоса, вдоль нее змейкой дорога. Единственным ориентиром была ветряная мельница. А так пролетишь и ни машин, ни людей нигде не заметишь.
Меня об этом предупредили. И все же долго бы утюжить над степью воздух моей группе сержантов, если бы нас не встретил командир эскадрильи Любимов. Помахали друг другу крыльями, капитан вплотную подошел к моему самолету, сияющее лицо, мимолетное пожатие собственных рук над головой.
Мне это пожатие рук было особенно дорого. Любимов был не только моим непосредственным начальством (я занимал должность заместителя командира эскадрильи), а настоящим боевым другом.
Мы уже несколько лет служили вместе.
По документам звали Любимова Иваном Степановичем, друзья окрестили его Васей. Почему? — Никто не мог объяснить! Но и с тем и другим именем был он добряк, милейший человек. Никогда ни с кем не ссорился, всегда говорил, не повышая голоса, не горячился и в каждом человеке видел только хорошее. Сам никого не ругал и его начальство миловало, никого не наказывал, а дисциплина в эскадрилье — лучшая в полку. А по технике пилотирования и по воздушной стрельбе между мной и Любимовым было давнее доброе соперничество, ибо выше себя в этом мы признавали лишь самого командира полка майора Павлова.
Коллектив в эскадрилье подобрался дружный, трудолюбивый и веселый. И кто знает, что больше этому способствовало, то ли личный пример боевого командира, то ли «земная» рассудительность комиссара. А может быть и то, что они совершенно разные, на первый взгляд, люди, как нельзя лучше дополняли друг друга.
Внешне же командир действительно отличался от комиссара — стройный, круглолицый, с высоким лбом над черными пучками бровей, всегда аккуратно выбритый, подтянутый. Правда, за три месяца войны лицо его несколько посуровело и удлинилось от усталости, но по прежнему оно было доброе и открытое, без чего немыслим и сам Любимов.
И вот сейчас из-за стекла кабины это лицо улыбалось мне так приветливо, будто улетал я не на пару месяцев учить молодых сержантов освоению истребителей, а отсутствовал целую вечность.
Стали в круг. С севера быстро приближались на бреющем три истребителя. Сержанты насторожились — не «мессершмитты» ли? Внутренне приготовились к бою, ждали сигнала командира эскадрильи. Любимов сразу же понял, что это возвращается с задания поредевшая группа Филатова. Тут же погасла блуждавшая на его губах улыбка. Снова кого-то не досчитаться. Сознание вернуло вчерашний подвиг и смерть Ларионова.
Кто же сегодня?
Летчики Филатова с ходу сели звеном. Тучами клубилась за ними пыль. Потом пошли на посадку сержанты. Командир и заместитель приземлились последними.
Пока механики и мотористы затаскивали хвосты самолетов в лесозащитную полосу и маскировали их ветками, летчики, вернувшиеся с Перекопа, собирались у землянки командного пункта. Впереди молча шли два друга — высокий, смуглый лейтенант Филатов мерил землю широким шагом, рядом по-женски семенил старший лейтенант Минин. У него и лицо было по-девичьи ясное, маленькое, красивое. Поодаль, торопливо затягиваясь папиросой, спешил старший лейтенант Капитунов. Шлемофон пристегнут к поясному ремню, светлые волосы взъерошены, косая прядь прилипла к вспотевшему лбу.
Вместе с командиром и комиссаром мы стояли у входа в землянку. Адъютант эскадрильи Мажерыкин приготовился записывать боевые донесения летчиков. Филатов хотел было докладывать о результатах вылета, но Любимов опередил его:
— Где потеряли Аллахвердова?
— Он сам потерялся.
— Как это сам? — спросил Ныч. — Сбили, сел на вынужденную?
Филатов неопределенно пожал плечами.
— Когда трижды заходили на штурмовку автоколонны, он был. В драке с шестеркой «мессеров» от Капитунова не отставал. И домой с нами шел. Над Турецким валом прошли на высоте, над заливом снизились на бреющий…
— Старший лейтенант Капитунов, — перебил Филатова Любимов, — где ваш ведомый?
Капитунов виновато моргал белесыми ресницами, морщил крупный нос и ничего внятного сказать не мог. Выручил его нарастающий гул самолета. На наблюдательном пункте завыла сирена — воздушная тревога. Несколько пар глаз впились в одну точку. Но ничего разглядеть не смогли. А гул тем временем нарастал, потом вдруг оборвался, перешел как бы на шепот с присвистом. Все кинулись за лесозащитную полосу. На посадку шел свой «як». Вот он коснулся земли, побежал и скрылся за стеной поднятой пыли. Вынырнув из пыльной завесы тихо, изредка фыркая мотором, подрулил к своей стоянке. На землю спрыгнул летчик. Его тут же окружили мотористы, молодые пилоты, механики. Одни пожимали руку, обнимали, хлопали по плечу, другие вместе с механиком Петром Бурлаковым ползали под плоскостями в поисках пробоин. Подошло начальство, все расступились.
— Товарищ капитан, младший лейтенант Аллахвердов с боевого задания прибыл, — радостно доложил пилот. — В воздушном бою сбил один истребитель противника — «мессершмитт-сто девять». — И перейдя с высокопарного тона доклада на обычную речь, махнул рукой на север. — Там, догорает.
Аллахвердов широко улыбался, показывая ослепительной белизны зубы, крупные черные глаза довольно щурились и все лицо излучало такую детскую радость, что невозможно было хоть сколько-нибудь усомниться в правоте его слов. Любимов протянул ему руку.
— Поздравляю, товарищ младший лейтенант, с первой победой! Мажерыкин, запишите ему один сбитый! И донесите в штаб группы. А теперь, — снова обратился он к Аллахвердову, — расскажи, дорогой, как это все было.
Тот, энергично жестикулируя, начал рассказывать, как, увлекшись боем, погнался за одним Me-109.
— Он сюда, я — за ним, он вверх, — я выше. Не фашист — вьюн: вся спина мокрая. Подловил на горке, влепил ему прямо в кабину.
Но доверие — одно, а закон — другое. За каждый сбитый самолет противника летчика поощряют, по количеству сбитых представляют к наградам. Поэтому, каким бы доверием человек ни пользовался, а факт требовал подтверждения. И комиссар должен поправить Любимова, не задевая авторитета командира.
— Добре, хлопче, к вечеру откуда-нибудь сообщат…
Аллахвердов недоуменно поднял размашистые, сросшиеся у переносья брови.
— Ну, кто-то же на земле видел, что вы сбили вражеский истребитель? — пояснил Ныч.
— Не знаю, — обиженно ответил летчик. — В бою, когда стреляешь по фашисту, об этом не думаешь. Пусть этим «земные» занимаются.
— Ладно, Иван Константинович, — вступился Любимов. Он был настолько доволен возвращением Аллахвердова, что готов был, если бы мог, записать ему хоть два сбитых «мессершмитта». — Человек врать не будет, сбил, значит, сбил. Туда ему и дорога. Подтверждение будет. А теперь — расходись все по своим местам. Летному составу остаться для получения задания.
Когда все разошлись, Любимов сказал адъютанту:
— О сбитом Аллахвердовым самолете запросите подтверждение у наземных войск.
* * *
Зеленая трава сохранилась лишь в зарослях лесозащитной полосы. Деревья стояли густо припудренные седой пылью. Поредевшие кроны белой акации нарядились в гроздья рыжих стручков. Солидную тень ронял на землю только молодой ясень. Здесь и отдыхали летчики, ожидая боевого вылета. Капитунов, положив под голову летный планшет и шлемофон с перчатками, удобно раскинулся на спине и дымил папиросой.
Филатов тоже лежал на спине, вытянув длинные ноги в стоптанных запыленных ботинках. Он закрыл глаза, но не спал — мысли крутились вокруг Аллахвердова. А тот сидел на собственных пятках, прислонясь к стволу ясеня и что-то строгал ножичком. С другой стороны подпирал спиной дерево Минин. Он пристроился на аккуратно сложенном сером, как у товарищей, комбинезоне и, положив на колени планшет, сочинял жене письмо. Она работала в другом городе в авиамастерских и скорее всего никуда не уехала.
— Послушай, Мустафа, — первым заговорил Капитунов. Мустафой он прозвал Аллахвердова давно. — А сбитый тобой фриц уже, наверное, в раю…
Лицо Аллахвердова расплылось в улыбке.
— Да простит мне аллах сей грех, — пошутил он.
— Ты точно видел, что он упал? — продолжал Капитунов, не поворачивая головы.
— Лопнули б мои глаза, — поклялся Аллахвердов. — У совхоза «Червоный чабан» в землю врезался. — Он перестал строгать.
— Сейчас пойдем на задание — покажешь.
— Не верите? — вспылил Аллахвердов. — Я уничтожил фашиста, а видел кто, не видел — он все равно сгорел.
— А чего ж кипятишься? — пробасил Филатов. Капитунов повернулся на бок, испытующе посмотрел на Аллахвердова.
— Верю, охотно верю, Мустафа, — сказал он. — Честь тебе и хвала. А за то, что ты меня подленько бросил, как самая последняя… — Капитунов перехватил взгляд Минина, осекся. В его присутствии никто никогда не сквернословил. — Ладно. Уточнять не будем. Кляузу не охота разводить. Подкрадись сзади парочка гуляющих «мессеров» — дорого бы нам обошелся твой фриц.
— Так долго не навоюем, — рассудительно сказал Минин. — Пусть ты бросил нас не в бою, пусть над своей территорией погнался за одиночным «сто девятым», пусть даже сбил его, все равно ты нас предал. А в твоем докладе командиру получается вроде бы мы тебя бросили, и не где-нибудь, в бою…
— О твоем поступке, Аллахвердов, я, как ведущий группы, обязан буду доложить командиру, — строго сказал Филатов.
— Лучше видеть в хвосте врага, чем узнать, что тебя бросил ведомый, — спокойно и твердо закончил свою мысль Минин.
— Я попрошу, — заявил Капитунов, — чтобы вместо тебя дали мне кого-нибудь из молодых.
Аллахвердов вскочил на ноги. Черные, лучистые глаза его повлажнели.
— Честное комсомольское, я сбил «мессершмитта». Я хотел… Я не думал… Какой-же я предатель? Товарищ старший лейтенант, не отказывайтесь от меня. Слово даю — никогда такого не будет…
Капитунов тоже встал, смахнул с брюк сухой листочек белой акации, одернул китель. Поднялись Филатов и Минин.
— Черт с тобой, — сказал Капитунов сухо. — Но если еще раз откроешь мой хвост всякой фашистской сволочи, — он хотел ввернуть крепкое словцо, но только выставил щитом ладонь в сторону Минина. — Уточнять не будем… Я сам изуродую тебя почище, чем бог черепаху. Пусть потом обоих судят.
Аллахвердов скрестил руки на груди.
— Клянусь, никогда этого не случится, — пообещал он.
Филатов обвел всех строгим испытующим взглядом.
— Что ж, если Минин согласен, — подытожил он, — весь этот неприятный разговор останется между нами. — Минин кивнул головой. — Вам, товарищ младший лейтенант, придется попросить извинения у старшего политрука. Подумать только, перед кем грудь выпятил: «В бою об этом не думаешь»… И как у тебя язык повернулся Батьку обидеть?!
Аллахвердов молча смотрел себе под ноги. На душе у него было до обидного скверно, и в то же время слова Филатова принесли какое-то спасительное облегчение.
— Теперь по машинам, — продолжал Филатов. — Напоминаю задание. Штурмовиков встречаем у реки Чатырлык. Сопровождаем до цели и обратно. Непосредственное прикрытие — Капитунов — Аллахвердов. Для обеспечения свободного маневра держитесь от подопечных метров на двести, превышение — не более ста. Я и Минин — сковывающая пара. Будем метров на пятьсот сзади и на столько же выше. В случае нападения воздушного противника мы вступаем в бой. И как бы нам не было туго, ни в коем случае не идите выручать нас. От «илов» никуда. Ясно?
На земле всегда все ясно. В воздухе же столько неожиданного, непредусмотренного, что нужно непрерывно в какие-то доли секунды принимать все новые и новые решения, и насколько они будут верны, зависит исход боя, жизнь твоя и твоих товарищей.
Отпустив летчиков, Любимов и Ныч направились к землянке командного пункта эскадрильи. Батько был совсем расстроен. Как только вышли за лесную полосу, где никто не мог слышать их разговора, он с серьезным видом спросил Любимова:
— Видал когда-нибудь квочку, высидевшую диких утят? — и, не ожидая ответа, продолжал. — Вывела, выходила, они взмахнули крылышками и в небо, а она по двору носится, как дура. Не видал? Так вот она, гляди!
Ныч остановился, ткнул большим пальцем в свою выпуклую грудь. Лицо его побагровело, по лбу из-под лакированного козырька флотской фуражки скатывались крупные горошины пота. А Любимов смотрел на своего комиссара широко раскрытыми глазами и не понимал, куда он гнет.
— Тебе, Вася, что, — горячо наседал Ныч, — кинул клич: «Вперед! За мной!», сел на своего крылатого жеребца и пошел со своими орлятами в бой. Сам дерешься, их подбадриваешь. А у меня этой малюсенькой добавочки «за мной» и не хватает. Я любого имею право послать в бой, могу воодушевить, могу приказать, а сам?.. То-то. Вот тут это у меня камнем давит, Вася.
— Брось, Батько, ерунду городить, — вставил Любимов.
— Ни, голубок! До войны это как-то незаметно было. А ты слышал, что сказал сейчас Аллахвердов? Не летаешь, мол, и помалкивай. Ты это не уловил, а мне — нож в самое сердце. Теперь понял мою беду? И тут ничего не поделаешь. Жизнь сама подсказывает: у моряков комиссаром должен быть моряк, а у летчиков — летчик. Буду в морскую пехоту проситься. Там мое место, Вася.
— Вроде и солнце не очень печет, а несешь какую-то чепуху. — Любимов говорил невозмутимо спокойно, словно хотел умерить этим пыл Ныча. — Ну скажи по совести, что я без тебя буду делать? У хорошего комиссара и на земле работы невпроворот. Да и как это ты от нас уйдешь? Тебя же, старого черта, вся эскадрилья любит. Батьком зовут. А батько в лихую годину сынов своих не бросает. Вот так-то, дорогой мой, Иван Константинович. — И уже другим тоном. — Не обижайся. Аллахвердов молод — попетушился малость перед старшими, ему же потом стыдно будет.
Низко протарахтел У-2. Вернулся отвозивший в штаб полка донесение старший лейтенант Сапрыкин. Но я упредил его доклад командиру эскадрильи.
Мне не терпелось сообщить, что задание по «переучиванию на „яки“» молодых пилотов прошло успешно, без всяких ЧП, что Платонов и Макеев теорию и технику пилотирования сдали на «отлично». И, наконец, чертовски хотелось еще раз поздороваться с ними по-приятельски, без свидетелей.
Я не выдержал, обхватил руками Ныча и Любимова, прижал к себе:
— До чего же я, братцы, рад, что снова вместе. Ну, ну… Да улыбнитесь же, черти!
И Ныч сдался. Лицо его посветлело, обозначились ямочки на щеках. Добродушно, с лукавинкой щурились глаза Любимова. Ныч без труда прочитал в них: «Хочешь, Батько, выдам твою тайну?» Казалось, что с губ Любимова готовы сорваться первые слова.
— Вася, — умоляюще произнес комиссар.
— Могила! — заверил Любимов.
— Секреты от меня? — Я стукнул их лбами. — Ладно, не надо.
И я продолжал рассказывать:
— Особенно красиво летает сержант Платонов, до чего чисто все делает. Короче говоря, готов с ними в бой хоть сейчас.
— Успеешь, — сказал Любимов. — После обеда с кем-нибудь из обстрелянных подежуришь…
— Можно с Филатовым?
— Хорошо, с Филатовым. Потом в зону «сходишь» с сержантами. А чтобы не блудили, собери сейчас своих молодцов, пусть приготовят карты для изучения района. Занятия проведу я. Тебе тоже не лишне послушать. Действуй. — И тут же подошедшему Сапрыкину, — как там в полку, что комиссар, как наш Наум Захарович?
Сапрыкин взял под козырек.
— Разрешите доложить, товарищ капитан?
Любимов и Ныч тоже приложили руки к козырьку. Но комэск тут же предложил:
— Сядем, рассказывай.
Уселись у землянки в тени новенькой, еще не выцветшей палатки. Сапрыкин выкладывал разные штабные новости, не забыл и о том, что командир полка майор Павлов — это и есть Наум Захарович — очень удручен. Было в полку пять эскадрилий, трудами и потом подготовленные к обороне, а командовать почти нечем: разбросали по всему Крыму и даже в Одессу.
— Извини, Иван Иванович, перебью, — прервал его Любимов. — Раз уж зашла речь об Одессе, то придется тебе… Звонил зам. командующего ВВС Ермаченков, приказал отправить в Одессу звено истребителей. Трудновато сейчас там, надо помочь. Район тебе знаком и мы решили старшим назначить тебя.
— Я готов, — не задумываясь ответил Сапрыкин. — Кто со мной и когда вылетать?
— Вылет завтра на рассвете. А состав группы… Кого бы ты сам выбрал?
Сапрыкин на минуту задумался. С кем лететь в осажденную Одессу ему было далеко не безразлично, ведь эскадрилья состояла на половину из молодых пилотов. А при сопровождении кораблей придется драться над водой с немецкими самолетами-торпедоносцами и с истребителями. И Сапрыкину хотелось выбрать самых отчаянных и самых опытных. К тому же умеющих самостоятельно подготовить свою машину к полету. Лучше, конечно, взять бывших техников, переучившихся на летчиков, — Капитунова, Минина или Скачкова.
Иван Иванович крякнул в кулак, как бы поправляя голос, назвал все три фамилии, подробно обосновав каждую.
— Ты — гений! — Любимов добродушно улыбнулся, глаза сощурились. — Но сержанта одного придется все-таки взять. Не для счету же они нам даны.
— Оно, конечно, — Сапрыкин сказал это тоном обреченного, глядя в сторону.
— Почему бы и нет? — вмешался Ныч. — Левым ведомым пусть Капитунов, правым, поближе к себе — из новеньких. Авдеев подскажет, кто посильней.
Сапрыкин заупрямился.
— Ну ладно, — сказал Любимов. — Неволить не буду. Бери двух старших лейтенантов Капитунова и Скачкова. Подробные разъяснения получишь в штабе группы.
Любимов
Возвращались с обеда. Молодым пилотам, как распорядился комэск, предстоял ознакомительный полет к линии фронта. Лучше, конечно, зайти на Сиваши с Каркинитского залива, — думалось мне, — обстрелять на первый раз какую-нибудь колонну за передним краем противника и обратно через залив. Над водой безопасней. Внизу все, как на ладони, и никакая зенитка не угрожает, смотри только в оба за воздухом. Хорошо бы парочку захудалых «мессершмиттов» повстречать с бензином на исходе. Для начала и этого с сержантов достаточно. А если попадемся мы, да настоящим асам, их штук восемь—двенадцать?.. Нет, Любимов так нас не выпустит. Эх, нет Жени Ларионова… Ну, какой же ознакомительный полет без штурмана эскадрильи?!
Повели молодых к передовой всей эскадрильей, на земле осталась лишь дежурная пара. Любимов выбрал для полета такое время, когда в небе не встретишь ни одного вражеского самолета. Возможно, у немецких летчиков был по распорядку обед или послеобеденный отдых: немцы-то — народ пунктуальный.
Потом Любимов повел группу прикрытия наших пикирующих бомбардировщиков, подавлявших артиллерийские и минометные батареи за совхозом «Кременчуг». Из сержантов в этот вылет взяли только двоих — Платонова и Макеева. Мне с Филатовым и остальными сержантами пришлось дежурить на аэродроме.
Сидя в кабине истребителя, я снова вспомнил Ларионова. Не хотелось верить в его гибель. Кажется совсем недавно барражировал с ним над главной базой, летал на разведку движения войск противника в районе Очакова. Вспомнилось что-то приятное о Евгении, довоенное, но тут откуда-то взялся впереди самолета Мажерыкин. С криком «Воздух!» он указывал зажатой в руке ракетницей на север. В стороне и на высоте тысяч трех приближалась пара «мессершмиттов». Мгновенно взревели двигатели «яков», а уже через минуту мы с Филатовым шли на сближение с противником. Атака по ведомому фашисту снизу близилась к успешной развязке. Филатов (он имел на своем счету два лично сбитых самолета) несколько раз подлетал ко мне, подавал разные знаки и не мог понять, почему я не стрелял.
— Что же вы? Я и так и этак вам — бей! А вы хвост ему нюхаете, — горячился потом Филатов на земле, что редко с ним бывало. — Такую возможность упустили.
А я не знал, чем и оправдываться.
— Думаешь, Гриша, мне не хотелось сбить его? Надо бы подойти ближе, чтобы наверняка. Может, я и не прав, с «мессершмиттами»-то впервые… Смущала меня вторая пара, на солнце. Ты видал ее?
— Нет.
— Ее и остерегался.
— Да-а, — чуть поостыл Филатов. — Не заметь вы вторую пару, дали бы они нам прикурить.
— Сняли бы нас раньше, чем мы «мессершмитта».
О хитрости немцев мне кое-что рассказывал майор Наумов Н. А. — инспектор ВВС, летчик опытный и бесстрашный. Они подставляли под удар пару своих истребителей как приманку, а другая пара находилась на высоте в засаде, чаще на солнечной стороне.
— Заходя в хвост «мессершмитту», — наставлял Николай Александрович, — глянь повыше, нет ли засады. Прежде чем открыть огонь, посмотри себе под хвост, не висит ли там «веер».
Нас предупредили — к концу дня ожидать большое начальство. Никто из командования эскадрильи никогда не видел генерала Жаворонкова, но понаслышались будто начальник морской авиации очень строг, шумлив и нетерпим к любым упущениям.
Вернулись с задания летчики, большой диск румяного солнца вот-вот покатится по степи в сторону залива, а генерала все не было. Настроение у людей приподнятое — поработали славно и без потерь. Любимов собрался позвонить начальнику оперативного отдела штаба Фрайдорфской авиагруппы и доложить о последнем вылете, но где-то опередили его — коробка полевого телефона ожила, настойчиво подзывая к себе. Глядя на красивое предзакатное солнце, в лучах которого строем тянулись на Сиваши бомбардировщики, кажется, наши СБ, Любимов взял трубку.
— «Чайка» слушает, — отозвался он. — «Юнкерсы»?..
Комэск не спускал глаз с приближавшихся самолетов. Он и сам теперь видел, что это не наши. В нарастающем гуле моторов уже слышалось характерное подвывание.
— Вижу, товарищ генерал… Поднять некого — только отработали, заправляются… Один мой в готовности… Есть, товарищ генерал, вылетаю.
Любимов бросил трубку телефонисту и торопливо собравшимся:
— Жаворонков разнос дал! Немец, говорит, сам в руки лезет, а вы спите. — И побежал к своему самолету.
* * *
А «юнкерсы» совсем близко. Все задрали головы. Идут прямо на аэродром, без прикрытия истребителей. Неужели обнаружили, бомбить будут? Небо над степью противно выло и дрожало. Но Любимов взлетать не торопился, не хотел демаскировать свою площадку поднятой при взлете пылью. «Юнкерсы» развернулись над деревней и взяли курс на Перекопский перешеек.
— С тыла на наших заходят, — заметил кто-то.
— Эх, такая добыча уплывает! — зло протянул Капитунов, ввернув острое словечко.
Догнал Любимов их быстро. «Юнкерсы» не отстреливались. Не заметили или подпускают ближе? Зашел крайнему правому в хвост, в мертвую, не простреливаемую стрелком зону. «Пока до цели дойдут, я должен минимум троих свалить», — решил Любимов. «Юнкерс» уже надежно сидел в прицеле, осталось до него метров двадцать. «Если с этой дистанции дать по нему полным букетом на глазах развалится», — подумал Любимов. Он уверенно нажал на общую гашетку пулеметов и пушки… и не ощутил привычного при стрельбе вздрагивания машины. В нос не ударил острый запах порохового дыма и горящего масла, не увидел он впереди себя трасс.
Пулеметы и пушка молчали…
Это случилось так неожиданно, что Любимов на какой-то миг не то, чтобы растерялся, он просто, недоумевая, оцепенел. Тут же с досады бросил машину на левую плоскость крыла вниз, развернулся, сделал механическую перезарядку бортового оружия — не может же оно не стрелять, ведь летал сегодня и все было исправно! И снова с набором высоты увязался за правым крайним «юнкерсом». Прицелился метров за сто, чтобы в случае повторного отказа успеть перезарядить пулеметы, не выходя из атаки, и нажал на гашетку…
И на этот раз, и потом до самого Перекопа, сколько ни пытался он, дергая за тросы и растирая ими в кровь руки, заставить заговорить оружие, оно молчало.
Такого позора и такого беспомощного состояния, когда вражеские бомбардировщики бомбят наши войска, а он рядом, на прекрасном новеньком истребителе, и ничем не может им помешать, Любимов еще не испытывал. Приземлился Любимов в сумерках. Вылез из кабины мрачный и усталый. Моторист и механик помогли отстегнуть парашют и освободиться от ремней. Быстро темнело.
— Мазур здесь? — тихо спросил Любимов.
— Я… — отозвался старший техник по авиавооружению.
— Посмотри, дружок, что-то пулеметы не работали. И пушка тоже, — сказал комэск, будто ничего особенного не случилось, и ушел на КП.
Мазур остолбенел, не смог выговорить даже положенное «есть». Его бросило в жар. У командира в воздухе отказало оружие — это же такое ЧП…
А командир уже звонил в штаб и докладывал заместителю командующего ВВС Черноморского флота генералу Ермаченкову о неудачном вылете, сожалея, что не удалось сбить ни одного «юнкерса».
— Ну и черт с ними, с «юнкерсами», — ответил Ермаченков. — Сам-то цел?
— При чем тут я?
— А при том, — пояснил Ермаченков. — «Юнкерс» был твой? Твой. Так вот, найди его и сбей. — Генерал продолжал говорить, телефонная трубка в руках Любимова взмокла, казалось, накалилась докрасна от стыда.
Но комэск мужественно молчал и сказал лишь под конец:
— Завтра искупим свою вину, товарищ генерал.
Завтра… А сегодня за ужином, где обычно обсуждались боевые вылеты, предстояло разобраться в чрезвычайном происшествии.
В бою командиру отказало оружие! — такого в эскадрилье еще не бывало. И причина-то оказалась глупой. Оружейник после предыдущего вылета разрядил пулеметы и пушку, заменил стволы, наполнил патронные ящики и, оставив оружие незаряженным, побежал зачем-то в каптерку. В это время ничего не подозревающий механик и выпустил Любимова в воздух.
Обсуждали ЧП вместе с техническим составом, спорили недолго, но крепко и решили: впредь каждый летчик обязательно перед вылетом проверяет оружие.
Никак не могли придумать наказание виновным: ведь смерть ежедневно, ежечасно бродила по пятам каждого из нас.
* * *
Наши самолеты стояли рядом замаскированными в лесозащитной полосе. Мы с командиром дежурили.
Каким бы напряженным ни был день, звено или пара истребителей всегда оставалась на аэродроме. Летчики в регланах или комбинезонах с пристегнутыми парашютами обычно изнывали в кабинах от жары, чтобы по первому сигналу быстро взлететь прямо со стоянки. Отражать нападение на аэродром с воздуха пока никому не приходилось. Немцы площадку Тагайлы еще не знали. Но для прикрытия посадки возвращающихся с боевого задания товарищей дежурной паре приходится подниматься в небо по нескольку раз в день. Летчики часто бывали в длительных воздушных схватках с «мессершмиттами», прилетали усталыми, иногда и ранеными, на подбитых машинах, с тощими остатками бензина и боеприпасов. В таком состоянии, да еще с потерей высоты и скорости при заходе на посадку, они не могли отразить внезапного нападения немецких истребителей. Для их безопасности в воздухе и барражировало дежурное звено или пара.
Собственно, пара истребителей как боевая единица у нас тогда официально не существовала. Было звено, впереди командир — ведущий, по сторонам, сзади, прикрывали его левый и правый ведомые. На самолетах с малыми скоростями такой строй не сковывал свободы маневра и вполне себя оправдывал. Но для новых скоростных истребителей ни новое построение, ни новая тактика разработаны еще не были. Творчески мыслящие летчики сами вносили поправки, очень слаженно летали и успешно вели воздушный бой. Свобода маневра и взаимное прикрытие обеспечивались незначительным удалением правого ведомого и в три-четыре раза большим — левого. Молодые же летчики по-прежнему жались крыло к крылу и не могли воспользоваться преимуществами новых машин.
В нашей эскадрилье с переходом на скоростные «яки» ничего подобного не происходило. Оставляли на дежурство пару истребителей потому, что не хватало самолетов на прикрытие штурмовиков, бомбардировщиков или переднего края обороны. По той же причине формировались из пар и сами группы прикрытия. Так и в бой вступали парами и не заметили, что третий был бы лишним.
Так рождались и новое построение и новая тактика воздушного боя.
Кстати, вспомнился и недавний первый мой не состоявшийся бой, вернее первая встреча с «мессершмиттом». Я не считал ее проигранной — ведь, как бы там ни было, обстановку оценили мы правильно и вовремя прекратили атаку. Но на душе все же было неприятно — упустил-таки тот единственный миг, когда желтое брюхо «мессершмитта» попало ко мне в прицел. Может, действительно, следовало дать хорошую очередь со всех точек… Но захотелось подтянуться ближе, так чтобы все заклепки видны были. Но заклепок я не видал — то ли зрение подвело, то ли дистанция была великовата. Да и пара стервятников на солнце помешала.
С той памятной встречи, я раз и навсегда взял себе за правило: «Бей, когда заклепки увидишь». Впоследствии оно пригодилось многим летчикам.
Была в нашей технике еще одна уязвимая новинка — самолетные радиостанции.
Об управлении воздушным боем по радио в авиации мечтали давно, прекрасных результатов достигли на опытах, но в строевых частях к началу войны радио было не в почете, ему не доверяли. С недоверием отнеслись летчики к управлению боем по радио и с получением в начале войны истребителей Як-1. Пока настраиваешься, чтобы предупредить товарища об опасности, его собьют. Лучше уж по-старинке: взмах крыла, ракета, горка… Много было разных условностей, люди научились понимать их мгновенно, а возня с рацией только мешала делу.
В нашей эскадрилье приемники имелись на всех новых машинах, передатчики только на самолетах комэска, заместителя и командиров звеньев. Но ими до сих пор не пользовались. Острая настройка была очень чувствительна к любым незначительным помехам и невозможно порой услышать или понять команду ведущего.
— Михаил Васильевич, у тебя рация работает? Настроимся? — предложил мне во время дежурства Любимов.
Настраивались долго, оглушаемые пронзительным визгом. Когда стали отчетливо слышать друг друга, к самолетам подбежал лейтенант Мажерыкин: на аэродром шла пара «мессершмиттов».
Любимов махнул рукой. Мотор его взвыл на предельной ноте, и машина со стоянки пошла на взлет. Правее от него и чуть сзади несся, не чувствуя под собой земли, мой самолет. Вверх пошли спиралью. Противник был совсем близко на высоте не более полутора тысяч метров. Любимов рассчитал так, чтобы не выскочить перед его носом и не пропустить мимо. Он опасался, как бы немцы, использовав свое преимущество в высоте и скорости, не бросились в драку раньше, чем мы выйдем на их высоту.
Но немцы почему-то в драку не кинулись. Они стали над аэродромом в вираж — видимо, это были разведчики, высматривавшие расположение стоянок наших самолетов, чтобы привести сюда своих пикировщиков.
Ближе к Любимову оказался ведомый. С набором высоты капитан, форсируя мотор, подтянулся к желтому брюху «худого» (так наши летчики прозвали «мессершмитт» за его тонкий фюзеляж) и дал по нему удачную очередь. Затем, выскочив сзади и выше его, помчался, разгоняя скорость, за снижавшимся и почему-то ничего не подозревающим ведущим. Подбитый Любимовым истребитель дымил. Не замечая сзади себя моей машины, он стал пристраиваться в хвост комэска, но я опередил его очередью.
Дымивший «мессершмитт» вспыхнул пламенем. В тот же миг атакуемый Любимовым ведущий резко бросил свою машину вниз, об опасности, видимо, предупредил его по радио горящий напарник.
Я подошел сбоку к пылающему и теряющему высоту Me-109, ждал, когда фашист откинет фонарь кабины и выбросится с парашютом. Но тот, к моему удивлению, двумя руками легко отбросил фонарь за борт, чуть задрал нос самолета и сразу же резко толкнул ручку вперед. Машина клюнула носом, Из кабины сиганул далеко в сторону тощий и длинный сером комбинезоне лётчик. Он торопливо раскрыл парашют.
«Мессершмитт» догорал километрах в двух севернее аэродрома. Недалеко от своего самолета приземлился и хозяин. Разглядывать далее этого спешенного аса не было времени — второй ведь удирал безнаказанным.
Когда мы сели и поспешно подрулили к лесозащитной полосе, к стоянкам, оттуда уже бежали нам навстречу механики, летчики, не вылетевшие еще на задание, оружейники, мотористы, прибористы — вся эскадрилья махала в ликовании пилотками, фуражками, летными шлемами.
Как и первый любимовский показательный бой, мое первое сражение с гитлеровскими стервятниками прошло над родным аэродромом. Как и тогда мои товарищи видели с земли все, что делалось в воздухе. И был я этим очень горд.
Комэск отыскивал глазами батьку Ныча и не находил. Как только выключил на стоянке мотор, сказал технику:
— Комиссара не вижу. Сбитого летчика надо бы поймать.
— Батько уже там, ловит, — ответил техник. — Сержант Бугаев с ним и еще двое. Умчались сразу же, как немец парашют раскрыл.
* * *
«Мессершмитт», зарывшись мотором в землю, чадил узиной. Ныч обошел со своими спутниками груду обгоревшего металла. Сохранилась лишь сильно деформированная средняя часть кабины летчика, торчала из земли лопасть винта. Вместо плоскостей крыла — обрывки скрюченного дюраля на выжженной стерне. Хвост от удара оторвался, но не совсем, и лежал поджатым под фюзеляж, изуродованный и жалкий.
— Гляньте, товарищ комиссар, как пес побитый, — подметил Бугаев.
Летчика нигде не было видно. Пошли к скирде соломы. Бугаев, оглянувшись, увидел вдалеке что-то ослепительно блестевшее на солнце. Спросил разрешения у Ныча сбегать посмотреть. Пока комиссар с двумя вооруженными карабинами сержантами и шофером шарил вокруг скирды, Бугаев принес фонарь кабины «мессершмитта». Плексиглас целый, ни единой трещины.
— Побудьте тут, — сказал Ныч. — Съезжу в деревню, чего доброго там задержали, або видели куда побежал.
В деревне с тесной улочкой, на которой едва разминутся две арбы, было не больше десятка голых, без единого деревца дворов. Ныч вылез из кабины полуторки, и увидел старика у крайней хаты, направился к нему.
— Не видал, дедусь, как сбили немецкий самолет? — спросил Ныч.
— Видал, видал, — охотно ответил старик, утирая слезящиеся глаза.
— А немецкий летчик куда побежал?
— Туда видать, — старик показал сухой, морщинистой рукой в сторону Перекопа. Ныч хлопнул себя ладонями по бедрам.
— Ax, бисова ж его, фашистская душа, я так и знал: втече, — забеспокоился он и, забыв с досады поблагодарить старика за «ценные сведения», кинулся к машине. — Давай скорей к скирде, — сказал он шоферу, забираясь в кабину. — Захватим ребят и в погоню, а то уйдет, чтоб он скис.
Полуторка круто развернулась, затарахтела по скошенной степи пустым кузовом. Еще издали Ныч видел, как Бугаев приставил к скирде сверкающий на солнце фонарь кабины Me-109, потоптался возле него с двумя другими сержантами, отсчитал сколько-то шагов. Втроем вскинули карабины, почти не целясь, выстрелили дробным залпом и побежали к фонарю. Вдруг из скирды, у самого фонаря, по которому стреляли сержанты, кто-то вывалился на землю, тонкий и длинный, как жердь, и руки вверх.
Ныч почти на ходу выскочил из машины и разразился тирадой:
— Ах, ты ж чертов дед, — выругался он. — Вот так «ценные сведения».
— Нэ стрэляйт. Ихь арбайтер. Плен. Ихь — арбайтер, плен. Нэ стрэляйт, — твердил немец.
Пленного в сером новеньком комбинезоне обступили, разглядывали с любопытством. Молодой. Железный крест на шее. Глаза вперил в карабины, что держали русские на руке.
— Трухнул подлец, — сказал Бугаев. — Думал мы по нему стреляли.
Фашист побледнел, руки задрожали.
— Ихь найн дейче, — забормотал он. — Ихь бин йостеррайхер, ихь бин йостеррайхер.
— Никак в штаны напустил, — прокомментировал Бугаев.
Все рассмеялись.
— Он говорит, что сам рабочий, — пояснил Ныч. — Сдается в плен. Он — не немец, а австриец. Отберите у него оружие.
Бугаев снял с пояса пленного кобуру, вытащил из нее хромированный парабеллум.
— Вот это штучка, — сказал он тоном знатока-оружейника. — Никак именной. Что-то написано. — Бугаев передал пистолет Нычу. — Прочитайте, товарищ комиссар.
Ныч посмотрел надпись на рукоятке пистолета, сказал, что им награжден летчик Юлиус Дитте за особые слуги при взятии острова Крит.
Другого оружия у пленного не нашли. Отвезли его штаб авиагруппы. Бугаев прихватил и фонарь с тремя аккуратными дырочками от пуль.
— Хорошие портсигарчики выйдут, — подметил шофёр.
— Портсигарчики, — передразнил его Бугаев. — Видишь? — он похлопал по выпуклой части фонаря у пулевого отверстия. — Летчикам надо показать. Говорили, что стекло на кабине «мессершмитта» крепче брони. А на деле? То-то!
* * *
Заместитель командующего ВВС Черноморского флота генерал Ермаченков поблагодарил Ныча и сержантов поимку и доставку немецкого летчика, позвонил Любимову.
— Приезжай, познакомлю с твоим крестником. Допрашивать при тебе будем. Жду. И ты, Батько, останься, — сказал он Нычу, положив трубку.
Не прошло и пяти минут, как Любимов прилетел на УТ-2. В учительской школы, где размещался штаб группы, доложил генералу. Ермаченков встретил командира эскадрильи, не скрывая своего расположения. Всего месяца полтора назад прибыл генерал на Черное море с Балтики и за этот короткий срок полюбился ему комэск Любимов. Воюет эскадрилья почти без потерь, а на ее счету уже около девятнадцати сбитых самолетов противника, удачно сопровождает бомбардировщиков и штурмовиков, и сама более десяти раз штурмовала коммуникации и передний край немцев. Так было над Перекопом. А до этого эскадрилья с первого дня войны прикрывала с воздуха город и главную базу флота — Севастополь.
Генерал с удовольствием пожал руку Любимова, обнял его, расцеловал. Потом отстранил от себя, посмотрел на комэска внимательней, не убирая руку с его плеча:
— Молодец.
Перехватив беспокойно блуждающий по комнате взгляд капитана, догадался:
— Жаворонкова нет, — успокоил он Любимова. — Уехал на передовую, брата его там ранило… Здорово ты с ним познакомился! Не обижайся на него, он только с виду грозный бывает, а в душе человек добрый. Ты еще мне не попадался в переплет — я ведь сгоряча тоже могу наговорить лишнего. А ты и на меня в таком случае не обижайся. Морская вода высохнет — соль останется. Ну, проходи, садись.
Но прежде чем Любимов добрался до указанного стула, ему пожали руку находившиеся в комнате начальники штаба Фрайдорфской авиагруппы полковник Страутман, военком полковой комиссар Адамсон и капитан Мелихов, числящийся формально командиром группы. Генерал за это время распорядился ввести пленного и позвать штабного писаря, знавшего немецкий язык.
Пленный переступил порог, сделал три шага вперед, остановился. Он был в форме фашистского летчика. Сзади него стали у дверей два матроса с винтовками. Тут же вошел штабной писарь. Ермаченков велел конвоирам побыть за дверью, прошелся по комнате, заложив руки за спину, остановился возле пленного.
— Вот он, любуйся, — сказал генерал Любимову. — Гитлеровский выродок Юлиус Дитте.
При упоминании имени Гитлера пленный вытянулся по стойке смирно, задрав подбородок. Любимов встал, подошел поближе посмотреть живого немецкого летчика. Генерал продолжал, обращаясь теперь к Дитте:
— Отлетался, завоеватель. Знаешь, кто оборвал твою карьеру? — Ермаченков показал на Любимова. — Русские летчики капитан Иван Любимов и старший лейтенант Авдеев. Запомни это, когда-нибудь пригодится.
Писарь перевел слова генерала. Пленный закивал головой, что-то залопотал по-своему и протянул руку Любимову… Рука врага повисла в воздухе.
Наступила неловкая заминка. Нужно было приступать к допросу. Генерал подошел к немецкому летчику, испытующе посмотрел в его глаза.
— Итак, Дитте, вы в плену и надеюсь будете откровенны, — начал Ермаченков через переводчика. — Яков Яковлевич, — обратился он к полковнику Страутману, — записывайте. — И снова к пленному. — Скажите, Дитте, с какого аэродрома вы летаете?
Пленный молчал. Ермаченков пригласил его к столу, развернул изъятую у него карту, повторил вопрос. И снова никакого ответа.
— Напугался, — заключил кто-то. Ермаченков повернулся к писарю.
— Скажи ему, сержант, что никто его не тронет. Скажи, что ему будет сохранена жизнь, если не станет врать.
Писарь пояснил пленному условие генерала и добавил, как заметил Ныч, от себя лишнее. Ныч хотел сказать об этом Ермаченкову, но странное дело — от последних слов писаря Дитте затрясся, побелел и заговорил, торопливо показывая на карте место базирования его части.
— Шаплинка. Шаплинка.
— Аэродром Чаплинка? — уточнил начальник штаба.
— Я, я. Чяплинка.
Дитте ответил на все вопросы подробней, чем от него требовали, и было похоже, что говорил правду. Из его показаний штаб группы узнал, что на аэродроме Чаплинка базируются только истребители. Непонятно лишь было, каким образом после обильных дождей, в бездорожье Украины снабжается аэродром Чаплинка горючим и боеприпасами. Ведь там ни шоссейных, ни железных путей близко нет. Пленный раскрыл и этот, пожалуй, самый главный секрет: ежедневно в полдень на аэродром садятся до десяти тяжеловозов Ю-52 с полными баками бензина, каждый из которых заправляет одновременно по четыре истребителя Me-109. Транспортные «Юнкерсы» доставляют боеприпасы и продовольствие. Дитте попросил лист бумаги и нарисовал схему аэродрома, места стоянок истребителей, где и как происходит заправка их бензином, склад боеприпасов. Зенитной артиллерией аэродром не защищен.
Ермаченков еще раз напомнил пленному, что за правильные показания жизнь ему будет сохранена.
— Завтра полетим с ответным визитом, — закончил генерал, — если обманул или неточно указал время — расстреляем. Понял? Уведите.
Когда за пленным закрылась дверь, Ныч сказал писарю:
— Может быть, объясните нам, товарищ сержант, что добавили от себя при переводе условия генерала?
Писарь покраснел. На него с любопытством смотрели все присутствовавшие.
— Ну, ну, — заинтересовался Ермаченков, — скажи, о чем говорил за меня по-немецки?
— Все точно, товарищ генерал, — заверил писарь, — как говорили переводил. Где сложно было — в вольном изложении.
— Так что же он сказал? — спросил военком у Ныча. Батько Ныч, посмеиваясь, пояснил:
— Сержант пригрозил ему от имени генерала: если, сякой такой, не скажешь правду, возьмем тебя за самое больное место, положим на камень, а другим сверху пристукнем.
— Ах ты шельмец! — голос Ермаченкова потонул в общем хохоте. — А я-то думаю: отчего это он заговорил вдруг. — И сам рассмеялся, потом сказал военкому. — Разъясните Дитте, что у нас пыток к пленным не применяют.
Начальник штаба авиагруппы полковник Страутман доложил обстановку на Сиваше. Резким движением он раздвинул темную штору, скрывавшую большую, во всю стену карту, снял с гвоздя длинную указку, вроде биллиардного кия. Заостренный ее конец скользнул от Каркинитского залива по Гнилому морю до Арабатской стрелки.
— По неполным данным положение на нашем участке фронта обстоит так, — начал полковник.
Любимов слушал начальника штаба рассеянно: то, о чем говорил Страутман, командир эскадрильи видел ежедневно своими глазами. Батько Ныч тоже многое знал из боевых донесений и рассказов летчиков, но всё же достал записную книжку и старался не пропустить ни единого слова: обстановка была напряженной и не вполне ясной.
За последние дни части 22-й пехотной дивизии противника захватили у ворот Чонгарского полуострова железнодорожную станцию и населенный пункт Сальково, вытеснили наши подразделения из Ново-Алексеевки и попытались через Геническ по Арабатской стрелке прорваться в Крым, но были отброшены подразделением недавно сформированной нашей стрелковой дивизии при поддержке корабельной артиллерии Азовской военной флотилии. Северное побережье Сиваша занимает та же 22-я дивизия противника. На Перекопском перешейке против нескольких наших частей и соединений отдельной 51-й армии сосредоточены основные силы 30-го армейского корпуса и весь 54-й корпус 11-й немецкой армии.
На подступах главной линии обороны советских войск — по Турецкому валу — идут бои местного характера. Активизировала свои действия немецкая авиация 4-го воздушного флота.
— Сегодня на рассвете до пятидесяти бомбардировщиков противника совершили налет на совхоз «Червоный чабан», — заканчивал начальник штаба. — После сильного артобстрела, при поддержке минометов и пулеметов батальон вражеской пехоты атаковал наш опорный пункт. Другой немецкий батальон пытался продвинуться от совхоза «Кременчуг» по берегу залива. Атаки противника отбиты. Остается неясным, где все же будет направление главного удара немцев — через Чонгар или через Перекоп… Вернее всего здесь, — Страутман ткнул указкой-кием в Перекопский перешеек.
Генерал дал указание начальнику штаба срочно разработать операцию «Чаплинка», и, отпустив своих помощников, расспросил Любимова и Ныча о людях и делах эскадрильи, как воюют молодые пилоты, в чем испытывают нужду. Согласился с предложением усилить после подозрительного визита противника маскировку аэродрома.
— А теперь желаю боевых удач, — сказал Ермаченков, прощаясь. — Вы обеспечиваете завтра сопровождение и прикрытие штурмовиков капитана Губрия и Денисова. Возможно пошлем с бомбами и реактивными снарядами и эскадрилью Шубикова. Продумайте хорошенько, как обеспечить операцию без потерь.
* * *
О подвигах защитников Крыма и Севастополя писалось немало. Но мне кажется, этот героизм раскрывается особенно убедительно, если мы не будем забывать об одном немаловажном обстоятельстве: у нас не хватало новой техники.
И мужество состояло не только в том, чтобы победить. Но, чтобы победить на машинах, уступающих немецким и в скорости, и в огневой мощи.
Здесь нельзя не рассказать об одной операции.
Я с ребятами был в ней группой прикрытия.
«Чаплинка» — только начало
Лётный состав эскадрильи собрался у землянки КП, обсудить операцию «Чаплинка». Инженер пообещал подготовить все находящиеся на аэродроме истребители и ушел с комиссаром побеседовать об этом с механиками и специалистами служб.
Лётчики предлагали разное — пойти на сопровождение всем вместе, стать над целью в круг и не подпускать к штурмовикам истребителей противника. Так во всяком случае летали до сих пор, несмотря на то, что подопечные группы несли потери. Теперь надо искать что-то новое.
— Истребителей обвиняют обычно в том, что они бросают сопровождаемых, — сказал Филатов. — Причём, слово «бросают» произносят вполне серьезно, как самое веское обвинение. Но мы же не бросаем в прямом смысле, мы вступаем в бой с противником.
— А главное задание — не допустить потерь сопровождаемых бомбардировщиков или штурмовиков — остается невыполненным, — заметил Любимов.
— Нада: овца целый, волки сытый, — предложил Аллахвердов, вызвав веселое оживление.
О чем-то зашептались сержанты Платонов и Макеев, увлекшись, заговорили вполголоса. На них со всех сторон зашикали.
— В чем дело? — вынужден был одернуть молодёжь Любимов.
Сержанты вскочили на ноги.
— Да вот, товарищ командир, — начал Макеев, — Платонов говорит…
— Ладно тебе…
— Не мешай! Платонов говорит, если бы у нас была эскадрилья футболистов, то они разбили бы небо, как футбольное поле, на зоны и сами расставили бы свои силы — центр нападения, защита…
Договорить Макееву не удалось — грохнул дружный смех. Когда шум утих, я попытался отстоять сержантов.
— А что? Ведь действительно зоны — это рационально.
Меня поддержал Любимов. Он предложил достать блокноты и думать с карандашом в руках. В итоге все пришли к убеждению, что воздушную дорогу от аэродрома до цели необходимо в период операции разбить на зоны и держать под своим контролем.
Так как «мессершмитты» чаще всего шныряют у переднего края, решили выслать туда впереди штурмовиков небольшую группу наиболее отчаянных летчиков-истребителей. Эта группа должна сковывать воздушного противника и при возможности открыть ворота через передний край домой. Истребители непосредственного прикрытия пойдут со штурмовиками до цели. Безопасность возвращения домой обеспечат патруль, высланный к заливу, и поднятое над аэродромом дежурное звено или пара. Договорились держать строй и вести воздушный бой слетанными парами. Пары же обеспечивают собственное прикрытие.
Утром прилетел Ермаченков. Любимов доложил ему суть коллективной разработки прикрытия операции «Чаплинка». Генерал внимательно разглядывал схему расстановки сил эскадрильи.
— А ведь вы — молодцы. А? — похвалил Ермаченков. — Честное слово, молодцы. Мои, да и я, признаться, до этого не додумались. Значит, ты ведешь шестерку непосредственного прикрытия, забираешься с Аллахвердовым повыше, ближе к «илам» останется четверка Минина. Не мало ли? Возможно погулять над передним краем хватит одной пары Авдеев — Филатов, а парой Щеглов — Николаев усилить твою группу?
— Не нужно, товарищ генерал. Тут все продумано и каждым взвешено. Четверка подо мной будет сильная: старший лейтенант Минин в паре с уже обстрелянным сержантом Макеевым и старший лейтенант Касторный с сержантом Платоновым, тоже не плохим пилотом.
— Ладно, — согласился Ермаченков. — Утверждаю.
Прилетел на У-2 капитан Губрий, командир эскадрильи штурмовиков. Тоже батько, второй батько в черноморской авиации. Но это не главное, чем был знаменит капитан. Его отвага и боевое мастерство в небе Балтики принесли немало побед в борьбе с белофиннами. О нем рассказывали легенды, ему стремились подражать на земле, в воздухе и не только молодые пилоты, но и мы, уже имевшие какой-то боевой опыт первых недель Великой Отечественной войны.
Когда капитан Губрий расстегнул куртку, на груди его сверкнула Золотая Звезда Героя Советского Союза. Сам же герой в это время скрупулезно и деловито уточнял с истребителями место и время встречи в воздухе, знакомился с тактикой взаимодействия в районе цели и по маршруту.
Губрий заторопился — пора возвращаться на свой аэродром. Когда провожали его, невольно думалось: «Так вот каких отчаянных, храбрых ребят предстоит нам прикрывать завтра!» От сознания этого операция «Чаплинка» казалась еще более ответственной, более значимой.
* * *
Наша четверка прилетела на передовую за две-три минуты до пересечения линии фронта штурмовиками и группой прикрытия. Еще на земле условились: лейтенант Щеглов и сержант Николаев будут держаться ближе к Каркинитскому заливу на высоте две — две с половиной тысячи метров, мы с Филатовым — на пятьсот — восемьсот метров выше и восточней.
Над совхозом «Червоный чабан» метров на триста ниже нас показались «мессершмитты». Двенадцать штук. Если бы они держали курс на восток, можно было бы отойти в сторону, чтобы не заметили. Но их нелегкая несла именно туда, где вот-вот покажутся штурмовики.
Пришлось вступать в бой вдвоем — пара Щеглова патрулировала над местом прохода группы. Сразу решили — главное, втянуть противника в драку, задержать, дать возможность своим штурмовикам выполнить все что намечено операцией «Чаплинка», а потом… Потом, когда наши будут возвращаться с победой, как-нибудь выберемся.
Как-нибудь выбраться не удалось. Немцы увидели, что русских всего двое против двенадцати. Они приняли нас за легкую добычу и каждый стремился поживиться первым.
Дорого же вам обойдется эта «легкая» добыча, черти желтобрюхие! Нас-то двое, но вы еще не знаете, чего стоит каждый русский летчик в воздухе.
Бой превратился в сплошную неразбериху и погоню друг за другом. Перед глазами замелькали хвосты, желтые животы Me-109, дымовые и светящиеся пулеметные трассы. Сзади на «яках» и «мессершмиттах» опознавательных знаков не видно, а отойти в сторону никто не решался. Чехарда затянулась. Филатов непрерывно оглядывался на свой хвост. Иногда казалось, что голова его делает круговые обороты. Он едва успевал за мной при неожиданных резких движениях и атаках противника.
Как долго длилась эта игра со смертью в «объятиях» двенадцати вражеских стервятников? Тогда показалась вечностью…
Но вот мы, наконец, увидели, как наши штурмовики возвращались обратно. Сколько их, сосчитать не успели. Следом шла группа прикрытия — свои «яки». Стало ясно — основное задание выполнено, надо и нам развязываться с «мессерами», добираться до дому.
Но неужели так и уйти, не наказав ни одного?! И я ринулся вперед. После каждой атаки оглядываюсь — жив ли Филатов, узнав его, снова кидаюсь на ближнего «мессершмитта». Одного все же удалось поймать на миг в прицел и дать по нему очередь. Стервятник вспыхнул на виду у всех, вывалился из боя. Немцы дружно нырнули вниз, будто спешили взглянуть на его последний поцелуй с землей. Мы не стали им мешать.
На аэродром сели почти вслед за Любимовым и Мининым. Летчики, прилетевшие раньше, осматривали с механиками свои машины, считали пробоины. Ныч ходил от одного самолета к другому, спрашивал, что и как. С возвращением командира все участники операции «Чаплинка» быстро собрались у КП, подвели предварительные итоги. Любимов тут же позвонил Ермаченкову.
— Товарищ генерал, докладывает капитан Любимов. Пленный дал показания правильные. Удар штурмовиков был настолько неожиданным, что немцам пришлось вызвать «мессершмитты» с другого аэродрома. Бой был трудный. Наших четверых подбили. Раненых нет. Домой дошли все. Прикрывали я и Минин. Из сковывающей группы Авдеев и Филатов вели вдвоем длительный бой с двенадцатью «мессершмиттами». Авдеев сбил один истребитель противника.
…Ныне Герой Советского Союза генерал-майор авиации К. Д. Денисов возглавлял тогда группу И-16. Непосредственное обеспечение операции ложилось на него. Позднее он с горечью говорил:
— Все мы понимали, конечно, что эти истребители — весьма устаревшей конструкции, а потому они больше годились для бомбоштурмовых действий, чем для воздушных боев. Но что делать — тогда каждый самолет был на счету, и выбирать нам, собственно, было не из чего.
Когда немцы с севера стали занимать полуострова и острова Сивашей, они уже посадили свои истребители на аэродромы Чаплинка и Аскания-Нова.
Редкий вылет Денисова и его летчиков обходился без боя.
Так было и на сей раз, когда он возглавил группу, атакующую аэродром Чаплинка. Во время его пролета Перекопа практически вся группа прикрытия уже была втянута в бой с истребителями противника.
Сам Денисов так рассказывал мне о дальнейших событиях:
— Сквозь огонь зениток мы прорвались к цели и начали пикировать на стоящие на земле самолеты противника. Кругом рвались бомбы и, как ленты, висели в воздухе очереди от трассирующих пуль. Единственный Ил-2 среди разрывов выбирал самостоятельно цели и расстреливал их. Завесой пыли, огня и дыма вскоре закрыло почти весь аэродром. И вот сквозь эту завесу вдруг прорывается взлетающий Хе-111, который сразу атаковал я с Семеновым, и то ли мы сбили его, то ли летчик струсил, но машина рухнула на дорогу и загорелась при ударе.
Сделано уже несколько заходов на цель, потеряна высота, а набрать ее на наших устаревших машинах было уже не так-то легко. А истребителей противника налетело с соседних аэродромов много и начался тяжелый бой. Здесь я понял, что «яки» Любимова уже связаны неравным боем и мы остались без прикрытия. Израсходован почти весь боезапас, следовательно, маневрируя, надо отходить на свою территорию. И мы отходили с боем. То там, то здесь были видны большие группы немецких истребителей и в меньшинстве огрызающиеся наши «бисы», «чайки» и «ишаки». Противник имел явное преимущество, но вот уже наша территории и я решаю оттягивать противника в сторону ближайшего армейского аэродрома. Вижу, там уже взлетают, начинаем более активные действия, но оружие уже не стреляет. Немцы, поняв это, еще больше увлекаются боем, не замечая того, что они попадают в ловушку.
И вот смотрю: атакуют наши истребители сверху, и сразу падают два немецких самолета, а остальные на полных газах стали уходить…
Так или иначе, но победа была одержана.
На ужин прибыли генерал Ермаченков и инспектор флота по технике пилотирования майор Наумов. Отмечали сегодняшнюю победу, хотелось верить, что она явится залогом будущих боевых успехов.
Ужин превратился в шумное веселье, а затем и в непринужденную беседу. Помянули добрым словом Женю Ларионова, не забыли улетевших на защиту осажденной Одессы.
В столовой стало многолюдно. Кто-то притащил баян, растянули меха. Грянули «Распрягайте, хлопцы, коней», потом спели «Любимый город». Филатову принесли гитару. Он слегка тронул струны и запел «Очи черные». Его мягкий приятный тенор заполнил все пространство, не оставив места ни другим звукам, ни шорохам.
В противоположном конце зала раздвинули столы, плясали под баян русскую, лезгинку, гопака. В стороне что-то обсуждали Минин и его новый ведомый Яша Макеев. Минин уверял: «Кончится война, куплю себе легковой автомобиль…» Пока летчики веселились, за столом генерала шел свой разговор. Ермаченков раздобрился, сказал, что для эскадрильи ничего не пожалеет.
— Ну, чего вам не хватает, говорите.
Я не растерялся:
— Самолетов, товарищ генерал. Сегодня четыре повреждены, пока войдут в строй, летчики со скуки помрут…
— Самолетов? — переспросил Ермаченков. — А разве я вам не похвалился? Майор Наумов прилетел сюда специально для того, чтобы подарить вам свой новенький «Як».
Николай Александрович — добрейшая душа — удивленно раскрыл глаза.
— Товарищ генерал…
— Говорил, говорил! — убеждал его Ермаченков.
— Конечно, говорил, — согласился Наумов, — только с условием, что я денька два повоюю здесь на нем. Возьмешь, Любимов, на задание? Спасибо.
Веселье оборвалось дружно. По команде адъютанта трижды мигнули светом и с разрешения генерала предложили разойтись на отдых.
* * *
Срочное совещание у командующего ВВС флота закончилось рано. Все торопливо расходились: у каждого в Севастополе были еще другие дела и хлопоты, да и на свой аэродром хотелось добраться засветло.
Любимов тоже с удовольствием покидал душное, прокуренное подземелье штаба. В городе ничто его больше не удерживало, и он спешил скорее вернуться в Тагайлы. У выхода столкнулся с командиром 32-го авиаполка майором Павловым. Поздоровались, прошлись по Историческому бульвару.
Севастополь готовился к обороне. Моряки устанавливали противотанковые ежи, сваренные из кусков рельсов. Женщины рыли щели. Звенели и скрежетали о камни лопаты, ломы. А высоко в синем по-осеннему небе резали воздух барражирующие над городом советские истребители. Любимов провожал их взглядом. Звено «мигов» разворачивалось над Северной бухтой, как раз в том месте, где он в первую военную ночь настиг немецкого бомбардировщика и, наверное, сбил бы, если бы прожектор продержал его в своем луче еще десяток секунд…
— Как воюется? — спросил майор Павлов.
— Вроде бы ничего, Наум Захарович.
— Не обижают?
— Немцы?
— Нет, в группе. Начальство.
— Не замечал, Наум Захарович.
— Значит, не обижают. — В голосе Павлова сдержанно звучали грустные нотки. — А меня, Иван Степанович, уже обидели.
Павлов не стал пояснять, чем и кто его обидел. Любимов знал и без этого. Ему самому было больно, что командир нашего полка, такой чуткий воспитатель, незаурядный мастер воздушного боя, еще до войны научивший своих подчиненных воевать, сам оказался у дел гораздо меньших его возможностей. В то время, когда враг ломится в ворота Крыма, майор Павлов сидит со своим штабом при двух эскадрильях под Севастополем. Остальные три эскадрильи воевали в Одессе и на Перекопе. По сути они вышли из оперативного подчинения своего полка.
У штаба ВВС флота остановились. Павлов подал Любимову руку. Прощаясь, поинтересовался, как воюет молодежь. Потом сказал вдруг:
— Передай всем, всей эскадрилье, привет. Скажи, что командир доволен их работой. Не зря старался. И тобой тоже. Помнишь, чему учил? Пригодилось. Ну, будь. — Он слегка тряхнул руку Любимова, круто повернулся и зашагал, не оглядываясь, — коренастый, чуть сутуловатый, сильный.
Любимов направился к ожидавшим штабного автобуса на аэродром. Из дверей штаба выскочил какой-то лейтенант. Вглядевшись, комэск узнал в нем своего летчика, отосланного больше месяца назад в госпиталь после аварии на Миг-3.
— Лейтенант Колесников! — окрикнул Любимов.
Колесников споткнулся на полушаге, быстро, неуклюже повернулся на голос и замер, приложив руку к козырьку лихо сдвинутой набекрень фуражки.
— Вы что здесь делаете? — спросил Любимов, разглядывая летчика.
Посвежел, покруглел парень. Форма на нем чистенькая, глаженая.
— Да так, товарищ капитан, начальство вожу. На У-два, — ответил Колесников. Его мальчишеское лицо тронула виноватая улыбка.
— Из госпиталя давно?
— Недели две. Просился в часть — не пустили. Доктор сказал: не летать на боевых машинах дней двадцать. И меня в «королевский флот».
— Та-а-к, — протянул Любимов. — Воевать хочешь?
— Конечно, хочу, товарищ капитан, — сказал он серьезно, понизив голос.
— Пойдем.
В полумраке коридора встретился майор Наумов.
— Николай Александрович, тут ерунда получилась, — обратился к нему Любимов. — Моего летчика из госпиталя к вам забрали.
— Ну и что? Пусть летает на здоровье.
— Нерасчетливо, Николай Александрович. Человек воевать хочет, летает на трех типах истребителей — на и-шестнадцатых, миг-три и на як-один, а его — в извозчики.
— Так бы и сказал. Подожди здесь.
Наумов пошел в глубь коридора, нырнул в какую-то дверь. Вскоре вернулся, сунул Колесникову бумажку — «оформляйся», а Любимова, взяв под локоть, увлек за собой, что-то объясняя. Навстречу из темноты коридора приближалась группа генералов. Все вроде бы знакомы, кроме того, что пониже ростом. Нашивки на его рукавах при тусклом свете разглядеть было трудно.
— Жаворонков, — шепнул Наумов и отступил к стене, пропуская генералов.
— Любимов? — остановился командующий Черноморской авиацией, протянул руку. — Здравствуй. Тут о тебе столько наговорили лестного, что хоть самому в твою эскадрилью переходи.
— Так это и есть тот самый Любимов? — заговорил старший по чину и возрасту генерал. Любимов приготовился выслушать внушение за ЧП с нестреляющим оружием. — Ну, ну. Видел твою работу и над передовой.
Какой именно бой видел начальник морской авиации Жаворонков над позициями наших войск по Турецкому валу, Любимов не знал. Гадать ему тоже некогда было, потому что Жаворонков продолжал:
— Обедал? Нет? К себе на первый черпак все равно не успеешь. Тут хозяева грозятся хорошим обедом угостить, так не откажи, капитан, посидеть со мной в их кают-компании.
Любимов смутился, но отказаться не решился, тем более Ермаченков обнял уже его за плечо, другой рукой притиснул к себе Наумова и с шуточками направился за Жаворонковым.
За столом от Наумова и узнал Любимов, что генерал Жаворонков, вернувшись вчера с передовой, рассказывал Ермаченкову, как какой-то одиночный «як» низко над позициями дрался с «мессершмиттом». На земле даже бой прекратился — и наши, и немцы следили за поединком. А когда «як» пристроился в хвост «мессеру» и открыл по нему огонь, красноармейцы кидали вверх пилотки и кричали «ура!».[проверить! — Прим. lenok555]
— Генерал говорит, что невозможно передать то впечатление, которое произвел на наши войска этот поединок и победа советского истребителя, — досказал Наумов, выходя из салона. — А потом приказал Ермаченкову немедленно найти ему этого храбреца. Ермаченков ответил: «Его искать нечего. Это Любимов».
* * *
На рассвете 24 сентября летчики, как всегда, собрались на КП эскадрильи для получения задания. Механики уже опробовали двигатели, топтались у своих машин.
— Товарищ старший сержант, гляньте на север, — сказал молоденький моторист Кокин своему механику.
Бурлаков посмотрел в сторону Перекопского перешейка. Небо на горизонте полыхало и, будто раздуваемый ветром пожар, разгоралось, вздрагивая. Вскоре в утренней тишине стала слышна далекая артиллерийская канонада, изредка доносились глухие взрывы. Канонада усиливалась.
— Земля дрожит, — заметил Кокин. Он прилег, прижался ухом к траве. — Стонет. Наверное наши фашистов вышибают с перешейка. — Поднялся, отряхнул ладонями брюки. — Как вы думаете, товарищ старший сержант, осилим?
— Осилим, Кокин, — ответил немногословно Бурлаков.
Прибежал Аллахвердов. Едва дослушал доклад Бурлакова о готовности самолета к боевому вылету, заторопил его.
— На сопровождение идем. Бомбардировщики вылетели, догонять надо.
— Товарищ командир, а что там? Наши наступают? — спросил Кокин.
— Нэ знаю, дарагой, нэ знаю. Слетаю — сам посмотрю, вернусь — тебе скажу.
С того памятного для Аллахвердова дня, когда он сбил первый самолет врага, а товарищи отчитали его за то, что оставил без прикрытия хвост ведущего, младший лейтенант Аллахвердов как-то резко изменился, стал намного сдержанней, серьезней. Чувствовалось, что человек перешагнул четверть века. А тогда, в тот памятный вечер, он подошел к комиссару и попросил извинения за грубость. Батько Ныч сделал удивленное лицо, сказал:
— Если вы чувствуете за собой такой грех и допустили его при людях, то в их присутствии и извинялись бы. Но я такого случая что-то не помню.
Теперь комиссар — самый близкий Аллахвердову человек. Сегодня старший политрук интересовался, не получил ли Аллахвердов весточку от жены из эвакуации, а узнав, что нет, успокоил его, убедил: «Все будет хорошо, жива, здорова и письма ее ищут тебя по фронтовым дорогам». В прекрасном настроении улетел Аллахвердов на задание. Перед вылетом спросил механика:
— Петр Петрович, твоя Ирина в Новочеркасск доехала?
— Знать бы, товарищ командир, на душе было бы спокойней, — ответил Бурлаков. — Писем нет.
— Не волнуйся, дарагой, будут письма, обязательно будут. Они тебя ищут. Так мне Батько сказал.
Вернулась группа с Перекопа минут через сорок.
Аллахвердов выскочил из самолета возбужденный, будто в кулачном бою побывал.
— Пять «мессеров», пять «мессеров» сбили. Там такое делается, такое делается! Земля горит. Все в дыму. Где наши, где немцы — ничего не видно.
Сержант Кокин помог командиру отстегнуть парашют.
— Хорошо — все вернулись, — сказал Бурлаков.
А Николай Кокин успел уже бегло осмотреть фюзеляж, крыло.
— Четыре пробоины на консоли левой плоскости, — доложил он.
Аллахвердов и Бурлаков прощупали каждую пробоину сверху и снизу. Ничего опасного не нашли, пробита только перкалевая обтяжка — расторопному мотористу на десять минут работы. У самолета, будто из-под земли, выскочил лейтенант Колесников. С тех пор, как комэск привез его из Севастополя, на задание еще не выпускали, ждал провозных.[1] Он тоже потрогал пальцем пробоины.
— Ну, как там? — спросили Аллахвердова.
— На высоте дым в кабину лезет, — возбужденно рассказывал он. — В небе окороки коптить. И куда ни глянь — «Юнкерсы», «мессершмитты», «хейнкели». Наших мало. Одну группу немецких бомбардировщиков разогнали, другую разогнали! Потом на четверку Филатова семь «мессеров» набросились. Пары Филатова и Минина затянули их в карусель. Тогда Авдеев своей четверкой снизу, а командир четверкой сверху, понимаешь, в клещи «мессеров» зажали. Только двух упустили. Пять сбили! Сам видал: три горели сильно, два дымили! А ниже нас «илы» кружились, добили тех двух.
Подъехал бензозаправщик. Оружейники уже гремели в пустых ящиках свежими патронными лентами. Аллахвердов поспешил на КП. Колесников шел рядом с ним, с завистью посматривая на своего земляка. Оба они, русский и армянин, бакинцы, оба учились в Ейской школе морских летчиков, правда, Алексей Колесников моложе на три года. Но был у него похожий на Аллахвердова друг Алиев Гусейн Бала оглы. Теперь Гусейн воюет на Балтике. Если бы не он, вряд ли Алексей стал летчиком.
Встретил его Гусейн подростком на улице Баку и говорит:
— Часто вижу — по городу болтаешься, не знаешь, куда от безделья себя деть. Тебя как зовут?
— Ну, Лешка.
— А меня Гусейн. Можешь Колей звать. Хочешь — дружить будем? Приходи завтра после обеда в Дом пионеров, посмотришь, как мы самолеты делаем, чертежи малюем.
И Алексей пришел. Увлекся авиамоделизмом, нашел хороших друзей. Особенно полюбил Гусейна. Миновал пионерский возраст. Гусейн продолжал учебу, Алексей на заводе слесарил. Разные интересы, новые друзья. Случайно встретились.
— Ты что ж это пропал? — сказал Гусейн. — Я сколько раз заходил, дома тебя не заставал. Чем после работы занимаешься? Ничем? Так приходи на планеродром, летать научу.
Оказывается, Гусейн без отрыва от учебы закончил школу планеристов, был уже инструктором. Обучил он Алексея летать на планере, а тот других потом обучал. Но Гусейн за это время закончил при аэроклубе школу пилотов, пересел на У-2. И снова он Колесникова за собой потащил. А когда Алексей научился летать на самолете, Гусейн сказал:
— А теперь, Леша, пойдем учиться в школу военных летчиков. По путевкам комсомола пойдем.
Вот так и стал бакинский рабочий парень Алексей Колесников военным летчиком. И никогда он не жалел об этом, только тосковал по Гусейну. Может, рядом с ним и воевать легче было бы.
Шел сейчас Алексей на КП рядом с другим земляком, которого там, в Баку, не знал, шел, присматривался к нему, только что вернувшемуся из боя с пулевыми пробоинами на крыле, и завидовал его безразличию к тому, что эти пули могли попасть и в него, в Аллахвердова, могли убить его. «Смелый Аллахвердов: два фашистских самолета сбил. Удастся ли мне когда-нибудь, хоть один…»
* * *
Не могу сказать, что день этот был особенным, и все же запомнился он на всю жизнь.
Война, как ненасытный молох, вот уже третий месяц перемалывала все живое на земле и в воздухе. От жарких схваток и несмолкающих канонад стонала опаленная боями крымская земля.
Противник после сильной артиллерийской подготовки и массированной авиационной обработки нашего переднего края двинул на Турецкий вал свои главные силы, непрерывно поддерживаемые артиллерией и авиацией.
Самолеты наши не знали отдыха: мы все чаще и чаще на дню поднимали их в небо. Вот и сегодня шесть раз летали на задание. Сначала большую группу водил Любимов, потом задания усложнились, пришлось разбиться на две шестерки, а в конце дня, вылетали уже тремя четверками. Это оказалось хуже, чем большой группой.
Наша четверка истребителей сопровождала бомбардировщиков к Сивашам. Пара непосредственного прикрытия находилась ближе к «петляковым», а мы с сержантом Платоновым были выше и вырвались несколько вперед для выяснения воздушной обстановки в район цели.
Долго выяснять не пришлось: еще издалека увидели целый рой немецких истребителей. Насчитали сорок четыре «мессершмитта»… Если такая армада набросится на наших бомбардировщиков, то домой ни один не вернется. Паре «яков» связаться с ними — тоже верная гибель.
Немцы нас еще не заметили, еще есть несколько спасительных минут. Можно все обдумать, все взвесить…
Черта с два! О чем думать?! Чего взвешивать — отдать ли на растерзание этой своре своих товарищей? Нет. И еще раз нет! Ведь дрались же мы в паре с Филатовым с двенадцатью «мессерами»… Да, но сейчас у меня в хвосте не Филатов, а сержант Платонов… Все равно — другого выхода нет. Надо отвлечь внимание «мессершмиттов» на себя. Все на нас, конечно, не бросятся, но пока какой-то десяток разделается со мной и с Платоновым, а остальные будут кружить с разинутыми ртами, «петляковы» успеют отбомбиться.
Итак, решено отвлечь, увести в другую сторону… Я оглядываюсь назад: взмах крылом. Платонов все понял. Немцы нас уже заметили… И все сорок четыре ринулись в погоню. Уводим их на восток. Пока они не нападают, но ненавистные желтобрюхие тела Me-109 уже выше нас, ниже, с боков, сзади.
Держись, Платонов! Держись крепче, Терентий, за мой хвост. Ведь я учил тебя летать на «яках»!.. Вот так летать: и неожиданно для противника я резко разворачиваюсь вправо и атакую ближайшего «мессера».
Все смешалось, все перевернулось вмиг: будто не было ни земли, ни неба. Перед глазами вертелась сплошная карусель, расцвеченная огненными трассами. С каждым попаданием машину трясло и швыряло, руки омертвели на штурвале и бронеспинка казалось уже легла на тебя могильной плитой.
Ты жив, Платонов? Ты здесь, со мной, ведомый мой? Из такого побоища, когда сорок четыре, как за легкой добычей, гоняются за двумя, выйти невредимыми немыслимо. И сержант знает об этом! Интересно, сколько ему лет, совсем мальчишка…
Держись, парень, еще разворот, еще раз в атаку… Не будет им легкой добычи! До тех пор, пока тянут моторы и не все патроны расстреляны, пока сами целы — только вперед.
А наши бомбардировщики уже, наверное, накрыли цель и находятся далеко от фронта. Сколько же прошло времени? Сколько жизней может прожить человек за такой вот, один миг?..
Внезапно яркое пламя вспыхнуло рядом и справа — огонь жадно лизал кабину «мессершмитта». Фашисты шарахнулись врассыпную. С этого момента они уже не пытались налетать столь нахально: видимо, решив, что судьба свела их с настоящими асами, так спаянна, так динамична была наша пара. И невдомек им было, что ведомый мой, цепко и мужественно обеспечивший всю виртуозность маневров, получал по сути боевое крещение.
Такое крещение оказало бы честь любому мужалому летчику! Вот и еще один стервятник, волоча жирный черный шлейф, пошел камнем вниз. Немцы, как всегда, будто по команде, стадом вышли из боя…
На аэродром мы вернулись в «решете» — в моем самолете насчитали тридцать две пробоины, у Платонова — не меньше.
Турецкий вал
С утра до вечера над передним краем непрерывно висели чужие и свои бомбардировщики, но чужих в восемь—десять раз больше. Стаями носились над ними истребители, вспыхивали короткие схватки и длительные воздушные бои, чаще безрезультатные.
Третий день сентября Турецкий вал находился в аду. Сверху невозможно было разглядеть, что творилось на земле — от частых взрывов бомб и снарядов все скрылось в дыму и гари. Зато хорошо просматривались подступы с обеих сторон вала. Противник выдавал себя огнем густо натыканных артиллерийских батарей, на дорогах стеною стояла пыль — непрерывно сновали автомашины, длинными цепочками тянулись конные повозки, подходила пехота, а по полям дыбили землю танки.
Co стороны Крыма артиллерия била намного реже, дороги менее оживлены, не бросалось в глаза передвижение войск. Летчики, возвращаясь с задания, сообщали своим механикам:
— Стоит Турецкий вал.
Но с каждым вылетом положение менялось. Во второй половине дня на КП уже докладывали, что противник частью сил прорвался вдоль Перекопского залива и захватил Армянск. После следующего вылета: идут бои на улицах города; немцы атакуют Щемиловку; севернее Турецкого вала наши удерживают совхоз «Червоный чабан».
Вечером Ныч привез радостную весть: перешла в наступление 9-я армия Южного фронта, сильно побит румынский горный корпус. Наши гонят противника в направлении Нижние Серогазы.
Хотелось кричать «ура!». Мы начали наступать! Вышвырнем теперь захватчиков или уничтожим их на нашей земле. Все ждали этого дня. И наконец, наконец-то наступление. За ужином летчики без конца обсуждали и комментировали события дня.
— Вот бы отрезать Манштейна у перешейка, да зажать бы с двух сторон…
— Теперь спадет жара над Перекопом.
— Если не жарче станет.
— Куда же жарче?!
А прошедший день был действительно самым трудным на Сивашах. В небе и на земле. Особенно на земле. Но то было внизу, а летчикам больше доставалось в жарком небе.
За день эскадрилья провела несколько боев. И самым примечательным из них был тот, в котором лейтенант Щеглов уже на дымящемся самолете настиг и сбил того самого «мессершмитта», который поджег его.
Щеглов выбросился на парашюте. Самолет его сгорел в степи. К концу дня добрался он попутной машиной до аэродрома. Приволок парашют на себе. Руки от сильных ожогов вспухли, почернели, волдыри полопались, Посидели с механиком у опустевшей стоянки, погоревали вдвоем, помолчали. Тяжело на войне «безлошадникам»: летчику — жди случая подменить уставшего товарища, механику — одному помогай мотор заменить, другому — что-нибудь отрегулировать, а то пошлет инженер в ремонтную бригаду или землю рыть, капониры строить. Вдвойне трудно на войне «безлошадникам». Но Щеглову в «безлошадных» ходить не довелось. Как ни упирался он, а врач настоял отправили его на Кавказ, в госпиталь, откуда в свою эскадрилью он уже не попал.
* * *
Не вернулся с боевого задания и лейтенант Филатов. Ведомый потерял его из виду в разгар воздушного боя. И никто из группы не мог сказать, что произошло с Филатовым, куда он делся. Кто-то из сержантов видел, будто бы один «як» упал в залив.
За ужином помянули Гришу Филатова добрым словом. Какого парня потеряли: смелого, сильного летчика и хорошего командира! Вспомнили, какие песни пел он под гитару, какой был мастер на разговоры и анекдоты. У Минина слезу не вышибешь, а тут сама выступила, дрожит на реснице непрошеная. И Аллахвердов сидел с мокрыми глазами. Колесникову не довелось еще слетать с Филатовым на Перекоп, и он сидел притихший, задумчивый. Но горше всех было комэску Любимову — не стало его лучшего друга, его любимца. Он тоже не проронил ни слова, только слушал. Батько Ныч вспомнил о письме Филатову. Хотел обрадовать его после возвращения с задания. Комиссар достал из кармана конверт, еще раз прочитал: «Филатову Григорию Васильевичу». И обратный адрес: г. Тбилиси, ул. Панкийская, 5. Филатов В. А.
— От отца, значит, — сказал Ныч и тут он вспомнил, как здорово говорил Филатов по-грузински. И внешне Гриша чем-то напоминал грузина.
В такой обстановке никто не заметил при тусклом освещении, как вошел в столовую высокий, густо припудренный дорожной пылью летчик. Он бросил к стене парашют, длинной рукой через плечо не пьющего Яши Макеева достал со стола стакан вина и сказал утробным голосом:
— Прости, господи, раба твоего Григория, дерзнувшего на собственных поминках выпить.
* * *
Прогнозы летчиков не оправдывались. На другой день и на третий, и на четвертый прохладней не стало. Ни на земле, ни в воздухе. Трое суток шли бои за Армянск. Немцы при поддержке авиации по нескольку раз в день контратаковали. Когда наши войска овладели Армянском, отдельные подразделения дрались еще на Турецком валу и у «Червоного чабана». Определить линию фронта с самолета было невозможно. Командарм отдельной 51-й армии отдал приказ отойти к Пятиозерью.
На машине Колесникова летали другие летчики — у кого мотор меняют, кому в бою колесо пробило или систему охлаждения. Не сидеть же без дела, если есть самолет исправный. Как-то я, подтрунивая, спросил Алексея:
— Машину свою для варягов держишь?
— Не виноват же я, что не выпускаете.
Пришлось мне остаться с ним на дежурство и дать провозные. Проверил с инженером знание техники, взлет, посадку, полет по кругу, сходил с ним недалеко в зону. Летать человек может, хорошо даже летает.
— А воевать, если сразу не собьют, научишься, — пошутил я. — Главное — не робей. В воздушном бою не думай, что тебя противник перехитрит, а старайся сам изловчиться и сбить его. И еще золотое правило: сел «мессершмитту» на хвост, оглянись, нет ли на твоем хвосте другого. Меня так учили, и тебе пригодится. Старайся подойти ближе, бей с короткой дистанции короткими очередями. Остальное сам поймешь.
Выпустили Колесникова с группой Филатова на несложное задание: сопровождать штурмовиков через залив до небольшого железнодорожного узла и обратно. В тот день это задание было несложным для истребителей потому, что вся вражеская авиация действовала на Перекопском перешейке и на направлении нашей наступающей 9-й армии. Вернулись с задания благополучно. У Перекопского побережья случайно попалась четверка «мессершмиттов». Схватились накоротке. Но у немцев, видимо, другое задание было или возвращались на свою базу с горючим в обрез. Гнаться же за этими скоростными дьяволами не имело смысла.
На стоянке Колесникова окружили друзья, поздравили с первым боевым вылетом. Подошли и мы с командиром и комиссаром.
— Жив? — спросил я Алексея.
— Живой, товарищ старший лейтенант. Вот только с «мессерами» связываться, того гляди, шах и мат получишь.
Алексей был заядлый шахматист.
— Трусишь?
— Да нет, — безобидно отозвался Колесников. — Не из робкого десятка. Просто не знаю: может ли наш фанерно-перкалевый «як» с такой зверюгой тягаться? Вот и боязно поначалу.
Некоторые засмеялись.
— Дерутся-то не машины, а люди, — заметил Ныч.
— Э-э, товарищ комиссар. Так там же асы сидят.
— A ты откуда знаешь? — вставил Филатов. — Может какого-нибудь желторотого птенца посадили, а ты его зa аса принимаешь.
Летчики посмеивались. Сами побывали, каждый в свое время, в положении Колесникова, только не хватало смелости в этом признаться. Вспомнил и я свою первую встречу с «мессершмиттами». Как тогда Филатов сказал: «Бить надо, а вы ему хвост нюхаете». Но мне в первой же встрече с противником довелось быть нападающим, а тут человек только прикрывает, не испробовав еще всю силу машины, видимо, и в самом деле не верит в свой самолет. Надо ему в бою показать, что наш Як-1 не уступает «мессершмитту».
Уснул Колесников крепко, утром едва добудились. Умываясь, за дверью слышал, как он с товарищами делился:
— Ну, прямо, тебе воздушный бой истинный. Только будто бы не совсем небо, а огромная шахматная доска. И гоняю я во сне по этому шахматному небу аса с желтым ртом, да все шах ему, все шах…
— А мата так и не поставил? — пошутил кто-то. — Ничего сейчас пойдешь к Пятиозерью, с немцами партию и доиграешь. Да не забудь: оторвешься от авдеевского хвоста — матом обеспечен.
Советов посыпалось больше, чем нужно. Предупреждали, мол: Авдеев в бою непрерывно делает такие сложные, резкие и неожиданные выкрутасы, что удержаться хвост почти невозможно. Пока удается это двум — командиру звена Филатову и сержанту Платонову.
Пришлось прервать этот затянувшийся «инструктаж», — как бы заранее не испугался потеряться в бою от ведущего больше, чем предстоящей встречи с «мессершмиттами».
До вылета эскадрильи на сопровождение бомбардировщиков оставалось добрых полчаса. Решили выпустить нас с Колесниковым на разведку воздушной обстановки в районе цели. Комэск поставил задачу, спросил, все ли ясно и дал «добро». Друзья до самого самолета напутствовали Колесникова. Но Алексей их почти не слушал. Он был неузнаваемо серьезен.
Взлетели, прошлись над аэродромом по коробочке (квадратный маршрут) и легли на курс. Больше сотни глаз долго смотрели нам вслед.
Когда выполнив задание возвратились, Колесникова встречала вся эскадрилья: каждому хотелось убедиться в рождении еще одного бойца.
Алексей подрулил к стоянке, вылез из кабины сияющий. Стал на землю, будто на качающуюся палубу.
— Жив? — спросил Любимов, посмеиваясь.
— Живой, товарищ капитан. — Алексей стянул с головы шлем и ударил им со всего маху об землю.
— Ни черта теперь не боюсь я «мессершмиттов». Чистые они медведи.
Его голубые глаза искрились, словно он прихлопнул шлемом сразу всю авиацию Геринга. Широкой ладонью потрогал шею, повертел головой, сказал, щурясь в улыбке:
— Вот только шея, видать, вспухла, голову не повернуть.
После друзьям рассказывал:
— Подлетаем к фронту, а там самолетов тьма-тьмущая. На всех высотах. Как потревоженный рой. Ну, думаю, над целью обстановочка ясна, сейчас старшой оглобли домой повернет. А он в самую гущу. Я — за ним. Что творилось! Как пошел, как пошел старшой вензеля выкручивать, а я мотаюсь сзади, как на буксире. Авдеев то в строй бомбардировщиков врежется — смотри, мол, Колесников, это обычные «Юнкерсы», а это — «лапотники», то за истребителями гоняется. А они шарахаются от него, как от прокаженного. Ну юлой, юлой вертится — ни дать, ни взять. А мне и его не потерять, и кругом обзор вести, голова эдак флюгером, флюгером…
* * *
Пятая эскадрилья воевала с прежним напряжением. Подраненные самолеты механики ремонтировали быстро. Вылечили и машину Гриши Филатова прямо в степи, где он посадил ее с пробитой трубкой водяной системы. В воздушных схватках летчики дрались отчаянно, противник уже на своей шкуре оценил искусство нашего пилотажа. Овладел им и Алексей Колесников. У своих товарищей он научился быть в бою неуязвимым, но сам не сбил еще ни одного вражеского самолета.
Как-то вылетел Алексей ведомым командира звена Филатова на прикрытие наших наземных войск. Накануне в эскадрилье много говорили о новом сверхмощном реактивном оружии. Вчера Минин и Филатов патрулировали над передним краем и в районе озер Старое и Красное видели сильный огненный залп в сторону немцев. Зрелище с высоты было неописуемое, но что творилось на земле невозможно было понять. И теперь Колесников, наблюдая за воздухом, нет-нет да и поглядывал вниз — очень уж хотелось увидеть реактивное оружие. Но нигде, и у озера Старого ничего похожего не оказалось.
На высоте около трех тысяч метров Алексей заметил пару Ме-109, помахал своему ведущему крылом, тот понял. Связываться с «мессершмиттами» не стали, основная цель — не допустить бомбежку своих войск, но из виду их не выпускали и на всякий случай стали набирать высоту. Неожиданно Филатов дал знак и устремился вниз. Не отставая от него, Колесников увидел двух «сто девятых», атакующих наш И-16.
Командир звена приближался к ведомому «мессершмитту», но тот резко увильнул вправо с набором высоты. Филатов — за ним. Алексей поторопился открыть огонь по ведущему и только спугнул. Все же из прицела его не выпустил и, когда настиг, с силой вдавил общую гашетку пулеметов и пушки. «Мессершмитт» задымил и пошел на снижение. Колесников осмотрелся, снова догнал подбитого противника, и на низкой высоте дал по нему еще три коротких очереди. Самолет ударился о землю, вверх взметнулись клубы пыли и дыма.
Филатова нигде не было видно. Торжествующий Колесников взял курс на аэродром. Ему не терпелось скорее доложить о своей первой победе. На полпути увидел машину командира звена, лихо пристроился и вместе пришли домой.
Выслушав доклады Филатова и Колеснпкова, капитан Любимов сказал сухо:
— Ладно, я запрошу.
В душе комэска обрадовался: не зря привез Колесникова, добрый выйдет боец. Но поздравить его с первым, еще не проверенным, сбитым, похвалить, как тогда Аллахвердова, Любимов воздержался. Иначе он поощрил бы этим ведомого за то, что тот бросил в бою своего ведущего. Но и ругать не стал — до конца дня еще не один вылет, а кто знает, как вообще закончится этот день. В промахах разобраться можно и вечером.
У Колесникова был вид, будто неожиданно окунули его в ледяную воду. Как же так, он уничтожил врага, а командир с ним так холодно, словно с недоверием. На стоянку возвращался Алексей, хмуро глядя себе под ноги.
— Чего нос повесил? — заговорил Филатов. — Потерял что — в землю уставился? Скажи спасибо, что взыскание не дал. Тоже мне герой, подвиг совершил. Задание-то мы с тобой не выполнили. Ты почему, как только с «мессером» разделался, домой пошел?
— Так одного же сразу сшибут.
— Это ты понял. Пять за сообразительность! А отчего по-твоему я той же дорожкой повернул?
Колесников промолчал.
— Пока мы с тобой здесь прогуливаемся, фашистские бомбардировщики по нашим войскам лупят. И сколько погибнет нашего брата взамен одного тобой сбитого, ты об этом не подумал?
Вечером, подводя итоги дня, Любимов сказал Колесникову и для всех то же самое.
— А «мессершмитта» вы только подбили, и он сел на вынужденную.
Алексей совсем сник. Как же так? Ведь сам, своими глазами видел, как «мессер» горящий ударился об землю. Может что-то наземники напутали? Сбитый Колесниковым самолет все же ему записали. На вторичный запрос эскадрильи подтвердили, что в указанном Колесниковым месте обнаружен разбитый и сгоревший Me-109 вместе с летчиком. Алексей воспрянул духом, но победой этой не кичился. Вообще о ней помалкивал — она могла стоить и ему, и командиру звена жизни.
* * *
Погода портилась. Высоко в осеннем небе запестрели полосой белые перья, будто оброненные пролетающими над крымской степью лебедями, да так и не упали на землю. По утру солнце пыталось разогнать заслонявшую его рябь и не выбралось из нее до вечера. А к ночи ветер погнал отарами облака.
Проснулся Любимов по привычке рано. За маленьким окошком брезжил мрачный рассвет. B хате не хватало воздуха. Любимов натянул брюки, сунул ноги в белые с отворотами бурки и, накинув на плечи куртку, вышел на крыльцо. Ветер швырнул в лицо горсть водяной пыли. Облака бежали низко над крышами, клочьями цеплялись за дырявое крыло ветряка, дымком кружились в побуревших макушках деревьев. Шел мелкий противный дождь. Со стрехи непрерывно срывались капли, со звоном шлепались у осунувшейся завалинки в выбитую ими канавку. Хозяйский пес забился в старое тряпье под лавкой, приоткрыл один глаз и не спускал его с Любимова.
— Что, Сирко, замерз? — подмигнул ему Любимов. — Дождик не нравится? Мне тоже.
Ненастье вызвало в душе капитана одновременно два чувства: чувство облегчения, что наконец-то после изнурительного напряжения эскадрилья денек передохнет, и чувство досады — каприз погоды лишает возможности поддержать пехоту в ее неимоверно трудном положении. Подумал об Одессе. Она не выходила из головы с того дня, когда узнал о приказе Ставки Верховного Главнокомандования об эвакуации Одесского оборонительного района. Он знал, еще вчера видел с воздуха своими глазами, что угроза прорыва 11-й немецкой армии в Крым настолько усилилась, он понимал — поддержка Одессы морем так осложнилась, что Ставка вынуждена вывести оттуда войска на усиление обороны Крыма, я смириться с этим не мог. Не мог представить себе гуляющих по Дерибасовской немецких солдат, офицеров на Потемкинской лестнице, чужих актеров на сцене красивейшего в мире оперного театра.
Комэск стоял на низком крылечке деревянной мазанки степняков, дышал влажным воздухом и не знал еще, что ночью бои на Перекопском перешейке, тяжелые кровопролитные бои стихли также внезапно, как начались десять дней назад. А узнав об этом днем, облегченно вздохнул:
— Отстояли, батько, — сказал он Нычу.
И было чему радоваться. Хоть и потеснил противник наши войска, но вырваться на просторы Крыма ему не помогли ни численное превосходство введенных в действие войск, ни значительный перевес в артиллерии, танках и авиации. Каждый клочок земли брался кровью. Красноармейцы и краснофлотцы дрались с таким упорством, сломить которое было невозможно. По нескольку раз переходил из рук в руки каждый населенный пункт, каждая даже незначительная высота.
* * *
В глубине сознания робко шевелилось сомнение: «Может, с Одессой поторопились, выстояла бы?» Потом эта мысль все бойче и смелей пробивалась наружу, подыскивала себе опору в перекопском затишье, в наступлении 9-й армии Южного фронта. Но опоры там никакой не было, потому что 9-я армия уже не наступала, она с боями вновь отходила на восток, а недобрые вести об этом до 5-й эскадрильи, до Ивана Степановича, еще не дошли.
Все это он узнал позднее. А сейчас под шум дождя с сожалением подумал о вынужденной передышке, хотел было пройти к старому, покосившемуся сараю посмотреть небо — нет ли где просвета, да пожалел в грязь белые бурки. В них он летал, а мокрая обувь в полет не годится. Иван Степанович вернулся в хату переобуться. В распахнутую дверь потянуло свежестью. И мы с комиссаром, как по команде, вскочили. Ныч, увидев Любимова одетым, обеспокоенно спросил:
— Проспали?
Не дожидаясь ответа, мы стали торопливо одеваться. Любимов подождал, пока мы полностью собрались и деловито похвалил:
— Молодцы. В полминуты уложились. А теперь — досыпать.
Но досыпать уже никому не хотелось. Народ потянулся в столовую. По дороге нам встретился командир авиабазы.
— Лучшего дня для бани не подобрать, — сказал интендант.
Любимов искоса глянул на батьку Ныча, которому выдался самый подходящий денек для лекций. Но у комиссара тоже живое тело, как у всех, скучает по горячей воде, да по веничку, чистого белья просит. Мылись-то последний раз с месяц назад.
— Затапливай, — согласился Ныч.
— А мы ее с ночи топим. Хоть сейчас приводите людей. Тут совсем рядом, у заброшенного ветряка.
Эскадрилья банилась, стриглась, брилась, чистилась. К обеду впервые в Тагайлы собрались все помолодевшие, свеженькие, будто к празднику какому приготовились. Семен Минин откуда-то притащил большую карту Советского Союза. Летчики развесили ее в столовой на стене, начали выяснять, где наши, где немцы, наносить линию фронта. Спорили.
— Батьку бы сюда, — сказал Аллахвердов. — Кокин, — окликнул он своего моториста, — сбегай, дарагой, за комиссаром. Скажи: народ собрался, слушать хочет.
Молодой пилот Яша Макеев отыскал на стыке Сумской и Курской областей петляющую змейкой реку Сейм, повел пальцем вверх по синей более тонкой жилке до пересечения ее с железной дорогой на Брянск.
— Вот моя речка, — показал он старшему лейтенанту Минину, которого успел полюбить за отзывчивую душу. — Называется Свапа.
— Как, как? — не понял Минин.
— Свапа, — повторил Макеев. — Не слыхали? Есть такая, приток Сейма. А вот Дмитров-Льговский: районный центр. Тут поблизости должна быть и моя деревня Ждановка. Мы с командиром земляки, — добавил он с гордостью. — Куряне. Напрямик до его Глушкова километров сто.
— Ничего себе земляки, — засмеялся Филатов. — Я думал из одной деревни.
Яша спорить не стал. Он-то знал: вдалеке от дома и за двести километров — земляк. Мимолетная радость, что отыскал на большой карте родные места, тут же угасла. Макеев получил на днях письмо от родителей, но это, пожалуй, последнее. Немцы, если еще не там, то где-то рядом. Севернее танки Гудериана прорвали нашу оборону и жмут на Орел, сдерживаемые только бомбардировочной авиацией. Южнее — враг устремился к Курску. А деревню его, Макеева, наверное, и брать не будут. Обойдут и все. «Хотя бы отец с матерью выехали к Вале, — подумал Яша. — В Пензе жили бы вместе». Взгляд его метнулся на Восток, через кружочек с надписью Тамбов. Остановился на слове Пенза. Там теперь его семья — жена Валя и двухлетняя Риммочка.
Возле Макеева, пригнувшись, отыскивали донские земли механик-сверхсрочник Петр Бурлаков, которого звали все по имени и отчеству Петром Петровичем, и сержант Терентий Платонов. Немцы уже ворвались в Донбасс, замахнулись уже на Ростов. Линия фронта подвинулась ближе к Новошахтинску и Новочеркасску. У Терентия в Новошахтинске родители. А у Петра Петровича в Новочеркасске мать, жена и дочка. На душе тревожно. Но Петр Петрович надеется еще на сообразительность Ирины. Не станет же она дожидаться, пока война из города не выпустит. Уедет на восток с мамой и Галочкой.
Пришел батько Ныч, рассказал о положении на фронтах.
Тяжелое положение создалось. Враг под Ленинградом, угрожает Москве, забрался в Донбасс, ломится в Крым. Советские войска перемалывают живую силу и технику противника, срывают планы гитлеровского командования. «Блиц-криг» у немцев не получился. Но враг ещё силен и коварен, и мы пока отступаем. Вера в нашу конечную победу была настолько велика, что поколебать ее даже поражениями на фронтах было невозможно. Мучило, постоянно тревожило одно: кто скажет, сколько отмерено нам пятиться назад? И этот вопрос задали комиссару. Батько Ныч ждал — спросят об этом. Знают, что никто этого не знает, кроме Верховного, и все же спрашивают, будто хотят сверить свои мысли с мыслями комиссара, как сверяют перед выходом на задание часы. «А что скажет комиссар?».
И комиссар Иван Ныч сказал то, во что сам верил:
— Товарищи! Пружина сжалась до предела. Скоро она распрямится на всю свою мощь. Недалек час, когда войска родной Красной Армии и Флота перейдут в решительное наступление и покатится с нашей священной земли фашистская чума.
В подтверждение сказанного Ныч напомнил о единстве фронта и тыла, что вывезенные на Урал заводы только разворачиваются, некоторые уже вступили в строй. Скоро фронт будет получать оружие в достаточном количестве. Командование готовит большие резервы, противник получит такой удар, после которого не оправится. Залогом этого является и беспримерный героизм летчиков в крымском небе, героизм наших боевых товарищей.
Вспомнили случай, о котором знал в свое время весь Севастополь. Он произошел к югу от города над морем, где лейтенант 1-й эскадрильи Евграф Рыжов патрулировал подходы к нашим позициям. «Хейнкель-111» — тяжелый бомбардировщик, вооруженный пушками, пулеметами, рвался к городу. Трудно было вести бой с таким противником в одиночку. Но вот после одной из атак Рыжов увидел, как задымил левый мотор «хейнкеля». И в тот же момент летчика обдало паром: вражеская пуля пробила водяную систему, и кипяток полился в кабину, обжигая лицо, руки водителя. А «хейнкель» уходил… Рыжов, выжимая из мотора «ястребка» все, что можно, догнал противника, ударил винтом по хвосту самолета…
Лейтенант почти не помнил, как ему удалось посадить на воду еле управляемый самолет, проверить спасательный пояс и выпрыгнуть из кабины. Трое суток провел летчик в открытом море один, страдая от жажды, ожогов. Все считали его погибшим, когда катер привез Рыжова в Севастополь — измученного, без сознания, но живого.
Вспомнили еще раз и о трех августовских таранах летчиков 9-го полка Владимира Грека, Бориса Черевко и Александра Катрова, во время которых погиб младший лейтенант Грек.
А на днях друг Любимова заместитель командира 1-й эскадрильи старший лейтенант Семен Карасев на подступах к Севастополю таранил крылом своего истребителя фашистский бомбардировщик Ю-88, а сам выбросился на парашюте.
В тот же день пилот 8-го истребительного авиаполка сержант Соколов был подожжен при штурмовке войск противника. Подобно капитану Гастелло он направил свой самолет в немецкую автоколонну. Несколько автомашин и цистерн взорвались вместе с самолетом. А на следующий день так поступил командир звена 62-го авиаполка старший лейтенант Владимир Воронов. Он прикрывал над целью своих бомбардировщиков и был подбит зениткой. Спастись из горящего самолета на парашюте, значит попасть в плен. А плен хуже смерти. И Воронов на пылающем истребителе врезался в зенитное орудие, уничтожив его вместе с расчетом.
Потом разговор пошел об уровне тактической подготовки немецких летчиков. Мнения наших пилотов сошлись на том, что если присмотреться внимательней, действия противника однообразны, и кто разгадал это и осмыслил, тот в воздушном бою чувствовал себя хозяином положения.
— Товарищ старший политрук, можно вопрос?.. Вчера над передовой фашистских самолетов было намного меньше, чем раньше. Куда они делись?
— Есть предположение, — ответил Ныч, — что противник перебросил часть авиации против Южного фронта.
Подошел к карте капитан Любимов.
— Комиссар, дай и мне слово сказать? — и не дожидаясь согласия Ныча, сообщил, что в последних числах сентября наших самолетов над Перекопом прибавилось.
Прибыл, смешанный полк, вооруженный новейшими двухкилевыми красавцами — пикирующими бомбардировщиками Пе-2 и высотными истребителями Миг-3. Этим истребителям немцы дали свое название «гуты». Полк же этот командир Иван Васильевич Шарапов (службу в Черноморской авиации Любимов начинал в его эскадрилье) сформировал из бывалых летчиков-испытателей, инспекторов по технике пилотирования, командиров подразделений и инструкторов летных школ.
Начала действовать на Перекопе и эскадрилья истребителей — бомбардировщиков капитана Арсения Шубикова, прославившегося своей отвагой и изобретательностью, особенно в налетах на порт Констанцу, на нефтебазы Плоешти, в разработке и осуществлении операции по Чернаводского моста через Дунай.
В начале войны доживали свой век четырехмоторные тихоходы, тяжелые бомбардировщики ТБ-3. Летать на них на врага днем, да и ночью было гибельно. Решили использовать эти самолеты в роли авиаматок. Тем более, что применялись они в таком количестве еще до войны, на учениях.
Под крыло тяжелого бомбардировщика подвешивались на жестком креплении два истребителя И-16. Каждый из этих истребителей брал по две крупнокалиберные бомбы. Сам И-16 с таким грузом взлететь не мог. И радиус полета его ограничен.
ТБ-3 пролетали сотни километров над морем. Не доходя вражеского порта, истребители отцеплялись и продолжали самостоятельный полет на цель. Авиаматка разворачивалась на обратный курс. И-16 сбрасывали бомбы на порт, пробивались сквозь сильный зенитный огонь к морю и из-за ограниченности бензина садились для заправки в Одессе.
По Чернаводскому мосту немцы беспрерывно перебрасывали на фронт войска и военные грузы. Под перекрытием моста находился нефтепровод. Эта важнейшая для противника коммуникация имела усиленную наземную и противовоздушную охрану, и тем не менее в августе 1941 года была уничтожена черноморской авиацией. В операции принимали участие новые бомбардировщики Пе-2, но завершить ее пришлось эскадрилье Арсения Шубикова, доставленной в район цели на подвесках ТБ-3. За эту операцию капитан Шубиков награжден орденом Ленина. На днях он приземлялся в Тагайлах повидаться Любимовым и рассказал обо всем с подробностями. И про низкую облачность над Дунаем не забыл, и про три сплошные стены заградительного огня, и о том сказал, как командующий ВВС встречал с этого задания летчиков, благодарил их.
«Атаки яростные те…»
После отхода частей 51-й армии к Пятиозерью, на Перекопском перешейке установилось относительное затишье. Над немецкой 11-й армией нависла угроза оказаться отрезанной от своих коммуникаций и разгрома ее на перешейке у Сиваша. Кроме 49-го горнострелкового корпуса и лейбштандарта «Гитлер», командующий армией Майнштейн вынужден был снять с Крымского направления свои главные силы и бросить их против 9-й армии Южного фронта под командованием генерала Черевиченко. Но наших сил у ворот Крыма было далеко не достаточно, чтобы воспользоваться этим положением и вернуть хотя бы утраченные за последнюю неделю сентября позиции.
Шестой день в воздухе над Сивашами полностью господствовала черноморская авиация. Изредка попадались небольшие группы истребителей противника, прикрывавшие свои войска от советских бомбардировщиков. В тех случаях, когда немецкие летчики не имели количественного преимущества, в воздушный бой не вступали. «Юнкерсы» и «хейнкели» появлялись над передним краем обороны лишь в отсутствие прикрытия наших войск с воздуха. Немецкие аэродромы у Чаплинки и Аскания-Нова блокировались советскими истребителями, ежедневно сбрасывали на них бомбы «петляковы», штурмовали «илы».
Утро 9 октября выдалось холодным и росным, а день — ясным, теплым. Любимов дважды водил эскадрилью на задание, потом его вызвал командир полка и мне пришлось его заменить. На пятом вылете ведущим пошел лейтенант Филатов, а моей паре подошла очередь дежурить по прикрытию аэродрома. Прикрытие стало несколько формальным — вот уже дней десять, как над нашим хозяйством не появлялся в воздухе ни один немецкий самолет. И на задания мы летали в полной безопасности.
Десятке «яков» Филатова выпала сегодня честь сопровождать чуть ли не всю авиацию Крыма для нанесения массированного удара по переднему краю противника.
Со всех аэродромов поднялись бомбардировщики, штурмовики, истребители разных конструкций и марок, которые могли только держаться в воздухе. Даже невозмутимо спокойно «топали» к Сивашам давно снятые с вооружения и чудом уцелевшие истребители И-5 без бронированной защиты летчика.
Быстро утихал гул моторов, таяли над горизонтом улетевшие в район сбора «яки». Механики и мотористы смотрели им вслед и каждый безошибочно угадывал свою машину. Проще всего было сержанту Кокину — его командир держался в строю крайним справа. Моторист мысленно видел Аллахвердова в кабине истребителя: веселый, наверное, сияет от счастья. Сегодня от жены весточка пришла. Перед вылетом многие впервые получили письма. Бурлаков вон уже присел у деревца, читает. А Аллахвердов поцеловал свое, будто самую Олечку, положил в нагрудный карман и сказал: «После вылета читать буду — такой закон авиации». К моей машине подошел Ныч и, заглядывая через плечо спросил:
— Далеко твоя забралась? Что пишет?
— Отсюда не видать, Иван. Под Вольском. А пишет, что поселилась с женой Капитунова в каком-то подвале. Дочка Люся здорова. В дороге досталось, бомбили, наголодались, а теперь все позади. На работу устраивается.
— Рад за твоих. А от отца с Могилевщины ничего не слыхать?
— Какие могут быть оттуда вести, если война под самые окна хаты подкатила, а братьев по всем фронтам разбросало… Мать, наверное, каждый день молит бога, чтобы все пять сыновей целыми и невредимыми вернулись. А твоя Евдокия Ануфриевна как?
— Моя Евдоха с Маратиком аж в Башкирию заехала. Слыхал, такой город Бирск?
День был погожий, в воздухе спокойно, и так хотелось продолжить разговор о домашних… Но в авиации все бывает неожиданно. Не успел я ответить Нычу, что никогда в Бирске не был и о городе таком не слышал, как приземлился комэск. Не успел Любимов рассказать, зачем вызывал его командир полка, как позвонил генерал Ермаченков и попросил, не приказал, а именно попросил поддержать прикрытие «петляковых» армейской группы нашими «яками».
— Так у меня ж все на задании, товарищ генерал. Я только-только из штаба полка, да вот еще Авдеев дежурит… — ответил комэск. — Нам парой?.. Есть, товарищ генерал.
Спросил Любимов, во сколько и где встреча, положил в ящик трубку полевого телефона, висевшего на суку возле стоянки его самолета, условились с ним о действиях в воздухе и — в кабины…
— Подежурит один Платонов, — сказал он Нычу перед запуском двигателя.
А солнце уже потеряло яркость, увеличилось, покраснело, и тени, бесконечно длинные, стали мягче, подрумяненными.
Над девяткой «петляковых» висела четверка сухопутной авиации «яков». Мы с Любимовым помахали крыльями, заняли место непосредственного прикрытия. За Турецким валом на высоте наших бомбардировщиков проходила стороной четверка «мессершмиттов». Группа прикрытия навязала ей бой и отстала. Любимов подал мне сигнал: идем с ударной группой до цели. А цель — аэродром Аскания-Нова. Отбомбились «петляковы», хорошо отбомбились — никто не мешал.
Легли на обратный курс. Солнце лениво садилось за синюю даль на отдых. В небе ни облачка, ни самолета вокруг. Только девять армейских Пе-2 и пара наших Як-1. На душе покойно, будто с полигона возвращались. Недалеко от перекопского берега пересекли Каркинитский залив, проводили «пешек» еще чуть над крымской степью, пора и вправо отваливать, на Тагайлы.
Любимов подошел ближе к «петляковым», выровнял высоту, поднял над головой руки в пожатии. И я помахал крыльями на прощанье бомбардировщикам. Те тоже на радостях, что удачно бомбили, — кивали головами, руками махали в ответ, крыльями. В этот миг Любимов услышал сухой треск у правого борта кабины, второй с короткой вспышкой — за приборной доской, у мотора. Обожгло ногу, ударило мелкими осколками стекла в лицо.
Мотор тянул, управление слушалось, глаза видели — их спасли большие летные очки. А видели они на фоне вечернего неба выходящих из атаки «мессершмиттов». В их направлении я уже набирал высоту. И Любимов прибавил газу, задрал нос машины. От перегрузки закружилась голова — раньше такого не случалось. Выровнял самолёт. В правой бурке хлюпало, и он понял — кровь. Нога немела. Саднило лицо. Он снял перчатку, провел по лицу ладонью, и на ладони — кровь. Надо было немедленно перевязать ногу, остановить кровь, но в воздухе это невозможно. До дому не дотянуть. И он пошел на снижение. Две вспышки, два попадания в самолет командира заметил и я. «Запятые» — дымовые штрихи трассы — подбирались к моей машине. Я выскочил из-под атаки вправо и круто полез вверх перехватить противника на выходе из пикирования, но не успел. «Мессершмитты» вышли из атаки раньше, чем удалось развернуться в их сторону, и ушли с принижением на север.
Они появились снова, когда я кружился над идущим на посадку Любимовым. Попытались было атаковать его, но я повернул им навстречу, в лобовую, и атаку сорвал. Немцы еще покружились немного, а когда Любимов приземлился в степи между копенками, улетели. Я видел как комэск выбрался из кабины, отстегнул парашют и направился, прихрамывая, к рядом стоявшей копне. Бензин в моих баках был на пределе и надо было поспешить домой, чтобы быстрее выслать машину за командиром.
В небе было еще светло, а на земле быстро темнело. Потрясенный случившимся, я не сразу обратил внимание на несколько то тут, то там догоравших в степи костров. Лишь километрах в десяти от аэродрома отчетливо увидел вдруг, что издалека мигавший костер, не что иное как разбитый, обгоревший самолет. И тогда понял, что те, разбросанные по степи, тоже не просто костры, а сбитые самолеты. Не «петляковы» ли? Но «петляковы» ушли левей. От страшной догадки — не свои ли — стало в кабине жарко. Я спешил домой на максимальной скорости, а казалось, что мотор еле тянет. На приборы не смотрел, привык чувствовать машину всем телом.
Садился — видел землю, а пока дорулил до стоянки, совсем стемнело. Торопливо выключил мотор, крикнул:
— Машину! Скорей машину. Любимова сбили!
С этой минуты в течение суток эскадрилья, потерявшая командира, не знала покоя. Машина ушла. Я, как заместитель комэска, обязан был остаться на КП. Не покидали командного пункта и все летчики. Доложили о случившемся генералу Ермаченкову, звонили в наземные войска района приземления Любимова. С рассвета уходили на задания, возвращаясь с которых, я дважды залетал на место подбитого самолета. Но там уже никого не было.
* * *
Любимов приземлился удачно, с выпущенными шасси. Подрулил ближе к копне, чтобы удобнее разместиться, перевязать рану. Отошел от самолета и передумал — чего доброго, уснешь там, и не найдут. А что за ним приедут, — не сомневался, знал, как только я долечу, сразу же вышлю кого-нибудь на машине.
Он вернулся к самолету. Чтобы не истечь кровью раньше, чем его найдут, торопливо снял с реглана пояс, туго затянул им раненую ногу выше колена и лег под плоскостью крыла на спину, положив голову на парашют. Раненую ногу приподнял на колене левой. Острой боли не чувствовал. Лежал спокойно, разглядывал заклепки на обшивке центроплана. Руками механически мял на корню сухой ковыль. Прикидывал, через сколько минут вышлют с аэродрома машину, за сколько она пройдет двадцать километров по ночной степи. Скоро станет темнеть…
Послышался гул самолетов. По звуку Любимов определил, что их всего два, два «мессершмитта».
Отдаленный гул вскоре перерос в нарастающий рев моторов, часто застучали пулеметы и реже, но сильней — роторные пушки. С визгом забарабанили по самолету пули и снаряды. Здоровая нога не удержала раненую, упала. Острая боль током пронзила тело. Любимов приподнялся на руках и не увидел на левой ноге бурки, и самой ноги чуть ниже коленки не было, хлестала кровь. Но сознание оставалось ясным. Он торопливо расстегнул реглан, снял ремешок от кобуры и также торопливо стал туго наматывать его выше колена, а слух осторожно следил за звуком фашистских самолетов: уйдут совсем или вернутся… Уйдут или вернутся…
* * *
Он опять лег на спину. Чтобы меньше потерять крови, положил культю на поднятое колено раненой ноги. От залива потянуло прохладой. Зашевелилось прибившееся к копне перекати-поле. У колеса зашептал колосьями ковыль…
И снова гул моторов распорол тишину. Сердце застучало гулко, гулко и где-то в висках. «Мессершмитты» развернулись. Быстро передвинулся на локтях, выглянул из-под крыла. Теперь стервятники шли в атаку с его стороны. Он схватил парашют и метнулся на четвереньках под другую плоскость крыла. Еще раз выглянул, прикинул прицельную линию и вероятное попадание и, нырнув в створ мотора, сжался комом за колесом шасси. Только он укрыл голову парашютом, как снова застучали по плоскостям, по фюзеляжу пули и снаряды, засвистели осколки. Надрывно взревели на выходе из пикирования моторы.
…Жив… Любимов руками поднял каждую ногу, пристроил на колесо. Лежа на спине, смотрел вслед удаляющимися истребителям. «Стервятники. Неужели еще…».
Они возвращались еще дважды. Потом на малой высоте скрылись.
На земле совсем стемнело. Любимов устроился насколько мог удобней, стал вслушиваться в густую темноту. Знобило. В октябре ночи в крымских степях очень холодные. А может, от потери крови и от всего пережитого? Мерзла ступня левой ноги, ступня, которой уже не было. Холод пробирал сильнее. Он плотно запахнул расстегнутый реглан. Странно — самолет не загорелся. Сколько по нему стреляли, а он не загорелся. Зажигательных у них не было, что ли? Вспомнил: открыл при посадке противопожарные баллоны.
В черной, непроницаемой степи звенела тишина. Любимов дрожал от холода. Дробно стучали зубы и не было никакой возможности с ними справиться. Глаза слипались. Только бы не уснуть. Что-то долго никто не едет. Наверное, блудят в темноте. Он пожалел, что оставил в кабине ракетницу. Теперь до нее не добраться. Тогда он вытащил из кобуры пистолет. В обойме восемь патронов. «Шесть выпущу, два оставлю на всякий случай». И он выстрелил из-под крыла в звездный лоскут неба. Степь не ответила. Стал считать небесные светила. Трясло все тело, и зубы не унимались. Переносить это оказалось мучительней, чем тяжелые раны. Незаметно «забылся»…
Очнулся в ужасе — на него снова пикировали «мессершмитты», много мессершмиттов: красные, желтые, зеленые… Стреляли по нему свои «яки», а он один бежит по степи и негде ему укрыться. И он впервые испытал страх. Страх не перед смертью, а перед беспомощностью.
Где-то фыркнула лошадь. Любимов дал два выстрела. Вскоре услышал шаги, насторожился. Хотел громко окликнуть: «Кто идет?». А получилось совсем шепотом.
— Не стреляйте, дяденька, — услышал он мальчишечий голос. — Где вы тут?
— Ты один? — спросил Любимов. — Откуда?
Мальчик ответил, предложил свою лошадь, а когда узнал, что летчик без ноги, побежал в деревню за помощью. Вскоре он вернулся с двумя красноармейцами. Те решили уложить летчика животом поперек крупа лошади. Так, мол, быстрее доберемся в лазарет санбата.
Любимов согласился. Только примостили его, лошадь кинулась задом и он упал, сильно ударился о сухую землю.
— Оставьте меня под самолетом, — попросил Любимов, — и пришлите какую-нибудь машину.
Его послушались. Но машина не пришла. Тот же мальчишка приехал с санитаром и фельдшером на подводе.
* * *
Проснулся Любимов в три часа ночи. В свете керосиновой лампы, висевшей на столбе посреди землянки, увидел у своей постели комиссара. На щеках его блестели мокрые дорожки.
— Ну, что ты, Иван, — голос Любимова был еле слышен. — Видишь, я — живой. Как ты меня нашел? — вялая улыбка тронула его вспухшие губы.
— Я тебя, Вася, и на том свете нашел бы.
Батько Ныч достал носовой платок, вытер непрошеные слезы. Он не стал рассказывать, как всю ночь колесил с техником и медсестрой по степи, трижды натыкался на разбитые и обгорелые самолеты и находил там мертвых летчиков. Один даже был в таких же белых с отворотами бурках, как у Любимова, и в реглане, и они подумали, что это он, но тот оказался из другого полка. А потом нашли возле целого самолета одну бурку вместе с ногой и похоронили ее там же.
— Как у нас, Батько, все вернулись?
Ныч тяжело вздохнул, чуть не вырвалось: «Не повезло нам, Вася, ох, как не повезло», но тут же спохватился — незачем ему сейчас знать, что Аллахвердова сбили — сгорел Аршак километрах в десяти от аэродрома, что не вернулись с задания лейтенант Щеглов и сержант Швачко. Нет, комэску, теперь не то нужно. И выдавил улыбку комиссар, сказал ободряюще:
— Не беспокойся, Степаныч, все в порядке. Вот тебя только подлечим…
— Не утешай, Иван. Плохо мое дело, — Любимов перевел дыхание. — У меня же левой ноги нет, Батько. — Он зажмурил на секунду глаза, на ресницах задрожали две росинки. — Хирург грозился и правую отрезать… Ваня, милый, как же я без авиации? На одной-то еще, а без двух куда? Умру, а вторую ногу резать не дам!
Всегда умел, всегда находил Ныч нужное человеку слово а тут сам разволновался, еле сдерживал себя чтобы не разрыдаться у постели пострадавшего друга.
— Не об этом думка твоя, Вася. Ногу спасем. Сейчас поеду к Ермаченкову. Василий Васильевич поможет в госпиталь перебросить. И мы еще повоюем с тобой.
Помолчали немного. Любимов устал. Прощаясь, попросил, чтобы самолетом, чтобы не трясли его на машине по дорогам.
— Посоветуй Ермаченкову назначить вместо меня Авдеева, дай слово мне, дай, что не уйдешь в пехоту. Батько поклялся, поцеловал Любимова и вышел.
Закрыв дверь, Ныч отвернулся в темный угол, вытер глаза — зачем сестре видеть, как комиссары плачут.
Горькую весть о случившемся с командиром батько Ныч привез в эскадрилью утром. Все ходили, как пришибленные, разговаривали в полголоса. Я собрался немедленно ехать к Любимову, но Ныч предупредил, что скоро прибудет Ермаченков.
— Просил быть всем в сборе.
Прилетел Ермаченков. Он не стал донимать расспросами, что и как было. Сказал коротко:
— С этой минуты вы, товарищ Авдеев, командир пятой эскадрильи. Боевых заданий на сегодня вам нет. С личным составом проведите серьезный разбор вчерашнего дня, пусть выскажутся и извлекут урок из собственных ошибок. Я, к сожалению, присутствовать на разборе не смогу, улетаю в Севастополь. Завтра доложите. А теперь расскажите, как могло случиться, что погиб Аллахвердов.
Я достал из кармана небольшой, сложенный вчетверо листок бумаги, протянул его Ермаченкову:
— Вот докладная единственного свидетеля — его ведомого.
Генерал развернул листок, исписанный убористым круглым почерком, прочитал молча:
«Врио командира 5 АЭ 32 АП
Ст. лейтенанту Авдееву.
9.10.41 в 15–28 мл. лейтенант Аллахвердов — ведущий, я и мл. лейтенант Колесников — ведомые, на самолетах Як-1 вылетели на сопровождение бомбардировщиков в район Григорьевки. Шли маршрутом Тагайлы — Григорьевка на Н до 3000 метров. Прибыли на цель в 15–40. Во время бомбометания прикрывали группу бомбардировщиков. После выполнения задания сопровождали на обратном пути. В р-не Ишунь пилот мл. лейтенант Колесников отстал и больше я его не видел. К-р звена т. Аллахвердов подал сигнал подойти ближе. В это время нас обстреляли ЗА пр-ка. Пристроившись к к-ру зв. на Н — 3000 м, я почувствовал в 15–52 попадание снаряда ЗА по правой плоскости. Мл. л-т Аллахвердов сделал левый переворот, а я стал разворачиваться вправо. При развороте со стороны солнца меня атаковал 1 Me-109. Попал по левой плоскости: самолет загорелся. Я пошел на снижение в направлении на свою территорию. Меня прикрывал подполковник Юмашев на с-те Як-1. Я произвел посадку на горящем с-те в 16.45 в районе Мунус-Татарский на брюхо. Самолет сгорел, сам имею легкие ушибы правой стороны: руки, ноги и спины, После посадки я видел, как 3 Me-109 гнался за ком. звена Аллахвердовым на бреющем полете. В районе Кир-Актачи зажгли его, он сделал горку, свалился на крыло и врезался в землю. Летчик и самолет сгорели.
10.10.41 Пилот 5 АЭ 32 серж. Николаев».
Ермаченков также молча вернул докладную.
— М-да. Жаль хорошего командира, прекрасного летчика не стало. У него родственники есть? Напишите им. Подробности эти не нужно, — он кивнул на докладную Николаева. — Напишите — погиб при выполнении боевого задания, как воевал, как любили его товарищи. А Николаев где?
— Отправили в госпиталь, товарищ генерал.
В Тагайлах Ермаченков задерживаться больше не стал. Распорядился выделить одно звено на два-три дня в Одессу для прикрытия кораблей эвакуации и улетел.
* * *
В Севастопольский госпиталь Любимова, как и просил, перевезли санитарным самолетом. Сильно израненную правую ногу там, в госпитале, не отрезали, но и здесь ничего утешительного не обещали.
— Напрасно упрямитесь. — убеждал его хирург. — Перебиты сухожилия, порваны сосуды, ступня начинена мельчайшими осколками, извлечь которые абсолютно невозможно. Начнется гангрена — отхватим до коленки.
Любимов на ампутацию не согласился. Думал, что хоть этой искалеченной ногой он стоит пока в авиации непрочно, но стоит. Лишись ее, единственной опоры, спишут подчистую с флота и в штабники не возьмут. Вне авиации он себя не представлял.
Истекая кровью в ночной степи, беспокоился, как бы не уснуть, не умереть под крылом самолета раньше, чем его найдут. Отчаяние схватило его за горло, когда смертельная опасность осталась позади: обработана и забинтована культя, перевязана раненая нога, извлечено несколько осколков из головы и кистей рук, когда услышал спокойный, уверенный голос хирурга:
— Правая нога, дорогой мой, тоже не нога. Спасти ее медицина беспомощна.
Как же жить летчику безногому?
Столько лет готовился к боям, и дрался уже без страха, что поначалу с каждым бывает, набрался опыта, в воздухе сам искал встреч с врагом — воевать бы еще, да воевать. А его уговаривают — отнять вторую ногу. Врачи, разумеется, спасают жизнь ему — человеку. И никто из них не думал спасти в нем летчика, боевого летчика-истребителя. Да и было ли у них время раздумывать? Прибывали и прибывали раненые. Медперсонал не знал ни сна, ни отдыха. В госпитале заставлены койками все палаты, коридоры и проходы. Здесь каждый должен благодарить судьбу, что жив остался.
Ночью на Корабельной стороне завыли на разные голоса сирены и гудки судов. Любимов слушал тревожный концерт отражения воздушного налета. Сначала дробным барабанным боем отозвались на гудки зенитки. Сирены умолкли. Высоко в стороне подвывали моторы «юнкерсов». Внезапно оборвались орудийные залпы. На секунду усилился гул «юнкерсов». И вдруг мощный протяжный рев истребителей Миг-3 (Любимов узнавал их по голосу) распорол ночное небо, и посыпались из него с нарастающим свистом бомбы. Они рвались далеко и глухо. А в воздухе сквозь надрывный гул чужих и своих моторов рыкали скорострельные пулеметы и сухо постукивали роторные пушки.
Любимов знал, что на «мигах» отражает налет 1-я эскадрилья. Возможно, там, в ночном небе, бьет по нащупанному прожекторами «юнкерсу» комэск Васильев или Евграф Рыжов, или Николай Савва, или Яша Иванов, не исключено — и его друг Семен Карасев с ними. А сколько таких налетов отбивал от Севастополя Любимов до перебазирования его эскадрильи в Таврическую степь, под Тагайлы. Но больше всего запомнился ему не тот случай, когда ночью сбил он немецкого бомбардировщика, а самый первый вылет 22 июня, перед рассветом.
На флоте за день до начала войны все было приведено в боевую готовность номер один. Для черноморцев нападение фашистской Германии на нашу страну не оказалось внезапным. Не верилось, что это может случиться, но ожидали с часу на час. Только закончились большие учения флота. Произведен разбор. Любимов с эскадрильей вернулся на свою основную базу, пришел домой. Жена обрадовалась. Теща начала накрывать праздничный стол.
— Пока вы тут со своими делами управитесь, я в парикмахерскую сбегаю, — сказал Любимов. В парикмахерской дождался очереди, и только уселся в кресло, как на пороге появился моторист — сержант Кокин. Отыскав взглядом Любимова, подошел к нему и, не переводя дыхание, зашептал:
— Вас срочно вызывают в штаб полка.
Не пришлось Любимову посидеть за праздничным столом. Забежал домой, сказал, что вызывают. По пути на аэродром ломал голову: зачем? Тревоги не может быть — только прошли учения. Полеты не планировались. Тут дело серьезней. Догадывался — война. И не верилось.
Командир бригады приказал Любимову немедленно перелететь с эскадрильей под Севастополь. В полном составе.
— Молодых здесь оставить? — спросил Любимов.
— Я же сказал: в полном составе, — рассердился командир.
— Побьются. Там посадка с обрыва и пробег короткий.
— Захотят жить, сядут.
Любимов еще раз подумал: значит — война. А ночью он дежурил в самолете. Ждал, в любую секунду может взвиться ракета — сигнал на вылет. И эта секунда пришла перед самым рассветом.
Прожекторы щупали севастопольское небо, засверкали взрывы зенитных снарядов. Любимов взлетел в паре с Сапрыкиным. Уже над городом, над Северной стороной, он увидел в скрещенных лучах прожекторов чужого бомбардировщика. Поспешил к нему. Зенитки умолкли. Ярко освещенный хищник уходил к морю. Он был совсем близко и хорошо сидел в прицеле. Любимов хотел было открыть по нему огонь, но в этот миг прожекторы погасли. Какую-то долю секунды Любимов видел еще на фоне светлеющего неба черный силуэт самолета. Дал по нему очередь. Ослепило пламенем бортового оружия. Бомбардировщик исчез. Любимов снизился до самой воды, осмотрел небо, пролетел вперед, развернулся и с набором высоты вышел к берегу. Никого, пустынная гладь. Так и по сей день не знает, сбил он тогда бомбардировщика в тот первый боевой вылет или нет.
Заново переживая отражение налета вражеской авиации на Севастополь, Любимов сначала и не заметил, как мысленно работает руками и ногами, маневрирует самолетом. В начале войны он летал на этом типе истребителей. И тут вспомнил вдруг отличие в ножном управлении Як-1 от И-16. На Як-1 нет под пяткой педалей для торможения на рулежке. Черт возьми! Там же просто качалка для управления рулем поворота, а тормоза ручные, на ручке управления. Когда в Москве переучивался вместе с Наумовым на Як-1, воспринял перенос управления тормозами на ручки чисто механически, теперь же, в госпитале, это было равносильно гениальному открытию.
— Костя, а Костя! — задыхаясь от волнения, окликнул он соседа, Костю-минера, пострадавшего при разборке первой, сброшенной немцами на парашюте, морской магнитной мины новой конструкции. — Не спишь?
— Не спится, — отозвался Костя.
— Я буду летать, Костя?
Костя промолчал.
— Не веришь? Ногу бы только отвоевать у врачей.
— Как же ты, Ваня, без ноги самолетом управлять будешь, — не стал лукавить Костя. — Машину разобьешь и сам угробишься. Да тебя и не пустят.
— Ничего ты, друг мой по несчастью, не смыслишь в этом…
* * *
Утром старший лейтенант Минин и сержант Шевченко улетели в Одессу. Филатов и Колесников сели в самолеты дежурить. Мы четверкой летали на задание, вернулись без потерь. Готовились ко второму вылету. С севера пришли чьи-то «гуты» (истребители Миг-3), стали восьмеркой в круг, попросились принять. Едва осела после их посадки пыль, как взвилась красная ракета — приказ дежурного паре на взлет. Тут же взревел мотор филатовского «яка», и Григорий прямо из капонира пошел на взлет. На разбеге он скосил глаза вправо и увидел над самой деревней девятку Ю-88 без прикрытия. «Юнкерсы» шли правым пеленгом на высоте около полутора тысяч метров курсом на Перекопский залив. Возможно летали бомбить Симферополь или специально подкрались с тыла, чтобы внезапно ударить по аэродрому.
Колесников пошел на взлет, когда Григорий уже оторвался от земли и, разогнав скорость, стремительно набирал высоту на пересечение курса «юнкерсов». Сотни глаз следили за самолетом Филатова — с аэродрома, из деревни, с командного пункта авиагруппы. Ведомый только разворачивался, а Филатов уже, точно рассчитав траекторию своего сближения с противником, красиво подходил снизу к крайнему справа «юнкерсу». Какая-то секунда, и бомбардировщик будет сбит на виду у всех над северной частью аэродрома. Он еще летел, Филатов еще не стрелял, а все, затаив дыхание, ждали этого момента. И, уже предвосхищая событие, готовы были сорваться возгласы одобрения, как невесть откуда в хвосте Филатова появилась пара «мессершмиттов», и ведущий немец дал по Филатову короткую очередь на долю секунды раньше, чем Филатов мог ударить по «юнкерсу».
Машина Филатова круче взвилась вверх, проскочила сзади бомбардировщика, перевалилась через спину и отвесно с работающим мотором устремилась к земле. Можно было подумать, что Григорий применил тактику противника, уходя из-под внезапной атаки. Но немцы обычно имитировали падение, а Филатов, казалось, торопился вниз, чтобы быстрее соединиться со своим ведомым и броситься в бой вместе.
Летчики по привычке глянули на часы: 10.35. Через несколько секунд они поняли — Филатов не пикирует, а убит или тяжело ранен, потому что никто из них не пикирует отвесно.
Застонал от боли аэродром, застонал от бессилия помочь своему любимцу. Батько Ныч, вскочив на подножку санитарной машины, летел через летное поле к месту предполагаемого падения самолета. Параллельно, вздымая пыль, мчались на стартере мы с инженером Докуниным и несколько вскочивших на ходу в кузов летчиков и механиков. Остальные, кто мог оставить стоянку, бежали напрямик.
Самолет Филатова упал за северной границей аэродрома и разлетелся на куски, подняв столб пыли. «Юнкерсы» и «мессершмитты» ушли. Над погибшим товарищем кружил одинокий «Як».
В стороне от мотора, зарывшегося в раскаленную землю, лежал на спине Филатов. Целый, ни единой царапины, будто прилег на выгоревшую за лето траву и уснул. Военфельдшер быстро отстегнула парашютные лямки, распахнула на Григории китель: на тельняшке ни капли крови. Комиссар, инженер, мы все, кто добежали, обнажили головы, стояли молча, у многих навернулись слезы.
— Наверное, о землю убился, — сказал кто-то дрогнувшим голосом.
Фельдшер перевернула Филатова. На спине, между лопатками, зияла крупная окровавленная дыра. Сержант Бугаев нашел бронеспинку. Она была пробита снарядом на вылет.
— В груди разорвался, — заключила фельдшер. И совсем тихо добавила: — Мгновенная смерть…
Тело Филатова отвезли в деревню. Я повел остатки эскадрильи на прикрытие Ишуньских позиций. Адъютант послал в штабы Фрайдорфской авиагруппы и полка срочное донесение:
«15.10.41 в 10.35 один Як-1 5 АЭ 32 АП летчик Филатов был сбит истребителем противника при отражении воздушного налета. Самолет разбился, летчик погиб».
Похоронить лейтенанта Филатова в этот день не пришлось. Летали еще несколько раз на задание. Летали злые и дрались, как звери. С последнего задания вернулись в сумерках. Никому не хотелось ехать в деревню, не хотелось видеть Григория мертвым. На ночь гроб поставили в общежитии летчиков на две табуретки против двухъярусных нар, где последнюю ночь лежала постель и Григория Филатова. До утра почти никто не сомкнул глаз, тихо говорили о погибшем. А на рассвете летчики попрощались с ним и уехали на аэродром.
— Прости, дорогой, что не сможем проводить тебя в последний путь, — казалось, шептал каждый, кто нагибался и целовал Филатова в холодный лоб. — Прощай, Гриша.
* * *
Днем, окрыленный своим открытием, Любимов уснул. Сквозь дрему услышал знакомые голоса:
— Попробуй найти их. Все в бинтах, рядом стоять будешь и не узнаешь…
— Сестрица, тут где-то наши летчики Любимов и Овсянников?
Любимов открыл глаза и наяву увидел командира полка Павлова и комиссара Пронченко в белых, с незавязанными тесемками халатах.
— Наум Захарович, — позвал он. — Тут я.
Павлов кинулся на голос.
— Голубчик, как же это, а?
Присели с комиссаром на койку с обеих сторон. Расспросили, как все случилось, поинтересовались, какой уход здесь в госпитале. Потом Любимов впервые услышал от Павлова о гибели Аршака Аллахвердова, о потерях и других эскадрилий и полков.
— С Южного фронта немцы перебросили эскадру Мельдерса, которую вы пощипали раньше, — пояснил Павлов. — Появилась она вновь неожиданно и, видимо, старалась отомстить.
Помолчали.
— Скажу по секрету, — доверительно зашептал Павлов, — командующий подписал представление на тебя к ордену.
Любимов поблагодарил.
— А теперь скажи, что тебе надо, Иван Степанович, — спросил на прощание комиссар. — Говори, все сделаем для тебя. Ничего не пожалеем.
— Одна к вам просьба.
— Говори, говори.
— Дайте слово, что обратно в полк возьмете.
— И только? — удивился Павлов. — Да как ты мог в этом сомневаться?
— Нет, я серьезно, — тихо произнес Любимов. — Я летать буду, сам за свою ногу рассчитаюсь.
Командир с комиссаром переглянулись.
— Я все обдумал, — торопливо заговорил Любимов, как бы боясь, что его не дослушают. — Управление на «яке» в основном ручное. А руки-то у меня целы. Бинты снимут, и пожалуйста. Только руль поворота для ног остался. Качалку смогу и протезами двигать. Понял, Наум Захарович? А ты Пронченко, понял?
— Вообще-то идея, — поддержал Павлов, — ты только не волнуйся. Поправляйся.
Любимов уловил в его тоне неверие и понял, что сказанное — просто для приличия. Он горько улыбнулся, в глазах застыла обида.
— Ладно, — шепнул он устало. — Мне бы только правую ногу спасти. Поговорите с доктором, попросите вы его.
Павлов и Пронченко пообещали и, простившись, ушли искать раненого Овсянникова — заместителя командира полка.
Вскоре приехал в госпиталь член Военного Совета Черноморского флота Кулаков. В сопровождении хирурга Надтоки он обошел палаты, поговорил с ранеными, задержался у койки Любимова.
— Как вы себя чувствуете, капитан? — спросил он. — Чем могу помочь?
Любимов попросил о том же — не ампутировать правую ногу. Кулаков обратился к хирургу:
— Можно что-нибудь сделать?
— Никакой гарантии.
— А если я вас очень попрошу, доктор? Сделайте все возможное.
— Постараюсь, товарищ дивизионный комиссар.
Последняя связь со штабом
После десяти утра позвонили из штаба авиагруппы. Приказали командиру 5-й эскадрильи принять в свое распоряжение девять летчиков на самолетах Як-1 из 9-го авиаполка. Приведет группу капитан Калинин. Во второй половине дня заданий на вылет не предвиделось.
Мы с Нычем обрадовались пополнению. Это, конечно, не то, что свои. Свои всегда кажутся лучше, чем прикомандированные, но все-таки «нашего полку прибыло».
— Интересно, они хоть воевали где-нибудь? — спросил я комиссара.
— Наверное, воевали, — отозвался Ныч.
Тут же приказали инженеру Докунину выделить механиков и принять самолеты.
— Батько, а ты, между прочим, не знаешь, что из себя представляет капитан Калинин?
— Нет, не встречал такого. Может с Балтики или с Приморья… Смущает, что он старше тебя в звании? — спросил Ныч. — Привыкай. Завтра могут майора тебе прислать или разжалованного командира полка. На войне, Михаил Васильевич, может и такое случиться, а ты не смущайся. Тебе власть над нами дана, пользуйся ею только умело, командуй. А тебя разжалуют или в другой полк рядовым перебросят, не дери перед молоденьким лейтенантом нос, помогай без назидания — воевать легче будет.
Любил батько Ныч позаботиться о людях. Разговаривая со мной, он уже держал в руках трубку полевого телефона и названивал в подразделение базы. А дозвонившись, попросил приготовить дополнительный обед на прилетающих, истопить баню.
Группа капитана Калинина вышла точно на деревню Тагайлы, растянулась цепочкой и стала в коробочку. На втором круге выложили посадочное «Т». После приземления Калинин выстроил своих летчиков у капонира и повел к шеренге 5-й эскадрильи, перед которой в двух шагах стояли посередине командир и комиссар.
Капитан Калинин оказался человеком рослым, крепкого телосложения, лет тридцати-тридцати двух, с лукавой искоркой в прищуренных глазах и сильно распухшей, потрескавшейся нижней губой.
Приняв официальный доклад о прибытии, мы с комиссаром пожали капитану руку, потом поздоровались со строем и пошли к левому флангу, который замыкал молоденький сержант. Когда ему подали руку, он пожал ее с таким восторгом, будто никогда начальство не подавало ему руки и представился:
— Сержант Швачко.
Рядом стояли тоже сержанты Бондаренко, Ватолкин и четвертым был высокий чернобровый Шелякин. Здороваясь с ним, я поинтересовался:
— Сколько вам лет, товарищ сержант?
— Ровно двадцать, товарищ старший лейтенант.
— Давно воюете?
— Полтора месяца.
— А сбитые есть?
— Два «сто девятых», товарищ старший лейтенант.
Невольно обрадовался: это хорошо, значит, все обстрелянные.
— Откуда родом? — спросил Ныч Шелякина.
— Родился в Орловщине, а вырос в Мариуполе, там школе учился, и аэроклуб закончил. — Сержант вдруг посуровел. — Скажите, товарищ старший политрук, Мариуполь еще не заняли?
— Точных сведений не имею, — отвечал Ныч. — Сложная там сейчас обстановка.
Шелякин больше ни о чем не спросил, лишь замутившимся взором посмотрел куда-то вдаль, и Нычу показалось, что слышал он, как застонала от горя душа пилота.
А я в это время уже знакомился с лейтенантами. Их было четверо: крепко скроенный Беспалов, тоненький, как былинка, с пухлыми девичьими губами Кисляк, коренастый, не по годам серьезный, Берестовский и постарше их всех Куликов.
— Ну, что ж, товарищи, — сказал я прикомандированным. — Будем воевать вместе. Сейчас придет машина — отвезут вас в баню. Старшина покажет места в общежитии, потом обед. После обеда — изучение района, а пока познакомьтесь с нашими летчиками, со своими новыми механиками. Разойдись!
Две шеренги, рассыпаясь, сходились, как на братаньи. Возгласы, приветствия, восклицания, многие друг друга знали по Ейской школе морских летчиков. Батько Ныч остался тут, а я ушел с Калининым на командный пункт.
— Вас как зовут, товарищ капитан?
— Иван Куприянович. А вас?
Выслушав ответ, Калинин спросил:
— Как вы решили поступить с нами? Смешаете со своей эскадрильей или мы будем получать от вас задания и действовать самостоятельно?
По тому, как он это спросил, видно было, что этот вопрос для него далеко не безразличен.
— Над этим я пока не думал. Скорее всего действовать будем в зависимости от обстановки и заданий: и врозь, и сообща. Решим вместе с вами.
У землянки КП капитан расстегнул реглан, стянул с головы меховой шлемофон с очками, взъерошил над широким лбом копну темно-рыжих волос и увечье лица стало еще заметнее.
— А что у вас с губой?
— Да так, обветрилась и потрескалась, вот и вздулась. Генерал Жаворонков был у нас, приказал срочно ехать на операцию. Это, пожалуй, единственный приказ, который я позволил себе не выполнить. Воевать она мне не мешает. Красотой займемся, когда немцев разобьем. А сейчас скажите мне, Михаил Васильевич… Правильно я вас называю? Скажите, вы здесь уже месяц воюете. Удержимся мы на перешейке или немца в Крым пустим?
— Вы такое спрашиваете…
— Значит, плохо дело, — вздохнул Калинин. — Теперь познакомьте, пожалуйста, с воздушной и наземной обстановкой.
Беседа наша затянулась. Как старший по званию и по возрасту, Калинин держал себя непринужденно и независимо, в то же время подчеркивая, что он готов оперативно подчиниться более молодому командиру эскадрильи. Пришел батько Ныч.
— Простите, что вторгаюсь, — сказал он, раскуривая трубку. — Чего доброго, вы успели уже надоесть друг другу. Кто у вас, товарищ капитан, может дать мне сведения, сколько прибыло коммунистов и комсомольцев.
— Это и я могу, — охотно ответил Калинин. — Простите, товарищ комиссар, будем знакомы ближе. — Калинин сказал свое имя и отчество, Ныч тоже. — Так вот, Иван Константинович, прибыли вместе со мной: два члена партии, один кандидат, остальные комсомольцы. Сегодня дам список пофамильно.
— Да, — спохватился Ныч. — Как вы так точно вышли на наш аэродром? Таких деревушек, как Тагайлы, раскидано по степи много.
— Шли строго по маршруту и не ошиблись, — пояснил Калинин, сдерживая улыбку, — видно, трещины на губах беспокоили. — А правду сказать, по ветряку нашли. Далеко виден.
За лесной полосой прошумела полуторка. Послышались голоса людей, штурмующих кузов машины.
— Вы поезжайте, а я здесь с техниками задержусь, — предложил Ныч.
По пути к машине комиссар шепнул мне:
— А мельницу надо убрать, как думаешь?
— Тут и думать нечего.
Летчики уехали. Высоко над деревней кружил одинокий самолет.
— Видел, «хейнкель», — сказал Ныч оружейнику Бугаеву. — Слушай, тут надо…
Подвижной, вездесущий Ныч не любил откладывать дела на потом. Ведь это явный разведчик. Чего доброго, «гостей» приведет. Неспроста же кружил.
— Скажи, Бугаев, ты со взрывными работами знаком?
— Что?
— Ну, взорвать, скажем, вон ту мельницу сможешь?
— А почему нет. Было бы чем.
Не прошло и десяти минут, как к ветряку подвезли шашки динамита и бикфордов шнур. Пока Бугаев закладывал под сруб взрывчатку, Ныч облазил мельницу, нет ли где ребятишек. Посмотрели вокруг — на сельской площади ни души. Подожгли шнур и отбежали неподалеку к заброшенному амбару. Взрыв в деревне был совсем неожиданным и сильным. Сначала ветряк словно завис над землей без опоры, и сразу же накренился, а коснувшись земли, с треском и скрежетом превратился в большую кучу обломков, над которой высоко вздымалась клубами белая пыль.
Люди выбегали из хат и мчались опрометью в сухие заросли кукурузы на огородах, из бани выскакивали голые летчики и прыгали в открытые рядом щели.
Когда все улеглось и выяснилось, и летчики, посмеиваясь друг над другом, мылись заново, прилетели «юнкерсы» — десять штук. И высоко сзади них две пары «мессершмиттов». Дежурным приказано было не взлетать. Бомбардировщики прошли между аэродромом и деревней, взяли курс на запад. Потом снова появились, прошли южнее аэродрома и деревни. Вскоре послышались глухие взрывы. Бугаев взобрался на амбар и оттуда давал пояснения.
— Ложный аэродром долбают, — кричал он. — Хорошо работают, сволочи, когда никто не мешает.
* * *
Базировавшиеся по соседству «миги» ушли во второй половине дня на задание. Аэродром притих, будто его не существовало. Все скрыто, замаскировано. Старт свернут. Если посмотреть с воздуха, то вряд ли можно приметить обложенные дерном, укрытые под навесом маскировочных сетей капониры, а в них самолеты. И уже совсем невозможно догадаться, что в этих самых капонирах наводили порядок летчики 5-й эскадрильи. Вместе со своими механиками они осматривали двигатели, устраняли обнаруженные дефекты.
В зарослях лесополосы шло импровизированное занятие: знакомили новичков по карте с районом базирования и боевых действий, с безопасностью и сложностью воздушной обстановки, с тактикой наших и немецких летчиков на Перекопском перешейке.
В этот тихий час прогудел над аэродромом одинокий И-16. С земли, конечно, никто не видел, что в кабине сидел в летных очках и в генеральской фуражке Василий Васильевич Ермаченков. А он покружил над деревней и ушел в сторону КП группы, снова вернулся и зашел на коробочку. Свой значит. Выложили ему «Т». Истребитель приземлился. Летчик зарулил на старт и выключил мотор.
На аэродроме Тагайлы соблюдалось правило: после посадки самолеты немедленно убирались с летного поля и маскировались. Инженер Докунин подумал, что на истребителе мотор заглох, послал на помощь машину — стартер, чтобы летчик смог запустить мотор и отрулить самолет к лесополосе или к свободному капониру. А Василий Васильевич на сей раз забыл, что наставление по производству полетов и по аэродромной службе обязательны для всех летчиков, независимо от должности и звания. Он оставил парашют в кабине, очки бросил под козырек к прицелу, а фуражку надел на ручку управления, сам же сел в машину и уехал на КП эскадрильи.
Никто не осмелился сделать генералу замечание или отбуксировать его самолет в укрытие. А строгий блюститель маскировки Ныч был в это время в деревне. Прибыл комиссар на КП, когда Ермаченкову уже доложили, чем занимается личный состав. Генерал выслушал доклад, потом познакомился с летчиками группы Калинина, разъяснил сложности предстоящих задач. Близился конец временному затишью — немцы со дня на день могли начать штурм Ишуньских позиций.
— На требовательность командира эскадрильи, которой вы приданы, не обижайтесь, — посоветовал Ермаченков. — Кроме пользы общему делу и каждому из вас, ничего от этого не будет. Ну, а теперь присядем в тень, потолковать надо.
Генерал пригласил на беседу знакомых ему летчиков 5-й эскадрильи, поинтересовался, нет ли жалоб, поговорил с людьми, уже сидя на траве, запросто, по-товарищески. Сказал «по секрету», что позарез нужны летчики на штурмовики Ил-2 в эскадрилью капитана Губрия, который уедет на днях за новыми самолетами.
— Нет ли среди вас желающих? — спросил он.
Желающие отличиться на штурмовиках нашлись — старший лейтенант Касторный и лейтенант Куликов. В этот же день на У-2 их перебросили на другой аэродром.
— А ты не горюй, Авдеев, — угадав мое сожаление, утешил Ермаченков. — Вместо двух, четырех тебе подброшу. — И вдруг. — Да, куда это ваш ветрячок делся? Взорвали? Такого ориентира лишиться! А? Признаться, я чуть не заблудился без него.
Только он это сказал, как все услышали свист пикирующего истребителя и сразу же увидели пару несущихся к земле «мессершмиттов». Треск короткой очереди, рев моторов на выходе из пике — и «мессершмитты» исчезли на бреющем. Все произошло так неожиданно и быстро, что никто не успел даже ахнуть. Мелькнула мысль, что немцы расстреливали дежурного по старту.
— Самолет! — спохватился Ермаченков. — Машину.
Подъехали к брошенному среди поля И-16. Цел-целехонек, ни единой пробоины не нашли. Ермаченков поднялся на крыло, заглянул в кабину. В висевшей на ручке управления генеральской фуражке зияла дыра. Снаряд ничего больше не повредил. Пробил пол и разорвался на земле.
— Жаль, — сказал Василий Васильевич. — В чем же я сегодня в Севастополь поеду?
Ныча взорвало. Он даже побагровел от возмущения.
— Фуражку вам, товарищ генерал, я могу свою одолжить, коли налезет, — предложил он. — А демаскировать аэродром ни вам, ни самому господу богу не дозволено. Мы из-за этого мельницу убрали…
— Виноват, Батько, — извинился генерал, соскочив с плоскости крыла. — Не подумал.
— Люди ночами не спали, руки в кровь сбили, чтобы построить капониры и укрыть самолеты, — не унимался Ныч.
— Ну, что ты расшумелся, — успокаивал его Ермаченков. — Ну, извини за промашку.
Эти слова и тон, и мимика Василия Васильевича произвели на Ныча такое действие, будто в перекипевший самовар плюхнули ведро холодной воды, чтобы не распаялся. Ныч отошел в сторону, вытер платком вспотевший лоб. Инженер отрулил самолет в укрытие, а Ермаченков сказал:
— Знаете, друзья, вы занимайтесь своими делами, а я на вашем стартере съезжу в штаб группы. Командующий ВВС флота получил новое назначение, и мне придется побыть в Севастополе, пока пришлют нового.
Ныч опять хотел возразить. Стартер может понадобиться в любую минуту, а его черти погонят в другую деревню. Но промолчал, решил подождать, не сообщит ли генерал еще каких-нибудь новостей.
Ермаченков уже поставил ногу на подножку стартёра, как подъехала эмка пикап и из нее выскочил сержант в отутюженной форме. Спросил у генерала разрешение обратиться к старшему лейтенанту Авдееву, он сказал, что прислан из штаба полка за сведениями о боевом налете и состоянии самолетного парка.
Тут уж я не выдержал:
— Вот, товарищ генерал, полюбуйтесь! В штабе на пикапах писаря разъезжают, а тут, на боевом аэродроме, летчиков часто на вылет нечем подбросить.
— Понятно, комэск, — сказал генерал. — Забирай эту машину для эскадрильи, а сержанта отправишь со сведениями на У-два. Кстати стартер мне теперь не нужен, на эмке и быстрей, и удобней. Так и передайте, товарищ сержант, своему начальнику штаба, — пояснил он писарю, — что машину отобрал исполняющий обязанности командующего генерал Ермаченков.
* * *
Оперировали Любимова невероятно сложно и длительно. Пришлось сшивать нервы, сосуды, сухожилия, попутно удалить несколько мелких осколков. Хирург Надтока сделал все возможное и невозможное. Будь, что будет, отрезать никогда не поздно.
Дня через два нежданно-негаданно заглянул в палату летчик Семен Карасев, принес фрукты. Тихо поздоровался, осторожно спросил:
— Ну, как, Ваня?
— Было совсем худо, Семен. Теперь ничего, — рассказывал Любимов. — После операции опухоль спала немного. Предлагали эвакуироваться, а я отказался. Понимаешь, незачем мне из Севастополя.
Бодрое настроение пострадавшего друга освободило Карасева от неловкости.
— Мы еще в джазе с тобой поиграем, — сказал Карасев ободряюще (оба играли на музыкальных инструментах).
— Поиграем, Семен, обязательно поиграем. Заживут раны, такой джаз устроим фрицам в воздухе, что чертям тошно будет. А как ты после тарана?
— Да ничего, — пожал плечами Карасев, — воюю. Только учти, если тебе когда случится пойти на таран, заранее открой колпак и отстегни ремни.
Карасев говорил так, словно перед ним лежал не безногий Любимов, а тот, прежний, неуязвимый ас. Ни в словах, ни в тоне, которым произносил их Семен, не было ни одной фальшивой ноты и не было, будто прописанного для всех безнадежных, ободрения «мы еще повоюем». И Любимов на минуту забыл, что он инвалид, стал выспрашивать что, да как и почему — вдруг пригодится. Карасев отвечал охотно, старался не упустить никакой мелочи.
Рассказал, что сначала пытался отрубить «юнкерсу» хвост винтом, как это сделал Евграф Рыжов из 32-го авиаполка, но ничего не вышло. Сильно болтало в струе воздушного потока от моторов противника.
— А он, подлец, уже на боевой курс лег, — возмущался Семен. — Еще две-три минуты — и над городом начнет бомбы сбрасывать. Тут я крылом по стабилизатору раз и… Знаешь, Ваня, в жизни никогда такого сальто не делал. Меня из кабины так рвануло, что не сразу сообразил, кто я и где я. Понял сначала: не в самолете я и не падаю на землю, а куда-то лечу вроде снаряда.
Встреча с Карасевым воодушевила, прибавила сил Любимову. Он даже доверился ему в самом сокровенном и мучительном: что написать жене и нужно ли писать вообще. Сообщить правду? Как воспримет ее? Будет ли ждать его, такого? Зачем ей калека? Она совсем еще девчонка, детей нет. Жизнь свою может по-другому устроить. И он боялся самого страшного: вдруг отвернется, откажется.
А он любил ее, так любил, что не мыслил без нее себя. И когда в бессонные ночи длинной чередой тянулись нерадостные думы о будущей летной судьбе, рядом с ними неразлучно саднила мысль о жене. И он решил не писать ей о своем увечье. Пока не писать. Зачем пугать. Прежде надо самому с этим свыкнуться. Карасев согласился с ним. Так оно лучше будет.
— Но вообще-то письма пиши, — посоветовал он, — почаще пиши.
— Чаще нельзя, — возразил Любимов. — Догадается. Не сама, так теща поможет. Нужно, как прежде. Но мне нельзя — штамп госпиталя, обратный адрес. И руки вот, не скоро бинты снимут. А просить кого — чужой почерк…
— Да-а. Вот ситуация. Может, я под твой почерк смогу?
— Все равно догадается.
Задумались. Костя-минер лежал все время молча, а тут голос подал:
— А вы телеграмму. Жив, здоров, мол, воюю. И никакого почерку.
Так и решили. Чтобы госпитального адреса не было и по почерку не узнали, Семен будет давать телеграммы из штаба раз в неделю. Любимов продиктовал адрес жены.
— Только немедленно передай Грише Филатову и другим ребятам, чтобы своим женам обо мне ни слова, — забеспокоился он. — Они же там, в Чистополе, все вместе. Сразу скажут.
— Будет сделано, Ваня, — весело козырнул Карасев на прощание и тут же спохватился. Хотел сказать, что Гриши Филатова уже нет в живых, и раздумал. Пощадил друга.
Обещанные четыре экипажа Ермаченков прислал. Прилетели на «яках» летчики 9-го полка: два старших лейтенанта — Степан Данилко и Константин Алексеев, лейтенант Михаил Гриб и веселый сержант Протасов Иван Иванович, по прозвищу «генерал». С церемониями встречать их было некогда. Прямо «с корабля на бал» повели их в ознакомительный полет вместе с группой Калинина.
В тот день Алексеев со своими изучал район, а Калинину разрешили еще два вылета. В четвертый раз из этой группы пошел лишь сержант Шелякин напарником Арсену Макиеву. Домой возвращались в сумерках, и Арсен не заметил, когда и куда делся его ведомый.
Калининцы были грустные, подавленные, вместе с ними волновалась и вся эскадрилья. Ничто так не гнетет летчиков, как неизвестность, как судьба без вести пропавшего товарища. Ждали Шелякина до полной темноты, прислушивались к далеким звукам, хотя и знали: в воздухе он быть не может, кончился бензин. А глаза с надеждой смотрели на север, где небо у горизонта озарялось всполохами прифронтовых пожарищ. Меня позвали к телефону.
— Что же вы не докладываете? — спросил полковник Страутман. Хотел было извиниться и сообщить о невернувшемся с боевого задания, но полковник продолжал говорить:
— О подвигах своих летчиков штабу приходится узнавать окольными путями. Сейчас получено сообщение от наземных частей: один истребитель «як» вступил в бой с большой группой «мессершмиттов», сбил четыре самолета противника и благополучно ушел. На «яках» в это время в воздухе была только ваша эскадрилья. Кто же этот храбрец, скажите?
Я доложил о случившемся. Полковник сразу же сделал вывод:
— Значит, он. Молодчина. А вы не волнуйтесь — утро вечера мудренее.
Выйдя из землянки, увидев своих ребят, а своими мы теперь уже считали и калининцев, я понял: каждому из них можно верить больше, чем самому себе. На каждого можно положитьсят — умрет, а задание выполнит. И мне очень захотелось, чтобы эти надежные люди воспрянули духом, поэтому, сам еще не веря, бодро сообщил:
— Шелякин жив-здоров, на вынужденной. По коням.
Все будто ожили, с шумом «оседлали» пикап и стартер. В деревню ехали с песнями.
Шелякин прилетел на рассвете. Механики гоняли на разных оборотах моторы, готовили самолеты к вылету. Летчики сидели в землянке КП, выжидали задания. За гулом моторов никто не слышал, как он приземлился. А когда увидели его на пороге землянки, все кинулись к нему. Обнимали, целовали, трясли руку. А он смущенно улыбался, повторяя:
— Да, пустите же, братцы, доложить надо.
Но хоть у нас и принято было докладывать чин по чину, по всем правилам воинского Устава, на сей раз слушать доклад Шелякина не хватало терпения:
— Что прибыли — вижу, что на вынужденной были — знаю, а теперь садитесь и рассказывайте по порядку. Тут всем интересно знать, как вам удалось одному четырех фрицев сбить и самому сухим из воды выйти.
Шелякин мотнул головой, усмехнулся.
— Да я их и не сбивал, товарищ старший лейтенант.
— А кто?
— Да они сами себя посбивали. А я только одного успел.
Шелякин сказал это так простодушно и комично, что все засмеялись.
— Честно говорю, — оправдывался Шелякин. — Мне и самому смешно, как получилось. Как отстал от своих, не заметил. Потом догнал, пристроился. А сзади откуда-то взялась еще шестерка «яков». Армейские, подумал я. Только что это сухопутные летчики за нами жмут? Им-то влево нужно забирать, на Джанкой. Еще раз оглянулся. А это вовсе и не «яки», а самые настоящие «мессеры». Я рванул вперед, хотел покачать крылом старшему лейтенанту, предупредить об опасности. Поравнялся с машиной Макиева, глядь, а на ней вместо звезд кресты. Признаться, мне сразу жарко стало. Чуть приотстал, начал соображать, как выбраться.
— Спикировал бы до земли, они бы и сообразить не успели, — подсказал кто-то.
Начали спорить. Не дослушав Шелякина, каждый высказывал ему свои советы, как он должен был поступить при создавшейся обстановке. Спор этот, конечно, был не бесполезен. Но пришлось все таки прервать.
— Будет вам. Пусть Шелякин доскажет, что же дальше было.
— По-честному, я снахальничал, — продолжал Шелякин. — Сначала-то, конечно, струхнул. А потом вижу, меня не трогают. Мой «ведущий», то есть немец, когда я с ним поравнялся, ноль внимания. И снять его было — пара пустяков. Но ведь ведущий группы — птица, небось, поважней. Я напустил на себя храбрости, выдвинулся вперед, дал короткую очередь по ведущему группы и снова на свое место. Ну, думаю, пропал! А немцы в сумерках не разобрались что ли, не на меня, а на свое начальство, по которому я стрелял, набросились и сбили… Хотел я спикировать за ним, за падающим, вроде бы добиваю, и улизнуть на бреющем, да со своим «ведомым» жаль было расставаться, не попрощавшись. Довернул машину влево, влепил по его мотору полную дозу, а сам в сторону. А он, подлец, моментально вспыхнул и провалился вниз. Знал бы, что собью с одной очереди, я бы за ним и наутек. Но тут мне на выручку поспешили фрицы задней шестерки. Они оказались неплохими стрелками — еще двух «мессершмиттов» сбили. К одному из них записался в сопровождающие. Так и ушел. А на вынужденную сел — побоялся в темноте машину разбить.
— Вот это да!
— Такого еще не бывало.
— Сколько ему записать, товарищ командир? — спросил адъютант. — Все четыре или один?
В самом деле, сколько же этому храбрецу следует записать? Ведь, по совести, — один, сбитый им лично, противник. А по существу за храбрость, за находчивость, ему надо отдать четверых.
— Правильно. Все четыре его, — раздавались голоса.
— Мне подачки фашистов не нужны, — возразил Шелякин. — Один мой, его и пишите.
* * *
На рассвете 18 октября немецкая авиация сильно бомбила наш передний край. Потом заговорила артиллерия. Начались ожесточенные бои на Ишуньских позициях.
Генерал Ермаченков бросил к воротам Крыма основные силы Черноморской авиации. Разрешил без ограничений летать на задания командирам и комиссарам полков.
На другой день боев господство в воздухе безраздельно принадлежало советским летчикам. Наши истребители блокировали немецкие аэродромы, встречали бомбардировщиков противника до подхода к линии фронта, разгоняли их и заставляли сбрасывать бомбы куда попало. А «мессершмитты» старались в бой не ввязываться. Таким образом, наши бомбардировщики и штурмовики работали на полную возможность. Немцы не могли днем свободно перебрасывать к фронту войска и боеприпасы, вынуждены были зарываться в землю вместе с техникой.
Полное господство это длилось всего три дня. Немецкое командование срочно перебросило на Крымский фронт истребительную эскадру генерала Мельдерса. Борьба за господство в воздухе продолжалась еще несколько дней. Немцы уже знали силу наших истребителей Як-1 и, если не имели на своей стороне значительного преимущества, в бой не вступали. Зато хищно набрасывались на советские самолеты устаревших конструкций.
Когда у нас еще никто не подозревал о прибытии эскадры Мельдерса, знаменитый ас Арсений Шубиков повел группу своих истребителей на прикрытие бомбардировщиков 32-го авиаполка, которым предстояло подавить дальнобойную немецкую батарею в районе Казан-Сарая. Бомбардировщики задачу свою выполнили, а истребителям пришлось вступить в неравный бой с численно превосходящим противником. Бой был очень тяжелым и длительным. Несколько машин потеряли немцы, но и наши понесли большой урон — не вернулись с задания пять экипажей, погиб и сам капитан Арсений Шубиков.
В этот несчастный день понесла горькую потерю и наша 5-я эскадрилья. Воздушная обстановка изменилась, и выделение на прикрытие шести бомбардировщиков в район Бромзавода всего четырех истребителей было явно недостаточно.
Повел эту четверку парторг эскадрильи, старший лейтенант Семен Минин, его напарником был сержант Яша Макеев. Другую пару составляли два друга, младшие лейтенанты Алексей Колесников и Арсен Макиев. Задание бомбардировщики выполнили без сильного противодействия противника. Встретили их «мессершмитты» на обратном пути у линии фронта. Двенадцать штук. Они сразу же отрезали наших истребителей, и пока четверка Минина отбивалась, подоспевшие еще девять «мессершмиттов» сбили все шесть Пе-2. На аэродром вернулось всего три истребителя — погиб в воздушном бою красавец Арсен Макиев.
В 5-й эскадрилье оставалось еще семнадцать летчиков и пятнадцать исправных самолетов. Еще неделю воевали они на перешейке и ни одного человека не потеряли в самых тяжелых и часто неравных схватках с противником.
Многие отличились в этих боях. Только старший лейтенант Алексеев сбил за десять дней три машины противника.
Самолетный парк таял с каждым днем.
Техники уже не успевали ремонтировать машины.
Все больше и больше рвущихся в бой летчиков осталось «безлошадными».
Во второй половине дня 27 октября было уже ясно, что наши войска на Ишуньских позициях долго не продержатся.
Из штаба Фрайдорфской авиагруппы поступило приказание отправить прикомандированных летчиков капитана Калинина в свой полк, а самим перебазироваться южней, ближе к Симферополю.
Это была последняя связь со штабом группы. С этого дня руководство эскадрильи действовало по своему усмотрению.
Уходил октябрь сорок первого… Мы стояли на пороге огненных дней обороны Севастополя.
ЗА НАМИ — СЕВАСТОПОЛЬ
Херсонесский маяк
В начале войны Херсонесский маяк можно было разглядеть в хорошую погоду далеко с моря и воздуха. Взлетал я с аэродрома для барражирования над главной базой и видел на самом краю мыса выбеленный солнцем маленький столбик. Вернее, даже не столбик, а белый на фоне темного моря штришок. Столбиком он выглядел, когда мы подлетали к Севастополю. Теперь маяк в глаза не бросался, он был закамуфлирован — покрашен грязно-зелеными, бурыми и бледно-желтыми пятнами под цвет берега. Мы обратили на него внимание, лишь подлетая к Казачьей бухте, таким невзрачным выглядел он в маскировочном наряде, да еще в пасмурный день.
Аэродром на полуострове тоже назывался Херсонесский маяк. Собственно, аэродром — это громко сказано: обыкновенная посадочная площадка. По сторонам взлётного поля торчали в зарослях мелкого кустарника и бурьяна огромные глыбы камня. Вдоль Казачьей бухты и по берегу моря с севера я увидел рассредоточенные истребители самых различных типов. К югу от маяка, в направлении 35-й батареи, пристроились на побережье штурмовики и бомбардировщики. И всюду люди, люди. Бескозырки, белые и красные платочки. Платочков больше. Женщины Севастополя и краснофлотцы ворочали камни — расширяли летное поле, рыли для самолетов капониры, сооружали землянки для летчиков и техников, командные пункты, подземные хранилища.
После посадки, вернее, уже после пробега, когда воентехник 2 ранга Буштрук вылез из задней кабины УТ-2 и, держась за консоль крыла, побежал на рулежке за самолетом, направляя его к стоянкам «яков», я подумал: «А мне и воевать не на чем». Рядом с И-16 стояли два «яка», но они оказались не мои, не 5-й эскадрильи, а 9-го полка. На глаза попался Костя Алексеев, но он тоже только прилетел, и где стоянки 32-го полка, понятия не имел.
Выяснили все-таки, что на пробеге не надо было сворачивать вправо, а рулить дальше и тогда мы попали бы к стоянке своего полка. Но сразу попасть туда так и не пришлось. Впереди откуда-то взялся краснофлотец в бушлате. Он поднял руку, будто голосовал на дороге, просил подвезти. Ветер рвал с него бескозырку, трепал черные ленты. Я сбавил обороты, остановился. Морячок подбежал к технику, что-то сказал ему, и тот скрестил над головой руки: выключай зажигание.
— Командующий вас вызывает на КП, — пояснил Буштрук, как только заглох мотор.
Я направился вслед за удаляющимся краснофлотцем и не знал, что и подумать, зачем так срочно понадобился командующему ВВС. Вины я за собой никакой не чувствовал, и это меня еще больше угнетало. Но так как безгрешных людей не так уж много, я нашел, наконец, и свой грех. Первое, о чем может спросить генерал, так это: «Где ваша эскадрилья?» Или: «Почему прилетели один? Где люди, где самолеты?». Я начал мысленно оправдываться, подыскивать более веские доказательства правильности своих действий, но мысли, как заезженная пластинка, вертелись на одном месте, безответно повторяя под левую ногу: «Где люди? Где самолеты? Где люди? Где самолеты?».
В шлемофоне мне стало жарко — сдвинул его со лба. Я уже догадывался, что самый большой холм у Казачьей бухты и есть КП. От землянки этой отделилась фигура и направилась навстречу. Показалось — подполковник Юмашев, командир 8-го истребительного авиаполка.
Краснофлотец быстро подошел к человеку в реглане, приложил руку к бескозырке и тут же, резко опустив ее, побежал к землянке, а человек в реглане снова двинулся мне навстречу. Это был не Юмашев. Он шел уверенно, держась правой рукой за борт, словно застегивал на груди пуговицу. А когда увидел я генеральские нашивки, догадался, что это и есть новый командующий ВВС Черноморского флота, о котором слышал многое от батьки Ныча. Я ускорил шаг и с волнением в голосе представился генералу. Остряков протянул руку.
— Здравствуйте, Михаил Васильевич, — сказал он негромко. — Очень рады, что вы прибыли. «Откуда он знает мое имя?»
— Пройдемся, поговорим, — предложил Остряков.
Некоторое время мы молчали. Потом он расспросил о семье, о здоровье, о планах.
— Воевали вы на Перекопе хорошо, — похвалил Остряков. — Ваша эскадрилья показала себя способной наносить ощутимые потери врагу. Чувствуется прекрасная довоенная подготовка. Самолетов у вас осталось…
— Два.
— Два самолета Як-1. Передадите их командиру полка, а сами срочно вылетите за новыми. Сегодня до вечера скомплектуйте группу из лучших летчиков эскадрильи, всего четырнадцать человек. Не хватит своих, возьмите из девятого полка. Да не забудьте двух толковых техников. А завтра утром на У-2 и УТ-2, скажите Павлову, пусть обеспечит, перелетите на Анапу. Там будет ожидать вас Ли-2, командир экипажа Малиновский. Он доставит вас аж на Волгу. На заводе скажете военпреду, что прибыли от Острякова за самолетами для Севастополя. Он меня знает. Помните, таких просителей, как вы, там будет много. И всем нужно срочно, и у каждого, наверняка, будет свой козырь и чья-то широкая спина за плечами. Главный ваш козырь — для обороны Севастополя и распоряжение Главкома. Но без распоряжения Главкома вряд ли кто туда поедет. Поэтому быстрота получения самолетов будет во многом зависеть от вас самих, от вашего умения убеждать.
На обратном пути генерал попросил меня по возвращении из командировки доложить ему об отличившихся на Перекопе. Спросил, кто в эскадрилье комиссаром. Узнав, что старший политрук Ныч, улыбнулся.
— Мы его звали батько Ныч, — сказал Остряков. — Толковый вам комиссар достался, дорожите им.
На стоянках самолетов полка я встретил Колесникова, приказал ему собрать у штабной землянки летчиков эскадрильи и послать кого-нибудь в 9-й полк за старшим лейтенантом Алексеевым, а сам, не теряя времени, пошел на КП полка.
Я поразился тогда выдержке Острякова. Он был спокоен, деловит, хотя сложившаяся обстановка менее всего располагала к спокойствию.
После прорыва немцев на Ишуньских позициях Особая 51-я армия, опасаясь быть отрезанной от Большой земли, отходила с боями на Керченский полуостров.
Приморская армия, уставшая в тяжелых боях под Одессой и не успевшая после ее эвакуации подойти в полном составе к Ишуньским позициям, оказывала сопротивление немцам и отступала в направлении Симферополя. Но мотомехчасти противника быстро растекались по дорогам Крыма, опережали Приморскую армию и отрезали ей путь на Симферополь, надеясь окружить ее или направить вслед за 51-й армией на Керчь.
Командующий Приморской армией генерал-майор Петров на Керчь не пошел. Он решил любой ценой пробиться к Севастополю. С кровопролитными боями он отводил свои войска по горам и бездорожью в направлении Балаклавы. А гитлеровцы уже вплотную подобрались к первой линии обороны Севастополя, которую яростно удерживали части и подразделения небольшого гарнизона главной базы Черноморского флота. Вчера направился на передовую батальон авиаторов, наспех сколоченный из мотористов, оружейников, воздушных стрелков и краснофлотцев морской авиабазы.
Севастополю позарез нужны были самолеты. И хоть на перегон их из тыла уходило какое-то время, сделать это было необходимо.
Опасения Острякова оказались излишними. Как только я произнес слово «Севастополь», самолеты мне дали.
В Анапе погода была сносная, а на маршруте низкая облачность прижимала нас к притихшему морю. Моросило. Наша группа держала курс на Херсонесский маяк. Чем ближе подходили мы к Крымским берегам, тем выше становилась облачность. Прошла в дымке Ялта. Балаклаву увидели уже отчетливо. Набрали четыреста метров. Прошлись над маяком. В море штиль. В небе ни единого «мессершмитта». Стали над мысом в круг. Аэродром за три недели сделался неузнаваемым. Расширена и удлинена взлетная полоса. Не верилось, что это женские руки раздвинули огромные каменные глыбы. Кроме трех бомбардировщиков ДБ-3ф, самолетов было не видно. В Казачьей бухте заметили плавучую батарею.
Приземлились все благополучно. Незнакомые техники и механики показали место стоянки, закатили самолеты в крытые капониры.
— Вот это да, — поразились мы. — Воевать можно.
Прилетевшие летчики собрались у командирской машины: капитаны Рыбалко и Калинин, старшие лейтенанты Алексеев, Минин, Капитунов, Данилко, лейтенант Колесников, сержанты Платонов и Макеев. Девять человек, я — десятый. Десять вернулось на Херсонесский маяк из четырнадцати. Один — лейтенант Качалка — при сильном снегопаде на маршруте Сталинград — Сальск разбился в районе Вороново. Два, капитан Сапрыкин и лейтенант Беспалов, во время снегопада подломали шасси. Один — лейтенант Кисляк — сел на вынужденную в районе станицы Киевской. И обо всем этом надо докладывать командующему лично. Перспектива не из приятных.
Пока я собирался с мыслями, откуда-то появился со своим войском командир эскадрильи «мигов» Дмитрий Кудымов. Тут были Евграф Рыжов, знаменитый своим тараном, и лейтенант Куницын. Молодых пилотов-сержантов я не знал, слышал, как одного называли Петькой, а другого «Генералом».
— Поздравляю, Миша, с прибытием, — приветствовал Кудымов, улыбаясь. — Будем воевать вместе.
— А тебя, вижу, с повышением поздравить надо, — ответил я. — Когда получил майора?
— Неделю назад, — Кудымов шлепнул ладонью по нашивкам на рукаве. — Хотя не отказался бы годиком раньше, — пошутил он и тут же продолжал. — Жить будем вместе, в доме, помнишь при въезде на мыс? Там и столовая. Обед заказан. А этот домик, — Кудымов показал рукой за капонир, — и землянка — наши КП и штаб.
— Спасибо, Дима, мне нужно идти докладывать, — сказал я. — Вернусь, покажи аэродром, если не трудно.
Генерал Остряков встретил меня у КП. Длинный доклад, к которому я готовился, и объяснения выслушивать не стал.
— Не волнуйтесь. Мне все известно. Вины вашей в потерях нет.
Легонько взял меня под локоть, отвел в сторону.
— Здесь будете командовать эскадрильей в прежнем ее наименовании, но прикомандированной к восьмому полку. Задания будете получать от командира полка Юмашева, его начштаба и от меня. Прилетевшие с вами летчики останутся в вашей эскадрилье, из каких бы полков они ни были. Насчет размещения, довольствия и прочего команды отданы. Далее, группа майора Кудымова будет самостоятельной единицей при вашей эскадрилье, то есть — им и его людьми вы распоряжаетесь только при получении общей задачи. Какие будут вопросы?
— Прошу, товарищ генерал, вернуть эскадрилье комиссара Ныча и техников.
— Ну что ж, можно, пожалуй, и вернуть, — улыбнулся Остряков. — Желаю вам удачи.
Майор Кудымов вызвал полуторку. Осмотр летного поля, границ аэродрома, подступов к нему, расположения наземных сооружений, разного рода возвышенностей необходимы при изучении района базирования.
— Итак, друзья, мы отправляемся с вами в интереснейшее путешествие по Херсонесскому маяку, — начал Кудымов, как только все разместились в кузове машины. Любитель поговорить и враг официальной напыщенности, он взял тон жизнерадостного экскурсовода и выдержал его до конца.
— Для ориентира повернемся назад и запомним, — продолжал Кудымов. — Вон на той возвышенности находится тридцать пятая крупнокалиберная береговая батарея с мощными подземными сооружениями. На переднем плане, откуда начинается наш маршрут, — стоянка бомбардировщиков. Справа укрытия штурмовиков. — Кудымов постучал ладонью по крыше кабины. — Поехали.
Машина направилась вдоль длинного ряда крытых капониров для истребителей 8-го авиаполка.
— По правому борту — бухта Казачья и наша защитница, плавучая зенитная батарея. С ее командованием познакомлю в другой раз: командир капитан-лейтенант Сергей Мошенский и комиссар Нестор Середь. Это КП полка, — продолжал объяснять Кудымов. У северной кромки мыса машина повернула влево по направлению к закамуфлированному маяку. — А это крытые капониры для и-шестнадцатых. По побережью — землянки техсостава, — пояснял Кудымов. — Когда-то и-шестнадцатые были первоклассными истребителями. Теперь, увы, зовут их «ишаками». Все, друзья мои, — по закону диалектики.
Кудымов похлопал рукой по крыше кабины, машина остановилась.
— Обратите внимание, что остается под вами на взлете.
От границы летного поля метров на триста до самого моря громоздились под пологий уклон черно-серые с острыми гранями камни.
— На маяк заезжать будем? — спросил майор.
— В другой раз, — ответил я. — Сейчас главное для нас — внешний осмотр аэродрома.
— По южному берегу, вдоль мыса проезда пока нет, — сказал Кудымов. — Тут, видите, тоже камни и заросли дикого кустарника. Берег там высокий, обрывистый. Вы его хорошо видели с воздуха. На этом экскурсию разрешите закончить и пригласить вас на обед.
Саманный домик, который занимали кудымовцы, находился в конце бухты Казачьей, почти у самой дороги, убегавшей вниз на мыс. Одну половину дома занимали летчики, в другой разместились столовая и кухня.
— Вот здесь и будем жить вместе, — сказал Кудымов.
В общей комнате было убрано и тепло. На двухъярусных нарах лежали для прибывших аккуратно заправленные шерстяными одеялами постели. Сверху подушки в белых наволочках и треугольниками сложенные вафельные полотенца. Возле нар стояло несколько старых тумбочек и табуреток. А у пустующей стенки — длинный стол. На нем — патефон.
Пока летчики выбирали на нарах места по своему вкусу, Кудымов провел меня в боковую комнатку с двумя койками, небольшим столом и двумя табуретками.
— Для начальства, — пояснил майор. — Эта моя койка, а эта — твоя.
Я бросил на койку планшет и перчатки, снял реглан и, отыскав на стене свободный гвоздь, повесил его. Осмотрелся.
— А комиссара куда же я дену? — спросил я. Майор смежил белые ресницы, причмокнул, потом поднял глаза. — Об этом я не подумал…
— Тогда комиссар займет мое место, — предложил майор. — А я туда, — махнул он рукой на дверь, — на нары…
Обед был праздничный. На столе возвышались над тарелками бутылки с шампанским, с водкой и с Крымскими винами.
— Вот это да!
— Умеют принимать на Маяке.
— Вино убрать, — сказал я.
Все стихли.
— Как? — удивился Кудымов. — С прибытием не выпить. Сегодня же нам не летать.
— Убрать, — повторил я. Потом добавил: — До вечера. За ужином разрешаю положенную фронтовую норму и толькo. А будут ночные полеты — ни грамма. Чтобы запаху даже не было.
Шилкин и Капитунов печальным взором провожали убывающие со стола бутылки.
— А счастье было так близко и возможно, — вздохнул Шилкин.
Я промолчал: знал, что меня поймут правильно. Как бы не соблазнительно было опрокинуть по стаканчику после трудного перелета, да еще перед таким обедом, но обстановка может измениться в любую минуту и эскадрилья окажется небоеспособной. А настроение — состояние довольно гибкое. После вкусного борща тишина лопнула, как перетянутая струна, и пошли гулять за столом.
Посмотреть новые самолеты и познакомиться с отличившейся на Перекопе эскадрильей приехало из Севастополя большое начальство. Я узнал только бригадного комиссара Степаненко и еще нескольких полковников. Они ходили по стоянке, заглядывали в капониры, гладили ладонями зеленую перкаль обшивки истребителей, перебрасывались словами, не имеющими отношения к эскадрилье, задавали техникам и механикам пустяковые вопросы, на которые мог бы ответить любой моторист.
От свиты отошел молодой полковник:
— Здравствуйте, товарищ старший лейтенант, — сказал он приветливо, как старый знакомый. — Вы командир этой эскадрильи? Я — начальник тыла ВВС, Желанов Матвей Данилович.
Я ответил на приветствие. Полковник спросил, в чем нуждается эскадрилья.
— Откровенно сказать, я еще сам толком не знаю в чем… Покажет будущее… У меня нет еще инженера, нет техсостава, начальника штаба. Все выявится в процессе работы.
— Понимаю, — согласился полковник. — В случае чего, обращайтесь ко мне.
— Карету бы, товарищ полковник, дали какую-нибудь, — сказал я вкрадчиво. — А то тут вон какие перегоны мерить придется. Или летчиков по тревоге перебрасывать.
— Машину не обещаю, — вежливо ответил Желанов. — Посмотреть надо…
На другой день, готовясь к полетам, я с Алексеевым стоял у капонира. Подъехала черная эмка. Шофер, захлопнув за собой дверку, спросил.
— Вы Авдеев?
— Я, а в чем дело?
— Полковник Желанов прислал. Вот ваша машина, а вот я — ее водитель, Марченко Юрий Петрович, тридцати пяти лет от роду. Одессит.
На последнем слове он сделал особое ударение.
Батько Ныч
У генерала Острякова была привычка не давать пустых обещаний, как и не откладывать разрешение наиболее важных и самых простых вопросов «на потом». Конечно, если решение их и выполнение обещаний зависели только от него. Не забыл он и обещания вернуть в эскадрилью батьку Ныча и доукомплектовать ее техническим составом.
Батько Ныч ощутил на небритом лице солнечные лучи, но у него не хватало сил открыть глаза. Проснулся он мгновенно от оглушающего рева штурмовика, проскочившего над грузовиком. Пригнувшись через ветровое стекло, насчитал шесть «илов». «Пошли на задание, — отметил он про себя. — Губрий с Херсонесского…». И тут же за балкой, в которой слоями отстаивался плотный туман, он увидел перед собой край земли, а дальше стеною стояло море.
— Дa, здесь уже отступать некуда, — сказал Ныч самому себе.
Немолодой, с подстриженными черными усами водитель в надвинутой на широкие брови армейской пилотке угрюмо молчал, не сводя с дороги глаз, покрасневших от пыли и бессонницы. Всю дорогу он не проронил ни слова, о чем-то думал. Кто знает, какие мысли были в его голове.
Машина, притормаживая, катилась под уклон. Ныч раскуривал трубку и смотрел, как взлетают на Херсонесском маяке самолеты. Вдоль полуострова длинным белесым пологом висела пыль.
Меня на аэродроме Ныч не застал.
Комиссар дал прибывшим с ним людям передышку до обеда — отмыть дорожную пыль, побриться, заменить белье. Потом построили себе под жилье землянку. А на другой день начали сооружение крытых капониров для самолетов. Работали от рассвета и до темна…
Ныч достал из нагрудного кармана блокнот, на ходу перечитывал записи:
«Обращение Военного Совета Черноморского флота:
Врагу удалось прорваться в Крым. Озверевшая фашистская свора гитлеровских бандитов, напрягая все свои силы, стремится захватить с суши наш родной Севастополь — главную базу Черноморского флота.
Товарищи черноморцы!
В этот грозный час… каждый боец, командир и политработник должен драться с врагом до последней капли крови, до последнего вздоха… Летчики Черноморского флота! Сокрушительным шквалом металла поражайте вражеские танки, артиллерию, пехоту. Бейте в воздухе и на земле фашистских стервятников, мужественно защищайте родной город от вражеских сил!..».
«Нужно рассказать людям, как это обращение выполняется. О героях 54-й береговой батареи, которые 30 октября под командованием старшего лейтенанта Заики первыми открыли огонь по танкам и мотопехоте противника. Три дня сражались батарейцы без подкрепления, уничтожили у деревни Николаевки несколько танков, броневиков и автомашин, более 800 гитлеровских солдат и офицеров. И о женах артиллеристов надо сказать. Как в самые критические минуты помогали они своим мужьям. А вчера вступила в бой 30-я батарея капитана Александера».
Ныч пересек заросшую густым бурьяном балку, вышел у крутого спуска на дорогу недалеко от Казачьей бухты. Легкий ветерок донес с севера тяжелый вздох крупнокалиберной пушки. «Трехсотпятимиллиметровая, — угадал комиссар. — А если заговорят все батареи? Да, добавить корабельный огонь. Вот только пехотушки маловато, пехоты. А настроение своим ребятам нужно как-то поднять…»
Так, идя по накатанной дороге, батько Ныч готовился к беседе с ребятами о положении дел на Севастопольском участке фронта.
Сзади сердито рявкнула сирена — такие сигналы бывают лишь на легковых машинах начальства, Ныч вздрогнул от неожиданности, сошел на обочину. Его обдало густой пылью. Машина, проскочив, взвизгнула тормозами, прошуршала скатами по дороге и остановилась. Пыль, лениво оседая, отступала на другую сторону дороги, и Ныч увидел серый ЗИС-101, а рядом у передней открытой дверцы стоял генерал Остряков.
— Николай Алексеевич? — невольно вырвалось у Ныча.
— Здравствуй, Иван Константинович, — сказал Остряков, улыбаясь. — Здравствуй, дорогой Батько. Вот, где судьба свела. Садись подвезу.
Он пожал Нычу руку и открыл заднюю дверцу машины. Отказываться было неудобно, тем более, что встреча обрадовала Ныча, приятно — за два с лишним года не забыл его Остряков, сзади по походке или по фигуре узнал. Генералом он видел его впервые. Ныч поблагодарил, сунул голову в машину, на заднем сиденье увидел летчика, майора Наумова. Тот подвинулся.
— Ты чего такой серьезный? — спросил Остряков, когда машина тронулась.
— Веселого мало, Николай Алексеевич, — ответил Ныч. — Не знаю толком, что людям сказать о прочности нашей обороны.
— Могу подсказать. Позавчера прибыла из Новороссийска восьмая бригада морской пехоты. На подходе части Приморской армии. Правда, сильно потрепанные, но они доукомплектуются и через несколько дней будут вполне боеспособны. Ожидаем еще кое-какую подмогу. В воздухе, сам видишь, пока мы хозяева. Мало?
— Спасибо, товарищ генерал, обрадовали вы меня.
Перебросились еще несколькими словами. Машина остановилась у капонира истребителя командующего, а самолет И-16 Острякова стоял рядом, не замаскированный. У самолета ходил командир Херсонесской авиагруппы подполковник Константин Иосифович Юмашев. Встречал командующего. На вид Юмашеву было под пятьдесят, а на самом деле месяц назад ему исполнилось тридцать девять. Он был летчиком-истребителем высшего класса, прекрасным командиром и воспитателем. Жизнь прошел он трудную. Много было в ней несправедливых обид. Особенно в 1937 году. Но кто считался сейчас с обидами, когда враг стоял под Севастополем!
Командующий выслушал доклад Юмашева, потом механика о готовности самолета к вылету, пожал обоим руки. Юмашев и Наумов ушли к своим самолетам.
— Что пишет твоя Евдокия? Прости, забыл отчество, — спросил Остряков.
— Ануфриевна, — подсказал Ныч.
— Понимаешь, запамятовал. Почти три года не видались. У тебя помню сынок был. Марат, что ли?
— Марат, Николай Алексеевич. Четыре годика уже.
— А у меня детей нет. — Остряков задумался.
Они распрощались. Ныч смотрел, как, сотрясая воздух ревом моторов, красиво взлетели три тупорылых И-16. Генерал Остряков, подполковник Юмашев и майор Наумов ушли на боевое задание…
Как Ныч оказался с нами? Основные силы Черноморской авиации размещались тогда по Кавказскому побережью. Штаб ВВС флота эвакуировался из Севастополя в Новороссийск. По неотложным делам Остряков должен был вылетать на Большую землю, а это не всегда удавалось. И командующий пришел к выводу, что держать в Севастополе своего заместителя генерала Ермаченкова незачем. Пусть руководит авиацией флота на Кавказе, а на главном участке боевой деятельности, в Крыму, будут он и новый комиссар. Вместо погибшего бригадного комиссара Степаненко могут утвердить Кузенко. Заменить Михаила Григорьевича он никогда не сможет — не того уровня и размаха человек, но помощь все-таки какая-то будет. И еще — необходимо иметь в Севастополе свой штаб, вернее, филиал штаба ВВС флота. Придется взять туда оперативную группу и майора Савицкого, а полковника Калмыкова оставить со штабом ВВС в Новороссийске.
К прибытию командующего накопилось много и других дел по всем службам. Но прежде, чем заняться всем этим, Остряков приказал начальнику штаба немедленно вызвать старшего политрука Ныча, дать указание Павлову, чтобы направил с ним в Новороссийск необходимое 5-й эскадрилье число авиамехаников и разных специалистов.
— Здесь передадите Нычу группу «безлошадных» летчиков и отправите ближайшим попутным транспортом в Севастополь, — закончил Остряков. — Хорошо успели бы на теплоход «Львов».
Погода испортилась. Дул холодный, пронизывающий ветер. На теплоход «Львов» Ныч успел. Тридцать девять летчиков ему передали в порту. Привезли их на машинах. Знакомых почти не было.
Но Ныча это не волновало. Разных людей повидал он в своей жизни, в каких переделках только не побывал, и всюду выручало его умение быстро оценивать обстановку и принимать подчас самые неожиданные решения. На этот раз он не стал никого расспрашивать и не произнес напутственной речи, а дал команду немедленно погрузиться на теплоход.
Верхняя палуба гудела шмелиным роем: так много набилось туда пехоты. Изредка попадались артиллеристы, интенданты, саперы. Разместить летчиков большого труда не стоило: пехотинцы уважительно расступались, давали им место.
Ныч пошел с сержантом Бугаевым выяснить, когда отчалит «Львов», будут ли сопровождать его катера или подводные лодки. Вернувшись, попал к началу какого-то митинга на верхней палубе. Оратор, летчик-богатырь, говорил, взобравшись на бочку:
— Товарищи! За нашу великую Родину сражались выдающиеся русские полководцы Александр Невский и Александр Суворов. За твердыню Черноморского флота, за прекрасный город Севастополь отдал свою жизнь адмирал Нахимов. Красные моряки устанавливали в нем Советскую власть. Не пожалеем и мы своих жизней, а отстоим родной Севастополь…
… Сильно штормило. Пассажиров «Львова» укачало. Особенно мучились те, кто редко бывал на море. На ногах стояли только Ныч и Бугаев. У турецких вод с наступлением темноты теплоход взял курс на Севастополь. От качки начала изнемогать команда. Бугаев ушел помогать в кочегарку, как бывало юнгой на «Челюскине». Ныч стоял на капитанском мостике.
К утру море немного успокоилось. Облака поднялись, местами в разрывах голубело небо. Вскоре увидели полоску берега. Из-за тучки вывалился немецкий гидросамолет, поспешно сбросил торпеды и снова скрылся. Торпеды в теплоход не попали. Откуда-то появился наш истребитель Миг-3. Люди, наблюдая за самолетом, переговаривались. Более получаса вертелся он впереди — то уходил в облака, то неожиданно выскакивал оттуда, снижался, кружил над серыми волнами. Потом на смену Миг-3 пришла пара Як-1. На самом краю Херсонесского мыса показался маяк. Вправо от него в сторону Балаклавы — рыжий обрыв берега.
— Вот он, товарищ комиссар, наш дом родной, — сказал Бугаев, глядя на маяк. Он только что вылез на ветерок из кочегарки, раскрасневшийся, глаза от жары и бессонной ночи сузились.
В Севастополь прибыли благополучно, а разгружаться на Угольной пристани пришлось под бомбежкой. Но все остались целы. «Юнкерсы» налетали дважды, и оба раза наши истребители и зенитки заставляли их сбрасывать бомбы, куда попало.
Ныч собрал своих подопечных. После такого путешествия сделал перекличку. Летчики, механики, мотористы и оружейники — все были налицо. Когда пришли автомашины, Ныч отдал Бугаеву свой чемоданчик, назначил Шилкина старшим группы и отправил всех на Херсонесский аэродром в распоряжение полковника Юмашева, а сам уехал в штаб ВВС. В штабе майор Савицкий показал Нычу на дверь командующего.
— Велел доложить ему лично, — сказал он.
Накануне генерал Остряков, закончив дела в Новороссийске, побывал на нескольких аэродромах Кавказского побережья, а сегодня утром прилетел с Наумовым в Севастополь. Стоянки их самолетов на Херсонесском аэродроме были рядом со стоянками 5-й эскадрильи.
Остряков и Наумов зашли в штабную землянку. Их встретил лейтенант Мажерыкин. Из-за стола, сколоченного из ящиков, вскочил краснофлотец. Я в это время был в воздухе. Патрулировал над главной базой.
— Передайте командиру, — сказал Остряков, — сегодня прибудет к вам пополнение и комиссар.
И вот он, затянутый в реглан, батько Ныч, стоит у порога его кабинета, рапортует о прибытии теплоходом «Львов» того самого пополнения, которое так ждут и штурмовики, и бомбардировщики, и истребители.
Остряков вышел из-за стола, подошел к Нычу и протянул ему руку.
— Рад снова видеть тебя, Иван Константинович, на земле севастопольской.
Он усадил Ныча в кресло, пододвинул поближе стул и сел напротив.
— Вижу вымотало тебя в дороге, отдохни минутку, задерживать не стану, — заговорил Остряков. — Скажи, Иван Константинович, как лучше всего освободить сейчас командира эскадрильи от наземных хлопот?
— Думаю, товарищ командующий, эти хлопоты можно целиком переложить на нелетающих комиссаров и адъютантов эскадрильи.
— Верно думаешь. А если комиссар — летчик, справится один адъютант?
— Какой адъютант, а вообще адъютанту такая тяжесть не под силу, — сказал Ныч. — Ему, как начальнику штаба эскадрильи, нужно бы иметь в таком случае писаря и помощника по хозяйственной части. Ну, вроде старшины подразделения. По штату таких единиц нет, но их можно всегда подобрать из сержантов — механиков или оружейников.
— Правильно, Батько, — поддержал Остряков. — А так как ваша эскадрилья является здесь основной боевой единицей на скоростных истребителях, то, хоть и не летаешь ты, Иван Константинович, а писарем и старшиной придется обзавестись. Людей у вас прибавится, а самолетов мало. И не потому, что невозможно каждому летчику дать свой самолет. Просто ставить эти самолеты негде. На одном истребителе будут летать два, а то и три летчика. Механикам придется работать посменно. По сути ваша эскадрилья — это половина полка. Теперь скажи, в чем нуждаетесь.
— Без нужды не живем, товарищ генерал. Но сказать пока ничего не могу.
Ныч наморщил лоб. Убийственно хотелось спать, никак не мог сосредоточиться, от этого ему неудобно было перед командующим.
Остряков с любопытством выжидал, смотрел на Ныча. Он умел ждать, пока собеседник соберется с мыслями.
— Что ж, скажешь потом. На аэродроме я бываю часто, увидимся. Никаких задач для эскадрильи разъяснять тебе не буду. Ты сам их прекрасно знаешь и разъяснишь любому. Еще не обедал? Сходи в нашу столовую, подкрепись. Да отоспись с дороги.
Остряков проводил батьку Ныча до дверей, сказал на прощанье несколько душевных слов и не сошел с места, пока за Нычем не закрылась дверь. Так Батько появился у нас на Херсонесе.
Ранние холода добрались и до Крыма. Аэродром продувало со всех сторон. Ветер высвистывал в голых кустах. Небо, сплошь затянутое серыми облаками, низко висело над продрогшей землей и стонущим морем. Несколько дней самолеты не поднимались в воздух. Лишь звено штурмовиков попыталось без прикрытия прощупать Ялтинское шоссе. Бреющим «илы» вышли в намеченный пункт, хорошо поработали над автоколонной противника, а домой едва добрались: пошел сильный дождь, не стало ни земли, ни неба.
С рассвета и до темна ждали у моря погоды и летчики 5-й эскадрильи. Кто коротал время в крытом капонире — помогал своему механику в доводке нового самолета, а кто в землянке отсыпался, или писал письмо на родину.
— Что будем делать, комиссар? — спросил я батьку Ныча.
— Нужно занять людей. Одни политбеседы могут в зубах навязнуть.
— С завтрашнего дня начнем учебу. Да-да. Самую настоящую учебу по мотору и самолету, по теории воздушной стрельбы, особенностям пилотирования над морем, штурманское дело… Мажерыкин! — позвал я начальника штаба… — Вот что, позвони инженеру, пусть идет сюда. И позови Алексеева. Сейчас будем составлять расписание занятий на завтра.
— Командующий, — настораживающе сказал Ныч.
Глянул в окно — у домика остановился серый ЗИС-101. Я вышел встретить генерала. Остряков, пожав руку, пригласил пройтись.
— Что скажете, Авдеев, если мы заберем у вас капитана Сапрыкина? — спросил командующий.
— Если на повышение, товарищ генерал, не смею возражать.
— На эскадрилью, — пояснил Остряков. — И еще к вам просьба: не найдется ли у вас летчика спокойного, невозмутимого, не шарахающегося от зениток?
— Так всю эскадрилью можно раздать, — неудачно пошутил я и мысленно обругал себя, не забывайся, мол, с кем говоришь.
— Вас не обижу, — мягко сказал Остряков и остановился. — А этот нужен в фоторазведку, на и-шестнадцатые. Посмотрите, пожалуйста.
В фоторазведку согласился пойти Алексей Колесников. Близких друзей у него в 5-й эскадрилье не осталось, а там был Ваня Урядников, с которым Алексея связывала крепкая дружба.
На другой день генерал прислал в 5-ю эскадрилью трех, знакомых по Тагайлы пилотов, — лейтенанта Богданова, старшину Ватолкина и сержанта Шелякина. Все трое участвовали в отражении первого натиска немцев на Севастополь.
За учебу взялись все. Алексеев заметил, что балагур Шилкин — серьезный и недурно подкованный летчик. У него даже тетрадь была, в которую он записывал, а потом анализировал наиболее характерные бои, проведенные им самим и его товарищами. Алексеев сказал об этом мне. Но у меня рассудительность Шилкина, его привычка анализировать, всесторонне обдумывать каждый элемент боя и лишь иногда принимать обстоятельные решения создали впечатление медлительности, вялости летчика.
— Знаешь, Костя, я за него боюсь, — сказал я своему заместителю. — Это же медведь. Там, где исход боя может решить соображение в доли секунды, он начнет анализировать. Его и на один вылет не хватит.
— До этого воевал как-то, — заметил Алексеев.
— Я видел его в Тагайлы. Ему бы после «мигов» на штурмовике летать, а не на «яке». «Як» — машина легкая, вёрткая, будто специально создана для сочетания быстроты мышления и действия. И вдруг…
— А видал, как он пляшет? Впечатление такое, словно он невесомый. Движения быстрые, четкие.
— Сам удивляюсь. Ну, ничего. Посмотрим его в деле. В первый же вылет пойдет моим ведомым.
И вот нашей шестерке дали вылет по тревоге на отражение налета немецких бомбардировщиков на Севастополь.
Из первого совместного вылета Шилкин и я пришли домой с победой — сбили по одному «юнкерсу». Неторопливый, рассудительный Шилкин не просто удержался в хвосте машины. Он, прикрывая командира, успевал следить за воздухом, мгновенно реагировал на все фигуры ведущего и с одного захода сбил попутно бомбардировщик противника.
Так мог драться только летчик высшего класса. В этом бою я убедился и в напористости капитана Рыбалки, и в слаженности действия всей шестерки в целом.
Алексеев и Бабаев, прилетевшие к нам незадолго до этого боя, вернулись с задания тоже довольные друг другом.
Они сбили вдвоем три «юнкерса»… А на другой день 5-я эскадрилья похоронила своего парторга и командира звена, замечательного человека, старшего лейтенанта Семена Михайловича Минина. Шел мокрый снег, море притихло. Батько Ныч произнес прощальную речь, многие плакали. Грохнули три ружейных залпа, но никто не уходил, пока над могилой не вырос рыжий с белыми камушками холмик. Мы знали, что мы на войне, но каждая такая потеря острой болью сжимала сердце.
Штурм
Пронизывающий до костей ветер словно задался целью выдуть за день все тепло из землянок и блиндажей, сердито выл в трубах печурок, перекатывал через мыс рев разъяренного моря и гнал, гнал без конца низкие, тяжелые облака. К вечеру он неожиданно выдохся, а на утро густой туман замаскировал землю. Море стало совсем беззвучным, словно и не было его рядом. На маяке время от времени глухо стонала сирена.
А потом пришла зима. Подморозило, припорошило землю первым снежком. Правда, снег на Херсонесском маяке съедало близкое дыхание моря, но летчики могли видеть его за бухтой Казачьей, и когда поднимались в воздух.
Плохая погода и некоторое превосходство в воздухе (перегруппировка войск Манштейна накануне второго штурма) дали нам возможность подготовиться к тяжелым боям. Мы много учили летчиков на земле, отрабатывали пары и их взаимодействие, сколотили постоянные группы по 4–6 самолетов. Ребята успели слетаться, узнать друг друга, изучить район, привыкнуть к морю.
Пятая эскадрилья весь день просидела на аэродроме в ожидании вылета, но удалось подняться только четверым на сопровождение штурмовиков. И то, как говорили потом летчики, зря проболтались — в воздухе не было ни одного немецкого самолета. А когда наши возвращаясь, показались над аэродромом, все ахнули: выпускали четыре «яка», а с задания пришло пять.
— Не твой ли дал приплод, — шутили над техником Федяниным, хозяином самолета Алексеева.
Пятым оказался прилетевший из Анапы лейтенант Гриб. В Анапе он остался один от прежнего состава 9-го полка и упросил генерала Ермаченкова отпустить его на защиту Севастополя…
Ранним утром семнадцатого декабря механики залили в систему охлаждения теплую воду, опробовали на всех режимах моторы и укутали их стегаными на вате чехлами. На аэродроме воцарилась гулкая тишина.
Ждали, как и вчера, приказа на вылет.
Мажерыкин остался на КП у телефона, а Ныч и я вышли на воздух.
— Подышим свеженьким, — сказал Батько, посасывая погасшую трубку.
Он снял крышку самодельной зажигалки, загородил ладонью фитиль и чиркнул по колесику. В этот миг загрохотало на переднем крае — по всей подкове от Бельбекской долины до Балаклавы. Я механически глянул на ручные часы, было ровно восемь.
— Подышали!
Грохот усиливался. В дело вступила наша артиллерия, горизонт заволакивало дымом. Нам не стоялось на месте. Смотрели на север, а спиной чувствовали: вот-вот откроется дверь, и Мажерыкин крикнет: «По самолетам», мысленно мы были уже в воздухе.
И вот открылась дверь домика КП. Это я скорее ощутил, чем услышал. Наружу вывалился Кудымов. Крикнув мне и Нычу «пока!», майор побежал к капонирам.
Взлетали «яки», «миги», «ишаки», «илы», «пешки». По горизонту вороньими стаями тянулись «юнкерсы» и «хейнкели». Вокруг них — белые хлопья разрывов зенитных снарядов. Недалеко от маяка прогуливались «мессеры». Аэродром прикрывала четверка «мигов». В гуле моторов тонули все другие звуки. Казалось, вся авиация поднята, а о нашей эскадрилье забыли.
Но вот от командного пункта авиагруппы подъехали на старом ЗИСе генерал Остряков, подполковник Юмашев и майор Наумов.
— Кулаки чешутся? — спросил Остряков. — У меня тоже. Ваша задача — я не стал передавать ее по телефону, знал, увижу вас лично — ваша задача: как только самолеты начнут возвращаться с задания, взлетайте всей эскадрильей и смените группу прикрытия аэродрома. Потом оставите у маяка четверку, а с остальными с полчаса побарражируете у Севастополя. Вопросы будут?
— Все ясно, товарищ генерал.
— Выполняйте. Ну, что же, Константин Иосифович, — обратился Остряков к Юмашеву, — по большому кругу? А вы, Николай Александрович, что скажете?
— По большому, Николай Алексеевич…
Командующий сам рвался в бой.
Красиво взлетела их тройка и с набором высоты ушла на север.
Вскоре вернулись с задания двухкилевые «петляковы», 5-я эскадрилья поднялась в воздух. Сели «петляковы», приземлились подоспевшие штурмовики, пошли на посадку истребители сопровождения, а в это время к Херсонесскому маяку приближалось до двадцати немецких бомбардировщиков, с группой прикрытия. Как и условились на земле, пары Авдеев — Шилкин, Алексеев — Бабаев и Ватолкин — Шелякин устремились навстречу бомбардировщикам. Их цели — разбить плотный строй, к которому невозможно было подойти ни сзади, ни сверху. Сбоку пошла в атаку не успевшая сесть дежурная четверка «мигов» Кудымова. Пары Рыбалки, Калинина, Данилко и Гриба закрутили карусель с «мессершмиттами». Строй бомбардировщиков раскололся.
Кто-то из четверки Кудымова поджег Ю-88 и тот упал в море. Я стрелял по «хейнкелю». Сбить его удалось только с третьего захода. Хотел атаковать и «юнкерса», сбрасывающего в море бомбы, но на боевом развороте помешали «мессершмитты».
Сбросили бомбы в море и повернули назад еще несколько стервятников. Остальные бомбили наш аэродром. По ним открыла огонь плавучая батарея. Одного «юнкерса» зенитчики сбили сразу и он догорал на заснеженном пустыре за Казачьей бухтой. Другой от прямого попадания снаряда развалился в воздухе и горящими кусками падал в бухту. Два другие с трудом держась, уходили под охраной своих истребителей. За пределами действия плавучей батареи пары Алексеева и Ватолкина поймали отставшего «юнкерса». Он отчаянно отстреливался. «Мессершмиттов» близко не оказалось и тогда наши летчики применили звездную атаку — одновременно с четырех сторон. И «юнкерс» свалился. Один гитлеровец успел выпрыгнуть и болтался на парашюте за городком 35-й батареи…
Воздух насытился запахом гари и тротила. Смешанный с пылью дым медленно оседал, смещаясь к бухте, за которой догорал «юнкерс».
— А здорово плавучка бьет, — заметил тогда на земле Бугаев.
— Бьет правильно, — согласился Кокин и, подумав, добавил простуженным голосом. — Когда ее трогают. А не тронь ее, всю жизнь простоит и ни одного выстрела не сделает.
Бугаев мотнул головой, продекламировал нараспев: «Нас не трогай — мы не тронем, а затронешь — спуску не дадим…».
И рассмеялся.
— Батарея «Не тронь меня», — сказал он. — Так что ли, Петр Петрович?
Неразговорчивый Бурлаков улыбнулся одними губами.
— Вроде бы так, — выжал он из себя.
С того дня новое название плавучей батареи «Не тронь меня» быстро распространилось и прижилось.
Вечером перед отъездом в Севастополь командующий заглянул в землянку технического состава 5-й эскадрильи. Посреди землянки на столбе дрожало красноватое пламя коптилки. Вторая коптилка из стреляной гильзы дымила под нишей окна на столе, сколоченном из ящиков. Табачный дым слоился густой синевой, как на заре туман в низинах. У печурки — кучка откуда-то добытых щепок. Пахло бензином.
Командующему ВВС, как и полагается, доложил инженер Макеев. Техники, механики, младшие специалисты застыли в ожидании, что скажет генерал. Лица усталые, обветренные, у большинства ещё не умытые после напряженного дня. Руки загрубевшие, с въевшимся в поры и вокруг ногтей маслом. Генерал Остряков поздоровался с каждым за руку, предложил сесть.
— Итак, друзья, — начал командующий. — Сегодня враг совершил вторую попытку взять штурмом главную базу Черноморского флота, наш любимый Севастополь. После двухчасовой усиленной артподготовки по всему фронту и массированных налетов авиации танки и пехота противника перешли в наступление. Несмотря на мороз, солдаты шли в одних мундирах, во весь рост. Шинели и теплые вещи им обещали выдать в Севастополе. У одного убитого немецкого офицера найден приказ командующего одиннадцатой армии генерала Манштейна. В нем сказано, что время выжидания прошло, и он надеется, что его головорезы разобьют нас в первой же атаке…
Генерал на минуту умолк, обвел всех глазами. Люди сидели тихо, лица их были сосредоточенно внимательны.
— Но Севастополь не пал, — продолжал Остряков. — Враг захлебнулся в собственной крови. Славные черноморцы отбили все, и самые яростные атаки противника. Участвовали в этом и мы с вами. Вы крепко потрудились сегодня, прекрасно подготовили все самолеты эскадрильи, ни моторы, ни оружие, ни приборы не подвели.
Но, друзья мои, скажу честно, положение на фронте тяжелое. Особая угроза нависла в районе Бельбека и Мекензи — на направлении главного удара. Здесь враг сосредоточил большие силы и стремится любой ценой прорваться к северной стороне. К тому же противник имеет возможность свободно подтягивать свои резервы. Мы же лишены такой возможности. Сегодня наши штурмовики и бомбардировщики нанесли большой урон гитлеровцам, а в наиболее критических местах помогли наземным войскам отбросить превосходящие силы противника.
Однако вы должны знать, что сейчас на Севастопольском фронте численность немецкой авиации в три раза больше нашей. У них триста самолетов, у нас — сто. А увеличить парк машин мы не можем: у нас нет аэродромов. Значит, каждому нашему летчику придется воевать за троих, а вам содержать самолеты так, чтобы они были всегда в боевой готовности. Для этого иногда придется не доспать, испытать и другие трудности. За время нашей работы здесь я убедился, что вы — народ выносливый, трудолюбивый, что порой делаете даже невозможное в данных условиях. В каждом бьется горячее сердце патриота и долг свой вы выполните с честью. Вижу, у вас сейчас жуткие условия быта. Ни умыться, ни обсушиться толком негде. Есть простуженные. Тут и от вас многое зависит, и наши тыловики что-то упустили. Во всяком случае нужны срочные меры. Какие будут вопросы?
Все молчали. Потом кто-то из техников, не то Федянин, не то Буштрук сказал:
— Товарищ генерал, хочу заверить вас, что техсостав никогда не подведет. А на условия мы не жалуемся. Ведь это еще рай против передовой. Там люди в окопах, хоть в дождь, хоть в мороз и под обстрелом, а мы в землянке, если и протопить нечем, зато в затишье. И на постелях спим. Все переживем. Лишь бы Севастополь отстоять…
Два дня бушевала на передовой смерть. Два дня сражались черноморцы с численно превосходящим врагом, много положили они солдат гитлеровской армии, сами несли потери, но не дали противнику прорвать линию фронта.
Третий день немцы начали снова сильной артиллерийской подготовкой и опять пошли в наступление. И еще два дня лилась кровь, стонала земля и ревело небо.
Остряков и подполковник Юмашев стояли на Малаховом кургане, наблюдали воздушный бой. Два «юнкерса» прорвались на Северную сторону, приготовились бомбить Севастополь. Наш Як-1 атаковал головную машину снизу и сбил ее с одного захода.
— Вот молодец, — похвалил Остряков, — чисто, мастерски сработал. Знать бы кто.
— Узнаем, товарищ генерал, — сказал Юмашев.
— Я видел и другие сбивали с одного захода, но у этого роспись своя, — сказал Остряков. — Обязательно узнайте его фамилию.
Когда налет на Севастополь закончился, а истребители улетели на аэродром, Юмашев позвонил на свой КП и попросил начальника штаба сообщить фамилию летчика который сбил сейчас над бухтой Северной «юнкерса». Через несколько минут с Херсонесского маяка передали, что сбил фашиста пилот 5-й эскадрильи сержант Шелякин.
— Хотел сам поздравить. Жаль, не успею на аэродром, — сказал Остряков. — Он достал свой именной пистолет и протянул Юмашеву. — Прошу, Константин Иосифович, вручите сержанту Шелякину от моего имени перед всем личным составом пятой эскадрильи.
Мы с комиссаром сидели на КП, знакомились с оперативной сводкой за день. Противник потеснил наши войска с Камышловского оврага, с Нижнего и Верхнего Чоргуна. С трудом удерживается нами станция Мекензиевы Горы. Нависла прямая угроза прорыва немцев на Северную сторону.
Около полуночи с КП группы дали отбой. Туман становился плотнее и до утра, сказали синоптики, не рассеется.
— Утром, в семь ноль-ноль быть в боевой готовности номер один, — приказал Юмашев.
К одиннадцати часам туман рассеялся. Вся авиация Севастопольского оборонительного района была поднята на подавление огневых точек противника. 5-й эскадрилье было приказано прикрыть отряд кораблей, который находился уже у мыса Фиолент и следовал в Севастополь. Остряков сам готовился к вылету с Юмашевым и Наумовым. Он сказал нам:
— Отряд кораблей идет под флагом командующего Черноморским флотом вице-адмирала Октябрьского. На борту кораблей — морская пехота и оружие. Они не могут ждать до наступления темноты, слишком тяжелая обстановка на Северной стороне вынуждает командующего провести корабли в Севастополь днем под огнем артиллерии и авиации противника. Приложим все усилия, но не допустим бомбардировщиков к кораблям. А это нам удастся в том случае, если мы не будем гоняться за одиночными самолетами, не будем стараться сбить «юнкерса» или «мессершмитта», не будем ввязываться в бой с истребителями противника. Их будет много и наша задача разбивать строй бомбардировщиков, заставлять их сбрасывать бомбы куда угодно, только не на корабли. Вопросы будут?
— Один вопрос, товарищ генерал, — обратился лейтенант Шилкин. — А что делать с тем, который сам в прицел влезет?
Остряков улыбнулся. Он любил шутку даже в серьезном деле.
— Таких разрешаю сбивать…
Корабли — впереди один за другим два крейсера, за ними лидер и два эскадренных миноносца — были уже напротив 35-й батареи, когда 5-я эскадрилья прикрыла над ними небо. Чтобы уравнять скорости, «яки», две четверки и одна шестерка ходили змейкой, на разных высотах и направлениях, охватывая одновременно большое пространство. Внизу пронеслась вдоль отряда кораблей тройка «яков». Летчики 5-й эскадрильи знали — это командующий с командиром 8-го полка и инспектором по технике пилотирования. Остряков набрал высоту, без труда нашел командира эскадрильи, подошел к нему справа и одобрительно кивнул головой. По радио сказали: «Так держать!». Тройка командующего с небольшим принижением для разгона скорости ушла в сторону Мекензиевых Гор — там обрабатывали немецкую дальнобойную батарею штурмовики капитана Губрия и звено Пе-2 старшего лейтенанта Корзунова под прикрытием истребителей 8-го полка.
К отряду кораблей приближались от побережья немецкие бомбардировщики. Одна девятка, вторая, третья, четвертая. Впереди первой девятки — шестерка «мессершмиттов», выше — вторая и по четверке на флангах.
Я приказал по радио четверке Калинина оставаться в непосредственном прикрытии кораблей, Алексееву и Бабаеву взять на себя головную шестерку истребителей, а сам повел две четверки в лобовую атаку первой девятки «юнкерсов».
Что творилось в небе через минуту, — описать невозможно.
Сражение растянулось на добрый десяток километров. В воздухе находилось одновременно семьдесят самолетов. Моя восьмерка прошла сквозь строй первой девятки «юнкерсов». Они шарахнулись в сторону, начали сбрасывать бомбы в море. Тоже самое произошло и с остальными тридцатью бомбардировщиками. «Мессершмитты» не смогли помешать нашим психическим атакам, так как мы, закончив одну, с ходу начинали вторую. Шли мы в лоб на врага, но драки не затевали, бросались от одной шестерки к другой, отвлекая их на себя. Калинин тоже уклонялся от боя с истребителями и пугал прорвавшихся «юнкерсов». Но так долго продолжаться не могло. Немецких машин было все же намного больше. Выручили нас возвращающиеся с задания «яки» и «чайки».
Море внизу кипело от бомб. А корабли, обогнув Херсонесский мыс, держали курс на Северную бухту. «Юнкерсы» освободились от груза и ушли. Вскоре покинули «поле» боя и «мессершмитты». А вокруг кораблей рвались снаряды немецкой дальнобойной артиллерии.
Штурмовики снова пошли на ее подавление. По огневым точкам противника били наши береговые батареи, крейсеры и эсминцы. 5-ю эскадрилью сменила эскадрилья 8-го полка.
А корабли уже разгружались в Сухарной балке.
Бабаев в этот день сбил шестой немецкий самолет — сравнял свой счет со мной и Шилкиным. Лидером по-прежнему шел Алексеев, он уничтожил семь машин.
Вечером из оперативной сводки мы узнали, что к нам прибыла 79-я бригада морской пехоты. После высадки на берег она ушла в бой и вернула утраченные накануне позиции. Немцы были выбиты за Бельбекскую долину, станцию Мекензиевы Горы. Угроза на Северной стороне была ликвидирована.
Командующий гитлеровскими войсками в Крыму фон Манштейн с горечью был вынужден записать в своем дневнике: «На этом сила наступающих иссякла. Командиры наступающих дивизий доложили, что дальнейшие попытки продолжать наступление не обещают успеха. Командование армии дало приказ окончательно приостановить наступление, после того как веские причины, приведенные им в докладе по телефону штабу фронта, убедили в необходимости этого и Гитлера. Более того, нам пришлось, скрепя сердце, отдать приказ об отводе войск с северного участка фронта на высоты севернее долины Бельбека»…
Бабаев и другие
Последний снаряд во второй день нового 1942 года разорвался у берега Казачьей бухты четверть часа назад. Близился вечер. ЗИС командующего остановился у нашего КП. Я выбежал к машине. За рулем сидел Остряков. Он, видимо, спешил засветло попасть в город. Пожав руку через открытую дверцу, сказал:
— Слышали о нашем десанте? Сегодня Керченский полуостров освободили. Передайте товарищам. Ну, как ты тут?
— Ничего, товарищ генерал. Пока без жертв.
— Наступление немцев на Севастополь сорвалось, — сообщил Остряков. — А КП немедленно переведите в землянку. Завтра пришлю специалистов по блиндажам. Выбирайте подходящее место и пусть начинают.
— Спасибо, товарищ генерал.
Это КП было сделано общими усилиями и явилось также укрытием для личного состава. Домик ведь уже был уничтожен немцами.
— Ночью летать не придется — аэродром закроет туман, — продолжал Остряков. — На завтра погоду обещают хорошую, поработаем. Выделите пару сильнейших летчиков, лучше Алексеева и Бабаева, для встречи с Большой земли дальнего бомбардировщика.
— Есть, товарищ генерал.
— Время вылета и прочее вам сообщат с КП Юмашева.
Утром на большой высоте над морем Константин Алексееев и Борис Бабаев встретили ДБ-3ф, обогнули с ним Крымский полуостров почти до Каркинитского залива, а оттуда, с вражеского тыла, снизившись, спокойно вышли на цель.
Бабаев видел сбоку, как от дальнего бомбардировщика снизу отделилась «пятисотка» — пятьсоткилограммовая авиабомба. Она нехотя отстала от самолета, перевалилась на голову и вскоре пропала из виду. За ней посыпались из раскрытых люков «сотки» — стокилограммовые фугасные бомбы. На заснеженной земле взметнулся сильный взрыв и еще десяток поменьше, над ними расплылись черные пятна дыма.
Цель ожила. Медленно потянулись снизу огненные трассы от автоматических зенитных пушек. Впереди, чуть выше появились белые пушистые шапки — рвались крупные зенитные снаряды. Бомбардировщик и истребители начали маневрировать. Они торопились поскорее выйти из зоны обстрела, пересечь, пока нет в воздухе «мессершмиттов», линию фронта, и выскочить над Бельбекской долиной к своим.
Осколок угодил в самолет Бабаева. Кабина заполнилась горячим паром — перебило трубку системы водяного охлаждения. Стекла запотели, ничего не стало видно и дышать нечем. Борис откинул назад фонарь кабины, протер перчаткой лобовое стекло. Район цели с его сильной противовоздушной защитой остался позади. Летчик почувствовал характерный запах перегретого двигателя. «Сейчас заклинит мотор», — подумал он обеспокоенно. Прикинув, что запаса высоты хватит, чтобы, планируя, дотянуть домой, немного успокоился. Только бы не попались «мессеры». Драться с ними без мотора немыслимо.
Выключено зажигание, мотор заглох. Только ветер свистел за бортом. Дальний бомбардировщик и «як» Алексеева удалялись, а он, Бабаев, отставая, терял высоту. Алексеев не мог, не имел права бросить прикрываемый им самолет. Бабаев остался один со своею бедой. Такова судьба подбитого истребителя сопровождения. К несчастью, беда в одиночку не ходит. Самолет загорелся. Потянуло через кабину дымом. Пришлось закрыть фонарь.
Прыгать в тылу врага Бабаев не хотел, а когда перетянул фронта, сначала местность была неподходящая, а потом высоты уже не хватало. Самолет горел. Нестерпимо жгло руки и лицо, дымилась одежда. С секунды на секунду взорвутся бензобаки. Бабаев открыл фонарь, отстегнул ремни. Выпрыгнул из кабины при скорости самолета 130 километров в час, сжался в комок. Упал он на ровное летное поле. Люди видели, как он, дымя, катился клубком, потом недвижимо распластался. В это время приземлившийся без летчика самолёт взорвался на пробеге.
Бабаев открыл глаза и удивился — он еще жив! Голова его лежит на колене медсестры. Сестра держит в руках стаканчик и говорит: «Выпейте». Он покорно выпил, жидкость теплом разлилась по телу, запершило в горле. Лекарство оказалось чистым спиртом. Кто-то подал прогоревший шлемофон.
Пока его осматривал в лазарете врач Максимкин, с Херсонеского маяка приехали на «эмке» я и Ныч. В тот же день попутным самолетом Бабаева отправили в сочинский госпиталь.
Пятого января в 5-й эскадрилье был большой праздник. Всем младшим специалистам присвоили воинские звания на один ранг выше. Пилотам-сержантам — командные воинские звания лейтенантов. Механик флагманского самолета сверхсрочник Петр Петрович Бурлаков получил воентехника 2 ранга. Лейтенанты Николай Шилкин и Михаил Гриб — старшего лейтенанта. Старшие лейтенанты Константин Алексеев, Борис Бабаев, Степан Данилко, Владимир Капитунов и я стали капитанами. «Были бы сейчас капитанами Женя Ларионов и Семен Минин», вспомнил погибших батько Ныч — ему присвоили батальонного комиссара. Звание майора получил бывший комэск 5-й эскадрильи Иван Степанович Любимов.
По этому случаю Остряков приехал вечером с Наумовым — уже подполковником — в эскадрилью и поздравил каждого «именинника» лично. Пожал руку и прибежавшему на радостях к старым друзьям аэрофоторазведчику Алексею Колесникову — на рукавах его сверкали золотом новенькие нашивки лейтенанта. А Любимову — командующий не был с ним знаком, но много слышал о нем хорошего от Наумова — и Бабаеву генерал послал в Кавказские госпитали поздравительные телеграммы.
Утром командующий по пути на КП группы заглянул в землянку 5-й эскадрильи, попросил собрать летчиков. Когда все пришли, Остряков заговорил негромко, будто перед ним был один собеседник:
— Товарищи, — генерал взглянул на ручные часы. — Сейчас наша артиллерия начнет обработку переднего края противника и войска, обороняющие Севастополь, перейдут в наступление.
В землянке стало совсем тихо.
— Командование одиннадцатой немецкой армии, — продолжал генерал, — вынуждено было снять из-под Севастополя часть своих сил и бросить на Керченский участок, чтобы не пустить наш десант дальше в Крым. Вчера наш десант высадился в Евпатории.
Летчики зашумели.
— Вчера наш морской десант высадился в Евпатории, — повторил Остряков, не повышая голоса, и снова наступила тишина. — Но что там происходит, нам неизвестно. С десантом — батальоном морской пехоты под командованием капитана второго ранга Буслаева и военкома Бойко — радиосвязь прервана. Высадивший десант тральщик «Взрыватель» — командир капитан-лейтенант Трясцин — на базу не вернулся. Сегодня предполагалось высадить в Евпаторию еще один батальон морской пехоты, но необходимо срочно выяснить обстановку. Кто из вас желает вылететь сейчас же на разведку?
— Я, — хором ответили летчики.
— Разрешите мне, товарищ генерал, — попросил я…
— Ну, что же, попробуй… Ни пуха тебе, ни пера…
Облачность стояла сплошная и невысокая, так что в случае опасности всегда можно было найти в ней надежное убежище. Я вышел на Евпаторию с моря. Низко пронесся над городом. Ни на улицах, ни во дворах не увидел ни одного человека. Пролетел над домом, где жил до войны семьей. У театра развернулся и прошел вдоль бульвара до мелководного соленого озера, Майнаки, осмотрел аэродром — всюду безлюдно. Никого не было и на побережье, у осиротевших санаторных и общих пляжей. Решил с моря просмотреть берег, где летом обычно скапливались «дикари», и дорогу на Саки.
Море сильно штормило. Огромные волны беспрерывно накатывались на пологий берег Вдали на берегу у старых причалов виднелась сквозь слабую дымку какая-то большая темная масса. Вскоре она обрела очертания корабля, выброшенного на мель. Он, зарывшись в песок, немного завалился на бок. С правого сверкнул огонь. Корабль жил. Он вел огонь по танкам, которые приближались к нему по дороге от Саки. Я с ходу атаковал головную машину. Но пули и двадцатимиллиметровые пушечные снаряды истребителя для брони танка все равно что брошенная в него горсть мелкой гальки.
Танки, не останавливаясь, били по неподвижному кораблю из пушек, а я ничем не мог помочь обреченному, но не сдающемуся экипажу черноморцев. Пролетел совсем низко, прочитал на левом борту тральщика надпись: «Взрыватель» и улетел. По дороге на Евпаторию двигались немецкие мотомехчасти. Обстрелял одну колонну и ушел в море. Надо было срочно возвращаться на базу.
По результатам разведки командование бросило бомбардировочную и штурмовую авиацию на уничтожение войск, подтягиваемых немцами к Евпатории. 2-й батальон морской пехоты был уже на эсминцах на траверзе Евпатории.
Но в этот день севастопольцам очень не повезло. После артиллерийской подготовки наши войска перешли в наступление. Немцы срочно перебросили из Симферополя свежие резервы, сосредоточили на переднем крае всю мощь своей артиллерии и авиации и наступление захлебнулось. Высадить в Евпатории 2-й батальон морской пехоты помешал сильный шторм. Бомбардировщики и штурмовики нанесли движущимся на подавление десанта частям противника ощутимые потери, но удержать их с воздуха невозможно.
А в Евпатории между тем одновременно с высадкой десанта вспыхнуло восстание. Солдаты и офицеры румынского артиллерийского полка береговой обороны с перепугу бросили свои позиции и сбежали. Черноморцы и повстанцы быстро справились с немецкой охраной и овладели городом. Им нужна была срочная помощь, чтобы они могли удержаться.
Но помощь не пришла: на море разразился сильнейший шторм, и корабли не смогли подойти к Евпатории.
Невозможно было оказать поддержку евпаторийскому десанту и седьмого января. Он погиб в неравной борьбе, как и высадивший его экипаж тральщика «Взрыватель».
Понесла утрату 5-я эскадрилья. Прикрывая бомбардировщики Пе-2 в районе дороги Саки — Евпатория, пал в воздушном бою лейтенант Шелякин.
В госпитале капитан Бабаев залеживаться не стал. Его потянуло в свой полк. Пятая эскадрилья встретила капитана так, будто вернулся он с того, света. Первым расцеловал его Шилкин. Он по-медвежьи облапил Бабаева, прижал к своей богатырской груди так, что тот взмолился.
— Раздавишь, Коля.
— Эх Боря, Боря. Знаешь, как я рад, что мы снова вместе. А за косточки свои не бойся. Если они целы остались после того прыжка, то ничего с ними до самой смерти не случится…
В десять ноль-ноль в эскадрилью позвонили с КП авиагруппы: в Севастополь идут корабли; по наблюдению постов в море ушел немецкий самолет-торпедоносец; надо найти его и уничтожить. Батько Ныч хотел было ответить, что лететь некому, все на задании. Не пошлешь же на такое дело необстрелянных. Но вовремя спохватился и сказал твердо:
— Сейчас вылетит капитан Бабаев…
Борис ушел навстречу кораблям бреющим полетом. Техники, мотористы, прилетевшие с Бабаевым, пилоты-новички и батько Ныч вылезли на капониры и наблюдали за его полетом. Самолета противника никто с аэродрома не видел. Его заметили, когда он стал отстреливаться от наседавшего «яка». Короткая дуэль произошла низко, у самой воды. Торпедоносец ткнулся носом в воду и исчез, а Бабаев поднялся выше, покружил над морем и вернулся домой.
Комиссар расцеловал Бориса, поздравил его с седьмым лично сбитым фашистским самолетом: ведь он сравнял свой счет с Константином Алексеевым и разделил с ним славу лидеров истребительной авиации Черноморского флота. Вечером ночные полеты не намечались. Летчикам разрешили отметить День армии и флота. Чествовали Бабаева. Командующий тоже поздравил его с победой, сказал, что представил Бориса к правительственной награде.
Домик у дороги при въезде на мыс Херсонесский наполнился веселым многоголосьем. Летники пели под гитару, плясали под баян, а Бабаев отсыпался.
Тут, как на грех, приехал из газеты корреспондент, нашел Бабаева, попросил:
— Расскажите, товарищ капитан, как вы сегодня «хейнкеля» сбили.
Бабаев, не отрывая от подушки головы и не открывая глаз, ответил:
— Сбил дядя Егор.
Корреспондент повторил свой вопрос несколько раз, но ответ был тот же:
— Сбил дядя Егор.
Когда корреспондент отстал от него и отошел от койки, Бабаев приоткрыл один глаз и рассмеялся. Борис страшно не любил фотографироваться, а особенно, чтобы о нем писали в газетах. Его пугали громкие слова.
— Что делать? — жаловался корреспондент комиссару эскадрильи. — Мне без этого материала нельзя в редакцию возвращаться. В номер. Вы понимаете, в номер.
Батько Ныч завел его в свою конуру, усадил на табурет и вкратце рассказал, как все было. А потом порылся в тумбочке, нашел любительский фотоснимок: Бабаев у своего самолета, и отдал его корреспонденту.
А наутро Бабаев увидел себя в газете. Сверху крупными буквами в три строчки — заголовок: «Слава отважному летчику капитану орденоносцу Бабаеву, сбившему вражеский торпедоносец!»
Заметка у снимка была небольшая и без подписи. А в конце — те слова, которых больше всего боялся Бабаев:
«Слава герою-летчику!
Слава отважному соколу капитану орденоносцу Бабаеву, уничтожившему семь фашистских самолетов.
Летчики-черноморцы! Деритесь с врагом так же отважно и бесстрашно, как капитан Бабаев!».
Борис ходил с газетой по землянке и каждого спрашивал, заглядывая в глаза:
— Кто рассказал?
— Ты, — бросил Ныч. — А разве не помнишь?..
Утром 2 июня новый страшный огонь обрушился на наши позиции. Стало ясно: гитлеровцы начали третий штурм Севастополя.
То, что последовало далее, ошарашило даже видавших виды гитлеровцев. Потрясенный фон Манштейн записал в дневнике: «То, что далее последовало, было последним боем армии, который не мог изменить ее судьбы. Даже для сохранения чести оружия этот бой был бы излишен, ибо русский солдат поистине сражался достаточно храбро!..».
Но эти непонятные русские дрались. И как! «Плотной массой, — это рассказ того Манштейна, — ведя отдельных солдат под руки, чтобы никто не мог отстать, бросались они на наши линии».
Открылась последняя страница Севастопольской эпопеи.
Истребители с Куликова поля не успели рассеять одну группу немецких бомбардировщиков, как прорывалась к Севастополю другая, третья, седьмая — сотни «мессершмиттов» и «юнкерсов» шли на город.
Перед вылетом нашей эскадрильи пришла на стоянку военфельдшер Вера Такжейко.
Как только истребители легли на курс, Вера, не обращая внимания на артиллерийский обстрел аэродрома, забралась с механиками на капонир и оттуда наблюдала за воздушным боем. И, как всегда бывает, где соберется больше трех человек, все смотрят молча, а один комментирует свои наблюдения вслух, будто другие видят не то же самое. Нашелся свой комментатор и на капонире. Смотрите, смотрите. Наши с «мессерами» схватились. Четверка оторвалась. Догоняет «юнкерсов». «Чайки» выходят из игры.
— Да ладно тебе, — попытался остановить комментатора Бугаев.
Вера улыбнулась, должно быть, вспомнила в связи с этим что-нибудь свое и незаметно слезла с капонира, а голос комментатора доносил до нее свежую информацию:
— Двое сзади атакуют «юнкерса». Один сверху, другой снизу. «Юнкерс» задымил, падает… Последние слова догнали Веру на земле. Она выскочила из-за капонира, чтобы взглянуть на падающего «юнкерса» и замерла: вслед за горящим немецким бомбардировщиком падал истребитель. Me-109 или Як-1?
А истребитель перестал падать. Он быстро снижался над морем. Тянул к Херсонесскому аэродрому.
— Не дотянет.
Вера бросилась навстречу теряющему высоту самолету. Бежала так, как ни на одном кроссе еще не бегала и не слышала позади себя топота кирзовых сапог и подкованных яловых ботинок — её догоняли товарищи. У берега перепрыгнула через валуны — море стало на ее пути. А самолет был уже совсем близко. Он шел у самой воды. Вот-вот заденет консолью гребень волны и разлетится на куски.
Когда механики добежали до валунов, на камнях валялась сумка с красным крестом и флотская девичья форма, а маленький доктор быстрыми саженками плыла к искусно приводненному «Яку», по фюзеляжу которого бежал к хвосту капитан Калинин. Он прыгнул в воду, отплыл, чтобы не засосало его в воронку тонущего самолета и больше не двигался, словно ждал, пока подберут его, как на земле, санитары.
На берегу Вера перевязала ему раны, оделась. Калинин пришел в сознание.
— Как же я доплыл! — удивился Иван Куприянович.
— Так и доплыли, — засмеялась Вера. — Только не пытайтесь вставать. Вы потеряли много крови…
Сколько раз за войну маленькому храброму медику приходилось говорить эти слова раненым, сколько жизней она спасла, сколько ран перевязала! Ведь Вера Такжейко познала все ужасы отступлений и радости побед, прослужив в армии вплоть до 1946 года. Она оставалась с ранеными в огненном Севастополе даже тогда, когда с Херсонесского маяка взлетел последний советский самолет. Вот что она позднее написала мне об этих днях:
«30 июня 1942 г. улетела вся последняя авиация с Херсонесского маяка. В Севастополь вошли немцы. Все советские части отступили к нашему маяку. Бомбили нас страшно с 5 утра до 21 часа. Бомбы сыпались разных калибров. Вверх жутко было поднять глаза — сплошные самолеты. Кроме того, фашист бил еще из тяжелой мортиры, которая стояла в Бахчисарае. Это был кромешный ад. Я никогда позже за всю войну не видела так много убитых и раненых. Их некуда было девать. Перевязочного материала не было, рвали простыни и перевязывали.
Трудно описать весь ужас, пережитый в последние дни обороны Севастополя. Очень больно было смотреть на раненых, которые просили пить, есть, а у нас ничего не было. Колодцы и склады с продовольствием разбомбили. Армия без питания, воды, но самое главное, не было патронов, нечем было стрелять.
Уходила я из Севастополя 4 июля вплавь, т. е. в 2 часа ночи ушла в море, а подобрал меня в пятом часу утра катер-охотник. Я очень тогда перемерзла и тяжело заболела. Катера эти были посланы за армией для отступления. Подойти к берегу они не могли, берег сильно обстреливался. И вот, кто мог плавать, тот и плыл к катерам, экипажи которых спасали людей и поднимали на борт».
Так наш маленький доктор Вера Такжейко уходила вместе с последними частями из пылающего Севастополя, за оборону которого она по праву награждена орденом Красной Звезды.
Затишья зимой под Севастополем не было. Во всяком случае для нас, летчиков. Они трижды в день умирали и воскресали, чтобы снова сесть в кабину и уйти в бой. Гремел воздух над Херсонесским маяком. Круглые сутки гудели на аэродроме моторы самолетов. Одни уходили на задание, другие возвращались, третьи тут же, неподалеку от маяка, схватывались с «мессершмиттами».
Воздух раздирали пулеметно-пушечные очереди и неистово ревевшие на форсажах моторы. А кому из нас приходилось особенно туго, тот спешил пройтись над Казачьей бухтой. И тогда рявкала автоматическими пушками спасительница наша — плавучая батарея «Не тронь меня». «Мессершмитт» ошалело шарахался в сторону и уходил. Иногда батарее удавалось и сбить вражеский самолет.
С утра и до вечера с небольшими перерывами на Херсонесском аэродроме рвались крупнокалиберные снаряды немецкой дальнобойной артиллерии. Горели самолеты, падали люди.
Прикрытие аэродрома и главной базы — Севастополя, налеты на аэродромы противника, сопровождение штурмовиков и бомбардировщиков на передний край и в тыл врага и всегда с боями над землей к над водой — этим жила наша 5-я эскадрилья.
Чаще всего приходилось прикрывать транспорты и боевые корабли на переходе морем. Улетали мы километров за сто пятьдесят в море и отгоняли там от кораблей «хейнкелей» и «юнкерсов», не давали прицельно направлять торпеды или сбросить бомбы.
Весна в Крым приходит рано. Стихают ветры и успокаивается море. Безоблачно небо. Лучшей погоды для летчиков придумать невозможно. Летали они кто сколько может, до изнеможения. Постепенно ухудшалось питание — все труднее и труднее стало пробиваться судам в Севастополь.
Третьего апреля пришел к нам большой праздник: 8-й истребительный авиаполк полковника Юмашева был переименован в 6-й гвардейский. Воевавшая в его составе 5-я эскадрилья вышла из состава своего 32-го авиаполка и стала 1-й эскадрильей 6-го гвардейского.
Человек-легенда
Весной мы потеряли генерала Острякова…
Война есть война. На ней приходится мириться с горечью утрат. Но врут те, кто говорит, что к ним можно привыкнуть. Люди уходят за ту немыслимую черту, которая называется бессмертием, а ты и сегодня помнишь их улыбку, слышишь их голоса. Голоса очень усталых, много поработавших людей. И боль не проходит: порой ее приглушит время, но какая-то мелочь — облака в небе, мелодия, звук, строки из книги — напомнит о друге, и снова все существо твое бунтует, не может примириться с кажущейся нелепостью случившегося. Хотя ты умом отлично понимаешь, какой нелегкой ценой дается на войне победа.
Так и тогда никто из нас не мог смириться с мыслью, что мы потеряли Николая Алексеевича Острякова, командовавшего Военно-Воздушными Силами Черноморского флота.
Мы часто стесняемся высоких слов, но я, действительно, влюбился в него при первой же нашей встрече. Встрече, сохранившейся в памяти, до мельчайших деталей.
Я тогда не уловил даже, что в нем главное: спокойный тон, дружеское расположение, уверенность, властность. Наверное, ни то, ни другое, ни третье. Был магический, редко встречающийся в людях сплав мужества, благородства, личного обаяния. Как бы то ни было, но от напряжения, с каким я встречал «высокое начальство», от моего смущения и неловкости не осталось и следа. Запомнилось — «он знает меня по имени отчеству», и поразило «генерал почти ровесник мне, ему не более тридцати».
— Поговорим здесь, — сказал Остряков. — Там, — он едва заметно кивнул головой в сторону землянки КП, — телефоны будут мешать и вообще тут нас никто не услышит.
Он легко тронул меня за локоть и, не торопясь, повел к берегу бухты, расспрашивая на ходу о службе, семье, родителях. На пологом спуске к отмели, покрытом торчащими из камней жесткими стеблями сухого бурьяна, генерал остановился, сощурил свои большие черные глаза, добрая улыбка едва тронула уголки его губ.
Таким почему-то и сохранился он в моей памяти. Обаяние его личности испытал тогда не один я.
Военно-морской министр Союза ССР тогда так охарактеризовал Острякова: «Если бы меня попросили назвать самого лучшего командира и человека среди летного состава ВМС, я назвал бы генерал-майора Острякова. Героизм, скромность, умение, хладнокровие и беззаветная преданность Родине — вот это Остряков».
Остряков, несмотря на то, что почти всегда получал за это строгий выговор от начальства, всегда сам рвался в небо.
Конечно, облетать командующему всю линию обороны от Бельбека до Балаклавы и самому оценивать обстановку на земле и в воздухе далеко не безопасно. Но после такого облета можно было срочно принять меры по ликвидации наиболее угрожающих направлений. Нанести удары авиации по самым значительным целям на напряженных участках фронта. К тому же генерал отлично умел драться с «мессершмиттами» и стрелял метко, хоть и стал истребителем всего месяца полтора назад. И при первой же возможности он всегда вступал в бой.
Как-то он позвонил мне и сказал:
— Приготовьте машину. Я решил сегодня поразмяться.
— Тогда и я с вами, товарищ командующий. Одного не пущу!..
— Интересно, кто из нас начальство? — съязвил Остряков.
— Начальство не начальство, но одного не пущу…
— Ладно, полетим вместе.
К вечеру подошел ЗИС-101. Вышел Остряков. Пожал руку.
— Здравствуй, Михаил Васильевич!
— Машина готова…
— Знаю, давай без официальностей… Он посмотрел на часы.
— Еще рановато. Пойдем после одиннадцати… Залезай в машину, поговорим…
Случилось так, что в ту ночь мы не вылетели. До утра просидели в машине. Настроение у Острякова было отличное. Он шутил, смеялся, много говорил.
В ту ночь я многое узнал о нем. А позднее общая картина дополнилась рассказами товарищей.
Он прилетел в Севастополь, когда противник стоял у Москвы, прорвал перекопские позиции и захват Крыма стал реальной угрозой. Черноморский флот морем эвакуировал из Одессы части Приморской армии, военно-морскую базу и часть гражданского населения. Это был самый тяжелый период отступления, мы еще не имели серьезных побед, если не считать мелких тактических успехов, а сознание собственного бессилия и серьезные ошибки руководства, которые мы не могли не видеть, не повышали нашего боевого духа. Психологический перелом в авиации наступил несколько позже, после окружения Севастополя и в этом большую роль сыграл Остряков.
Его хорошо знали на Черноморском флоте как командира передовой бомбардировочной бригады, которой он командовал после возвращения из Испании, знали как талантливого летчика и зрелого боевого опытного командира, хотя в то время ему было только 26 лет. Сейчас, после трех лет службы на Тихом океане, он вновь возвратился на Черное море, но уже в должности командующего ВВС. Первая встреча была на одном из Крымских аэродромов, где из боевого самолета ДБ-3, перелетавшего из Владивостока в Севастополь, вышел худощавый, очень молодой, выглядевший даже моложе своих тридцати лет человек с какой-то застенчивой и немного смущенной улыбкой. Он познакомил нас с экипажем самолета и командиром эскадрильи капитаном М. И. Буркиным, с которым он по очереди вел самолет из Владивостока. Кстати, интересная подробность, характеризующая большинство наших летчиков: Буркин упросил Военный совет флота оставить его в осажденном Севастополе в самые тяжелые для этого города дни и не отсылать на мирные аэродромы Тихоокеанского флота, который в то время не воевал. Его просьбу поддержал Остряков, и Буркин стал одним из самых бесстрашных летчиков-бомбардировщиков Черноморской авиации и впоследствии Героем Советского Союза.
Остряков совершенно не был похож на грозного и громкого «отца-командира», каких мы часто видели в кино, на сцене и в литературе. Это был прежде всего интеллигентный, разносторонний и на редкость скромный человек.
Он был командующим всего семь месяцев, но удивительно много событий вместилось в такой короткий период. Время было сжато до предела.
Как летчик в воздушном бою успевает прицелиться, выпустить очередь, учесть поправку, выпустить вторую очередь и передать результаты атаки по радио и все это за 6–7 секунд, так Николай Алексеевич за время своего командования успел сделать очень много. Имея опыт войны в Испании, он сразу указал на наши ошибки в использовании авиации, прекратились бесцельные, неорганизованные и неподготовленные полеты. Особое значение он придавал достоверности и объективности разведки целей. Очень часто сам вылетал на разведку, или, как он говорил, «командирскую рекогносцировку». Сам участвовал во всех крупных воздушных операциях и поэтому хорошо знал воздушную и наземную обстановку и результаты наших действий. В черноморской авиации резко сократились боевые потери, а у противника они возросли в несколько раз.
Личный пример, даже не столько пример, а скорее уверенность в своем командующем, который знает обстановку, не подведет, не побоится не только противника, но и грозного или еще хуже глупого начальника, все это удваивало наши силы.
Замечательной была его биография.
Николай Остряков был в нашей стране одним из пионеров парашютизма, признанным мастером парашютного спорта. Он совершил около 400 прыжков, в том числе несколько высотных и затяжных, подготовил тысячи десантников. За выдающиеся заслуги в развитии массового парашютного спорта, за отвагу и мужество правительство в 1935 году наградило 24-летнего Острякова орденом Красной Звезды. Это был первый орден будущего командира.
В 1936 году он уже стал первоклассным летчиком. Москвич, подросток-слесарь, еще юношей ушел по комсомольской мобилизации на строительство Турксиба, где пробыл два года, водитель московского автобуса, парашютист-испытатель, летчик-боец в Испании, командир бригады скоростных бомбардировщиков в Крыму, заместитель командующего Тихоокеанского флота, командующий авиацией Черноморского флота, депутат Верховного Совета СССР в 26 лет. Этот очень разносторонний человек закончил только семилетку, жизнь не позволила ему получить нормальное образование, и уже взрослым человеком он сдал экстерном за десять классов.
Ни секунды не раздумывая, он отправляется добровольцем на помощь республиканской Испании. Там он совершил 250 боевых вылетов, поражая друзей и врагов невиданной смелостью.
Отличный летчик, он не обучался ни в какой летной школе, кроме аэроклуба, где летал на спортивных самолетах, и только в Испании он освоил скоростные бомбардировщики СБ и успешно воевал на них.
Это он, Остряков, произвел 29 мая 1937 года легендарную атаку на фашистский карманный линкор, поразил корабль двумя бомбами, надолго вывел его из строя, перебил немало гитлеровцев.
Один этот подвиг выводил бы его в ряд непревзойденных асов неба. Но весь путь этого человека был подвигам. В 29 лет Остряков получил звание генерал-майора.
Опытный, зрелый военачальник, он не имел военного образования, так как не кончал никакого военного училища, только восьмимесячные курсы при Морской академии в Ленинграде, «генеральский ликбез», как их тогда называли, после возвращения из Испании.
Это свидетельствует о его исключительных способностях, железной настойчивости и работоспособности.
Такова биография комсомольца тридцатых годов, биография, которой хватило бы на несколько человек.
Как все хорошие люди, Николай Алексеевич редко говорил о ком-нибудь плохо, словно смущаясь, что о человеке нужно говорить неприятное.
Но если замечал какой-нибудь низкий проступок или трусость в бою, что в воздухе равносильно предательству, был суровым и даже беспощадным. Он часто повторял, что грубость и требовательность понятия разные, а крик и ругательства — признак бессилия и трусости. В землянке было много интересных разговоров, особенно вечером, когда земля и люди остывали от жарких боев, в ней мы делились самыми откровенными мыслями, даже самыми интимными в пределах скупой на эмоции, сдержанной мужской дружбы.
Мой боевой товарищ, Герой Советского Союза генерал-лейтенант авиации Н. А. Наумов, неоднократно дравшийся вместе с Остряковым, когда я рассказал ему, что собираюсь в этой книге писать об Острякове, прислал мне большое письмо. Были в нем, в частности, такие строки: «Мне через много лет пришлось некоторое время быть подчиненным маршалу Рокоссовскому и я убедился, что у них обоих было очень много общего, особенно в отношении к людям».
Как дети, которые вырастают как-то вдруг, неожиданно для окружающих, так неожиданно, с приездом Острякова, мы вдруг выросли на какую-то тактическую и оперативную ступень, прозрели и уже не могли не видеть своих прежних ошибок, а следовательно, и повторять их. На войне положительный опыт усваивается быстро, не успел освоить — ищи себя в списках погибших.
Его не боялись, как боятся «грозного» начальника, направо и налево раздающего взыскания, но я не знаю ни одного случая невыполнения приказа, приказания или даже просьбы Острякова. Уважали его как человека и командира как подчиненные, так и вышестоящие. У всех, кто знал Николая Алексеевича, к нему было какое-то особенно трогательное и предупредительное отношение. Здесь одного личного обаяния мало, каждый чувствовал его внутреннюю убежденность в собственной правоте, основанной на глубоком и всестороннем знании обстановки, и в доброжелательности по отношению к людям, вере в людей, и каждый старался быть таким, каким его хотел видеть Остряков. Когда он сам в боевых порядках летал на выполнение задания, это придавало уверенность и смелость всем летчикам и каждый стремился лучше выполнить эту задачу.
Случайно в воспоминаниях Н. А. Антипенко о маршале Рокоссовском я прочел:
«Его никто не „боялся“ в том смысле, что страха перед взысканиями не было. Было другое — боязнь не выполнить его приказ или просьбу, потому что уважение к Рокоссовскому, к его личным качествам и военному авторитету было всеобщим и искренним».
Таким же был для нас Остряков.
И вот его не стало. В это просто невозможно было поверить.
Как же случилось такое?
В частях было сложно с ремонтом авиационной техники. Количество самолетов, поврежденных в боях бомбежками и артиллерией, на аэродроме увеличивалось.
Единственные мастерские в Круглой бухте не успевали ремонтировать машины, пришлось организовать импровизированные ремонтные органы в лощине около аэродрома, куда не доставала дальнобойная артиллерия.
В один из апрельских дней из Москвы в Севастополь прилетел заместитель командующего морской авиацией генерал-майор Коробков, соратник Острякова по Испании. Он прежде всего решил посмотреть мастерские.
В этот день 24 апреля Наумов с Остряковым собирались проверить с воздуха, как работают наши штурмовики на переднем крае, но Остряков заехал на аэродром и сказал, что полет не состоится, так как он с Коробковым поедет в мастерские, в Круглую бухту.
Примерно через полчаса летчики увидели группу «юнкерсов», с малой высоты сбросивших бомбы где-то далеко от аэродрома, но это было настолько обычным явлением, что никто не придал этому никакого значения и никак не связывал эту бомбардировку с отъездом в мастерские командующего. И только через полчаса, когда запыхавшийся посыльный позвал Наумова к телефону и полковник Дзюба сдавленным от волнения голосом сообщил, что Остряков, Коробков и часть сопровождающих их офицеров убиты, мы поняли, что бомбили эти самолеты. Вначале никто не хотел верить этому, вернее, никто не мог представить себе мертвым Николая Алексеевича, которого мы видели час тому назад, как всегда, энергичного, улыбающегося, жизнерадостного, и в глубине души каждый, в том числе и я, надеялись, что, может быть, в этом сообщении какая-то ошибка. И только, увидев своими глазами нашего командующего мертвым, мы поняли всю тяжесть и непоправимость потери.
Через день мы хоронили Острякова, Коробкова и всех погибших при этом налете. Мне трудно передать все переживания и мысли, владевшие мной тогда, но щемящее чувство тоски, горя, какого-то не личного, а общего горя осталось и сейчас. Серые нависшие тучи казалось задевали за крыши, и апрельский пронизывающий ветер усиливал это состояние. Провожать на кладбище вышли все, кто мог; я не представлял, как много людей живет еще в развалинах Севастополя.
Траурный митинг, короткий и скорбный. Слезы была у самых мужественных людей. Изредка стреляла немецкая артиллерия, но снаряды шуршали где-то высоко над головой.
Когда опускали гроб, стало как-то особенно тихо, замолкли даже немецкие орудия и вдруг орудийные залпы всей береговой и корабельной артиллерии заставили задрожать землю. Это был последний салют командующему авиацией флота, боевому летчику. Салют не холостыми снарядами, а боевой салют, боевыми снарядами по противнику.
В сообщении Совинформбюро «250 дней героической обороны Севастополя», в частности, говорилось: «Слава о главных организаторах героической обороны Севастополя… войдет в историю Отечественной войны против немецко-фашистских мерзавцев как одна из самых блестящих страниц». В числе главных руководителей обороны названы и имена генералов Острякова и Ермаченкова.
Много лет прошло с той памятной, жестокой и огненной поры.
В каждый свой приезд в Севастополь я прихожу к тому месту, где погиб Остряков.
Сейчас здесь посадили цветы. А я вспоминаю небо в всполохах пожарищ, рев бомбардировщиков и спокойные, улыбающиеся глаза командующего.
…В самый нелегкий, смертельно трудный период обороны Севастополя командование ВВС Черноморского флота принял генерал-майор авиации Василий Васильевич Ермаченков. С ним мы начинали под Перекопом, с ним вступили в последнее сражение за город славы.
Наш «личный друг» Эрих фон Манштейн
Собственно говоря, я не имел тогда права на это.
Задание не допускало никакого самовольства. Оно было сформулировано точно и определенно: «Разведать дорогу на Ялту. Добытые вами сведения будут иметь чрезвычайное значение для оценки командованием общей обстановки. Поэтому в бой вступать категорически воспрещается. От возможных стычек уклоняться. Закончив разведку, немедленно возвращаться на свой аэродром».
Мы со Степаном Данилко вначале так и поступили. Уйдя в облака от показавшейся справа группы «мессеров», мы вышли на ялтинскую дорогу. Два раза почти на бреющем прошли над ней.
Не верилось, что внизу — война. Курились в голубой дымке горы, акварельно — весенняя зелень лесов плавно переходила в аквамарин моря. По дороге изредка пробегали машины. Пляжи, когда-то пестрые от разноцветных купальников, — пустынны.
Сделали на картах пометки. Пора возвращаться и домой.
Но разве можно на войне учесть в приказе все обстоятельства, которые могут возникнуть при выполнении боевого задания. И как тогда эти обстоятельства согласовать с приказом, когда логика событий подсказывает тебе — действуй!
Так случилось и на этот раз.
Солнце было у нас за спиной, и я вдруг отчетливо увидел на синеве моря белые буруны катера.
Он шел с большой скоростью. Насколько я знал, таких судов немцы здесь не имели. Значит — штабной!..
Что же делать?
Оглянулся. Посмотрел влево и вправо. Небо чистое. Вражеских самолетов не видно.
Слышу в наушниках голос ведомого:
— Миша! Слева внизу катер! Что будем делать?
Если бы я знал что делать? Ведь в приказе ясно говорилось: «В бой ни при каких обстоятельствах не вступать». И моему другу отлично это известно.
Узнает Василий Васильевич — влетит. Что делать? Еще минута, и на катере нас заметят. А, была, не была!
— Атакуем!
— Есть, атакуем! — радостным эхом сразу же отозвалось в наушниках.
Я перевел самолет в пике, поймал в прицел катер и нажал гашетки.
Белый настил катера окрасился кровью. Метнулись и рухнули на палубу темные фигурки. Щепа брызнула обломками по волнам. Выходя из пике, обернулся: пушка и пулеметы ведомого били точно по цели.
Повторяем заход. Катер густо задымил. Кажется, это конец!
Снова ложимся на курс.
Если бы я знал тогда!..
Впрочем, предоставим слово командующему немецкими войсками в Крыму генерал-фельдмаршалу Эриху фон Манштейну.
В 1955 году он издал в Бонне свои мемуары «Утерянные победы». Есть в них строки, непосредственно относящиеся к той памятной атаке: «…Я с целью ознакомления с местностью, — пишет фон Манштейн, — совершил поездку вдоль южного берега до Балаклавы на итальянском торпедном катере… Мне необходимо было установить, в какой степени прибрежная дорога, по которой обеспечивалось все снабжение корпуса, могла просматриваться с моря и простреливаться корректируемым огнем…
На обратном пути у самой Ялты произошло несчастье. Вдруг вокруг нас засвистели, затрещали, защелкали пули и снаряды: на наш катер обрушились два истребителя. Так как они налетели на нас со стороны слепящего солнца, мы не заметили их, а шум мощных моторов торпедного катера заглушил шум их моторов. За несколько секунд из 16 человек, находившихся на борту, 7 было убито и ранено. Катер загорелся, это было крайне опасно, так как могли взорваться торпеды, расположенные по бортам…
Это была печальная поездка. Был убит итальянский унтер-офицер, ранено три матроса. Погиб также и начальник ялтинского порта, сопровождавший нас, капитан 1 ранга фон Бредов… У моих ног лежал мой самый верный товарищ боевой, мой водитель Фриц Нагель…».
…Вернулись мы к Херсонесскому маяку с моря. Выждали в стороне, пока закончится бомбежка и появится хотя бы короткий перерыв в шквальных сериях артналета. Кое-как приземлились между воронок, укрыли в капонирах самолеты и — в блиндаж.
— О катере никому, — предупредил я Степана. — Понял?
— Как не понять.
Но Данилко меня подвел. Под большим секретом он рассказал о случае капитану Катрову. А тот — своему комиссару и заместителю. Через несколько дней о нашей атаке знали уже многие, кроме генерала Ермаченкова, посылавшего нас в разведку.
Но из радиоперехвата у немцев скоро и он узнал о событиях в море, участниками которых были мы.
Установить, какие «два истребителя» оказались в то время в названном гитлеровцами месте, не представляло, конечно, никакой трудности.
Впрочем, справедливости ради, следует сказать: нам не дали нагоняя за нарушение приказа.
Только один из приятелей бросил: «Ходят слухи, ты записался в личные друзья фон Манштейна».
— Выходит, да! — растерянно ответил я тогда. А про себя выругался: «Если бы я знал!..»
Если бы я знал!.. Или знал мой ведомый!..
Конечно, мы бы в третий раз атаковали катер, и, думаю, фон Манштейну уже не пришлось бы писать свои мемуары.
До смерти — четыре шага…
Мы пели тогда эту песню, вряд ли отдавая себе отчет в том обстоятельстве, что, собственно, слова ее имеют к нам самое непосредственное отношение.
Горький, жестокий «быт» войны!..
Были и горькие утраты, боевые и небоевые потери. Из молодых, прилетевших с Бабаевым пилотов, почти никого в эскадрилье не осталось: кто погиб в воздушном бою, а кто был ранен и отправлен в госпиталь.
Погиб капитан Рыбалко.
Пал в бою лейтенант Терентий Платанов.
Все суживался и суживался круг людей мыса Херсонеса.
Приехал к нам как-то Ермаченков:
— Чем не доволен, Авдеев?
— Если все перечислять, товарищ генерал, пальцев не хватит.
— А ты загни пока первый, указательный.
— Аэродром бы надо расширить, Василий Васильевич. Самолетов скопилось много, летают днем и ночью, а выбрать при взлете и при посадке наиболее уцелевшую прямую, чтобы не угодить колесом в воронку, стало почти невозможным. Отсюда и повышенная аварийность.
— И все? Что ж, расширим за счет очистки камней с южной стороны.
— А удлинить никак нельзя?
— Давай потолкуем, — предложил Ермаченков. — Можно было бы в сторону тридцать пятой батареи, но там капониры бомбардировщиков и штурмовиков. Пришлось бы убрать клуб у Губрия и часть капониров. А к морю, сам видишь, удлинять некуда.
— Там до моря еще метров триста будет, товарищ генерал. Одни камни.
— Садись в машину, посмотрим…
Подъехали к маяку и пошли осматривать северо-западную границу летного поля.
— Ты прав, Михаил Васильевич. Можно удлинить метров на двести. Уберем эти камни…
В это время зашли на посадку «яки». Вернулась с задания и группа Кости Алексеева. Все шесть, как и вылетали. Сбоку приятно смотреть на красивую посадку. Вдруг Василий Васильевич вытянулся, глаза его расширились.
— Самолет без летчика садится.
Я глянул на номер машины, рассмеялся.
— Это, товарищ генерал, «король» воздуха. Он небольшого роста, потому и не видно.
— Любопытно. Покажешь его мне.
На стоянке я представил генералу лейтенанта Макеева.
— Король воздуха? — спросил генерал. Макеев покраснел от смущения. — Силен. Что-то припоминаю. В Тагайлы не был? Был? Так я же тебя там видел сержантом. Теперь уже не забуду…
Как это не покажется странным, но в воздухе мы чувствовали себя сравнительно в большей безопасности, чем на земле. Остаться в живых при сложившемся тогда соотношении сил мы не надеялись, но в небе можно было по крайней мере подороже продать свою жизнь, а здесь, внизу, мы зависели от тысяч случайностей. Да и согласитесь, глупо летчику погибать на аэродроме, когда там, в вышине, он мог дать бой. Там он был боец. Здесь — вынужденный наблюдатель.
Как-то нам никак не давали подняться. Волна за волной шли вражеские бомбардировщики. Вот появились восемь «юнкерсов». С высоты 700—800 метров они положили серию бомб вдоль аэродрома. Смотрим — одна катится по земле прямо к нашему капониру.
— Ложись!
«Ну вот и конец», — подумалось тогда. Ждем взрыва минуту, две, три…
Поднимаем головы.
Темное тело фугаски лежит от нас метрах в пятнадцати. Замечаем, что стабилизатор сломан.
То ли что-то не сработало в этой махине, то ли работал в бомбе механизм замедленного действия — не знаю; только сразу она не взорвалась. Срочно прицепили ее тросом к трактору, оттянули к обрыву и сбросили в море.
Но вряд ли кто из нас назвал бы тогда эти минуты приятными.
Нет, гораздо свободнее, увереннее мы чувствовали себя в кабине самолета, на высоте. Там ты знал — что делать и как поступать.
— Эх, пар-ня-га, — выдохнул батареец, наблюдавший за самолетом. — Погибнешь ведь… А мы тут смотрим и н-и-чем помочь не можем…
Летчики отлично взаимодействовали с зенитчиками; если уж приходилось уходить от превосходящих сил противника, они старались заманить гитлеровцев под огонь наземных батарей.
Когда же разгорался воздушный бой, зенитчики выскакивали из укрытий. Подбадривали своих друзей. Понимали, что их не слышат, но иначе не могли.
И вот они видят, что подбитому самолету не сесть, некуда. На гору, усыпанную камнями? На кусты?
Летчик круто повернул машину и приземлил ее на нейтральную землю, между позициями немцев и нашими окопами. Рассыпаясь, самолет полз к нам.
Пилот выскочил и побежал, короткими рывками, укрываясь за каждую расщелину, камень. Вот теперь надо помогать?
— Пушки и пулеметы!.. Все! Огонь!..
Ливень огня обрушился на фашистские окопы…
Еще несколько метров… и он — у своих.
Солдатам казалось, что отбита у смерти их собственная жизнь. Летчика чуть не задушили в объятиях.
Самолет отправили на ремонт, летчика — в свою часть. Запомнили только номер самолета. Двадцать один.
А через несколько дней в небе опять появился двадцать первый.
— Вот отчаянный парень!
У села Бельбек на участке обороны было относительно спокойно. Только издалека доносились раскаты грома: дальнобойная артиллерия вела обстрел Севастопольской бухты. Гитлеровцы хотели сорвать разгрузку кораблей, привезших пополнение и боеприпасы.
Тогда в небе появились два штурмовика, под номером 21 и 23. Заговорили вражеские зенитки и пулеметы. Летчики набрали высоту. Потом с пикирования стали бомбить по краю кустарника Языковой балки.
Послышался сильный взрыв. Артиллерия противника замолчала.
На последнем заходе у ведущего появился черный дым. Не повезло летчику. Горящий самолет над территорией противника — это страшно. Но самолет развернулся на юг и на снижении пошел в нашем направлении, оставляя черный шлейф. Вот-вот вспыхнет огнем.
Все затаили дыхание. Вдруг над окопами немцев взметнулся столб пыли от севшего самолета. Не успела еще она развеяться, как летчик уже выпрыгнул, отстегнул парашют, перемахнул через колючую проволоку и упал. Все ахнули.
И вот тут-то и началось самое страшное — охота за человеком.
Прижимаясь к земле, пилот пополз в нашу сторону. Полз умело — по-пластунски. Так, как не всякий пехотинец сумеет.
Одного только не знал он, что полз по заминированному полю. Но, может, это и к лучшему. Бывает, на войне повезет…
Чтобы прикрыть его отступление, был открыт огонь из пулеметов и винтовок, а второй самолет все кружил над окопами противника. Поливал их свинцом. Не давал немцам поднять головы. Выручал друга. Вокруг него вздыбливалась земля, все теснее прижимались к нему слева и справа фонтанчики пуль.
Немцы открыли огонь из минометов. Словно угадал мысли солдат, тот в небе. Один заход, второй… замолчали минометы.
Но что это?.. Двадцать третий задымил и пошел в тыл противника.
А его друг в это время весь в крови добрался до своих. Взобрался на бруствер. Санитар перевязал раненого. Это оказался тот же «знакомый».
— Как зовут-то, чтобы запомнить?..
— Талалаев.
— А дружок твой?
— Лобанов.
Ночью бойцы подкрались к самолету, набросили на него трос и, уже со своих позиций, трактором потянули его на нашу сторону.
Фашисты всполошились, открыли беспорядочный огонь.
Но было уже поздно. Самолет, скрежеща, переваливал нашу линию окопов: правда он больше никуда не годился.
Михаил Талалаев дополнил то, что все мы уже знали:
— Разгромив дальнобойную артиллерию, мы сделали заход, чтобы возвращаться на базу. Я почувствовал прямое попадание, мгновенно среагировал — повернул машину в сторону наших позиций, пытаясь перетянуть линию фронта. По радио передал на КП: «Задание выполнил, а Лобанову: „Подбит мотор“».
Лобанов ответил: «Прикрываю».
Мотор давал перебои. Горячее масло жгло лицо и руки. Вскоре мотор смолк. Наступила тишина. Приземлился на передние окопы фашистов. Используя панику немцев, которые попрятались, ожидая взрыва, выскочил из кабины.
Я видел, как Женя Лобанов зорко следил за мной, громил врагов своими очередями. Я слышал, как пулеметы с нашей стороны прикрывали меня. Значит, можно попытаться… И вот — я здесь.
О судьбе Лобанова я узнал из донесения разведчиков полковника Губрия.
Женя снизился на бреющий и расстреливал фашистов, охотившихся за безоружным командиром. Когда Талалаев был вне опасности, Лобанов решил возвратиться на свой аэродром. Но увидев, что по нашему переднему краю бьют немецкие минометы, перенес огонь по огневым точкам противника. В это время он и был подбит.
Приземлился Лобанов за второй линией окопов противника, ближе к кустарнику. Выскочив из самолета, он пытался скрыться, но его окружили. Он залег в воронку от бомбы и отстреливался до наступления темноты.
Разведчики нашли тело Лобанова, прострелянное несколькими очередями. Вокруг воронки валялась горка гильз.
Обжитый аэродром Куликово поле, перепаханный бомбами и снарядами, стал совершенно непригодным для взлета и посадки. Частые налеты авиации и круглосуточный артиллерийский обстрел вынудили нас перебросить уцелевшие самолеты, летчиков и техников на Херсонесский маяк. Часть людей попала и в мою эскадрилью.
Летчики поселили в своем блиндаже старшего лейтенанта Ивана Силина. Друзья звали его за невозмутимо спокойный характер Иваном Тишайшим. Бывают люди чем-то приметные. Их знает весь полк, вся бригада или дивизия. До войны Силина — замечательного спортсмена — знала вся Евпатория, знал его и Севастополь. А, возможно, и весь Черноморский флот. Но летал он не блестяще, хотя сразу зарекомендовал себя решительным, храбрым летчиком.
Больше всего Силин обрадовался Бабаеву.
— Если бы не вы, товарищ капитан, не быть бы мне летчиком, — сразу начал вспоминать он свою курсантскую жизнь в Ейском училище. — Помните: «На сотом медведь вылетает»…
Разве ж забудет учитель такого бестолкового ученика. Долго его вывозили на У-2, пока самостоятельно полетел. Неистовость, с которой он трудно, но наверняка, шел по пути в небо: «Умру, но стану летчиком!».
Сам горячий Бабаев решил набраться терпения. А когда дело дошло до боевой машины, тут совсем ничего не получалось. Другого давно бы отчислили, а его нет.
Девяносто девять раз провез своего подопечного с собой, а потом в сердцах бросил:
— На сотом медведь вылетает, а вы?
— Ну коли медведь, то и я, — ответил Силин.
Посадил его Бабаев на старенький, видавший виды, но еще грозный И-16, — разобьет, так чтобы не жалко было, — и выпустил в первый самостоятельный на боевом. На разбеге Силин не замечал флажков, ограничителей взлетной полосы на травяном покрове, и машину постепенно развернуло так, что взлетел он с трудом, почти против старта. А когда садился, посбивал все флажки, облегчающие курсантам выдерживать направление посадки у «Т» и разогнал перепуганную стартовую команду. Зарулил Силин. Улыбка до ушей от счастья, и спрашивает Бабаева:
— Как, товарищ командир?
— Молодец! — похвалил Бабаев.
За такую посадку от полетов отстраняют, а он ему:
— Ну-ка, слетай еще разок, профиль посадки посмотрю.
Слетал Силин «еще разок» не лучше первого и снова просится в небо. Понравилось…
Долго вспоминали они, встретившись, жизнь в Ейском училище. Пока Силин не уснул на полуслове.
В землянке техников появился техник-лейтенант Миша Заболотнов. Раньше на его машине летал с Херсонесского аэродрома младший лейтенант Яков Иванов. После первого тарана Заболотнов и техник звена Иванько еще выправляли лопасти винта. А когда при втором таране Иванов погиб, Заболотнов попал на другой аэродром. Сейчас он снова на Херсонесе. И Иванько тут. И Петро Бурлаков.
Заболотнов вздохнул.
— Где теперь Кириченко? — спросил кто-то.
— Вы не слышали? Сидите тут в своих норах и не знаете. Погиб Кириченко, совсем недавно. На своем аэродроме погиб. Садился при обстреле, угодил в воронку, скапотировал, подбежали к нему, отвязали ремни, а он выпал из кабины и говорит: «Что это у меня, ребята, руки и ноги, как ватные, не шевелятся?». А сам улыбается. А потом мучился, ох, как же он мучился. Позвонок поломал. Просил пристрелить. Да разве поднимется у кого рука…
Тихо стало в землянке. Трещала махорка в цигарках. Чадил фитиль.
— Жаль, — протянул Рекуха. — Такие люди гибнут.
В это время дали воздушную тревогу. Мне позвонили с КП: «Немедленно вылететь всем на отражение налета».
— По самолетам!
Я побежал наверх, перескакивая через две ступеньки. За мной выкатился из блиндажа батько Ныч. Мы бросились к капониру.
«Юнкерсы» были уже над маяком. Один шел прямо на блиндаж. Мы не спускали с него глаз. Первая бомба отделилась от самолета над КП полка.
Сбросил!
— Наша, — крикнул Ныч. — Падай в воронку.
Он кинулся на меня сзади, навалился под нарастающий вой бомбы всей своей тяжестью.
Свист самой бомбы и вой сирены на ее стабилизаторе были настолько близкими и противными, что каждый из нас невольно втянул голову в плечи и подумал: «Все». В этот миг сирена оборвалась, заколыхалась под нами земля. Сильным взрывом оглушило обоих, дохнуло горячим газом, подбросило вверх и присыпало каменистой землей.
Выбрались, вскочили на колени. Говорим и друг друга не слышим. И вокруг все тихо. Видно, что летят самолеты, рвутся бомбы, а в ушах — страшный звон, кажется весь этот гул далеко-далеко. Ощупали мы друг друга, засмеялись.
Опомнившись, глянули в сторону блиндажа и оцепенели: перекрытие при входе в землянку было разворочено.
Убило Ивана Силина. Только один вылет успел сделать он сегодня с Херсонесского маяка!
Первым подбежал к нему Бабаев. Упал на колени, осторожно поднял Силину голову.
— Ваня…
И заплакал. Сколько видел Бабаев смертей, сколько раз самому заглядывала она в глаза — ни разу не проронил он ни единой слезинки. А тут не сдержался.
Летчики стояли полукольцом, сняв шлемы.
— Прощай, Силин, — сказал я. И совсем тихо добавил. — По самолетам…
Севастопольская арифметика
У нас не хватало ни машин, ни людей, но мы старались действовать по принципу завещанному нам Нахимовым: «В случае встречи с неприятелем, превышающим нас в силах, я атакую его, будучи совершенно уверен, что каждый из нас сделает свое дело».
Сквозь сплошной грохот рвущихся бомб и рев моторов дико выли сирены на пикирующих бомбардировщиках. Перед уходом в блиндаж Бабаев насчитал на подходе к Херсонесскому маяку до тридцати Ю-87 и столько же «мессершмиттов». Земля в блиндаже ходила ходуном, с потолка сквозь щели между бетонными плитами сыпался мелкий песок. Летчики сидели на нарах, нещадно дымили. В углу на столе адъютанта подрагивало пламя коптилки.
Стараюсь уловить что делается там, наверху. Бомбежка вроде несколько стихает: стали слышны жидкие залпы изувеченной бомбами плавучей батареи «Не тронь меня». Батько Ныч, дымя трубкой, плечом подпирал дверной косяк, как-то сразу, вдруг, наступила тишина. Значит, «Юнкерсы» улетели.
— Приготовиться к вылету. Всем.
А «всех» — то осталось — шестеро: три боевые пары Авдеев — Катров, Бабаев — Акулов, Макеев — Протасов. И еще — на правах заместителя командира эскадрильи «безлошадный» капитан Сапрыкин. Адъютант позвонил инженеру: «яки» при налете не пострадали. Значит, на задание пойдут все.
— Идем на сопровождение штурмовиков!.. В район Балаклавы.
Ребята засуетились — пока молчат дальнобойные орудия, нужно успеть к самолетам.
— Посмотрю обстановку, — сказал Ныч.
Мы пошли к выходу.
От густой пыли и дыма померкло клонившееся к морю солнце. Когда ветер отогнал пыль за Казачью бухту, Ныч увидел возле летного поля изуродованный трактор и отброшенный в сторону каток. «Пропал Падалкин», — подумал с сожалением комиссар. А краснофлотцы аэродромной команды уже засыпали щебенкой воронки. Поперечная полоса на крутой обрыв берега, кажется, особо не пострадала.
Из блиндажа один за другим стремительно выскакивали летчики.
Быстрее всех достиг своего самолета Бабаев. Остальных застал в пути очередной «сеанс» дальнобойной батареи. Снаряды разрывались не все, некоторые со свистом проходили над головой. Таким обычно не кланялись: они ложились с большим перелетом на другой стороне мыса, в камнях. Немцы думали, что там — наши подземные ангары.
— Ну, Иван Константинович, с твоего благословения, — сказал я. — Командуй тут.
— Счастливо, — пожелал Ныч.
Подбежал Марченко.
— Куда?
— Где тебя черт носит? Срочно. На старт!
Вместе все трое побежали к маленькому капониру-гаражу, влезли в эмку. Марченко рванул с места и, виляя между воронками, помчался на старт. Наперерез пыхтел трактор. Подъехали ближе. На сиденье был все тот же Вася Падалкин с орденом Красной Звезды на груди.
— Притормози, — сказал Ныч и, высунувшись из рамы ветрового стекла, крикнул трактористу. — Что случилось?
Падалкин остановил трактор, сбросил обороты двигателя.
— Бомба в трактор попала, товарищ комиссар, — пояснил Падалкин. — Пришлось за другим сбегать.
— А ты ж где был?
— В катке прятался. Я завсегда так при бомбежках. На этот раз швырнуло, синяков малость досталось, а так ничего…
На старте руководитель полетов и команда были уже в сборе. Ныч выбрался из эмки, поинтересовался, как руководитель полетов будет выпускать самолеты. И пока они говорили, Марченко поставил свою эмку в один ряд с санитарной машиной и полуторкой с хоботом-стартером, крикнул стоявшему у стартера водителю в армейской форме.
— Эй, старина! Привет!..
Метрах в пятидесяти вздыбилась земля, сверкнуло огнем. Марченко крикнул: «Ложись!» — упал оглушенный на землю. Следующий снаряд разорвется где-то точно через сорок секунд. Марченко поднялся на руках, сплюнул скрипевший на зубах песок.
— С тобой, старина, скорей в домовыну попадешь, чем домой, — сказал он водителю стартера. — Вставай, успеем по цигарке скрутить — сейчас прикурить даст.
Водитель стартера не шелохнулся. Марченко тронул его за плечо.
— Слышь? Развалился, будто на своей печи.
Но тот не отозвался. И тогда Марченко увидел за его ухом тоненькую струйку крови…
Я был уже в кабине. На плоскости стоял техник — Петр Петрович Бурлаков. Ныч подбежал, прокричал, что взлетать придется перед стоянками под обрыв.
Я первым ушел на взлет — рванул на всех газах из капонира и с ходу, не задерживаясь на старте, начал разбег. Оглянулся — к старту уже спешно рулил Катров.
С напряжением ожидая, когда машина оторвется от земли, я не заметил невесть откуда появившихся «мессершмиттов». Самолет наконец убрал над самым обрывом шасси, и тут я увидел протянувшиеся к нему дымовые трассы и два пикирующих «мессершмитта». Машина резко перевернулась через крыло и провалилась за обрыв морского берега. Все произошло так неожиданно и быстро, что многие, как мне рассказали потом, не успели даже среагировать или не поняли, что случилось. Решили, что меня сбили. Я же пошел на этот маневр, чтобы обмануть преследователей.
Рывок — и самолет резко идет в высоту.
Пока «мессершмитты» развернулись, Катров тоже взлетел и был уже рядом со мной. Теперь прикрытие аэродрома обеспечено. Одна за другой поднялись в воздух пары Бабаева и Макеева. «Мессершмитты» держались в стороне. Мы не сомневались, что они вызвали по радио бомбардировщиков. Так и есть — «Юнкерсы» не заставили себя ждать, но до их прихода Губрий успел выпустить эскадрилью штурмовиков. За ними поднялись остатки И-16.
Сопровождать штурмовики до цели нам помешали «мессеры». Над балаклавской долиной их оказалось более тридцати штук. Чтобы отвлечь внимание противника от штурмовиков, пришлось вступить в неравный бой. Сразу же закрутилась карусель. «Илы» прижались к земле и под прикрытием «ишачков» ушли на передний край.
Мы попробовали втянуть «мессеров» в бой на вертикалях, но их было во много раз больше и они не приняли такого боя. Борис Бабаев удачно пристроился к одному «мессершмитту», открыл огонь. Гитлеровец загорелся, начал падать. Но и Бабаев, как мы узнали потом, тут же почувствовал запах гари в своей кабине и увидел выбивавшееся из-под приборной доски пламя.
Он дал едва уловимое для атакующего скольжение на крыло, оглянулся. Стрелявший по нему «мессершмитт» тоже горел и неуклюже зарывался носом, а сзади сверху от самолета Акулова еще тянулись к нему огненные нити. «Мессершмитт» будто висел на них, на этих тоненьких светящихся нитях, и, как только они оборвались, рухнул вниз.
А в кабине уже нечем было дышать. Бабаев сдвинул назад фонарь — пламя тягой метнулось вверх, лизнуло лицо. Фонарь пришлось закрыть. Пламя снова спряталось под приборную доску.
Припекало ноги, ежились от близкого огня полы реглана, жарились в кожаных перчатках руки. А из боя выходить нельзя — очень невыгодное положение, чтобы стремительно уйти вниз или выброситься на парашюте. Нужно как-то предупредить Акулова, пусть пристроится к паре командира эскадрильи или «короля» воздуха. Одного сразу собьют. Но как предупредить: радиопередатчик уже не работал. Кабина наполнилась дымом — через стекла ничего не видно. Пламя ударило в лицо. Пришлось снова сдвинуть назад фонарь. От сильной тяги воздуха огонь метнулся вверх, охватил Бабаева. Ремни сиденья были заранее отстегнуты. Бабаев сделал горку, толкнул ручку от себя.
Его выкинуло из пылающей кабины, бедром ударило о стабилизатор. «Надо бы резче отдать ручку, — подумал он. — Только бы не прогорел парашют». Но раскрывать его не спешил — вокруг бешено носились десятки самолетов, где свои, где чужие, сразу не разобрать. Дернул за кольцо, когда земля была уже близко.
Приземлился Бабаев неудачно. Нога запуталась в стропе, и, когда он коснулся земли совхозных огородов, купол парашюта потянуло ветром, стропа подсекла ногу и летчик упал лицом вниз, выбил передние зубы и рассек верхнюю губу. Обожженными руками освободился он от парашюта, с трудом поднялся на ноги, недалеко увидел свой самолет, вернее, догорающие груды обломков. Несколько западней виднелись рядом еще два костра — сбитые им и Акуловым «мессершмитты».
В той же стороне приземлялся парашютист. К нему бежали с разных сторон люди. Бабаев тоже хотел бежать, но не смог. С трудом отошел от раздуваемого ветром купола в сторону. Посмотрел вверх — чего доброго взбредет какому-нибудь фашисту добивать его на земле, лежачего, как осенью прошлого года под Перекопом Любимова.
А небо осатанело — ревело десятками моторов, лаяло пулеметными очередями, рычало пушками. Где же командир эскадрильи? Вон, левей. И Катров с ним, оттягивают бой к зенитной батарее.
— Товарищ капитан, горите! Вы горите, товарищ капитан, — женский голос вернул Бабаева к действительности. Обернувшись он увидел фельдшера Веру и санитарную машину. «Как вы сюда попали?» — хотел спросить он, не подумав, что не успел далеко уйти от аэродрома. Вера и выскочивший из кабины молоденький водитель-моряк помогли ему снять парашютные ремни и дымящийся реглан с выгоревшими на съежившихся полах дырами. Он стянул с головы шлемофон, обнажив взмокшие, запекшиеся кровью светлые волосы.
Вера быстро перевязала капитану голову и принялась колдовать над его лицом, чем-то смазывала ожоги, а он непокорно задирая голову, следил за воздушным боем, что-то выкрикивал, давал советы, которые никто, кроме фельдшерицы и водителя, не мог слышать.
Из карусели вывалился один подбитый «мессершмитт» и потянул жиденький хвост дыма в сторону Балаклавы. Тут же большая часть «мессеров», одновременно пикируя, вышла из боя и стала уходить на большой скорости к линии фронта. Бабаев посмотрел туда. Ясно в чем дело: от передовой под прикрытием звена И-16 на бреющем возвращались домой «илы».
— Держись, ребята! — крикнул Бабаев.
— Товарищ капитан, в машину, — требовательно сказала Вера. — Быстренько.
— Одну минутку, доктор. Одну минутку, — бормотал летчик, не отрывая взгляд от самолетов. — Да что же это, что делается! Они не видят, доктор.
И ребята, будто услышав его голос, выдвинулись вперед и пошли навстречу врагу. Истребители встретились в лобовую на очень малой высоте. Два «мессершмитта», не выходя из пике, ударились о землю и взорвались.
— Так их. Молодцы, — шептал Бабаев, — молодцы.
Верткие И-16 проскочили сквозь строй в шесть раз превосходящего противника и оказались выше его, в более выгодной позиции. Но преимущество это было коротким, «мессершмитты» набирают высоту быстрее.
— Поехали, товарищ капитан, — настаивала Вера.
Он порывисто шагнул к машине и от боли в бедре замер. Еще раз глянул, как дерутся И-16. Один весь в огне шел на посадку, другой падал, видимо, убило летчика, а третий еще держался. А где же «яки»? Бабаев напряженно оглядывал небо. Вот они! Нашим удалось оттянуть бой к 35-й батарее. Борис без труда отыскал три «яка» и отдельно два. Сосчитал «мессершмиттов» — одиннадцать. Командир атакует одного снизу. За ним разворачивается с набором высоты Катров. Выше Катрова идет сбоку «мессершмитт». А Катров плавно описывает дугу — не видит.
— Сашка-а! — заорал Бабаев.
«Мессершмитт» проскочил, а самолет Катрова будто придержали за хвост, из мотора — пар. От самолета отделился комочек.
— Жив Сашка, — обрадовался Бабаев.
Командир прекратил атаку, стал прикрывать Катрова, а тот падает и падает. Наверное, решил затяжным. Когда до земли осталось совсем ничего, Бабаев отвернулся. За спиной вскрикнула Вера…
В укреплениях 35-й батареи было совсем безопасно. Ни бомбы, ни снаряды не могли пробить массивных перекрытий. Под их защиту и поместили Бабаева в комнату, где в полумраке лежали подготовленные к эвакуации раненые летчики.
— Боря! — услышал он голос замкомэска Алексеева. — Ну что там? Что с тобой?
— Не спрашивай… не могу сейчас, — Бабаев тяжело дыша, отвернулся. — Катров разбился, — выдавил он через силу.
— Саша!?
— Парашют не раскрылся.
Алексеев больше ничего не спрашивал. Раненые перешептывались между собой, говорили о Катрове — его знали на Херсонесе все. Я зашел к Бабаеву вечером.
— Почему у него парашют не раскрылся? — спросил он.
— Вытяжной тросик перебило пулей.
Помолчали.
Похоронили Катрова в одном ряду с Мининым, Платоновым и Рыбалко.
— Штурмовики вернулись? — спросил Бабаев.
— Все сели… И один и-шестнадцатый.
— Ну? — удивился Борис. — Как же он выкрутился? Не знаешь кто?
— Не слыхал.
— Говорят, Коля Сиков, — вставил Акулов. Заговорили о старшем лейтенанте Сикове — лучшем воздушном разведчике в Севастополе, и о его женитьбе с «благословения» командующего на красавице журналистке из Севастопольского радио, об их свадьбе на огненном аэродроме Херсонеса. Жизнь везде есть жизнь. Это тут же подтвердил и Бабаев.
— Если ночью нас не отправят, Миша, — сказал он, — пусть кто-нибудь принесет мои вещички. А то и переодеться не во что.
— Ладно, — я горько улыбнулся. — Нашел, о чем беспокоиться. А тебе, Костя, что-нибудь нужно? Нет? Ну, ребята, выздоравливайте.
Батько просил: поклонитесь за нас Большой земле. Увидите Гриба или еще кого из наших — привет им.
На всякий случай расцеловались — кто знает, удастся ли свидеться.
Выручай, земля!
А потом был бой, в котором я до сих пор не могу объяснить себе — как мы выжили. Во всяком случае, сто шансов из ста были за то, чтобы мы свернули тогда себе голову.
Когда меня спрашивают «Какой бой был у вас самым тяжелым» — я в мельчайших подробностях вспоминаю все это…
В эскадрилью приехал генерал Ермаченков. Снял фуражку, вытер скомканным платком пот.
— У вас тут хоть дышать можно, с моря продувает. А в городе все горит — пыль, дым и жара — сдохнуть можно. Водичка есть?
Ему дали напиться.
— Раненых увезли ночью на подводной лодке в Сочи. А теперь потолковать надо. Сколько у тебя летчиков осталось? — спросил он меня, хотя без доклада знал, все знал отлично.
— Вот все перед вами, товарищ генерал. Командир звена гвардии лейтенант Яков Макеев…
— «Король» воздуха?
— «Король» воздуха.
— Ты смотри… — Ермаченков смотрел на Макеева с нескрываемым любопытством, — маленький, а поди ж ты, ни одному асу немецкому не уступает.
Яша густо покраснел.
— Его ведомый — гвардии лейтенант Протасов.
Командующий снова прервал:
— Иван Иванович?
— Я, товарищ генерал, — отозвался Протасов.
— Я же тебя сержантом помню.
— Мой ведомый гвардии лейтенант Афанасий Акулов, — представил я Петю. — И я.
— Небогато! — Ермаченков задумался. — Не густо. — Он потер кулаком свой круглый подбородок и, как бы подводя итог разговору, сказал. — Завтра подброшу тебе целую эскадрилью на «яках», в полном составе.
На другой день в условленное время я вылетел со своими ребятами встречать пополнение. Отбились от круживших над Херсонесом «мессершмиттов» и ушли на траверзу Балаклавы. «Яков» с Большой земли оказалось в строю не восемь, как сказал по телефону Василий Васильевич, а семь. Потом на земле выяснилось, что одного успели утопить два Me-109 — охотники. С трудом удалось избежать потерь новичков и при посадке на нашем перепаханном снарядами и бомбами «аэродроме».
Командующий прислал, как и обещал, эскадрилью на новеньких самолетах во главе с командиром — майором и комиссаром — капитаном.
Меня немного смутило, что командир был старше по воинскому званию и с академическим образованием. Но тут своя академия, херсонесская. Майор стал моим заместителем. А как быть с новым комиссаром, я не знал. Предложил выход он сам:
— Я прибыл сюда воевать и это главное, — сказал капитан. — Кем назначите меня для пользы дела, тем и буду: командиром звена, рядовым летчиком — мне все равно…
— Придется побыть день-другой без портфеля…
Командир и комиссар понравились. Хорошие парни — молодые, рвутся в бой. В глубине души мне вдруг стало жалко их всех: как они с такого аэродрома, в таких адских условиях будут воевать? Привыкать здесь некогда — завтра в бой.
Все, что можно было рассказать новичкам о работе истребителей на Херсонесском аэродроме, о задачах и особенностях воздушной войны под Севастополем, мы рассказали. Посоветовал пока посмотреть, как это делается практически.
Мы вылетели на рассвете до бомбежки и артналета и показали, как нужно разгонять «мессершмитты», чтобы не мешать взлету штурмовиков. Потом снова поднялись четверкой после бомбежки и после артналета. И взлет, и воздушный бой, и посадка выполнялись нами привычно: со стороны все это казалось необычайно просто. На третий вылет взяли с собой командира и комиссара. И они справились, хотя нам пришлось не столько вести бой, сколько оберегать их.
Среди дня выпала небольшая передышка. Пообедали. В блиндаж вбежал побывавший на КП группы Ныч и звонко, прямо с порога, потрясая бумажкой:
— Товарищи! Телеграмма Верховного Главнокомандования защитникам Севастополя. Все вскочили: где, что?
— Слушайте, — сказал Ныч и начал читать.
«Вице-адмиралу тов. Октябрьскому.
Генерал-майору тов. Петрову.
…Самоотверженная борьба севастопольцев служит примером героизма для всей Красной Армии и советского народа…»
Неожиданно майор повернулся ко мне.
— Товарищ капитан, разрешите, нам самостоятельный вылет, — попросил он. — Я сам поведу эскадрилью на сопровождение штурмовиков.
— А почему не со мной? — удивился было я. Но все сразу понял: после чтения телеграммы нетрудно было догадаться, что у каждого на душе.
Но, пожалуй, наш совет будет им не лишним.
— Хорошо! Только учтите, что неразрывность пары и взаимная выручка в бою, если на первый раз и не принесут вам победы, то спасут от многих неожиданностей. И еще — не гонитесь за количеством сбитых истребителей.
На всякий случай я все же послал с новой эскадрильей Макеева и Протасова и велел им держаться сзади эскадрильи метров на пятьсот и настолько же выше, чтобы сковывать в случае чего прорвавшихся «мессеров».
Сам же я взлетел парой вслед за штурмовиками и, набирая высоту, наблюдал за боевым порядком новичков. Майор был ведущий всей группы. Его заместителем — комиссар. Строй был боевой, но седьмой оказывался как бы лишним. То туда, то сюда ткнется.
«Пропадет сержант», подумал я тогда. Догнал его, показал: иди, мол, ведущим. Сержант кивнул головой, понял. Я и Акулов заняли места двух ведомых — появилось в строю третье полноценное звено. Давно не приходилось летать мне ведомым. Тут обязанностей — смотри в оба, да еще бы запасные глаза не мешало иметь на затылке. Осмотрелся. Опасности вроде бы близко нет. Все на своих местах. Глянул вниз — вздыбленная от множества взрывов, вся в дыму Бельбекская долина. Штурмовики начали свою работу. Значит — жди гостей.
И как-то сразу появилась небольшая группа «мессеров». Майор дал команду по радио и повел всю группу в лобовую атаку. Карусель закрутилась.
Пока штурмовикам ничего не угрожало, я не вмешивался в управление боем. Но вот показалась другая группа Me-109 — шесть штук. Их отсекает от «илов» пара Макеева. Она ведет бой в бешеном темпе. Немцы, с которыми кружилась в карусели группа майора, стали оттягивать бой на свою сторону. Тогда я дал сержанту команду поменяться местами, разогнал карусель, но оторваться от этой группы «мессершмиттов» не удалось. Немецкие истребители прибывали небольшими группами и со всех сторон «облепляли» девятку «яков». У комиссара сбили ведомого. Бросаюсь на выручку майору. Потом вдвоем с Акуловым спасаем сержанта. А в это время сбили майора и ведомого его звена. Второй ведомый майора пристроился к комиссару.
Я вызвал комиссара по радио и приказал ему немедленно пикированием выйти со своими ведомыми из боя, догнать штурмовики и прикрыть их на посадке.
Немного погодя, тоже самое приказал сделать Акулову и сержанту. Сам решил прикрыть их отход.
Вот здесь мне и досталось. Против меня шло сразу сорок самолетов противника.
Выполнение задачи и спасение было в одной — сбить их с толку сложными и стремительными маневрами, запутать, ошеломить.
Я не помню, что я выделывал тогда в самых фантастических каскадах фигур — пикировал, выходил в лобовые атаки, проваливался вниз.
Скоро немцы поняли, что «скопом» ничего не добьешься в такой свалке — только перебьешь своих. Часть «мессеров» отвалилась и пошла в догонку за «илами». Другая решила взять меня в клещи.
Мне казалось тогда, что от адского каскада фигур, в которые я бросал самолет, он разлетится вдребезги. Не раз помянул я потом добрым словом наших конструкторов: машина выдержала все, не подвела, спасла мне жизнь.
Во время этой сумасшедшей карусели я и не заметил, как оказался над Севастополем. С тревогой смотрю на стрелки приборов — хватило бы бензина!
«Илы» ушли.
Теперь — моя очередь: глупо становиться мишенью, когда задание выполнено и победа одержана. Но как уходить? Разъяренные гитлеровцы не отстанут: если не в воздухе, так при посадке меня непременно собьют. Я вспомнил тогда Чкалова: пролетел же тот под речным мостом. В этом единственная возможность уйти.
Преследовавшие меня «мессеры» взмыли вверх. Вероятно, их летчики ошалело старались понять, что делает этот русский самоубийца?
Спасай, родная земля!
Я свалил свой самолет ниже севастопольских крыш и повел его в каких-то метрах над искореженным асфальтом. Преследовать такую машину, не рискуя врезаться в землю, невозможно, но улица не бесконечна: гитлеровцы ждали либо взрыва, либо моего появления. И я, действительно, появился над домами, чтобы через секунды снова провалиться вниз. Опять «мессеры» вынуждены были отвернуть от земли.
Вижу обалделые лица людей на улицах. Узнаю: вот — Большая Морская. Вновь делаю ложное движение: выравниваю машину в нескольких метрах от мостовой, несусь между скелетами зданий вдоль улицы. Проводов нет. Только бы не зацепиться консолями за столбы или уцелевшие стволы деревьев. Инстинктивно чувствую, что сверху настигают «сто девятые», сворачиваю в прогалину между разрушенными домами, выскакиваю на другую улицу и снова — на Большую Морскую. Потом — улица Фрунзе. Развернулся за Приморским бульваром, обогнул Константиновский равелин, взмыл вверх и над морем — домой.
Сесть удалось с ходу. У капонира инженер Макеев спросил:
— Как, товарищ капитан, двигатель? На задание выпускать можно?
— Чудесный мотор, инженер. Спасибо. Штурмовики все сели?
— Что с этими танками сделается? Но у нас беда — от новой эскадрильи всего трое осталось: комиссар и два сержанта. Одного тут, на виду, над аэродромом свалили…
А на следующий день не стало ни комиссара, ни его ведомых.
Раскаленное небо
Но чтобы понять все происходящее далее, нужно вернуться к некоторым более ранним событиям.
Дело в том, что еще задолго до этой заварухи, настроение мое было испорчено накрепко и, казалось, бесповоротно. Виной всему был таинственный «зет» — немецкий ас с черной латинской буквой «зет» на грязно-рыжем закамуфлированном фюзеляже истребителя.
«Зет» появлялся ежедневно. Всегда с истребителями охранения и прикрытия. Обычно он выбирал себе жертву, и редкая его атака была безуспешной. Не раз и не два я пытался преследовать гитлеровца, и всякий раз неудачно: заметив атакующий самолет, «мессеры» неизменно принимали удар на себя, чего бы это ни стоило, и давали возможность «зету» уйти.
Было ясно, что «зет» незаурядный летчик. Вероятно, кто-то из ближайшего окружения Рихтгофена, если не сам Рихтгофен.
Мы знали, что наш противник — 8-й авиационный корпус, которым командовал известный фашистский ас. Любимец Гитлера, летчик с огромным фронтовым опытом генерал фон Рихтгофен. Под его командованием удостаивались служить лишь опытнейшие и наиболее показавшие себя в бою летчики.
Фон Манштейн свидетельствует: «8-й авиационный корпус, которым располагало командование для поддержки операций сухопутных войск, имел в своем составе также большие силы зенитной артиллерии. Он был самым мощным соединением военно-воздушных сил, обладающим большой ударной мощью. Его командир барон фон Рихтгофен, можно с уверенностью сказать, был лучшим из авиационных командиров во второй мировой войне. Он не только предъявлял очень большие требования к подчиненным ему соединениям, но и лично наблюдал за их каждой важной операцией в воздухе».
Проклятый «зет» лишил нас сна и покоя. Он словно издевался над нами. Сотни раз перебирал я в голове варианты различных атак. Сверху и снизу. Из облаков и со стороны солнца.
Но, как известно, самые хитроумные теоретические положения рушатся на практике.
«Зет» был не из тех, кого можно было заманить в ловушку, испугать лобовой атакой, заставить нервничать.
Это был достойный противник.
Здесь было над чем поломать голову.
А началось все так.
Было это вечером. Солнце садилось. Черные бесконечно длинные тени на Херсонесе делали аэродром трудно просматриваемым со стороны позиций противника и его дальнобойная артиллерия умолкала. Наступало благодатное время для работы нашей бомбардировочной и штурмовой авиации.
Первыми поднялись в воздух истребители первой эскадрильи. Через три-четыре минуты появилась дюжина «мессершмиттов». Внизу в это время взлетали штурмовики майора Губрия.
Восьмерка «яков» встретила «мессеров» над морем. Наши быстрые, неожиданные атаки, точно рассчитанные маневры втянули немецких летчиков в бой и им стало не до штурмовиков. И тут откуда-то с большой высоты, в стороне от дерущихся, коршуном устремился к земле никем до этого не замеченный еще один Me-109. Он поджег взлетавший штурмовик и ушел на малой высоте в море. Я и Данилко попытались перехватить его на выходе из пике, но нас опередила вывалившаяся из боя четверка «мессершмиттов» и прикрыла своего охотника, на фюзеляже которого мы отчетливо рассмотрели черную букву «зет».
В эскадрилье, все, что происходило днем, по старой традиции обсуждалось за ужином. На этот раз предметом разговора был «зет». Говорили пока как о случае. Капитан Алексеев сидел молча, задумавшись.
— Что зажурывся, козаче? — спросил его батько Ныч.
— Да так, — отозвался Алексеев нехотя. Потом тронул меня за рукав, сказал: — Знаешь, этот «зет» украл мой фокус. Действовал точно так, как я отучал «мессеров» прочесывать наш аэродром…
На рассвете седьмого июня четыре капитана — Данилин, Алексеев, Катров и я — сопровождали штурмовики в район Балаклавы. Только отошли в море, чтобы незамеченными подойти к позициям 30-го немецкого корпуса, как на наших глазах вся подкова линии фронта обозначилась со стороны противника вспышкой. Черные султаны взрывов поднялись на наших позициях. Артиллерийская канонада нарастала. Такой еще не было за всю оборону города. Над северным сектором фронта и над Севастополем большими стаями плыли гитлеровские бомбардировщики. В небе пестрели белые дымки от взрывов зенитных снарядов. Особенно сильная бомбардировка была у Камышлы и у Мекензиевых гор.
В начале июня сотни немецких самолетов обрушились на Севастополь. За шесть дней гитлеровцы сбросили на город 50 тысяч фугасных и зажигательных бомб. Тысячи и тысячи снарядов рвали камень, бетон, железо. Время от времени в адский рев, стоящий над Севастополем, вливался мощный, рвущий барабанные перепонки гром — это вступила в дело гигантская осадная пушка «Дора», сделанная когда-то для того, чтобы крушить мощные укрепления линии Мажино, а теперь доставленная специально под Севастополь. Ствол ее имел в длину около 30 метров, а лафет достигал высоты трехэтажного дома. «Потребовалось около 60 железнодорожных составов, — рассказывал впоследствии фон Манштейн, чтобы по специально проложенным путям доставить это чудовище на огневую позицию».
И вот вся эта огненная мощь обрушилась на Севастополь, чтобы раздавить, смять его последних защитников.
А город стоял…
«Ильюшины» развернулись к берегу чуть дальше Балаклавы. Теперь им не нужно было искать цель. Она открыта. Штурмовики сбросили бомбы на артиллерийские батареи и начали их обстреливать. Появились десять Me-109. Мы связали их боем и не допустили к штурмовикам. Один все же оторвался от общей свалки, попытался атаковать Ил-2, но его вовремя заметил Алексеев и сбил. Второго Me-109 сбил я. И еще один горящий гитлеровец упал в горы, а кто поджег его, не заметили. Остальные «мессершмитты» вышли из боя.
На обратном маршруте мы снова наблюдали артиллерийскую канонаду и непрерывную бомбежку наших позиций, укреплений, портов и города. И никакого переднего края и самого Севастополя не было уже видно. Все скрылось в густой белесо-желтой пыли и в дыму.
Несколько часов вокруг гудело, выло и грохотало. Отразить массированные, волна за волной, налеты авиации на Севастополь не было никакой возможности — не хватало ни истребителей, ни зенитных орудий. Потом огонь ослаб, и немцы двинули в наступление танки и пехоту.
Таких боев еще не видывала история.
Яростно, молча дрались люди за каждый дом, камень, улицу.
И снова — «зет». Прикрывая посадку «илов», «якам» пришлось отгонять от Херсонесского маяка «мессеров». «Зет» снова, как и в первый раз, свалился с большой высоты и сбил И-16 на выравнивании при посадке. После атаки удрал под надежной охраной.
Вечером мы говорили, главным образом, о третьем штурме, о тактике летчиков эскадрильи в воздушных боях с во много раз численно превосходящим противником, об организации взлета и посадки при усилившейся артиллерийской и авиационной бомбардировке аэродрома. Разговор о «зет» шел особый. Летчиков интересовал не сам факт его появления, а его прием.
— Говорят, клин клином вышибают, — задумчиво протянул Константин Алексеев.
Это было как приглашение к разговору. Но его не продолжили — все уставились на Костю: начал, мол, так договаривай.
— Я его своим старым способом подловлю…
Но подловить «зета» Алексееву не удалось. Во второй день его сбили. В паре с Катровым он вел затяжной бой с шестеркой «мессершмиттов», пытавшейся прорваться к нашим штурмовикам. Тут главное было не сбивать, а сковывать инициативу противника. А Катров не выдержал — погнался за оказавшимся впереди него «мессером». Немцы этого только и ждали. Пара Me-109 устремилась в атаку на Костю. Алексеев попытался их отсечь, но его зажали с разных сторон две других машины и подожгли. Это спасло Катрова, а Костя Алексеев с обожженной и раненой ногой лежал теперь в лазарете 35-й батареи и дожидался вместе с другими ранеными эвакуации.
— Жаль, глупо получилось, — горевал Алексеев. — В эскадрилье так мало осталось летчиков — и на тебе.
— Глядишь, еще бы нескольких сшибли, — сочувственно сказала медсестра.
За год войны вряд ли у какого истребителя был такой счет, как у Алексеева. Сбил он к тому времени одиннадцать вражеских самолетов лично и шесть в паре с другими летчиками. В черноморской авиации он был первым.
Мне проклятый «зет» тоже не давался.
Ермаченков мне сочувствовал:
— Сегодня не догнал, завтра догонишь. Заберись еще выше, тысяч на пять. И увидишь его раньше, чем он тебя. Может это сам фон Рихтгофен балуется. Понял? А теперь отойдем, потолковать надо.
— Что ты скажешь, Авдеев, если я подброшу тебе с Кавказа стреляных ребят?
— Скажу, Василий Васильевич, что никакого пополнения присылать не нужно. Напрасные жертвы. Целой эскадрильи вместе с командованием хватило всего на два дня.
— Если я тебя правильно понял, ты предлагаешь воевать остатками до последнего самолета.
— Не знаю, товарищ генерал, вам виднее.
— М-да, — Ермаченков потер кулаком свой подбородок. — Задачу ты мне задал. Но без истребительной авиации… Нет. Можно б, конечно, по всем частям собрать самых опытных, тех, кто в Одессе или под Перекопом воевали и выписались после ранений из госпиталей, но это долгая песня. Придется вызвать сюда эскадрилью капитана Нихамина. Он подлечился, отдохнул. На Херсонесе бывал — привыкать ему не придется. А то скучает в Анапе.
В три часа ночи меня растолкал дежурный телефонист.
— Вас к телефону. Командующий.
У меня оборвалось все внутри. Зачем в такую рань?
— Гвардии капитан Авдеев у телефона. Здравствуйте, товарищ генерал.
— У тебя коньяк есть? — спросил Ермаченков.
— Какой коньяк? — недоуменно пролепетал я. Сначала даже подумал, что это Губрий разыгрывает.
— Коньяк, который пьют! — Нет, это голос генерала. — Ну пять, три звездочки? А водка? И даже шампанского нет? Какой же ты герой после этого, — рассмеялся Василий Васильевич. Меня бросило в жар. — От всей души поздравляю тебя с высоким званием Героя Советского Союза! Только сейчас сообщили из Москвы, что час назад подписан Указ… Тебе и Алексееву присвоено звание Героев Советского Союза.
Трубка заглохла и я понял, что командующего на проводе уже нет. А когда поднял глаза, увидел при свете коптилки выжидающе улыбающегося батьку Ныча…
Говорят, что если везет, то подряд.
На другой день мне удалось встретиться с «зетом».
Уже наступал вечер.
Идя от Севастополя, я неожиданно увидел над нашим аэродромом ненавистный рыжий фюзеляж.
Я молил всех богов, чтобы не отказал мотор и оружие, не упала скорость, ничего не случилось.
Дело здесь не в личных качествах и свойствах: «зет» стал моим кошмаром, моей навязчивой идеей, символом всего, что я люто ненавидел.
Только бы не упустить, не спугнуть раньше времени! — стремительно набираю высоту и также стремительно иду на сближение.
До сих пор я не знаю, что сыграло здесь решающую роль: то ли «зет» сплоховал, то ли моя атака оказалась действительно мгновенной, только в скрещении нитей прицела я, наконец, не без доли злорадства, увидел «своего» «рыжего».
Залп. Второй. Третий.
Самолет проносит мимо.
Оглядываюсь: «зет», оставляя за собой шлейф дыма, стремительно уходит к своим.
Разворачиваю машину. Но поздно: навстречу мне ринулась стая «мессеров». Здесь стало уже не до «зета»…
До сих пор я не знаю — сбил я его или нет. И был ли это сам генерал фон Рихтгофен или кто-либо из его приближенных.
Только «зет» больше не появлялся. Напрасно мы искали в небе его грязно-рыжую машину.
Братство по оружию
Киплинг написал когда-то песню о солдатах, идущих, бесконечной пустыней, когда «только пыль, пыль, пыль от шагающих сапог, и отдыха нет на войне…»
Любая пустыня показалась бы раем по сравнению с огненным адом Севастополя…
Горючее почти на исходе, я пытаюсь зайти на посадку — не могу: смерч огня бушует над аэродромом. Кажется, те же самые «мессеры» висели здесь и сегодня утром, и вчера, и позавчера.
И те же столбы дыма и земли, поднимаемые тяжелыми фугасками.
Та же пляска огня и металла.
Интересно, как бы рассказал о таком Киплинг…
— Сергей, что ты думаешь делать после войны?
— Ты хочешь сказать, что другие будут делать?
— А ты что — сам себя к смерти приговорил?
— Причем тут приговорил… Простая военная арифметика. И немножечко соображения. Видишь ли, мы с тобой старые «херсонесцы». Сколько таких осталось? Раз, два и обчелся. Бежать отсюда, насколько я соображаю, ни ты, ни я не собираемся. Значит — каждый день в бой… А арифметика тут простая, — он кивнул на небо. — Видишь эту карусель…
Над Севастополем крутилась «воздушная карусель»: три наших «ястребка», словно заговоренные от пуль и снарядов, мотали нервы двум десяткам фашистских истребителей.
— У них, сволочей, превосходство… И никуда от этого не уйдешь. Сегодня повезет, завтра повезет… Но не может же везти бесконечно.
Словно в подтверждение его слов от дерущейся группы с грохотом, оставляя сизый, все более чернеющий след, отвалил «мессер». И, как будто вдогонку за ним, пошел советский самолет.
Издали казалось, что он преследует гитлеровца. Но вот по фюзеляжу его побежали желтые языки пламени. На секунду-другую он повис, завалив нос, а потом стремительно ушел в последнее свое пике.
— Так рано или поздно должно случиться, — второй летчик помолчал. — Бояться этого глупо. Я, например, не боюсь. На войне может сложиться такая необходимость, когда нужно сознательно умереть… Только продать свою жизнь, конечно, нужно подороже. Иначе такая гибель — преступление и перед своей совестью и теми солдатами и матросами, которые дерутся на земле. Ведь каждый сбитый «мессер» или «юнкерс» — им облегчение. А у них там — ад… Сам видел…
— Никто не говорит, что нужно дураком пропадать… Но все же я завидую, Сережа, тем, кто доживет…
— А я, думаешь, не завидую… А что делать?! Ладно, расфилософствовались мы тут с тобой, — Сергей взглянул на часы, — а через двадцать минут стартуем… Да еще после таких похоронных разговоров…
— Какие же это похоронные разговоры… Так, поговорили «за жисть»… А там, наверху, мы еще посмотрим, кто кого… Я, кстати, ни сегодня, ни завтра умирать не собираюсь…
— Да и мне что-то не хочется…
Может быть, тогда, в тот вечер, когда я оказался случайным свидетелем этого разговора, я впервые отчетливо представил себе, что и у меня, видимо, тот же путь, и мне не вечно будет «везти» и, может, случится так, что скоро не придется увидеть ни этого в ярких звездах неба, ни тронутой далеким заревом пожара темной глади Казачьей бухты, ни аквамариновой Голубой бухты, окольцованной белой галечной отмелью.
Что же делать! — решилось тогда как-то само собой в глубине души. — Не ты первый, не ты и последний…
Оглядывая сейчас давно минувшее, и вспоминая, какими мы тогда были, я ни в разговоре тех летчиков, ни в собственных мыслях, даже присматриваясь самым придирчивым образом, не нахожу ни грана внутренней или внешней рисовки.
Да, так оно все и было. И трагичней, и проще, и драматичней, и спокойней одновременно.
Наверное, человек может привыкнуть ко всему. Иначе как объяснишь, что севастопольский ад стал для нас нормальным бытом. И мы не представляли себе иного существования, и не мыслили себя в иных условиях, и не считали чем-либо из ряда вон выходящим бой с многократно превосходящим тебя противником.
А как можно было поступить иначе? Дать немцам безраздельно господствовать в небе? Оставить свои части или корабли без прикрытия? Подвести друзей? Стать равнодушным к судьбе Севастополя?
Нет, ни один из нас не был способен даже в мыслях на что-либо подобное, а Севастополь… Боль, гордость, судьба наша — мы были его частью, его дыханием, его камнями.
Мы могли сгореть, не вернуться с задания, но изменить Севастополю!.. Само предположение такое показалось бы тогда даже не то что оскорбительным, а попросту ненормальным, несусветным, невообразимым.
Наверное, для тех, кто пережил блокаду Ленинграда, таким сокровенно святым был город на Неве, для сталинградцев — страшные в развалинах своих волжские откосы, для оборонявших Одессу — ее судьбы и все, что связано с ней.
Севастополь был все. И все было в Севастополе.
Во всяком случае так мы чувствовали и так жили.
Нелегко нам было: гитлеровцы имели трех- и пятикратное превосходство в истребителях и подавляющее — в бомбардировщиках. К концу обороны это превосходство все время возрастало.
К началу боев за Севастополь в главной базе находилось только 76 исправных самолетов.
«Значит, нужно было драться так, чтобы у фашистов двоилось, а еще лучше троилось в глазах», — шутили летчики.
Много крови стояло за этой шуткой.
Крови, самоотречения, беспрерывно продолжающегося во времени подвижничества.
Аэродром Херсонесский маяк был крепостью.
Наиболее надежным укрытием здесь считался «Дворец культуры» авиаполка — сооружение, имевшее около 12 метров в длину, 6 — в ширину, углубленное на 3 метра под землею и с большой наземной насыпью-перекрытием, возвышающимся над поверхностью юго-западной части аэродрома.
Управление авиачасти с командного пункта 6-го гвардейского авиаполка.
92-й дивизион зенитной артиллерии, взвод пулеметных установок М-Ц и несколько приспособленных авиационных пулеметов составляли собственное зенитное прикрытие аэродрома-крепости. Минометы, станковые и ручные пулеметы, связки гранат, бутылки с горючей жидкостью, минные поля, проволочные препятствия предназначались для отражения морского и воздушного десантов. Плавучая батарея в бухте Казачьей также сыграла большую роль в защите аэродрома.
Да, он действительно был крепостью. Только осажденной крепостью.
Лишь за 24 июня по Херсонесскому аэродрому было выпущено 1230 артиллерийских снарядов и сброшено до 200 крупнокалиберных бомб.
Мощность огневых налетов гитлеровцев выражалась от 400 до 900 снарядов в сутки, шквалами по 140—170 снарядов в самые сжатые сроки. Начало ночных налетов и неизбежная при этом световая активность или появление пыли на аэродроме при начале выруливания днем неизменно вызывали шквальный артиллерийский огонь.
Немцы думали, что на Херсонесском маяке имеется подземный аэродром и потому били по нему нередко 8-дюймовыми бронебойными или бетонобойными снарядами.
В общем — скучать не приходилось!
Мы были неотделимы друг от друга — морской бомбардировочный авиаполк, истребительный авиаполк преобразованный в ходе боев в 6-й гвардейский авиаполк, штурмовой авиаполк и бомбардировочная авиагруппа.
Одно крылатое братство, и в бою мы с одинаковым напряженным вниманием следили и за атакой друга истребителя, и за отчаянной штурмовкой «илов».
Бок о бок с нами, истребителями, дрались летчики бомбардировочной, штурмовой и разведывательной авиации под командованием И. И. Морковкина, И. А. Токарева, И. Е. Корзунова, А. А. Губрия, И. В. Нехаева.
И к какому бы роду авиации мы ни принадлежали — это в бою, собственно, не имело значения: мы твердо знали, что можем положиться на идущего рядом, как на самого себя.
Взаимодействие различных типов самолетов было уже отработано до того совершенства, когда мастерство неминуемо включает в себя и известную долю приобретенного в боях автоматизма.
Мы долго обсуждали тогда две атаки.
22 ноября воздушная разведка донесла, что на аэродроме находится около 40 самолетов противника. Было решено нанести удар силами штурмовой и бомбардировочной авиации на рассвете следующего дня.
Пять Ил-2, четыре Пе-2, шесть Як-1 и четыре И-16 легли на боевой курс. Значительная часть пути пролегала над морем.
Подходя к береговой черте, бомбардировщики резко увеличили скорость и вышли вперед, штурмовики, не теряя их из виду, перешли на бреющий полет.
Первыми на цель вышли бомбардировщики.
Раздались взрывы бомб, и через одну-две минуты пошли в атаку штурмовики.
Удар был настолько неожиданным, что зенитная артиллерия противника лишь на отходе смогла открыть беспорядочный огонь по авиагруппе.
А 2 января 1942 года два звена Пе-2 под командованием Корзунова и Пешкова произвели новый бомбоудар.
Звено Корзунова на боевом курсе было атаковано тремя «мессершмиттами». Основной удар фашисты направили против ведущего, решив, очевидно, сбить сначала его, а потом и ведомых.
Но им это не удалось. Ведомые защитили командира. Один Me-109 рухнул на землю, другие были вынуждены отвернуть.
Бомбардировщики, удачно сбросив «груз», возвращались домой. Но на машине старшего лейтенанта Мордина после сбрасывания бомб не закрылись люки. Самолет резко сбавил скорость.
Воспользовавшись этим, два гитлеровца немедленно атаковали его.
На помощь другу рванулись звено Корзунова, майор Пешков и капитан Кондрашин.
Загорелся первый «мессершмитт». Задымил второй.
Солдатская взаимовыручка — великая сила, ей все по плечу: за вылет наша шестерка уничтожила четыре Ю-88 на аэродроме и два Me-109 в воздушном бою. И сама вернулась без потерь.
Как-то услышал я на аэродроме песню «Марш пикировщиков». Сложили ее, как мне рассказывали, летчики Плохой и Бондаренко.
В шуме ветра рокочут моторы. Дан приказ — вылетать поскорей! И ушла в голубые просторы Эскадрилья отважных друзей… Ветер, спутник полетов орлиных, Флаг победы над морем развей! Бьется смело за счастье народа Эскадрилья отважных друзей…Мне подумалось тогда: что же под такими словами подпишется и наш брат-истребитель, и ребята с «илов».
Даже как-то не подходило к тому, как мы воевали, холодное слово «взаимодействие».
Дружба, скрепленная кровью… — так сказать вернее…
Как мы работали?
Прикрытие базы и города осуществлялось непрерывным патрулированием в течение всего светлого времени 2—3 звеньями истребителей. Был на земле и резерв примерно в таком же составе. Он находился в боевой готовности № 1. Такой способ обороны базы требовал большого числа машин, а их, как я уже говорил, не было.
Истребители летали днем в составе звена в заранее установленных зонах на высотах от 3500 до 7000 метров. В ночное время мы несли дежурство на земле и периодически, когда возникала угроза со стороны противника, в воздух поднимались один-два истребителя.
В дальнейшем, с улучшением работы постов ВНОС и с прибытием новейших скоростных истребителей, дневное прикрытие базы осуществлялось дежурством истребителей на земле.
Когда появились установки «редут», почти полностью исключающие возможность внезапного налета авиации противника, такой метод работы истребителей вполне себя оправдал.
В этот период прикрытие базы патрулированием истребителей в воздухе производилось только тогда, когда в базу приходили корабли или транспорты.
В воздух одновременно поднимались одна-две пары самолетов, которые патрулировали не в зонах, а непосредственно над базой.
Им ставилась задача — не допустить самолеты противника к цели, помешать прицельному бомбометанию.
Скоростные истребители, находясь в готовности на аэродроме, вылетали по вызову к КП ПВО.
Радиоустановки почти на каждом самолете обеспечивали надежное управление истребителям в воздухе и наведение их на самолеты противника.
Истребителям было предоставлено право уничтожать врага во всех зонах ПВО. Во время атаки самолетов противника нашими истребителями в зоне огня зенитчики были обязаны временно прекращать огонь или переносить его на другую цель.
В период третьего наступления на Севастополь действия наших истребителей так же, как и других видов авиации, базирующихся на аэродромах ГБ, были скованы.
Постоянного прикрытия базы истребителями уже не производилось: это влекло за собой большой расход средств истребительной авиации, а противник всегда мог создать преимущество в силах.
Для отражения налетов на город или войска на линии фронта в воздух периодически поднимались группы наших истребителей в составе до 15 машин.
В эти группы входили все типы наших истребителей — как маневренные, так и скоростные. Взлет с аэродрома и набор высоты происходили под прикрытием одной-двух пар истребителей И-153. Вылет таких групп производился по нескольку раз в день, воздушные бои в большинстве случаев проходили успешно.
6 июня 1942 года при отражении налета противника на базу Севастополь произошел ожесточенный воздушный бой. В этом бою наши истребители сбили три Ю-88 и подбили шесть Ю-88. Истребители потерь не имели.
8 июня 1942 года в воздушных боях было сбито три Ю-88, один Ю-87, один Хе-111 и четыре Me-109, повреждено одиннадцать Ю-88 и два Me-109. Наша группа потеряла три истребителя Як-1. Воздушные бои продолжались от 30 минут до часу и более.
Были у нас и иные задачи. Например, сопровождение и прикрытие транспортов.
Теперь лишь можно сказать, что каждый день летчиков был тогда подвигом.
А в то время мы называли это работой.
…12 ноября летчик 32-го истребительного авиаполка младший лейтенант Яков Иванов на истребителе МиГ-3 таранит Хе-111. 17 ноября он сбивает еще два самолета, причем один, До-215, снова тараном. В этом бою Иванов погиб. Ему посмертно присваивается звание Героя Советского Союза. В тот же день 12 ноября летчик капитан Н. Т. Хрусталёв повторил подвиг Гастелло — врезался на горящей машине в скопление вражеской техники в Бельбекской долине.
О подвиге Иванова нужно рассказать здесь особо…
Яков Иванов дежурил у самолета, когда красная ракета, внезапно взвившаяся в серое небо, известила о вылете. Нужно было отразить налет вражеских самолетов на базу. Не прошло и двух минут, как истребитель оказался в воздухе.
Иванов шел прямо на базу. Скоро в воздухе послышались частые разрывы зенитных снарядов. Фашистские самолеты подходили к городу. Густая облачность, мешала летчику разглядеть врага. Ориентируясь по дымкам разрывов зениток, Иванов обнаружил скоро группу приближавшихся немецких бомбардировщиков.
Они шли на небольшой высоте, поминутно скрываясь за тучами. Обойдя самолеты, чтобы они, в свою очередь, не сразу его заметили, летчик неожиданно обрушился на врага.
Фашисты остервенело отстреливались. Спокойно и уверенно Иванов наносил врагу удар за ударом. После нескольких минут боя немецкий бомбардировщик, качаясь из стороны в сторону, отстал от остальных и пошел на снижение. Черный дым повалил из его моторов, и самолет, войдя в пике, скоро скрылся в волнах.
«Один есть», — подумал Иванов и продолжал преследовать гитлеровцев.
Теперь уже самолеты противника шли не строем, разбившись поодиночке, они рвались к цели. Сделав боевой разворот, Иванов с правой стороны заметил врага совсем близко. Летчик пошел в атаку.
Немецкий стрелок из задней кабины яростно отстреливался от наседавшего на него ястребка. Дав несколько очередей по фашисту, Иванов сделал последний решительный заход.
Самолет в сетке прицела.
Пальцы выжали гашетку, но выстрелов не последовало. Патронные ящики были пусты.
Только на какую-то долю секунды задумался летчик, в следующее мгновение истребитель, пронзительно гудя мотором, рубанул по хвосту фашиста. Все произошло так быстро и так точно, что летчик сам вначале не ощутил — что же произошло?
Потеряв управление, бомбардировщик камнем полетел вниз, описывая в воздухе странную неестественную спираль.
Иванов видел, как он взорвался на собственных бомбах.
Летчик продолжал полет. Машину трясло. Скоро впереди по курсу показался Херсонесский маяк.
Рассчитав заход, пилот благополучно совершил посадку.
Самолет получил незначительные повреждения. После замены винта и выправления лобовых капотов мотора он снова был в строю.
Прошло несколько дней в напряженных воздушных боях, во время которых Иванов сбил еще один, уже третий, самолет противника.
Снова в этот памятный день поднял он в воздух свой истребитель.
На этот раз Иванов встретился в воздухе с большим немецким бомбардировщиком До-215. Фашист сбрасывал бомбы на город. Летчик пошел в атаку. Немец отстреливался из всех пулеметов. Уверенно поливал Иванов фашиста меткими очередями. Поврежденный бомбардировщик продолжал уходить в море. «Преградить дорогу врагу, не упустить его во что бы то ни стало», мелькнуло у него в голове, и снова его истребитель на полном газу таранил фашистский самолет.
Тяжелый бомбардировщик развалился на части. Но не стало и нашего боевого друга, замечательного человека и летчика Якова Михайловича Иванова…
— Похоже мы с тобой старушку-смерть до смерти перепугали, — бросил мне как-то, вернувшись с полета, К. Д. Денисов, прославленный командир И-16.
Он провел рукавом куртки по лбу, и коричневая кожа ее стала мокрой.
— Устал?
— Не знаю… Голова какая-то ватная… Поспать бы…
— Как раз немцы нам дадут поспать…
— Это тоже верно, — равнодушно заметил Денисов, помогая техникам закатывать машину в капонир.
Много раз истребители Денисова, защищая корабли, становились между ними и бешено атакующими гитлеровскими бомбардировщиками. Сотни раз вместе с нами отгоняли стервятников от позиций наших войск, прикрывали «илы» и сами ходили на смертельные штурмовки.
Однажды эскадрилья, которой командовал Денисов, встретила на пути к вражескому аэродрому шквальный заградительный огонь.
— С курса не сворачивать. Цель должна быть уничтожена! — приказал Денисов.
Небо немцы превратили тогда в огненный костер. Но истребители шли сквозь огонь, разваливая его изрешеченными плоскостями. Шли, били по самолетам, разворачивались, и опять кидались в атаку.
А когда на них рванули «мессеры», они приняли и этот бой. И столь ошеломляющим был их натиск, что ни многократное превосходство в машинах, ни злоба не помогли гитлеровцам.
В этот день эскадрилья уничтожила на аэродромах и в воздухе 14 самолетов, более 10 автомашин, около 250 фашистских солдат, заставила замолчать несколько зенитных батарей и пулеметных точек противника.
Назвать такое просто храбростью — значит ничего не сказать. Это был высший героизм, помноженный на мастерство, мужество, презрение к смерти.
Ведь дрогни они — их тут же разметали бы «мессеры», поодиночке повыбивали бы немецкие батарейцы.
Но было здесь и еще одно немаловажное обстоятельство: все ведомые Денисова верили ему, как себе. И у них были на то все основания: 73 раза водил Денисов свою эскадрилью на штурмовки, в воздушных боях лично сбил тогда 13 гитлеровских самолетов.
Неукротимое братство по оружию равнялось на командира. Значит, и он не имел права ни дрогнуть, ни свернуть с курса…
С тревогой и гордостью следили мы за тем, что происходит в Севастополе.
И каждая новость — как листовка, как напоминание о том, что ты должен оказаться достойным чести защищать этот город.
…Огонь крупнокалиберной артиллерии был направлен на реликвии и памятники города, памятники русской славы и гордости. Авиация бомбила Севастопольскую панораму. Летом 1942 года одиннадцатидюймовыми фугасными снарядами была пробита стена в здании панорамы, изрешечено осколками разорвавшихся снарядов огромное живописное полотно Франца Алексеевича Рубо площадью 1610 квадратных метров. Затем фашистские летчики специально обрушили на панораму серию фугасных и зажигательных бомб. Возник пожар. Гибель уникальной картины была неминуема…
Но ее спасли. Спасли, жертвуя собой, матросы и солдаты. Сыны Севастополя.
Почему я вспомнил о панораме? Ведь уже тогда было много такого, что сразу становилось и историей и легендой: с последними гранатами кидались матросы под танки, батареи бились до последнего и взрывали себя вместе с ворвавшимися на их позиции гитлеровцами, чадящие пожарами гордые корабли дрались, пока не уходил под воду их бело-голубой флаг со звездой, серпом и молотом.
Тогда мы по-особенному ощущали историю. Нам казалось, что где-то, может быть, с Петровым или Остряковым на их командных пунктах рядом стоят и Нахимов, и Корнилов, и Тотлебен, и Хрулев. Что где-то бродит по немецким тылам бессмертный матрос Кошка, а усатые бомбардиры помогают заряжающим на Малаховом кургане.
Потому мы и радовались тогда — словно был спасен крейсер или отбита у немцев важная высота — известию о спасении полотна Рубо.
— Сволочи! — Узиав о гитлеровском артналете на панораму, бросил тогда мой друг Николай Наумов. — Они и за это получат. За каждый разбитый камень Севастополя…
Прибыл Николай Александрович в авиацию Черноморского флота на должность инспектора ВВС. А стал непревзойденным воздушным бойцом.
25 февраля 1942 года Наумов встретился в севастопольском небе с опытнейшим фашистским асом. С моря этот бой наблюдали бойцы катера-охотника. И когда гитлеровец, оставив в небе дрожащий шлейф дыма рухнул на землю, они сели писать письмо во фронтовую газету.
Были в этом письме, между прочим, и такие строки: «Восхищаемся подвигами в боях за Родину нашего черноморского сокола. Мы будем бить вpагa на воде, как бьют его наши боевые товарищи в воздухе».
А слава Наумова только расправляла крылья. Как-то он один пошел в атаку на четыре Me-110. Имея сильное вооружение передней полусферы, фашистские летчики менее всего опасались атаки с этой стороны.
И были ошеломлены, увидев, как этот «сумасшедший» русский пошел в лобовую атаку.
Секунды были ими потеряны, а Наумов молниеносными ударами свалил двух «мессеров». Два других летчика в панике ринулись назад: им не приходилось еще встречать ничего подобного…
Мы помнили приказ Ставки: «Севастополь не сдавать ни в коем случае и оборонять его всеми силами».
Вспомните сообщение Совинформбюро от 3 июля 1942 года: «Сколь успешно выполнил Севастопольский гарнизон свою задачу, это лучше всего видно из следующих фактических данных. Только за последние 25 дней штурма Севастопольской обороны полностью разгромлены 22, 24, 28, 50, 132 и 170-я немецкие пехотные дивизии и четыре отдельных полка, 22-я танковая дивизия и отдельная мехбригада, 1, 4 и 18-я румынские дивизии и большое число частей из других соединений. За этот короткий период немцы потеряли под Севастополем до 150000 солдат и офицеров, из них не менее 60000 убитыми, более 250 танков, до 250 орудий. В воздушных боях над городом сбито более 300 немецких самолетов. За все 8 месяцев обороны Севастополя враг потерял до 300 000 своих солдат убитыми и ранеными. В боях за Севастополь немецкие войска понесли огромные потери, приобрели же — руины».
За всем этим подвиг и тех, кто сражался в небе.
«Пощады никто не желает…»
Севастополь чадил пожарищами. Собственно, города уже не было. Были холмы камня и железа, огрызающиеся свинцом всякий раз, когда гитлеровцы поднимались, думалось им, в последнюю атаку. И камни снова оживали, ощеривались огнем, из них, как привидения, вставали обожженные и окровавленные люди, которым по всем военным правилам уже тысячи раз полагалось умереть.
И они, казалось, не имеющие ни малейшего понятия ни о смерти, ни о простой человеческой боли, не понятные для немцев, а потому вдвойне страшные, бросались в штыки, обвязав себя гранатами, шли на танки, уходили в небытие, взрывая с ворвавшимися на позиции вражескими солдатами батареи и форты, устилая каждый метр севастопольской земли десятками и десятками трупов в мышиной форме.
Потом человечество будет удивляться, как могли вообще существовать здесь люди, где, казалось, каждый сантиметр земли был сотни и сотни раз перепахан снарядами, пулями и бомбами. И, собственно, земля уже была не земля, а оживленное железо.
Таким был тогда и мыс Херсонес.
Горькие это были дни.
Но вот даже теперь, спустя столько лет, анализируя наши чувства в те огненные минуты, я не могу думать только о горечи.
Да, трудно, невыносимо трудно было видеть Севастополь в огне, каждый день хоронить друзей и, особенно последние дни, знать, что придется драться, пока есть патроны и жизнь. Уходить некуда — за нами Черное море.
Но не меньшим чувством было другое — гордость.
Его рождала сама атмосфера города, его оплавленные камни, его прошлое, его легендарная судьба, его гордое настоящее, его песни.
Все это было нерасчленимо — прошлое, настоящее, будущее.
Наши мысли хорошо выразил тогда Эренбург, выступивший 30 июня в «Красной звезде»: «Немцы хвастали… „Пятнадцатого июня мы будем пить шампанское на Графской набережной“… Военные обозреватели предсказывали: „Вопрос трех дней, может быть, одной недели“… Они знали, сколько у них самолетов, они знали, как трудно защищать город, отрезанный от всех дорог. Они забывали об одном: Севастополь не просто город. Севастополь — это слава России и это гордость Советского Союза…
Мы видели капитуляции городов, прославленных крепостей, государств. Но Севастополь не сдается. Наши бойцы не играют в войну — они дерутся насмерть. Они не говорят „я сдаюсь“, когда на шахматном поле у противника вдвое, втрое больше фигур».
Подруливая к капониру, я увидел рядом с Бугаевым и Кокиным батьку Ныча. В зубах его торчала трубка. Значит, есть новости. Комиссар просто так встречать не станет.
— Ты чем-то взволнован, Иван Константинович?
Ныч вынул изо рта трубку.
— Хочу тебя обрадовать: у нас гости.
— ?
— Додик Нихамин прилетел. Поселился с нами. Макееву я уже сказал, чтобы выделил ему механиков и оружейников.
— Интересно. Где же он?
— Летчики в нашем блиндаже отдыхают. И Додик там.
За блиндажом на склоне к бухте разорвался в камнях тяжелый снаряд.
— Недолет.
— Нет, — возразил Ныч. — Это немцы приучают нихаминцев к новым условиям.
Капитан Нихамин выглядел после госпиталя и отдыха свеженьким, будто с курорта прибыл.
Мы обнялись.
— Что за народ с тобой?
— Орлы, Миша, не хуже твоих. Не воевали еще, но не хуже.
Мне стало не по себе. Неужели нельзя было подобрать десяток севастопольцев из выздоровевших? А этим не в таких условиях получать боевое крещение.
— Зачем ты их в этот ад привел?
— Лучшей школы истребителю, чем здесь, не придумаешь. А потом — не только в Севастополе хорошие летчики нужны… Да, я забыл передать тебе привет от Любимова.
— Ну как там он?
— Ходит.
— Где он?
— Ходит. Танцует. Грозится летать. Вам никто не говорил, как мы с ним в Чистополь на УТ-два к семьям своим летали? Нет? Так слушайте.
И Додик с подробностями рассказал, а рассказывать он мастер, как в начале апреля прилетел в Моздок Василий Васильевич и сказал ему Нихамину:
— Садись на УТ-два, забери в Орджоникидзе из госпиталя Любимова и ко мне, в Новороссийск.
— Да, чуть не забыл главного, — спохватился Додик. — Вася уговорил меня дать ему в воздухе управление. И я дал. Представьте себе, ничего. Без ноги, а летел, как бог. Видели бы его, какой он счастливый был. И от Новороссийска до Сталинграда раза два передавал ему управление…
— А как ты думаешь, сможет Любимов без ноги летать? — спросил Ныч Нихамина.
— Истребителем, в бой, конечно, немыслимо, А так, на У-два там или на транспортном — вполне. Если допустят.
— А он?
— Он-то что. Говорит, буду на истребителе. Тормоза, мол, на «яке» ручные, а толкать педали руля поворота можно и протезами.
— Да-а, — вздохнул Ныч. — Хорошо бы ему разрешили…
А снаряды рвались на южном побережье мыса. Мы сидели с Нычем на скамейке у входа в землянку и думали над проблемой номер один. В других эскадрильях «безлошадных» мотористов, оружейников и механиков отправляли на передний край. 1-ю эскадрилью пока не трогали, но не сегодня-завтра могут потребовать. Несколько авиаспециалистов судьбы Севастополя не решат, а воевать еще придется долго, и нужны будут опытные механики, а где их потом возьмешь таких, какими они стали здесь.
— Поговори с генералом, — предложил Ныч. — Мне кажется, он должен понять…
— Надо поговорить, — согласился я.
Из-за капонира показался Иван Иванович Сапрыкин.
— Вот где вы, — начал он громко. — Я специально к вам.
— Ты-то как там? — спросил Ныч.
— Ничего. Хорошего ничего.
Иван Иванович присел напротив хозяев на корточки, Достал папиросу и, прикуривая от самодельной зажигалки, продолжал:
— Только сейчас с КП. На личную беседу вызывали. Тебе, говорят, командовать уже некем, но мы тебя на Кавказ сейчас не отправим. Ты нам здесь очень нужен.
— На Кавказ мы отправимся вместе, а сейчас, с сей минуты, ты будешь руководить ночными полетами. Завтра, только это, друзья, по секрету. Завтра придут двадцать транспортных самолетов. Вы их примете, укажете места загрузки и до рассвета выпустите.
— Что это? Севастополь решили сдавать?
— Откуда мне знать! Я говорю, что самому сказано…
И эскадрильи капитана Нихамина тоже хватило не надолго. Вины командира тут особой не было — он принял народ месяца полтора назад и передать свой опыт летчикам не успел. Но фронту от этого было не легче.
Днем Херсонес трясло от взрывов снарядов и бомб. Поднималась в небо грязно-желтая, смешанная с дымом пыль, закрывала солнце. Воздух пропитался гарью, запахом жженого тола и пороха. Гудело все вокруг, выло, оглушающе грохотало. Люди укрывались в блиндажах и щелях с прочным перекрытием. Погибла плавучая батарея «Не тронь меня», и над аэродромом свободно гуляли немецкие истребители. Одна волна бомбардировщиков уходила, другая шла ей на смену. И так — с восхода и до заката.
Потом все обрывалось. Наступала зловещая тишина. Казалось, ничего живого не осталось на этом выжженном, перепаханном бомбами и снарядами клочке земли, сплошь покрытом рваными кусками металла.
Но проходила минута и аэродром оживал. Из укрытий выползали наверх люди. Они еще находили в себе силы подшучивать друг над другом и улыбаться. Из-под ног со звоном вылетали осколки. Связисты уходили на линии в поиски обрывов телефонных проводов, механики всех служб и летчики быстро осматривали самолеты и пробовали моторы. Засыпали щебнем воронки на летном поле, а трактор Васи Падалкина вновь выбрасывал в небо синие кольца дыма и тащил за собой каток. В сумерках, прикрывая взлет штурмовиков, поднимались в воздух четыре «яка» — остатки первой эскадрильи — пары Авдеев — Акулов, Макеев — Протасов.
Под крыльями проходил Севастополь — безлюдный, разрушенный, страшный. Из развалин торчали обгорелые трубы. Почернел Приморский бульвар. Сердце обрывается, но приходятся вести огонь по Северной стороне и Константиновскому равелину, бомбить Инженерную пристань — святые, дорогие сердцу места. Бешено огрызаются немецкие зенитки, по ним бьют наши пулеметчики с пристани Третьего Интернационала и Павловского мыса.
Над Северной стороной появляются «мессершмитты». Более двадцати. Точно подсчитать их некогда. Они с ходу атакуют штурмовики. Один Ил-2 падает в бухту. Наша четверка отбивает остальных.
Трудный бой в сумерках короток. Немцы теряют один самолет и быстро уходят — торопятся сесть на свой аэродром до наступления темноты.
Капитан Сапрыкин наладил ночной старт. Акулов доложил мне по радио, что ранен и приземлился вслед за штурмовиками. Военфельдшер Вера Такжейко, как всегда, встречала летчиков на стоянке. Акулов подрулил к капониру, вылез из кабины, спрыгнув на землю, снял с головы разорванный пулей шлемофон. Лоб его был в крови. Вера посветила фонариком, осмотрела рану, улыбнулась.
— Ничего опасного, Петя. Содрало кожу, — сказала она. — Тебе повезло.
— Гитлеровцу повезло меньше. Рыбку ловит.
— Поздравляю, командир, — сказал техник-лейтенант Рекуха. — С пятым сбитым поздравляю.
— Какие тут поздравления…
— «Мессершмитты»! — крикнул кто-то в темноте.
Темно стало лишь на земле, а небо еще было светлым и на нем хорошо просматривались самолеты: три Пе-2 дожидались посадки. Их прикрывали три Як-1 — Макеев и Протасов, и я. С северо-запада приближалось около шестнадцати Me-109. На старте не включали прожектора. «Петляковы» прижались к воде и низко ходили в стороне от аэродрома. Сверху их не видно. Снизились и мы. Нам теперь преимущество в высоте ни к чему. Мы выходим в атаку снизу. Кажется удачно. Нажимаю гашетку. От двух коротких очередей Me-109 вспыхнул и упал в море.
Летчик выбросился на парашюте. Несколько минут спустя в лучах прожекторов приземлились «пешки» и «яки». Позже я узнал, что сбитого летчика выловили у берега техники с И-16. Пленный на допросе сказал, что воевал в Испании, во Франции, в Польше, в Африке и имеет на своем счету тридцать сбитых машин.
В самую короткую июньскую ночь летчики с Херсонеса успевали сделать по три-четыре вылета. Приходили с Кавказа транспортные самолеты, загружались и до рассвета улетали. Я отправил на Большую землю сначала Акулова, затем и раненого Протасова.
Херсонесская авиагруппа быстро таяла. С каждым днем становилось меньше исправных самолетов. Раненых летчиков и механиков вывозили на Кавказ. Но аэродром все же жил и по ночам сильно досаждал противнику. Немцы, наконец, решили покончить с нами навсегда. Двое суток днем и ночью 25 и 26 июня они бомбили, обстреливали из пулеметов и пушек, забрасывали артиллерийскими снарядами мыс Херсонес.
А когда наступила короткая тишина и аэродромные команды выровняли летное поле, остатки штурмовиков и бомбардировщиков перебазировались на Кавказское побережье. Я и «король» воздуха провожали их далеко в море. Вернулись засветло. У опустевших капониров бродили «безлошадные» летчики. Оставшиеся вдруг без дела механики и мотористы упаковывали в ящики имущество и инструмент. Снимали с разбитых самолетов исправные детали. Они готовились к эвакуации по-солидному, старались не забыть здесь ничего, что могло бы еще пригодиться на другом аэродроме. Никто из них не подозревал, что через день-два сложится критическая обстановка и не будет возможности вывезти не только имущество, но и их самих.
Над аэродромом пронеслись «мессершмитты». Пара Мe-109 пристраивалась в хвост заходившему на посадку И-16. А тому и деваться уже было некуда.
— Собьют! — крикнул стоявший у капонира батько Ныч.
Самолеты приближались с суши от городка 35-й батареи. И-16 взял по привычке правей, на Казачью бухту, к своей защитнице и спасительнице, к плавучей батарее «Не тронь меня». Но батарея пятый день стояла на воде, накренившаяся, мертвая.
— Бугаев, — окликнул я оружейника. — Твоя установка цела?
— Стреляет, товарищ капитан.
Мы кинулись вдвоем в глубокую воронку от взорвавшейся накануне недалеко от капонира немецкой пятьсоткилограммовой бомбы. Прильнули к прицелу снятых с самолетов спаренных пулеметов и, поворачиваясь вместе с турелью, дали длинную очередь между И-16 и стрелявшим по нему «мессершмиттом».
Вторая очередь пришлась по фюзеляжу гитлеровца. Me-109 резко отвалил в сторону и ушел.
— А-а, получил, — торжествующе кричал ему вслед Бугаев.
Он быстро поправил в патронной коробке ленту. Снова заработали пулеметы. Такая же длинная очередь прошла перед носом другого Me-109. И этот шарахнулся вправо.
В воздухе что-то противно зашуршало. И сильно с треском лопнуло. Запели на разные голоса осколки, комья земли полетели в воронку.
— Мина! — догадался Бугаев.
За первым взрывом последовал второй, третий. Мины рвались и рвались вокруг воронки, груды каменистой земли молотили по нашим спинам. Но вот обстрел стих.
— Цел?
— Целехонек, — улыбался Бугаев.
Подбежал батько Ныч.
— Плохи, комиссар, наши дела, — сказал я ему, — если немецкая пехота достала нас своими минометами.
С наступлением темноты капитан Сапрыкин принимал и выпускал на Большую землю транспортные самолеты. «Король» воздуха и я прикрывали их посадку и взлет.
И вот — наш последний вылет в Севастополь. Мы с Яшей Макеевым возвращаемся с задания. Над маяком стали в круг. Первым пошел на посадку Яша. Луч прожектора с минуту лежал вдоль посадочной полосы и погас, как только самолет коснулся колесами земли. «Молодец, — отметил я про себя, — хорошо сел». Я вышел уже на прямую, снижаясь, сбавил обороты двигателя, выпустил щитки и шасси. Вот-вот вспыхнет прожектор. И он вспыхнул. Только не на старте, а далеко слева, где-то у Северной Бухты. Луч скользнул над водой, выхватил из темноты маяк. Потом оторвался от маяка, лизнул фюзеляж моего самолета и снова упал на воду, прощупывая аэродром.
Быстро убрал щитки и шасси, дал полный газ двигателю. Истребитель с ревом пронесся над стартом, с набором высоты резко развернулся влево. Я не сомневался, что прожектор не наш. Зачем бы нашим освещать для противника свой аэродром и слепить летчиков на посадке. А близилось время прилета транспортных самолетов Через минуту определяю — прожектор на захваченном немцами Константиновском равелине. Даю по нему несколько очередей с пикирования. Луч погас. Но когда вернулся на Херсонес и зашел на посадку, луч с Константиновского равелина вновь потянулся к мысу длинным, бледно-дымчатым шнуром. Еще дважды я пикировал на проклятый прожектор, и он дважды оживал. Нужно было что-то придумать. Я пошел к равелину над сушей, бреющим. Ночью бреющий полёт равносилен самоубийству. Но другого выхода не было. Стрелка бензочасов неумолимо подрагивала у нуля. Боеприпасы на исходе. Если и на этот раз не удастся разбить прожектор, то повторить атаку будет невозможно.
Приближаясь к цели, убрал газ. Машину тряхнуло — прямое попадание. Но, кажется, она еще слушается меня. С короткой дистанции ударил по прожектору из пушки, показалось, будто видел, как полетели стекла. На выходе из атаки дал полный газ и поспешил набрать высоту на случай, если внезапно кончится горючее, — тогда смогу спланировать к своим. До самого аэродрома поглядывал в сторону Константиновского равелина — не вспыхнет ли снова прожектор. Там было темно.
Приземлился в лучах своих прожекторов. На пробеге круто развернуло влево, стойки шасси, подбитые снарядом, не выдержали силы инерции, подломились и машину юзом потянуло на правую плоскость крыла. Меня чуть не выбросило из кабины. Удержали привязные ремни. Отбросив ремни, выскочил из кабины, обошел искалеченную машину.
— Жаль, — сказал я скорее сам себе, чем стоявшему рядом комиссару. — Думал на нем еще повоюю. Не дожил…
У каждого человека есть в душе особенно святые для него воспоминания. Это даже не воспоминания, ибо воспоминания связаны с прошлым. А как назовешь лучшее в твоей судьбе? Лучшее совсем не потому, что жилось тебе легко и радостно. Так уж скроена жизнь, что безоблачные дни сглаживаются в памяти. Остается накрепко лишь опаленное теми испытаниями, когда ты почувствовал, чего ты стоишь, когда заглянул в глаза смерти и не свернул с курса, померялся с ней силами и победил.
Когда ты ближе всего оказываешься сопричастен с великой общей народной судьбой. А это всегда окрыляет человека и дает ему те силы, которые в обычных обстоятельствах он, быть может, и не нашел бы в себе, а здесь, словно собрав волю и мужество многих и многих, открывает в себе неведомые ему ранее тайники, становится неизмеримо выше себя обыденного, словно сам себя измерил другой меркой.
Из таких мгновений и дней складывается лучшее в человеке. И это лучшее не уходит со временем: оно откристаллизовывается в характере, меняя и возвышая его: человек, взявший большой перевал, не растеряется на малом и, если даже силы у него поубавит возраст, он постарается не показать этого, остаться верным той, давным-давно взятой высоте.
Не только для меня — для сотен и сотен людей, с которыми мы тогда шли рядом, таким святым и сокровенным навсегда остался Севастополь.
Страшен в своих ранах, боли и ненависти был он тогда — наша легенда, наше сердце, любовь наша — Севастополь.
Мы покидали его!
Да, теперь можно об этом сказать: нас душила ярость. Слова утешения о том, что мы выполнили свой долг, что Севастополь перемалывал лучшие фашистские дивизии, что он выполнил свою задачу, признаюсь, плохо доходили до нас.
Мы видели корчащуюся в огне Графскую пристань, развалины его когда-то словно сотканных из легенд и героики проспектов, иссеченную осколками бронзу памятников, развороченные, вздыбленные, несдавшиеся бастионы.
Он был весь — как свое, задыхающееся от боли сердце.
Я не мог спокойно слушать переворачивающую душу песню, где рассказывается о том, как «последний матрос Севастополь покинул…». Мне мерещились могилы друзей на Херсонесе и люди в окровавленных тельняшках, поднимающиеся в последнюю, легендарную свою атаку.
Прощайте, дорогие друзья!
Мы вернемся! Мы обязательно вернемся.
Мы не отступаем — нет!
Мы сочли бы за величайшее счастье лечь рядом с вами.
Лечь, уничтожив, еще сотню-другую из коричневой мрази, ползущей сейчас по дорогам Крыма.
Но приказ есть приказ…
Все не имеют права умирать.
Ведь на плечах всех нас — Россия.
Прощай, Севастополь!
Ты честно дрался до конца, как и подобает солдату.
И душа твоя, знамя твое не повержены. Знамя это реет над полками, готовящимися к новым боям.
А раны твои, боль твоя будут отомщены.
Мы уходим, чтобы вернуться.
Мало кто из нас, оставшихся тогда в живых представлял, какой еще длинный грозовой путь впереди, сколько опаленных закатов и зорь отполыхают над землей, прежде чем в дыму пожарищ забрезжит утро победы.
Фотографии
Герой Советского Союза, генерал авиации, Михаил Васильевич Авдеев
Группа сержантов, освоив новые машины, взяла курс на Тагайлы
И. Сапрыкин даёт задание лётчикам звена Скачкову, Мягкову, Минину и Шевченко
И. Сапрыкин
Через секунду — в бой
Там вверху — бой!
В. Ермаченков
Поработали неплохо
Наши «яки» в боевой готовности
Машина — не человек. Но и у неё уставало сердце…
Идём в атаку
И. Калинин
И. Протасов
К. Алексеев вернулся с боевого задания
Под нами Севастополь
Он уже не пойдёт в атаку…
Плавучая батарея «Не тронь меня!»
- Машина как игрушечка… — рапортует Алексееву техник перед полётом
Б. Бабаев
У нас в эскадрилье праздник: комиссар и командир поздравляют лётчиков с присвоением очередного звания
В минуты отдыха: военфельдшер Такжейко, лётчики Авдеев, Протасов, Гриб и начальник штаба эскадрильи Левченко
У него было чему поучиться. Остряков.
М. Талалаев
Е. Лобанов
А. Акулов
И. Корзунов
Н. Наумов
Волна за волной шли пираты Рихтгофена на Севастополь
Таким видели мы город — герой
Последние минуты Херсонеса
Примечания
1
Пробные вывозы пилота, после которых дается разрешение на самостоятельный полет.
(обратно)

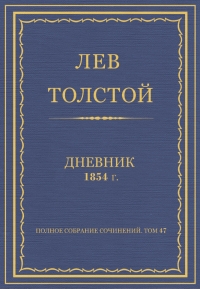


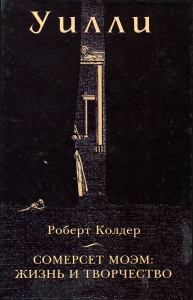


Комментарии к книге «У самого Черного моря. Книга I», Михаил Васильевич Авдеев (Герой Советского Союза)
Всего 0 комментариев