Вместо предисловия Интервью с композитором Юрием Саульским
Трудно представить себе современный мир без музыки Джона Леннона, которая так органично вошла в нашу жизнь, что невозможно было бы даже пытаться определить ее место в нем. Неудивительно, что молодежь всегда воспринимала песни Джона Леннона необычайно восторженно: ныне гораздо более скромные по талантам и значению группы исчисляют своих поклонников десятками тысяч. Но как относились к ней представители более старшего поколения и, в частности, профессиональные музыканты?
С этим вопросом мы обратились к композитору Юрию Саульскому.
– Когда я впервые услышал «Битлз», я был уже зрелым музыкантом среднего возраста, закончил в свое время консерваторию и, как любой профессионал, был знаком с различными стилями и направлениями, тем более что, помимо классической музыки, я всегда увлекался джазом.
Это сегодня стало ясно, что рок и джаз – мощные побеги одного большого дерева. Но тогда было принято их противопоставлять. Несмотря на то, что я был человеком джаза и не принадлежал к роковой генерации, я принял новую музыку без предубеждений.
К тому времени ровесник века джаз, который в 20-30-е годы был по-настоящему популярен, постепенно стал более элитарным, аудитория его сузилась, а природа, как известно, не терпит пустоты. И эту пустоту заполнили рок– и поп-музыка, которых, естественно, я не ставлю на одну доску. Рок – это музыка концептуальная. Она подразумевает и определенную атрибутику, и поэтику, и поведение – на сцене и в жизни, – то есть это в чистом виде контркультура, которая появилась вначале на Западе, а позже – у нас (в своеобразном, специфическом виде).
Когда я впервые услышал «Битлз», я воспринял их песни как очень свежую и интересную музыку, некое новое кислородное наполнение искусства. Только глухой и бесчувственный мог не оценить по достоинству свежесть этого музыкального направления.
– Но ведь до «Битлз» был рок-н-ролл...
– Рок-н-ролл (Пресли и другие) – это танцевальная музыка. В нем ярко выраженное блюзовое начало, он связан и с джазом. А тут появилась новая семантика, новая музыкальная лексика! Британский рок, в частности то его направление, которое начали «Битлз», был построен на очень интересном сплаве англо-кельтских, шотландских, ирландских интонаций. И если «Роллинг Стоунз» в большей степени – порождение американской культуры, то «Битлз» – британской. Британский рок, ставший классическим (Стинг, Элтон Джон, Фредди Меркьюри), мне вообще очень близок. Это направление более самостоятельно, оно имеет свои индивидуальные черты. Но, конечно, начало всему положили «Битлз». И еще один важный момент: у нас с моим сыном, Игорем Саульским, который начинал «Машину времени» с Андреем Макаревичем, играл на бас-гитаре у Градского в «Скоморохах», потом – у Алексея Козлова в «Арсенале», не было проблемы отцов и детей. Он уважал и принимал джаз, а я, во многом благодаря ему, быстро получал информацию об этих новых веяниях, может быть, быстрее, чем другие мои ровесники. Кстати, некоторые из них долго не принимали рок-музыку, а кое-кто так ее и не принял. «Битлз» стояли у истоков создания мощного пласта иной музыкальной культуры. Ведь что такое классика в музыке? Это обязательно новаторство – для своего времени. И только позже становится ясно, классика это или нет; мы сегодня не можем оценить новаторство Моцарта, потому что Моцарт для нас – это гениально ясная музыка. Зато для своего времени она была новаторской. Рождение всего принципиально нового обязательно связано с какими-то изменениями в музыкальном языке, интонации, стиле. «Битлз» все это породили, и не почувствовать этого было нельзя. Потому мы и считаем творчество этой группы классикой жанра. Рокмены часто упрекали джазменов в том, что джаз – это искусство для искусства, в то время как рокеры находятся в первых рядах людей, которые борются против чего-то и за что-то, будь то мораль или политика. Но не стоит забывать, что когда-то и джаз новизной своей формы шокировал адептов классической музыки и был грандиозным новаторством для своего времени. Кстати говоря, потом между джазом и роком прокладывались мостики и мосты (пример – группа «Кровь, пот и слезы»), причем чаще всего их возводили именно джазовые музыканты. Или взять к примеру знаменитый стиль «фьюжн» Херби Хедкока: его и без рока не могло бы быть, и без джаза. Я мог бы перечислить целый ряд направлений, которые синтезировали, сплавляли джаз и рок. Но, конечно, главное не то, что эти два направления объединяет, а самоценность каждого из них.
Интересно, что после «Битлз» появился, к примеру, симфорок, группы «Yes» и «Genesis», игравшие музыку, в которой сплавлялось симфоническое и роковое мышление. «Битлз» и их последователи играли мелодический рок. Зато более поздние течения, скажем, панк-рок, отличались скорее эпатажем, чем музыкальной сущностью. У них не было серьезных музыкальных задач. И еще хочу сказать: у «Битлз» удивительно гармонично сочетались и музыкальные задачи, и политические, и общекультурные. В современной музыке этого нет, к тому же многие рок-группы растворились в поп-музыке, так называемой попсе.
– Им надоело протестовать?
– Просто люди становятся старше, и у них уже нет былого запала, но есть профессия музыканта. И они продолжают играть ту же по стилю музыку, но уже наполненную совершенно иным содержанием.
– Что Вы можете сказать о личности Джона Леннона?
– Это удивительно талантливый музыкант. А творчество и личность в данном случае друг от друга неотделимы. Конечно, среди исполнителей бывают люди, которые на биологическом, что ли, уровне очень талантливы, не обладая при этом яркими личностными качествами. Но музыка стиля рок и вообще рок как образ жизни, образ мышления, безусловно, подразумевает явление сильной личности. Я испытываю уважение к этому человеку за сочетание, я бы сказал, удивительного музыкального таланта, интеллекта, и за его приверженность своему направлению в современной культуре. Он нес эту ношу до самой смерти, это было его знамя, отправная точка для него как для личности и как для музыканта.
– Эпатаж – обязательный атрибут жизни и творчества рок-музыканта. Автор книги Альберт Голдман, пожалуй, принимает эту манеру поведения чересчур серьезно. И так же серьезно относится к свойственным Джону Леннону сомнениям в собственных талантах и довольно много об этом говорит...
– Ссылаясь на самого Джона Леннона...
– Да. Кроме того, Голдман собрал обширный материал, записал беседы с множеством людей, которые окружали Джона Леннона. Он стремился уйти от официоза, от той точки зрения, которую хотела затвердить Иоко Оно и другие слишком близко стоявшие к Леннону люди, которые не могли не быть заинтересованы в том, чтобы определенным образом подать себя и свою роль в его жизни. Уходя от этого, Голдман, кажется, впал в другую крайность, слишком передоверился свидетельствам более дальнего окружения. Кроме того, он чрезвычайно сосредоточился на наркотиках, но об этом мы поговорим чуть позже. Как вы считаете, имеет ли для нас значение, какие музыкальные данные были у Джона Леннона ?
– Когда говоришь о таком феномене, как Джон Леннон, нет смысла рассуждать о каких-то отдельно взятых компонентах его личности или его сущности как музыканта. Ибо все в нем воспринимается в комплексе, и в моем понимании голос Леннона абсолютно приемлем для тех художественных задач, которые он перед собой ставил. Есть тип исполнителей, которые поют музыку, написанную другими. В таких случаях имеет смысл оценивать отдельно вокальные данные, исполнительское мастерство и т. д. Что же касается именно рок-музыки, то здесь важнее всего – индивидуальность. И конечно, совсем нельзя оценивать чье-то творчество, исходя из того, как о нем отзывается сам композитор, поэт или художник. Когда творческий человек недоволен собой, это недовольство стимулирует его развитие, движение вперед. Ибо он, будучи максималистом, мыслит абсолютными, а не относительными категориями.
– Несколько слов о битломании. Джон Леннон говорил о своих поклонниках весьма нелицеприятно. Понятно, что это явление отчасти было порождено вложенными в рекламу группы деньгами. И все же...
– К этому нужно относиться снисходительно. Я помню, как поклонники – главным образом женского пола – преследовали Козловского и Лемешева. Думаю, что Леннон, пресыщенный славой и раздраженный тем, что фанаты буквально проходу не давали, стал на них смотреть слишком критически: очень уж он от этого устал. Конечно, в проявлениях такой любви бывают перехлесты; но так было и будет всегда. Вообще же движение поклонников, фанатов – естественное дело в искусстве. Другой вопрос, чему эти люди поклоняются. Когда критерии в нашем восприятии искусства бывают смещены, например, когда люди, не зная настоящего рока, слушают полуроковую-полупопсовую музыку не очень высокого класса и являются ее поклонниками, бывает обидно за уровень этих групп и за некомпетентность их поклонников.
– Совершенно очевидно, что кумир если не навязывает, то во всяком случае демонстрирует своим фанатам манеру поведения, которую те вольно или невольно перенимают. Я подошла к вопросу о наркотиках. Я никогда не воспринимала именно творчество «Битлз» как музыку, напрямую связанную с употреблением ЛСД, кокаина, героина, а в каком-то смысле даже и порожденную ими. В книге же очень много и убедительно об этом говорится. Что Вы можете сказать на этот счет ?
– Плохо, когда поведение героев со всеми их недостатками начинает слепо копироваться толпой фанатов. Я знаю, что, действительно, «Битлз» сопровождали наркотики, как и некоторые другие рок-группы. Но я не стал бы обобщать. Некоторые рок-музыканты их попробовали, поддавшись искусу, но в итоге от них отказались и глубоко их этот опыт не задел. Думаю, впрямую это никак не связано: мало ли мы знаем людей, которые не имеют никакого отношения к рок-музыке, битломании и «колются»? И наоборот, тех, кто любит рок-музыку, и в частности «Битлз», и никогда ничего такого даже не пробовали. Повторяю, здесь нельзя обобщать, хотя нельзя и отрицать, что отчасти наркомания – одна из форм проявления контркультуры, уродливых форм. И для многих это просто трагедия.
– Юрий Сергеевич, как Вы вообще понимаете контркультуру, почему у молодежи такая острая потребность в протесте, отрицании, разрушении устоев?
– Контркультура – это порождение извечного желания молодежи жить иначе, не так, как жили прежние поколения. Особенно оно обостряется в эпоху политических или социальных катаклизмов. Появление контркультуры вполне можно объяснить диалектически.
– Как Вы считаете, наркотики действительно необходимы для стимуляции творческого процесса?
– В 40-е годы жил гениальный саксофонист Чарли Паркер, один из тех, благодаря кому джаз из популярной превратился в элитарную музыку. Он был наркоман. Он умер очень рано, в Париже, лет около сорока. Чарли Паркер говорил, что, когда принимал наркотики, он мог импровизировать так, как не смог бы в своем естественном состоянии... Это очень деликатный вопрос. Все равно что спросить, можно ли умерщвлять человека, который безнадежно болен. А как же клятва Гиппократа? Так и здесь. Сказать: пусть это будет узаконено для тех, кто, сознательно разрушая себя, стремится достичь неких вершин, которые в обычном состоянии им недоступны, у меня язык не поворачивается. Ведь они расплачиваются за это жизнью. Быть моралистом не хочется, в данном случае это было бы глупо и неуместно. Но понятно, что с позиций духовного и физического здоровья потребление наркотиков неестественно, и любой здравомыслящий человек никогда не стал бы такое поощрять. К тому же существует еще и обычная наркотическая зависимость, которая, как алкоголизм, никакого отношения к творчеству не имеет. Кстати, некоторые музыканты все-таки в себе это преодолели и сумели дальше не просто жить, но и творить...
– Что Вы можете сказать о российском роке?
– В прежние времена у нас это был запретный плод, который, как известно, всегда сладок. Интересно, что в Советском Союзе гонениям подвергался не только рок, но даже вокально-инструментальные ансамбли, которые, сохраняя инструментальный состав рок-группы, пели главным образом песни отечественных композиторов. До сих пор не могу понять, почему их запрещали.
Я был председателем жюри единственного всесоюзного рок-фестиваля, который проводился в 1980 году в Тбилиси. Тогда кое-кого уже начинали признавать. «Машина времени», которая выступила на фестивале лучше всех, за год до этого стала ансамблем Росконцерта. Но направление в целом подвергалось постоянной ожесточенной критике. Правда, можно вспомнить, что в свое время у нас были гонения и на джаз. А тут дело было серьезнее: рок-музыканты играли свою авторскую музыку, со своим видением и своим грандиозным зарядом протеста. «Машина времени» одной из первых стала исполнять песни только на русском языке. В свете этого фестиваль можно назвать этапным. Рок-музыканты наконец вышли на нормальную сцену, ни от кого не прячась. Там собрались тогда убежденные люди, профессионально и серьезно относящиеся к тому, что они делают и как музыканты, и как люди своей концепции. В то время как другие просто копировали «Битлз», предпочитая англоязычный рок.
– А спустя много лет президент Ельцин наградил Андрея Макаревича...
– Это было при мне. Я получал в тот день орден «За заслуги перед Отечеством»...
– Как Вы относитесь к творчеству Юрия Шевчука?
– Шевчук – продолжатель лучших традиций рока, рок-трибун, у него болевое и конфликтное ощущение происходящего. Его невозможно не уважать. Он говорит о самом главном, и говорит страдая, у него много печали и боли. Для меня его творчество – один из образцов современной российской рок-музыки, в которой все сочетается: и музыкальная сторона, и гражданственность, и патриотизм. Ведь контркультуре 60-х было свойственно отрицать национальное, она была космополитична. Хиппи не признавали никаких границ, в том числе государственных. У Шевчука иная позиция, и это достойно уважения. И самое главное, что все, что он делает, очень естественно: это его внутренняя потребность. Ведь слушателей не обманешь...
Ольга Ярикова
От переводчика
Вы держите в руках книгу, которая впервые увидела свет в США в 1988 году и наделала очень много шума. Но ни тогда, ни несколько позже, когда мне совершенно случайно посчастливилось купить ее, невозможно было вообразить, что когда-нибудь книга Альберта Голдмана будет опубликована в России, да еще в такой престижной серии, как «ЖЗЛ». Это событие, безусловно, беспрецедентное: серия «Жизнь замечательных людей» впервые обратилась к истории жизни и творчества кумира современной рок-музыки, идола поколения шестидесятых-семидесятых годов XX столетия, человека удивительной и противоречивой судьбы – Джона Леннона. Биографий, исследований и воспоминаний о Джоне Ленноне написано множество: достаточно взглянуть на перечень источников, которыми пользовался автор при написании этой книги. Так что выбор именно работы Голдмана отнюдь не случаен: биографы выдающихся деятелей шоу-бизнеса – в особенности это касается тех, кто писал о «Битлз» и, в частности, о Ленноне и Маккартни, – привычно идеализируют своих героев. В лучшем случае это приводит к искажению действительности, в худшем – к откровенному вранью. И в этом нет ничего удивительного. Чаще всего подобные труды опираются на воспоминания и рассказы наиболее близких к предмету исследования людей, чья роль в судьбе героя не всегда бывала благовидной.
Альберт Голдман избрал более сложный путь. Он потратил на подготовку и написание книги шесть лет. Вместе со своими ассистентами он собрал огромное количество материала, взяв в общей сложности более 1200 интервью у бесчисленного множества людей, среди которых были ближайшие родственники и друзья Леннона, сотрудники, музыканты, однокашники, студенты художественного училища, соседи или просто люди, которых судьба в тот или иной момент сталкивала с ним. Автор перелопатил все вышедшие прежде публикации о «Битлз», Джоне Ленноне и Йоко Оно, многое почерпнул из интервью, данных самими героями повествования. А потому книга представляет собой очень живой, последовательный и достоверный рассказ о жизни выдающегося музыканта со всеми ее радостями и невзгодами. Слава и успех, всеобщее обожание и огромные возможности, которые получает знаменитый и богатый человек, пришли к нему очень рано – в двадцать два-двадцать три года. Жил он стремительно и двадцати восьми годам, когда в его жизнь прочно вошла Иоко Оно, Джон вполне мог считать себя человеком, много повидавшим на своем веку. Начиная с этого времени, Йоко – чрезвычайно сильная натура, обладавшая необъяснимой властью над Джоном, – стала катализатором всех дальнейших метаморфоз, взлетов и падений Джона Леннона. Книга Альберта Голдмана дает детальный анализ развития отношений между Иоко и Джоном, оказавших решающее влияние на его творчество. Достаточно подробно описан в биографии и наименее известный период жизни Леннона – с конца 1975 по 1980 год, когда Джон полностью прекратил занятия музыкой и посвятил себя ведению домашнего хозяйства и воспитанию сына Шона. Заслуживают особого внимания главы книги, посвященные работе над альбомом «Double Fantasy» и подробно описывающие последние дни музыканта. Человек, более или менее знакомый с музыкой «Битлз» и самого Джона Леннона – а в нашей стране, как и во всем мире, таких людей очень много, – получит огромное удовольствие, заново открывая для себя этапы творчества великого музыканта, сопоставляя появление той или иной песни, выход того или иного диска с событиями, которые переживал в тот момент их автор. Альберт Голдман далек от того, чтобы курить фимиам творчеству музыканта – безоговорочное преклонение автора перед гениальностью Джона Леннона и так сквозит между строк. А детальное описание скандальных выходок, парадоксальных поступков и безумств, метаний противоречивой натуры Джона из одной крайности в другую лишь подчеркивает одну из главных идей книги – жизнь гения не может быть «правильной», пресной и скучной, она неизбежно полна сумасшедших деяний, порывов страсти, безудержной радости и страданий, побед и мучительной борьбы с собственными комплексами.
Наиболее важная для меня, да и, уверен, для всех поклонников «Битлз», черта Леннона-музыканта – его оригинальность, абсолютная ни на кого непохожесть, постоянный поиск новой манеры исполнения, новой музыкальной и поэтической формы. Никто не спорит с тем, что Пол Мак-картни – великий мелодист и супермузыкант, но его музыка всегда напоминает что-то уже знакомое, тогда как каждый новый альбом Леннона – вплоть до «Double Fantasy», а затем и посмертного «Milk and Honey», выпущенного уже Иоко, – всегда новаторство. Именно об этом говорит в своей книге Альберт Голдман. Дословно название книги Голдмана переводится как «Жизни Джона Леннона». Его недолгая жизнь действительно состояла из нескольких совершенно четко разграниченных периодов: детство и отрочество, жизнь с «Битлз», жизнь с Йоко, «потерянный уик-энд», пятилетнее затворничество и, наконец, возрождение и смерть. Последняя, самая короткая глава жизни Джона, вместившая в себя примерно полгода, повествует о столь долгожданном для всех поклонников его возрождении – и его нелепой трагической гибели. 9 октября 2000 года ему исполнилось бы всего шестьдесят. Но судьба отмерила ему и того меньше. 8 декабря этого же года поклонники великого музыканта в двадцатый раз подняли за него поминальный бокал...
Владимир Григорьев
Глава 1 Утренняя страсть
Декабрь 1979 года. Солнце еще не взошло, и Кит Картер стрелой мчится вдоль Центрального парка. Вот он подбегает к пересечению с 72-й стрит и видит Дакоту. Здание, освещенное уличными фонарями, выступает из темноты наподобие средневекового замка с привидениями. Не сводя взгляда с фонарей, мерцающих под сводом арки у въезда в гараж, Кит устремляется к металлической решетке, окружающей замок. Он коротко нажимает на медную кнопку звонка. Неуютно поеживаясь от ледяного ветра, дующего со стороны парка, Кит нетерпеливо ждет, когда под деревянным козырьком, нависшим над неприметным входом в здание, появится портье. Тот открывает засовы и снимает цепочки. Кит проскальзывает в приоткрытую дверь, поднимается по лестнице, прыгая сразу через несколько ступенек, приветствует на ходу охранника и растворяется в лабиринте коридоров, ведущих к высокой дубовой двери «Студии Один», рабочего кабинета Йоко Оно.
Кит стучит в дверь. Мгновенно раздается щелчок открываемого замка. На пороге стоит Йоко, лица ее почти не видно из-за больших солнечных очков. Одетая в джинсы и черную рубашку, которые не снимает уже целую неделю, Йоко выглядит больной. Она молча протягивает руку и быстро выхватывает маленький пакетик из алюминиевой фольги. Затем бросается в ванную, захлопывает за собой дверь и открывает на полную мощь кран. Кит разувается и проходит в гостиную. Несмотря на шум воды, ему чудится, будто он слышит, как молодая женщина с шумом втягивает носом воздух, после чего до него явственно доносится отвратительный звук приступа рвоты.
Убежище Иоко блистает роскошью, напоминая сказочный замок. Под ногами мягко пружинит толстый белый ковер, на котором стоят светильники. На потолке мечутся тени, а по деревянным поверхностям мебели и матовым зеркалам, покрывающим стены, гуляют отблески света. Огромный, египетской работы стол красного дерева стоит напротив зашторенных окон, которые выходят во двор. Его блестящие бока украшены инкрустацией из слоновой кости с изображением головы бога Тота и крылатого диска, символа солнца. А директорское кресло Йоко представляет собой точную копию трона, найденного в гробнице Тутанхамона.
Кит опускается на мягкий диван, обтянутый белой кожей, рассматривая предметы, которые создают в этой комнате поистине волшебную атмосферу: маленький череп, лежащий между двумя белыми телефонными аппаратами, золотой погребальный шлем, принадлежавший ребенку из Древнего Египта, бронзовую змею, посверкивающую чешуей на кофейном столике работы Джакометти. И хотя прошло уже полтора месяца с тех пор, как он впервые доставил сюда товар, он часто вспоминает, как это было в первый раз.
Он так волновался тогда, что спрятал дозу героина в полой книге, завернутой в плотную бумагу. Он застал Йоко за столом ее бухгалтера Ричи Депалма, разговаривающей по телефону. В течение целых пяти минут, показавшихся Киту вечностью, она как ни в чем не бывало болтала с кем-то по-японски. Наконец молодая женщина положила трубку и небрежно бросила: «Привет! Значит, ты и есть Кит?» Затем Йоко протянула руку, взяла пакет и молча попрощалась, не удостоив его даже взглядом. Позже он узнал, что прежде чем их встреча состоялась, Иоко навела о нем подробные справки.
Вначале Кит появлялся здесь не больше одного-двух раз в неделю. Накануне он отправлялся за товаром к посреднику, ювелиру с 57-й стрит в западной части города. Для начала – пятьсот долларов за грамм. Позднее, когда Иоко основательно зацепило, цена возросла. Теперь Кит покупает все тот же грамм за семьсот пятьдесят долларов, а это означает, что Иоко спускает на порошок по пять тысяч долларов в неделю. Уличная наркота платит за удовольствие значительно дешевле, но Йоко на это наплевать: у Джона Леннона денег хватает.
Йоко входит в гостиную сомнамбулическим шагом. Эта женщина хорошо владеет собой, но белые следы порошка, оставшиеся возле ноздрей, выдают ее с головой. Как обычно, она приносит чай: две пиалы бирюзового фарфора с залитыми кипятком пакетиками «Липтона». Она неизменно придерживается этого ритуала, и Кит уже понимает, зачем ей это: японская леди из высшего сословия не может удовлетворять свою утреннюю страсть как простая наркоманка, ей необходимо превратить преступную сделку в элегантную церемонию.
«Как поживаешь? – вежливо осведомляется Иоко, словно только что увидела Кита. – Я вижу, ты несчастен, – без паузы продолжает она, не давая ответить. Затянувшись, она театрально вынимает изо рта тонкую сигару и продолжает, словно открывая большой секрет: – Мы все несчастны – я тоже. Как сказал Вуди Аллен, все мы можем быть либо просто несчастными, либо ужасно несчастными». После чего следует долгое молчание, означающее, что разговор исчерпан.
Йоко и Кит молча продолжают пить чай, как вдруг свет прожекторов, подсвечивающих домашние растения, подчиняясь какому-то таймеру, становится ярче. Кит вздрагивает от неожиданности, словно ожидая услышать: «Полиция. Руки вверх!»
Отдав должное восточному этикету, Йоко не спеша поднимается и, словно автомат, направляется к рабочему столу. Обходя вокруг, она больно ударяется о край, но даже не замечает этого. Достав из ящика антикварную сумочку, Йоко вытаскивает оттуда огромную пачку денег. Новехонькие стодолларовые купюры. Отсчитав восемь бумажек, молча протягивает их Киту. (Он получает пятьдесят долларов чаевых.) Юноша не успевает повернуться к двери, как Иоко уже садится на свой трон. Устремив на Кита властный взор, силу которого не смягчают затемненные стекла огромных очков, она говорит: «Джон не должен знать об этом».
Джон Леннон открывает глаза, когда на улице еще темно, но тут же зажмуривается от слепящего света двух ярких ламп, висящих над кроватью. Свет никогда не гаснет, потому что Джон ненавидит просыпаться в темноте. Темнота для него – синоним смерти. Он смотрит на красноватые отблески света, танцующие в овальном зеркале, укрепленном на потолке, и эти огоньки успокаивают его: система жизнеобеспечения продолжает работать, ведь день и ночь он проводит в окружении успокаивающих звуков и мерцающих картинок, словно пациент в одноместной палате специальной клиники.
Звуки внешней жизни почти не проникают в это уединенное жилище, и только внутренние часы Джона в состоянии разбудить его. Редкие уличные звуки не могут пробиться сквозь толщу стен столетнего здания. Ставни закрыты наглухо, окно занавешено набивной тканью. Причудливые контуры предметов, вырисовывающиеся в полумраке, напоминают хлам, сваленный на чердаке: старое кресло из лозы, туалетный столик в стиле «арт деко», картонные коробки, стопки журналов и газет, пианино с закрытой крышкой. На стене висит ярко-красная электрогитара, покрытая толстым слоем пыли. Если бы не шепот, раздающийся из динамиков в изголовье кровати, и не череда цветных картинок на экране двух огромных телевизоров в ногах, эта темная комната, едва освещенная узким лучом искусственного света, напоминала бы могилу.
В течение трех последних лет жизнь Джона Леннона проходит в стенах этой спальни. Если не считать ежегодных каникул в Японии, Джон редко вылезает из огромной кровати черного дерева, за которую цепляется, как цеплялся бы за шлюпку потерпевший кораблекрушение мореплаватель. В основном он спит, засыпая на два-четыре часа, остальное время проводит в позе лотоса, окутанный дымом сигарет и марихуаны, читает, медитирует, слушает музыку или кассеты для самовнушения под названием «Я люблю свое тело» или «Нет причин для гнева». Время от времени он что-то записывает в дневник, под который приспособил рекламный ежедневник газеты «Нью-Йоркер» с юмористическими иллюстрациями на каждой странице; Джон придумывает к ним новые подписи или что-то пририсовывает. Все дорогие его сердцу вещи – наркотики, рукописи, эротические журналы, губная гармошка британского военно-морского флота – заперты в сундуке с надписью «ЛИВЕРПУЛЬ», стоящем в ногах кровати. Лодка Джона оборудована ультрасовременными средствами связи, ему достаточно всего лишь протянуть руку к панели управления. В его распоряжении любые книги, пластинки, аудио– и видеокассеты, которые могут понадобиться в путешествии по всему миру, к прошлым и будущим цивилизациям.
Джон обрел пристанище под сводами родовой пещеры, но вместе с тем существует на значительном удалении от близких. Он проводит в их обществе час или два по утрам, а снова оказывается с ними только за ужином, и тогда Папа, как Джон любит себя называть, ненадолго присаживается перед телевизором вместе с сыном. Остальную часть времени Леннон проводит в одиночестве спальни.
Кроме хозяина, на борт лодки допускаются только Саша, Миша и Чаро, три черных персидских кота с желтыми глазами и круглыми мордами. Когда по утрам Джон планирует свой день, он в первую очередь думает о них. Если одно из животных не откликается на зов хозяина, тот поднимает тревогу, и слуги пускаются на поиски по всем коридорам здания и даже расспрашивают соседей. Джон мечтает жить одним разумом, сведя до минимума любую физическую деятельность, и вместе с тем именно он чистит и расчесывает блестящую шерстку своих котов и с удовольствием режет на мелкие кусочки говяжье филе или печенку, которые пришлись по вкусу его любимцам. Остальные домочадцы не выносят этих тварей, оставляющих повсюду клочья шерсти и экскременты, однако Джон настаивает на том, чтобы домашние относились к ним, как в Древнем Египте, где кошки считались священными животными.
Смирившись с необходимостью принимать участие в семейной жизни, Джон отвел себе роль хозяина дома, предоставив Йоко заботу о средствах, необходимых для содержания семьи. Молодая женщина взвалила на себя эту задачу с отчаянной решимостью и практически не покидает рабочего кабинета, хотя новая ипостась Джона и объясняется чистой игрой фантазии: он даже как-то попробовал самостоятельно печь хлеб, но было очевидно, что это занятие наскучило ему прежде, чем хлеб испекся. Вообще Джону по вкусу любая простецкая пища: гамбургеры, липкие куски острой пиццы, толстые плитки шоколада «Херши» весом не меньше фунта. Но если говорить серьезно, то в течение многих последних лет у него лишь одна цель – вообще отказаться от пищи. Джон Леннон далек от того, чтобы стать хлебопеком или приверженцем системы здорового питания, – он подлинный маэстро голодания.
Это началось в 1965 году, когда какой-то журналист по глупости окрестил его «толстым Битлом». Подобное унижение Джон не смог забыть, и сейчас, в тридцать девять, все еще мечтает о том, чтобы вернуть себе тело юноши. Можно написать целые тома, рассказывая, каким драконовским диетам он подвергал свой организм, как подолгу голодал и какие наказания придумывал себе за то, что поддался соблазну выпить лишнюю чашку сладкого кофе или съесть еще один бутерброд. Он зачитывается трудами, которые, по его мнению, помогают обуздать аппетит; он мечтает утолять голод с помощью «десяти тщательно отсчитанных горошин, сдобренных кружочками консервированного редиса». Иногда он позволяет себе несколько кусочков рыбы или курицы, помимо обычной порции риса с отварными овощами, и каждое утро непременно измеряет объем талии. А когда Джон ловит себя на том, что съел что-то запрещенное, он бежит в ванную и засовывает в рот два пальца, прочищая желудок. Но от двух вещей он не в силах отказаться: от кофе и сигарет. Джон Леннон принимает и наркотики, но по-настоящему сильную зависимость испытывает только от этих, разрешенных законом субстанций.
Он выбирается из постели и ложится на пол, готовясь к занятиям йогой. У него тело факира: мешок костей, обтянутых кожей, и так мало мускулов, что даже электрогитара кажется ему слишком тяжелой. Ноги напоминают лапы какого-то зверя из семейства голеностопных. Кожа очень бледная, ведь он никогда не бывает на солнце, к тому же Джон не меньше десятка раз в день принимает ванну, а лицо и руки моет еще чаще, так что кожа его выглядит довольно странно.
Леннон не выносит никаких физических контактов, его раздражает даже прикосновение ткани. Он почти всегда ходит раздетым, лишь обуваясь в шлепанцы, чтобы не ступать по ковру. Если Джон замечает на полу длинные черные волосы Иоко, он требует, чтобы горничная немедленно прошлась по этому месту пылесосом. Он ни к кому не прикасается и никому не позволяет прикасаться к себе. И если у него случается редкий прилив родительской нежности и он берет Шона на колени, то поворачивает к себе спиной, чтобы не дать ребенку возможности обслюнявить отцовскую щеку поцелуем.
Закончив упражнения, Джон идет в ванную, где царит стерильная чистота, как в операционной. Он смотрит на свое отражение в зеркале. Ничего удивительного в том, что никто не узнает его в те редкие моменты, когда он выходит на улицу и спускается вниз по 72-й стрит, чтобы купить газету. Джон Леннон уже не похож на самого себя. Давно канули в Лету его знаменитые бабушкины очки. Те, что он носит сейчас, самые обычные: пластмассовая оправа и темно-синие стекла, скрывающие беззащитные глубоко посаженные глаза, которые стали настолько чувствительны к свету, что его слепят даже тусклые лампочки на рождественской елке. Нос с горбинкой по-прежнему выделяется на исхудавшем лице, но теперь он напоминает клюв какой-то странной птицы. Щеки и подбородок покрыты давно не стриженной густой бородой. Длинные волосы собраны в пучок, перехваченный заколкой, которая украшена миниатюрным изображением Кена или Барби. Джону нравится считать, что он похож на князя Мышкина, «Идиота», вышедшего из-под пера Достоевского, на этого эпилептического христоподобного героя, который своим диким криком заставляет собственного убийцу выронить нож и в ужасе спасаться бегством. В действительности в облике Леннона нет ничего княжеского; скорее, он напоминает уличного оборванца.
После того как Джон убеждается в идеальной чистоте своего тела, он выходит из спальни, отодвигает колумбийскую занавеску из белых жемчужин, за которую Иоко заплатила шестьдесят пять тысяч долларов и которая, как считается, должна охранять жилище от злых духов, и открывает находящуюся за ней дверь в коридор. Он движется вперед своей неуклюжей косолапой походкой. Проходит вдоль череды величественных белых комнат, из окон которых открывается панорама на Центральный парк: «белая комната», заставленная белой мебелью, посреди которой возвышается белый рояль из «Imagine», «комната с пирамидами», в ней собрана коллекция древнеегипетского антиквариата, включая позолоченный саркофаг с лежащей внутри мумией, возраст которой приближается к трем тысячам лет; «черная комната» с мебелью черного дерева, в которой Джон проходил шестимесячный карантин после «истории с Пан»; библиотека, где черный лакированный алтарь шинто, принадлежащий Иоко, соседствует с коллекцией порнографической литературы и эротических журналов Джона; «игровой зал», выходящий окнами на задний двор со стенами, обклеенными бумагой, разрисованной Шоном и его приятелями, и, наконец, самая северная комната – детская, где Шон (если только он не забрался в постель к Папе) все еще сладко спит в объятиях своей няни. Иоко провела ночь у себя в кабинете, устроившись на норковом покрывале, брошенном поверх раскладушки времен Наполеона, перехватив какие-то мгновения сна в промежутках между телефонными звонками.
Резко свернув налево, Джон направляется в сторону светлой просторной кухни, настоящей мастерской, разделенной на зоны, предназначенные для работы и отдыха: во-первых, домашний развлекательный центр, состоящий из последних достижений аудиовидеотехники и нескольких тысяч пластинок, рассованных по полкам; затем уголок для отдыха, включающий две софы, стоящие одна напротив другой и разделенные столиком для коктейлей, рабочий стол для Иоко, расположенный у противоположной стены возле двери, которая ведет в хорошо оборудованную ванную комнату; и, наконец, собственно кухня – пластиковые рабочие столы и полки, вытянувшиеся вдоль обеих стен и уставленные разнообразной кухонной техникой. Наполнив чайник, Джон воюет с автоматической газовой плитой, которой так и не научился как следует пользоваться. Пока кипятится вода, он проверяет, чтобы на полках не завалялось никакой пищи из запретного списка, который по большей части включает в себя самую обычную человеческую еду. Если ему удается обнаружить что-нибудь запрещенное, он, сердито ругаясь, отправляет съестное в помойное ведро: приходящая повариха постоянно жалуется, поскольку из-за этого никогда не может найти все необходимое для готовки.
Но вот чайник вскипел, и Джон усаживается за массивным столом перед большим арочным окном, выходящим на центральный двор. Удобно развалясь в высоком кресле с желтыми подушками, он наслаждается торжественным покоем предрассветного часа. Больше всего Джон любит завтрак, во время которого с ритуальной скрупулезностью неизменно поглощает одно и то же: несколько медовых печений с апельсиновым мармеладом. Несмотря на резкое неприятие сахара (навевающего «сахарную грусть», как написано в книге, которую он демонстрирует окружающим, словно символ веры), Джон ящиками поглощает мармелад. Так же неуемно он потребляет чай. Раньше он всегда пил только «Ред Зингер», поскольку эта марка не содержит кофеина. Когда кто-то по ошибке сообщил ему, что эту марку чая предпочитают хиппи, так как она содержит вещество, способствующее выделению адреналина, он переключился на обычный английский чай с кофеином и пил по двадцать-тридцать чашек чая и кофе в день.
Удовлетворив таким образом свой довольно слабый аппетит, Джон закуривает, берет в руки лист бумаги, фломастер и составляет список сегодняшних личных потребностей. Проводя большую часть жизни в постели, Джон реализует свои желания при помощи агента, готового отправиться в мир, чтобы выполнить его указания. Утренний список может включать десять-двенадцать позиций, от настройки телеканала, который забарахлил, до покупки новой книги или какого-нибудь продукта, например еды для кошек. Некоторые позиции иногда сопровождаются язвительными комментариями, указывающими на неудовольствие Джона тем, как данное поручение было выполнено в прошлый раз. Когда список составлен, Джон кладет записку на стойку, откуда она попадет к его помощнику, Фреду Симану. Семейство Симанов вошло в жизнь Йоко около тридцати лет назад. Дядя Фреда Норман Симан стал первым менеджером Иоко в 1960 году, когда она только начинала как перформанс-артистка. Его жена Хелен – няня Шона, и если говорить о семейном созвездии Леннонов, то эта пара заменила их детям дедушку и бабушку. Юный Фред, светловолосый и симпатичный, сын концертирующего пианиста-американца и немки, получил образование сначала в Европе, потом в Соединенных Штатах. Защитив диплом журналиста в Сити-колледже, он уже почти год работает на Джона, выполняя поручения по дому или мотаясь по городу в зеленом фургоне-"мерседесе".
Сегодня утром Джону хочется поработать, и он решает оставить записку и для Иоко. Усевшись за ее рабочий стол, он заправляет лист бумаги в печатную машинку, на которой умеет печатать только одним пальцем. Он страдает от того, что она полностью игнорирует его, ссылаясь на занятость. Чтобы поговорить с ней по внутреннему телефону, Джону приходится обращаться к одному из ее секретарей; кроме того, ему запрещено входить в ее кабинет, когда Иоко говорит по телефону. А Иоко день и ночь висит на телефоне. Так что он приспособился напоминать ей о себе письменно. Но хотя он многим недоволен, Джон ни в коем случае не желает ее прогневать. Ведь именно он переложил на ее плечи всю ответственность за семью, наделив Йоко необходимыми полномочиями, чтобы она могла управлять его состоянием и вести дела от его имени. Раз он пожелал освободиться от материальных забот, за это приходится платить. Поэтому записка жене пишется возвышенным слогом, точнее, это список, обозначающий те моменты его повседневной жизни, когда Джон чувствует себя особенно одиноким: когда просыпается, после чашки кофе, до чашки кофе, рано утром и в конце дня, вечером перед телевизором, когда курит... короче, постоянно. Приписав внизу «Папа, которому все видно из спальни», он вытаскивает листок из машинки и берет ручку, чтобы изобразить свою фирменную подпись.
Украсив длинную линию своего носа двумя небольшими окружностями очков, он изображает рот и бороду, прежде чем увенчать голову завитками длинных волос, которые, спускаясь слева, превращаются в букву W, а справа – в буквы ill. «Will»1 – так называется последний бестселлер Дж. Гордона Лидди, который с недавних пор сильно заинтересовал Джона, особенно те страницы, где автор объясняет, как научился контролировать свой буйный нрав и как ему удалось завоевать уважение сокамерников, после того как он не моргая подержал раскрытую ладонь над горящей спичкой.
Закончив свой шарж, Джон бросает взгляд в кухонное окно и замечает, что противоположное крыло здания уже начинает розоветь в лучах восходящего солнца. Словно по сигналу, он резко встает и отправляется в обратный путь по длинному коридору к своей никогда не меняющейся спальне.
Покой царит в квартире 72 до восьми часов утра, времени, когда появляются Миоко и Уда-Сан, две маленькие женщины с лицами крестьянок. Они принимаются за стирку и начинают готовить суп мизо, когда, в свою очередь, с черного хода из-за двери с табличкой «ПОСОЛЬСТВО НЬЮТОПИИ» появляется Иоко. Она что-то говорит им по-японски, усаживается за свой рабочий стол, и в тот момент, когда уже снимает телефонную трубку, в кухню вбегает преследуемый няней Шон.
Четырехлетний сын Джона Леннона – очаровательный малыш. Его полное, матового оттенка лицо сочетает в себе черты обеих рас. Маленький прямой нос, пухлый рот, темные шелковистые волосы – он нисколько не похож на отца, и дело доходит до того, что в гневе Джон порой заявляет, что это вообще не его сын.
Шон, словно дитя природы, вырос в обстановке полной свободы, не зная ограничений, которым подчиняются обычные дети. Он до сих пор расхаживает по дому в подгузнике и с соской во рту. Ему разрешается размалевывать краской стены, давить пиццу в кресле и писать на заднем сиденье лимузина; ни мать, ни прислуга никогда не делают ему замечаний. Каких бы глупостей он ни натворил, Йоко сохраняет невозмутимость. Она привыкла обращаться со взрослыми, как с детьми, и гордится тем, что с детьми обращается как с равными.
Отношение Джона к сыну отличается характерной для него двойственностью. С одной стороны, он гордится творческим началом и развитостью Шона, а с другой – выходит из себя, стоит малышу чем-то нарушить его покой. Он вовсе не уподобляется Йоко, полностью отрицающей дисциплину. Как-то раз, когда одна мамаша пожаловалась Джону, что Шон укусил ее маленькую дочку, он схватил сына за руку и тоже укусил его. Детей такое поведение отца пугает. В присутствии Джона Джулиан, единокровный брат Шона, цепенеет, Шон же старается задобрить отца. Иногда он карабкается на Джона, точно котенок, ибо по-детски безошибочно чувствует, как любит Джон своих котов.
В начале девятого с черного хода раздается звонок. Йоко смотрит в глазок, открывает, и в дом наконец-то приходит нормальная жизнь. Марии Хеа, единственная настоящая подруга и доверенное лицо Йоко, подталкивает вперед своих белокожих, похожих на кельтов детей: четырехлетнюю Кейтлин и девятилетнего Сэма. Начинается праздник. Малыши с криками бросаются пританцовывать вокруг Шона, к которому приходят играть каждый день и зачастую остаются на ночь. На шум выбегает вполне еще бодрая для своих шестидесяти Хелен Симан и уводит их в игровой зал, после чего удаляется на долгожданный отдых в свою маленькую квартирку, расположенную прямо над въездом в здание.
Марии Хеа даже не подозревает, насколько важную роль играет в эмоциональной жизни четы Леннонов. Как и все, что по-настоящему имеет значение для Иоко, ее дружба с Марни началась с осуществления пророчества. Через год после рождения Шона Джон Грин, который регулярно гадает Иоко на картах таро, предсказал ей, что она познакомится в своем квартале с женщиной, родившей ребенка в тот же день и в том же месте, что и Иоко, и что эта женщина станет ее лучшей подругой. Через какое-то время Массако, первая няня Шона, случайно перебросилась несколькими фразами с молодой мамашей, живущей по соседству и прогуливавшей в коляске своего младенца. Это была Марни. Иоко незамедлительно пригласила ее на чай.
Не все совпадало с пророчеством Джона Грина: Кейтлин родилась в один год с Шоном, но на восемь месяцев раньше, зато ее брат Сэм, хотя и на пять лет старше, родился именно 9 октября, то есть в один день с Шоном и... Джоном Ленноном! Так Йоко приняла обоих детей Марни, заявив, хоть это было и не так, что она рожала в той же больнице, что и Марни, чтобы подтвердить, что предсказание сбылось.
В странном семействе Леннонов Марни заняла ключевое место: ей отведена роль матери, которой так недоставало в детстве и Джону, и Иоко. Эту проблему Джон решил для себя тем, что ассоциировал с образом матери саму Йоко, обращаясь к ней не иначе, как «мать» или «мама», причем делая это детским голоском. Иоко, со своей стороны, упорно отрицала свое сходство с собственной матерью; отсюда же, кстати, ее постоянные настойчивые заверения, что она не имеет ни желания, ни способностей к тому, чтобы быть матерью. Марни же, напротив, оказалась идеальной мамой.
На первый взгляд Марни можно принять за обычную экономку, которую мало заботит ее внешний вид. Это крепкая женщина с большой грудью, плохо одетая и плохо причесанная, но еще никому не удалось устоять перед исполненным понимания взглядом, которым она одаривает каждого встречного. Сразу видно, что ее переполняют сострадание и жалость, постоянная готовность утешить любого, помочь всякому, кто в этом нуждается. Несмотря на свои дипломы – по английскому языку и лингвистике, на то, что она дослужилась до звания капитана американской армии, эта женщина посвятила себя одной страсти – детям. Иоко Оно, в совершенстве владеющей искусством использовать людей, понадобилось совсем немного времени для того, чтобы сообразить, что Марни – решение задачи номер один, связанной с воспитанием Шона.
У ребенка замечательная няня. Но няня – это всего лишь прислуга, которая выполняет приказы. Йоко мечтала найти для Шона настоящую вторую мать. Кого-нибудь, кто бы пользовался ее полным доверием и был способен на принятие серьезных решений, например в случае внезапной болезни или травмы. Йоко стремилась найти щедрую материнскую душу, способную окружить Шона любовью и заботой. Марни и не надо было просить, чтобы она расправила над Шоном свои крылья, обращаясь с ним, как с собственным ребенком: он даже спал в одной постели с Кейтлин.
Лучшим доказательством тому, что Марни прекрасно справляется с ролью «отсутствующей Матери», является то, что с ее приходом даже отшельник Джон вылезает из своей берлоги и во второй раз за утро совершает длинный переход по коридору до самой кухни. Внезапный выход Джона на сцену в собственной квартире можно назвать гораздо более смелым, чем его былые приключения в качестве Битла. В обществе женщин он является абсолютно голым! Ничуть не заботясь о том, кого может здесь встретить, мужчину или женщину, знакомого или незнакомца, великий Леннон возникает в естественном виде, подобно сырому моллюску, лежащему на одной из половинок раковины, – и идет ставить чайник.
При этом никто не чувствует смущения: король Джон выходит ко второму завтраку в своем лучшем платье. Он способен просидеть хоть целый час, задрав ноги на кухонный стол, и при этом у него никогда не бывает никаких сексуальных побуждений. Появление Леннона – сигнал для женщин; они прекращают разговоры и поворачиваются к кухонному столу, за которым устроился Джон, вооружившись чашкой чая и сигаретой. Наступает один из его любимейших моментов: время ежедневной лекции Голого Профессора. О такой слушательнице, как Марни, можно только мечтать: она только что вернулась со стажировки в Колорадо, а Джон – замечательный преподаватель, способный не терять нить повествования между утренней и вечерней частями лекции и при этом во второй части быть более убедительным, чем в первой. Собственные идеи оживляют его, но для того чтобы разобраться в своих мыслях, ему нужна внимательная аудитория.
Тема сегодняшней лекции? Крайне актуальный сюжет: убийство. Просьба учесть, что Джона совершенно не интересует политический аспект. Ему интересно рассматривать громкие убийства с точки зрения их организации. Когда Марни спрашивает его о гибели Мартина Лютера Кинга, Джон взрывается: «Мне наплевать, кто угрохал этого черномазого! Мне интересно лишь то, как это сделано». Джон просто помешан на сумрачном мире секретных служб и наемных убийц. По его мнению, именно убийцы являются настоящими жертвами. Такой парень, как Джеймс Эрл Рэй, – просто бедолага. Джон следит за процессом Рэя по кабельному телеканалу. Иногда он увлекает за собой Марни в другой конец комнаты, чтобы вместе посмотреть очередное судебное заседание. «Ты только посмотри! – сразу начинает он кричать. – Они накачали его наркотиками, это же очевидно!»
Когда Джон в форме, он не ограничивается теоретическими рассуждениями о заговорах. Если утро застает его в подходящем настроении, он может копать значительно глубже. В лучшие моменты Джон Леннон становится ясновидящим, эдаким Тиресием, уставившимся в телеэкран современного мира, не видя его, но зная о нем все. Он видит не изображение, а те образы, которые оно рождает в нем самом. Больше всего в убийстве его интересует то, что чувствует человек, которому предназначена пуля. Кстати, однажды ему представилась возможность удовлетворить свое болезненное любопытство, когда за год до этого перед зданием Карнеги-холла стреляли в Нормана Симана.
Норман ехал вниз по Седьмой авеню и собирался повернуть на 57-ю стрит, когда другой водитель, раздраженный его медлительностью, неожиданно обогнал его и, резко затормозив, нарочно подставил под удар зад своего автомобиля. Оба в бешенстве выскочили из машин, и, пока они громко ругались, из первой машины вышла женщина, наставила на Нормана револьвер и выстрелила. После чего злоумышленники бросились в машину и скрылись из виду, оставив на месте лишь одну улику: пулю, которой был ранен Норман; в него стреляли из оружия, широко применяемого в полиции. Норман чудом остался жив. Как только он выписался из больницы, Леннон вызвал его к себе. Он хотел узнать, что почувствовал Норман, когда в него выстрелили. Видел ли он, как пуля вылетает из ствола? Ощутил ли, как она входит в тело? Что первое пришло ему на ум, когда он понял, что ранен и может умереть? Получив из первых рук ответы на эти вопросы. Голый Профессор мог теперь досконально разобрать свою излюбленную тему. Он подробно описывает ощущения жертвы, отпускает циничные шутки или подолгу объясняет, что данный акт является современной формой распятия: пули всего лишь заменили гвозди.
Агония, смерть, распятие – эти сюжеты неотступно преследуют Джона Леннона. Во времена «Битлз» его часто охватывал страх погибнуть в горящем самолете, быть задушенным толпой поклонников или пасть от руки какого-нибудь экстремиста с юга. И только теория реинкарнации помогла ему найти решение проблемы, вставшей перед ним, как перед каждым смертным. Если мы хотим возродиться с лучшей кармой, то должны умереть достойно, глядя судьбе прямо в лицо. Джон хочет встретить смерть, как святой мученик, как сам Иисус Христос, противопоставив убийцам свое смирение.
Когда Джон рассуждает об этом, он невозмутимо спокоен. «Я не боюсь умереть, – объясняет он. – Это все равно, что пересесть с одного поезда на другой». Тем не менее Марни догадывается, что за видимым хладнокровием скрывается глубокий страх. «А почему тебя так интересует смерть?» – спрашивает она. Иногда она пытается повернуть его лицом к жизни: «Брось ты все это! Пойди лучше побегай по парку, тебе станет легче!»
Но Леннон переходит в оборону. "Я делаю то, что хочу! – протестует он, точно обиженный ребенок. – И говорю, что считаю нужным. Я ни перед кем не должен отчитываться. Я – это я, Джон Леннон. Эту фразу он повторяет с раннего детства. «Я Джон Леннон», – говорил он, будучи еще совсем малышом, пассажирам ливерпульского автобуса, как бы удивляясь, почему люди его не узнают.
Расстроенная тем, что рассердила его, Марни умолкает и возвращается к роли слушательницы, в то время как Джон, устремив взгляд в пустоту, продолжает вещать. Время от времени Марни поглядывает в сторону Йоко. Молодая японка сидит с застывшим выражением на лице, скрестив руки на животе. Все еще пребывая под действием утренней понюшки кокаина, она кивает в такт словам Джона. Однако за бесстрастной маской уже проглядывает нехороший огонек.
Джон увлекся, и ничто не может его остановить. Именно в этот момент Иоко незаметно передвигает на другое место пепельницу или чашку мужа, и когда он в очередной раз протягивает руку, чтобы взять чашку или стряхнуть пепел, рука натыкается на пустоту, и пепел падает на скатерть. Иногда по утрам, заслышав в коридоре шаги Джона, Йоко бросается к кошачьему ящику и раскидывает экскременты на пути следования мужа. Когда хозяин дома входит на кухню, он наступает прямо в дерьмо.
Правда, стоит Йоко замешкаться, Джон ловит ее на месте преступления. Расплата следует незамедлительно. Он хватает Йоко за волосы и, невзирая на вопли и попытки вырваться, тащит к духовке, угрожая поджечь ее черную гриву. Вот почему на кухне у Леннонов никогда нет спичек, а пол порой усеян волосами Йоко.
Два-три раза в неделю, когда Джону изменяет философское настроение, он зовет Марни поиграть с Шоном и его приятелями. Игровая комната, оборудованная гимнастическими снарядами, тобогтаном, батутом, заставленная огромными пластмассовыми кубиками, музыкальным автоматом и целым зверинцем гигантских плюшевых игрушек, больше похожа на детский парк аттракционов. Потолок разрисован изображениями персонажей из комиксов: Иоко в виде Уандервуман, Джон в виде Супермена и Шон в костюме Капитана Марвела – семья героев в окружении животных, обитающих в Волшебном Королевстве.
Есть здесь и пианино, за которое усаживается Джон, чтобы преподать своим юным ученикам урок музыкальной композиции. Однако Голый Профессор, мягко говоря, не отличается особым терпением. Невнимание детей быстро раздражает его, и он снова удаляется в свою берлогу.
Вернувшись в лоно кровати, Джон усаживается в позе лотоса, забивает огромный косяк, глубоко затягивается ароматным дымом и возвращается к уже начатому письму к тете Мими: она занималась его воспитанием в Ливерпуле, и оба сохранили по отношению друг к другу столько же любви и ненависти, как и прежде. Все те же упреки, те же споры. Но даже теперь, когда весь мир считает его одним из ведичайших людей второй половины XX века, Мими не может признать, что он кое-чего достиг, и продолжает относиться к нему, как к непослушному подростку. «Я верю в СЕБЯ... Чего же еще?» – пишет он так, будто ему необходимо защитить право на собственное существование в глазах старой леди, которую он не видел уже десять лет.
Разбросанные по стеганому одеялу Леннона книги свидетельствуют о том, что он продолжает напряженно работать, пытаясь найти решение своих проблем, уходящих корнями в детство. Он откладывает письмо к Мими, которому не суждено быть отправленным, и погружается в книгу, которая имеет для него такое большое значение: это «Первобытный крик» Артура Янова. Согласно концепции непрерывности, для того чтобы побороть невротическую зависимость, необходимо воспользоваться техникой обучения примитивных народностей. В книге, например, объясняется, что постоянный физический контакт ребенка с матерью, которая носит его на себе, не прекращая своей работы, дает этому ребенку силы стать независимой личностью. Подобная идея завораживает Джона, который постоянно стремится побороть ощущение оставленности. Всепоглощающее чувство тревоги, удерживающее Джона в полной прострации в полумраке собственной спальни, особенно ярко выражено на пластинке «Mother»2, это подлинная психодрама, дающая объяснение его неврозу.
Колокола звонят отходную, этот грустный и далекий звук напоминает о том мире, который символизирует их звон. За ними следует череда фортепьянных аккордов, полные меланхолии ноты одна за другой отдаляются, в то время как начинает звучать грустный голос, приглушенный, словно голос узника, заточенного в крепость... – или голос сумасшедшего, забившегося в угол чердака. И хотя в этом голосе есть протест, он бесстрастен. Его звучание, скорее, наводит на мысль о некоей навязчивой идее или о повторяющейся до бесконечности детской считалочке.
Но внезапно голос наполняется долго сдерживаемым чувством и взрывается в крике. Леннон призывает мать и отца. Его крик не похож на звук, испускаемый во всю силу легких певцом госпелов, не похож он и на вопль перепуганного героя фильма ужасов. Это сдавленный крик, отвратительный приступ тошноты. Джон Леннон пытается вытошнить свое прошлое. Но что бы он ни делал, это ему уже никогда не удастся.
Глава 2 Фред и Джинджер
9 октября 1940 года, шесть часов тридцать минут утра. В тот самый момент, когда Мими Смит удалось дозвониться до ливерпульского родильного дома, раздался вой сирен, предвещавший новый воздушный налет. Ее сестра Джулия Леннон была помещена в больницу прошлой ночью, и после тридцати часов мучений врачи решили сделать кесарево сечение. «Когда я узнала, что родился мальчик, – рассказывает Мими, – я сразу поехала туда, несмотря на воздушную тревогу. Всю дорогу бежала. Никто не смог бы меня остановить, даже Гитлер! Мальчик! Вы только представьте, первый мальчик в семье! Тот, кого мы все так ждали. Когда я добралась до больницы, я не могла оторвать от него глаз. Как же этот светловолосый малыш был красив! Это заметили медсестры. Три с половиной килограмма – как раз то, что надо, не маленький и не толстый. Как только я впервые увидела Джона, сразу поняла, что из него получится нечто необыкновенное».
Вой сирен не смолкал. В палату вошла сестра в длинном халате и белой косынке, взяла ребенка из рук Джулии и для безопасности положила под кровать. Мими следовало спуститься в подвал или уйти из больницы. Все так же бегом она отправилась домой, чтобы поделиться новостью с родными. «Мама! Он великолепен!» – возбужденно закричала она. «Да уж, в его интересах быть лучше других», – проворчал Поп Стенли, старый морской волк, удостоившийся звания дедушки. Когда Джон появился на свет, Джулии Леннон было двадцать семь, но она продолжала вести себя, как взбалмошная девчонка, и считалась большой мастерицей крутить романы.
Короткие юбки и туфли на высоких каблуках, подчеркивающие изгиб ноги, длинные золотисто-каштановые волосы, выступающие скулы, брови дугой, накрашенные губы – было довольно одной ее улыбки, чтобы мужчины теряли голову. Она получила немало предложений руки и сердца и могла бы составить «хорошую партию», но отвадила всех воздыхателей. Лишь один мужчина имел для нее значение – юный корабельный стюард Фредди Леннон. Фредди был ее Фредом Астером, а Джулия – его Джинджер Роджерс. Этот подвижный, как ртуть, гибкий юноша с голосом ирландского тенора и «идеальным профилем», что признавала даже неблагосклонная к нему Мими, желал жить наяву такой же жизнью, какую его знаменитый тезка вел на экране. Ну кто иной сумел бы повести себя так, как это сделал Фредди, когда впервые увидел Джулию? "Мы сидели в Сефтон-парке с одним приятелем – он учил меня знакомиться с девчонками, – рассказал Фредди Хантеру Дэвису3. – Я купил себе портсигар и шляпу-котелок и не сомневался, что против такого ни одна не устоит. И вот мы заприметили одну девчушку. (Джулии и Фреду было в то время по шестнадцать лет.) Я к ней подхожу, а она говорит: «Ты выглядишь как дурак!» – «А ты просто прелесть», – ответил я, присаживаясь рядом. Все было совершенно невинно. Я еще ничегошеньки не понимал. Она заявила, что если я намерен и дальше сидеть рядом, я должен немедленно снять свою идиотскую шляпу, и я подчинился. Я просто выбросил ее в озеро!" Фредди не составляло труда изображать из себя певца и танцора, поскольку с раннего детства у него остались замечательные воспоминания об умершем к тому времени отце: в молодости Джек Леннон выступал в Соединенных Штатах в составе ансамбля Эндрю Робертсона. Когда Фредди выходил в море на борту одного из великолепных, старых, построенных еще в тридцатые годы теплоходов, он нередко вспоминал семейную традицию, мазал лицо гуталином и потрясающе имитировал великого Эла Джолсона, падая на колени и исполняя «Мамми».
Джек, Фредди и Джон Ленноны – представители целой плеяды английских музыкантов, околдованных волшебством человека с темной кожей. Когда Джек умер, Фредди было семь лет, примерно в таком же возрасте Джон потеряет Фредди, а Шон – Джона. С самого начала эта семья была отмечена знаком разлуки. Фредди получил воспитание в Блю Коут4 Хоспитал, знаменитом ливерпульском благотворительном заведении, получившем название от одежды, в которую одевали живших там сирот: синее пальто, куртка с белым воротничком и серебряными пуговицами и цилиндр. Фредди гордился тем, что был из них, но мечтал взойти на подмостки сцены.
При первой же возможности он сбежал из приюта и присоединился к «Уилл Мюррейз Гэнг», детской труппе, пользовавшейся в то время популярностью. Его поймали, жестоко наказали, и до пятнадцати лет он был вынужден просиживать штаны на первой авторизованной биографии школьной скамье.
Несмотря на то, что помимо своей воли он получил таким образом превосходное образование, Фредди испытывал от этого только горечь, и у него на всю жизнь осталось ощущение, что он упустил свое истинное призвание. «Вот где должен был быть я!» – воскликнул он, показывая на сцену, когда впервые увидел на ней своего знаменитого сына. Не имея возможности осуществить мечту, Фредди попытался превратить в мечту свою жизнь. В течение десяти лет он пел только для Джулии Стенли и только ее заставлял смеяться. Они были в большей мере партнерами по игре, нежели любовниками. Так продолжалось до тех пор, пока Поп Стенли, думая, что сможет тем самым положить конец детскому увлечению дочери, не потребовал, чтобы она рассталась со своим приятелем или вышла за него замуж. В ответ на это Джулия, и не думавшая подчиняться отцовской воле, сказала Фредди, что готова переехать к нему, шокировав тем самым юного стюарда. «Я же воспитывался в приюте,– объяснял он. – Поэтому я сказал ей, что уж лучше нам объявить о помолвке и сыграть свадьбу, как положено. „Пари держу, тебе просто неохота жениться!“ – возразила она. И я сделал это. Вроде как в шутку. Это было очень смешно – взять и жениться». Приготовления к столь легкомысленному союзу должны были проходить втайне, поскольку обе семьи были от всего этого не в восторге. Стенли смотрели на Фредди свысока, ведь он был всего лишь судовым официантом, в то время как старый Стенли считал себя настоящим моряком, научившимся ставить паруса еще до того, как пароходы начали бороздить семь морей.
Ленноны, со своей стороны, были невысокого мнения о Джулии, зная о легкости ее нрава. Когда утром 3 декабря 1938 года, в день своего бракосочетания, Фредди приехал в гостиницу «Адельфи», он был на мели: уже много месяцев у него не было работы.
Он отправился в лавку к портному, у которого работал самый ответственный из его родственников – старший брат Сидней. После тщетных попыток отговорить Фредди от женитьбы, Сидней согласился быть у него свидетелем вместе со своим приятелем по имени Эдварде и даже одолжил ему один фунт. Джулия появилась в бюро регистрации актов гражданского состояния прямо перед закрытием, ее сопровождали две подружки, работавшие, как и она, билетершами в кинотеатре «Трокадеро». Служащий мэрии очень быстро совершил все формальности, и Сидней пригласил компанию пообедать в пабе. Свой «медовый месяц» Джулия и Фредди провели в кино, причем после сеанса каждый возвращался к себе домой, и Джулия все еще оставалась девственницей. Мими с горечью вспоминает, как Джулия преподнесла им известие о своем замужестве: «Она просто вошла и сказала: „Ну все, я вышла за него!“ – и швырнула на стол свидетельство о браке. Мы понимали, что из этого не выйдет никакого толку, но было бессмысленно говорить ей об этом. Мне кажется, она ни разу не задумалась о последствиях. Это было в ее духе». Через несколько дней Фредди Леннон отправлялся в круиз по Средиземному морю. К его возвращению ПопСтенли должен был выбрать одно из двух: потерять любимую дочь или смириться с ее замужеством. И тогда он предложил Фредди жить с ними. Они только что переехали из старого дома в Трокстете, сменив его на новое жилище, располагавшееся в доме 9 по Ньюкасл-роуд в округе Пенни-Лейн. Этот маленький домик, грустно похожий на все остальные дома на этой улице, был тем не менее много лучше прежнего жилья; семья Стенли сумела выбраться из района трущоб, ставшего впоследствии известным, как Ливерпуль 8. И дело не только в том, что Пенни-Лейн был более благополучным кварталом, здесь в их распоряжении были редкие по тем временам удобства: ванная, туалет и крошечный частный дворик. Именно в этом доме и был зачат Джон Леннон в январе 1940 года, во время боевых действий, которые впоследствии окрестили «странной войной». Когда же Джулии пришло время рожать, «странная война» превратилась в «битву за Англию». Немцы оккупировали Францию, сбросив англичан в море, и ночь за ночью самолеты «люфтваффе» бомбили Ливерпуль. На время воздушной тревоги Стенли укрывались в убежище, построенном за домом, где вся семья заботливо опекала молодую маму. С самого рождения Джон оказался в центре внимания всего семейства. Но, к сожалению, это продолжалось недолго. Сначала умерла мать Джулии, затем Мими переехала к своему мужу. Что же до Фредди, то он отправился воевать, как и тысячи парней из торгового флота, которые ежедневно рисковали жизнью, стараясь помешать немецким подлодкам приблизиться к английским берегам.
Мими, всегда готовая помочь сестре, предложила ей поселиться в Вултоне, деревушке в пригороде Ливерпуля, в доме 120 А по Аллертон-роуд, принадлежавшем ее мужу. С того самого дня, когда Джулия покинула родительский дом, ее жизни было суждено резко измениться. Она впервые оказалась предоставлена самой себе. Каждый вечер она отправлялась на танцы. Мужчины в военной форме толпились в пабах, пили, горланили, стараясь забыть о войне. Джулия, которая никогда раньше не притрагивалась к алкоголю, начала проявлять к нему пристрастие. Так как у нее не было денег на сиделку и она не осмеливалась просить Мими присмотреть за сыном, когда отправлялась на очередную гулянку, она старалась улизнуть из дома, едва ребенок засыпал. Маленький Джон просыпался и обнаруживал, что не просто остался без присмотра, но и находится в пустом доме. Ему воображались всякие привидения и чудища, караулящие его возле кровати. От ужаса он принимался так громко кричать, что поднимал на ноги соседей. Когда Фредди вернулся домой, ему доложили о ночных вылазках Джулии. Он сделал ей выговор. В ответ она молча вылила ему на голову чашку горячего чаю. Вне себя от бешенства, он ударил ее по лицу – никогда ни до, ни после он не поднимал на нее руку. Поскольку у Джулии пошла из носа кровь, Фредди позвал на помощь Мими, и она, в свою очередь, не преминула высказать сестре все, что думала о ее неподобающем поведении. Когда в 1943 году Поп Стенли переехал с Пенни-Лейн к своей сестре, Джулия вернулась в родительский дом – без мужа,– который теперь надолго уходил в плавания.
Теперь она могла проводить вечера как заблагорассудится. Чтобы получить возможность отправляться на поиски приключений вместе с двумя другими мамашами-одиночками, жившими по соседству, Долли Хипшоу и Энн Стаут, она вместе с ними наняла няньку, которая присматривала за детьми. .Однако во время гулянок молодые женщины не делали ничего непристойного, и так продолжалось до тех пор, покуда Фредди не влип в неприятную историю. Роковое плавание, сокрушившее семью Леннонов, началось 14 июля 1943 года, когда Фредди отправился в Нью-Йорк на борту судна «Самотрейс». Получив накануне повышение в должности – Фредди был назначен старшим официантом, – он ухитрился подписать контракт, в соответствии с которым его зарплата во время плавания оставалась на уровне самого низкооплачиваемого помощника стюарда.
Переживая, что сам себе навредил, он поделился сомнениями со своим бывшим капитаном, которого повстречал во время долгой остановки судна в Нью-Йорке. 13 января 1944 года, когда «Самотрейс» покинул Нью-Йорк, Фредди, сойдя на берег, отправился искать справедливости у британского консула. Тот не проявил никакого интереса к его проблемам и приказал Фредди немедленно выйти в море, не требуя повышения оплаты. Фредди получил назначение на «Саммекс», который должен был отправиться в Алжир 9 февраля. Вскоре он заметил, что все члены экипажа; за исключением капитана и радиста, замешаны в делах, связанных с черным рынком.
Однако по прибытии в Бон5 под арест попали не контрабандисты, а Фредди Леннон. Патруль в порту застал его за распитием бутылки пива, которая не значилась среди груза, перевозившегося на этом судне. Его швырнули в грязную военную тюрьму, а когда через девять дней отпустили, он очутился без гроша, далеко от дома, в городе, где царили жестокие и грубые нравы. В течение целых шести месяцев Фредди вел жизнь обитателя бонских трущоб, стал сподвижником лидера местного подпольного движения, голландца по имени Ханс после того, как тот спас его во время стычки с арабами в районе Касбы. В конечном счете он получил место на голландском судне, осуществлявшем перевозку войск между Северной Африкой и Неаполем. Как только ему удалось скопить достаточно денег, он купил билет до Англии. Но когда в ноябре 1944 года Фредди вернулся в Ливерпуль, с момента его отъезда прошло уже восемнадцать месяцев. После ареста Фредди Джулия не получила от судоходной компании ни пенни, зато муж регулярно писал ей, подробно рассказывая о своих злоключениях. Позднее, когда Мими надо было объяснить Джону причину исчезновения отца, она выдумала, -что Фредди намеренно удрал с корабля, чтобы бросить семью, – эту байку затем подхватили и разнесли по свету средства массовой информации. Ложь позволила тетке скрыть от ребенка истинную причину ухода Фредди, который, вернувшись домой, обнаружил, что жена не очень-то его и ждала. Весной 1944 года Джулия Леннон познакомилась с неким Таффи Вильямсом, валлийцем, служившим в подразделении противовоздушной обороны. Они встретились в «Британском легионе», куда Вильяме забрел со своим приятелем Джоном Дайкинсом, симпатичным темноволосым парнем с тонкими усиками. Джулия начала флиртовать с Вильямсом, Энн – с Дайкинсом, а Долли вернулась домой в одиночестве, оставив подруг в обществе мужчин. С того вечера они образовали неразлучный квартет: Джулия и Таффи, Энн и Джон. Дайкинс умел повеселиться, а работа официанта давала ему возможность обеспечивать компанию сигаретами, фруктами, шоколадом и виски, что в военную пору считалось настоящей роскошью.
Джулия была в восторге от своей новой жизни. Она всегда любила веселье, считая, что создана именно для этого. В течение полугода она была так счастлива, как, может быть, никогда в жизни. И вдруг обнаружила, что ждет ребенка. Таффи воспринял ее беременность благосклонно. Он даже хотел, чтобы Джулия переехала жить к нему. И зачем же ей отказываться от мужчины, с которым так хорошо, чтобы поджидать вечно отсутствующего мужа? Соблазн был велик. Но Таффи наотрез отказался взять на себя заботу о Джоне. Джулия настаивала, что не может бросить сына, а Таффи тем временем перевели на другой берег реки Мерси, полуостров Уиррал. Любовники расстались... и тут домой вернулся Фредди. Джулия сразу объявила мужу, что ждет ребенка. При этом она утверждала, что забеременела не по своей вине. Младший брат Фредди Чарльз, артиллерист, находившийся в тот момент в увольнении, так рассказывает об этом: "Альфред пришел посоветоваться. Он сказал, что она на втором месяце, но что еще ничего не видно.
Она рассказала, что ее изнасиловал один солдат, и назвала имя. Мы отправились в его гарнизон. Мне удалось проникнуть внутрь и договориться с командиром о том, чтобы он отпустил солдата поговорить с моим братом. Фредди не был вспыльчивым человеком. У нас вообще вся семья довольно спокойная. «Ты что же, побаловался с моей женой? – спросил Фредди. – Она говорит, что ты ее изнасиловал». – «Скажешь тоже! – ответил тот. – Какое это изнасилование? Она была согласна. Мы уже довольно долго были вместе, пока меня не перевели сюда, в Западный Дерби». Солдат поехал с нами в Ливерпуль, но мы только зря потратили время – Джулия послала его ко всем чертям. Увидев его, она расхохоталась и крикнула: «Проваливай отсюда, идиот!» И при этом она носила его ребенка. Тогда Альфред решил поручить Джона заботам другого нашего брата – Сиднея, который жил в Магхалле (деревня к северу от Ливерпуля). Он не хотел, чтобы им занималась сестра Джулии Мэри (Мими)". Против Сиднея Мими была бессильна. Ей оставалось только одно – позаботиться о Джулии.
Поп Стенли отказался приютить незаконнорожденного ребенка. Джулии нужно было выбирать: или уехать, или отказаться от ребенка.
Когда она избрала второе, Мими взяла на себя все формальности. Она отправилась к директрисе детского приюта Армии спасения, находившегося неподалеку от ее дома, носившего название «Strawberry Field»6 (не путать с «Fields»7) и расположенного в мрачном здании в стиле барокко.
Там ей дали адрес дома на Норт Моссли Хилл-роуд, где Джулия могла рожать. Когда Фредди вернулся из очередной командировки, он отправился в родильный дом Элмсвуд и стал умолять Джулию разрешить ему дать ребенку свое имя. «Об этом и речи быть не может, – ответила она. – Я тебя знаю. Рано или поздно ты разозлишься и назовешь его выблядком». Фредди бросился к Мими и попросил взять ребенка к себе. Мими отказалась. Ребенок появился на свет 19 июня 1945 года. Это была девочка.
Джулия назвала ее Викторией. В свете недавнего победоносного завершения войны в Европе это имя звучало очень мило, а кроме того, оно было созвучно второму имени, которое она дала Джону, – Уинстон. «Я очень хорошо ее помню, – рассказывает Анна Кэдуолладер, еще одна сестра Джулии. – Это была очень красивая малышка, но мы так и не узнали, кто был ее отцом... Как-то днем к нам пришел капитан Армии спасения и забрал ее. Больше мы никогда ее не видели». Когда Фредди попытался узнать, что стало с Викторией, ему ответили, что Армия спасения не дает никаких сведений ни родителям, ни тем, кто усыновляет ребенка. Ему удалось узнать только, что дочь Джулии попала в семью капитана норвежского флота. Таким образом, сводная сестра Джона Леннона выросла в Норвегии. Однако ни тогда, ни позже найти ее не удалось. Избавившись от Виктории, Джулия попросила Фредди взять Джона.
Сидней был против, утверждая, что примирение супругов будет недолгим и что он не хочет, чтобы ребенок был свидетелем новых ссор и расставаний.
Но Фредди не слушал его. Он был уверен, что все образуется и что Джон – связующее звено между ним и Джулией. Тем не менее Сидней оказался прав.
Стоило Джону вернуться к матери, как начались новые осложнения, новые проблемы. Порвав с Энн Стаут, Джон Дайкинс принялся ухаживать за Джулией. Он предложил ей совершенно иной образ жизни, чем тот, который она вела с мужем. Дайкинс любил удовольствия и комфорт. Он был привлекателен и умел обращаться с женщинами. Он проводил все больше времени в доме на Ньюкасл-роуд и даже завоевал расположение Попа Стенли, вернувшегося жить к дочери. Все было бы хорошо, если бы не одно осложнение: Джон Леннон не выносил присутствия в доме этого нового мужчины.
Его гнев выражался главным образом во враждебном поведении по отношению к другим детям. Нередко, когда его приглашали поиграть с дочерьми Долли Хипшоу Полиной, Хелен и Кэрол, он жестоко нападал на них, заставляя малышек визжать от ужаса. А так как Джулия не уделяла никакого внимания воспитанию Джона, Долли порой приходилось его лупить. Дела пошли еще хуже, когда в ноябре 1945 года Джон пошел в один детский сад с Полиной, которой, как и ему, было в то время пять лет.
Каждое утро по дороге в сад он прятался в засаде, а когда Полина выходила за дверь, с воплем набрасывался на нее. Полина была так запугана этими вылазками Джона, что стала отказываться идти в сад. Долли опять пришлось его поколотить. «Он был очень трудным мальчиком. Очень, очень трудным», – вспоминает Долли. И в своем мнении она не одинока. В апреле 1946-го, когда Джону было пять с половиной, его отчислили из детского сада за плохое поведение. Это событие ничем не выделялось на фоне новых семейных проблем. 26 марта 1946 года Фредди Леннон сошел на берег с борта судна «Доминьон Монарх» и вернулся в дом на Ньюкасл-роуд, где застал Джулию, Джона Дайкинса и Попа Стенли. Поп сообщил ему, что вновь переписал на свое имя документы по аренде дома.
Когда по этому поводу разгорелась ссора, в разговор вмешался Дайкинс и обвинил Фредди в том, что тот избивал Джулию, имея в виду случай с чаем. «Да какое твое дело! И вообще, кто ты такой?» – взорвался Фредди. Мужчины кинулись друг на друга с кулаками, и взбешенный стюард выставил ловкого официанта за дверь. Джон, проскользнув на лестницу, увидел, как его отец дерется с любовником матери, и эта сцена навсегда осталась в его памяти. Джулия приняла решение. Она сообщила мужу, что оставляет его, и начала перевозить к Дайкинсу мебель. Фредди в отчаянии бросился к своей матери. На него было жалко смотреть. «Мама, Джулия бросает меня!» – «Возвращайся домой, – строго сказала Полли Леннон, – и оставайся там, пока она не уйдет, даже если она оставит тебе только один стул, чтобы было куда присесть». Бедный Фредди подчинился и отправился наблюдать за тем, как жена опустошает дом. Памятуя о словах матери, он наконец спросил: «Ты не оставишь мне и стула?» В ответ Джулия насмешливо кивнула на старый сломанный стул, сказав, что им Фредди может распоряжаться по своему усмотрению. После нескольких тщетных попыток помириться с Джулией Фредди уехал в Саутгемптон, откуда вскоре должен был отплыть на борту «Королевы Марии».
Стоило мужу отчалить, как Джулия вернула мебель домой. Переезд оказался хитростью, понадобившейся для того, чтобы дать Фредди понять, что все кончено. Неудивительно, что Джон так отвратительно вел себя в саду, что его оттуда выгнали, ему и раньше доводилось сбегать из дома и искать убежища у Мими. Каждый раз он садился в трамвай, который узнавал по сиденьям, обтянутым черным дерматином (до конца жизни он будет помнить этот запах), а когда по ошибке оказывался в другом трамвае, то, бывало, часами блуждал по городу. И в этот раз он снова сбежал. Когда Мими открыла дверь и увидела его на пороге, ее гнев против Джулии вырвался наружу. «All she did was have you!»8 – воскликнула она. Через много лет Джон Леннон повторит эту фразу в песне «Mother».
Как только Мими уяснила, что происходит в доме на Ньюкасл-роуд, она сняла телефонную трубку и набрала номер «Королевы Марии», которая как раз готовилась к тому, чтобы отдать швартовы.
Объяснив Фредди, что Джон убежал из дома, она потребовала, чтобы Фредди вернулся к сыну, и передала трубку Джону. Ребенок сказал, что ему не нравится новый папа и что он хочет жить с Фредди.
Отец пообещал сыну вернуться, как только это будет возможно, и сдержал свое слово. Через две недели он позвонил в дверь к Мими. Вернувшись, Фредди пожертвовал лучшим шансом за всю свою карьеру. Мими устроила Джона в детский сад «Довдэйл» на Пенни-Лейн. Она рассказала также, что купила ребенку одежду и выставила счет отцу. На следующее утро Фредди попросил сына показать ему новую одежду. Джон ответил, что ему ничего не покупали. Убежденный в том, что Мими заботит, как вытянуть из него побольше денег, Фредди предложил сыну поехать вместе на каникулы в Блэкпул. Джон был в восторге. Мими не могла ничего возразить, и Фредди увез сына с твердым намерением больше никогда к ней не возвращаться.
В течение целых полутора месяцев, проведенных в Блэкпуле, Джон чувствовал себя в раю. Он наблюдал, как гуляющая публика шлепает по воде, повязав головы платками и засучив штанины. Он катался на осле, забирался на самый верх смотровой вышки, чтобы полюбоваться на закат солнца над пляжем Золотая миля. Оставшись наконец вдвоем с отцом, которого ему так недоставало, он разделял с ним все удовольствия, которые могут быть у маленького мальчика. Впервые в жизни Джон отведал вкус по-настоящему мужского мира. Фредди поселился у старого флотского приятеля, который собирался эмигрировать в Новую Зеландию. А почему бы и им не присоединиться к нему? Эта идея пришлась по вкусу Фредди, который, как и многие другие представители послевоенного поколения, желал только одного – все начать с нуля. Джон хлопал в ладоши: он всегда мечтал о том, чтобы отправиться в плавание по морям вместе с отцом, на большом белом пароходе. Но мечте маленького Джона было суждено обернуться кошмаром. В Блэкпул вместе с Дайкинсом примчалась Джулия.
Она решила забрать сына. Фредди объяснил, что собирается эмигрировать в Новую Зеландию, и предложил Джулии поехать с ним. И они вновь начали скандалить. В конце концов Фредди рассудил, что надо предоставить право выбора Джону. «Когда он увидел мать, он обхватил меня и спросил, останется ли она вместе с нами. Он так хотел, чтобы мы были вместе! – вспоминал Фредди. – Я объяснил ему, что это невозможно и что ему надо выбрать: будет ли он продолжать жить со мной или уедет с ней. И он ответил: „С тобой“. Джулия переспросила, уверен ли он в этом. „Да“, – ответил Джон. Она была уже почти на улице, когда Джон бросился ей вдогонку. Тогда я видел и слышал его в последний раз, пока мне не сказали, что он стал Битлом». Маленький Джон выбрал маму, но снова очутился у тетки. Заполучив его, Джулия сразу отправила мальчика к Мими. Это последнее предательство убедило Джона, что мать не любит его, что его вообще никто не любит и что он никому не нужен. Фредди Леннон, который любил его, исчез окончательно. В отчаянии от потери единственной женщины, которую он продолжал любить в течение двадцати лет, он снова отправился в плавание.
Если на этот раз причины исчезновения Фредди из жизни Джона ясны, то ясна и причина исчезновения Джулии: Поп Стенли был против того, чтобы Джон оставался с ней, пока она продолжала сожительствовать в незаконном браке. И тогда она обратилась за помощью к Мими. Мими согласилась, но при одном условии: Джулия должна отказаться от общения с Джоном. В противном случае ей не удастся воспитать его как следует. Конечно, молодая женщина могла попросить развода и узаконить свое положение. Но она знала, что эти усилия будут тщетны: Фредди на развод не согласится. Та, которую в течение многих лет все называли миссис Джон Дайкинс, в действительности до конца своих дней оставалась миссис Фредди Леннон. Полтора года Фредди скитался по морям, залечивая сердечные раны. Совершив путешествие в Новую Зеландию, он вернулся в Англию. Наступил декабрь 1949 года, до Рождества оставалась неделя.
Фредди решил встретиться с Джулией. Но какой прием его ожидал? Находясь в Лондоне, Фредди заливал тоску выпивкой. Однажды, пошатываясь от выпитого, он проходил по Оксфорд-стрит, когда внезапно заметил в одной из витрин великолепный манекен с золотисто-каштановыми волосами, напомнивший ему Джулию. Без малейшего колебания он разбил стекло, подхватил менекен и пустился с ним в безумный танец. Фредди был арестован и предстал перед судом, который присудил ему штраф в размере 250 фунтов – это было значительно больше того, что честный рабочий мог заработать за год, – или полгода тюрьмы. Не имея возможности раздобыть такую сумму, он очутился в камере. Из тюрьмы Фредди написал Мими. Думая, что его сын живет с Джулией, он просил свояченицу помочь ему вернуть Джона. Мими коротко обрисовала ситуацию и обвинила его в том, что он опозорил семью. Она всегда презирала Фредди, а теперь увидела в нем еще и злую силу, способную разлучить ее с Джоном.
И тогда она предупредила его: если он сделает попытку увидеться с .ребенком, она расскажет Джону, что его отец рецидивист. Фредди Леннон потерял последнюю надежду. Из тюрьмы он вышел конченым человеком. Тюремное заключение перечеркнуло для него всякую возможность вернуться в торговый флот, службе в котором он посвятил шестнадцать лет жизни, в том числе пять из них он отважно боролся с немецкими подводными лодками. Известие о смерти матери, дошедшее до него как раз в этот момент, окончательно сокрушило его. В возрасте тридцати двух лет он сгреб в морской рюкзак свои нехитрые пожитки и отправился бродяжничать, соглашаясь, чтобы выжить, на любую работу. Чаще всего он оказывался на кухне какой-нибудь гостиницы за отдраиванием кастрюль. К тому времени, когда Джон переехал в свой новый дом у тети Мими, он получил уже столько душевных травм, что их хватило бы, чтобы покалечить самую стойкую душу. Ребенок, брошенный матерью, лишенный семьи, переходивший из рук в руки и в довершение ко всему поставленный перед необходимостью невозможного выбора между отцом и матерью, которой, как выяснилось, он оказался вовсе не нужен, Джон пытался похоронить в своем сердце прошлое. "Я быстро забыл отца, – расскажет он много позже, – как будто он умер. Но иногда я встречался с матерью, и любовь к ней никогда не покидала меня.
Я часто думал о ней, будучи не в силах понять, почему она живет в пяти или десяти (на самом деле в трех. – А. Г.) милях от меня. Мими же всегда говорила мне, что она где-то очень, очень далеко". И если Джулия приезжала время от времени к Мими, то вовсе не потому, что волновалась о сыне, а потому, что у нее возникали проблемы. «Однажды она появилась в доме с разбитым лицом, видимо, произошел какой-то несчастный случай, – вспоминал Джон. – Я хорошо помню, что на ней было черное пальто. У меня не было сил смотреть на нее, и я вышел в сад. Я продолжал любить ее, но это меня не касалось. Быть может, это была обыкновенная трусость. Но я хотел заставить замолчать все свои чувства, все эмоции». Вероятнее всего, в тот раз она получила хорошую взбучку, поскольку, когда Дайкинс напивался, он становился буйным. Сестра вместо утешения осыпала ее градом упреков, и Джулия стрелой вылетела на улицу. Старшая кузина Джона Лейла Харви была в тот день дома. Она вспоминает, как смутилась, когда Мими в присутствии Джона обрушилась на Джулию со словами: «Ты недостойна быть матерью этого ребенка!»
Глава 3 Дитя матриархата
Когда Мими Смит стала матерью-воспитательницей Джона Леннона, она с большим рвением взялась за выполнение этой задачи. «Ни разу за все десять лет я не вышла ночью за порог этого дома», – говорила она, как бы противопоставляя себя Джулии, которая готова была вылезти в окно, если дверь оказывалась заперта. Джон Леннон, со своей стороны, всегда отдавал должное тете за то, что та дала ему дом, образование, родительское внимание – все, чего он был лишен по легкомыслию собственных родителей.
В то же время Джон испытывал глубокую неприязнь к Мими, упрекая ее, что она сводила его с ума своим воспитанием. Несмотря на свои благие намерения и самопожертвование, Мими Смит была далеко не самой подходящей кандидатурой на роль матери для такого неуравновешенного мальчика, каким был Джон. Будучи скорее тираном, нежели матерью, Мими оказалась типичной теткой, которая, говоря о любви к детям, не умела с ними обращаться, поскольку сама она в душе давно перестала быть ребенком. Лучшим объяснением ее неполноценности как матери является ее собственное далеко несчастливое детство. Будучи старшей из пяти дочерей Стенли, Мими была второй матерью для сестер. По этой причине она не торопилась обзавестись собственными детьми. А так как ей нравилось заботиться о других, она стала медицинской сестрой. Когда ей исполнилось девятнадцать, она ушла из дома и устроилась на учебу в вултонскую больницу, где работала и жила в течение многих лет. Но одной свободы Мими было недостаточно. Она стремилась бежать не только от собственной семьи, но и от той социальной среды, в которой выросла. Она хотела жить как настоящая леди и сумела добиться своего, устроившись работать личным секретарем к богатому промышленнику. Уйдя из больницы, Мими переехала жить к новым хозяевам по фамилии Викерс, которые относились к ней как к члену семьи. О замужестве она и не помышляла. «Мне нравилось находиться в обществе мужчин. Только я не испытывала ни малейшего желания оказаться привязанной к кухне или к раковине с грязной посудой». Так что когда молодой человек, с которым она прежде встречалась, уехал жить в Кению, она не стала проливать слез. Позже, работая в больнице, она прохладно отвечала на ухаживания Джорджа Смита, который привозил туда каждое утро молоко. Одетый, как и все фермеры, в сапоги и брюки-галифе, с платком, завязанным вокруг шеи, он выглядел очень неплохо, когда натягивал поводья своей конной упряжки. Но Мими в своем длинном синем платье, в белом фартуке и косынке медсестры и слышать о нем не хотела: это был обыкновенный деревенский парень. Джордж Смит не отчаивался. Мало-помалу между ними установилась нежная дружба, секретом которой, похоже, владели все сестры Стенли. «Я иногда звонила ему, – вспоминает Мими, – особенно когда бывала голодна или застревала в городе».
Такие странные отношения растянулись больше чем на десять лет. И вот однажды вечером, когда, как обычно, они гуляли вдвоем, он вдруг остановился прямо посреди улицы: «Послушай, с меня довольно. Или ты выходишь за меня, или все кончено!» – «Чего ты раскричался? – спросила Мими. – Я согласна». Вне себя от радости Джордж подхватил ее и закружил. «Давай пожмем друг другу руки, – предложил он, опуская ее на землю. – У нас в деревне всегда пожимают руки, когда заключают сделку». Мими протянула ему руку. «Договорились», – произнесла она твердым голосом. Они обвенчались 15 сентября 1939 года, за двенадцать дней до того, как Англия объявила войну Германии. Именно угроза военного конфликта заставила Джорджа проявить решимость. Его могли призвать в армию, и он подумал, что, если его убьют, Мими сможет получать за него пенсию.
Джордж отправился служить, а Мими, которой уже исполнилось тридцать три года, жила все это время у родителей. Через три года Джордж уволился в запас, и они переехали жить в Мендипс, предместье Аллертона, где купили полдома с семью комнатами.
И вот вместо того чтобы родить собственного ребенка, Мими неофициально усыновила одного из племянников. Женщина, которая взялась за воспитание Джона, являла собой полную противоположность его матери. Наверное, именно этим можно объяснить двойственность натуры, которая была присуща Леннону на протяжении всей жизни. Джулия была веселой и ребячливой, она любила смеяться, петь и подолгу играла с Джоном.
Мими всегда сохраняла дистанцию и была холодна, она заботилась о благе племянника, но была нетерпима к любым «глупостям». Джулия была исключительно ветреной особой, и дело доходило до того, что она приводила в дом любовников, вызывая тем самым ревность сына – последствия такого поведения матери мучили Джона на протяжении всей жизни. Мими и Джордж были спокойной пожилой семейной парой, никогда не выражавшей открыто взаимных симпатий, и у Джона даже создалось впечатление, что тетка больше привязана к своим персидским котам, чем к мужу.
Трудно себе представить более несовместимую атмосферу, царившую в обоих домах. Если у Джулии в доме все вечно было вверх дном и царил полный беспорядок, то Мими поддерживала в Мендипсе такую чистоту и такой порядок, какие бывают только в больнице. Кроме того, она была убеждена, что покой и дисциплина пойдут на благо племяннику. Благодаря тете Мими, детство Джона проходило, как долгое выздоровление в больнице для сирот, в которой он оставался единственным пациентом. Воспитание Джона основывалось на двух принципах: он должен был находиться под постоянным присмотром и набираться культуры, которая позволила бы ему подняться вверх по социальной лестнице. Таким образом, ему разрешалось встречаться только с теми детьми, которых тщательно выбирала сама Мими; впрочем, она предпочитала видеть его играющим в одиночестве у себя в комнате или в хижине, оборудованной для него между ветвей дерева в саду за домом. Он мог читать, писать или рисовать, но должен был избегать буйных игр. Стараясь свести на нет пристрастия, характерные для тех, кто происходил с рабочих окраин. Мими запрещала ему ходить в кино (помимо классических фильмов Уолта Диснея, на которые его отпускали два раза в год – на Пасху и на Рождество, – он все же смог посмотреть вместе с дядей Джорджем несколько вестернов). Она наложила запрет на телевизор и комиксы, записала его в библиотеку и стала учить разговаривать так, как это делали «шикарные люди». Она хотела, чтобы он пошел учиться и стал первым мальчиком в семье, получившим профессиональное образование. Во всех своих педагогических начинаниях Мими пользовалась поддержкой мужа. Несмотря на то, что отец Джорджа Смита содержал молочную ферму, в этой семье было несколько учителей, включая и эксцентричного братца Джорджа, который числился в штате Ливерпульского института. Сам Джордж Смит когда-то мечтал стать архитектором. Но добившись замечательных результатов в рисовании и иностранных языках, был отчислен из школы за непослушание: мальчик ударил по мячу после того, как ему это запретили. Поэтому он стал работать с отцом, Фрэнки Смитом, а затем отправился служить в армию. Молочная ферма была продана еще во время войны, после смерти Фрэнки, который утонул в болоте, и по возвращении из армии Джордж устроился работать на авиационный завод. Когда в страну вернулся мир, Джордж остался без работы.
Будучи большим любителем скачек, он открыл «подпольную» букмекерскую контору, но потерял на этом много денег, после чего контору закрыл и вышел на вынужденную пенсию. Теперь он получал доход от нескольких домов, доставшихся ему в наследство, в которых Мими сдавала комнаты студентам медицинского факультета. Жить становилось все труднее, причем до такой степени, что Джон впоследствии признавался: у тетки он никогда не мог наесться досыта. Джордж, у которого после неудач в бизнесе образовалось много свободного времени, учил племянника читать по газетам, рисовать карандашом и акварельными красками. Ни он, ни Мими ничего не понимали в музыке, но радиоприемник в гостиной не умолкал целый день, а благодаря дополнительному динамику Джон получил возможность слушать радио и у себя в комнате. Он мог часами валяться на кровати, задрав ноги на стену, погрузившись в чтение или предаваясь мечтам. Несмотря на амбиции Мими, Смитов не принимали в буржуазных семьях, которые жили по соседству. Как они ни старались, им суждено было навсегда остаться простолюдинами.
Джорджу ставили в упрек то, что он был букмекером, а Мими недолюбливали за чрезмерную чопорность и недружелюбие. Джон, который воспитывался как респектабельный буржуа, после ряда неприятных инцидентов обнаружил, что в действительности к этому миру не принадлежит. И тогда он восстал – не против класса, отторгшего его, и даже не против буржуазии, а вообще против любых форм общественной жизни, даже самых маргинальных. Всю свою жизнь Джон Леннон считал себя изгоем. Смиты поддерживали отношения лишь с сестрами Мими и их детьми. Старина Поп Стенли большую часть жизни провел в море, переложив ответственность за содержание большого семейства на плечи своей супруги Полли, красивой и уравновешенной женщины, которая с радостью позволила собственной матери узурпировать переданные ей бразды правления. Бабушка Мэри Элизабет, очень сильная женщина, говорила только по-валлийски и держала весь дом в ежовых рукавицах. Мэри Элизабет заключала в себе невидимые зачатки будущего характера Джона Леннона (несмотря на то, что умерла за восемь лет до его рождения), поскольку оказала сильнейшее влияние на пятерых внучек, причем больше всего именно на ту из них, которая и воспитывала Джона. Власть бабушки Мэри Элизабет была прежде всего связана с ее глубокой набожностью. Вера дала ей ясное понимание того, что есть добро, а что – зло. Будучи прихожанкой валлийской методической церкви, она установила в доме дочери необычайно строгие правила. Чтобы не нарушать воскресный покой, дети, например, не имели права даже раскрыть газету, не говоря уж о том, чтобы просто поиграть. «Священный ужас!» – вспоминала много позже Анна, рассказывая о бабушке. Полвека спустя, когда Марии Хеа говорила о строгости Джона по отношению к Шону и его приятелям, она употребила почти те же выражения: «Джон был способен кому угодно внушить священный ужас перед Господом!» И это не было преувеличением: страх Божий стал частью наследства маленького Джона. Семья Стенли была до такой степени отмечена матриархатом, что, вспоминая о ней, Леннон говорил: «Моя семья? Пять женщин... пять сильных, умных и красивых женщин, одна из которых была моей матерью». А его двоюродная сестра Лейла Харви так начинала свою историю: «Жили-были пять сестер, которые составляли одну семью». Все они по очереди брали на себя роль матери. Летом вторая по старшинству сестра, Элизабет, принимала всех племянников дома в Эдинбурге или на ферме в Хайлендзе. На Рождество и Пасху все собирались у Мими в Аллертоне или у Хэрриет, недалеко от Вултона. «Значение имели только женщины и дети, – объясняет Лейла. – Мужчины считались частью обстановки». Сам Леннон говорил еще резче: «Мужчины просто не существовали. Я постоянно находился среди женщин и постоянно слышал, как женщины рассуждают о мужчинах и о жизни. Они всегда были в курсе того, что происходит. Мужчины ничего и никогда не знали!» Если мужчины «ничего не знали», то только потому, что их не пускали в свой круг. «Никто из них не мог и слова сказать, – вспоминает Лейла. – Им приходилось мириться с теми решениями, которые принимали женщины». Нужно ли добавлять, что все эти господа были птицами невысокого полета, покорными неудачниками, которые довольствовались отведенной им ролью? Сводная сестра Джона Джулия резюмировала семейную сагу с немалой долей юмора: «Я бы сказала, что все они были настоящими амазонками! Каждая из них пожертвовала своей левой (sic.) грудью!»
Глава 4 Двуликий Леннон
Двойственность в характере Джона проявилась уже с самого детства. Наполовину «монах», наполовину «ученая блоха», по его собственному выражению, он постоянно переходил от созерцательного спокойствия к агрессивному возбуждению. Получив воспитание затворника в Мендипсе, где он был вынужден отгораживаться от мира и концентрироваться на интеллектуальной деятельности, Джон рано понял, сколь высокую цену приходится платить, если хочешь найти защиту от внешнего мира: это цена одиночества. «Я видел одиночество!» – воскликнет он много позже, вспоминая об этих годах своей жизни. А вскоре, когда одиночество и лишенное эмоций существование начали порождать галлюцинации, ему стали являться странные видения.
Иногда он усаживался перед зеркалом и, замерев, проводил не менее часа, глядя самому себе прямо в глаза и постепенно погружаясь в какое-то подобие транса. «Я видел, как начинало меняться мое лицо, – спустя годы рассказал Джон биографу „Битлз“ Хантеру Дэвису, – как глаза становились все больше, а комната исчезала!» Умение проходить сквозь зеркало открыло перед мальчиком волшебный мир видений и фантазий, который впоследствии он будет стараться исследовать еще глубже при помощи наркотиков.
Эти видения наполняли его одновременно тревогой и гордостью. «Кто же я такой, сумасшедший или гений?» – уже тогда спрашивал он себя. Но прочитав книгу о жизни Винсента Ван Гога, он уяснил для себя одну мысль, которая успокоила его – возможность существования «сумасшедшего гения». «Ты еще об этом пожалеешь, – упрекал он свою тетку, когда она выбрасывала в помойное ведро его рисунки и стихи. – Ты уничтожаешь труд гения».
По правде говоря, из того, что сохранилось после генеральных уборок Мими, нельзя сделать вывод о каком-либо таланте Джона. Привычка считать себя центром мироздания, безусловно, помогла Леннону стать суперзвездой, но больше всего своим успехом он обязан удивительному дару красноречия. Мими Смит можно упрекать в чем угодно, но нельзя не признать, что именно она научила племянника выражать свои мысли. Будущий герой вокальной культуры очень рано стал прекрасным оратором. Независимо от того, радовал или огорчал он слушателей своими речами, его слова никогда никого не оставляли равнодушным. И этим он был обязан своей тетке. «Я всегда считала, что необходимо высказывать то, что у тебя на сердце», – объясняла Мими, чей строгий, высокомерный и нравоучительный тон можно уловить в речах Леннона, особенно в период после его ухода из «Битлз», когда он стал изображать из себя пророка. С самого начала тексты его песен звучали органично, искренностью и резкостью они выгодно отличались от обычной для песен того времени слащавости и набора избитых клише или от многоговорения главного соперника Леннона – Боба Дилана.
Тем не менее, когда маленькому Джону надо было переходить от разговорного языка к письменному, начинались серьезные проблемы. Представьте себе изумление учителей, когда они поняли, что блестящий ребенок, который обожал читать и использовал богатейший словарный запас, не мог правильно произнести по буквам самые простые слова. Он переставлял местами буквы, писал вместо нужного слова другое, схожее по звучанию. И только через много лет Леннон узнал, что причина этих детских ошибок (равно как и неспособность к правильному спеллингу, которой он страдал на протяжении всей жизни) заключалась в дислексии, довольно часто встречающемся неврологическом недуге.
Этот недостаток, пожалуй, пошел Леннону на пользу, позволив не просто использовать при сочинении песен инверсию, но и с ее помощью видоизменять целые мелодические фразы, которые он «одалживал» направо и налево. Он никогда не писал песен в одной определенной тональности, предпочитая использовать модальные ноты, которые позволяют переходить из одной тональности в другую. Кстати, он всегда был в восторге от совершенно случайно обнаруженного эффекта – звука магнитофонной записи, пущенной в обратную сторону. Однажды вечером он вернулся в студию под приличным кайфом и захотел еще раз прослушать свою последнюю песню «Rain»9, записанную под аккомпанемент басовых трубок волынки. Пленка была перемотана наоборот, и диссонирующая симфония, которую он услышал, обрадовала Джона. Кстати, он использовал эту запись в конце пластинки, и с того дня «Битлз» стали королями инверсивной записи.
Влияние дислексии особенно явственно заметно в его текстах. И если Джон решил стать рок-музыкантом после того, как в пятнадцать лет впервые услышал песню «Heartbreak Hotel»10 в исполнении Элвиса Пресли, то стихотворение «Джебберуоки» из сборника «Зазеркалье» надоумило Леннона обратиться к юмору и сюрреализму, которыми так насыщены его песни. «Слова-вешалки» Льюиса Кэрролла, полученные путем слияния воедино двух близких по значению слов, неизменно восхищали его. Овладение именно этим приемом привело впоследствии к одному из самых знаменитых диалогов с журналистами, когда на вопрос: «А вы Моды или Рокеры?», Джон ответил: "Ни то, ни другое, мы – мокеры11". Используя все тот же принцип «вешалки», он написал «At the Dennis»12, вошедшую в книгу «In His Own Write»13, перефразируя слово в слово урок из «Англо-итальянского разговорника» профессора Карло Бароне.
С этой точки зрения песню «I An the Walrus»14 можно считать самой блестящей художественной удачей, поскольку синтез игры слов и нот, достигнутый автором, вызывает то же колдовское очарование, которое так восхитило его в «Джебберуоки».
Помимо дислексии, Джон страдал близорукостью и астигматизмом. Несмотря на то, что в детстве эти легко устранимые недостатки не создавали для него более серьезных проблем, чем разбитые время от времени очки, маниакальная сосредоточенность на них Джона превратила проблему с глазами в идею-фикс, оказавшую глубокое разрушительное влияние на всю его будущую жизнь. То, что у мальчика плохое зрение, обнаружилось только в одиннадцать лет. Несмотря на это, после прохождения курса лечения первобытным криком он утверждал, что стал неважно видеть именно в тот период, когда расстались его родители. «Я все перенес на глаза, чтобы не видеть, что происходит». В действительности, все Ленноны отличались плохим зрением, как и длинным носом. Трудности Джона начались тогда, когда он отказался «обезобразить» себя очками. А без них он плохо видел. Мир представлялся ему мутным и расплывчатым. В кино он просил приятелей объяснять, что происходит на экране. Чтобы не заблудиться на улице, ему приходилось переходить от одного указателя к другому. Как-то раз, катаясь на велосипеде, он на полном ходу врезался в стоявший автомобиль и избежал серьезных травм только благодаря тому, что перелетел через машину, совершив настоящий акробатический прыжок. Но самое главное заключалось в том, что слепота, на которую Джон обрек себя сам, имела серьезнейшие последствия для его умственного и чувственного развития.
Отчетливо Джон видел только то, что находилось у него под носом. (Именно по этой причине он всегда слегка приподнимал голову, а вовсе не для того, чтобы выразить свое презрение к окружающим, как можно было подумать.) Тогда же у него появилась привычка обособляться от мира и заниматься самоанализом. Но это было еще не все: умственное зрение напрямую зависит от зрения глазного. Сочиняя, Леннон работал наподобие лаборанта перед микроскопом, собирая воедино словесные и музыкальные частицы. Он использовал примитивные элементы, одно– или двухнотное песнопение, какой-нибудь гул, неясный мотив, оперируя настолько же ограниченным слухом, насколько ограниченным было его зрение. Когда много позднее продюсер Джордж Мартин дал ему послушать «Дафниса и Хлою»15, он был не в состоянии уловить музыку, находя мелодии «слишком длинными». Так что нет ничего удивительного в том, что самой проникновенной мелодией его песен стала тема размером в терцию английской считалочки «Три слепых мышонка», из которой получились и «АН You Need Is Love», и «Instant Karma», и «My Mummy's Dead»16. Даже на своем автоответчике Джон использовал ту же мелодию.
Чувство неловкости, которое испытывал Джон при общении с окружающими, подталкивало его к стремлению контролировать ситуацию, изображая «ученую блоху». Но такая тактика приводила к еще большей изоляции, образовывая между ним и остальным миром подобие оркестровой ямы, через которую актер обращается к зрительному залу. Чтобы найти контакт с ровесниками, он попытался навести страх на всю округу, но подобное поведение стоило ему отчисления из детского сада. Когда позднее, в августе 1946 года, Мими записала Джона в начальную школу, во избежание неприятностей она поставила условие, что будет ежедневно провожать племянника до школы и встречать после занятий. Однако Джон так категорически возражал, что тетка была вынуждена отступить. В школе Джон быстро снискал себе самую дурную репутацию. "Мы все немного побаивались его, – вспоминает одна из одноклассниц Джона. – Наши матери постоянно косились на него, как бы говоря нам: «Держись подальше от этого мальчишки!»
Кстати, первая дружба Джона завязалась именно в драке. Однажды, когда светловолосый восьмилетний Пит Шотгон проходил через пустырь, расположенный возле школы, спрятавшийся Джон выскочил к нему и пригрозил отдубасить, если тот не пообещает никогда больше не называть Джона обидным прозвищем «Винни», которое приводило его в бешенство. Пит принял вызов, и мальчишки бросились друг на друга. Джон, будучи на год старше, взял верх и вырвал у противника требуемое обещание. Но стоило ему отпустить Пита, как тот отбежал подальше и тут же принялся кричать: «Винни! Винни! Винни!»
«Ну, Шоттон, ты мне за это заплатишь!» – бросил Джон с перекошенным от злости лицом и погрозил кулаком.
«А ты, Леннон, сначала меня поймай!» – прокричал в ответ Пит.
Какое-то время мальчишки стояли, меряя друг друга взглядами, пока Пит не заметил, что выражение лица противника стало меняться. «Его лицо, – вспоминает Пит, – постепенно растянулось в широченную улыбку». С этого дня они стали неразлучными друзьями.
Тесные отношения Джона с Питом положили начало его сближению с другими детьми. «Никогда больше я не встречал такой сильной личности, такого индивидуализма, – скажет позже Пит. – И тем не менее он постоянно нуждался в союзнике». И даже не в одном. «Меня неизменно окружали три, четыре или пять приятелей, которые одновременно оказывали мне поддержку и подчинялись мне. А я всегда был вожаком», – вспоминал Джон. Он формировался как личность в среде молодежных группировок, которые в некотором роде можно считать прототипом «Битлз». Этот феномен относится к целому культурному слою – молодежной среде Ливерпуля, где в конце пятидесятых противоборствующие уличные банды постепенно превратились в агрессивные музыкальные ансамбли. Важнейшей чертой ленноновских банд было то, что они являлись как бы продолжением его собственной личности. Леннон уделял большое внимание идеологической обработке единомышленников. Подобно ему, они должны были отрицать любые традиционные формы власти. «Родители – это не Господь Бог, – объяснял он им. – Посмотрите на меня: я вообще не живу со своими родителями».
В течение долгих лет Леннон вел непрерывную партизанскую войну против взрослого мира. В своем тихом квартале Джон и его друзья пользовались дурной репутацией. Они подкладывали петарды в почтовые ящики, звонили в двери домов после наступления ночи, разбивали уличные фонари, воровали в лавках пластинки, сдергивали трусики у девочек на улице, а однажды, за день до намечавшегося фейерверка, умудрились подорвать все приготовленные для него ракеты.
Шалости Леннона почти всегда оборачивались жестокими играми. Джон мог улечься посреди улицы рядом с опрокинутым велосипедом и ждать, пока не остановится какой-нибудь автомобиль. Водитель в ужасе выскакивал из машины, чтобы оказать помощь раненому ребенку. Но пока он открывал дверцу, жертва исчезала. Еще он любил названивать разным людям по телефону поздно ночью и глухим голосом запугивать их.
Одной из излюбленных мишеней Джона стал школьный учитель по имени Долсон, с которым во время войны случился серьезный нервный срыв. Как только Леннон прознал об этой слабости, он вцепился в беднягу, точно шакал. С наступлением темноты он набирал домашний номер Долсона и приглушенным угрожающим голосом говорил: «Где коробка? Нам нужна коробка!» На следующий день в школе, внимательно изучая лицо учителя, Джон пытался определить, возымели ли угрозы должный эффект. Довольно скоро, к величайшему наслаждению Джона и его приятелей, Долсон стал проявлять признаки беспокойства.
Когда Джон достиг школьного возраста, все члены семьи принялись настаивать на том, чтобы Мими записала мальчика в одно из престижнейших учебных заведений города – Ливерпульский институт; однако эта идея была ей не по душе, поскольку институт располагался в самом центре богемного квартала Ливерпуль 8, отличавшегося крайне нездоровой обстановкой. Так что в результате Джон оказался учеником школы, расположенной в одном из самых респектабельных жилых районов города – Калдерстоунз, находившемся в двух милях от Мендипса.
В сентябре 1952 года, за месяц до своего двенадцатилетия, Джон впервые переступил порог Куорри Бэнк Грэмма Скул, государственного учебного заведения, которое располагалось в массивном здании, построенном в псевдо-тюдорском стиле. Стены из кирпича и тесаного камня, деревянная обшивка и инкрустации – декорации и в самом деле были не рок-н-ролльные.
А школьная форма? Черные фуражка и пиджак, серые брюки и свитер, белая рубашка и черный галстук с бордовыми и золотыми полосками и вышитым школьным гербом. На левом кармане пиджака герб с изображением оленьей головы, обрамленной сверху четырьмя раковинами, под которой написано «Ex hoc metallo Virtutem» – «Из грубого металла выковываем совершенство».
Дисциплина была такой же суровой, как в знаменитых старых английских пансионах, и поддерживалась надзирателями и главным воспитателем, который назначал телесные наказания и записывал любые нарушения в специальную книгу.
Уровень обучения в Куорри Бэнк был очень высок, особенно во гуманитарным предметам. А поскольку в свое время эту школу окончили два премьер-министра от социалистической партии, в прессе ее окрестили «Итоном лейбористской партии».
Джон Леннон не проявлял особого рвения в учебе. Каждое утро тетке приходилось буквально вытаскивать его из кровати. Натянув ненавистную форму и проглотив на ходу завтрак, он прикреплял учебники к багажнику велосипеда и мчался вдоль Менлав авеню, останавливаясь на перекрестке с Вэйл-роуд, где его обычно поджидал Пит Шоттон, еще один ребенок из этого квартала, которого приняли в Куорри Бэнк. Леннон приезжал в школу заранее. Он старался не пропустить свой номер, с которым выступал перед мальчиками и девочками, собравшимися вокруг статуй у входа в Калдерстоунз-парк. Едва соскочив с велосипеда, он начинал ораторствовать перед толпой в академическом стиле, используя высокопарный слог.
Мег Дотерти, ставшая впоследствии Мег Дринкуотер, ученица женской школы Калдерстоунз, расположенной по соседству с Куорри Бэнк, вспоминает об этих выступлениях: «Джон был жутко надменным. И очень жестоким. Вечно выискивал нечто такое, чего все стыдились, – недружная семья, отец, которого не бывает дома, больная мать. Как только он видел, что у кого-то дела не в порядке, он хватался за это и рассказывал приятелям, которые открыто высмеивали бедолагу. Особенно мало было шансов у девочек, чтобы противостоять этим злобным насмешкам». Однако стоило упомянуть о какой-нибудь мелочи, которая смущала его, Джон мгновенно менял тему разговора. «Достаточно, например, было сказать: „А мы с папой и мамой ходили в кино“, как тут же возникал барьер, опускалась стена. И он сразу начинал говорить о чем-нибудь другом. Сам он никогда не отвечал серьезно, о чем бы его ни спрашивали. Все время юлил и отделывался шутками».
Джон был жестоким не только на словах; он набрасывался на любого, кто вызывал его раздражение. Как-то Мег приехала в школу на подержанном гоночном велосипеде, который получила в подарок на день рождения. Когда она подъехала к воротам Калдерстоунз-парка, Джон буквально висел у не,е на колесе. Собравшиеся ребята были настолько поражены при виде Мег и ее велосипеда, что не обратили на Джона никакого внимания. Это привело его в ярость, и он, поравнявшись с девочкой, наклонился вперед и столкнул ее на тротуар. В результате этого маневра Джон и сам не удержался в седле, но, падая в свою очередь на землю, все же умудрился разразиться злобным смехом. Когда Мег рассказывает эту историю, она неизменно приподнимает подол юбки и показывает шрам, оставшийся у нее на колене. Будучи одновременно агрессивным и постоянно настороже, Джон, как и все, кто старается нагнать страх на окружающих, в глубине души не был храбрецом. «Обычно он ходил, – вспоминает Пит Шоттон, – сгорбившись и опустив голову, словно перепуганный кролик, загнанный в угол, но готовый броситься вперед». Когда он атаковал, он делал это внезапно. А если оказывался перед более сильным и смелым соперником, старался смутить его своими сарказмами и, если номер не проходил, предпочитал смотаться. Джону и Питу нередко доставалось от старшего воспитателя, знаменитого Эрни Тейлора, но сколько бы ударов тростью ни обрушивалось на Леннона, он оставался все таким же. Более того, он стал изображать из себя этакого маргинала, которому совершенно безразлично, что он творит и как его за это наказывают.
Тетю Мими до такой степени расстраивали постоянные жалобы из школы, что она начала вздрагивать всякий раз, когда раздавался телефонный звонок. Ее собственные усилия, направленные на то, чтобы призвать Джона к порядку, давно потерпели фиаско. Как бы она его ни наказывала, все было тщетно. При этом ей нечего было рассчитывать на помощь Джорджа, который вечно закрывался от всего газетой. Джону исполнилось тринадцать лет, когда дело дошло до открытого противостояния.
Джон всю жизнь вспоминал то время. В письме к тете, написанном за год до смерти, он опять возвращался к старым обидам. Это может показаться странным, но больше всего он упрекал ее в жестоком к себе отношении. Он обвинял ее в том, что она швыряла в него хрустальные пепельницы и требовала от воспитателя, чтобы тот «врезал ему покрепче», чтобы парень «не слишком умничал».
Мими всегда унижала тех, с кем воевала. Именно так она победила Фредди. Однако против Джона такая тактика не сработала. И тогда она решила прибегнуть к жестокости. Джон в отместку тоже старался унизить ее, и в этом сражении пускал в ход любые средства. У него было достаточно обид на Мими: она запирала его дома, шпионила за ним, манипулировала им и лишала тех удовольствий, которые свободно доставались другим детям. Ну как ему было не восстать, тем более что он как раз вступал в самый конфликтный возраст, каким является отрочество!
Дело кончилось тем, что Джон нашел себе союзника по борьбе с матриархатом Мими в лице своей собственной матери Джулии.
Глава 5 Странная гавань
Дом Дайкинсов за номером 1 по Бломфилд-роуд был довольно неказистым. Он представлял собой небольшое строение, прилепившееся к соседнему и похожее как две капли воды на все остальные дома на улице, и при этом казался почти заброшенным. В саду виднелись лишь сорняки да затхлая вода, скопившаяся в забитых опавшими листьями сточных канавах. Тем не менее, оказавшись в доме, посетитель попадал в теплую и гостеприимную атмосферу. Старый граммофон наяривал танцевальные мелодии, полки и шкафы были как попало заставлены разными безделушками, в баре было полно всякой выпивки, и в довершение гостей неизменным дружелюбным лаем встречала в дверях хозяйская собака.
Который бы ни был час, Джулия всегда была одета, накрашена и тщательно причесана. Поскольку муж, проводивший целый день дома, освободил ее от домашних забот, у нее было достаточно свободного времени. Дайкинс ходил на рынок, менял занавески, пек пироги. А Джулия играла на пианино и пела популярные песенки из музыкальных комедий и кинофильмов.
Ее дом был гаванью для всех детей семьи Стенли. «Когда я ссорилась с матерью, – вспоминает Лейла, – я всегда отправлялась к Джулии. Я усаживалась перед телевизором, а Джуди, чувствуя, что мне нехорошо, потихоньку совала мне в руку яблоко. Через какое-то время мне становилось лучше, и я шла к ней на кухню, а через час уже забывала о своих проблемах. Она всегда умела примирить меня с жизнью».
Пит Шоттон вспоминает, что, когда Джон впервые познакомил его со своей матерью, она взглянула на него и воскликнула: «О, какой худенький красавчик!» Пит протянул Джулии руку, а она, смеясь, принялась похлопывать его по бедрам. Когда Джон признался, что приятели прогуляли занятия в школе, Джулия весело успокоила их: «Да не беспокойтесь вы насчет школы. Главное – вообще ни о чем не беспокоиться! Все будет хорошо!»
У Дайкинса был странный тик. Он кашлял, а затем обязательно нервно подносил руки к лицу, как бы желая убедиться, что его нос все еще на месте. За это Джон прозвал его Дергунчиком. Но вообще-то с отчимом у него были вполне добрые отношения. Всякий раз, когда Джон и Пит появлялись на Бломфилд-роуд, Дайкинс совал им несколько монет, которые вытаскивал из большой банки, куда складывал свои чаевые. Это он купил Джону первые цветастые рубашки и другие модные вещицы, которых тетя Мими либо не одобряла, либо не могла себе позволить, а когда Джон подрос, они нередко вместе потягивали пивко.
Будучи красивым мужчиной крепкого телосложения, обладая матовой кожей и тонкими прямыми актерскими усами, Джон Дайкинс вполне мог сойти за южанина. Джулии нравилась его властная манера в общении с женщинами. (Ведь именно в слабости она упрекала Фредди.) Тем не менее, несмотря на безусловные мужские достоинства Дайкинса, его следующая жена, Рона, всегда считала, что по натуре он гомосексуалист. Наблюдая за ним в течение шести лет знакомства, включая три года брака, она обратила внимание на то, что практически все друзья ее мужа были голубыми.
Дайкинс неплохо зарабатывал, работая официантом в дорогих отелях, где неизменно был на хорошем счету. Однако он крепко выпивал. Стоило ему оказаться вечером без дела, как он напивался, причем до такого состояния, что, возвращаясь домой на машине, нередко останавливался на полдороге, чтобы прийти в себя. (Дайкинс погиб в автомобильной аварии 1 июня 1966 года.) Он был щедрым, много транжирил и любил повеселиться с приятелями, при этом, уезжая из города, часто забывал оставить денег Джулии, вынуждая ее просить в долг у соседей, чтобы прокормить семью или достать угля для отопления дома.
Несмотря на это, он обожал Джулию и обеих очаровательных дочурок, Жюли и Жаклин, прощая им любые капризы. И тем не менее ему случалось приходить в бешенство, колотить Джулию и выгонять ее среди ночи из дома вместе с малышками. Стоя на улице и дрожа от холода, они слышали, как он распинался: «Здесь я хозяин!» И тогда им не оставалось ничего другого, как искать убежища в Мендипсе. Но в рабочем районе Ливерпуля устроить выволочку жене считалось делом обычным. А Джулия была уже не в том возрасте, чтобы начинать жизнь заново. Поэтому она продолжала жить с Дайкинсом, возможно, находя в этом какое-то удовольствие, наподобие того, которое, по словам Фредди, получала, натирая солью свежий порез у себя на теле.
Может быть, самой яркой чертой повседневной жизни Джона Дайкинса была его маниакальная страсть к развлечениям. Он всегда был неугомонным гулякой, ненасытным искателем удовольствий, который перебирался из одного бара в другой, угощая случайных посетителей. Брат Джона Леонард, работавший таксистом, и его жена Эвелин вспоминают, что он мог постучать к ним среди ночи и вытащить из дома, чтобы отправиться куда-нибудь выпить.
У всех, кто хорошо знал Дайкинсов, создавалось впечатление, что они все еще влюблены друг в друга. В присутствии Джулии неизменно заботливый Джон, который много курил, всегда прикуривал сразу две сигареты, одну для себя, другую для нее. А когда Эвелин спрашивала, почему он до сих пор не женился на Джулии, Дайкинс отвечал: «Видишь ли, Эв, быть неженатыми на самом деле даже полезно – сближает». Но это не мешало им вести себя как настоящим супругам. Джулия носила на руке обручальное кольцо, и все называли ее миссис Дайкинс. Кстати, о том, что родители не были официально расписаны, дочери узнали только после их смерти.
За исключением нелепого мямли дяди Джорджа, у Джона Леннона не было других мужчин для подражания, кроме Дайкинса. Именно этим объясняется то, что впоследствии Джон перенял многие черты характера и поведения приемного отца, включая алкоголизм, рукоприкладство по отношению к жене, скрытый гомосексуализм и приступы безудержной страсти к развлечениям. Знаменательным стал также и тот факт, что, став знаменитым, Джон купил Дергунчику длинный белый спортивный «райли» с откидным сиденьем.
Джулия и Дергунчик были не единственными, кто предлагал юному Джону возможность вырваться из сумрачной атмосферы дома тети Мими. Пока ему не исполнилось пятнадцать, он каждое лето ездил к другой тете, Элизабет, которую все в семье называли «Матер». После смерти первого мужа, инженера-кораблестроителя капитана Чарльза М. Паркса, Элизабет вышла замуж второй раз в 1949 году. Ее мужем стал дантист-хирург из Эдинбурга Роберт Хыо Сазерленд. Сначала тетя Элизабет с мужем жили в Оулд Рики, неподалеку от Эдинбурга, а позже переехали на принадлежавшую семье овцеводческую ферму в Сангобеге близ Дарнесса, расположенную на северном побережье Шотландии – в чудесном районе, наводившем на мысли об Исландии и викингах. Стены большого деревенского дома были из самана, комнаты освещались фонарями с парафиновыми свечами, а для тепла камин топили торфом.
По утрам Джон и старшие двоюродные брат Стенли Парке и сестра Лейла Берч отправлялись исследовать каменистые окрестные холмы. Они играли на развалинах возле болот. На берегу реки, в которую заходили лососи, Джон научился ловить рыбу на спиннинг и охотиться с карабином на зайцев, фазанов и глухарей. Ему нравилось подражать удивительному диалекту, на котором разговаривали местные жители-горцы. По воскресеньям он погружался в чтение комиксов, печатавшихся в шотландской газете «Санди пост», открывая для себя таких персонажей, как Брунсы и Оор Вилли. Каникулы в Шотландии оставляли у него незабываемые впечатления. «У меня до сих пор сохранились гораздо лучшие воспоминания о Шотландии, чем об Англии», – напишет он через двадцать лет в письме к Элизабет.
Именно здесь он находился и в тот день, 5 июня 1955 года, когда от кровотечения, явившегося следствием цирроза печени, умер Джордж Смит. Джон без объяснений был отправлен домой. По возвращении он обнаружил Мими в слезах. Когда она сообщила ему о печальном известии, Джон погрузился в молчание. «Я поднялся к себе в комнату. Немного позже ко мне пришла кузина Лейла. И тут у нас обоих случилась истерика. Мы смеялись, смеялись и никак не могли остановиться. Потом мне было очень стыдно».
После смерти дяди Джон все чаще стал появляться на Бломфилд-роуд. Ему исполнилось пятнадцать, и его преследовали три навязчивых желания: одеваться как тедди-бой, спать с девочками и стать главарем банды. Ему хотелось именно того, чему Мими всячески стремилась помешать. «Теды» были символом бунтующей молодежи, они происходили из рабочей среды и носили длинные пиджаки с бархатным воротником и узкие брюки.
1956 год стал годом «тедов». В сентябре в Великобританию приехал Билл Хейли, выступавший в турне, озаглавленном «Rock Around the Clock»17. «Теды» решили показать, на что способны. Они буквально в щепки разнесли концертные залы по всей стране. Эти акты вандализма вызвали у Джона восторг. Впервые в жизни он вдруг почувствовал свою солидарность с обделенными. Правда, он не работал, как «теды», на заводе и не мог заработать денег, чтобы одеться наподобие своих кумиров: брюки дудочкой, куртка бандита с большой дороги, полосатый галстук, медальон с изображением черепа и ботинки на толстой каучуковой подошве. Лучшее, что мог себе позволить бедный парень из мелкобуржуазной семьи, учившийся в «Итоне для лейбористской партии», была набриолиненная прядь волос на лбу («помпадур») и бакенбарды («шрамы»), а также брюки, самостоятельно обуженные на швейной машинке тетки. При этом, чтобы их надеть, ему приходилось отправляться к своей беззаботной матушке.
В общении с девушками Джона не удовлетворял просто флирт в темноте кинотеатра. Ему были нужны «серьезные дела». А для этого ему опять же требовалась обстановка вседозволенности, царившая на Бломфилд-роуд. В это время Мими не только добралась до секретного дневника Джона, в котором он описывал свои сексуальные победы, но и сумела расшифровать его тайнопись. И тогда Джон понял, что не может хранить ничего личного в Мендипсе.
Невинности его лишила Барбара Бэйкер. Будучи ровесницей Джона, она оказалась гораздо опытнее его. Как-то весенним вечером, возвращаясь из воскресной школы, они с подругой попали под ливень и укрылись в подворотне. Через несколько секунд на улице появились бегущие Джон и Пит. Увидев девушку с прической «конский хвост», Джон закричал: «О, вот и конская морда! Конский хвост и конская морда!» Барбара узнала в нем того самого «террориста», который когда-то давно прятался на дереве и расстреливал ее из лука. Она удивилась тому, как элегантно он выглядел в своем синем пиджаке, белой рубашке и клубном галстуке. Они немного поболтали, и Барбара согласилась встретиться с ним на следующей неделе.
Очень скоро Барбара и Джон «довели дело до конца». «Ну все, Пит, – поделился он с приятелем. – Я сделал это. Я наконец-то переспал с Барб. Когда я входил в нее, было жутко больно. Как если бы кошка старалась пролезть в мышиную нору. Если честно, мне больше нравится самому хорошенько поработать рукой».
Но Барбара начала преследовать Джона. «Ей надо было просто разбить перед его домом палатку, – рассказывает Жюли Дайкинс. – Она часами стояла на тротуаре, наблюдая за домом, садом, окнами, дверью». Пятнадцатилетний Джон уже тогда был таким законченным лицемером, что в открытую попросил мать выйти на улицу и отправить Барбару домой. Но едва Джулия открыла дверь, Барбара убежала. Правда, ее догнали Жюли и Жаклин, которые хотели узнать, в чем дело. Барбара попросила маленькую Жюли передать по секрету Джону, что она хочет с ним встретиться. Малышка исполнила ее просьбу. Джон вышел на улицу с независимым видом, будто на прогулку, не зная, что сестры следуют за ним по пятам. И когда чуть позже они застали его лежащим в траве и страстно целующимся с Барбарой, Джон так перепугался, что был вынужден купить их молчание за полкроны. Когда вечером за чашкой чая Джулия посочувствовала Джону, которому не дает прохода эта ужасная девчонка, Джон бросил взгляд на Жюли и слегка пнул ее ногой под столом, как бы предупреждая, чтобы девочка держала рот на замке.
Барбара Бэйкер была очень привлекательной девушкой, обладавшей телом, способным заставить потерять голову любого мальчишку. Эта связь не мешала Джону продолжать дружить с Питом, который тоже обзавелся к этому времени подружкой. Всем четверым нередко случалось заниматься любовью в одной комнате, а иногда и в одной кровати. Однажды вечером они отправились домой к подружке Пита. Как только ее мать вышла на кухню, чтобы приготовить чай, Джон и Барбара тут же начали обниматься, устроившись на софе. Подружка Пита стянула с себя трусики и оседлала Шоттона, сидевшего на стуле. Но тут раздался стук в дверь. «Войдите!» – закричал Джон, мгновенно застегивая молнию на брюках.
Хозяйка дома сделала несколько шагов вперед и объявила: «Чай готов!»
Раздосадованный Пит пытался скрыть свое состояние. А Джон уже был на ногах и предлагал хозяйке свою помощь, не в силах устоять перед соблазном поиздеваться над приятелем.
Бурный роман Джона и Барбары продолжался до самого конца первого года обучения в художественном колледже. В конце концов Барбара познакомилась с Джулией, которая отнеслась к девушке с нескрываемым дружелюбием. С Мими дело обстояло сложнее. «Она была такой элегантной, изысканной, – рассказывает Барбара. – Я сразу поняла, что с ней надо держать ухо востро. Нельзя сказать, чтобы ее очень любили». Мими, со своей стороны, находила Барбару слишком «современной» девушкой. «Мы никогда не были с ней друзьями, – добавляет Барбара. – Она считала, кстати, совершенно справедливо, что мы заходили слишком далеко и что мы были еще слишком молоды для этого».
«Джон был большим романтиком, – продолжает она. – Он посвящал мне стихи, исписывая ими целые страницы. Это была любовь, настоящая любовь! „Вот, – говорил он, – я написал тебе письмо, вернее, стихотворение. Прочти сама!“... Когда он сдавал вступительный экзамен (в художественный колледж. – А. Г.), то приписал мое имя внизу рисунка. Он считал, что это должно принести ему удачу».
Любовь была бурной. Кризис разразился в течение второго лета, которое они проводили вместе. «Я немного остыла к нему, – вспоминает Барбара, – и начала тайком от Джона встречаться с его лучшим другом (так она называла Билла Тернера. – А. Г.). Джон сходил с ума. В тот вечер, когда он обо всем догадался, он чуть не сломал ногой забор в саду. Он был так несчастен». Через несколько недель Барбара объяснила Биллу, что в конечном счете ей больше нравится Джон. Билл сам по-джентльменски сообщил об этом Джону, и влюбленные помирились. Так продолжалось до тех пор, пока их не разлучили родители.
Мать Барбары сильно разволновалась, когда поняла, что ее дочь влюблена не на шутку. Она отправилась на переговоры к Мими, прихватив с собою мужа. «В конце концов, – призналась Барбара, – им удалось то, чего они так добивались, и мы с Джоном расстались». В течение еще какого-то времени Джон продолжал тайно встречаться с Барбарой, но к началу второго курса в художественном колледже между ними все было кончено. К этому времени у него была уже новая подружка, гораздо менее «современная», чем Барбара.
Глава 6 Зов Элвиса
До того момента, пока он не услышал «Heartbreak Hotel», Джон Леннон оставался Мальчишкой Ниоткуда, наподобие сказочных героев, воспитывавшихся по воле злых духов вдали от своих царственных родителей, оторванных от мира, который им приходилось открывать для себя заново. Воспитательные методы Мими держали его в стороне от того, к чему обычно приобщаются другие дети. Поскольку в Мендипсе было запрещено все то, что Мими считала «вульгарным», – комиксы, кино, телевидение, к 1956 году у Джона не было почти никакого представления о той массовой культуре, на которой воспитывалось все его поколение. Будущий ярый поклонник, а затем и властелин средств массовой информации был далеким от моды пятнадцатилетним мальчиком, на которого появление Элвиса Пресли произвело впечатление, сравнимое разве что со взрывом атомной бомбы.
«Heartbreak Hotel» потряс мальчика, который «видел одиночество». Теперь он его еще и услышал. К нему обращался незнакомец, находившийся за тысячи километров, но они были настроены на одну волну. Джон и Элвис были так похожи друг на друга, что между ними мгновенно возникла неразрывная связь. Будучи одинокими детьми, воспитывавшимися женщинами, которые старались максимально оградить их от внешнего мира, оба они стремились вырваться из оков семьи, выбрав в качестве средства протест, вознесший их до уровня героев своего поколения. Но в глубине души они продолжали оставаться грустными и застенчивыми мальчиками, стремившимися убежать от реальности туда, где существовали лишь мечты и наркотики. Иногда их охватывала страсть, которую оба старались вдохнуть в свои песни. Как бы то ни было, «Heartbreak Hotel» стал для Джона Леннона чем-то вроде пророческого видения всей его будущей жизни.
Связь, установившаяся между Элвисом и Джоном, была бессловесной. Пусть номинально Элвис Пресли и Джон Леннон говорили на одном языке – Джону не было дано понять то, о чем говорил Элвис. Элвис был американцем – примитивным, страстным, но непонятным. Подобно еще одному величайшему обманщику пятидесятых, Джонни Рэю, он писал свои тексты и музыку, не признавая границ, разделяющих язык и действие. Джонни Рэй не пел о слезах – он плакал! Точно так же и Элвис не рассказывал об одиночестве, а играл его, словно трагедию, которая неизменно заканчивается гибелью главного героя.
«Heartbreak Hotel» стал для Леннона не просто катализатором, эта песня приобщила его к таинству власти, которой может обладать мечта, и продемонстрировала возможность выражать самые глубокие душевные тревоги через психодраму рок-н-ролла.
Джон сразу начал подражать новому кумиру. В газете «Ревей» он нашел объявление о продаже подержанной гитары «с гарантией, что не сломается», и стал приставать к обеим матерям с просьбой купить ее. Мими и слышать ничего не желала о том, чтобы поощрять это новое опасное увлечение. Тогда он обратился к Джулии. Она обожала рок. Стоило ей услышать звуки рон-н-ролла, и она тут же принималась извиваться в бешеном танце. В свое время отец научил ее играть на банджо, и теперь она была уверена, что сумеет научить Джона играть на гитаре. Она дала ему десять фунтов, и вскоре он получил по почте старую испанскую гитару, настоящую развалину. Джулия настроила пять струн под соль, как на банджо, спустив за ненадобностью шестую. Джона мало волновало, правильно они все сделали или нет: он собирался разучить свою первую песню – «Ain't That a Shame»18 Фэтса Домино. Нельзя сказать, что Леннон приобщился к музыке через рок-н-ролл: когда Джон был совсем маленьким, ему купили простенький аккордеон, на котором ребенок исполнял модные мелодии того времени – «Green-sleeves», «Swedish Rhapsody»19 и «Moulin Rouge»20. Позже один из студентов, снимавших комнату в Мендипсе, подарил ему губную гармошку. Джон очень быстро разучил на ней несколько мелодий. И этот новый звук так понравился ему, что во время очередной поездки в Эдинбург он довел до белого каления пассажиров автобуса, бесконечно наигрывая «The Happy Traveller»21. Растроганный кондуктор подарил ему за это настоящую губную гармошку. Долгие годы совершенствования игры на этом инструменте позволили Джону придать особое звучание первые записям «Битлз», обволакивая их грустными звуками инструмента, чей голос был так созвучен его собственному.
«Heartbreak Hotel» не стал отправной точкой музыкального формирования Джона Леннона, точно так же бурное увлечение Джона игрой на гитаре и исполнением модных в конце пятидесятых песен в стиле рокабилли и ритм-энд-блюз не превратило его или других членов группы «Битлз» в американцев. Перенимая музыку Нового Света, они создавали другую, свою, абсолютно новую музыку.
Элвис поставил перед Джоном цель. И пусть до поры до времени он был оснащен лишь игрушечным аккордеоном и старой губной гармошкой, он уже был готов ее достичь.
Мими не оценила нового увлечения Джона. Он целыми днями бренчал на гитаре, тяжело отбивая ритм ногой. Раздраженная постоянным шумом, она отправляла его играть на веранду, где он сидел часами, занимаясь только музыкой. Следующая проблема возникла тогда, когда Джон запретил Мими входить к нему в комнату, где повсюду в полном беспорядке были разбросаны одежда, газеты и книги. «Когда я открывала дверь, он непременно говорил: „Оставь, я сам все уберу“. Совершенно неожиданно и почти в одночасье Джон превратился в жуткого неряху, и все из-за Элвиса Пресли. У него в спальне хранился постер с его фотографией, там же в одном углу валялись носки, в другом – рубашки», – вспоминает она. Мими устраивала сцены, но все было напрасно.
Он с утра до вечера слушал Пресли и ни разу не пропустил передачу «Джек Джексон Шоу» на «Радио Люксембург», которое с недавних пор можно было слушать в Ливерпуле. «Он брал приемник с собой в постель, – продолжает Мими, – и слушал под одеялом, думая, что я ничего не знаю. Но я старалась ничего не пропускать, с Джоном всегда надо было держать ухо востро. Он был способен еще и не на такое».
Но ведь Элвис играл не на старой испанской гитаре, и Джон стал приставать к Мими, чтобы она купила новый инструмент. В конце концов тетка сдалась. «Поначалу я считала, что это всего лишь каприз, скоро ему надоест, и он обо всем забудет. Как-то в субботу мы отправились в магазин Хесси, расположенный в центре Ливерпуля, и я купила ему новую гитару. Она обошлась мне в четырнадцать фунтов. Четырнадцать фунтов – в то время это были огромные деньги! И все для того, чтобы он угомонился. Помню, как он стоял у себя в комнате перед зеркалом с гитарой в руках, изображая этого самого Элвиса Пресли».
Вскоре, несмотря на самозабвенное увлечение Элвисом, Джон был вынужден признать, что на свете существуют рок-н-ролльщики и покруче. Одновременно с Элвисом он открыл для себя Литтл Ричарда, которого впервые услышал дома у одноклассника. У Майка Хилла была удивительная коллекция пластинок рока и ритм-энд-блюза. Мальчик жил совсем близко от школы, а его мать уходила на работу, поэтому он, понятное дело, имел возможность развлекать Джона и его приятелей чуть ли не ежедневно.
"Этот парень, с которым мы учились в одной школе, ездил в Голландию. Однажды он пришел и сказал, что у него появилась новая пластинка, где какой-то тип поет намного лучше, чем Элвис. Элвис был для меня богом. Мы часто ходили к этому парню домой и слушали Элвиса на старых пластинках на 78 оборотов в минуту. Обычно мы покупали по пять сигарет на брата, жареной картошки и шли к Майку. Новая пластинка называлась «Long Tall Sally» (с песней «Slippin and Sliding»22 на стороне "Б". – А. Г.). Когда я ее прослушал, то был настолько потрясен, что просто лишился дара речи. Я разрывался на части. Даже мысленно я не мог пойти против Элвиса. Но не мог же я любить их обоих? А потом кто-то произнес: «Это поет негр». Я не знал, что негры умеют петь. Элвис был белым, а Литтл Ричард черным. Оказалось, что мне не нужно выбирать, я мог принять обоих, потому что они были разными".
Способность Леннона мгновенно распознавать «великих» рокеров дала «Битлз» в самом начале их карьеры значительное преимущество – они всегда умели уловить новые прогрессивные веяния из-за океана и использовать их раньше других. Но до этого было еще далеко. Когда Джон услышал Литтл Ричарда, он был всего лишь фаном. Ему в голову не приходила мысль о том, чтобы стать настоящим рокером, как Элвис, который казался ему сказочным пришельцем из другого мира. «Даже Джон не мог и помыслить о том, чтобы петь, играть на гитаре и зарабатывать миллионы долларов, как Элвис, – объясняет Пит Шоттон. – Мысль о том, что ограниченный в средствах мальчишка из провинциального английского города может достичь тех же профессиональных высот, что Билл Хейли или Элвис, казалась невозможной. Чтобы серьезно заниматься музыкой, нужны были деньги – инструменты стоили целое состояние – и годы музыкальной практики. Так или иначе, а рок по определению считался американской музыкой».
Но в Англии уже был музыкант, который открыл дорогу будущим Битлам. Лонни Донеган был уроженцем Северной Англии. Будучи профессиональным джазменом и сыном скрипача, он сумел приспособить американскую музыку к вкусам англичан. Музыка Донегана брала свое начало в негритянском фольклоре, в частности, его вдохновлял Хадди Ледбеттер по прозвищу Лидбелли (настоящее имя Джон Хенри), певец и виртуозный исполнитель на двенадцатиструнной гитаре, который угодил в тюрьму за убийство, но благодаря своему таланту был отпущен на свободу. Кстати, первым успехом Донегана стала бледная интерпретация известной записи Лидбелли «The Rock Island Line»23.
Так же, как Пресли до и «Битлз» после него, Донеган брал за основу старые негритянские блюзы, дошедшие до Европы из Америки, и видоизменял их. Он придавал им бэлее свинговый, легкий, быстрый, танцевальный ритм, который привлекал молодежь. Такая музыка, которую позднее будут ошибочно называть «скиффл» – этим термином прежде обозначали определенный стиль негритянского джаза, – вобрала в себя стиль свинга белых исполнителей, таких, как Боб Уиллз и его «Тексас Плейбойз». Но самым замечательным в этой музыке было не название, не стиль и даже не содержание, а манера исполнения. Несмотря на то, что Донеган играл только на профессиональном музыкальном оборудовании, тысячи молодых ребят быстро подхватили скиффл, используя самодельные инструменты, например, «тичест бас» мастерили из деревянного ящика, к которому приделывали палку от метлы, стиральные доски и наперстки.
Началась эпоха создания групп, а индустрия шоу-бизнеса взяла скиффл в свои руки. Концерты, радио и телепередачи, пластинки, настоящий взрыв новой молодежной культуры, предвестницы рок-культуры. Влияние скиффла долго ощущалось в творчестве Леннона и других Битлов. В самых известных композициях, таких, как «A Hard Day's Night»24, они обращались скорее к стилю кантри-энд-вестерн, чем к ритм-энд-блюзу, которым восхищались больше всего. Дело было в том, что кантри-энд-вестерн был лишен технических и этнических сложностей, с которыми неизбежно сталкивались английские парни при исполнении негритянской музыки, а кроме того, этот стиль был доступен, легок в восприятии и даже забавен. Поэтому важно подчеркнуть, что после Элвиса Джон познакомился со стилем кантри рока-билли Карла Перкинса, чья «Blue Suede Shoes»25 нравилась ему больше, чем в исполнении его кумира.
Свою первую группу шестнадцатилетний Джон Леннон создал в марте 1957 года. Сам он пел и играл на гитаре, Пит Шоттон аккомпанировал на стиральной доске, а Эрик Гриффитс, парень с лицом ботаника из Вултона, играл на своей новой гитаре так, как их научила этому Джулия. Затем они приняли Рода Дэвиса, который только что купил себе подержанное банджо, но еще не знал, как с ним обращаться. Джон и Эрик показали ему, как настраивать инструмент и научили трем базовым аккордам. И пока Джон пел, Эрик подсказывал Роду, когда менять аккорды.
Группа быстро разрасталась. На какое-то время к ним примкнул Билл Смит из Чайлдуолл Хаус, игравший на ти-чест-басе, но его «уволили» за прогулы репетиций и заменили на Лена Гарри, студента Ливерпульского института. Наконец появился барабанщик – Колин Хантон. Хантон был единственным членом группы, который не учился в колледже, а работал учеником на мебельной фабрике, но у него была редкая и дорогая для того времени собственная маленькая ударная установка.
Одетые в черные джинсы, белые рубашки и с галстуками-шнурками на шее «Блэк Джеке», переименованные затем по названию школы в «Куорри Мен», имели в своем репертуаре хиты в стиле скиффл, а также несколько песен, позаимствованных где ни попадя. К традиционным и обязательным хитам Лонни Донегана «Rock Island Line», «John Henry» и «Don't You Rock Me, Daddy»26 они добавили ливерпульскую песенку «Мэгги» группы «Вайперз» о проститутке с Лайм-стрит, «Freight Train»27. Чазза Макдевитта и Нэнси Виски, а также «Worried Man's Blues»28 Берла Айвса, который услышали на старой пластинке в 78 оборотов в минуту. Единственной проблемой музыкантов оставалось то, что они не всегда могли разобрать слова. Но Джон, быстро понявший, что в песне важны не столько слова, сколько звукосочетания, не стесняясь заменял любые непонятные тексты стихами собственного сочинения.
Типичным примером подобной обработки стало исполнение Джоном знаменитого хита группы «Делз Викингз» «Come Go With Me»29. На пластинке некоторые фразы этой песни были неразборчивы, и тогда Джон переделал их на свой лад: "Love, love те darlin, Come and go with me. Please don't send me, way beyond the sea30 превратились в «Come, come, come, go with me, Down to the penitentiary»31. Так ведущий вокалист группы «Куорри Мен» начинал свою карьеру величайшего текстовика эпохи Рока.
21 июня 1957 года Джон получил свой первый ангажемент на празднике в Дингле, маленьком городке, состоявшем из нескольких ровных рядов игрушечных домиков, спускавшихся к Мерсисайду вдоль узких улочек, усаженных леденцовыми деревьями. Роузбери-стрит была разукрашена гирляндами и фонарями, ярмарочные балаганы предлагали освежающие напитки и игры. Дважды в этот день «Куорри Мен» поднимались на импровизированную сцену, оборудованную в кузове полуприцепа, играли на акустических гитарах и пели в микрофон, подключенный к старому радиоприемнику.
Леннон вырядился в клетчатую ковбойскую рубашку с расстегнутым воротником и сделал прическу под Элвиса Пресли. На фотографии этой группы, запечатлевшей первое выступление Леннона, видно, как он перебирает струны на гитаре и поет в микрофон, по-змеиному вытянув шею, – такую позу на сцене он сохранит отныне навсегда. «Он вел себя так, будто был уверен, что он лучше всех, а потому может позволить себе подмигивать девчонкам и острить», – рассказывал Чарлз Роберте, живший на Руозбери-стрит. Быть может, именно надменность Джона стала причиной того, что концерт закончился раньше, чем было намечено.
Несколько молодых негров из соседнего гетто, приехавшие на праздник, начали высказываться по поводу их игры и угрожать Леннону. Испугавшись этой, как он сам выразился, «банды черномазых», Джон соскочил с грузовика и укрылся со своими партнерами в доме у Чарлза Робертса. Мать Чарлза напоила ребят чаем и вызвала полицейского, который сопроводил их до автобусной остановки, и они вернулись домой. А через две недели, 6 июля, группа вновь появилась на публике, но на этот раз после концерта произошла историческая встреча, оказавшая решающее влияние на все последующее развитие поп-музыки.
Глава 7 Куорри-рок
Ежегодный праздник церкви Святого Петра в Вултоне всегда был старомодным мероприятием, которое начиналось с избрания девственной «королевы Роз» и заканчивалось шествием через весь город к церковному парку, где разбивались палатки и устанавливалась эстрада. 6 июля 1957 года концерт, как обычно, открыла труппа фольклорного танца и хор трубачей Чеширской гвардии.
Около шести часов вечера Мими Смит наслаждалась чаем, расположившись в палатке с прохладительными напитками, когда со сцены неожиданно раздались резкие звуки, на которые сразу стала сбегаться молодежь. Мими поставила чашку с чаем на стойку, бросила взгляд в сторону эстрады и чуть не поперхнулась. Перед микрофоном с гитарой в руках стоял Джон, одетый как тедди-бой и с напомаженным чубом, спадающим на глаза.
"Джон увидел меня, – вспоминает Мими, – и сразу начал придумывать слова про меня и вставлять их в песню, которую пел. «А вот и Мими, – запел он. – О, о, это Мими идет по тропинке». Однако эта пытка скоро закончилась.
Исполнив «Cumberland Gap», «Maggie May» и «Railroad Bill»32, «Куорри Мен» сложили пожитки и отправились в зал городской мэрии, где им предстояло выступать вечером.
Айвэн Воган, друг детства и сосед Джона, привел на праздник своего приятеля, румяного паренька, одетого в белую куртку с клапанами на карманах и в такие узкие брюки, о которых можно было только мечтать. Странноватая манера игры Джона на гитаре не ускользнула от внимания приятеля Айвэна. Заметил он и изменения в тексте песни «Come Go With Me». Тем не менее он похвалил музыкантов. Уже в пятнадцать лет Джеймс Пол Маккартни был дипломатом. И больше всего ему хотелось показать им, на что способен он сам. И тогда он взял у кого-то гитару и принялся наигрывать «Twenty Flight Rock»33. Эдди Кокрана, чья мелодия была слишком сложной для «Куорри Мен». Затем, исполнив «Be Вор A Lula», которая оказалась в его исполнении гораздо ближе к оригиналу, чем у Джона, он закончил удивительным подражанием Литтл Ричарду.
Продолжая играть. Пол увидел, как к нему «приблизился какой-то здоровый мужик, от которого несло пивом. „Что этот старый пьянчуга там себе задумал?“ – подумал я... Это был Джон. Он только что принял несколько кружек пива. . Ему было шестнадцать лет (без трех месяцев. – А. Г.), а мне всего четырнадцать (sic!), он был уже совсем взрослым. Я показал ему несколько аккордов, которых он не знал. А потом я ушел. Я был уверен, что произвел на него хорошее впечатление».
Несмотря на большое количество выпитого пива, Джон сумел оценить Пола по достоинству. «И я подумал, – рассказывает он. – „Ну вот, наконец-то нашелся еще кто-то, кто столь же хорош, как и я“. До сих пор я был королем. Если мы решим принять его, то придется держать парнишку в узде».
Недели две спустя Пит Шоттон встретил Пола, ехавшего на велосипеде по Менлав-роуд. «Мы тут с Джоном говорили о тебе, – сказал ему Пит небрежно после традиционного обмена приветствиями, – и подумали, что ты, может быть, захочешь играть с нами». Пол сделал вид, что задумался над предложением, потом пожал плечами и ответил: «Ладно». И, ничего не добавив, поехал дальше в сторону Аллертона, где в то время находился его дом.
Отношения между Джоном Ленноном и Полом Маккартни были неравными. Осенью Джон стал уже студентом, тогда как Пол продолжал учиться в школе. Но отличались они друг от друга не столько по возрасту, сколько по характеру, опыту прожитых лет и темпераменту. Немаловажное значение имело то, что и по социальному положению своей семьи Джон стоял на целую ступень выше Пола. Когда отец Пола, бывший служащий Ливерпульской хлопковой биржи, начавший работать с четырнадцати, в шестьдесят два года вышел на пенсию, он получал десять фунтов в неделю.
Но это не мешало Джиму Маккартни быть замечательным отцом, для которого образование детей имело первостепенное значение. В молодости он играл в оркестре, исполнявшем музыку в стиле рэггайм, а теперь каждый день музицировал с сыном. Его жена умерла от рака в октябре 1956 года, оставив на попечении мужа двоих сыновей: четырнадцатилетнего Пола и двенадцатилетнего Майкла. «Как же мы будем жить без денег?» – спросил Пол, уже тогда вполне трезво смотревший на жизнь. Джим спокойно заметил, что при наличии головы на плечах и организованности всегда есть способ выкрутиться. Такое воспитание принесло свои плоды.
Трое мужчин разделили между собой заботы по дому. Пол и Майкл разводили огонь и накрывали на стол, Джим занимался готовкой. Одновременно с этим всем троим пришлось привыкать к режиму строжайшей экономии: Полу и Майку запрещалось в отсутствие Джима возвращаться из школы домой, поскольку отец опасался, что дети могут привести с собой друзей, и те съедят все яйца, которые в семье были наперечет. С детства отмеченный бедностью. Пол, даже став миллионером, навсегда остался очень экономным.
Однако самым удивительным в воспитании Джима было то, что он сумел сделать сына уравновешенным человеком. Вращаясь с самых юных лет в мире шоу-бизнеса, где многие теряют голову, Пол Маккартни за всю свою жизнь не сделал ничего такого, что могло бы поставить под угрозу его удивительно успешную карьеру. Уже в молодости он твердо понял, что ему нужно: «Женщины, деньги и шмотки». Для того чтобы получить все это, ему непременно надо было бросить школу и заняться музыкой.
И хотя Джон Леннон был лидером группы, в руках у Пола с самого начала оказался сильный козырь: он был лучшим музыкантом. Очень скоро он стал давать Джону уроки игры на гитаре. Поскольку Пол был левшой, Джону приходилось пользоваться зеркалом, наблюдая за тем, как Пол ставит пальцы на струнах. Кроме того, оба постоянно обращались к тоненькому самоучителю Берта Уидона, который первым ввел курс игры на гитаре в Англии. Этим их профессиональная подготовка и ограничивалась. Позже Леннон утверждал, что именно благодаря тому, что они нигде никогда не учились, «Битлз» удалось сохранить творческое отношение к своему делу. Джону Леннону было свойственно противопоставлять себя окружающему миру, отказываясь от его уроков. В действительности если бы «Битлз» захотели познакомиться с музыкальной грамотой поближе, это, безусловно, пошло бы им на пользу. Джон, к примеру, постоянно опасался упустить свежую идею, так как, не зная нотной грамоты, был не в состоянии записывать музыку на бумаге. Зато Пол всегда старался учиться у других музыкантов. Когда в 1962 году «Битлз» познакомились с Литтл Ричардом, Маккартни, едва успев пожать ему руку, сразу попросил дать урок пения фальцетом, которое было коронным номером великого исполнителя. Пол никогда не испытывал страха, что у него что-нибудь не выйдет.
Став полноправным членом «Куорри Мен», Пол стал делать все возможное, чтобы в группу приняли и его приятеля по Ливерпульскому институту Джорджа Харрисона. Джордж был на год моложе Пола и перед Джоном Ленноном выглядел совсем ребенком, но Пол сумел разжечь любопытство Джона, заявив, что Джордж играет на гитаре лучше, чем любой из них, поскольку, не ограничиваясь аккомпанементом, способен сыграть на инструменте настоящее соло. Однажды Полу удалось привести Джона и Пита к Харрисону домой. Джордж жил в рабочем предместье. Бедняга Джордж настолько оробел при виде «больших ребят» – а особое впечатление на него произвели длинные волосы и розовая рубашка Джона, – что в первый момент потерял дар речи. В конце концов, несмотря на смущение, он заиграл и великолепно исполнил песенку в стиле рокабилли под названием «Рончи» Билла Джастиса.
Будучи слишком юным для «Куорри Мен», Джордж тем не менее привязался в Джону и с этого дня, словно ученик за учителем, всюду следовал за ним в течение целого года. "Куда бы мы с Синтией ни пошли, он всегда был с нами, – рассказывал Джон. – Когда мы выходили из художественного колледжа, он уже торчал у ворот. Мы с Синтией отправлялись в кафе или в кино, и он неизменно плелся позади, отстав на пару сотен ярдов. «Кто это такой? – спросила как-то Син. – Чего ему надо?» – «Он просто хочет быть с нами. Возьмем его?» – «O'кей, – ответила она, – пусть идет с нами в кино».
Из всей четверки «Битлз» Джордж был единственным, кто воспитывался у обоих родителей. Его отец, как и Фредди Леннон, работал стюардом на пассажирских судах, но оставил эту профессию, чтобы жить с семьей. В начале войны он устроился работать водителем автобуса, а затем долгое время служил в профсоюзе работников общественного транспорта. Мать была веселой и понятливой женщиной, всегда готовой прийти на помощь Джорджу, самому младшему и застенчивому из ее четверых детей. Она сидела с ним вечерами, когда он учился играть на гитаре. Джордж старался компенсировать свою робость упорным трудом.
«Они (родители Джорджа. – А. Г.) всегда старались его защитить, потому что знали, что он был уязвимым, слишком мягким, слишком доверчивым», – объясняет невестка Джорджа Ирен Харрисон. Он был последышем у себя в семье, он стал последышем и в «Битлз», всегда готовым пожертвовать собой ради «взрослых» Джона и Пола. Единственное, в чем Джордж всегда – будучи ребенком и уже взрослым мужчиной – отстаивал свою индивидуальность, был стиль одежды. Он с детства мечтал быть денди.
Даже тогда, когда Джордж Харрисон достиг пика славы, он мог в мельчайших деталях описать свой первый «взрослый» наряд: «Я купил белую плиссированную рубашку с черной вышивкой на груди и носил ее с черным двубортным жилетом, который подарил мне Пол. (Думаю, что ему он достался от Джона, который, в свою очередь, унаследовал его от отчима, г-на Дайкинса.) Еще у меня была одна из спортивных курток Гарольда (брата Джорджа. – А. Г.), перекрашенная в черный цвет, черные обуженные брюки и синие замшевые туфли с острыми носами». В конечном итоге именно нескрываемое отвращение Мими Смит к нелепым нарядам Джорджа и его акценту простолюдина подтолкнуло Джона к тому, чтобы принять его, наконец, в свою группу.
С Полом Маккартни и Джорджем Харрисоном у Джона Леннона появилась возможность добиться быстрого успеха. Но группа уже была на грани распада. Однажды вечером во время очередного концерта в Уилсон-холле, расположенном в районе аэропорта, Пит Шоттон и Колин Хантон разругались прямо на сцене. Пит стал упрекать Колина в том, что тот не попадает в ритм, когда Джон поет «I'm All Shook Up»34. На это Хантон заявил Леннону: «Решай, или я, или он». «Извини, Пит, – сказал Джон, – но барабанщик важнее, чем стиральная доска».
И Пит ушел, правда, после того, как Джон разбил стиральную доску о его голову.
Группа распалась в начале 1959 года после вечеринки в Бизмэнс-клабе, заведении значительно более престижном, чем те, где они выступали обычно. Во время антракта «Куорри Мен» напились, и вторая часть концерта обернулась катастрофой. По пути домой Колин опять поругался, на этот раз с Полом, и решил уйти. В тот год они выступали очень редко и по большей части на случайных вечеринках.
К тому времени Джон еще не принял окончательного решения посвятить свою жизнь музыке. Он учился в художественном колледже. Еще в 1957-м, учась в школе, он провалил все экзамены, причем почти по всем предметам не добрал до положительной оценки по одному баллу. Школьная система вызывала у него активный протест, и он отказывался подчиняться даже тогда, когда на карту было поставлено его будущее. Но в решающий момент он вдруг сплоховал и переложил ответственность за свою судьбу на плечи тетки и нового директора школы мистера Побджоя.
Как только до Мими дошли дурные вести, она отправилась на прием к директору Куорри Бэнк. «Ну, миссис Смит, и что же вы собираетесь делать с Джоном?» – спросил он. «А вы? – парировала Мими. – Пять лет назад я доверила его вам, вот вам-то и следовало постараться сделать из него что-нибудь путное!»
Тридцатишестилетний мистер Побджой был, наверное, самым молодым и самым доброжелательным школьным директором в Англии. Он решил не поддаваться на провокацию и посоветовал Мими записать Джона в Ливерпульский художественный колледж, так как по рисованию у него были неплохие отметки. Он предложил написать рекомендательное письмо, в котором был готов удостоверить, что Джон, несмотря на неважные результаты, был очень способным учеником. Это был воистину щедрый жест, которым Мими не преминула воспользоваться. Уж лучше художественный колледж, чем вообще ничего. А мысль о том, чтобы поискать работу, даже не приходила Джону в голову. Мими знала, что после провала на экзаменах он не получит права на стипендию, однако решила пожертвовать частью своего скудного капитала (после смерти Джорджа она получила две тысячи фунтов), чтобы обеспечить племяннику образование.
Наконец пришел день, когда Джону надо было отправляться в колледж. Мими заставила его надеть белую рубашку, галстук и старый костюм Джорджа Смита. Затем, заставив пообещать, что он будет себя хорошо вести и не будет жевать жвачку во время собеседования, она проводила его до дверей колледжа. «Он запросто мог бы отправиться гулять и истратить на что-нибудь другое те деньги, что я дала ему на автобус, – объяснила она впоследствии. – И потом, я не была уверена, что без меня он сам найдет дорогу. Понимаете, Джон почти никогда не бывал в городе». Подойдя к зданию на Хоуп-стрит, в котором располагался колледж, Джон увидел других абитуриентов, и ему стало не по себе: он распихал свои работы кое-как, а все остальные держали в руках безупречные картонные папки с аккуратно разложенными портфолио. Но собеседование прошло удачно, и Джона зачислили.
Глава 8 Портрет художника в виде юного панка
С первого же дня в колледже Джон Леннон почувствовал себя парией. Девушки в черных чулках и коротких пальто с капюшоном, юноши в американских пиджаках презрительно косились на тедди-боя, одетого в светло-синий костюм эпохи короля Эдуарда и с галстуком-шнурком на шее. С задранным кверху длинным носом и вечно прищуренными небольшими миндалевидными глазами, он и в самом деле казался странным. «Ему требовалось немало мужества, чтобы выглядеть таким посмешищем», – рассказывает его подруга Энн Мэйсон.
Джон, который всю жизнь болезненно относился к тому, как он выглядел в глазах окружающих, вскоре отказался от имиджа тедди-боя и сменил его на наряд битника: брюки дудочкой, полевую униформу или кожаную куртку с меховым воротником, длинное пальто с поднятым воротом и очень длинные остроносые туфли, называвшиеся в народе «winklepickers»35. Кроме того, теперь для работы он надевал большие очки в роговой оправе.
Эти широкие очки с толстыми стеклами стали, пожалуй, самой красноречивой чертой необыкновенно выразительного и проникновенного портрета Джона Леннона, выполненного маслом и принадлежащего кисти Энн Мэйсон. Она застала его врасплох, съежившегося на стуле с высокой прямой спинкой и скрестившего руки, словно в попытке защититься. Черты лица напряжены, глаза исчезли за отблеском стекол. Молодой человек, полный ярости, сутулый и почти слепой. Гигантский жук размером с человека.
Программа первого курса, на который поступил Джон, требовала серьезных усилий, тем более от студента, у которого напрочь отсутствовала элементарная ученическая дисциплина. Среди предметов значились: «простейшая перспектива и геометрический рисунок, введение в архитектуру, изучение простейших форм, натюрморты, анатомия, форма знаков и рисунок обнаженной натуры». Студентам приходилось работать от восхода солнца и до позднего вечера, переходя по узким коридорам из класса в класс, поднимаясь и спускаясь по широкой лестнице, обернутой спиралью вокруг открытой шахты лифта, внутри которой поднималась и опускалась почти антикварная кабина, которая напоминала часовую гирю, отмерявшую течение времени в стенах вызывавшей клаустрофобию кузницы дипломов.
В замкнутой атмосфере колледжа студенты образовывали небольшие группы, члены которых были знакомы друг с другом еще со школьной скамьи. Джону в равной мере были ненавистны и это расслоение, и необходимость столько работать. Как и в школе, его протест инстинктивно вырывался наружу. Еще до окончания первого курса за ним прочно закрепилась репутация самого невыносимого студента на факультете. Он издевался над преподавателями, отвлекал студентов, порой срывал занятия. Излюбленным местом для своих выходок Джон избрал мастерскую обнаженной натуры – просторный зал, расположенный под самой крышей здания, с бледно-зелеными стенами, в центре которого на помосте рядом с электрическим обогревателем возвышалась обнаженная натурщица.
Представьте себе эту мастерскую поздним зимним вечером: три дюжины студентов, стоящих перед мольбертами, и преподавателя Чарлза Бартона, низкорослого, коротконогого толстого валлийца, прохаживающегося по классу и делающего время от времени замечания. Наконец он выходит из аудитории. Студенты, поглощенные работой, продолжают прилежно рисовать в полной тишине, как вдруг раздается странный звук. Это Леннон, это его голос хрипит, точно от простуды. Он внезапно разражается громким хохотом, словно гиена в пустыне. Следом за этим Джон швыряет на пол карандаши, вскакивает на помост и в мгновение ока усаживается на колени изумленной натурщицы. Класс также взрывается хохотом, перемежаемым криками протеста, но ясно, что этим вечером на занятиях можно поставить крест.
Подобные выходки Джона способствовали тому, что вокруг него очень скоро собралась самая дурная компания. Красавчик Тони Кэррикер, верзила Джефф Мохаммед, наполовину француз, наполовину индус с неизменным тюрбаном на голове, худосочный и рыжеволосый Джефф Кейн, который неоднократно сам едва не оказывался жертвой собственных творений (гипсовая маска чуть было не стала для него посмертной, а из металлической конструкции, которую он создал, его пришлось вызволять при помощи вовремя подоспевших пожарных), бородач Мики Бидстон в неизменном дырявом красном свитере, Алан Сведлов, разговаривавший со своими подружками с видом академика, а также их девчонки: темноволосая Дороти Корти с розовым носиком, втрескавшаяся в Джона и всюду таскавшаяся за ним, Энн Мэйсон, которая встречалась с Джеффом Мохаммедом, Ивонн Шелтон, похожая на Брижит Бардо в молодости и, наконец, самая красивая девушка в колледже Кэрол Болфур.
По вечерам Джон нередко приводил всю команду в павильон на Лодж-Лейн, где выступали комические артисты. Особенно ему нравился Роб Уилтон, мастер монолога, рассказывавший о крупных международных событиях с точки зрения простых обывателей. "В тот день, когда началась война, – начинал Уилтон безо всякого выражения, – моя мне и говорит: «Ну сделай же что-нибудь!» Такой юмор Джон просто обожал. На следующий день, когда урок был в самом разгаре, неожиданно раздавался такой же бесстрастный, как у Уилтона, голос: «В тот день, когда началась война...»
Для борьбы с рутиной использовался даже обеденный перерыв. Рядом с колледжем был расположен и Ливерпульский институт, где учились Пол и Джордж. В середине дня все трое собирались вместе, брали гитары и играли перед другими студентами прямо в столовой или в мастерской. Теперь, надев очки, Джон подражал своему новому кумиру – Бадди Холли; что касается Пола, то он оставался верен Литтл Ричарду. В их репертуаре уже появились песни «Эверли Бразерс», группы, оказавшей значительное влияние на раннее творчество «Битлз». Эти импровизированные концерты, как правило, заканчивались исполнением гениальной и всем известной старой песенки «When You're Smiling»36, которую Джон пел хриплым голосом.
После занятий, когда остальные студенты собирались в кафе поговорить о Сартре и Лоуренсе Даррелле, Джон отправлялся погулять со своим приятелем Яном Шарпом, маленьким шустрым пареньком, большим мастером пародии, работавшим массовиком-затейником. У входа в «Мерси Таннел» располагалась лавочка, в которой продавались хромолитографии на религиозные сюжеты и другие предметы культа, к которым Джон испытывал неодолимое влечение. Как-то раз, войдя внутрь, он попросил у одной из сестер показать ему какой-то предмет, стоявший на верхней полке, и, пока она карабкалась по лесенке, набил полные карманы этих безделушек, которые находил жутко смешными. Приворовывать в магазинах Джон полюбил еще с тех пор, когда учился в школе на Пенни-Лейн. Теперь же он частенько брал с собой Джеффа Мохаммеда в поисках лавочки, в которой можно чем-нибудь поживиться. В какой-то момент он даже собирался ограбить банк. Но потом сообразил, что если продолжать и дальше следовать этим путем, то в конечном счете ему придется больше времени проводить в тюрьме, чем на воле. По вечерам, когда они околачивались в пабах, Шарп нередко обливался холодным потом, видя, как Джон задирается с каждым встречным, не отдавая себе отчета в том, что дело может кончиться дракой. «Ты кончишь в тюрьме или добьешься сумасшедшего успеха», – напророчил однажды Шарп, признав, что его друг «живет на лезвии ножа».
В конце первого курса Джона не приняли на художественное отделение, так как его работы не соответствовали минимуму предъявляемых требований. «Он писал буйные картины, полуаллегорические, полуабстрактные, – рассказывает Хелен Андерсон. – Чаще всего это были портреты Брижит Бардо, сидящей за столиком в очень темном ночном баре». Ян Шарп вспоминает, что как-то раз преподаватель похвалил Джона за удачно вылепленную статуэтку, но стоило ему отвернуться, как Джон ударом кулака превратил свою работу в бесформенный кусок глины.
Неудовлетворенный учебой, Джон обретал некоторое равновесие в семье. Выходные дни и каникулы он проводил на Бломфилд-роуд, где чувствовал себя все ближе к собственной матери. Был он там и во вторник 5 июля 1958 года, когда между Джулией и Дергунчиком, который, вероятно, опять напился, разгорелась очередная ссора. Джулия уехала к Мими. Наступила ночь; Жюли и Джеки, которым уже исполнилось соответственно одиннадцать и девять лет, стали волноваться, что мамы долго нет. Они прождали ее допоздна, сидя на лестнице, и наконец увидели, как пришел кто-то из соседей в сопровождении полицейского. Напрасно девочки напрягали слух – они так и не услышали ни слова из того, что говорили взрослые. Но отец вдруг вскрикнул и зарыдал. Перепугавшись, они спрятались у себя в спальне и в конце концов уснули.
В тот вечер Джулия собиралась вернуться домой. Она вышла из Мендипса примерно без двадцати десять, когда на улице уже стемнело. Обычно сестра провожала ее до автобусной остановки, расположенной недалеко от дома на другой стороне Менлав-авеню, но в тот вечер на ней была рабочая блузка, а ей не хотелось выходить на улицу плохо одетой. Они болтали, стоя у двери, когда подошел приятель Джона, который жил по соседству. Узнав, что Джона нет дома, Найджел Уэлли ушел вместе с Джулией.
В то время Менлав-авеню была улицей с двусторонним движением и разделительным ограждением посередине. Джулия попрощалась с Найджелом и скрылась за деревьями. Через несколько секунд Найджел услышал шум мотора автомобиля, мчавшегося на полной скорости, а затем звук удара. Он обернулся к ограждению, увидел, как тело Джулии взлетело вверх, и бросился к ней. Джулия лежала неподвижно. Найджел побежал к Мими. Когда Мими появилась возле Джулии, там уже собрались прохожие. «Скорая помощь» увезла раненую в Сефтонскую больницу. По дороге Джулия умерла.
«Мы ждали ее вместе с Дергунчиком, – расскажет Джон много лет спустя, – и никак не могли понять, почему ее так долго не было. В дверь позвонил полицейский. Все было как в кино. Сначала он спросил меня, кем я ей прихожусь и все такое прочее. Потом рассказал нам, что случилось, и мы оба побелели, как снег. Это было самое страшное, что случилось со мной за всю мою жизнь. Мы с Джулией только начали наверстывать упущенное время, нам вместе было хорошо, она была самая лучшая на свете. То, что произошло, было отвратительно. Я подумал: „К черту! К черту! К черту! Все действительно полетело к черту. Теперь я больше никому ничего не должен“. Дергунчику было еще хуже, чем мне. Потом он воскликнул: „Кто же теперь будет смотреть за детьми?“ Я возненавидел его. Проклятый эгоист! Мы взяли такси и поехали в больницу. Мне не хотелось видеть ее мертвой. По дороге я, не умолкая, болтал с водителем. Мне просто необходимо было выговориться... А таксист только хмыкал время от времени. Дергунчик пошел на нее посмотреть. А я нет».
Дайкинс громко рыдал, мучаясь угрызениями совести, клялся, что никогда больше не будет пить, но ни на секунду не вспомнил о дочерях, которые остались дома одни. На следующее утро они встали и пошли в школу, так ничего и не узнав о трагедии, разыгравшейся прошлой ночью.
А Джон вернулся в Мендипс и, шокируя соседей, принялся играть на гитаре. Они были не в состоянии понять, что в этом он находил утешение. У мальчика не осталось никого, к кому он мог бы пойти. Поздно вечером он отправился к дому Барбары Бэйкер, с которой не встречался с тех пор, как Мими заставила их расстаться. Девушка повела Джона в Рейнольдс-парк, расположенный неподалеку, стараясь, как могла, утешить его. Когда Джон начинал плакать, Барбара обнимала его и плакала вместе с ним.
Джулию хоронили в пятницу, и Джон едва держался на ногах. В церкви он уцепился за свою кузину Лейлу и всю церемонию сидел, положив голову девушке на колени.
Несколько месяцев спустя, когда Дайкинс ушел на работу, Джон собрал на Бломфилд-роуд нескольких друзей и устроил сеанс спиритизма. Он захотел вызвать Джулию. «Мы уселись за круглым столом, – рассказывает Найджел Уэлли. – Джон притушил свет и разложил на столе карты. Затем он простер руки над стаканом, который начал передвигаться, складывая по буквам слова. Мы пришли в ужас, но Джон оставался спокойным, почти бесстрастным». В присутствии друзей Леннон вел себя стоически. На следующий день после гибли Джулии он встретился с Питом Шоттоном. «Мне очень жаль твою мать», – пробормотал Пит.
«Я знаю. Пит», – спокойно ответил Джон. К этой теме друзья больше не возвращались.
На следствии выяснилось, что за рулем находился офицер полиции, у которого еще даже не было прав, но который должен был их вот-вот получить. В тот день он опаздывал на работу и очень торопился. На суде он объяснил, что, когда заметил Джулию на середине дороги, он хотел затормозить, но нечаянно нажал на газ. «Убийца!» – завопила Мими. Водитель отделался выговором и временным отстранением от должности.
Джон был не просто несчастен, он вновь пребывал в бешенстве. У него было чувство, что мать в очередной раз бросила его. Во сне ему виделось, как он распинает женщин на кресте или разрубает их топором. Он запил. В течение двух последующих лет он, по собственному выражению, был постоянно «пьян или взбешен». Однажды вечером Пит Шоттон обнаружил его в автобусе развалившимся на заднем сиденье, где он, по всей видимости, провел уже несколько часов. Деньги, которые Джон получал на карманные расходы, позволяли ему посещать только самые низкопробные заведение, да и то, чтобы надраться, ему приходилось «стрелять» деньжат у других клиентов. Он был просто несносен. В одном из баров он постоянно нападал на пианиста-еврея по имени Рубен, прерывая его выступления криками: «Как же так случилось, что тебя не сожгли вместе со всеми остальными, старая жидовская морда?!» Случалось и так, что он доводил бедного музыканта до слез. Пит Шоттон, который присутствовал при этих сценах, стал опасаться, что Джон Леннон может «загреметь в дурдом».
Глава 9 Cин и Cтью
Tеперь Джон Леннон мечтал о нежной, уступчивой и женственной девушке, которая могла бы, словно губка, впитать в себя всю горечь, переполнявшую его душу. В тот день, когда в колледже происходила запись на второй курс, он познакомился с Телмой Пиклз. Телма была застенчивой и чувствительной девушкой с темными задумчивыми глазами, которой нечасто доводилось улыбаться. Едва увидев Джона, она сразу почувствовала, что ее неодолимо тянет к нему. Не успели их представить друг другу, как в класс, где они находились, влетела еще одна студентка: «Привет, Джон! Я слышала, твоя мать попала под машину. Это был полицейский, да?» Оторопевшая от подобной бестактности Телма была восхищена спокойствием, с которым Джон просто ответил: «Вроде да».
После этого в течение нескольких недель они периодически встречались в коридорах. Однажды Джон предложил Телме помочь донести ее папку с рисунками до автобусной остановки на Касл-стрит. По дороге они разговорились, потом присели на ступеньках памятника королеве Виктории. Девушка попросила его рассказать об отце. «Он свалил, когда я был еще маленьким», – ответил он по обыкновению небрежно, как делал всегда, когда речь заходила о чем-либо, что глубоко трогало его.
«И мой тоже», – неожиданно прошептала она. Отец Телмы уехал, когда ей было десять лет. «Но в то время, – рассказывает она, – никто не осмеливался признаться, что его родители разведены. Этого стыдились. А молчание нагоняло жуткую тоску. Какое же облегчение я почувствовала, когда узнала правду про Джона!»
У обоих с детства обделенных молодых людей развилось чувство глухой ненависти к окружающему миру, и это чувство сблизило их. «Я сразу же поняла, что мы были одинаково агрессивны... одинаково хотели скорее повзрослеть, чтобы послать к черту все, что так ненавидели», – добавляет она.
В студенческом пабе «Ие Крэк» Телма слушала язвительные реплики Джона. Его шуточки, все более ядовитые по мере того, как он напивался, порой шокировали, но вместе с тем и завораживали девушку. Гуляя с ней по улице, Джон отпускал отвратительные шуточки в адрес всех несчастных, которые попадались им навстречу – калек, умственно отсталых или сгорбленных под бременем лет стариков. «Ну что, потерял где-то ноги? – бросал он какому-нибудь бедолаге на кресле-каталке. – Будешь теперь знать, как бегать за девочками...» В другой раз он мог пристроиться сзади хромающего по тротуару калеки, подражая его походке, а затем внезапно преградить ему дорогу, состроив страшную рожу.
В молодости Леннон не отдавал себе отчета в том, что заставляло его поступать подобным образом, однако много лет спустя он объяснил причины такого поведения, написав песню «Crippled Inside»37. Ущербность души, говорил он, рано или поздно передается и телу. Он внутренне ощущал себя чудовищем, но боролся, стараясь сохранить нормальной хотя бы видимую оболочку, отказываясь, например, носить очки. Леннон боялся этого кошмара, и, стараясь изгнать из души страх, то издевался над всеми, кто представлял собой малейшее отклонение от нормы, то рисовал странных персонажей, заполнявших его студенческие тетради: мужчину с головой в виде скалы и лапами, как у ящерицы, тщедушного мальчика с клювом вместо носа и вытянутой, как у страуса, шеей. Родись он лет на десять пораньше, он мог бы найти свое место в мире сюрреалистов и мастеров черного юмора, став, быть может, английским Ленни Брюсом – Джон обожают этого актера. Вместо этого он скрепя сердце плыл по течению и провел свою молодость, сочиняя песенки про любовь для представителей того класса, который называл «рынком животных». Прошло немало времени, прежде чем он обрел достаточно уверенности в себе, чтобы нарушить табу собственного поколения, вернуться к населявшим его разум чудовищам, юношеским тревогам и положить их на музыку.
У Леннона не было таланта рисовальщика. Но во всем, что он говорил или писал, проявлялись его острая карикатурность и экспрессивность. Карикатура была не единственным жанром визуального искусства, повлиявшим на дальнейшую карьеру Джона в качестве поэта-композитора. Он с легкостью использовал все формы выразительных средств, считавшиеся в ту пору модными в художественном колледже: коллаж, монтаж, «редимед», абстракцию, сюрреализм и даже автоматическое письмо. Знания, которые он мог получить на занятиях, представляли в то время идеальный багаж для английской рок-звезды. Пит Таунсенд, Кейт Ричард, Эрик Бердон, Ронни Вуд – полный список гораздо длиннее – все они в свое время прошли через художественные училища. Неудивительно, что все они работали в одном и том же направлении: за основу брали американский рок-н-ролл и перерабатывали его с использованием навыков, унаследованных британскими художественными училищами у довоенного европейского авангарда.
Тем временем отношения Джона с Телмой не ограничивались одними прогулками. Он постоянно стремился затащить ее в постель. По вечерам они отправлялись флиртовать на поле для гольфа в Аллертоне, где целовались до потери пульса, однако Телма, опасаясь забеременеть, как это случилось уже с пятью или шестью девушками из колледжа за один только год, не позволяла Джону ничего более серьезного. В то время аборты были запрещены, и секс оставался очень опасной игрой. Кроме того, Телма и не стремилась к сближению с Джоном, так как считала, что у него напрочь отсутствует романтизм. Вместо «заниматься любовью» он говорил «сделать забег на пять миль», а девушек, которые в последний момент увиливали от близости, называл «постельными девственницами». Телма, безусловно, была порядочной девушкой, что вполне устраивало Джона. Он всегда нуждался в нежности, в ласковом слове и мечтал, чтобы рядом с ним была одна из таких девушек, которых он именовал «спаниелихами».
Еще одной такой спаниелихой была Синтия Пауэлл, красивая девушка с золотисто-каштановыми волосами, которая жила в буржуазном предместье Ливерпуля под названием Хойлейк, расположенном на Уирролском полуострове. Девушки из этого квартала, носившие вязаные двойки, твидовые юбки, прически «перманент» и отличавшиеся манерами типа «чашка чая с сухарями», считались в глазах будущих художников неисправимыми мещанками; Синтия являла собой наглядный образец этого презренного сословия. Ее отец, работавший представителем компании «Дженерал Электрик», умер от рака, когда ей было семнадцать; с тех пор Синтии, воспитанной матерью, женщиной с железным характером, всегда недоставало уверенности в себе. Кстати, в художественном колледже она пошла на оформительское отделение, что было, скорее, признаком отсутствия самоуверенности и больших амбиций.
Джон Леннон явно диссонировал в этой группе прилежных девушек, способных часами рассчитывать пропорции того или иного шрифта. Отказавшись принять его на художественное отделение, преподаватели посоветовали Джону заняться оформительством, посчитав, что из него вполне может выйти неплохой иллюстратор. Когда Синтия впервые увидела этого битника в черном, от которого несло рыбой и жареной картошкой, ее реакция была вполне понятной. «Я почувствовала, что у меня нет абсолютно ничего общего с этим типом. Я до смерти его боялась», – признавалась она позднее. Джон, со своей стороны, принял ее за простушку, которую ничего не стоит одурачить. Вскоре она стала замечать, что у нее постоянно что-то пропадало, когда она начинала собирать вещи: то один из любимых карандашей, то кисточка, то тюбик с краской.
Во время первого семестра они виделись только на обязательных занятиях два раза в неделю. Затем, на каком-то общем собрании, Синтия оказалась сидящей сзади Леннона и его команды. Когда Хелен Андерсон провела рукой по сомнительной чистоты волосам Джона, сердце Синтии вдруг болезненно заколотилось. «Что со мной происходит?» – спросила она себя. И через мгновение была вынуждена признать, что влюблена и сгорает от ревности. Замешательство девушки было вполне понятным, так как она влюбилась в парня, который являл собой полную противоположность тому, чем она должна была восхищаться, который демонстрировал презрение ко всему, что считалось нормой, и был наделен именно теми качествами, которых не было у нее: агрессивностью, умением завладеть вниманием окружающих, развязностью. И тем не менее было у них и нечто общее: как и Джон, воспитанный властной теткой, Синтия испытывала на себе безграничное влияние собственной матери. И вот она воспылала страстью к сильной личности, к мужчине.
Между тем, несмотря на застенчивость, у Синтии не было недостатка в решимости. Стоило ей поставить перед собой цель, как она устремлялась к ее достижению. Но как ей добиться, чтобы Джон обратил на нее внимание? Очень кстати один из приятелей Джона, Джефф Мохаммед, помог ей решить эту проблему, посоветовав Джону приударить за Синтией на очередной вечеринке, сообщив, что девушка от него без ума. Когда Леннон пригласил ее на танец, Синтия запаниковала. «Извини, – сказала она, тщательно выговаривая слова, – но я уже помолвлена с одним парнем из Хойлейка».
«Ну и что? Я же не зову тебя замуж!» – засмеялся он. А именно эта мысль и засела у нее в голове – выйти замуж за Леннона.
После окончания вечеринки Джон пригласил Синтию в «Ие Крэк». Девушка пить совсем не умела, и после нескольких стаканчиков у нее сильно закружилась голова. Джон, решивший не упускать представившуюся возможность, потащил ее домой к приятелю, жившему неподалеку. Несмотря на то, что Синтия впервые оказалась с Джоном наедине, она безоговорочно и сразу подчинилась ему. «Я и не задавала себе никаких вопросов, – вспоминает она. – Все произошло самым естественным образом». И все же для девушки такого воспитания, как Синтия Пауэлл, которая к тому же училась в колледже, где чуть ли не ежедневно у студенток возникали трагедии из-за нежелательной беременности, подобное безрассудство может показаться удивительным. Как бы то ни было, оба они – и Синтия, и Джон – отчаянно нуждались в любви. И достаточно было одной искры, чтобы два одиноких сердца вспыхнули ярким огнем.
Их страсть превратилась в бесконечную психодраму, где главным действующим лицом был Джон, а Синтия играла роль второго плана. «Я был в истерическом состоянии, – позднее признавался Джон. – Я отыгрывался на ней за все свои прошлые разочарования». А девушка подчинялась малейшему из его капризов. Ему нравилась Брижит Бардо? Скромная и застенчивая Синтия превратилась в неотразимую Б. Б., обесцветив волосы и переодевшись в откровенные платья и черное нижнее белье, распалявшее Джона. Но стоило ей только взглянуть на кого-нибудь или завести невинный разговор с приятелем, как он устраивал ей сцены ревности. Тем не менее она надеялась, что со временем он изменится. Синтия знала, что за буйным нравом скрывается рана, которую она надеялась излечить.
Квартира, в которую в тот первый вечер Джон привел Синтию, принадлежала Стью Сатклиффу, самому блестящему студенту в колледже. Светловолосый, с тонкими чертами лица, Стью был похож на Джеймса Дина, а его манера одеваться – узкие джинсы, розовая рубашка, сапоги с эластичными застежками, бежевая бархатная куртка и темные очки, которые Стью не снимал даже ночью, – сразу привлекла внимание Джона. В то время Стью носил жидкую бороденку и усы и курил сигару, чтобы казаться старше и умнее. Как художник он был удивительно разносторонним: его интерес простирался от французских импрессионистов и прерафаэлитов до Джексона Поллока, Николаса де Сталя и Люциана Фрейда. Кроме того, он обожал газетные сенсации и испытывал сильную тягу к рок-н-роллу, в частности, нередко рисовал под музыку Бадди Холли и мечтал о том, чтобы сделаться олицетворением мифа о проклятом художнике, подобно тому, как это было с джазовыми музыкантами пятидесятых, художниками из «Экшн Пэйнтинг» или поэтами-битниками. Сатклифф выкуривал по три пачки сигарет в день, а когда его предостерегали, говоря, что это опасно, отвечал: «Мне плевать... Может, я и умру через год или два, но хотя бы поживу в свое удовольствие».
Будучи страстным поклонником рок-н-ролла, Стью очень обрадовался тому, что Джон Леннон создал группу. Джон, со своей стороны, был покорен энергией и успехами нового друга, одну из картин которого только что отобрали для выставки Джона Мурса – британского аналога Венецианского бьеннале. Леннон, который всегда нуждался в герое, сделал своим героем Стью и больше с ним не расставался.
Квартира, которую Стью делил с Родом Мюрреем в доме три по Гэмбиер-тёррас, выходила окнами на Сент-Джеймсское кладбище и заднюю стену огромного Ливерпульского собора. В доме были высокие потолки со старинной лепниной и стены, выкрашенные в соответствии с дизайнерской модой того времени: три – в белый цвет, а одна – в коричневый.
Свою мастерскую Стью оборудовал в дальней комнате, где декорацией служили угольная печь, набитая кусками засаленной оберточной бумаги из-под рыбных и картофельных чипсов, несколько расшатанных стульев и такой же стол, протертый до основы ковер, матрас, брошенный прямо на пол, рисунки обнаженной натуры и гигантские куски полотна. Род Мюррей и Маргарет Дизли, «Диз», занимали комнату, выходившую на фасад, где у них постоянно толклась куча народу. Джон Леннон нередко спал здесь в гробу, предпочитая настоящим простыням его атласную обивку.
Именно в этой квартире Леннон впервые попал в поле зрения британской прессы. В воскресном номере газеты «Пипл», вышедшем 24 июля 1960 года, была помещена статья под заголовком, набранным крупным шрифтом, который гласил: «КОШМАР БИТНИКА». В качестве иллюстрации статью сопровождала фотография, на которой была изображена группа небрежно одетых молодых людей, жавшихся друг к другу на грязной кровати. Авторский текст гласил: «Большинство битников любят грязь. Они одеваются в непотребную одежду. Их „жилища“ загажены всякой дрянью». В самом центре этой «дряни», на грязном полу лежал Джон Леннон. Его имя нигде не упоминалось, но внешность угадывалась безошибочно.
Леннон переехал в квартиру Стью на Гэмбиер-террас в начале 1960-го – третьего и последнего года, проведенного Джоном в художественном колледже. К девятнадцати годам у него сложились странные отношения с Мими, которую он не переставал изводить. По ночам, когда она начинала кашлять, он кричал ей: «Молись, жалкая туберкулезница, через десять минут ты сдохнешь!» Однажды утром Ян Шарп, ночевавший в Мендипсе, стал свидетелем того, как Джон, уходя из дома, попрощался с теткой через окно в гостиной. Но вместо того чтобы уйти, он спрятался в кустах, а через какое-то время снова, будто черт, подскочил к окну с криком: «Пока, Мими!» И так много раз, безо всякой жалости к несчастной старой леди.
Если бы не финансовая зависимость от тети, Джон съехал бы из дома еще раньше. Но теперь у него прибавилось смелости: Джон окончательно решил стать профессиональным музыкантом. Будучи уверенным в том, что в конце года его вышибут из художественного колледжа (Джон еще в предыдущем году провалил несколько промежуточных экзаменов и продолжал учебу, находясь на испытательном сроке. -А. Г.), он стремился посвятить последние месяцы своей студенческой жизни формированию группы и тому, чтобы пробиться на все более популярную рок-сцену Мерсисайда.
Он знал, что может рассчитывать на Пола Маккартни и Джорджа Харрисона. Пол не собирался продолжать учебу после лицея, а Джордж подумывал о том, чтобы бросить школу и устроиться на работу помощником электрика в большом супермаркете. Оставалось найти барабанщика и басиста.
Стью получил от Джона Мурса шестьдесят пять фунтов за свою картину и потратил их на приобретение великолепной новой бас-гитары марки «Хонер». Родители пригрозили, что лишат его средств к существованию, а преподаватели умоляли не бросать училище накануне защиты диплома. Но все было напрасно. Отныне Сатклифф думал только об одном: он хотел научиться играть на этом тяжелом и громоздком инструменте.
Дэйв Мэй, игравший на бас-гитаре в группе «Mark Peter and the Silhouettes»38, согласился обучить его азам рок-н-ролла. В обмен на это Стью разрешил ему снять мерки со своей гитары – Дэйв захотел смастерить такую же своими руками. Показав Стью аккорды «С 'топ Everybody»39 Эдди Кокрана, Мэй пришел к выводу, что парень «безнадежен». Но в его глазах и Пол Маккартни, который уже тогда был хорошим музыкантом, ничего из себя не представлял.
Именно Стюарт Сатклифф предложил назвать группу «Beetles»40 – так назывались соперники Марлона Брандо в романтическом фильме о мотоциклистах «Дикарь». Бадди Холли выступал с группой «Крикете», почему бы и Джону Леннону не стать «жуком»? Леннон, по обыкновению, видоизменил слово, с тем чтобы оно заключало в себе намек на музыкальный «бит». Так самая знаменитая в истории рок-группа получила свое странное название.
Однако еще более странным, чем само название, был тот факт, что оно не выделяло, как это было принято, имя лидера, за которым обычно следовало название сопровождающей группы, к примеру: «Bill Halley and the Comets»41 или у «Buddy Holly and the Crickets»42. Несмотря на то, что в течение ряда лет «Битлз» переменили несколько названий, лишь однажды, во время одного из самых смутных периодов существования группы – в 1959 году, – она называлась «Johnny and the Moondogs»43, но с тех пор никогда больше «Битлз» не делали отличия между своим лидером и остальными членами группы. И дело тут не в том, что у Джона было слишком развито чувство коллективизма или что ему не хватало необходимых качеств для того, чтобы стать лидером: он чувствовал себя не настолько уверенно, чтобы выступать в роли звезды-солиста.
Но его решение вызвало сложную цепную реакцию, в результате которой создатель группы оказался поглощенным творением своих рук, став в конечном итоге всего лишь «Битлом Джоном».
Глава 10 Мерси-бит
Свою карьеру «Битлз» начинали в самом низу афиши. В отличие от Элвиса, на которого слава свалилась в одночасье, мальчикам из Ливерпуля пришлось пахать в течение долгих лет, чтобы завоевать известность. Казалось, ничто не свидетельствует в их пользу. Будучи англичанами, они использовали художественный язык, бывший достоянием Америки, который многие американцы не понимали сами, так как это был язык небольшой кучки белых с Юга или негров, продолжавших жить в гетто. Кроме того, они были выходцами из провинциального города, знаменитого своими футбольными командами, театральными труппами, но в котором еще никогда не рождались великие музыканты. У них не было серьезной подготовки: ребята даже ни разу не участвовали ни в одном крупном рок-концерте. Но они были умны, упрямы, не теряли оптимизма и чувства юмора. Если дела не клеились, они поднимали себе настроение, разыгрывая скетч, позаимствованный из какого-нибудь фильма «черной серии», в котором речь шла о шайке ливерпульских бандитов.
«Когда на нас вдруг наваливалась депрессия, – вспоминал Джон, – и казалось, что мы катимся в никуда, что у нас опять дерьмовый ангажемент, что нам опять предстоит сидеть в засранной гримерке, я обычно говорил: „Куда же мы идем, пацаны?“ А все остальные, изображая псевдоамериканский акцент, хором отвечали: „Наверх, Джонни!“, после чего я спрашивал: „А где это, пацаны?“ – „На самой верхушке самой макушки!“ – кричали они. „Правильно!“ – подытоживал я, и все вместе мы издавали победный клич». В первые годы существования «Битлз» изо дня в день повторяли этот ритуал, выступая в самых захудалых залах и размещаясь в самых затрапезных гримерках, которые только можно найти во всей долгой и сумрачной истории Биг-бита.
В 1960 году в Англии, как и в Соединенных Штатах, рок уже считался вчерашним днем. Элвиса призвали в армию, а Литтл Ричард ударился в религию. Представители нового поколения, такие, как Фрэнки Авалон, Ричи Вэленс или Рики Нельсон, довольствовались «софт роком»44 – неизбежной коммерческой вариацией на тему, явившейся, однако, предательством по отношению к тому, чем была эта музыка на самом деле. Что касается англичан, то они, как и прежде, шли уже проторенной до них дорожкой.
Звезды британской музыкальной сцены продолжали оставаться бледными копиями Пресли. Тем самым они воплощали сокровенные мечты молодежи, стремившейся сломать жесткие барьеры социальной системы. Водитель грузовика, ставший звездой рока, – «Король» – олицетворял собой надежду юных англичан.
Но такое буйство вдохновения, такой фонтан жизненной силы и радости было попросту невозможно наблюдать издалека. Элвиса было необходимо доставить в Англию, чтобы поклонники могли припасть к ногам своего кумира. Но поскольку Элвис не приезжал (он так ни разу не побывал в Англии, что делало его еще более загадочным), ему стали подражать наподобие того, как производители модной одежды всегда копировали последние заморские фасоны. Основоположника этой моды звали Ларри Парне. Он начал с того, что открыл некоего Томми Хикса, который пел репертуар Билла Хейли в одном из кафе лондонского Сохо под названием «Ту Айз», подобрал ему более звучное имя, сделал рекламу, и новоиспеченный Томми Стил стал любимцем нового английского шоу-бизнеса. Следом за ним Парне запустил Марти Уайлда, Билли Фьюри, Джонни Джентла, Джорджи Фейма и «шейха шейка» Дики Прайда. Очень скоро Ларри Парне получил в Великобритании такую же известность, как полковник Том Паркер – в Соединенных Штатах.
Ливерпуль в очередной раз продемонстрировал свое отличие от остальной части страны, отказавшись покупать этих клонов Элвиса. Причем бойкот, объявленный здесь подражателям Элвиса, распространился и на него самого. «Нам не подходило то, что делал Элвис, – вспоминал один из первых мерси-рокеров Тед „Кингсайз“ Тейлор (этот парень, в котором было шесть футов четыре дюйма роста и 280 фунтов веса, считался лидером первой британской рок-н-ролльной команды). – Он был мягковат. Для ливерпульской публики у него явно не хватало мощи. А мы хотели, чтобы нас прошибло. Американцы просто использовали Элвиса, чтобы заткнуть глотки черным». Мысль Тейлора о том, что Элвис занял место, которое могло достаться чернокожему певцу, была недалека от истины. Но она еще не объясняла, каким образом Кингсайз Тейлор и другие ливерпульские рокеры, которые были еще более «белыми», чем Элвис, собирались исполнять «тяжелый рок-н-ролл».
Проблема, с которой они столкнулись, была не нова, так как Пресли был всего-навсего последним из длинной череды белых, которые на протяжении многих лет грабили музыку чернокожих. Начиная с сентиментальных coon songs45 Стивена Фостера и заканчивая творчеством Эла Джолсона, не говоря уж о паясничестве какого-нибудь «Джамп Джим Кроу», белые артисты в течение пятидесяти лет эксплуатировали придуманные неграми выразительные формы, не умея добиться той же музыкальной мощи. Элвис лишний раз подтвердил эту закономерность. Пока он оставался в рамках рокабилли, все было хорошо. Но стоило ему посягнуть на успех Литтл Ричарда, Джо Тернера или, скажем, Виллы Ма Торнтон, которая создала оригинальную версию песни «Houndog»46, спев ее значительно лучше Короля, как дела начали портиться. И тем не менее ливерпульские рокеры надеялись, что их ждет успех там, где потерпел фиаско сам Король.
В конце пятидесятых стиль, именуемый ритм-энд-блюзом, калейдоскопически отображал разные стили негритянской музыки, госпел, блюз, джаз, минстрел-шоу47 и даже бродвейский мюзикл. Для того чтобы охватить всю массу негритянской публики, музыканты ломали границы, которые долгое время разделяли эти стили. Именно эклектика жанра и станет отправной точкой для самостоятельного развития английского рока. Подобно родоначальникам из Америки, британцы научились собирать элементы диаметрально различного происхождения в почти сюрреалистическое целое.
Вначале мерси-рокеры стремились к бесхитростному воспроизведению «негритянских» звуков. Британский рок использовал музыкальное пиратство подобно тому, как в свое время именно в пиратстве черпала свои силы Британская империя. Живя в Ливерпуле, сдирать ритм-энд-блюз было не так-то просто. Радио, контролируемое корпорацией Би-би-си, по составу своих программ оставалось на уровне сороковых годов, а большая часть интересовавших ребят пластинок не импортировалась. Но Ливерпуль – второй по величине порт Англии – имел в этом смысле значительные преимущества.
Благодаря дяде, работавшему на таможне, Кингсайз Тейдору удалось, например, заполучить целый ряд бесценных сокровищ, выпущенных компаниями звукозаписи «Спеши-элти», «Федерал», «Кинг», «Чесс» или «Атлантик». Оставалось лишь как можно быстрее разучить новинки и выступить с ними на публике раньше, чем они окажутся на рынке. В пятидесятые годы эта задача не составляла особого труда, так как компании, выпускавшие пластинки, были еще слишком неповоротливы. В шестидесятые действовать приходилось уже намного расторопнее – британские фирмы стали улавливать новые молодежные вкусы. Кингсайз Тейлор, которого сегодня можно увидеть в белом фартуке мясника в Саутпорте, смеется, как мальчишка, когда вспоминает, как они успели содрать нашумевший хит Гари «Ю. С.» Бондз под названием «Новый Орлеан», выпущенный в Соединенных Штатах в ноябре 1960 года. «Мы репетировали целых три дня. Никто из нас так и не смог до конца разобрать текст этой песни. Наконец в четверг вечером мы-таки исполнили ее. А в пятницу она вышла на пластинке!»
Это было захватывающее соревнование, которое тормозило развитие творческой деятельности мерси-рокеров, мешая им сочинять собственную музыку. «Тогда никто не писал своих песен, – объясняет Кингсайз Тейлор. – Они нам были просто не нужны. Каждая новая вещь, которую мы исполняли, считалась новинкой, так как до этого английская публика ее не слышала».
Еще одной проблемой мерси-рока стал ритм. Термин «beat» оставался выражением культуры, вдохновившей появление этой музыки. Американские негры были наследниками африканских традиций, а ливерпульская молодежь имела за плечами традиции шотландско-ирландской культуры, где барабанщики чаще всего учились своему искусству в скаутском духовом оркестре или во время уличных шествий. Они не знали, что такое свинг, и зачастую долбили по установке так, словно барабанили на военном параде.
Кстати, и в более поздние годы «Битлз» порой звучали как триумфаторы, марширующие под звуки военного марша или гимна. Вместе с тем они могли сносно исполнять раскачные мелодии в стиле кантри-энд-вестерн или мчаться, подобно задыхающимся мальчишкам, как, например, в песне «Help!»48. И тем не менее даже им редко удавалось добиться настоящей чувственности, которая была изначально присуща любому самому ординарному негритянскому ансамблю, играющему в стиле ритм-энд-блюз. Напротив, они были от нее столь далеки, что когда Мохаммед Али впервые услышал Ринго Старра, то воскликнул: «Да моя собака стучит по барабанам лучше него!»
И еще одна черта отличала музыку первых исполнителей мерси-рока от оригинала (а также и от мерси-бита, появившегося позднее благодаря успеху «Битлз»). Ливерпульцы, равно как и их последователи из южных областей Англии, такие, как «The Who» или «Роллинг Стоунз», наполняли ритм-энд-блюз тяжелой интонацией тедди-боев. Многие ансамбли объединяли ребят, входивших в одни и те же уличные банды, а публика состояла в основном из угрюмых, готовых в любую минуту взорваться парней, которые и в рок-н-ролле искали выход жестокости, клокотавшей в их сердцах.
В отличие от молодежи юга Англии юные ливерпульцы не имели денег, чтобы посещать существовавшие в то время платные танцплощадки. Поэтому им приходилось искать для развлечений другие места. Бедность явилась причиной возникновения базовых ячеек по распространению мерси-бита, которыми стали ливерпульские танцхоллы. Но для того чтобы понять, чем отличались эти местные танцевальные заведения от аналогичных залов, существовавших в любых других частях Британских островов, необходимо представить себе, где и как собирались и общались тинейджеры.
В отличие от Соединенных Штатов, где после исчезновения биг-бэндов в послевоенный период большинство танцевальных залов было закрыто, Британия сумела сохранить эти архаичные заведения, объединив их в две общенациональные сети: «Мекка Болрумз» и «Топ Рэнк Дэнс Сьютс», в которых старомодные оркестры исполняли попеременно быстрые и медленные мелодии. Туда не пускали ни тедди-боев, ни матросов, ни «цветных», ни евреев, ни глухонемых. В дверях стояли вышибалы, прятавшие в карманах увесистые кастеты.
Если молодежь других регионов Англии довольствовалась этим, то юная поросль Ливерпуля отказывалась выкладывать свои скудные заработки за посещение заведений, где их еще и презирали. Они предпочитали оставаться на своей территории. Главным было правильно организовать вечер: они садились в автобус, который довозил их до актового зала какой-нибудь мэрии или церкви, где продюсер-любитель устраивал концерт. Здесь они были среди своих, могли слушать ту музыку, которая им нравится, одеваться как захочется и танцевать самые модные танцы.
Но главная причина успеха такой системы заключалась в ее экономичности. За вход платили по пять шиллингов, а в буфете продавались только соки и чипсы. Выступавшие группы получали по семь-восемь фунтов, что позволяло организаторам приглашать по нескольку коллективов за раз. (Музыканты, чтобы побольше заработать, нередко выступали в течение одного вечера на двух или трех разных площадках.) Включая все расходы, бюджет одной такой вечеринки редко превышал пятьдесят фунтов.
Популярность мерси-бита расширялась, образовывались новые группы, в бизнес начали включаться менеджеры и продюсеры. Влюбленный в эту музыку Ливерпуль прославит ее, подобно тому, как в двадцатые годы Буэнос-Айрес прославил танго, Канзас-сити в тридцатые – джаз, а Нью-Йорк в сороковые – свинг. Когда «Битлз» добьются успеха, в городе будет триста пятьдесят ансамблей, рок можно будет слушать каждый вечер и появится даже специализированная рок-газета «Мерей-бит». Вскоре в больших залах будут проводиться огромные концерты для многотысячной аудитории, на которые зрителей станут доставлять на специально заказанных автобусах. И все это будет происходить в самом центре города, где за несколько лет до этого все заведения закрывались уже в десять вечера. История рока еще не знала таких чудес. Чудо могло произойти только в Ливерпуле: там, где раньше не было ничего, могло случиться все, что угодно.
Однако, рассказывая о рок-н-ролльном рае, нельзя не упомянуть о жестокости, которая сопровождала поднимающуюся волну этой музыки. С самого начала турне под названием «Rock Around the Clock» уличные банды избрали рок своим боевым кличем, а концертные залы – полями сражений. Каждую неделю «Холли Бойз», «Ферри Бойз», «Парк Гэнг» и множество других группировок отправлялись защищать свою территорию. А в танцевальном зале их уже поджидала банда соперников. Они обменивались вызывающими взглядами, провоцировали друг друга. И рок-н-ролл заканчивался потасовкой.
Прекрасной иллюстрацией боевых действий, которые регулярно разворачивались на ливерпульских танцплощадках, может послужить рассказ первого менеджера «Битлз» Аллена Уильямса. Однажды вечером из Гарстонских бань (прозванных в народе «кровавыми») выгнали банду, называвшую себя «Тиграми». Это произошло после того, как один из членов банды выбросил в окно пустую пивную банку. В следующую субботу все вышибалы танцевального зала, самые крутые из крутых, поджидали «Тигров», надев тяжелые кожаные перчатки и вооружившись длинными дубинками. Однако вместо них появились «Танкеры», специалисты сражений стенка на стенку. Они заплатили за вход и принялись танцевать, вежливо приглашая девушек и не создавая никаких проблем, короче говоря, вели себя как образцовые молодые люди. Обстановка разрядилась. Вышибалы начали терять бдительность. И в этот момент неожиданно напали «Тигры». Они растолкали стоящих у входа и бросились в зал, размахивая кто ножом, кто бритвой, кто велосипедной цепью. Охранники смело повернулись лицом к внезапно появившемуся противнику. Но тут «Танкеры» построились в каре, напали на охранников с тыла, и началась смертельная битва.
«У меня до сих пор стоит в ушах глухой шум ударов ботинками по телу, ужасный звук дубинок, обрушивающихся на головы, – вспоминает Аллен Уильяме. – Вижу, как кровь брызжет из ран. В какой-то момент один малыш ростом с три вершка бросился с ножом на вышибалу, который встретил его ударом дубинки прямо в лицо. Малыш рухнул как подкошенный. Лицо превратилось в одну сплошную рану, и он заорал. Позже товарищи вытащили его, положив на сорванную с петель дверь, словно погибшего в бою солдата».
Аллен Уильяме был о «Битлз» не слишком высокого мнения. «Я предпочитаю смотреть на них издалека!» – воскликнул он, подписав контракт с будущими рок-звездами. Для этого сантехника, переквалифицировавшегося в директора ночных клубов, который хвастал тем, что «научился петь, как настоящий профи», «Битлз» были бандой бездельников, которых столько шатается по Ливерпулю; кем угодно, только не музыкантами. Если бы не дружба со Стью Сатклиффом, не уважение к его таланту художника и характеру идеалиста, он никогда бы не связался с «Битлз». К слову сказать, поначалу он доверял им ту же работу, которую обычно поручал студентам художественного колледжа: перекрасить женский туалет в своем клубе «Блу Энджел» или сделать освещение на дансинге в «Челси Артс Болл». Оставаясь в течение нескольких месяцев глухим к их мольбам, он в конце концов разрешил ребятам поиграть у себя в кафе-баре «Джакаранда». Разумеется, бесплатно.
Это заведение, уставленное столиками из огнеупорной пластмассы и с опускающимися окнами, больше напоминало по выражению самого Уильямса, зал ожидания на вокзале, нежели бар. Но по вечерам оркестр антильской музыки несколько оживлял грустную атмосферу, царившую здесь. А по понедельникам сюда приезжала играть самая модная в Ливерпуле рок-группа «Касс энд Кассановас», прозванная «Групой бензедринового бита». Это легендарное трио, известное впоследствии как «The Big Three»49, выступало под руководством барабанщика Джонни Хатчинсона, тедди-боя с жесткой улыбкой, который позже станет образцом для Джиндокера Бэйкера.
Хатч отнесся к этой новой группе как к банде «выпендрежников». На одной из первых фотографий «Битлз» его можно увидеть сидящим сзади за ударной установкой с весьма высокомерным и скучающим видом, в то время как музыканты суетятся на авансцене, пытаясь повторить движения ног Чака Берри. Гитарист Кейси Джонс тоже был не в восторге от этих школяров, которые надумали играть в рокеров. Он нашел название группы смехотворным и посоветовал придумать что-нибудь другое, к примеру, «Лонг Джон и Силвер Битлз». Вероятно, идея позаимствовать имя одноногого пирата из «Острова сокровищ» соблазнила Леннона, и в течение нескольких последующих месяцев группа называла себя «Силвер Битлз».
Силла Блэк, которая тоже станет поп-звездой, часто приходила в «Джак» по понедельникам: «Вход стоил один шиллинг. Я ходила, чтобы послушать „Касс энд Кассановас“. „Битлз“ служили просто для затыкания дыр. Они были грязными и плохо одевались. Пол Маккартни аккомпанировал, перебирая аккорды, и на его гитаре без конца рвались струны. Я уже смирилась с мыслью о том, что в конце концов он выбьет глаз кому-нибудь из тех, что сидят в первом ряду. Да и аппаратуры своей у „Битлз“ почти не было. Обычно они играли на технике „Кассановас“. Короче, мне они не нравились». Если даже на публику они производили такое впечатление, стоит ли удивляться тому, что собственный менеджер не принимал их всерьез?
Тем не менее Аллена Уильямса трогало их страстное же-: лание стать лучше. Однажды он отправился в универмаг-"Маркс энд Спенсер" и купил им сценические костюмы: черные свитера под горло, черные джинсы и бело-коричневые мокасины. Затем, это было уже в мае 1960 года, он объявил ребятам, что в Ливерпуль со своим любимым исполнителем Билли Фьюри приезжает великий Ларри Парне для1 ответственного прослушивания: он подыскивал группу, ко-. торая могла бы аккомпанировать Билли. Наступил назначенный день, и в зале собрались лучшие группы города. Началось тревожное ожидание. Прослушивание представляло для многих серьезный шанс. Последний из клонов Элвиса – Билли Фьюри находился на вершине своей карьеры. Играть с ним значило зарабатывать сто фунтов в неделю! И получить возможность стать известным, а может быть, даже поехать в Америку!
Из всех выступавших лучшее впечатление произвели «Битлз» с Хатчем за ударными. «Мне нужна вот эта группа. „Битлз“ – как раз то, что надо!» – сказал Билли Фьюри, обращаясь к Ларри Парнсу.
Парне согласился, но при одном условии. Стью Сатклифф, несмотря на то, что он играл, повернувшись к Парнсу спиной, показался ему слишком плохим музыкантом. Группа должна была расстаться со своим басистом. «Ну что, ребята, договорились?» – спросил отеческим тоном Уильяме.
«Нет, не договорились», – ответил Джон ледяным голосом. И для «Битлз» все было кончено.
«Я знал, что если возьму их, очень скоро начнутся проблемы, – признался Билли Фьюри в 1982 году, незадолго до смерти. – Лично я не ждал от Леннона ничего хорошего. Так что я предпочел обойтись без них». В результате работа досталась группе «Касс энд Кассановас».
Тем не менее Ларри Парне о «Битлз» не забыл. Он обратился к ним через неделю, когда ему понадобилась недорогая группа для сопровождения одного парня, бывшего плотника по имени Джонни Джентл. Джентл уже записал несколько пластинок, а его песня «Milk From a Coconut»50 заняла в хит-параде 28-е место. Он зарабатывал двадцать фунтов в неделю, что было вдвое больше, чем зарплата рабочего. За два дня он обучил «Битлз» шести номерам своего двадцатиминутного шоу – в основном это были песни Рики Нельсона. И они отправились в путь. Во время своего первого турне «Битлз» должны были проехать через семь городов на юго-востоке Шотландии, включая Инвернесс, столицу Северо-Шотландского нагорья. Каждое утро они вместе с Джонни Джентлом и водителем Джерри Скоттом грузили инструменты, усилители и личные вещи в старый грузовичок. Стартовали обычно в десять утра после плотного завтрака, который был единственным гарантированным приемом пищи в доме у обеспечивавшего их проживание шотландского промоутера Дугласа Маккенны, шестидесятилетнего владельца местной птицефермы. Когда Маккенна увидел, что и на сцене и в течение всего остального дня ребята не снимают одних и тех же грязных и измятых костюмов, он пожаловался Ларри Парнсу. Но из того и лишнего фартинга было не вытащить, так что забота о совершенствовании сценического имиджа «Битлз» выпала на долю Джонни Джентла. Он заметил, что у Джорджа была черная рубашка. У него была такая же. Он одолжил свою Полу и купил еще две для Джона и басиста, и вышло так, что всего за три фунта группа приоделась.
Обычно они выступали в танцевальных залах, а также на ярмарках, иногда в выставочных залах, после распродажи скота. Чтобы посмотреть на них, публика платила по пять шиллингов. Концерт начинали «Силвер Битлз», исполняя шесть вещей, в основном из репертуара Литтл Ричарда. Затем на сцене появлялся звездный Джонни Джентл, который исполнял свои обычные хиты, такие, как «Hello, Mary Lou»51 или «Poor Little Fool»52. Гвоздем представления была старая веселая песенка Пегги Ли «It's All Right, О. К., You Win»53. Джентл кричал: «It's alright!», а «Битлз», стоявшие сзади, хором подхватывали, точно свинг-оркестр сороковых годов: «Олраааайт!» После выступления солиста «Битлз» заканчивали концерт, исполняя еще шесть вещей.
Когда они спускались со сцены, в лучшем случае их угощали пивом, на которое у них самих не хватало денег. Каждый получал по пять фунтов за вечер. И поскольку Парне отказался платить Стью, остальные члены группы делили с ним свой скромный заработок. Им постоянно хотелось есть, особенно Леннону, у которого прорезался зверский аппетит. «Это был настоящий обжора, – рассказывал новый барабанщик группы Томми Мур. – Он поглощал все, что попадало ему под руку, как животное. Стоило на него посмотреть, как у меня пропадал всякий аппетит».
И хотя даже такая посредственность, как Джонни Джентл был далеко не в восторге от турне, «Битлз», напротив, переполнились энтузиазмом, точно бойскауты во время первого в жизни турпохода. «Они из кожи лезли вон, чтобы казаться дружелюбными и забавными, – вспоминает Джонни Джентл. – В этом они были хитрецы. А тогда я думал: „Какие славные ребята!“ Леннон все спрашивал, как мне удалось добиться такого успеха. Он мне завидовал». Тогда же Джентл посоветовал «Силвер Битлз» поехать в Лондон, что, по его собственному признанию, «оказалось далеко не самой лучшей идеей».
Признавая, что юный Леннон был тонким знатоком рока, Джентл дал ему послушать свою последнюю песню «I've Just Fallen For Someone»54. «Что-то мне не очень нравятся вот эти восемь тактов в середине», – сказал Леннон и тут же придумал новые слова и музыку взамен неудачного пассажа. (Именно так позднее постоянно будет поступать Джон с песнями Пола Маккартни.) Когда в 1962 году фирма «Парлофон» выпустила эту песню на стороне "Б" нового сингла Джонни Джентла, никто не упомянул о скромном вкладе Леннона, зато сам он с удовольствием прослушал коммерческую запись собственной музыки еще до того, как «Битлз» выпустили свою первую пластинку.
По дороге в Фрейзенбург, где им предстояло выступать в один из вечеров, грузовик Джонни Джентла столкнулся с «фордом». Внутри все полетело кувырком; Леннон, мирно дремавший на переднем сиденье, влетел в приборную доску, но каким-то чудом все остались невредимы, за исключением Томми Мура, на которого упала гитара. Его с окровавленным лицом доставили в отделение «Скорой помощи», и там ему зашили рану, сообщив, что он лишился одного переднего зуба.
Когда Джонни Джентл и «Битлз» объяснили причину своего опоздания и отсутствия Томми, организатор концерта пришел в бешенство. «А почему бы вам самому за ним не съездить?» – предложил Леннон, как всегда воспользовавшийся моментом, чтобы сыграть злую шутку с тем, кто находился в беспомощном положении. Сказано – сделано, организатор помчался в больницу и приволок оттуда Томми, который был в полной отключке после анестезии. Увидев перекошенное лицо организатора концерта, Джон разразился безумным хохотом. Если верить словам Аллена Уильямса, «из Шотландии „Битлз“ вернулись значительно лучшими музыкантами». Однако в том турне они потеряли надежного барабанщика. «Леннон достал меня так, что дальше некуда, – заявил Томми Мур после нескольких недель совместных выступлений. – Порой он бывал просто скотиной. Чистый псих. Когда возникала драка, он получал удовольствие, наблюдая за дерущимися». Поэтому Мур отказался бросить работу на складе, что явилось для «Битлз» серьезным ударом. Каждый понедельник, встречаясь, чтобы вместе отправиться в «Джак», они с тревогой думали о том, будет ли у них сегодня вечером барабанщик. Томми Мур приходил один раз из четырех. «Ну что, есть кто-нибудь в зале, кто хотел бы поиграть с нами?» – кричал обычно Джон в отсутствие Томми. Но однажды это чуть было не обошлось им слишком дорого.
Как-то вечером, когда ребята играли в «Гросвенор Болрум», расположенном в рабочем квартале на другом берегу реки Мерси, на сцену вместе с «Битлз» вылез некто Ронни, главарь одной из самых известных банд Ливерпуля. Играл он из рук вон плохо, но после первой вещи упрямо отказался уступить свое место другому. В антракте Леннон бросился к телефону, чтобы позвать на подмогу Аллена Уильямса, который вскочил в свой «ягуар» и помчался к ним на всех парах. Он приехал как раз к последней вещи, но разборка между «Битлз» и Ронни еще не закончилась: головорез вбил себе в голову, что может стать их постоянным барабанщиком. Пока Уильяме пытался его урезонить – «Ты же не захочешь занять место Томми Мура, такого же парня, как ты, который вкалывает, чтобы заработать себе на жизнь?» – банда Ронни незаметно окружила музыкантов, ожидая сигнала главаря, чтобы приступить к делу. К счастью, Уильямсу удалось обеспечить их отступление.
Понимая безвыходность своего положения, «Битлз» решили обратиться за помощью к еще одному, на этот раз совершенно непохожему на них рокеру: Питу Бесту, умному и воспитанному, но вместе с тем молчаливому и угрюмому парню. Мать Пита Мона Бест была владелицей молодежного клуба «Касба», который располагался в подвальном помещении ее собственного дома в Хейманс Грин – тихом предместье Ливерпуля. Пит, выступавший там каждую неделю в составе группы «Блэкджекс», уже добился серьезного успеха. Как-то вечером, когда публика должна была выбрать, какая группа ей больше по душе, «Блэкджекс» победили Рори Сторма и «Харрикейнз» (где играл Ринго Старр), заслужив овацию 1350 фанов. (Попробуйте представить себе толпу из 1350 юношей и девушек, набившихся в подвал пригородного дома на проходящем здесь рок-концерте!) На переговоры с Питом был направлен Джордж Харрисон в сопровождении его брата Питера. Вероятно, они не имели бы успеха, не получи «Битлз» к этому моменту шестинедельный контракт в одном из клубов Гамбурга.
Организатором турне, которому суждено было стать историческим, выступил Аллен Уильяме. Как-то раз в одночасье исчез антильский оркестр, выступавший в «Джакаранде». Когда выходцы с Ямайки написали, что нашли работу в знаменитом «квартале красных фонарей» в Гамбурге, удивлению Уильямса не было предела. Группа калипсо в Гамбурге! Тогда почему бы не отправить в Сахару китов? Менеджер «Битлз» немедленно выехал в Германию, и ему быстро посчастливилось познакомиться именно с тем человеком, которого он искал: им оказался Бруно Кошмайдер, первый импортер рок-музыкантов на континент. Этот бывший клоун с обезьяньим лицом, скрытым огромной челкой, зачесанной со лба, оценил красноречие Уильямса. Но когда в подтверждение своих слов тот захотел дать ему послушать лучшие песни своих подопечных и нажал на клавишу магнитофона, из динамиков раздалась неописуемая какофония. Блестящая возможность была упущена – по крайней мере, так ему тогда показалось.
Через несколько месяцев Уильяме вновь встретился с Кошмайдером, на этот раз в Лондоне. Ларри Парне только что аннулировал ряд ангажементов. Уильяме, которому пригрозили намылить шею, если он немедленно не найдет работу группе «Дерри Уилки энд Синиерз», примчался в Лондон, чтобы организовать им прослушивание в клубе «Ту айз»55. И здесь он снова увидел Кошмайдера, приехавшего в поисках новых талантов для своих гамбургских клубов. Кошмайдер без долгих раздумий подписал контракт на Дерри Уилки, а через несколько недель попросил Уильямса прислать ему еще одну группу, которой предстояло выступать на открытии нового клуба. И тогда Аллен решил отправить в Германию свою самую плохую группу – «Силвер Битлз».
Глава 11 Рок при свете красных фонарей
До прибытия «Битлз» в августе 1960 года клуб «Индра» был самым известным стриптиз-баром Гамбурга, в котором выступала знаменитая Кончита, пользовавшаяся широкой популярностью у публики. Она выходила на сцену в красно-черном костюме фламенко с собранными на затылке волосами, с гребнем и мантильей, и начинала танцевать. Выгнув спину и вращаясь под звуки гитар и кастаньет, повторяя гибкие движения цыганки, она раздевалась, постепенно открывая свои длинные красивые ноги, округлый зад и груди в плотно облегающем бюстгальтере. Затем, под овации немецких простофиль и звуки последнего аккорда оркестра, она расстегивала застежку на спине и... оказывалась мужчиной! Свет гас, и следующим номером на сцену выходили «Битлз».
Проблемы начались с первых же нот. Металлический звук электрогитар и гулкий стук большого барабана глохли. «Нам казалось, будто мы играем под пуховым одеялом», – вспоминает Пит Бест, который очень быстро догадался, в чем дело: тяжелая обивка, украшавшая стены зала, поглощала резонанс. К этому добавлялось безразличие публики, пришедшей поглазеть на голую задницу, а не слушать рок. И в дополнение ко всему в антракте Бруно Кошмайдер объявил ливерпульским ребятам, что старуха из квартиры сверху пожаловалась в полицию на шум, который они устроили. А в «горячем» квартале Гамбурга никому не улыбалось иметь дело с легавыми.
Во втором отделении «Битлз» постарались играть потише, но и это не удовлетворило Кошмайдера. Он стал делать им знаки, размахивая руками. «Mach Schau! Mach Schau!» – кричал он без остановки. Он требовал от них шоу, настоящего представления, подобного тем, которые устраивали в его клубах другие английские рокеры – белый Тони Шеридан или чернокожий Дерри Уилки, – выкрутасы в стиле Элвиса, акробатические фортели а ля Литтл Ричард или клоунаду Билла Хейли, в то время как «Битлз» горделиво сохраняли на сцене спокойствие и даже некоторую отстраненность. Сам Леннон позже объяснил это так: «До „Битлз“ все остальные подражали либо Элвису и его группе, либо Клиффу Ричарду и „Шэдоуз“ (которые всей группой использовали на своих концертах настоящие хореографические па). Лидеры групп неизменно одевались в одинаковые розовые пиджаки, черные рубашки и белые галстуки и всегда корячились на авансцене впереди остального оркестра. Мы же делали все совершенно наоборот. Вели себя очень спокойно, почти не двигались. Но публике была нужна не музыка, а представление!»
Джону Леннону дали двадцать четыре часа, чтобы придумать, как удовлетворить клиентов Кошмайдера. И здесь он мог рассчитывать только на себя. «Всякий раз, когда надо было срочно решить какую-нибудь проблему, расхлебывать приходилось мне одному. Все остальные обычно заявляли: „Да ладно, Джон, все в порядке, ты – наш лидер“. А стоило делам поправиться, и об этом уже не могло быть и речи. Но в Гамбурге все было плохо. И тогда я придумал шоу».
Следующим вечером Леннон отставил в сторону гитару и вышел на сцену, хромая, будто старый пират, так что «увечье» еще больше подчеркивало его мужественность. На мгновение он молча замер, затем вдруг взмахнул левой ногой над микрофоном и присел, повернувшись к залу спиной. Когда Джон начал подниматься, он снес стойку с микрофоном, но подхватил его у самого пола, сложившись пополам, точно горбун Квазимодо, поднес микрофон к губам и чуть слышно и очень медленно запел своим чувственным .голосом: «Би-боп-а-лу-ла...» Гамбург был покорен.
Однако ежевечернее подражание Джину Винсенту не решало всех проблем, стоявших перед Ленноном. Сумев завладеть вниманием публики, требовалось научиться удерживать его в течение нескольких часов подряд. Подразумевалось, что «Битлз» должны играть с семи вечера и до полуночи почти без перерыва. В субботу они начинали даже в шесть. А как только стали пользоваться успехом, то зачастую задерживались на сцене до двух ночи, то есть играли по семь-восемь часов кряду. Ребята привыкли к часовым выступлениям, во время которых они повторяли одни и те же вещи, а потому оказались совсем не готовы к тому, что их ожидало. Но и это было еще не все, сладковато-тошнотворные медленные композиции, столь любимые Полом, как, например, «Red Sails in the Sunset»56, не понравились немцам. «Битлз» пришлось пополнить репертуар новыми песнями и научиться играть каждую вещь как можно дольше.
В первый раз, когда они растянули песню Рэя Чарлза «What I Say»57 на двадцать минут, то сделали открытие: многократный повтор музыкальных фраз производил на публику невероятный эффект. Мало-помалу они научились воспроизводить завораживающую атмосферу ритм-энд-блюза. И вскоре завсегдатаи «Индры» увлеклись этой «негритянской музыкой».
Теперь Джон Леннон знал, чего желала публика, и он решил дать ей насладиться за свои денежки сполна. Вдвоем с Полом они делали вид, что дерутся прямо на сцене, нападали на Джорджа и Стью, сталкивая их в публику, или кидались туда сами, заставляя зрителей подниматься со своих мест и танцевать вместе с ними.
В подвыпившем состоянии Леннон принимался насмехаться над немцами. Нацепив на голову фуражку Африканского военного корпуса, он начинал маршировать гусиным шагом, потом замирал в боевом приветствии с криком «Хайль Гитлер!», сопровождая его потоком вызывающих ругательств. Однако вместо того чтобы злиться, уже нагрузившиеся к тому времени зрители только покатывались со смеху от грубых шуток этих beknackte Peetles – чокнутых «Битлз».
Спустя полтора месяца после прибытия «Битлз» Бруно Кошмайдер был вынужден закрыть «Индру»: соседи жаловались на шум. Но поскольку они пользовались успехом, он предложил «ливерпульским мальчикам» перебраться в «Кайзеркеллер», где им предстояло играть попеременно с группой «Рори Сторм энд Харрикейнз». Это заведение, созданное специально как молодежный клуб, размещалось в подвальном этаже «Лидо Данс Пале», где посетителям предлагали пиво и шнапс, смешанный с кока-колой. Здесь была оборудована танцплощадка, а приглушенная атмосфера располагала к свободе общения и флирту. В десять вечера лица младше восемнадцати покидали помещение, так как после этого часа в клуб могла нагрянуть полиция с проверкой документов.
Заведение пользовалось дурной славой. Через год после открытия клуб сделался вотчиной «шлягеров»58 – банды мотоциклистов, наводивших ужас на посетителей. При первых же признаках драки на забияк набрасывалась целая армия вышибал, нещадно избивала их, а затем выбрасывала на улицу, словно мешки с грязным бельем. Словом, тихоням здесь делать было нечего.
И тем не менее именно здесь «Битлз» познакомились с тремя «экзисами», которые стали впоследствии самыми преданными поклонниками группы в Гамбурге. Эти юные немецкие буржуа, которые черпали вдохновение в трудах французских экзистенциалистов, исповедовали стиль небрежной элегантности: бархатные куртки, водолазки, шарфы и ботинки с закругленными носами, набриолиненная челка, спадающая на лоб. Один их вид был способен вывести из себя самого захудалого рокера, так что когда «экзису» попадалась на пути банда «шлягеров», он предпочитал дать деру.
Все трое – Клаус Фурман, Астрид Киршерр и Юрген Фоллмер – были выходцами из добропорядочных семей среднего достатка. Отец Клауса был известным в Берлине врачом-терапевтом, покойный отец Астрид занимал в свое время довольно высокий пост в западногерманском представительстве компании «Форд Моторз», а отец Юргена был армейским офицером, погибшим на Восточном фронте вскоре после рождения сына. К моменту знакомства с «Битлз» Клаус и Астрид, которым было по двадцать два года, уже оставили учебу в Гамбургском институте моды, где еще продолжал учиться семнадцатилетний Юрген. Из всей троицы наиболее яркой внешностью и сильной личностью обладала Астрид.
Прическа каре, кожаная одежда и бесстрастное выражение лица Астрид никого не оставляли равнодушным. Они с Клаусом были вместе в течение многих лет, но в октябре 1960-го, когда ребята познакомились с «Битлз», их союз уже дал трещину. Кстати, именно после очередной ссоры с Астрид Клаус и открыл «ливерпульских мальчиков».
Бесцельно шатаясь по кварталу, где располагались ночные заведения, и пытаясь забыть о своих проблемах, Клаус был привлечен звуками громкой музыки, доносившимися из одного из подвалов. Он вошел, осторожно протиснулся к столику, находившемуся поближе к сцене, и присел рядом с группой рокеров, которые через некоторое время вышли на сцену: это были «Битлз».
Необычное поведение и музыка англичан заинтриговали Клауса, который, как и большинство студентов в то время, увлекался джазом. Во время перерыва он заговорил с ними, показав конверты для пластинок собственного изготовления. (Много лет спустя он станет автором конверта пластинки «Revolver».) Джон резко переадресовал его к Стью, которого отрекомендовал, как «художника команды», а сам стал строить за спиной у Клауса гримасы. Но Стью отнесся к нему по-дружески и пригласил Клауса приходить еще, что тот и сделал, приведя в следующий раз полных скепсиса – и испуганных – Юргена и Астрид.
В «Кайзеркеллере» «Битлз» играли уже не так, как в «Индре». Поскольку их выходы чередовались с номерами Рори Сторма, который был настоящим зверем на сцене, способным сломать себе ногу, прыгая с балкона в зрительный зал, ребята почувствовали, что могут позволить себе опять вернуться к спокойной манере исполнения. Юрген Фоллмер, который был в то время без ума от Джона Леннона и который не пропустил ни одного концерта «Битлз» в Гамбурге, вспоминает, что если Пол оживлялся, когда пел, то Джон «не делал ни единого лишнего жеста, играя на гитаре. Он ограничивался тем, что слегка подавался всем телом вперед под ритм музыки. Это была угрожающая сдержанность в стиле Марлона Брандо».
Именно эту сдержанную жесткость попытался уловить Юрген, фотографируя Леннона следующей весной, когда «Битлз» вернулись в Гамбург. В отличие от Астрид Киршерр, чьи фотографии станут знаменитыми, так как она выбирала, в соответствии с тогдашней модой, искусственные карнавальные декорации, Юрген снимал «Битлз» в естественном окружении и потому смог выразить нечто гораздо более глубокое. "Юрген Фоллмер был первым фотографом, которому удалось передать красоту души «Битлз», – скажет Джон Леннон. И если слово «красота» с трудом сочетается с образом Джона Леннона, именно оно приходит на ум при взгляде на фотографию, на которой Джон, одетый в джинсы и черную кожаную куртку, прислонился плечом к кирпичной стене, засунув другую руку в карман и поставив одну ногу на носок пяткой внутрь. Уличный мальчишка, чья мечтательная и спокойная поза и такое же выражение на полном, почти женском лице, передают одновременно мужественное напряжение, смесь нежности и жестокости, которые и в самом деле напоминают Брандо времен фильма «Дикарь».
Трое юных немцев были в восторге и от Стью Сатклиффа. У них он ассоциировался с другим киногероем: Джеймсом Дином. Юрген прозвал его ."Тайной за стеклами темных очков". Эта тайна покорила Астрид, которая разглядела у Стью чувствительную и ранимую душу и влюбилась в него. Несмотря на полное незнание английского языка, что заставляло ее обращаться за помощью к Клаусу и Юргену, когда ей было нужно выразить свои пожелания, она явилась инициатором сближения со Стью и в конце концов организовала их совместную жизнь. Когда весной 1961 года «Битлз» опять приехали в Гамбург, чтобы работать в клубе «Топ Тен» у Петера Экхорна, Стью оказался под влиянием Астрид, отрастил по ее просьбе челку и стал одеваться в женственные наряды, которые она обожала. На одной из фотографий, где изображены они оба, Стью одет в рубашку, завязанную узлом чуть выше пупка и с огромным цветком в разрезе.
Остальные «Битлз» находили смешным то, как Стью стлался перед Астрид. Пол увидел в этом возможность отделаться от басиста, которому явно не суждено научиться играть, как следует. Однажды вечером, когда они находились на сцене, Пол бросил в адрес Астрид какое-то оскорбительное замечание. Сдержанный Стью в бешенстве сорвал с себя гитару, перепрыгнул через площадку и кинулся на Пола, сбив его с табурета ударом в лицо. И пока они катались по полу в отчаянной драке, восторженная публика устроила им бурную овацию.
Вскоре после этого Стью покинул «Битлз». Пол перешел на бас, и группа наконец обрела твердую музыкальную базу. Спустя шесть месяцев Стью и Астрид объявили о своей помолвке, и молодой человек вернулся к изучению живописи под руководством Эдуарде Паолоцци, художника шотландского происхождения, который считал своего нового ученика гением.
Стью был не единственным Битлом, которого в Гамбурге интересовали женщины. Но сексуальная жизнь его приятелей вылилась в одну непрекращающуюся оргию. «Битлз» поселили в двух темных комнатах позади вшивенького кинотеатра «Бамби», и они быстро пристрастились каждый вечер развлекаться с девочками. Когда в два или три часа утра они возвращались к себе, их встречал запах дешевых духов и хихиканье девушек, прятавшихся в полумраке. Нередко любовные игры начинались еще до того, как ребята успевали разглядеть девиц. "Обычно мы имели в своем распоряжении пять или шесть девчонок, – вспоминает Пит Бест. – Через какое-то время Джон или Джордж кричали нам из своей комнаты, обращаясь к Полу или ко мне: «Ну, скоро ты там? Как насчет поменяться?» или «Ну как вы там, ребята? Мне бы хотелось попробовать какую-нибудь из ваших!» Как-то ночью они побили рекорд: восемь девушек, по которым каждый прошелся по два раза! И это были те самые парни, которые вскоре прославились своей песенкой «I Want to Hold Your Hand».
Переспать с «Битлз» было модным в гамбургском квартале красных фонарей. Их бесплатно приглашали в бордели, импульсивные молодые проститутки в «Кайзеркеллере» встречали их насмешливыми жестами и криками: «Gazunka!», а шлюхи с усталыми лицами устраивались возле сцены и призывно стреляли в их сторону глазами. Джон подхватил триппер, но, по его собственному выражению, это не доставило ему особых хлопот: «Один укольчик в задницу, и ты об этом больше не вспоминаешь».
В то время рок и секс были неотделимы от выпивки, которая ручьем текла по всему кварталу. На авансцену выставлялись ящики с пивом и сектом – сладким немецким шампанским, чтобы музыканты могли выпить вместе с посетителями. Когда умерла мать Джона, он чуть не утонул в пьянстве. В Гамбурге он, случалось, неделями пил не трезвея. Он научился выполнять в пьяном виде все, что ему было необходимо: питаться, заниматься любовью, менять струны на гитаре. Однажды, надравшись до предела, он так загремел на лестнице, что у него на всю жизнь остался шрам. Тем не менее во время первого вояжа «Битлз» в Гамбург наркотиков в их жизни еще не было. По словам Пита Беста, они впервые познакомились с таблетками «Преллиз» (прелудин из группы амфетаминов), только вернувшись сюда в 1961 году.
С наступлением холодов, когда на Гамбург обрушилось ледяное дыхание ветра, прилетевшего с Северного моря, жизнь «ливерпульских мальчиков» сделалась более трудной. Нужно было купить теплую одежду и как следует питаться, а денег не хватало. Джон Леннон, издавна подверженный преступным фантазиям, быстро нашел выход из положения. Он и раньше замечал, как официанты обчищали карманы упившихся матросов. Почему бы «Битлз» не заняться тем же?
В один из вечеров какой-то немецкий моряк, который угощал их выпивкой во время выступления, пригласил ребят поужинать вместе. Он был крепким на вид, а его кошелек казался пухлым. «Битлз» решили его ограбить. Правда, выйдя на улицу, Джордж и Пол сделали ноги, так что остались только Джон и Пит.
Дойдя до автостоянки, они напали на немца. Джон ударил его в лицо, и оглушенный моряк упал на колени. Однако пока Пит обыскивал его, моряк пришел в себя и сбил Джона с ног. Затем сунул руку в карман и вытащил револьвер. По внешнему виду нельзя было определить, чем он заряжен, пулями или слезоточивым газом, поэтому парни в панике бросились на моряка, который попытался выстрелить поверх их голов, и принялись дубасить его, пока он не потерял сознание. И они убежали, вытирая слезы, лившиеся из обожженных газом глаз.
Задыхаясь, они добрались к себе в «Бамби», где их поджидали Пол и Джордж. «Ну, сколько надыбали?» – спросил Джордж, не вставая с кровати. «Ни копья!» – рявкнул в ответ Джон. Убегая, они потеряли кошелек. Пол и Джордж покатились со смеху. Но даже избежав непосредственной опасности, новоявленные грабители не могли избавиться от страха.
А что если немец захочет отомстить? Однако прошла неделя, но моряк не объявился. Ребята никогда больше и не слышали о нем и не имели никаких проблем с полицией до того момента, пока их не депортировали из Гамбурга: Кошмайдер, который пришел в бешенство, узнав, что они работали в клубе у его конкурента, обвинил ребят в намеренном поджоге, которого не было. Но если верить все тому же Питу Бесту, дел они там все же натворили.
В 1974 году, беседуя со своим любимым гитаристом и другом Джесси Эдом Дэвисом, Леннон признался, что та история с немецким моряком была отнюдь не единственным случаем, а явилась одним из эпизодов целой серии подобных приключений. Чтобы свалить вину за свои преступления на немцев, он стал выбирать себе в жертвы английских матросов. Так продолжалось до того дня, пока он не отделал одного из них так сильно, что испугался, не убил ли он того парня. «Одному Богу известно, поднялся он или нет», – сказал Джон.
Несмотря на то, что Джон так и не узнал, что случилось с тем парнем – в прессе также не появилось ни единого намека на то, что его жертва погибла, – всю свою жизнь он считал, что на его совести лежит вина за убийство. К тому времени, когда он открылся Джесси Эду Дэвису, Леннон уже нашел объяснение этому чувству, придя к убеждению, что его ожидает наказание: он полагал, что умрет от насильственной смерти. «Это моя карма», – сказал он Дэвису.
Глава 12 «А что здесь делает мистер Эпстайн?»
Мэтью-стрит – так назывался узкий проход между старыми складами, возвышавшимися позади ливерпульских доков. В начале шестидесятых здесь, перед входом в «Кэверн»59 ежедневно к полудню выстраивалась очередь из молодежи. Прямо перед ними возвышался массивный силуэт бывшего ирландского гвардейца Пэдди Делани, работавшего прежде вышибалой в «Локарно Болрум» и всегда одетого в униформу: смокинг, пояс, похожий на цепочку от часов, и пуговицы из стразов. Когда он пропускал фанов, они протискивались в узкий коридор и спускались, будто крабы, на восемнадцать ступеней вниз по винтовой лестнице, ведущей в подвальное помещение.
Этот подвал напоминал туннель метро. Три параллельных свода, опиравшиеся на шесть колонн, вытягивались на тридцать метров в длину и десять в ширину. Зал освещался голыми красными лампочками. Вентиляции никакой. В воздухе стоял постоянный запах хлорки из туалетов, знаменитых своей грязью. Под центральным сводом для зрителей были установлены двадцать рядов стульев. Округлая стена в глубине сцены была покрыта грубой штукатуркой, чтобы походить на стену башни в замке. Каменные стены были испещрены надписями, среди которых встречались названия местных групп: «Рори Сторм энд Харрикейнз», «Ян энд Зодиаке», «Джерри энд Пэйсмейкерз» и, само собой разумеется, «Битлз».
Боб Вулер, радиоведущий и командир скаутов, занимался тем, что ставил пластинки в ожидании, пока не заполнится зал, и провозглашал: "Запомните же, пещерные гости, что лучшая из пещер – это «Кэверн!» Затем, когда «Битлз» делали ему знак, что готовы, он объявлял: «А сейчас встречайте свою любимую рок-энд-скорбную группу – „Битлз“!»
Четыре фигуры, затянутые в кожу, взлетали по трем ступенькам, ведущим на эстраду, включали усилители и обрушивали на своих фанов музыкальную мешанину, отдаленно напоминавшую песню «Johnny В. Good». Качество музыки мало заботило публику, которая заводилась от громких аккордов электрогитар, пропущенных через тридцативаттные усилители «Вокс» и отраженных от низких кирпичных сводов потолка. С первых же нот девчонки принимались визжать. «Заткни-и-и-итесь!» – орал на них Джон Леннон, но крики от этого становились только громче. Тогда «Битлз» врубали усилители на полную мощность, и с потолка начинала осыпаться побелка, покрывая белыми хлопьями «пещерной перхоти» черные куртки музыкантов.
Широко расставив ноги и согнув колени, Джон смотрел в зал своими близорукими глазами. Он исполнял несколько номеров подряд, затем запихивал в рот огромный кусок жевательной резинки и расслаблялся. «А теперь послушайте отрывок из мюзикла под названием „Мистер Мускул“ („Мистер Музыка“), которую исполняет Пегги Лег», – бросал он в зал, представляя версию Пола Маккартни композиции «Till There Was You»60. Еще он любил отпускать шутки в адрес любимого музыканта «Битлз»: «А эта вещь принадлежит Чаку Берри, кривоногому белому музыканту, с лысиной из Ливерпуля». Когда Пол затягивал «Over the Rainbow»61, подмигивая секретаршам из «Кьюнард-Мэвис и Эдне», Джон строил рожи за его спиной или устраивал свой коронный аттракцион в духе Квазимодо, согнувшись пополам, вывернув лицо к плечу и скорчив ужасающую гримасу. А во время томных медленных вещей, которые Пол нашептывал в микрофон, он извлекал из своей гитары пронзительные звуки, оглядываясь по сторонам с оторопелым видом деревенщины, оказавшегося первый раз в столице.
В тот период «Битлз» были самым настоящим одушевленным музыкальным автоматом. Их программа была лишена какого-либо порядка, они чередовали одну за другой самые разные песни: рок-н-ролл, ритм-энд-блюз, кантри, фольклор, радио-хиты, мелодии из мюзиклов, все, что могло взбрести в голову. Иногда они пели то, что заказывала публика. Или вдруг начинали спорить на сцене, что исполнять дальше. Они стремились развеселить публику и веселились сами. Кстати, именно чувство юмора, спонтанность делали их такими непохожими на другие рок-группы – как на те, что были до них, так и на те, которые вскоре займут их место.
Наконец наступала кульминация концерта – «Битлз» заводили какую-нибудь ритм-энд-блюзовую вещь в стиле фанки, например «Money»62, и играли ее очень долго. Они привезли с собой из Гамбурга один секрет, который сразу обеспечил музыкантам успех, стоило им только начать снова выступать в Ливерпуле. Секрет заключался в использовании принципа «джем-сейшна», когда медленно нарастающее возбуждение заставляет подняться со своих мест даже самых ленивых зрителей, полностью подчиняя их той энергетике, которую несет в себе бурлящий музыкальный поток. Однообразная мелодия госпел-блюза повторялась до бесконечности, а девушки в черно-белых платьях, надетых поверх пышных накрахмаленных нижних юбок, и юноши в серых свитерах под горло и темных куртках, не удержавшись, вскакивали с мест. Сгрудившись тесной толпой друг против друга, они начинали извиваться, выбрасывая вверх руки, будто участники жертвенного танца. Танцующие оказывались настолько стиснутыми со всех сторон, а в зале царили такая жара и влажность, что кирпичные своды покрывались каплями, а сам концерт никогда не заканчивался без того, чтобы кто-нибудь не потерял сознание.
Когда зрители выбирались на свежий воздух, они встречали на лестнице Боба Вулера, настоятельно советовавшего им купить новую пластинку «Битлз». "Запомните, ребята, – увещевал он, – «My Bonnie» и «The Saints»63 записаны нашими «ливерпульскими мальчиками» вместе с Тони Шериданом!" Эта пластинка вышла в Гамбурге весной 1961 года. Берт Кемпферт, композитор, написавший «Stranger in the Night»64, работал в то время в фирме «Полидор». Он и пригласил «Битлз» аккомпанировать Тони Шеридану, с которым они выступали еще в клубе «Топ Тен». Эти записи не вызвали особого восторга в Германии. Как сказал сам Джон Леннон: «То, что мы делали, стоя за спиной Тони Шеридана, было по силам любой другой группе».
28 октября 1961 года стал знаменательным в истории рок-н-ролла. В тот день Рэймонд Джонс, один из завсегдатаев «Кэверн», последовав совету Боба Вулера, зашел в торговый дом «НЕМС»65, чтобы купить пластинку «Битлз». Эту пластинку, указанную в каталоге под названием «Топу Sheridan and the Beat Brothers»66, оказалось не так-то просто найти. Но когда директор магазина Брайен Эпстайн получил ее и поместил по этому поводу в витрине скромное объявление, то вскоре, к своему огромному удивлению, продал ее в гораздо большем количестве, чем последнего Элвиса Пресли или Клиффа Ричарда. И через какое-то время господин Эпстайн отправился в пещеру к «Битлз».
Чтобы спуститься в подвал по скользким ступеням, ему потребовалось сделать над собой немалое усилие. Рок-клубы для тинейджеров не были его коньком. Изнеженный выходец из семьи богатых евреев-коммерсантов, получивший образование в многочисленных частных учебных заведениях, Брайен смолоду был задавакой. Даже возглавив крупнейший магазин пластинок в городе, он никогда по-настоящему не интересовался эстрадной музыкой. По его коже, должно быть, побежали мурашки, когда он, в пошитом на заказ костюме и в сопровождении своего помощника Алистера Тейлора, очутился в душном и грязном подвале, набитом молодыми людьми, жующими сэндвичи. Но неожиданно, несмотря на предрассудки, его реакция на «Битлз» оказалась точно такой же, как и у гамбургских «экзисов». Он влюбился в них с первого взгляда. Более того, Брайен пришел в такой восторг, что, выйдя на улицу, долго не мог успокоиться, рассказывая Тейлору о том, как он возьмет этих юнцов под свое крылышко и сделает из них настоящих звезд.
По мнению Питера Брауна, который долгие годы работал у него заместителем, это восхищение носило чисто эротический характер: «Битлз» олицетворяли тайные сексуальные желания Брайена". Эти тайные желания явились причиной последующих попыток Брайена подъехать к некоторым членам группы, начиная с самого красивого – Пита Беста. (Однажды вечером по пути в Блэкпул Брайен вдруг сказал: «Ты не обидишься, если я предложу тебе заехать в гостиницу, Пит? Я бы хотел провести с тобой ночь». Пит ответил, что предпочитает ночевать дома.) Но гомосексуализм Брайена был не единственной причиной, по которой его тянуло к «Битлз». Было и нечто другое, столь же мощное, как и секс: он завидовал им ничуть не меньше, чем желал их.
В юношеском возрасте Брайен часто ощущал себя неудачником, и поэтому в двадцать семь лет пришел к убеждению, что счастья нет. Поскольку он чувствовал себя в плену у собственной семьи, у мелочного мирка провинциальной лавочки, он уже делал попытки освободиться от недостойной рутины мелкой торговли, но все было тщетно. Поэтому один только вид этих беззаботных юнцов, которые играли всякую ерунду, пили и ели прямо на сцене, кадрили девчонок из зала или по-дружески мутузили друг друга, вскружил ему голову. Очень скоро он стал отождествлять себя с ними: стоило ему приодеть их в дорогие шерстяные костюмы, как сам он начал покупать себе кожаные куртки. До самой смерти Брайен Эпстайн лелеял мечту о том, чтобы его считали «пятым Битлом». И все же Брайен вряд ли отдавал себе отчет в том, что им двигало в тот вечер, когда он впервые подошел к эстраде и услышал насмешливое приветствие иронически улыбающегося Джорджа Харрисона: «А что здесь делает мистер Эпстайн?» Он и в самом деле не знал, что ответить.
В течение последующих недель Брайен регулярно возвращался в «Кэверн» послушать «Битлз». Он навел о них справки в городе. «Чем меньше я их вижу, тем лучше себя чувствую», – проворчал Аллен Уильяме, с которым «Битлз» только что расстались из-за финансовых проблем. «Если эти хулиганы заявятся сюда, – заявил отец Брайена служащему магазина, – скажите им, что он уехал, и закройте магазин». Семейный адвокат Реке Малкин считал, что вся эта история не больше, чем преходящее увлечение: «Еще одна из твоих блестящих идей, Эпстайн! Интересно, сколько это будет продолжаться на сей раз?» Да и сам Брайен, отличавшийся непостоянством натуры и часто нарывавшийся на неприятности, уже начал колебаться.
«Битлз», со своей стороны, также не проявляли особого энтузиазма по отношению к Брайену. Отец Пола был не в восторге от мысли, что он может стать менеджером его сына. Тетя Мими потребовала, чтобы Брайен нанес ей визит, во время которого попросила молодого человека относиться к Джону с особым уважением. Не в силах устоять перед перспективами, которые предлагал Эпстайн, «Битлз» не могли удержаться и от насмешек в адрес своего вероятного менеджера, которому они дали прозвище «Юродивый». Брайен ничего не понимал в поп-музыкальном бизнесе и еще меньше разбирался в рок-н-ролле. Но у «Битлз» хватило смекалки, чтобы сообразить, что им необходимо заполучить контракт на запись пластинки. «В Ливерпуле мы уже достигли вершины, и если хотели идти дальше, для этого было необходимо добиться известности в остальной части страны, выйти на общенациональный уровень, вырвавшись из замкнутого круга Ливерпуль – Гамбург», – объясняет Пит Бест. Джон с присущей ему резкостью спросил у Брайена: «Ты можешь сделать так, чтобы мы попали в хит-парад?» Брайен, который часами распинался о том, что он может для них сделать, ни в чем не был уверен. В конце концов, устав от разглагольствований, Джон сам принял за него решение: «Ну ладно, Брайен. Считай, что с сегодняшнего дня ты наш менеджер. Где контракт? Я хочу его подписать!»
У Брайена не было контракта. В этих делах он был таким же профаном, как и Джон. Правилам игры он учился на ходу, и то, что разыгрывалось между ним и «Битлз», превратилось в бесконечную психодраму. Сделка была заключена 24 января 1962 года в офисе компании «НЕМС». Когда все участники «Битлз» уже поставили свои подписи на последней странице документа, Брайен заявил, что подписывать его не будет. Он объяснил, что готов делать все возможное, чтобы раскрутить их, но что не хочет связывать их узами, от которых они, возможно, когда-нибудь захотят освободиться. Он брал на себя обязательства, ничего не требуя взамен. (Только спустя девять месяцев «Битлз» добились от него настоящего контракта, который был подписан 9 октября 1962 года в день двадцатидвухлетия Джона. Согласно этому контракту, в течение пяти лет Брайен должен был получать обычный гонорар менеджера в размере двадцати пяти процентов от всех доходов группы.)
Когда Браейн говорил о том, что хочет оставить для «Битлз» дверь открытой, он скорее всего думал о себе. Нет сомнения в том, что Эпстайн всегда был исключительно честным, но вместе с тем и противоречивым человеком. И если порой Брайен разыгрывал небывалую щедрость, изображая драму человека, приносящего себя в жертву, то в конечном счете он вполне компенсировал свои затраты на «Битлз», хотя тогда эти деньги казались ему пущенными на ветер.
Мать Брайена Малка Эпстайн, больше известная как Куини67 (она получила это прозвище из-за своего имени: Малка переводится с иврита как «королева», позднее оно закрепилось потому, что сын начал бессознательно пародировать все ее манеры) всю жизнь ходила за ним, как наседка. Она была дочерью богатого фабриканта мебели из Шеффилда и воспитывалась в католическом пансионе, вынеся оттуда убеждение, что причина всех ее несчастий – повсеместный антисемитизм. Позднее эта же мысль посетила и Брайена. В восемнадцать лет она вышла замуж за процветающего ливерпульского коммерсанта Харри Эпстайна, который был старше ее на одиннадцать лет, и сразу, со школьной скамьи, переместилась в большой город, где антисемитизм был распространен в такой же мере, как и в учебном заведении. Будучи оторванной от родителей, она замкнулась в узком мире своей семьи. Ей не хватало любви и внимания, и она воспитывала первенца Брайена, словно желая с его помощью компенсировать все свои многочисленные комплексы.
Так же как и Джон Леннон, Брайен вырос в женском окружении. Только вокруг него были отнюдь не амазонки; он жил с дивой, для которой кульминация дня наступала тогда, когда она шла одеваться к ужину. День за днем он присутствовал при этой церемонии и с удивительной серьезностью сам выбирал платья для матери.
Позже Брайен признавался, что не помнит того времени, когда был «сексуально нормальным». Он мог бы добавить, что, стыдясь собственных желаний, всегда стремился к саморазрушению. В десятилетнем возрасте его отчислили из Ливерпульского колледжа (школы для мальчиков) за непристойные рисунки. В шестнадцать он окончательно бросил школу, проучившись до этого по меньшей мере в семи разных учебных заведениях и не сдав за все это время ни одного обязательного экзамена.
Когда Брайен объявил отцу, что собирается заняться бизнесом, связанным с высокой модой – единственной отраслью, где он может добиться успеха, Харри Эпстайн был категорически против. Настоящий мужчина не должен рисовать женские платья. Единственное, что оставалось Брайену, так это поступить на работу продавцом в компанию, принадлежащую семье. Но и здесь, где от него не требовалось ничего особенного, Брайену приходилось терпеть постоянные унижения со стороны властного деда.
Когда ему исполнилось восемнадцать, он отправился в Лондон на военную службу. Каждый вечер он наслаждался удовольствиями, которыми изобиловала столица. Все кончилось скандалом. Будучи солдатом второго класса, он раздобыл себе офицерскую форму, чтобы ходить в ней по барам в поисках любовных приключений. Веди он себя поскромнее, возможно, все сошло бы ему с рук, но те заведения, в которых он бывал, посещали настоящие офицеры, у которых на его счет стали появляться подозрения. За ним установила наблюдение военная полиция, и однажды ночью он был арестован в «Арми-энд-Нэйви клабе» на Пиккадилли. Если бы не родители, которые подняли на ноги всех своих знакомых, он бы попал под трибунал. Избежав уголовного преследования, он был освобожден от воинской обязанности по состоянию здоровья и отправился домой.
Когда Брайен вернулся в Ливерпуль, ему доверили пост директора мебельного магазина. Дела шли хорошо, но Брайена это не вдохновляло. Он познакомился с актерами из местной театральной труппы и стал мечтать о том, чтобы стать актером. Записавшись в Королевскую академию драматического искусства, он проучился там три семестра. Не то чтобы он не хотел продолжить учебу, но и тут его личная жизнь вошла в конфликт с собственными амбициями: он был арестован за то, что «приставал» к полицейскому в штатском в общественном туалете. Очень кстати оказалось, что соседом Эпстайнов был лучший адвокат по уголовным делам Реке Мэйкин. Ему удалось выпутать Брайена из этой истории.
Последовало очередное возвращение в лоно семьи. На этот раз Брайен возглавил отдел по продаже пластинок в новом магазине, недавно открывшемся на Грейт Шарлотт-стрит. Он добился такого успеха, что очень скоро его отдел занял большую часть здания. Однако он не прекращал поисков запретных удовольствий. По завершении долгого трудового дня Брайен нередко отправлялся на прогулку в сторону небезызвестного общественного туалета в Западном Дерби. Как-то раз на него даже напали и ограбили. А когда нападавший обнаружил в бумажнике удостоверение личности своей жертвы, то попытался шантажировать Брайена. Молодой человек снова обратился к Рексу Мэйкину, и тот объяснил ему, что в данном случае единственный выход – заявить в полицию, но это очень опасно, поскольку в те времена гомосексуализм все еще считался уголовным преступлением.
Используя Эпстайна в качестве приманки, полиция сумела задержать шантажиста с поличным, и он получил три года тюрьмы. На суде, как это разрешает британское законодательство, Брайен предстал как «мистер Икс». Тем не менее в Ливерпуле его секрет был секретом Полишинеля.
Часто говорилось о том, что «Битлз» в течение долгого времени не догадывались о гомосексуализме Брайена Эпстайна. В действительности они знали об этом с самого начала. 21 февраля 1962 года они встретились в кафе «Кардома» с Яном Шарпом, и когда он услышал от них имя нового менеджера, то чуть не поперхнулся. «Так кому же из вас он строит глазки?» – спросил он у ребят. «Ты думаешь, что он?..» – оторопел Джон. «Я бы лично не слишком наклонялся, чтобы подобрать контракт», – отшутился Шарп. Через несколько дней после этого разговора Шарп получил письмо от адвоката Брайена с требованием официально взять свои слова обратно и принести извинения Эпстайну. В противном случае ему грозило уголовное преследование.
В последний раз Шарп встретился с «Битлз», когда они ехали в такси, набитом девчонками, по Маунт-стрит. «Шарпи!» – окликнул его Джон, высунувшись из окна автомобиля. Машина остановилась, и Джон с Полом рассказали Яну о том, что получили ангажемент в новом клубе в Гамбурге. А затем признались, что подписали документ, в котором обязались никогда больше с ним не разговаривать. «Извини, приятель!» – бросил Джон, когда машина уже тронулась с места.
Глава 13 Смерть в Гамбурге
Когда II апреля 1962 года самолет оторвался от взлетной полосы в Манчестерском аэропорту, у «Битлз» возникло предчувствие, что они летят навстречу славе. Они возвращались в Гамбург. Только на этот раз их ждали не прежние портовые бары. Им предстояло выступить на открытии Стар-клуба", обещавшего стать самым известным рок-клубом в мире, и название «Битлз» стояло в самом верху афиши которая включала Тони Шеридана, «Джерри энд Пэйс-мэйкерз» и которая вскоре будет украшена такими именами, как Литтл Ричард или Джин Винсент. Если добавить, что их ожидали заработки по сто фунтов в неделю каждому, то можно сказать, что ребята были совершенно счастливы. Было от чего повеселиться на Рипербане. Шикарная жизнь должна была начаться сразу по прибытии, где их должны были встречать Стью и Астрид.
В последний раз «Битлз» встречались со Стью в декабре, когда он приезжал познакомить невесту с матерью. Между женщинами сразу возникла взаимная неприязнь. Две очень сильные женщины, каждая из которых привыкла довлеть над Стью, постоянно конфликтовали, и Астрид со Стью быстро покинули негостеприимный дом.
Уже тогда Стью страдал от ужасных мигреней, причину которых врачи никак не могли установить и лекарств от которых, судя по всему, не существовало.
Спустившись по трапу, Джон, Пол и Джордж сразу заметили Астрид. Она, как всегда в черном, была очень бледна. «А где же Стью?» – закричали они.
Слова, казалось, застревали в горле, когда девушка выдавила: «Стью умер».
Пятый Битл, не выходя из комы, скончался в больнице, куда был доставлен накануне. «Он, наверное, встал ночью, – рассказала Астрид. – Я обнаружила его лежащим на полу и вызвала „скорую“. Пока мы ехали, он становился все бледнее, а черты лица словно застыли. Он лежал на носилках – мы поднимались на лифте уже в больнице, – когда врач взглянул на него и сказал, что он умер. Они говорят, от кровоизлияния в мозг. Я несколько часов просидела в коридоре и будто ничего не видела. Мне казалось, что у меня отняли жизнь».
Джон заплакал. «Он рыдал, как ребенок, – вспоминал Пит Бест. – Я никогда раньше не видел, чтобы он так расклеился на людях... Он был в жутком состоянии. Столкнувшись с горем, этот парень, такой циничный, оказался совершенно безоружным».
До самого конца Стью Сатклифф оставался героем легенды о проклятом поэте. Его мигрени стали настолько невыносимыми, что он даже пытался выброситься из окна. Астрид и Фран Киршерры едва успели его удержать. Однажды он на несколько часов потерял зрение. В последние дни с ним постоянно случались обмороки. Несмотря на это, он день и ночь проводил у мольберта, пытаясь создать в оставшееся ему время шедевр всей своей жизни. Стью понимал, что скоро умрет. Как-то раз, увидев в витрине магазина похоронных принадлежностей белый гроб, он закричал, обращаясь к сопровождавшей его фрау Киршерр: «О мама, купите его мне! Я так хотел бы, чтобы меня похоронили в белом гробу!»
После вскрытия выяснилось, что причиной его смерти послужила маленькая опухоль мозга, располагавшаяся под шишкой на черепной коробке. Из этого сделали вывод, что опухоль была следствием перенесенной травмы. Мать Стью и Аллен Уильяме считают, что речь могла идти о ране, которую он получил в драке в Литерлэнд Таун-холле накануне второй поездки в Гамбург, за год до смерти. Расследование показало, что драка произошла не в Литерлэнде, а в расположенном неподалеку Лэтом-холле. Стью оказался зажатым со всех сторон бандой крутых ребят, когда Джон и Пит подоспели на помощь. Колошматя противника напропалую, Джон даже сломал себе палец, но ребятам удалось отбиться. Пит Бест прекрасно запомнил это происшествие, но не мог припомнить, чтобы кто-то ударил Стью по голове.
Джон винил в смерти лучшего друга себя. Много позже он рассказал Иоко (которая, в свою очередь, поведала эту историю Марни Хеа) о том, как однажды в Гамбурге во время ссоры со Стью на него напал очередной приступ неконтролируемой ярости. Он начал молотить кулаками во все стороны и даже несколько раз ударил Стью ногой, обутой в ковбойские сапоги с очень твердым носком. Когда к нему вернулся разум, он обнаружил, что стонущий Стью валяется на мостовой, а рядом с его головой натекла лужица крови. Придя в ужас от того, что натворил, Джон бросился наутек. «Вернись, скотина! Ну какой же ты идиот!» – закричал ему вдогонку Пол, который присутствовал при этой сцене, вероятно, вместе с Джорджем. Но Джон убежал без оглядки.
Так же, как и история с немецким матросом, смерть Стью преследовала Джона на протяжении всей жизни. Когда он почувствовал приближение собственной смерти, он признался Фреду Симану, что всегда считал себя виновным в гибели Стью.
Несмотря на шок, в котором пребывали «Битлз» после известия о смерти Стью, их выступление на открытии обернулось триумфом. «Стар-клуб» оказался именно тем трамплином, в котором они так нуждались. Это заведение, расположенное в «горячем» квартале Гамбурга, слывшем в ту пору европейским Лас-Вегасом, было специально создано для привлечения толпы туристов. Залом служил бывший кинотеатр. Вместо кресел в центре была оборудована танцплощадка, потолки сделали повыше и украсили их решетчатыми конструкциями и китайскими фонариками. А по периметру клиентов дожидались несколько рядов банкеток, обитых искусственной кожей. Официанты в белых рубашках подавали напитки за двумя барными стойками. «Стар» был открыт ежедневно с восьми вечера до четырех утра и предлагал вниманию посетителей непрерывные выступления музыкантов, сменявших друг друга на сцене каждые полчаса. Те, кому доставало денег на выпивку, чтобы занять столик на все время, имели возможность послушать до десятка разных групп за одну ночь.
Три контракта со «Стар-клубом» предоставили «Битлз» уникальную возможность понять, что значит работать на гангстера. Манфред Вайсследер, ростом под метр девяносто, внешне был похож на сержанта СС, да и вел себя точно так же. Своим клубом он руководил аналогично тому, как ведут себя боссы мафии в голливудских фильмах. Из офиса (оборудованного в бывшей аппаратной кинотеатра) он наблюдал за залом через окошечко, закрывавшееся на задвижку. Если вдруг он замечал, что в какой-то из групп не хватает музыканта или что они играют недостаточно энергично, он немедленно хватал трубку внутреннего телефона и приказывал своему управляющему Хорсту Фашеру (экс-чемпиону по боксу) выставить за дверь «этих тупоголовых англичан». Минуту спустя незадачливые рокеры оказывались на мостовой без обратного билета.
Если же, напротив, кто-то приходился Вайсследеру по вкусу, как это было с «Битлз», он мог обеспечивать ребят работой в Германии в течение многих месяцев. Открыв свой первый «Стар-клуб», он вскоре создал целую сеть таких клубов, располагавшихся по всему континенту и ставших своеобразной империей в истории рока. Он оплачивал музыкантам проживание и транспортные расходы, платил хорошие деньги за работу, а в качестве премии дарил золотую звезду, которая, как оказалось, была ценным талисманом. Однажды, когда Кингсайз Тейлор гулял по Рипербану, к нему подлетел какой-то тип и схватил за грудки. Но стоило ему увидеть эмблему «Стар-клуба», как он тотчас отскочил в сторону. «Извините, – пробормотал он. – Я действительно очень извиняюсь». Чего бы ни натворили «Битлз», они находились под защитой Хозяина.
Это было для них большой удачей, поскольку после смерти Стыо Джон, чье поведение в Гамбурге всегда было, мягко говоря, странным, сделался еще более буйным, чем обычно. Он прогуливался по улице в одних трусах, мог выйти на сцену с сиденьем от унитаза на шее или, присев с гитарой на край сцены, зажать между ног голову какой-нибудь девушки из первого ряда. Но самая скандальная выходка была припасена Джоном на Пасху.
Жилище «Битлз» располагалось в квартире, выходившей окнами на «Стар-клуб», к которому с одной стороны примыкали церковь и вход в женский монастырь. Однажды утром, в Страстную пятницу, когда монахини вышли из монастыря, направляясь в церковь, они вдруг замерли в полном оцепенении: с балкона квартиры, которую занимал Джон, свисало карикатурное изображение Иисуса Христа, распятого на кресте, выполненное в человеческий рост. И пока сестры не могли двинуться с места, пораженные таким святотатством, Джон принялся забрасывать их презервативами, заполненными водой. Затем, исчерпав боезапас, он расстегнул брюки и стал мочиться на монахинь с криком: «А вот и райский дождик, сестры мои!»
К этому времени Джон и Пол нашли себе в Гамбурге подружек. Пол познакомился с красивой платиновой блондинкой Эрикой Хубертс, которая весной 1962 года забеременела. Если верить Эрике, отцом ребенка был Пол. Дочь Эрики родилась в приюте для одиноких матерей в тот самый день, когда Пол улетал в Англию. Когда бедная девушка, работавшая официанткой, обратилась к Полу с мольбой прислать ей денег на воспитание ребенка, он сделал вид, что не расслышал. Она затеяла процесс, который продолжался до тех пор, пока Пол не выплатил ей две тысячи семьсот фунтов, но это случилось уже в 1966 году. Процесс заставил «Битлз» отказаться от прибыльных турне по Германии из опасения, что суд может наложить арест на их доходы. Следующее выступление в Германии состоялось только через три года, когда Пол выплатил свой долг. (Почти двадцать лет спустя Эрика вторично подала в суд, и Полу пришлось дважды проходить анализ крови; при этом оба анализа показали, что он никак не мог быть отцом ребенка.)
Что же касается подружки Джона, которую звали Беттина, то ее судьба оказалась еще менее завидной. Именно ее, смешливую толстушку-официантку из «Стар-клуба», во всех книгах о «Битлз» представляют как самую преданную поклонницу группы. Однако Беттина не всегда была толстушкой. Когда Джон познакомился с ней, она была стройной и симпатичной. К несчастью, она тоже забеременела, и Джон настоял на том, чтобы она сделала аборт. По ее словам, именно после этого подпольного аборта у нее началось гормональное расстройство, и она стала пухнуть, как на дрожжах. Несмотря на это, они продолжали встречаться, и Беттина даже оплачивала долги Джона в баре «Мамбо Шанки», где они были завсегдатаями в странной компании проституток, которая сформировалась вокруг Астрид. Эти шлюхи – поклонницы черной магии – стали ученицами Астрид, принимая ее за ведьму. Кстати, Астрид была еще и последовательницей маркиза де Сада, одну из книг которого она подарила Леннону.
Что касается Джона, то для него отношения с Беттиной закончились, едва он покинул пределы Гамбурга. Летом 1963 года девушка упросила Кингсайз Тейлора захватить ее с собой в Англию, чтобы посмотреть на «Битлз» во время первой волны нахлынувшей на них известности. Они добрались до гостиницы, в которой остановились музыканты, выступавшие в уэльском курортном городке Лэндадно. Войдя в номер, Джон бросил взгляд в направлении Беттины, а затем уселся в другом конце гостиной и принялся слушать радио, будто он ее не заметил. Чтобы увидеть его, девушка проехала тысячу двести миль, а он даже не удосужился с ней поздороваться. Все остальные почувствовали себя ужасно неловко и просто не знали, что сказать. Одному только Ринго хватило приличия поприветствовать вновь приехавших. Беттина вернулась в Гамбург, где в последний раз Тейлор видел ее среди проституток на Хербертштрассе – той самой улице, где девиц выставляют прямо в витринах.
Вскоре после открытия «Стар-клуба» «Битлз» получили от Брайена Эпстайна телеграмму. "ПОЗДРАВЛЯЮ, РЕБЯТА, – прочитал однажды похмельным утром Джордж своим друзьям. – И-ЭМ-АЙ68 ПРОСИТ ПРИГОТОВИТЬСЯ К СЕАНСУ ЗВУКОЗАПИСИ. ПРОСЬБА ОТРЕПЕТИРОВАТЬ НОВЫЙ РЕПЕРТУАР. СПАСИБО". Все как один вскочили на ноги и принялись носиться по комнате. Затем один из них закричал: «Куда же мы идем, Джонни?»...
Через несколько дней Брайен приехал в Гамбург, чтобы рассказать ребятам, как ему удалось заполучить контракт с «И-Эм-Ай». Начало этой истории было известно. 1 января 1962 года они впервые переступили порог профессиональной студии грамзаписи. И какой студии! «Декка» была в то время английской фирмой номер один.
В течение трех следующих часов они спели и сыграли пятнадцать вещей из своего репертуара, сделав запись, которая стала первым альбомом группы, известным сегодня под названием «Decca Audition». Это событие имело огромное значение, поскольку данная запись является единственным свидетельством того, как играли «Битлз», прежде чем к ним пришла слава. Опираясь на самые последние достижения в области звукозаписи, они получили возможность выплеснуть наружу весь свой талант.
Увы! Результат оказался далек от того образа легендарной группы, каковой были «Битлз» той эпохи. То, что можно было разобрать, меньше напоминало группу юных рокеров-бунтарей, чем какой-нибудь жалкий оркестрик из прибрежного отеля. Они то мурлыкали сентиментальную чепуху вроде «September in the Rain»69 или «Till There Was You» или же пытались переделать в стиле рок старые хиты – «Besame Mucho»70 или «The Sheik of Araby»71. Но самое невероятное заключалось в распределении ролей: Пол спел восемь песен (простуженным голосом), Джордж четыре, а лидер и лучший певец группы Джон – только две! Кто виноват в подобном искажении реального положения вещей? Брайен Эпстайн, который, убедив их для начала сменить кожаные куртки на костюмй банковских служащих, толкал теперь к тому, чтобы забыть о своем образе «суровых рокеров с оттенком ритм-энд-блюза» и превратиться в милых музыкантов типа «Шэдоуз».
Но несмотря на все свои недостатки, этот альбом остается подлинным кладезем сведений о «Битлз» времен дебюта. Здесь заметны и американский акцент, и быстрые, нервные ритмы, и эклектика стилей, и умелые аранжировки, которые впоследствии стали фирменным знаком музыки «Битлз». Тем не менее то, что делали музыканты, продолжало оставаться не чем иным, как простым подражанием. Послушать безудержную кавалькаду какой-нибудь «Besame Mucho» – и можно подумать, что это играют ребята из-за железного занавеса, какие-нибудь борцы за свободу Венгрии, открывшие для себя рок благодаря транзисторному приемнику, настроенному на «Голос Америки».
И только манера исполнения Джоном Ленноном песни «Money» несла на себе печать подлинности. Эта вещь, затерявшаяся среди других, была предвестницей пути, по которому пойдет развитие британского хард-рока. Она предвосхитила окончательное завершение попыток слепого подражания музыке американских негров и зарождение особого британского стиля. Оригинальное исполнение Баррета Стронга напоминало манеру Рэя Чарлза – музыка была одновременно чувственной и исступленной (нельзя забывать, что в английском языке слово рок имеет одновременно религиозное и эротическое значение). На записи «Decca Audition» Леннон сделал все с точностью до наоборот, словно фотограф, идущий от позитива к негативу.
Джон всегда считал, что ритм-энд-блюз должен исполняться в «жесткой» манере. Своим исполнением этой песни он выразил то, чем был сам в этой жизни: смутьяном, который требует и угрожает, который ясно заявляет, что ему нужно – денег, тех самых денег, ради которых он способен выкинуть девчонку на панель. Ни сексуальной исступленности в нем самом, ни религиозной – вокруг – не было. Обычный сутенер на мели, злой и с голосом булатной стали.
Таков был Джон Леннон, которому суждено было сделать из «Битлз» первую хард-рок группу шестидесятых. Они могли бы играть, пуская в ход агрессивность уличных мальчишек, которую можно обнаружить, например, у группы «The Who», создать за счет музыкального и сценического исполнения настоящий рок-театр, в котором Джон мог бы поставить и сыграть свою душевную драму. Ну как тут, говоря о Джоне Ленноне, опять не вспомнить о «The Who» и их знаменитой рок-опере «Томми». Кто такой был этот Томми? Ребенок, страдавший от постоянных обманов собственной матери, который потерял все чувства, за исключением самого примитивного – осязания... и в конце концов стал чемпионом по «флипперу»72 – символу рок-н-ролла. Избранный молодежью всего земного шара в качестве рок-звезды, он стал их гуру, а затем превратился в святого. От А до Я это история самого Джона Леннона.
И все же вместо того чтобы мчаться в том направлении, которое ему указывала его глубокая натура, Леннон не устоял перед искусом коммерческого успеха. Вместо того чтобы продолжать навязывать публике свое видение мира, он пошел по пути самоадаптации к вкусам массового потребителя. Подписывая договор с дьяволом, он рассчитывал, что ему удастся схитрить, наслаждаясь удовольствиями, которые приносит слава, и сохранив нетронутой душу. Но не так уж много потребовалось времени, чтобы понять, что он переоценил свои силы. Новая карьера подразумевала исполнение той роли, которая была противоположна его натуре: роли добродушного эстрадного певца, дружелюбного, улыбающегося и застегнутого на все пуговицы. А когда они с Джорджем пытались сопротивляться, Пол с одной стороны, и Брайен – с другой, натягивали поводья, усмиряя их, словно дрессированных пони. Боевая маска Джона Леннона упала, обнажив лицо человека, который позволял манипулировать собой, человека, чья сила оказалась одной лишь видимостью, так как он воевал с самим собой, одновременно сожалея о трущобах, в которых провел молодость, и мечтая о жизни на широкую ногу. Он уже не протестовал, а лишь ворчал для порядка, и центр тяжести группы сместился. Контроль над «Битлз» перешел к Полу и Брайену, в то время как Джон, официально сохраняя титул лидера, превратился в действительности в первого вокалиста группы Пола.
«Битлз» пошли путем несчастного Элвиса. За их спинами не было старого хитреца, который, может, и клал бы себе в карман половину получаемых авансов, но при этом добивался бы для своих подопечных сверхвыгодных контрактов. Вместо этого по пути к славе их вел избалованный и богатый ребенок Брайен Эпстайн, который в конце концов бросил их на растерзание самых искушенных акул индустрии грамзаписи. Во всей истории шоу-бизнеса никто и никогда не попадаются так глупо, как это случилось с «Битлз».
Что же касается Джона, то он так и не оправился от того, что продал свою душу. Вплоть до самой смерти он пытался оправдать свое предательство, говоря, что коммерческая музыка дала ему свободу (тогда как на самом деле произошло именно обратное), или объясняя, что никогда не сдавался, ибо всегда расстегивал воротник рубашки и сбивал галстук на сторону. Джон Леннон был настоящим крутым рокером, бешеным негром с белой кожей, который метелил пьяниц и вытаскивал на сцену девчонок, играя все, что приходило ему в голову. Но в одночасье он превратился в пай-мальчика с аккуратной челкой, одетого в костюм с иголочки и раздающего улыбки в свете огней рампы. Трагическая метаморфоза, о которой он будет сожалеть всю жизнь. «Мы продались, – скажет он. – Наша музыка была мертва еще до того, как началось турне по Англии... Вот почему у нас никогда не было движения вперед. Чтобы добиться успеха, мы разрушили самих себя».
В истории «Битлз» не хватает главы, которую можно было бы озаглавить «Предательство». Той самой, которую никто не хотел писать, но которая, возможно, стала поворотным моментом, особенно в той части, которая касается Джона Леннона, поскольку в ней речь должна идти о смерти Джонни-экс-Мундога и о рождении знаменитого Битла Джона.
Глава 14 Великий прорыв
Чтобы добиться от «Декки» согласия на сеанс звукозаписи, Брайен пригрозил ей бойкотом со стороны «НЕМС», которая была крупнейшим розничным торговцем грампластинками в регионе. Так что для компании это была всего лишь уступка, сделанная без особого энтузиазма. Художественный директор «Декки» Дик Роув поручил своему молодому помощнику Майку Смиту сделать запись «Битлз» в тот день, когда никто не хочет выходить на работу, первого января. «Битлз» нравились Смиту, но он предпочел им другую группу – «Брайена Пула энд Тремелос» (бывшую в свое время одной из ливерпульских уличных банд), которых прослушивал тогда же, во второй половине дня. Придя в бешенство от неудачи, Брайен поднял такой шум, что Роув решил дать «ливерпульским мальчикам» еще один шанс. И поскольку Брайен заявил, что только в «Кэверн» «Битлз» выдают все, на что способны, он решил отправиться туда инкогнито.
Когда Роув добрался до Ливерпуля, стояла собачья погода. Застряв под дождем на Мэтью-стрит за спинами юнцов, которые выстроились в очередь у входа в «Кэверн», Роув не выдержал толкотни и тошнотворного запаха, доносившегося из заведения, и вернулся в гостиницу. Здесь он выпил одну за другой две порции виски и лег спать. Наутро он вернулся в Лондон, и никто не узнал о его поездке. В очередной раз он отказался от «Битлз».
Но Брайену помог счастливый случай. В какой-то момент до него дошло, что одна пластинка была бы гораздо важнее, чем две толстые бобины с пленкой, чтобы запустить его подопечных. В результате он отправился на фирму «И-Эм-Ай» и договорился о передаче материала. Звукоинженер, который выполнял эту работу, нашел, что в этом что-то есть, и предложил дать послушать запись Сиду Коулману, директору издательской компании, входившей в корпорацию «И-Эм-Ай», чей офис располагался в том же здании. Коулману настолько понравились две оригинальные композиции «Битлз» «Hello, Little Girl» и «Love of theLoved»73 (будущий хит Силлы Блэк), что он тут же купил их.
Когда он узнал, что у «Битлз» еще не было контракта на звукозапись, он вызвал одного из своих коллег, Джорджа Мартина, который занимался поисками молодых талантов и работал художественным директором компании «Парлофон». Кстати, Джордж Мартин оставался единственным продюсером корпорации «И-Эм-Ай», который еще не отказал «Битлз».
На следующий же день Брайен объявился в офисе «Парлофона» на Манчестер-сквер. Его принял высокий, элегантный, изысканный и холодный господин, который разговаривал с хорошо поставленным акцентом диктора Би-би-си. Брайену он напомнил школьного директора – «строгого, но справедливого». Мартин, со своей стороны, нашел забавным этого румяного молодого человека, который расхваливал свой товар, будто уличный торговец, заявляя, что является менеджером ливерпульской группы, которая «скоро станет лучше, чем Элвис». Но главным была музыка. Вещи, которые он услышал, показались Мартину "либо старыми хитами, вроде «Your Feet's Too Big»73 Фэтса Уоллера, либо довольно посредственными песнями собственного сочинения. И все же... эти песни отличались звучанием необычного качества, резкостью, которую я никогда раньше не встречал. При этом ребята пели на несколько голосов, что также было редкостью".
Вероятнее всего, Мартин не стал бы возиться с «Битлз», если бы ему не было нужно утереть нос своему конкуренту из «Коламбии» Норри Парамору, продюсеру Клиффа Ричарда. И он решил попробовать. Еще до знакомства с «Битлз» он подготовил контракт, сведя в нем до минимума обязательства компании. Группа подписала его 4 июня 1962 года, сразу по возвращении из Гамбурга. Через два дня они оказались в студии на Эбби-роуд, где для начала Мартин предложил им исполнить популярные хиты и собственные сочинения. И вновь группа не произвела на него особого впечатления. «Я подумал, что надо бы подыскать им вещицы поинтереснее, – решил Мартин. – Я был почти убежден в том, что их собственные песни никуда не годятся».
Мартин объявил Брайену Эпстайну, что Пит Бест нечетко держит ритм и что его придется заменить студийным барабанщиком во время записи пластинки. Этими словами, сам того не желая, он похоронил Пита. Хотя на самом деле он считал, что присутствие Беста было группе очень на руку так как Пит был единственным, чья внешность отвечала стандартам звезды. Тем не менее именно красота стала причиной исчезновения Беста. Еще в марте, когда «Битлз» впервые объявились на Би-би-си, все девчонки не сводили глаз только с Пита. «Мерси-бит» так написал об этом выступлении: «Джон, Пол и Джордж сорвали аплодисменты. Но когда на сцене появился Пит, публика начала безумствовать. Девушки принялись вопить. В Манчестере он завоевал популярность благодаря одной только внешности». По окончании передачи фаны, дав спокойно удалиться троим гитаристам, набросились на Пита, хватая за волосы и раздирая на нем одежду. «Ты почему все время привлекаешь внимание только к себе? – с обидой в голосе спросил его отец Пола Джим Маккартни. – Мог бы позвать и остальных!» Он, конечно, имел в виду сына, который сам окрестил себя «Полом Рамоном», главным соблазнителем группы.
Пол уже убрал из группы Стью Сатклиффа, и не исключено, что именно он был инициатором заговора против Беста. К тому же Пит считался лучшим барабанщиком в Ливерпуле. Кстати, когда Джордж Мартин впервые услышал Ринго Старра, то обнаружил, что тот не умел даже правильно отбить дробь на своей установке! И Ринго тоже пришлось срочно заменить тем же самым студийным барабанщиком, которого подготовили вместо Пита. Однако у Ринго Старра было одно большое преимущество: он не обладал ни красотой, ни сильной натурой Пита Беста.
Если Пол Маккартни завидовал внешности Пита, то Джон Леннон ревновал к его внутренней силе. Власть могла быть поделена только между Джоном и Полом, ни тот ни другой не могли смириться с тем, чтобы кто-то третий превосходил их в глазах публики. Поэтому их друг должен был уйти, уступив свое место тому, кто был для них менее опасен.
Ринго Старр, настоящее имя которого Ричард Старки, был на три месяца старше Джона Леннона, он родился 7 июля 1940 года в Дингле, самом грязном и бедном после Скотленд-роуд квартале Ливерпуля. Ринго был живым доказательством того, что при формировании характера врожденные качества имеют такое же значение, как и приобретенные: он, чье детство было еще более несчастным, чем у Джона, станет самым мягким и любезным человеком в мире. Он, как и Джон, был единственным сыном в семье, а его отец исчез, когда ему было три года. В шестилетнем возрасте он перенес перитонит и провел в больнице несколько месяцев. В школе он учился из рук вон плохо и небольшому багажу своих школьных знаний был обязан соседской девочке, которая взяла над ним шефство в то время, когда его мать работала барменшей. Когда ему исполнилось тринадцать, у мальчика появился новый папа – Харри Грейвз. Он работал маляром, был добрым человеком и всегда, как только мог, помогал своему приемному сыну. Но Риччи – так все его тогда называли – снова заболел. Он серьезно простудил легкие и на этот раз провел в больницах два года. Затем он пошел в ученики слесаря, и Грейвз подарил ему первую ударную установку.
Он завоевал свое место в среде ливерпульских рокеров, где его прозвали Ринго (парень питал особое пристрастие к перстням), и выступал в составе группы «Рори Сторм энд Харрикейнз». Они тоже получили приглашение играть в Гамбурге, и именно там в конце 1960 года Ринго познакомился с «Битлз». Ребята сразу с ним подружились. Не подружиться с Ринго было невозможно...
Внешне Ринго Старр – невысокий, худой паренек – не был похож на барабанщика. Уже тогда у него на щеках пробивалась седоватая щетина, а глаза смотрели на мир взглядом побитой собаки. По правде говоря, он нашел себе место только из-за того, что барабанщиков в Ливерпуле было очень немного: ударная установка стоила в то время двести пятьдесят фунтов, а гитара – четырнадцать. Поэтому даже самый неумелый владелец установки мог быть уверен в том, что легко сумеет найти себе работу.
Кингсайз Тейлор как раз собирался предложить Ринго работу, когда неожиданно «Битлз» пригласили его к себе. Недостатки Ринго заставили Тейлора слишком долго колебаться, «Битлз» же они совершенно не волновали: их группа была прежде всего вокальной, и барабанщику отводилась роль аккомпаниатора. Ринго взяли на испытательный срок с окладом в двадцать пять фунтов в неделю; обращались с ним довольно сурово. Особенно это касалось Леннона, который, несмотря на свою искреннюю привязанность к Ринго, всегда относился к нему снисходительно. «Эй, Риччи, ну-ка принеси нам пивка, – требовал Джон каждый раз во время паузы. – Вот это настоящий друг!»
Джон Леннон не особенно вникал в суть происков, направленных против Пита Беста. Ему хватало личных проблем. В один прекрасный день Синтия объявила ему, что беременна. Реакция Леннона была сродни той, что бывает у человека, которому объявили, что у него рак. «Он побелел, как снег, – рассказывает Синтия, – и в его глазах промелькнул ужас. Он молчал так долго, что мне это показалось вечностью. Сердце бешено колотилось в груди, и я боялась потерять сознание».
В конце концов Джон нарушил бесконечное молчание и произнес: «У нас есть только один выход, Син, нам надо пожениться». Это решение, возможно, принесло Синтии облегчение, но отнюдь не избавило ее от страданий.
С самого начала, едва познакомившись с Джоном, девушка прилагала все усилия к тому, чтобы выйти за него замуж. Мими вспоминает, как однажды пришла Синтия, а за ней плелся Джон весь в слезах. «Он рыдал, цепляясь за меня, словно ребенок. „Синтия хочет, чтобы завтра мы поженились. Она все организовала, а я жениться не хочу. Прошу тебя, помоги мне!“ – умолял он». Мими расспросила Синтию. Девушка ответила, что пришла к ней за разрешением, так как Джону было всего девятнадцать. Тогда Мими отвела Джона в соседнюю комнату и спросила, любит ли он Синтию. «Он покачал головой и сказал, что не знает. Проблема была решена. Я вернулась к Синтии и сказала, что не даю ей своего согласия». Три года спустя Синтия все же добилась своего, прибегнув к способу, который очень не понравился Мими, кстати, появившейся на свет за семь месяцев до женитьбы своих родителей.
Джону хватило храбрости на то, чтобы поставить в известность тетю в последний вечер накануне свадьбы. «Он приехал сообщить мне, что Синтия беременна. Он был бледен, а на щеках пылали красные пятна. „О Джон!“ – пробормотала моя племянница Лейла, которая зашла в тот вечер ко мне в гости. Две слезы скатились у него по щекам. „Я не хочу жениться, Мими“, – сказал он. „Никто тебя и не заставляет, Джон“, – ответила я. И он принялся упрекать меня, будто я была виновна в этой женитьбе!» Ни Мими, ни кто другой из членов семьи Стенли не присутствовали на свадебной церемонии. Синтия настолько опасалась реакции своей матери, что открылась ей только за день до отъезда миссис Пауэлл в Канаду.
23 августа 1962 года на улице стояла мрачная погода. Одетый с иголочки Брайен Эпстайн заехал за Синтией и доставил девушку в Бюро регистрации, располагавшееся на Маунт-Плезант. На ней был довольно поношенный костюм в черную и красную клетку и белая кофточка с воротником-стойкой, взятая у Астрид. Ансамбль дополняли черные туфли и черная сумочка. Когда они приехали в мэрию, там их уже ждали Джон, Пол и Джордж в одинаковых черных костюмах и белых рубашках. Все нервно шутили и посмеивались. Брайен Эпстайн выступал в роли посаженого отца, а Джеймс Пол Маккартни и Марджори Джойс Пауэлл (двоюродная сестра Синтии) поставили свои подписи в журнале регистрации свидетелей. В тот самый момент, когда началась церемония, в соседнем дворе заработал отбойный молоток, шум которого, как нарочно, стих только с окончанием торжества. «Я не расслышал ни слова из того, что рассказывал этот тип из мэрии», – пожаловался Джон, когда они добрались под проливным дождем до ресторана «У Риса», где полакомились супом и курицей. А так как у заведения не было лицензии на продажу спиртного, компания отметила торжественное событие, выпив простой воды! Первую брачную ночь Джон провел в Честере на танцплощадке Ривер-парк, где «Битлз» давали очередной концерт.
У Джона Леннона были причины, по которым он не хотел жениться. Он опасался, что наличие жены и ребенка отрицательно скажется на образе рокера. «Рокеры олицетворяли сексуальные фантазии девушек», – объясняет Ли Эверетт Алкин, которая в течение восьми лет хранила в тайне свой брак с Билли Фьюри. Кстати, Брайен Эпстайн поступил в отношении Синтии точно так же, как Ларри Парне – с Фьюри: молодую жену надо было спрятать. Но эта военная хитрость не принесла Джону облегчения. Больше всего он боялся обязанностей мужа и отца семейства. Можно сказать, что он уже был женат – на «Битлз».
Мужа Синтии получить удалось, но она потеряла любимого мужчину. С этих пор Джон будет на долгие месяцы изчезать из ее поля зрения. Оказываясь рядом, он постоянно демонстрировал, как на нее обижен, или вовсе не замечал, будто ее не существовало. У нее не было своего дома, поскольку для Джона это означало бы официально признать то, с чем он не хотел мириться. После недолгого пребывания в холостяцкой квартире Брайена на Фолкнер-стрит Синтия была отправлена в Мендипс, где до самого Рождества жила в одной из комнат на первом этаже вместе с другими постояльцами Мими, стараясь скрыть под широкими юбками свою беременность. Отношения между двумя женщинами никогда не были сердечными, хотя в конце концов Синтии все же удалось завоевать симпатию Мими.
В тот день, когда Джон и Синтия стали мужем и женой, на первой странице газеты «Мерей-бит» появилось сообщение об отчислении из группы Пита Беста. Поклонники Пита пришли в дикую ярость. Весь Ливерпуль был в курсе контракта, заключенного с «И-Эм-Ай/Парлофоном», и фаны Беста решили, что его попросту предали: их кумира выбросили в тот момент, когда к «Битлз» наконец пришел успех! Они пикетировали «НЕМС» и «Кэверн», скандируя: «Пит – всегда, Ринго – никогда!», а также «Пит – лучше всех!» Пол и Джон, подвергшись нападению, были вынуждены спасаться бегством, а Джордж получил фингал. Брайен Эпстайн мог теперь появляться в «Кэверн» только в сопровождении телохранителя.
Шумиха вскоре улеглась, однако горечь от того, как был обставлен уход Пита из группы, осталась надолго. Никто из «Битлз» не смог бы посмотреть Питу в глаза и сказать: «Ты уволен!» Эту миссию взял на себя Брайен. Позднее Джон признал, что они поступили непорядочно, но такое поведение было для него типичным: Леннон всегда старался уйти от ответственности.
Ринго Старр был полной противоположностью Питу Бесту. Пит был заводилой, барабанщиком, который вел остальных музыкантов за собой, заставляя с таким напряжением вибрировать свои барабаны, что о его присутствии невозможно было забыть. Ринго ограничивался тем, что придавал музыке ритмическую основу, смягчал жесткую манеру игры «Битлз», привнося в то же время явный маршевый элемент, на основе которого «Битлз» уже тогда начинали слой за слоем строить свое оригинальное вокальное, инструментальное, а позднее и электронное звучание.
Первой записью «Битлз» стала песня Пола «Love Me Do»74, Джон, вдохновленный недавним хитом Брюса Ченнела «Hey! Baby», написал для нее меланхолическое вступление, которое сыграл на губной гармошке. Если вспомнить, как Джордж Мартин собирался лично подбирать для них песни, написанные «профессионалами», можно сказать, что, самоутверждаясь, они не теряли времени даром. В карьере «Битлз» это событие имело огромное значение, поскольку создало прецедент, который позволил всему английскому року развивать свою самобытность. Объем продаж первой пластинки принес, скорее, разочарование. Брайен попытался раскрутить ее, используя «НЕМС», однако усилия его были напрасны. Оставалось дожидаться появления «Please Please Me»75, записанной пару месяцев спустя, когда к «Битлз» пришел первый большой успех.
Чтобы написать эту песню, Джон Леннон черпал вдохновение у Роя Орбисона, а также в известной песенке Бинга Кросби «Please, lend your little ears to my pleas»76. В этом произведении впервые можно было услышать влияние британского фольклора, которое будет отличать музыку «Битлз». Звон колокольчиков, тонические гармонии, голоса, напоминающие перекличку матросов, поднимающих парус, – песня действительно приглашала к путешествию. По окончании сеанса звукозаписи Джордж Мартин нажал на кнопку интерфона и объявил: «Джентльмены, вы только что записали пластинку, которая станет вашим первым суперхитом!»
Глава 15 К самой верхушке самой макушки
2 февраля 1963 года «Битлз» вторглись в тот самый мир, который так долго презирали. Они подъехали к кинотеатру «Гомон», расположенному в Брэдфорде, прошли через служебный вход и оказались в тесной и грязной гримерке без горячей воды и отопления. Облачившись в концертные костюмы темно-красного цвета с бархатными воротниками и брюки-клеш, они принялись намазывать лица тональной крем-пудрой Макс Фактор 5, пока кожа не достигла такого же розового оттенка, как рубашки. Теперь все носили стрижку под горшок – такую прическу Юрген Фоллмер создал для Джона и Пола, когда они ездили в Париж, чтобы отметить день рождения Джона в 1961 году.
Последний взгляд в зеркало – и ребята спустились за кулисы. Из семи запланированных в этот вечер выступлений их номер шел вторым. А звездой концерта была «бэби-певичка» Хелен Шапиро, семнадцатилетняя девушка с голосом а-ля Пол Робсон. «Битлз» так долго издевались над британской поп-сценой, что в конце концов сами не заметили, как подошли именно к ней в тени группы «Шэдоуз».
«Битлз» выбежали на сцену, подключили гитары к усилителям и заняли свои места. Когда занавес поднялся, они уже играли. Стоя перед микрофоном, Джон начал подпрыгивать и приседать наподобие всадника, встающего на стременах, выкрикивая слова песни «Chains»77, последнего хита группы «Кукиз». Пол и Джордж извивались возле другого микрофона – один из них по-петушиному вытянул шею и часто моргают, подражая Эдди Кантору, другой скромно опустил голову. Время от времени, когда они пели вместе, их лица сближались. Что касается Ринго, то он преданно улыбался и лупил по барабанам, как кузнец по наковальне.
Остальные певцы старались во время этого турне предложить вниманию публики нечто иное, нежели просто концерт. Они стремились идти путем Томми Стила и много работали, разучивая песни и режиссируя свои номера. В отличие от них, «ливерпульские мальчики» производили впечатление компании приятелей, которые просто поют то, что им нравится, не забивая себе голову всякими проблемами. Но эта кажущаяся небрежность была тщательно продумана.
«Битлз» не хотели повторять то, что другие делали до них, – ребята были слишком умны, чтобы попасть в эту ловушку. Они прекрасно понимали, что никогда не смогут двигаться, как настоящие танцоры, никогда не будут обладать внешностью кинозвезд и никогда не научатся играть на своих инструментах так, как это делают гранды американского рока. Поэтому они остановили свой выбор на образе очаровашек-любителей. «Нас не очень волнует то, что мы делаем на сцене, – объяснил накануне турне Джон Леннон в интервью корреспонденту газеты „Ивнинг Стандарт“. – Мы используем „улыбки в пустоту“. Три-четыре: общая улыбочка! Я не знаю, что мы будем делать, когда поедем выступать в компании с Хелен Шапиро. Может, я улягусь на пол, как Эл Джолсон». Плевать на профессионализм – именно таков был стиль «Битлз»!
Самой преданной поклонницей «Битлз» во время этого турне была сама Хелен Шапиро. Вместо того, чтобы пользоваться привилегиями звезды, монополизировать автомобиль с шофером, она каждое утро забиралась в автобус и усаживалась рядом с Джоном Ленноном, к которому питала нежные чувства. В то время как Пол и Джордж устраивались сзади, подальше от шума мотора, и разучивали по дороге аккорды, Леннон беседовал с Хелен, как прежде с Джонни Джентлом. «Джон заботится обо мне, – призналась Хелен новому агенту „Битлз“ по связям с общественностью Тонни Бэрроу. – Он относится ко мне по-отечески, ведет себя покровительственно, и это приятно... И он вовсе не похож на бесчувственное животное, как его иногда называют... Когда-нибудь он станет прекрасным отцом и чудесным мужем». (Шесть недель спустя, когда Синтия родила Джулиана, Джон повел себя именно как «бесчувственное животное».)
Гастрольная жизнь была монотонной и убогой. И хотя «Битлз» не спали прямо в автобусе, как это делали те, кто был внизу афиши, они все равно проводили ночи в жалких пансионах, хозяева которых кривились, стоило им увидеть, что приехали артисты. Целыми днями они колесили по проселочным дорогам, которые зимой становились еще хуже, чем всегда. Несмотря на то, что расстояния были небольшими, им ни разу не удалось добраться до места вечернего выступления раньше, чем к концу дня. Они выпивали по чашке чая, слушая Радио Люксембург, и расходились по гримерным. Перед концертом Хелен Шапиро обычно сидела у телевизора, а «Битлз» выпивали, иногда забавляясь с кем-нибудь из постоянных поклонниц.
Первый выход был в половине седьмого вечера, второй – в девять. Таким образом, рабочий день продолжался до полуночи. К этому часу оставались открытыми только индийские и китайские ресторанчики, что вполне устраивало Джона, большого любителя карри. Проведя ночь в холодной и влажной постели, они проглатывали завтрак и снова садились в автобус.
Турне было в самом разгаре, когда «Битлз» неожиданно сорвались с места и вернулись в Лондон. Здесь за один день они записали свой первый альбом «Please Please Me». Идея принадлежала Джорджу Мартину. Вначале, считая, что «Битлз» гораздо эффектнее смотрятся на сцене, чем в студии, он хотел записать эту пластинку во время концерта в «Кэверн», где, при поддержке поклонников, группа чувствовала себя по-настоящему раскрепощенно. Но подвал на Мэтью-стрит оказался настоящим кошмаром для звукоинженеров. Тогда Мартин решил устроить концерт «Битлз» прямо в студии. Конечно, и речи не могло быть о том, чтобы пригласить публику, но предполагалось, что ребята будут играть так же, как если бы они стояли на сцене, переходя от одной песни к другой, не прерываясь даже для того, чтобы перекурить или выпить. Он был уверен, что, если сумеет добиться от них уверенности в своих силах, «Битлз» раскроют свой талант в студии так же, как делают это на сцене.
Мартин был прав: запись оказалась очень удачной. Начиная с обратного отсчета перед песней «I Saw Her Standing There»78 и заканчивая безудержным финалом композиции
Дйли Бразерс «Twist and Shout»79, музыка отличалась живостью спонтанностью и непосредственностью живого концерта. Слушатель, словно находясь в зале, чувствовал, как его подхватывает бьющая через край энергия молодых музыкантов. И хотя сами песни и манера исполнения не представляли из себя ничего исключительного, «Битлз» с лихвой компенсировали эти недостатки своей заражающей уверенностью и энтузиазмом. Они были так довольны, что им удалось хорошо сыграть, что даже сами растрогались.
Заглавная песня «Please Please Me» сразу попала в хит-парады и устремилась вверх. Долгожданное событие произошло во второй половине дня 19 февраля 1963 года. Айда «Стиви» Холли, в ту пору семнадцатилетняя поклонница группы, рассказывает, что в этот день торопилась на свидание с Джоном Ленноном у входа в Художественную галерею Уокера. Внезапно она увидела, как он выскочил через вращающиеся двери и в экстазе закричал: «Мы – номер один! Мы – номер один! Мы – номер один!» Затем он подхватил Стиви на руки, закружил ее и потащил вниз по лестнице к синему «форду», за рулем которого сидел Джордж. Через несколько минут все «Битлз», за исключением Пола, уже собрались в офисе Брайена. Наконец появился и опоздавший, который сразу поинтересовался: «А в чем дело?» Услышав радостное известие, он рухнул на подоконник и произнес: "Значит, теперь нам предстоит выступать в этом поганом «Палладиуме!»
Когда 9 марта «Битлз» снова отправились в гастрольную поездку вместе с американцами Крисом Монтезом и Томми Роу, альбом «Please Please Me» уже поднялся на третью строчку в хит-параде. Вечером во время первого концерта, стоило им выйти на сцену, фаны принялись вопить. Пол повернулся к товарищам и улыбнулся: «Вы только посмотрите, ребята!» Они начали, и чем больше играли, тем сильнее разогревалась публика. Когда подошло время антракта, зал взорвался настоящей овацией. В этот вечер впервые в истории американцам не удалось переиграть своих британских соперников. На следующий день организатор турне объявил, что «Битлз» отныне будут возглавлять афишу. «Ну вот и все, теперь мы – звезды! – воскликнул Леннон. – Так что теперь придется вести себя как следует», – добавил он, не скрывая иронии. На самом деле, от них вовсе не требовалось что-то менять в своем поведении, все, что им было нужно – это продолжать сочинять новые хиты.
Стоило появиться первым хитам, как Леннон и Маккартни пополнили ряды знаменитых тандемов авторов-композиторов которые писали вещи пользовявшиеся огромным успехом у публики. В то же время их сотрудничество было исключительным, поскольку они не являлись классическим сочетанием текстовика и композитора, а сочиняли самостоятельно и слова, и музыку, а затем вместе тщательно оттачивали ту работу, которую каждый делал в одиночку. И все же их сила в большей мере заключалась во взаимодополняемости двух сильных натур, нежели в распределении обязанностей. Пол делал ставку на лиричность, Джон добавлял в соус остроты. Джон тащился от негритянской музыки, Пол был способен оценить красоту английской баллады. Если Полу с трудом удавалось подобрать для своей музыки нужный текст, то Джон великолепно играл словами. С другой стороны, он был способен повторять одни и те же аккорды, пока не осточертевал всем окружающим, в то время как Пол всегда умудрялся найти способ видоизменить музыкальную фразу, как это было, например, с тем знаменитым аккордом, который «сделал» хитом «I Want То Hold Your Hand». И самое главное, если Джон довольствовался тем, что выстраивал в ряд несколько нот, Пол обладал редким для эстрадных композиторов даром: умел развить музыкальную тему, создавая оригинальные мелодии.
Джону и Полу было суждено отработать вместе сотни часов, сидя бок о бок в гостиничных номерах, в автобусах и студиях. Но каждый из них сочинял свои песни самостоятельно. Как рассказывал Леннон, «один из нас что-то сочинял, а другой помогал ему придать вещи законченный вид». Так что с самого начала все их песни были написаны либо Ленноном, либо Маккартни. Если основную вокальную партию исполнял Леннон, то автором песни был он. Тем не менее в начале их стили невозможно было отличить один от другого, поскольку ни тот, ни другой не стремились выразить свою индивидуальность, а ограничивались тем, что выдавали товар в соответствии с требованиями рынка. Подхваченные течением моды, они подражали всем новинкам, появлявшимся в королевстве рока и ритм-энд-блюза, то есть в Соединенных Штатах.
«Битлз» начали с того, что попросту подражали американским группам. Сначала мужским, таким, как «Коустерз», «Айли Бразерс» и «Мираклз» (со Смоуки Робинсоном). Затем женским: «Кукиз», «Шайреллз», «Ронни энд Роннеттс» и т. д. Позже они попытались перейти к звездам компании «Тамла Мотаун» – Мэри Уэллс и Марвину Гею. И наконец, к исполнителям музыки соул, таким, как Джеймс Браун или Уилсон Пикет. Вместе с тем нельзя сказать, что они хватались только за известные имена. На Леннона и Маккартни в равной мере оказали влияние такие группы и певцы, о которых сегодня забыли: «Рози энд Ориджиналз», «Фор Сизонс», «Канастас», «Тамз», «Импрешнз», «Джодимарз»или «Дерек Мартин», Артур Александер, Бобби Паркер, Мэйджор Лэнс, Чак Джексон, Томми Такер, Ленни Уэлч и Джеймс Рэй.
Как и юный Элвис в свое время, «ливерпульские мальчики» досконально знали музыку своего поколения. Они все слушали, все анализировали, выискивая то, что может когда-нибудь пригодиться. Молодые музыканты основывались на двух базовых принципах мерси-бита: 1. Все, что играют другие, мы тоже можем сыграть. 2. Если мы исполняем нечто, что публика не узнаёт, значит, мы сочинили это сами. В отношении к первоисточникам Леннон и Маккартни ничем не отличались от остальных. Они не смущаясь тащили все, что можно было стянуть и не попасться, при том, что эти запасы были неисчерпаемы: ребята находились по другую сторону Атлантики, а заимствованный материал обычно представлял собой малоизвестные ритм-энд-блюзовые композиции. Пол однажды в шутку признался в том, что «Битлз» были «преступниками», а Джон в 1974 году привел радиослушателей прямо на место преступления. Пустив в эфир неизвестную песенку «Watch Your Step»80 неизвестного исполнителя Бобби Паркера, Джон раскрыл секрет знаменитого перехода, использованного «Битлз» в «I Feel Fine»81 и в «Day Tripper»82, который, как оказалось, был позаимствован в самом неожиданном месте. Когда Фил Спектор услышал новую песню Леннона, называвшуюся «Happy Xmas (War Is Over)»83, он воскликнул: "Но это же моя песня! Мой суперхит «I Love How You Love Me»84, который я пел еще в 1961 году с Пэрис Систерз!" Сам Леннон нередко говаривал: «В том, чтобы красть, нет ничего дурного, при условии, что крадешь только самое лучшее».
Нет ничего дурного в том, чтобы красть... но только до того момента, пока тебя не схватят за руку. И Джон Леннон, и Джордж Харрисон – оба в свое время были подвергнуты преследованию за плагиат и осуждены на выплату компенсации. Отвечая на вопросы, касающиеся этой темы, во время процесса над Джорджем Харрисоном, который «украл» музыку самой известной своей композиции «My Sweet Lord»85, Джон сказал: «Когда я был молодым, то запоминал чужие песни, но когда я записывал их на кассеты – а записывать я умею только так, поскольку не обучен нотной грамоте, – то видоизменял их, придумывая таким образом собственную музыку, чтобы избежать неприятностей. Джорджу было достаточно изменить в этой песне лишь несколько аккордов, и уже никто не смог бы к нему придраться. Но ему было лень пошевелиться, и теперь он расплачивается. Наверное, он решил, что Господь будет на его стороне». Компания «Брайт Тьюнз», владевшая правами на хит 1963 года группы «Шиффонз» «He's So Fine»86, подала на Харрисона в суд и получила 578 тысяч долларов в качестве возмещения убытков. Что касается текста «My Sweet Lord», то Аллен Кляйн, тогдашний менеджер Харрисона, рассказал, что его написал Билли Престон, который аккомпанировал Харрисону на синтезаторе. (Вообще-то надо бы написать отдельную книгу о плагиате в песенном мире, причем не столько для того, чтобы отдать кесарю кесарево, но чтобы проанализировать тот завораживающий процесс, в ходе которого зарождаются, созревают и раскрываются идеи.)
Вместе с тем сам Джон Леннон был карманником с дырявыми карманами, так как он больше отдавал, нежели брал. Продолжая «грабить» американскую музыку, он сумел вдохнуть в нее чисто британскую душу, создав тем самым уникальный музыкальный сплав. Первый международный успех «Битлз» – песня «I Want То Hold Your Hand» служит прекрасным примером того, как Леннон англизировал первоисточники. Эта вещь именовалась рок-н-роллом, хотя и не имела ничего общего ни с роком, ни с ритм-энд-блюзом, ни со стилем кантри-энд-вестерн. Мелодия, тональность и ритм были, скорее, ближе к шотландским или ирландским традициям, нежели к модной тогда атмосфере псевдо-фанки. В песне «I Want То Hold Your Hand» чувствовалось легкое дуновение свежего ветра с севера Британских островов.
Однако не следует искать причину оригинальности «Битлз» в одном только их английском происхождении. Группа из Ливерпуля, создавшая свой стиль в Германии на основе американской, негритянской и кантри-музыки, стала опередившим свое время олицетворением международной культуры, чей взрыв произойдет в молодежной среде в конце шестидесятых. Геометрическим местом нахождения «Битлз» была пространственно-временная точка, расположенная между Америкой и Индией (являвшихся в прошлом частями Британской империи), танцплощадка и дискотека. Добавьте к этому традиции английского абсурда, наследие европейских лидеров авангарда, пропущенное через фильтр провинциального английского художественного колледжа, – и вы все равно получите смесь гораздо более однородную, чем та, которую являла собой поп-культура. Своим успехом «Битлз» обязаны не традиции и даже не культурной мозаике, а тому, что сумели уловить все, что носилось в воздухе эпохи.
Пока Джон Леннон заигрывал со славой, его жена в одиночестве переживала трудную беременность. 6 апреля 1963 года, гуляя с подружкой Филлис по магазинам, расположенным на Пенни-Лейн, Синтия почувствовала первые схватки. Обе женщины вернулись в Мендипс, и хотя боль утихла, Синтия попросила Филлис побыть с ней. Позднее, уже ночью, Филлис услышала, как Синтия стонет. Она вызвала «скорую», которая отвезла их в Сефтонскую клиническую больницу. Синтия провела в больнице в родовых муках весь следующий день. И только через сутки, 8 апреля 1963 года, в семь часов сорок пять минут утра она родила малыша, желтого, с огромной родинкой на голове и чуть не задохнувшегося из-за пуповины. В течение двух дней ребенок, нареченный Джоном Чарльзом Джулианом Ленноном, находился под медицинским контролем.
Прошла целая неделя, прежде чем Джон Леннон решился, наконец, появиться в больнице. Он ворвался в палату к Синтии, точно порыв ветра, схватил малыша на руки и заговорил возбужденно: «Он великолепен, Син! Вылитый рокер, весь в папу!» Пока длилась эта волнующая семейная сцена, снаружи к стеклянной двери прилепилось множество лиц. Женщины уже узнали новую местную знаменитость. Вскоре Леннон пришел в раздраженное состояние, начал вертеться, словно не мог усидеть на одном месте. Ему требовалось уладить с Синтией одну маленькую проблему. Безусловно, именно из-за этого ему было не по себе.
Он не знал, как сказать ей то, что собирался, и в результате сделал это с обычной жестокостью. «Я уезжаю отдохнуть на несколько дней вместе с Брайеном», – объявил он жене. Синтия возмутилась. Как может он бросить ее одну, с маленьким ребенком на руках и уехать с Брайеном Эпстайном? Джон взбрыкнул. «Опять ты думаешь только о себе! – закричал он. – Я месяцами работаю, как одержимый... Брайен хочет, чтобы я поехал с ним, а я многим ему обязан. Бедняга, у него больше никого нет...» И он ушел, отделавшись таким не слишком удачным оправданием.
Джон, естественно, не стал рассказывать Синтии, как с некоторых пор стал проводить свое свободное время. Последнее турне «Битлз» закончилось в конце марта. После этого они дали несколько концертов и сделали записи на радио и телевидении. Джон мог спокойно отменить или перенести на более поздний срок эти маловажные дела, чтобы провести побольше времени с женой. Кстати, он был в Ливерпуле уже через два дня после рождения Джулиана и играл в «Биркенхеде», а еще через два дня – в «Кэверн». Тем не менее он не сразу отправился в больницу: его не столько захватили профессиональные обязанности, сколько взаимоотношения с Брайеном. По прибытии в Лондон Брайен ввел Джона в среду геев театральных кругов Уэст-Энда, которая приняла молодого рокера с распростертыми объятиями.
«Все началось с того, что Брайен открыл в Лондоне офис „НЕМС“, – рассказывает Питер Браун, близкий друг Брайена. – В течение целой недели они были очень заняты, Брайен приглашал множество народу». Позднее Джон вспоминал, что ему нравилось ходить на вечеринки для геев, которые устраивал Брайен, он открыл для себя мир, который был ему совершенно незнаком. Чувствуя себя чужим, он стоял где-нибудь в углу с застывшим взглядом и окаменевшим лицом. И это делало его еще более соблазнительным в глазах гостей. Но Брайен захотел, чтобы их отношения пошли дальше. Он предложил Джону поехать в Испанию. Эпстайн всегда обожал эту страну... и молоденьких тореадоров. Джон согласился.
В последние апрельские выходные британская пресса объявила, что «Битлз» собрались провести двенадцатидневные каникулы на Канарах. Джон Леннон сделал вид, что отправляется вместе со всеми, и даже объяснил, что они берут с собой гитары. «Кто знает, – сказал он, – вдруг эти канарейки захотят посвинговать!» 28 апреля Пол, Джордж и Ринго высадились в Тенерифе, в то время как Джон отправился с Брайеном в Барселону, где каждый вечер, сидя на террасе открытого кафе, они предавались странной игре. «Джон показывал Брайену какого-нибудь прохожего, а Брайен объяснял, что его привлекает или что ему не нравится в этом мужчине», – рассказывает Питер Браун. Джон очень увлекся этим занятием. Ему казалось, что при помощи Брайена он чувствовал то же, что чувствует писатель, создавая образы героев своих произведений.
Однако вскоре Джон перестал быть просто наблюдателем. «Брайен твердо решил перейти к делу, – рассказал он позднее Питу Шоттону. – Он буквально преследовал меня, и однажды вечером мне это надоело. Я спустил штаны и сказал ему: „Ну ладно, давай, трахни меня, если тебе уж так этого хочется“. Но не это его интересовало, Брайен просто хотел меня потрогать. И я позволил ему себя поласкать... Ну и что с того? Несчастный мужик, ему и так приходится не сладко. Что тут особенного? Ведь он не виноват в том, что уродился педрилой».
Гуманист Джон Леннон, щедро предлагавший свое тело отчаявшемуся мужчине... Трогательная картина, однако не очень правдоподобная. Гораздо более убедительным звучит то, что спустя много лет он рассказал Аллену Кляйну. «То была единственная возможность оказывать влияние на человека, от которого зависела и наша карьера, и наша жизнь». Это больше похоже на правду, ибо их отношения не ограничились единственным сексуальным опытом в Испании. Связь продолжалась до самой смерти Брайена, превратившись в отношения порабощения, где Джон играл роль абсолютного и жестокого хозяина, а Брайен – покорного раба. Что же касается того, что в действительности произошло между ними в Испании, то Брайен говорил Питеру Брауну, что именно там началась их гомосексуальная связь. Разумеется, Леннон не мог позволить себе признать, что у него были такого рода интимные отношения – в этом случае ему был обеспечен ярлык извращенца. Более того, первый же человек, который вскоре имел неосторожность намекнуть Джону на итоги той поездки в обществе Брайена, чуть было не поплатился за это жизнью.
18 июня Полу исполнился двадцать один год. По этому случаю он собрал весь цвет ливерпульского рока и пригласил группу «Шэдоуз». Стараясь скрыться от любопытных фанов, которые взяли в осаду дом Маккартни, он организовал прием в доме у своей тети Джин в Хьютоне. В саду установили навес, под которым возвышался огромный фигурный торт, алкоголь лился рекой, и в скором времени вся компания пребывала в веселом настроении. Вся, за исключением Леннона. Он появился вместе с Синтией, которую представлял как свою «подружку». Но стоило ему выпить, как он стал прилюдно осыпать Синтию саркастическими замечаниями и вскоре довел до слез.
Когда объявился Пит Шотгон, он обнаружил Джона угрюмо забившимся в угол и не выпускавшим из рук стакан со скотчем, разбавленным кока-колой. «Ну что за хренотень, Пит! – закричал Джон, посветлев лицом. – Давай пошлем к черту всех этих придурков! Пойдем-ка лучше выпьем!»
Шоттон отошел от Джона, направляясь в туалет, но в этот момент к Леннону приблизился Боб Вулер и спросил: «Ну и как прошел медовый месяц, Джон?» Джон воспринял это, как намек на поездку в Испанию. Вне себя от ярости, он сжал кулаки и с размаху заехал маленькому диск-жокею прямо в нос. Затем Джон подобрал кем-то забытую в саду лопату и принялся дубасить ею Вулера изо всех сил. Так продолжалось до тех пор, пока он не сообразил, что убьет его. Сделав над собой гигантское усилие, Джон остановился. В тот же миг на него навалились гости Пола. А несколько минут спустя Вулера со сломанным носом, треснутым шейным позвонком и тремя сломанными ребрами увезла «скорая». Леннон отделался переломом пальца.
Но просто избить кого-то ему было мало. Теперь ему понадобилась девчонка. Он поймал первую же, которая проходила мимо, и принялся ее тискать. «Отвали, Джон», – попытался встрять Билли Дж. Крамер, новый подопечный Брайена. Джон повернулся к девушке и сказал ей что-то очень оскорбительное. Затем презрительно усмехнулся: «Ты просто ничтожество, Крамер. Здесь только мы – короли!»
Когда Шоттон вернулся к гостям, он застал Джона «сидящим на полу и обхватившим руками голову, как если бы он хотел укрыться от угрожающих взглядов, устремленных на него со всех сторон. „Ну что же я наделал?“ – всхлипывал он». Тем не менее вся эта история не помешала ему в тот же вечер, только чуть позднее, предложить Шоттону поменяться на ночь женами.
На следующее утро Брайену Эпстайну предстояло встретиться с журналистами и адвокатами Билли Дж. Крамера и Боба Вулера. Впервые могущественная пресса будет говорить о «Битлз» в далеко не хвалебных тонах! Тонни Бэрроу, представитель Эпстайна по связям с общественностью, позвонил Леннону и попросил покаяться. Джон возмутился: «Этот гад обозвал меня пидором, за это я его и отметелил!» Ни Бэрроу, ни Брайен Эпстайн не знали Леннона настолько хорошо, чтобы понять, что в такой ситуации он мог сделать только одно: спрятаться в своей раковине. «Я думал, что чуть не убил Вулера, и был от этого в ужасе», – признался он много лет спустя, добавив, однако, что больше всего испугался, что журналисты не оставят от него камня на камне.
Отказавшись от участия в передаче на Би-би-си, он предоставил другим вытаскивать «Битлз» из передряги. Статья, появившаяся на последней странице «Дэйли миррор», была подписана Доном Шортом, который симпатизировал группе и вскоре стал одним из ключевых людей в карьере «Битлз». Под заголовком "Битл дерется: «Я сожалею, что ударил его» он опубликовал защитительную речь, сочиненную Тони Бэрроу, который заставил Леннона заявить буквально следующее: «Боб – последний человек в мире, с которым я хотел бы подраться. Единственное, на что я надеюсь, так это на то, что он поймет – я находился в таком состоянии, что не соображал, что делаю». Брайен Эпстайн обратился к Рексу Малкину, который всегда помогал ему улаживать скандалы. Как бы то ни было, Боб Вулер, малоизвестный диск-жокей, питавшийся объедками со стола шоу-бизнеса, был не в состоянии всерьез тягаться с новыми звездами. В качестве возмещения морального ущерба ему заплатили двести фунтов, и дело было закрыто.
Но на этом общение Рекса Малкина с «Битлз» не закончилось. Вскоре Джон снова попал в скверную историю. Вот как рассказывал об этом один из сотрудников «НЕМС» Алан Дэвидсон: «Я пошел, чтобы отнести магнитофон, который брал в ремонт. Там была вечеринка со всеми делами: девочки... сколько угодно выпивки, наркота. Я прибыл примерно в половине двенадцатого, может, без четверти. Брайен вроде тоже был там. Неожиданно вспыхнула ссора. Джон Леннон схватил Верил за руку и сунул ее ладонь в газовую духовку. Она заорала. Но все остальные уже настолько заторчали, что даже не взглянули, что происходит. А так как я не пил, то увидел, что Леннон продолжал держать руку девушки в огне. Она получила очень серьезный ожог. Потом он врезал ей, и она отлетела в другой конец комнаты».
«На трезвую голову Джон Леннон был, скорее, приятным парнем, – как бы между прочим добавил Дэвидсон, комментируя эту сцену. – Но алкоголь и наркотики сводили его с ума».
Глава 16 Битломания
Всеобщая истерия, которую вызвали «Битлз», превратила их жизнь в настоящую комедию в стиле бурлеск. Преследуемые поклонниками, они были вынуждены постоянно бегать от одной двери к другой, прятаться, переодеваться, а фотографии уличных сражений между полицией в касках и битломаньячками в мини-юбках не сходили с первых страниц газет. Боевые действия начались 13 октября 1963 года, когда имена «ливерпульских мальчиков» стояли первыми на афише шоу «Воскресный вечер в Лондонском „Палладиуме“ с Взлом Парнеллом».
Решив, что фаны перекроют служебный вход, полиция додумалась припарковать битловский «остин-принсесс» перед главным входом в театр. Но как только кумиры появились на ступенях, к ним с криками «Битлз»! Мы хотим «Битлз»!" ринулась толпа из двух тысяч подростков. Полицейские дрогнули, у некоторых из них с голов слетели каски, но они все же устояли и помогли рокерам забраться в «остин», который медленно покатил вверх по Оксфорд-стрит, едва не раздавив девушку, бросившуюся наперерез. Следующим утром стало известно, что передачу смотрели около пятнадцати миллионов телезрителей. Газеты наперебой печатали о них статьи. Одна из газет вышла с шапкой «БИТЛОМАНИЯ!». Словечко подхватили.
Через два дня после выступления в «Палладиуме» «ливерпульские мальчики» получили приглашение импресарио Бернарда Делфонта принять участие в шоу «Королевское варьете», которое ежегодно проводится в присутствии королевы Елизаветы, королевы-матери и принцессы Маргарет. Это известие застало их после окончания концерта, который они давали в Саутпорте, приморском городке, расположенном к северу от Ливерпуля. Стоило им спуститься со сцены, как журналисты обступили ребят плотным кольцом. «Это правда, что вы становитесь коммерческими артистами?» – спросили у них. Вопрос попал в точку, так как состав участников «Королевского варьете» всегда отличался традиционностью и консерватизмом, начиная от «Фландерс энд Свон» и заканчивая «Пинки энд Перки». Тогда Джон Леннон понял, что ему опять придется что-нибудь отмочить, чтобы «Битлз» смогли сохранить образ настоящих рокеров.
История о том, как Джон Леннон обратился к публике во время этого выступления, стала с тех пор одной из самых знаменитых рок-легенд – и одновременно одной из самых загадочных. Текст был тщательно отрепетирован, как, впрочем, и большинство «импровизаций». «Пусть те, кто сидит на дешевых местах, хлопают в ладоши. А все остальные пусть позвякают своими ... драгоценностями!» – Джон решил изобразить пролетария в помятой кепке, и эта роль принесла ему звание «героя рабочего класса». Ни один артист – выходец из рабочей среды не осмелился бы произнести подобную грубость в присутствии королевы. И только избалованный отпрыск мелкобуржуазного семейства, который зачитывался в детстве книжками про сумасшедших художников, посылавших богатеев куда подальше, был способен, набравшись наглости, отмочить такое, хоть он и опустил непристойное определение. «Герой рабочего класса – как же! – презрительно фыркнула тетя Мими, когда кто-то из знакомых поинтересовался ее мнением о Джоне как представителе низших слоев общества. – Это Джон-то, который всегда был маленьким снобом!»
Объем продаж пластинок «Битлз» достиг к этому моменту размеров, каких Великобритания еще не знала. Когда вышла пластинка «I Want То Hold Your Hand», сразу попавшая в хит-парады и остававшаяся на верхней строчке в течение шести недель, в сезон рождественских каникул предварительные заказы на нее достигли одного миллиона экземпляров. Брайен Эпстайн решил, что настало время набить себе карманы. Но как? Он решил поставить "Рождественское шоу «Битлз», для чего арендовал на две недели самую большую сцену в Лондоне. Рассчитывая проводить по два концерта в день, он прикинул, что сможет продать сто тысяч билетов и заработать на этом пятьдесят тысяч фунтов. Причем все эти деньги достанутся ему одному, так как весь спектакль обойдется почти даром!
Дело в том, что теперь Брайен владел уже целой конюшней рокеров, выросших из мерси-бита: «Биг Три», которые, кстати, довольно быстро расстались с ним, так как не хотели играть коммерческую музыку, «Джерри энд Пэйсмей-керз», «Билли Дж. Крамер энд Дакотас», «Формоуст», Сцилла Блэк и Томи Куикли. (Кингсайз Тейлор и «Свингинг Блю Джинз» отказались подписывать контракт с Эпстайном.) У «НЕМС» в центре Лондона было пять офисов, восемьдесят служащих и сорок музыкантов, которые колесили по стране, получая фиксированную еженедельную зарплату и компенсацию дорожных расходов. Брайен запустил их по дорожке, проторенной «Битлз».
Рождественским вечером 1963 года в зале кинотеатра «Астория» надрывали легкие три тысячи юных зрителей, большую часть которых составляли девушки. Свет погас, раздалась барабанная дробь – шоу начиналось. По сцене заметались огни прожекторов, занавес поднялся, и на экране замелькали изображения автомобилей, кораблей, самолетов. "Брайен Эпстайн представляет «Рождественское шоу „Битлз“!» Экран пошел вверх, и на сцену опустился вертолет, из которого вылез конферансье Ральф Харрис со списком пассажиров в руке. Следом за ним из кабины стали выскакивать один за другим оксщо сорока артистов, включая Билли Дж. Крамера, Силлу Блэк, «Дакотас». «Ну ладно! – рявкнул конферансье после того, как на сцене появился последний из выступающих. – Вот вы и познакомились со всеми участниками сегодняшнего шоу!» Эти слова были встречены взрывом протеста, перешедшего в вопль ужаса, когда вертолет неожиданно поднялся в воздух. «Что-нибудь случилось? – спросил Харрис. – „Битлз“? Ах да, эй вы там, наверху, подождите, вернитесь! Дамы и господа, встречайте звезд нашего шоу...» Но вертолет внезапно опять начал набирать высоту, вызвав новое замешательство зрителей. (Такое детское поддразнивание, по словам постановщика спектакля Питера Йолланда, производило на публику совершенно удивительный эффект. «К этому моменту, – вспоминает он, – сиденья кресел в зрительном зале уже промокли. Такое действие оказывали на поклонниц только „Битлз“. И это происходило во время любого, даже самого ординарного концерта. Под креслами образовывались лужи: они не могли себя контролировать».)
Когда наконец на сцене появились «Битлз» – в темных очках и с огромными сумками с логотипом авиакомпании «ВЕА» в руках, они продолжили игру, то появляясь, то исчезая, и так до финальной части шоу, которая состояла из скетча-пантомимы, в котором музыканты впервые попробовали себя в качестве драматических артистов.
Шоу обернулось полным триумфом. (На будущий год в театре «Одеон Хаммерсмит» состоялась его повторная постановка, в ходе которой «Битлз» разыграли спектакль про Ужасную Снежную Женщину, роль которой, как потом оказалось, исполнил Джимми Сэвилл.) Чтобы скрыться от поклонниц, «ливерпульские мальчики» каждый вечер убегали через разные выходы (в этом театре их было двадцать семь). «Если бы дела пошли совсем плохо, – скажет позже Питер Иолланд, – мы сумели бы отправить их на вертолете, который стоял во дворе».
В течение весны и лета 1963 года Синтия практически не виделась со своим знаменитым супругом. Дело было не только в том, что усилиями Брайена ее постоянно держали вне поля общественного зрения. К этому моменту ее место рядом с Джоном заняла другая женщина – черноволосая и синеглазая Стиви Холли. По сравнению с Синтией, отношения Стиви и Леннона развивались с точностью до наоборот. Когда во время первого свидания Джон без долгих разговоров расстегнул «до самой задницы» молнию у нее на платье, девушка резко обернулась и съездила ему по физиономии. Этот поступок вызвал уважение у Джона, для которого все женщины подразделялись на две категории: те, которые сами прыгали к нему в постель и которых он называл «шлаком», и те, которые требовали к себе уважения, как тетя Мими. Несмотря на то, что Стиви и Джон не были близки, их отношения зашли в тупик, когда девушка узнала от своего отца, что Джон женат. Отец пригрозил ему рассказать обо всем газетчикам. Услышав слово «женат», Джон воскликнул: «А что это такое? Клочок бумаги!» Но затем уныло добавил: «Мне пришлось сделать это».
1963 год стал для «Битлз» годом славы. Никогда больше не испытывал Леннон столь пьянящего чувства восторга. Композитор Пител Старштедт вспоминает о том, как однажды вечером он катался по Лондону вместе с Джоном в своем «ягуаре». Леннон встал во весь рост, высунувшись в открытый люк в крыше автомобиля, и кричал: «Я – король Лондона!»
В то время как Леннон хвастал перед журналистами, что еженедельный доход «Битлз» достигает двух тысяч фунтов, Синтия переехала к матери в Хойлейк после недолгого проживания в меблированной комнате за пять фунтов в неделю.
Основной причиной, по которой Джон не мог решиться перевезти Синтию в Лондон, где вместе с Джорджем и Ринго он занимал роскошную квартиру на Грин-стрит в районе Мэйфэйр, были его отношения с Брайеном Эпстайном. «У Брайена с Джоном творились какие-то странные дела», – вспоминает Питер Иолланд, один из самых влиятельных представителей британского театрального мира. Но Джон был не единственным рок-музыкантом, оказавшимся в подобного рода отношениях со своим менеджером. Другие подопечные Брайена тоже должны были платить за пропуск к славе. Если вначале Леннон бешено реагировал на любые намеки на свои гомосексуальные наклонности, то с годами стал относиться к этому спокойно. Когда в 1972-м к нему обратились с просьбой принять участие в подготовке издания «Gay Liberation Book»87, он отослал в редакцию рисунок, на котором был изображен обнаженный мужчина, сладострастно раскинувшийся на ковре-самолете, зажав в одной руке свой возбужденный пенис, а в другой – микрофон, в который пел: «Зачем грустить оттого, что ты гей? То, что ты делаешь, просто о'кей...»
В сентябре 1963 года, когда «Битлз» отправились отдыхать, Джон и Син получили, наконец, возможность провести свой медовый месяц, спустя тринадцать месяцев после свадьбы и пять после рождения ребенка. Брайен Эпстайн отправил «молодоженов» за границу – в Париж. Они остановились в «Георге V», где в скором времени к ним присоединился и сам Брайен. А по окончании скоротечного отпуска нежная Гризельда была вынуждена опять вернуться домой к матери.
Журналисты, пронюхавшие о тайном браке Джона, начали следить за домом в Хойлейке. Когда однажды им удалось засечь Синтию в бакалейной лавке с ребенком на руках, она заявила, что они спутали ее с сестрой-двойняшкой. Но это не помешало репортерам сфотографировать ее с шестимесячным Джулианом. С этого момента Синтия, которая долго страдала от того, что ею пренебрегали, стала подвергаться постоянным преследованиям со стороны прессы и поклонников «Битлз».
«Ну конечно, мы женаты, это ни для кого не секрет, – пыталась блефовать она. – Только я не люблю света огней рампы». Затем добавляла: «Джон женился на мне полтора года назад. Об этом писали в газетах и журналах. Все поклонники знали, где мы живем, и для меня это стало просто невыносимым, поэтому я решила переехать к матери».
Теперь Джон уже не мог отрицать существование своей семьи. Это его раздражало. «Я чувствовал себя крайне неловко, когда все узнали, что я женат. Это было все равно что выйти на улицу в одних носках или с расстегнутой ширинкой».
Вскоре Синтию с малышом перевезли в мрачную квартиру, расположенную на шестом этаже без лифта в доме 13 по Эмперорс Гейт недалеко от городского аэротерминала на Кромвелл-роуд. Дом наводнили фаны, а квартиру поставили под наблюдение, которое велось с балкона расположенного через дорогу студенческого общежития. Так в самом начале 1964 года, который станет для «Битлз» величайшим за всю историю группы, жена Джона Леннона, не имея ни малейшего представления о том, где находится в это время ее супруг, оказалась одна-одинешенька с ребенком на руках.
В то время когда Джон все еще пытался скрыть от прессы свою жену, Пол вел еще более напряженную борьбу против очередной девушки, которая заявила, что родила от него ребенка? Целый год восемнадцатилетняя Анита Кокрэйн развлекалась вместе с «Битлз» в квартире на Гэмбиер Террэс в Ливерпуле. Когда в июне 1963 года она обнаружила, что беременна, то попыталась связаться с Полом, но все было тщетно. Он не отвечал на заказные письма и телеграммы, и она поняла, что ничего не сможет добиться без вмешательства правосудия. После того как ее адвокат пригрозил, что заставит Пола предстать перед судом, «НЕМС» предложил Аните выплачивать алименты на ребенка в размере семи с половиной фунтов в неделю. Адвокат ответил отказом. Тогда в дело вмешался лично Брайен Эпстайн и предложил девушке 8400 долларов при условии, что она откажется от судебного преследования. В результате он заплатил ей 14 тысяч долларов, в обмен она обязалась не подавать в суд на Пола и никогда не заявлять, даже не намекать на то, что он является отцом ее сына Филиппа Пола Кокрэйна, а также не разглашать суть подписанного ею обязательства или отдельных его положений. Казалось бы, проблема была решена, но год спустя, в день ливерпульской премьеры пластинки «A Hard Day's Night» дядя Аниты распространил в толпе тридцать тысяч листовок, в которых раскрывались обстоятельства этого дела. Как саркастически заметила Синтия Леннон, «Пол стал посмешищем всего города».
В январе 1964-го «Битлз» вылетели в Париж: в течение трех недель им предстояло выступать в «Олимпии», самом большом французском мюзик-холле того времени. Несмотря на безумный успех на родине, имена английских звезд стояли в самом низу афиши, после Трини Лопеза и Сильви Вартан. А тех денег, которые из-за очередной оплошности Брайена Эпстайна они должны были получить за свои выступления, не хватало даже на оплату номеров в роскошном отеле «Георг V», где остановились музыканты. При этом нельзя сказать, что они вызвали у парижской публики безумный энтузиазм.
Премьера обернулась фиаско. Когда «Битлз» отказались предстать перед фотокамерами, папарацци спровоцировали потасовку, которую удалось остановить только прибывшей на место полиции. В полночь «великолепная четверка» вышла, наконец, на сцену, обнаружив при этом, что усилители не работают! Публика, состоявшая из юношей и девушек, смогла оценить быстрые вещи, но откровенно зевала под томные медленные песни. Один только Ринго произвел довольно хорошее впечатление. Мужская часть аудитории с энтузиазмом выкрикивала его имя, а его портретов, продававшихся в фойе, было раскуплен в десять раз больше, чем остальных членов группы. Но «Битлз» было плевать на Париж – накануне они получили известие о предстоящем великом событии.
Вернувшись после разогревочного концерта в Версале, ребята разлили по бокалам шампанское, чтобы отметить премьеру, как вдруг раздался телефонный звонок. Звонили Брайену из Нью-Йорка. Положив трубку, он объявил, что «1 Want То Hold Your Hand» за одну неделю подскочила в Штатах с сорок третьего на первое место! Последовавшие за этим многочисленные звонки подтвердили, что за первые три дня за океаном было распродано более четверти миллиона пластинок. К 10 января общее число продаж перевалило за миллион. А спустя еще несколько дней в одном только Нью-Иорк-сити продавалось уже по десять тысяч пластинок «Битлз» в час! Еще ни разу не побывав в стране и не приняв участия ни в одной телепередаче, «великолепная четверка» завоевала крупнейший в мире рынок грамзаписи. Но самым удачным было то, что приятные новости подоспели вовремя. Ровно через три недели «Битлз» предстояло совершить перелет в Нью-Йорк и выступить в «Шоу Эда Салливана». «Куда же мы идем, ребята?»...
Глава 17 «Битлз» едут!
Америка была готова к приезду «Битлз». К 7 февраля 1964 года было продано уже два миллиона экземпляров пластинки «I Want То Hold Your Hand». Первый американский гигант группы «Introducing The Beatles»88 тоже добрался до хит-парада. Американские магазины вовсю торговали битловскими париками, рубашками, куклами, кольцами, ланч-боксами, пуговицами, записными книжками, кроссовками и пеной для ванн. Бонни Джо Мэйсон, больше известная сегодня как Шер89, пела песенку Фила Спектора под названием «I Love Ringo»90, многие другие исполнители также выпустили такие хиты, как «Christmas With The Beatles»91 или «My Boyfriend Got A Beatles Haircut»92. Компания «Кэпитол» разослала по всем радиостанциям страны перечень вопросов, ответы на которые были записаны Джоном, Полом, Джорджем и Ринго заранее. Кроме того, по США разошлись пять миллионов наклеек с надписью «БИТЛЗ» ЕДУТ!".
В Лондонском аэропорту царила истерия. «Великолепной четверке» с трудом удалось пробиться сквозь толпу фанов, рыдавших от отчаяния при виде уезжающих кумиров. Пресса ожидала «Битлз» в зале VIP, где Джон впервые согласился позировать вместе с Синтией. Затем они погрузились на рейс 101 авиакомпании «Пан-Америкен». Через несколько минут диктор нью-йоркской радиостанции WMCA, задыхаясь от волнения, объявил: «Время „Битлз“ шесть часов тридцать минут! Музыканты вылетели из Лондона полчаса назад! Сейчас они летят над Атлантическим океаном в направлении Нью-Йорка! Температура тридцать два градуса по шкале „Битлз“!»
Сразу же после взлета в самолете воцарилась праздничная атмосфера. Когда красавица-стюардесса с бюстом, достойным Джейн Мэнсфилд, стала объяснять, как пользоваться спасательным жилетом, в салоне первого класса поднялся свист и улюлюканье. Пол бросал на нее томные взгляды, а Джордж вопил: «Хочешь выйти за меня замуж?» Шампанское текло рекой, а на закуску шли икра, лангусты и копченая лососина. Совсем неплохо для парней, которые в течение многих лет довольствовались фасолевой пастой, намазанной на тосты, и сэндвичами с вареньем.
Когда до Брайена дошло, что большинство седовласых бизнесменов, находившихся с ними в одном салоне, оказались торговцами, сгоравшими от желания заполучить право на использование названия «Битлз» для рекламы своей продукции, он просто опешил. Каждые полчаса стюардесса аккуратно передавала ему образец нового вида товара для рассмотрения. И каждый раз Брайен доставал из портфеля блокнот с монограммой и писал вежливый отказ. А тем временем пластмассовая гитара или длинноволосая кукла переходила в руки к «Битлз», и каждый из них что-нибудь отламывал от образца до тех пор, пока тот не оказывался совершенно испорченным.
Пол, сохраняя невозмутимость рядом с дурачившимися вовсю приятелями, спросил: «А зачем мы едем в Америку зарабатывать деньги, когда у них и так все есть? У них есть свои собственные группы. Неужели мы можем дать им что-то такое, чего им не хватает?»
Ответ на этот вопрос стал очевиден в час двадцать ночи, после того как «Боинг» произвел посадку в аэропорту Кеннеди. Когда «Битлз» вышли из самолета и стали спускаться по трапу, их приветстворали четыре тысячи поклонников, столпившихся на террасе. После обязательной фотографии у трапа они вошли в здание аэровокзала. Фаны уже спустились вниз и жались к стеклянной перегородке, широко разинув рты, наподобие хищных рыб. Джорджу было не по себе. «Никогда прежде я так не радовался присутствию полиции», – рассказывал он. Полицейские помогли музыкантам добраться до зала, где должна была состояться пресс-конференция.
Здесь они оказались среди взрослых людей, нетерпеливых и спешащих. Две сотни журналистов, одетых в меховые шапки и зимние пальто, собрались в надежде выискать что-нибудь интересное для статьи о главном событии дня. Ну что ж, их ожидал приятный сюрприз, поскольку к этому времени «Битлз» стали уже большими мастерами игры в интервью. Первым эту технику разработал Джон, затем ее досконально разучили все остальные, и теперь она неизменно обеспечивала им успех.
Репортер: Чем вы занимаетесь, когда сидите в номере гостиницы?
ДЖОРДЖ: Катаемся на коньках.
Репортер: Что вы думаете о Бетховене?
РИНГО: Обожаю, особенно его стихи.
Репортер: А ваши родители тоже занимались шоу-бизнесом?
ДЖОН: Мой отец часто говорил, что мама была большая мастерица ломать комедию...
Но в этот день только одному журналисту – местному диск-жокею Мюррею К. (К. – от Кауфман) – повезло нарваться на настоящую сенсацию. Когда его срочно вызвали из Майами, чтобы взять интервью у «Битлз», он прилетел в Нью-Йорк прямо в соломенной шляпе. Через какое-то время ему удалось отвести в сторонку Джорджа. «Мне нравится твоя шляпа», – сказал Харрисон. «Держи, она твоя», – тут же нашелся Мюррей.
Один из фоторепортеров Си-би-эс, посчитав такую тактику нечестной, не на шутку разозлился и запротестовал: «Скажите Мюррею К., чтобы он кончал трепаться».
Ринго поймал мячик на лету: «Кончай трепаться, Мюррей!»
Само собой, Джон и Пол не остались в стороне: «Кончай трепаться, Мюррей! Кончай трепаться!» Так родился еще один, на этот раз самозваный «пятый Битл». Из аэропорта Кеннеди четыре черных «кадиллака»-гангстермобиля отвезли «великолепную четверку» в отель «Плаза». Было нелепо размещать в нем рок-группу, но это явно льстило самолюбию мало что понимавшего в этом сноба Брайена Эпстайна. Здесь музыкантов уже поджидали несколько сотен подростков, сдерживаемых отрядами полиции в защитных шлемах. Лимузины, сопровождаемые подразделениями конной гвардии, остановились у дверей роскошной гостиницы. «Битлз» торопливо поднялись по ступенькам и скрылись за вращающейся дверью.
Брайен хвастал, что сумел забронировать номера именно в этом отеле благодаря собственной хитрости, составив заявку таким образом, что имена членов группы больше напоминали имена английских бизнесменов, как, например, «Д. У. Леннон, эсквайр». На самом же деле вышло вот что: менеджер гостиницы Альфонс Саламон, полагавший, что неприятностей от «Битлз» будет гораздо больше, чем дохода, посетовал на это как-то вечером, сидя за ужином в семейном кругу. Стоило его дочери услышать слово «Битлз», как она громко вскрикнула и, потеряв над собой всякий контроль, разрыдалась. «Если честно, – заметил позже сын Саламона Грег, – отец закрыл на все это дело глаза только из-за того, что она впала в истерику». И вновь, теперь уже в чадолюбивой Америке, удача «Битлз» целиком зависела от капризов девочек-подростков.
Десятикомнатные апартаменты, расположенные под самой крышей на двенадцатом этаже, находились под охраной полиции и двух детективов в штатском из детективного агентства Бернса. Ребята сразу заказали себе в номера приличный запас скотч-виски и кока-колы, потом включили телевизоры, вырубив звук. Слушая радио, они принялись щелкать пультами. Им было приятно, что о них говорили на всех каналах и всюду крутили их пластинки, но, как и все европейцы, впервые оказавшиеся в Нью-Йорке, они были поражены невероятным количеством телеканалов и радиостанций, по которым круглые сутки шли самые разнообразные передачи. По возвращении в Англию им зададут неизбежный вопрос: «Что вам больше всего понравилось в Штатах?» Харрисон не задумываясь ответит: «Радио, телевидение и драйв-ины»93.
Первыми посетителями, которым удалось прорваться сквозь кордон охраны, оказались трое девушек из группы «Ронеттс». Они познакомились с «Битлз» еще в Лондоне во время своего первого концертного турне по Великобритании. Как-то на одной из вечеринок эти сексапильные малютки попытались обучить чопорных английских парней самым модным молодежным танцам, таким, как пони, шейк и нитти-гритти. Единственным из «Битлз», кто попытался повторить новые движения, оказался Ринго. Джорджа гораздо больше занимала мысль о том, как уединиться с Мэри, а Джон положил глаз на Ронни. В конце вечера «Битлз» уже рассуждали о том, что неплохо было бы пригласить «Ронеттс» на свое следующее турне. Когда слухи об этом предложении дошли до продюсера «Ронеттс» по грамзаписи Фила Спектора, он чуть не лопнул от ревности. Женатый Спектор твердо решил, что следующей его женой должна стать Ронни Беннетт. Поэтому он вскочил в первый же самолет, примчался в Лондон и объявил своей пассии: «Если ты отправишься на гастроли с „Битлз“, я на тебе не женюсь». После чего заменил Ронни другой девушкой, а ее отослал домой в Гарлем.
Не успела Ронни устроиться в квартире у матери и включить телевизор, как первое, что она увидела на экране, был репортаж о прибытии «Битлз» в нью-йоркский аэропорт. А когда она углядела худую фигуру Фила Спектора, спускавшегося по трапу вслед за музыкантами, она чуть не свалилась со стула. До нее дошло, что Спектор ее одурачил. Он лишил ее шанса на такую рекламу! А сам его не упустил. Вот гад! Ронни бросилась к телефону, и вскоре все три расфуфыренные девчонки, принарядившись в самые обтягивающие джинсы, пробивались сквозь кордоны полиции и службы охраны отеля.
Джон решил не тратить время на пустую болтовню, и стоило Синтии отвернуться, как он схватил Ронни и потащил ее в соседнюю комнату. Когда Джон набросился на девушку со страстными поцелуями, она была шокирована, ведь еще тогда, в Лондоне, она объяснила Джону, что остается девственницей, бережет себя для Фила. Если она успешно доведет свою партию до конца, она станет миссис Фил Спектор! И вдруг появляется Джон Леннон, самый популярный рок-музыкант мирового шоу-бизнеса, и накидывается на нее так, словно им не остается ничего иного, кроме как немедленно «слиться в экстазе». «Джон! – задохнулась она, глядя в упор на воспаленного воздыхателя. – Я не могу!» Леннон, уверовавший в свое величие после сцены в аэропорту, не был готов к отказу. Оторвавшись от Ронни, он вылетел из комнаты, с грохотом хлопнув дверью. На следующий день он позвонил и принес свои извинения.
Джордж не смог продолжить свою интрижку с Мэри, у него поднялась температура и заболело горло. Правда, это не помешало ему болтать по телефону с новым приятелем Мюрреем К., который передавал разговор в прямом эфире.
Суббота выдалась холодной и дождливой. Когда во второй половине дня погода прояснилась, Джон, Пол и Ринго в сопровождении журналистского корпуса и четырех сотен девиц отправились в Центральный парк позировать перед фотографами. Затем, сгорая от нетерпения увидеть своими глазами рай ритм-энд-блюза, они направились в Гарлем. Но сквозь стекла лимузинов рассмотрели только трущобы и забаррикадированные двери магазинов. Так вот, значит, что такое негритянская Америка! Они поехали в старый театр «Мэксин Эллиотт» на Таймс-сквер, специально оборудованный компанией Си-би-эс для трансляции «Шоу Эда Салливана».
Узнав, что Харрисон свалился с гриппом, Салливан разволновался. Остальные Битлы успокоили его: к началу шоу Джордж будет в порядке. «Да уж пусть постарается, – кивнул Салливан, – а то мне придется самому натягивать парик и вылезать на сцену».
В субботу после ужина все, за исключением Пола, вернулись в отель к своим телевизорам, а Пол пошел поразвлечься в расположенный через дорогу «Плейбой-клуб», где подцепил одну из «банни»94, с которой и провел ночь в латиноамериканском ночном заведении под названием «Шато Мадрид».
Тем временем Брайен организовал небольшую вечеринку с нью-йоркскими мальчиками. Один не слишком щепетильный фоторепортер подкупил гостиничную прислугу, которая должна была предупредить его в случае, если кто-нибудь из «Битлз» или Брайен пригласит в свой номер гостей. Когда горничная пришла постелить Брайену постель, она отодвинула шторы. Это был условный сигнал. Фотограф подобрался к окну и принялся щелкать затвором аппарата. Через два дня фотографии оказались в руках у Ники Бирнса, агента, готовившего контракты «Битлз» в Соединенных Штатах. Бирнсу удалось выкупить эти негативы, к которым добавились и несколько снимков с девочками-школьницами, спрятавшимися в уборной в надежде подловить «Битлз». Позднее Бирнс заявлял, что тогда ему удалось предотвратить крупнейший скандал. В воскресенье в два тридцать пополудни «Битлз» прибыли в театр на костюмированную репетицию и запись третьего шоу Салливана. 50 тысяч предварительных заявок получили организаторы телетрансляции, которая должна была идти из зрительного зала, рассчитанного всего на 728 мест. К этому времени для любого обладающего соответствующими возможностями нью-йоркского охотника за знаменитостями высшим достижением стало появиться рядом с «Битлз». Леонард Бернстайн был счастливым отцом двух юных дочерей, которые потребовали, чтобы он взял их на выступление «Битлз»: сам Ленни тоже был не прочь познакомиться с ребятами, поэтому когда новая ассистентка Брайена Венди Хансон появилась в театре перед началом концерта, она застала обеих девчушек удобно устроившимися в первом ряду, а самого Ленни выпендривающимся наверху в гримуборной, отведенной «Битлз». Когда в конце концов Бернстайн покинул помещение, Джон повернулся к Венди и пробормотал: «Послушай, детка, не могла бы ты взять на себя заботу о том, чтобы держать семейство Сидни Бернстайна подальше от этой комнаты?»
Тем временем Брайену приходилось сносить выходки и похуже. Войдя к Салливану, который был занят тем, что царапал на клочке бумаги последние записи, менеджер «Битлз» воскликнул: «Я хотел бы услышать точный текст, который вы подготовили для представления!»
Не потрудившись поднять глаза, Салливан проскрежетал: «А я бы хотел, чтобы вы немедленно убрались к черту!»
С самого начала Эд Салливан постарался превратить свое шоу в историческое событие рок-культуры: он прочитал поздравительную телеграмму за подписью Элвиса. (Ее написал менеджер Пресли полковник Том Паркер. Сам Элвис относился к «Битлз» с презрением.) И наконец представил звезд. Когда «ливерпульские мальчики» заиграли «АН My Loving»95, телекамера, медленно наезжая то на одного, то на другого, привела миллионы американцев в полное замешательство.
То, что предстало их глазам, не имело ничего общего с вульгарной экспансивностью Элвиса. «Битлз» с длинными волосами, одетые в темные костюмы – удлиненные пиджаки и узкие брюки, подчеркивавшие их типично британскую осанку, – скорее напоминали менестрелей. После каждого номера они с достоинством кланялись, приветствуя публику. Ребята играли с уверенностью подлинных профессионалов, ни на секунду не теряя контроль за ситуацией, даже тогда, когда в середине исполнения «I Want То Hold Your Hand» забарахлил один из микрофонов. Они избрали спокойную манеру поведения, решив забыть о тяжелом роке. Из шести намеченных песен пять исполнял Пол, и именно на его ангельском лице камера задерживалась дольше всего.
Когда телеоператоры обращались к залу, глазам представала невероятная картина: сотни девочек, кричащих, жестикулирующих и извивающихся под музыку в своих креслах. Самым удивительным был именно контраст между бившимися в истерике девочками-подростками и спокойными англичанами, которые не делали ничего такого, что могло бы вызвать подобное буйство страстей. Тем не менее никто из журналистов не принял вызов и не попытался найти объяснение проявлению битломании. Напротив, в своих статьях они проигнорировали этот феномен, удовольствовавшись критикой игры музыкантов.
На следующее утро газета «Геральд Трибюн» сообщила, что «Битлз» «на 75 процентов состоят из рекламы, на 20 – из прически и на 5-из музыкальных всхлипов». «Нью-Йорк Тайме» назвала их «ловким плацебо» шоу-бизнеса. А со следующей недели в атаку пошли еженедельные издания. "Куцые костюмчики битников, переодетых в денди, и прически под горшок, – написал на своих страницах журнал «Ньюсуик», – не внешность, а просто кошмар. Монотонные звуки аккордов и беспощадный бит в сочетании с вторичными ритмическим рисунком, гармонией и мелодией превращают их музыку в недоразумение. Тексты, лишенные всякого смысла, – сентиментальное попурри, разбавленное розовой водичкой и глупыми выкриками «йе-йе-йе!». Но «ливерпульские мальчики» только посмеивались: согласно официальным оценкам, их шоу смотрели 73,9 миллионов телезрителей – такого рейтинга история телевидения еще не знала.
После шоу Эда Салливана «Битлз» ожидало выступление в Карнеги-холле. Как ни странно, они испытывали гораздо меньшее волнение накануне того, как предстать перед всей страной, сидящей у телеэкранов, чем готовясь к выступлению в знаменитом старом концертном зале, рассчитанном на 2 780 зрителей. Поэтому чтобы набрать необходимую форму, они появились на сцене вашингтонского «Колизеума», где прежде проводились боксерские поединки.
Вечером 11 января «Битлз» прошли вдоль двойного оцепления, состоявшего из сорока охранников в красных куртках, и выскочили на ринг. Пока они настраивали усилители, орущий зал расстреливал их фотовспышками. «Вот это обстановка! – воскликнул Пол после концерта. – Так нас еще никогда не принимали. Даже наш рекламный агент Брайен Соммервилл, который никогда не терял голову, прослезился, расставляя на сцене барабаны Ринго. Я сказал ему, чтобы он сбегал за носовым платком, но мне и самому хотелось заплакать!»
Однако Пол не только не заплакал, но и взял на себя роль ведущего. Он, безусловно, волновался, но был, как всегда, очарователен. Стоило музыкантам заиграть вступление к «Roll Over Beethoven», которую пел Джордж, как почувствовалось, что сегодня они решили дать жару. Ринго лез из кожи вон, играя с такой страстью, которой никто в нем и не подозревал. Отличительной чертой этого выступления стала его непосредственность, спонтанный характер того хаотического, на первый взгляд, действа, которое разворачивалось на сцене. Несколько раз во время концерта «Битлз» даже скатывались к тому стилю, который использовали еще в «Индре» или в «Кэверн», когда получали приказ: «Mach Schau!»
Джон заводил публику, заставляя ее хлопать в ладоши и стучать ногами, Джордж исполнил твист, Ринго, не переставая оголтело колотить по барабанам, проорал слова песни «I Want to Be Your Man»96, а Пол с радостной улыбкой бросил гитару и принялся размахивать руками, обращаясь к толпе. И все присутствовавшие на концерте поняли: эти четверо британских мальчишек мечтают только о том, чтобы поразвлечься.
Стоило им устроиться в салоне-вагоне поезда, который должен был отвезти их обратно в Нью-Йорк, как началось веселье. Ринго, которому явно удалась поездка по Америке, начал выделывать перед камерами братьев Майлз клоунские номера. Он забирался под сиденья, прыгал по ним по-обезьяньи, изображал походку репортера с камерой на плече, который проходил по коридору, пошатываясь и выкрикивая: «Пропустите! Журнал „Лайф“! Пропустите!» Потом он внезапно появлялся, вырядившись в шубу и шапку из белого меха. Или начинал украдкой озираться, затягиваясь сигаретой, наподобие Пепе Ле Моко. Остальные тоже включились в игру. Джордж улегся в вагонные сетки и замер, точно мумия. Пол стал фотографировать через окно, приговаривая: «Какое мягкое изображение! А эти рельсы! Просто чудо!»
Джон время от времени поднимал взгляд и отрывисто рявкал, как Гручо: «Очень смешно! И правда, очень смешно!»
В день празднования годовщины Линкольна «Битлз» должны были отыграть в Карнеги-холле два концерта – утром и вечером. Организатор концертов Сид Бернстайн распродал 5 700 билетов в течение двух часов. Но мог продать и гораздо больше, а потому даже на сцене распорядился установить еще 150 кресел! Когда Леннон увидел, что им придется петь в полуметре от зрителей, он пришел в бешенство. «Это был не рок-концерт, – бушевал он потом, – а самый настоящий цирк! Нас выставили, точно животных, на которых пришли поглазеть и которых можно погладить!» Его ярость усилилась, когда ему рассказали, что жене губернатора Нью-Йорка Нельсона Рокфеллера, пришедшей в сопровождении солдата национальной гвардии, удалось в самый последний момент достать для своей десятилетней дочери билет, хотя свободных билетов уже не существовало в природе. Классовые привилегии всегда выводили из себя такого деклассированного человека, каким был Леннон.
В довершение ко всему, Мюррею К. пришла в голову дурацкая идея провести прямо перед концертом опрос зрительских симпатий по отношению к отдельным членам группы. Победа досталась Ринго, который превзошел Пола на несколько децибел.
Да, в этот день у Джона были основания для того, чтобы рвать и метать. Но все же самым невыносимым, наверное, оказался для него состав зрителей. С некоторой опаской «Битлз» готовились предстать перед искушенной нью-йоркской публикой, которая обычно собирается в Карнеги-холле, а вместо этого увидели перед собой толпу прыщавых и некрасивых девчонок из Нью-Джерси со скобками на зубах. Американскими фанами «Битлз» было скопище молодежи, не имевшей ни малейшего представления о стиле и вкусе. И это оказалось самым большим разочарованием.
Если в Англии успех «Битлз», как и успех Элвиса восемь лет назад, основывался на том, что они символизировали собой протест обездоленной молодежи и успех сумевшего разбогатеть мальчишки-бессребреника, то триумф в Соединенных Штатах был скорее связан не с социально-классовыми проблемами, но с возникновением нового рынка, почти исключительно ориентированного на подростков. Отдавая себе отчет в огромных коммерческих возможностях нового рынка, полковник Паркер превратил Элвиса из «парня, осмелившегося петь рок», во «взрослого мальчика, любящего играть в куклы» и распевающего песенку «Teddy Bear»97. Эта песня, сочетавшая насмешливый вызов и притворную страсть, стала для карьеры Пресли такой же решающей, как и «Heartbreak Hotel», поскольку явилась идеальной формулой детского питания для тысяч вопящих младенцев, провозгласивших Элвиса первым «королем ясельной культуры».
Коммерциализация «Битлз» в Америке развивалась точно по такому же сценарию, только еще более откровенному, поскольку в тот момент, когда «великолепная четверка» ступила на американскую землю, внимание публики уже было сосредоточено на специально для них разработанной версии «плюшевого мишки». Суть рекламной кампании была выражена в знаменитом фотоснимке Гарри Бенсона, изображавшем «Битлз», дерущихся подушками у себя в спальне. "Нет, мать вашу, вы только поглядите на этих четверых паршивцев, дерущихся подушками – воскликнул Джон Леннон, полный искреннего изумления при виде того, как средства массовой информации превратили группу хард-рокеров в розовощеких неваляшек, о которых больше всего на свете мечтает каждая маленькая девочка.
Кстати, разнице между впечатлением, которое «Битлз» производили в Великобритании и в Америке, полностью соответствовала та, что существовала между их британскими и американскими фанатками. Последние были значительно моложе и являлись продуктом определенной молодежной культуры, находя в «Битлз» сублимацию тех образов, которые прочно засели в их сознании после регулярного просмотра субботних мультиков. Эти похожие друг на друга, одинаково одетые и делающие одинаковые кукольные жесты юноши возбуждали самые глубинные диснейлендовские рефлексы у девчушек с металлическими скобками на зубах. У них не возникало даже и мысли о том, чтобы затащить милых мальчуганов в постель – все, что им хотелось, это убаюкать живых кукол, так похожих на плюшевых мишек!
Ринго, бывшему до сих пор самым незаметным из «Битлз», удалось добиться в Америке такого успеха лишь потому, что он напоминал Простака из «Белоснежки и Семи Гномов» или Гадкого Утенка, в которого играют все дети. Мало того, четыре группы художников-мультипликаторов с киностудии «Кинг Фичерз» немедленно принялись за работу, и вскоре каждое субботнее утро по телевизору крутили рисованные фильмы, где главными героями были «ливерпульские мальчики». Именно образы героев мультиков будут использованы музыкантами позднее, когда они снимутся в полнометражных художественных фильмах, где будут постоянно бегать, бегать, бегать... и время от времени летать.
В ту пору настоящие «Битлз», отдававшие себе отчет в причинах собственной привлекательности, старались соответствовать тому образу, который они обрели в глазах публики. Их музыка превратилась в глуповатую рок-оперу, полную одиноких вздохов, сцен разрыва и примирения. Когда же они почувствовали, что начали задыхаться среди этого неиссякаемого потока леденцов и детских воплей, то переложили ружье на другое плечо. Только детишки к тому времени уже подросли.
Глава 18 Цена славы
Сразу по возвращении в Англию «Битлз» принялись за съемки фильма «A Hard Day's Night». Как ни странно, эта комедия, которая вызывала столько восторгов, которая и сегодня нередко демонстрируется в художественных синематеках, задумывалась вовсе не как обычный фильм или исследовательская лента, а явилась следствием заговора, который должен был позволить компании «Юнайтед Артисте» выпустить альбом новых звезд, – короче, темной истории, где были замешаны большие деньги. Невоспетыми героями фильма стали Ноэль Роджерс (директор отдела грампластинок «Юнайтед Артисте» в Великобритании), который придумал всю комбинацию, и Бад Оренстайн (директор отдела кинопроизводства), который ее осуществил.
Идея заговора родилась летом 1963 года, когда филиал «И-Эм-Ай» в Штатах – компания «Кэпитол» – отказалась продавать пластинки «Битлз» под тем предлогом, что они не отвечают спросу американского рынка. Представители «Юнайтед Артисте» в Великобритании, будучи убежденными в обратном, предложили «Битлз» контракт, по которому обязывались снять три фильма с их участием, а также выпустить три альбома. Но даже в самых безумных снах организаторы этой затеи не могли представить, сколько денег принесет им только что открытая жила. «A Hard Day's Night» стал лучшим альбомом «Битлз», записанным до сих пор, а фильм, съемки которого обошлись менее чем в 500 тысяч долларов, имел оглушительный успех.
Поскольку руководители «Юнайтед Артисте» не хотели слишком тратиться на реализацию столь незначительного, с кинематографической точки зрения, проекта, они пригласили независимого продюсера Уолтера Шенсона, в чьем активе насчитывалось несколько малобюджетных фильмов, имевших зрительский успех, таких, например, как «Мышь, которая кричала». А поскольку он был хорошо знаком с Великобританией и ее театральным миром, на него также полагались в том смысле, чтобы держать в стороне от съемок Брайена Эпстайна.
В тот день, когда Шенсон должен был встретиться с «Битлз», Брайен оказался в своем офисе один и заявил, что ему не удалось разыскать «мальчиков». Продюсер отправился за ними в Мэйфэйр и обнаружил ребят стоящими перед домом, где они в то время жили, и пытающимися поймать такси. Они запрыгнули в машину к Шенсону и попросили отвезти их на Эбби-роуд, где в это время записывались «Джерри энд Пэйсмейкерз»; по дороге остановились, чтобы купить газеты, и стали вслух читать последние статьи, посвященные битломании, вырывая их друг у друга из рук, точно самые что ни на есть битломаньяки, затем еще купили газет, и так продолжалось на всем протяжении пути до студии. Все это время спокойный, лысоватый и не вынимавший изо рта своей трубки Шенсон наблюдал за ними. Ребята показались ему забавными и напомнили фильмы с участием братьев Маркс. И в его голове мало-помалу начала созревать идея будущего фильма.
Сразу возникла маленькая проблема: выбор сценариста. Несмотря на то, что Шенсон опасался навязывать блестящему режиссеру Ричарду Лестеру излишне реалистичный сценарий, он все же уступил требованию «Битлз», которые хотели, чтобы он поручил эту работу Алуну Оуэну, парню из Ливерпуля, который писал сценарии для телевидения. Оуэн отнесся к этой исторической задаче слишком легкомысленно, он едва выкроил пару дней в конце 1963 года, чтобы съездить в Дублин и пообщаться с «Битлз». Затем вернулся домой и настрочил сценарий, из которого, хотя и был он очень смешным, стало ясно, что автор абсолютно ничего не знает о «великолепной четверке».
Сегодня фильм «A Hard Day's Night» воспринимается именно таким, какой он есть на самом деле: пародией на битломанию. Если четверка рокеров и обменивается несколькими солеными репликами, особенно во время знаменитой сцены в поезде, то вся интрига построена в основном вокруг персонажа дедушки Пола, роль которого блестяще исполнил Уилфрид Брамбелл: этот мужичок с физиономией старого козла и провинциальным акцентом завораживал зрителей гораздо больше, чем симпатичные поп-звезды, которым стоило просто выйти на улицу, чтобы вызвать настоящую революцию. Неудивительно, что «Битлз» пришлись не по нраву роли, которые их заставили играть. Они не осмеливались всерьез роптать, однако их жалобы достигли ушей Алуна Оуэна, и это случилось в излюбленном заведении лондонских свингеров– легендарном клубе «Ад Либ».
В то время Леннон частенько проводил вечера в этом модном заведении, расположенном в Сохо на Лейчестер-стрит прямо над кинотеатром «Принц Чарльз». Уже в лифте, поднимавшем посетителей в «Ад Либ», звучала та же музыка, что и в танцевальном зале. Здесь собиралась несколько особая публика, состоявшая в подавляющей массе из очень молодых и странно разодетых людей. Вместо богатых знаменитостей – представителей высшего общества, традиционно заполнявших ночные заведения, это были молодые люди, которые не обладали ни состоянием, ни положением: то были манекенщицы, новоиспеченные рок-звезды, парикмахеры, фотографы, владельцы небольших магазинов, молодые актеры и драматурги. Но именно этой немногочисленной группе людей, находившихся на острие моды, вскоре предстояло осуществить культурную революцию, сначала в Англии, а потом и в Америке.
Здесь танцевали под самую разную музыку, а иногда вождь с Ямайки по имени Уинстон, нанятый специально для таких случаев, выпрыгивал на середину танцплощадки с барабаном в руках и начинал так страстно кружиться на месте, что посетители клуба вскакивали со своих мест, выстраивались в линию и принимались танцевать конгу, спускаясь, крича и толкаясь, по лестнице с пятого этажа, затем делая змеиный разворот и поднимаясь по ступеням обратно наверх.
Джон Леннон был менее всего похож на танцора конги, он усаживался на специальный диванчик и напивался, что-то втолковывая кому-нибудь на ухо, а после отправлялся шататься по улицам в поисках шумной драки. (Такие развлечения обычно прекращал его шофер, бывший боксер, которому всегда удавалось свести потери до минимума.)
Однажды вечером, беседуя с актрисой Билли Уайтхолл, Джон неожиданно обрушился на Алуна Оуэна.
«Этот тип – полное говно! – воскликнул он. – Не может написать даже пару интересных реплик!» Он ставил ему в вину то, что сценарист, совершенно не разобравшись, кем в действительности были «Битлз», ограничился созданием однобокого образа. Но больше всего его злил детский юмор фильма. Никогда в жизни «Битлз» не говорили так, как их заставили делать это на экране, они были гораздо тоньше; в реальной жизни ничтожнейшая из произносимых ими фраз стоила всех реплик из фильма «A Hard Day's Night».
Когда Оуэну передали его слова, он потребовал у Леннона объяснить причину своих унизительных замечаний. Джон отреагировал с присущим ему лицемерием. «Да ладно, Эл, что бы они там ни болтали, ты же знаешь, как я тебя люблю», – стал оправдываться Джон.
«Тогда почему ты сказал, что я не могу написать ничего путного?» – продолжал настаивать обиженный драматург.
«Слушай, Эл, – запротестовал Джон, – она начала расхваливать тебя, так что мне просто пришлось тебя вырубить, понял? Если ты кому-то платишь, то имеешь право и обложить его. Ничего личного!» Во время премьеры Джон выдержал лишь несколько минут, после чего выбежал из кинозала с криком: «Я не могу вынести эту лажу!» Один только Джордж досидел до конца.
Расхожее мнение, сложившееся у публики о «Битлз» как о молодых королях поп-музыки, распевающих в свое удовольствие старые эстрадные номера, абсолютно не соответствовало действительности. На самом деле они продолжали оставаться четырьмя наивными провинциалами, которые профессионально разбирались только в одном – в поп-музыке. Когда же дело доходило до всего остального – от съемок фильма до оборудования жилища – им приходилось полагаться на профессионалов, которых в качестве продюсеров, режиссеров, сценаристов, фотографов, пресс-атташе, декораторов и так далее подбирал для них менеджер группы. И только после того как они наконец убедились в некомпетентности всех этих людей, «Битлз» взяли свою карьеру в собственные руки. Первым делом они отделались от Дезо Хоффмана, автора всех банальных фотографий, на которых «Битлз» изображены в застывших позах, точно театральная труппа. Начав с осуществления контроля за собственными фотографиями, они постепенно перешли к контролю за качеством звукозаписи, а затем шаг за шагом подошли к самой ответственной сфере, которая заключалась в управлении собственными деньгами. Но прежде чем они добьются этого, после съемок первого фильма пройдет целых пять лет.
Единственное, в чем они были самостоятельны в отношении фильма, – это музыка. Именно их песням фильм был обязан своим триумфом. С первой же взрывной ноты заглавной песни альбома слушатель невольно поднимал голову, признавая, что музыкантам удалось сделать огромный шаг вперед. Джон Леннон находился в этот момент в своей лучшей форме, доказательством чему явилась история написания песни, давшей название фильму.
Съемки были в самом разгаре, а Шенсон все еще пребывал в поисках звучного названия. Однажды Джон рассказал ему, что Ринго обожает переделывать английские выражения, подстраивая их под собственные мысли. К примеру, фраза «a hard night's work»98 превратилась у него в «a hard day's night». Выражение очень понравилось Шенсону, и он попросил Леннона написать, используя его, какую-нибудь зажигательную мелодию, которая могла бы сопровождать титры в начале фильма. При этом продюсер предоставил Джону свободу в сочинении слов – вовсе не требовалось, чтобы они соответствовали сюжету картины. Джон немедленно потребовал отвезти его домой. Он добрался до Эмперорз Гейт, когда уже стемнело. На следующее утро Шенсона пригласили подняться в гардеробную к музыкантам, где он застал Леннона и Маккартни, которые, должно быть, проработали всю ночь. С гитарами в руках, они готовились исполнить новую песню. С трудом разбирая слова, нацарапанные на обложке книги, они запели и привели Шенсона в полный восторг. Но еще более сильное впечатление он получил на следующий день, когда услышал запись этой вещи, сделанную Джорджем Мартином.
Первый диск «Битлз», привлекший к себе внимание серьезных знатоков поп-музыки, «A Hard Day's Night», разрушил образ милых мальчиков и показал наконец пламенную душу Леннона. Безудержная ковбойская скачка на фоне приглушенного звона колокольчиков Уилсона Пикетта и ударных в стиле Бадди Холли, прерываемых вибрирующими звуками Олда Рэнглера, – вся эта мешанина заимствований, понадерганных у других исполнителей, получила совершенно оригинальное звучание за счет того, что Леннон придал ей никогда ранее не использовавшуюся в поп-музыке негритянскую тонально окрашенную текстуру. Эта песня была написана по правилам модальной системы, от которой отказались еще в XVII веке, перейдя к тональной системе композиции, но которая сохранилась в британской, ирландской и американской фольклорной музыке, вдохновившей Леннона. И хотя текст песни соответствовал клише обычной любовной тематики в стиле «я-не-могу-дождаться-когда-вернусь-к-тебе-бэби», настоящим сюжетом явилась «работа», тяжелая, изнурительная работа, которую должны выполнять люди для того, чтобы выжить, и только музыка помогает им забыть об этом.
Подобный отход от романтического сюжета скоро станет характерным для всего творчества Леннона, несмотря на то, что он шел вразрез с самой сутью успеха «Битлз». Стоило «ливерпульским мальчикам» добиться коммерческого успеха, как они стали сочинять преимущественно любовные песни, предназначенные тинейджерскому поп-рынку. Первые сто песен, подписанные дуэтом Леннон – Маккартни, были посвящены исключительно слюнявой любовной тематике. Но если такое положение дел нисколько не смущало Пола, то с Джоном обстояло иначе: у него возникло чувство совершенного предательства не только по отношению к самому себе, но еще и к той музыке, которую он любил. Что было общего у всех величайших героев рока – Элвиса Пресли, Литтл Ричарда, Мика Джаггера, Джима Моррисона или Джимми Хендрикса? Что составляло саму его суть? Уж, конечно, не любовная тематика! Скорее, это был эксгибиционистский нарциссизм молодого «мачо», хвастливого и самовлюбленного, считавшего себя пупом земли. Вот о чем мечтал Джон Леннон и чего не мог себе позволить, поскольку образ Битла предполагал постоянную игру в милого мальчика, запутавшегося в бесконечной любовной мелодраме. И тогда он стал поступать так, как должен поступать любой серьезный художник, достойный этого имени, оказавшийся вынужденным работать в коммерческом окружении: начал обогащать свою работу элементами подлинного творчества.
Попытки Леннона насытить воркующую эстрадность поп-музыки неистовством рока отчетливо заметны в композиции «Any Time At All»99, одной из самых волнующих вещей того периода. Голос Леннона, поддерживаемый револьверными выстрелами барабанов, вылетал, будто пуля, заряженная страстью ритуальных танцев в отблесках огней, приближая его исполнение к манере Литтл Ричарда или Джеймса Брауна. Но огонь Леннона был холодным, поскольку сам он был порождением более холодной культуры, и тем не менее уже тогда в его самоопьяняющем голосе явно проступало подлинное исступление госпела.
Правда, Джон не сразу нашел верное решение, он неожиданно отказался от образа юного «мачо», вернувшись к маске «хорошего парня», и принялся обещать оставленной девушке, что вечно будет любить только ее, причем в своей первой попытке написать лирическую балладу – «If 1 Fell»100 – он заставил свой голос звучать так торжественно, что это звучание больше подошло бы для школьного гимна, чем для песни о любви. Но едва Джон нашел выход, обозначенный песней «Any Time At All», его голос снова зазвучал, подобно щелканью хлыста в воздухе. И вновь он ощутил экстаз танца у костра.
Из всех пластинок, записанных Ленноном вместе с «Битлз», «A Hard Day's Night» больше всего отражает состояние его души и является чуть ли не сольным альбомом. И если музыка этого диска не имела ничего общего с фильмом, который всего лишь воспроизвел привычный образ «великолепной четверки», она этому образу не противоречила: ведь огромный успех «Битлз» покоился на множестве выдуманных историй о четверке толстощеких парней из рабочих кварталов, которых любили как шаловливых, но невинных детей. Весь фильм – это рассказ об обыкновенных мальчишках, разыгравшихся и орущих не на сцене, как этого можно было бы ожидать, а на детской площадке, как это было изображено на знаменитой фотографии Дезо Хоффмана, где вся четверка разом дружно подпрыгивает.
Образ «Битлз» как бесполых и очаровательных детей пришелся по вкусу пуританскому миру англо-саксонских, в частности, американских родителей. Они сами бросились покупать своим отпрыскам билеты на премьеру «A Hard Day's Night», в точности повторяя историю с самым известным фильмом Элвиса – «Blue Hawaii»101, также признанным «семейной картиной». Но как бы ужаснулись эти добропорядочные мамаши и папаши, если бы узнали, какому разврату еженощно предавались «Битлз» в течение всего мирового турне этого года! Леннон окрестил его одним емким словом – «Сатирикон».
«Битлз» разработали целую систему, позволявшую им в течение долгих лет постоянно развлекаться с поклонницами: проведение этих операций было поручено трем абсолютно надежным сотрудникам, которые постоянно работали с группой. Главным ответственным за поставку девочек был здоровенный очкастый Мэл Эванс, руководитель бригады по установке аппаратуры. В своей книге «Битлз» в Южном полушарии" Гленн Э. Бейкер описывает это турне с большим юмором: «Мэл Эванс обладал выдающимся даром подбирать подходящих девочек. Обычно он просто тыкал пальцем: „Ты, и ты, и ты, ну ладно, и ты тоже“, после чего отобранных овечек загоняли в специальную комнату, откуда... Нил (Аспинал) осуществлял бесперебойную их подачу для удовлетворения плотских потребностей всех участников тура, подписавшихся на эту услугу».
Австралийский журналист Джим Орам, сопровождавший группу во время турне, добавляет: «Джон и Пол вели себя особенно отвязно. Они были просто ненасытны: совсем молоденькие и очень опытные, красавицы и дурнушки. Я прекрасно помню, как одна девица в Аделаиде поутру утащила домой простыню, на которой ее лишили девственности!» «Насколько я знаю, – вторит его коллега Боб Роджерс, – они ни разу не повторились. Они предпочитали довольствоваться кем попало, чем одной и той же красоткой дважды. В конце концов, пресытясь этими самками, чуть что падавшими на спину при виде ребят, они потеряли всякую чувствительность. Если бы так пошло и дальше, парни могли превратиться в гомосексуалистов – настолько им надоел традиционный секс. Поскольку в 1964 году еще не существовало противозачаточных пилюль, я просто уверен, что весь следующий год Австралию трясло от настоящего битловского бэби-бума».
Обмен партнершами, которым «Битлз» так увлекались еще в Гамбурге, продолжался и в Австралии. Гленн Э. Бейкер вспоминает, что «одна молодая девушка из Куинсленда, вышедшая позднее за видного биржевого воротилу и занявшая свое место среди столпов высшего общества в Сиднее, нередко устраивала приемы в шестидесятые годы, неизменно развлекая гостей подробным рассказом о том, как ей удалось переспать со всеми четырьмя „Битлз“ в течение одной ночи». Другой репортер рассказал автору настоящей книги о том, как однажды, когда он был занят с девушкой, «(кто-то) вошел в спальню и спросил, нет ли желающих познакомиться с Джоном Ленноном. Девушка выскользнула из-под меня так быстро, что какое-то время я еще продолжал отжиматься в пустоту». Исследования Бейкера показали, что словечко Джона «Сатирикон» намекало на нечто большее, чем просто сексуальное изобилие. «Они не были чужды всяческих извращений и отклонений. Начиная с Мельбурна, они стремились попробовать все, включая копрофилию».
Несмотря на строгое соблюдение музыкантами правила не повторяться, одной девушке все же удалось завоевать особое внимание Джона Леннона. Сегодня Дженни Ки – одна из самых модных художников-модельеров в Австралии, получившая в свое время международное признание за свои свитера в стиле «поп-арт». В 1964 году она была семнадцатилетней студенткой. Не отличаясь особой красотой, она тем не менее умела выглядеть неотразимо. «В тот вечер на мне был костюм из шотландки с отделкой из кожи, – со смехом вспоминает она, – а еще кожаные сапоги и большие круглые (солнечные) очки». Весь вечер Джон не мог оторвать от нее глаз, а когда стемнело, решился. "Джон кивнул мне и сказал: «Тебе, наверное, лучше остаться здесь», – продолжает она. На мгновение опешив, она воскликнула: «О! Вот это сюрприз!»
Дженни почувствовала большое облегчение, когда поняла, что Джон вовсе не собирался обойтись с ней дурно. «Это было не простое „Я тебя хочу“, – объясняет она, – скорее всего потому, что я была тогда наивной девочкой. Кажется, он вообще был вторым мужчиной в моей жизни. Он был очень, очень забавным. Мы прохохотали всю ночь. Я тогда носила контактные линзы и показала ему, как ими пользоваться. Он был очень чувствительным, и вовсе никаким не „мачо“... Он обхаживал меня. А я то расстегивала, то снова застегивала платье. Та еще школьница! По-моему, у него никогда раньше не было женщины-азиатки, и это его возбуждало. А из соседней комнаты всю ночь доносились какие-то вопли... Мне показалось, что там все хлестали друг друга плетьми. В какой-то момент я испугалась, поскольку ни за что на свете не позволила бы сделать с собой то же самое. С Джоном я была такой застенчивой! И должна сказать, ему это очень нравилось. Я была совсем не такой, как остальные поклонницы. Это вообще был мой первый выход в свет».
В тот день, когда «Битлз» покидали Австралию, сиднейский аэропорт был наводнен многотысячной толпой поклонников. Но Дженни Ки все же удалось пробиться к взлетной полосе, чтобы попрощаться.
В 1967 году Дженни Ки переехала жить в Лондон и однажды встретила там Леннона вместе с Синтией. Узнав свою восточную красавицу, Джон воскликнул: «О, я помню! Австралия, контактные линзы, грандиозная ночь!»
Вскоре после возвращения из южного полушария «Битлз» вновь оказались в Америке и отправились в свое первое турне по Соединенным Штатам. Если первый вояж был больше похож на каникулы, то в этот раз ребят ожидала тяжелая работа: они должны были проехать тысячи километров и в течение тридцати трех дней дать тридцать два концерта в двадцати четырех городах. И все это усугублялось атмосферой битломании, еще более подогретой после выхода на экраны фильма «A Hard Day's Night». К счастью, организацией турне занимался не Брайен Эпстайн, которому больше удавались супер-вечеринки, а небольшое, но вполне профессиональное агентство из Нью-Йорка под названием «Дженерал Артисте Корпорэйшн» (ДАК). Чтобы уменьшить проблемы, связанные с аэропортами, «Битлз» летали теперь на чартерном самолете «Локхид Электра», но даже и в два часа ночи там постоянно дежурила толпа крикливых юнцов. Чтобы скрыться от них, музыкантам приходилось бегом пересекать расстояние от трапа до встречавших автомобилей, находившихся под охраной полиции. Те гостиницы, которые решались принять у себя группу, должны были быть готовы к чему угодно. В Сиэтле «Битлз» нашли для себя идеальное убежище: они разместились в бетонной башне, расположенной в самом конце пирса и защищенной стометровой оградой с пропущенной поверху колючей проволокой. Знаменитых гостей доставили сюда на вертолете, приземлившемся на крыше.
Куда бы они ни поехали, в течение всего турне «Битлз» жили под строжайшим домашним арестом. Вставали они после полудня, обедали сэндвичами с сыром и беконом, запивали их чаем, затем читали британские газеты и переходили на виски-коку. Если мягкосердечному Джорджу приходила идея предложить остальным подойти к окну и поприветствовать фанов, Джон ворчал: «Если хочешь посмотреть на эту страну, лучше всего делать это из-за плеча полицейского!» Их без конца приглашали на различные торжественные церемонии, в ходе которых мэры неизменно вручали им ключи от города. А еще они давали пресс-конференции, на которых предавались игре словами, так полюбившейся журналистам:
«И чем же вы занимаетесь целый день у себя в номере?» «Играем в теннис, в водное поло или в прятки с охранниками».
«Ринго, почему вы получаете больше всех писем от поклонниц из Сиэтла?»
«Потому что большая их часть пишет мне». «А вам не хотелось бы пройти по улице так, чтобы никто вас не узнал?»
«Мы уже делали это, когда у нас в карманах не было денег. Это неинтересно».
Для того чтобы добраться до стадиона, требовалось изобретать уловки, достойные братьев Маркс. Музыкантов запихивали в грузовики, провонявшие рыбой, или в корзины для белья, перевозимого в прачечную. Каждый концерт был похож на предыдущий, как две капли воды. Десять – двадцать тысяч тинейджеров, сидящих как на иголках, с нетерпением ожидали окончания первого часового отделения. После хриплого Дасти Спрингфилда, «Билла Блэка энд Комбо» и очень посредственного Джеки Дишеннона (сначала в турне выступали гораздо более профессиональные «Райтеус Бразерс», но после пары концертов они бросили это дело, будучи не в силах вынести шума) на сцене под непрекращающийся рев публики появлялись «Битлз». Они исполняли дюжину песен, начиная с «Twist and Shout» и заканчивая «Long Tall Sally». Но с тем же успехом они могли возносить молитву Всевышнему или распевать похабные частушки – их все равно никто не слышал. Ринго рассказывал, что иногда они разом прекращали играть, и никто из зрителей этого не замечал. Даже новые стоваттные усилители были не в состоянии перекрыть шум толпы на огромных стадионах, где они выступали. Когда напряжение достигало апогея и возникала угроза того, что фаны прорвутся к сцене, организатор турне Эд Леффлер обращался к зрителям с просьбой успокоиться. Однако в Новом Орлеане он явно опоздал со своим обращением. 152 полицейских и 75 детективов из агентства Пинкертона, охранявшие подходы к сцене, были атакованы более чем семью сотнями юнцов. Одна девчушка перелетела через последний барьер, точно рыба, вылетевшая из воды, и в слезах приземлилась у ног Джорджа Харрисона. Тогда в дело вмешалась конная полиция, которой удалось усмирить взбесившуюся толпу, при этом они опрокинули несколько кресел-каталок с юными инвалидами, приехавшими на концерт. А «Битлз» на протяжении всего сражения продолжали играть. Время от времени Джон наклонялся вперед и спрашивал: «Ну и кто сейчас побеждает?»
Труднее всего для «Битлз» было вовремя убежать после концерта. В Торонто какой-то шутник проколол колеса их автобуса. Тогда их посадили в «скорую помощь», набитую алкашами. Но стоило ей тронуться с места, включив сирену, как она врезалась в грузовичок. В конце концов на помощь «Битлз» пришел какой-то сознательный гражданин, проезжавший мимо. В Атлантик-Сити «ливерпульским мальчикам» пришлось пробираться к пирсу и садиться в лодку, которая доставила их на плавучий госпиталь, где им предстояло укрыться. Тем не менее в Америке они ни разу не подвергались настоящей опасности, как это случилось в Новой Зеландии, где фаны запрыгнули на крышу лимузина, едва не раздавив «Битлз», словно сардин в банке.
Что касается секса, то с этим в Штатах было потруднее; даже такая звезда, как Чак Берри, подвергся здесь аресту за нарушение законодательства, воспрещающего торговлю женщинами. Выходом из положения стала организация вечеринок, на которые для «Битлз» приглашали проституток, девиц из шоу-бизнеса или каких-нибудь знаменитостей. После короткого соблюдения приличий каждый из «Битлз» выбирал себе двух-трех приглянувшихся девушек и удалялся с ними к себе в номер. Такая система пользовалась успехом в течение всех трех лет, пока «Битлз» ездили с турне по Соединенным Штатам, за исключением одного случая, произошедшего в Миннеаполисе в 1965 году. Ребята, поставлявшие для «Битлз» девиц, заполонили весь отель поклонницами, две из которых приставали ко всем, кто попадался под руку, стараясь добраться до «великолепной четверки». А когда на следующее утро девушки проснулись, они выбежали в коридор в чем мать родила и завопили: «Насилуют!» Нагрянувшая полиция принялась обыскивать номера, выуживая всех незарегистрированных девиц. Пол Маккартни отказался впустить полицейских. Под угрозой ареста он все же открыл дверь и выставил юную блондинку, с которой провел ночь. Эду Леффлеру удалось замять эту историю, но лишь после того, как один полицейский инспектор заявил журналистам: «На моей памяти эти люди – худшие из всех, когда-либо приезжавших в наш город». Девица, которую выудили из номера Пола, предъявила удостоверение личности, из которого следовало, что ей был двадцать один год. Однако инспектор сказал прессе: «Лично я сомневаюсь, что ей больше шестнадцати».
Джеральдина Смит, впоследствии снимавшаяся у Энди Уорхолла, вспоминает, как за девять дней до инцидента в Миннеаполисе ее, четырнадцатилетнюю девчонку, подобрала на Макдугал-стрит в Нью-Йорке некая эффектная блондинка по имени Франческа Оверман, бывшая в то время подружкой Билла Уаймана (из «Роллинг Стоунз»). Франческа спросила, не хочет ли Джеральдина познакомиться с «Битлз», и она даже не поверила своему счастью. В обществе еще нескольких девушек и репортера из «Нью-Йорк Пост» Эла Ароновица она добралась до отеля «Уорвик», а еще через несколько минут Джеральдина уже сидела в компании «Битлз». После ужина играли в бутылочку. Когда стали расходиться по номерам, кто-то спросил ее, с кем бы она хотела провести ночь – с Полом или Джоном. Девушка заявила, что она еще девственница. Но если бы вместо «нет» Джеральдина ответила «да», наутро Джон Леннон или Пол Маккартни вполне могли угодить в кутузку по обвинению в изнасиловании малолетней.
Во время первого летнего турне по Америке наиболее грандиозное впечатление осталось у них от полета на вертолете к теннисному стадиону «Форест Хиллз». Когда вертолет начал снижаться, арена озарилась вспышками фотоаппаратов и стала похожа на гигантскую чашу, полную светлячков. «Они похожи на богов! – закричал Брайен Эпстайн своему приятелю Джеффри Эллису. – Завтра они смогут спуститься в Перу или в Индии!» Брайену бы следовало направить вместе с «Битлз» группу кинематографистов, наподобие того, как «Ди-Оу-Эй» незабываемо засняли на пленку группу «Секс Пистолз» во время их шокирующего турне по Штатам. Одной из лучших сцен «Турне „Битлз“ 1964 года», несомненно, стал бы именно этот вечер, когда, вернувшись после концерта в отель, они открыли на стук и оказались нос к носу с Бобом Диланом.
В то время «Битлз» еще недостаточно хорошо знали Дилана, ставшего уже легендой в Америке. Впервые они купили его пластинки, когда выступали в Париже, причем, если верить американскому журналисту Питу Хэмиллу, первая реакция Джона Леннона была резко негативной. Хэмилл встречался с «Битлз» за два месяца до американского турне.
"Джон Леннон пришел (в «Ад Либ») вместе с Брайеном Эпстайном и сел рядом со мной. Ароновиц стал уговаривать их послушать Дилана, и Маккартни закивал, а Мик Джаггер поднялся и пошел танцевать с какой-то блондинкой, на которой было слишком много косметики. «Да пошел этот Дилан, – сказал Леннон. – Мы играем рок-н-ролл». «Нет, Джон, послушай его, – возразил Ароновиц. – Он тоже играет рок-н-ролл, он то, чем скоро станет рок-н-ролл. Послушай».
Губы Леннона вытянулись в подобие улыбки: «Дилан, Дилан! Давай лучше Чака Берри, Литтл Ричарда, а не это фольклорно-интеллектуальное дерьмо. Дерьмо».
И вот теперь Джон оказался лицом к лицу с тем самым Диланом, который выглядел таким же потерянным, как и на обложке своего первого альбома. Пока Леннон молча и пристально всматривался в того, в ком инстинктивно почувствовал опасного соперника, Брайен спросил у Дилана, что он будет пить. «Какое-нибудь дешевое винцо», – ответил Дилан. А когда «Битлз» предложили ему отведать колес, он состроил гримасу. «Может, лучше забьем косяка?» – предложил он. Ребята признались ему, что никогда не пробовали марихуану (в Англии легче было достать гашиш, чем травку). Дилан остолбенел. «А как же твоя песня, – спросил он, – где ты поешь про то, чтобы заторчать?»
«Какая песня?» – озадаченно спросил Джон. В ответ Дилан запел «I Want То Hold Your Hand» в том месте, где идет знаменитый подъем на октаву: «I get high! I get high! I get high!»
«Там другие слова!» – воскликнул Джон. Он объяснил, о чем на самом деле поется в песне, чем совершенно огорошил Дилана, поскольку тот ни разу еще не слышал, чтобы парень прятался102 от девушки, которая его заводит.
Боб свернул гигантский косяк и протянул Леннону, который тут же переадресовал его Ринго, объяснив: «Мой королевский дегустатор!» Ринго докурил самокрутку, совершенно окосел и все время смеялся. С этого дня «Битлз» курили марихуану с утра и до ночи.
В то время как их самолет бороздил американское небо с севера на юг с многочисленными остановками на Среднем Западе, «Битлз» надоело играть в узников. Особенно раздражали Джона пронырливые мамаши, которым удавалось проникнуть вместе со своими дочурками в номера к музыкантам еще до того, как они отрывали головы от подушек. Однажды в Лас-Вегасе ему таким образом представили «дочь Доналда O'Коннора». Джон мрачно взглянул на девочку и сказал: «Я приношу вам мои соболезнования». – «Какие соболезнования?» – изумилась юная поклонница. – «Да насчет вашего отца. Только что по радио сообщили, что он умер». Девчушка принялась кричать и устроила такую истерику, что пришлось вколоть ей успокоительного и вызвать «скорую помощь». «Слабачье», – прокомментировал сквозь зубы Джон.
А чуть позже, в тот же день Джон осуществил свою заветную мечту. Он одолжил куртку у гостиничного служащего и добрался на грузовике до здания «Дезерт Инн», куда удалился на покой Говард Хыоз. Устремив свой взгляд на окна на последнем этаже, скрытые за глухими шторами, не пропускавшими внутрь ни капли света, Джон вздохнул: «Вот что бы мне подошло! Место, где можно остаться навсегда, вместо того чтобы без конца приходить и уходить. Тайный уголок, где никто не смог бы меня достать».
Турне закончилось 20 сентября – в этот день «Битлз» приняли участие в благотворительном шоу в пользу Фонда по борьбе с церебральным параличом, причем с их стороны это был совершенно неожиданный жест, поскольку музыканты поклялись никогда не выступать бесплатно. Но пора было возвращаться в Англию. К этому времени ярость Леннона, направленная против американской прессы и публики, достигла интенсивности лазерного луча. Дерек Тейлор, представитель «Битлз» по связям с общественностью, красноречиво описал сцену, разыгравшуюся в отеле «Дельмонико» после традиционной бессонной ночи, когда поутру обалдевшие от наркотиков представители журналистского корпуса уселись в круг, а Джон Леннон начал на чем свет стоит поливать свою свиту, а заодно и битломанию.
Глава 19 Толстый Элвис
1965-й стал для «Битлз» годом, когда им все сходило с рук. Что бы они ни делали, публика все встречала на ура. Джон Леннон был убежден, что они не сделали ничего хорошего. Он был в полном отчаянии. Вместо того чтобы, как и раньше, самовыражаться без каких-либо ограничений, он был обречен на то, чтобы поступать так, как того ждала от него публика. Давление стало особо ощутимым во время съемок фильма «Help!», так как в этом бестолковом фарсе «Битлз» отводилась роль марионеток. Кроме того, их заставили включить в саундтрек картины несколько старых мелодий в стиле кантри. Джон считал этот альбом худшим за всю карьеру «Битлз». «Мы не имели возможности контролировать съемки фильма, – горько жаловался он, – да и музыку мы тоже не контролировали». Так что когда Джон закричал «Помогите!», он не шутил.
Но Джона пугала потеря контроля не столько над «Битлз», сколько над собственной жизнью. Чтобы добиться успеха, он в свое время нацепил маску Битла Джона и теперь не мог от нее отделаться. Он попал во власть определенного образа и был обязан ему соответствовать. Он испугался того, что потерял даже способность вести себя иначе. Всю оставшуюся жизнь Леннон подчеркивал, что это время было худшим в его карьере. Это был его период «толстого Элвиса»: лицо округлилось и стало напоминать японскую деревянную статуэтку, а обозначившийся живот не
Джон Леннон – а он нарушил все табу, какие только существовали в звездном мире, – он так и не сумел отделаться от прилепившегося к нему образа.
Кстати, Джон первым признал существование этого печального феномена. Ему, словно психологу в лаборатории, нравилось ставить опыты. Если он оказывался где-нибудь на публике в обществе друга, например, Пита Шоттона и нарывался на какую-нибудь матрону среднего возраста из среднего класса, которая немедленно принималась кричать: «Битл Джон!», он поворачивался к приятелю и говорил: «Смотри!» Затем устремлял на женщину презрительный взгляд и начинал издеваться: «Ах ты глупая старая корова! И тебе не стыдно? В твоем-то возрасте! И так вести себя в людном месте! Какого хрена ты себе позволяешь!» Ни одна из этих дам не обращала внимания на то, что он говорил.
Кризис, который охватил Леннона, можно объяснить еще и тем, что он был совершенно не готов к такому успеху. В отличие от эстрадных певцов прежних лет, которые полжизни карабкались к славе, Джон Леннон проснулся однажды утром, оказавшись сразу на самой вершине, причем это случилось с ним в том возрасте, когда другие едва успевали закончить школу. Как и многие из тех, кто бросается вперед, глядя лишь под ноги, он никогда не задумывался о том, что же будет делать, когда добьется своего. Легко представить себе его шок, когда в один прекрасный день он взглянул с достигнутой высоты на землю и сообразил, что этот вид вовсе не стоил принесенных жертв. Будучи человеком, подверженным мгновенному отчаянию, Джон тут же вошел в «штопор». Тогда, раз и навсегда, он определил модель всей своей будущей жизни – от влюбленности до разочарования.
По иронии судьбы личная встреча с Пресли состоялась у Джона именно в тот период, когда Леннон сам был «толстым Элвисом». «Ливерпульские мальчики» ожидали этого момента со своего первого турне по Америке. «Но где же Элвис?» – спросил Джон после того, как Эд Салливан прочел знаменитую телеграмму полковника Паркера. В течение целого года они постоянно с усмешкой повторяли этот вопрос. Но как бы ни хотел полковник Паркер объединить свою угасающую звезду с парнями Брайена Эпстайна, Элвис, напротив, всеми силами стремился этого избежать. Тем могли скрыть даже костюмы от Кардена. Причиной такого превращения стало питание: сэндвичи с сыром и беконом, за которыми сразу шел бифштекс с жареной картошкой, и все это обильно запивалось виски с кока-колой. Но Джон рассматривал физическую деградацию как отражение деградации моральной. Он потерял свой путь, свою гордость, удовлетворение от работы, но прежде всего он потерял душу. Не только внешность, но и общее его состояние напоминало историю Элвиса. Точно так же, как и его давешний кумир, мужественный молодой рокер-бунтарь уступил место жирному клоуну.
Этот внутренний кризис можно проследить по автобиографическим песням, которые Джон начал писать в 1965 году. Песня «I'm a Loser»103 раскрывает тот факт, что образ Джона не имел ничего общего с реальностью, оставаясь маской, которую надел на себя угрюмый и сердитый человек. «Help!» передает контраст между той легкой жизнью, которая была у него в годы борьбы за выживание и теми непреодолимыми трудностями, с которыми он столкнулся, став звездой. И наконец песня «Nowhere Man»104 рисует острую картину падения, сопровождающего успех.
Эти песни слушал весь мир, но никто не услышал, о чем в них пелось. Джон Леннон – неудачник? Подобные мысли никому в голову не приходили. Человек, преуспевший в шоу-бизнесе сверх любых мечтаний, не мог звать на помощь и твердить, что не понимает, куда попал. Даже самые внимательные слушатели не улавливали истинного смысла его слов. Но в этом не было ничего удивительного, ибо .непонимание – неотъемлемая часть процесса обожествления «Битлз» в глазах слушателей.
Все разговоры о роли «Битлз» в пробуждении сознания своего поколения безосновательны, публика успешно наделила их своими фантазиями, не вняв музыкантам, которые пытались навязать миру собственные идеи. Такова ирония судьбы многих звезд. Идолы поп-музыки редко сами владеют инициативой общения или создают какое-либо движение, они – кристаллизаторы массовой истерии, выявители коллективного бессознательного. И стоит лишь приоткрыть этот клапан, поток захватывает и их самих, превращая в узников собственных образов. Даже если они пытаются восстать против тирании навязываемых клише и ведут себя вызывающе, это им успеха не приносит. И что бы ни делал не менее вечером 27 августа 1965 года он очутился лицом к лицу с «Битлз».
Когда «великолепная четверка» въехала на автостоянку перед домом Элвиса, возвышавшимся как раз над сказочными просторами гольф-клуба «Бель Эйр», они страшно удивились, увидев толпу фанов, с трудом сдерживаемую отрядом местной полиции. Кто мог распустить слух об этом сверхсекретном рандеву? Король, как обычно, принимал своих придворных в зале с музыкальными автоматами.
«О, вот ты где!» – с нарочитой небрежностью воскликнул Джон, подойдя к Великому Толстяку.
Элвис, удобно развалившийся на софе, был одет в свое голливудское облачение: красную рубашку, черную ветровку и серые обтягивающие брюки. Полковник, потрясая тройным подбородком, совершил церемонию официального представления, и все сели. Джон и Пол оказались по правую руку от Элвиса, Джордж и Ринго – по левую. Воцарилось молчание. Элвис, который был вовсе не в восторге от встречи с этими «сукиными детьми», которые заняли его место на троне, не собирался делать первый шаг. «Битлз», со своей стороны, считали, что первое слово по праву должно принадлежать более старшему. Наконец Король Мечты не выдержал: «Если вы, ребята, собираетесь сидеть тут всю ночь, уставившись на меня и не говоря ни слова, я лучше пойду спать!»
Лед был сломан, но стоило Леннону начать беседу с кумиром своей юности, как он тут же допустил потрясающий ляп. Джон посоветовал Элвису вернуться к тому стилю, который был присущ его старым пластинкам. Для Пресли это было равносильно пощечине. Это означало, что «Битлз» воспринимали его потрясающую карьеру как сплошное долгое падение. У Джона создалось впечатление, что Элвис не просто остолбенел, а вообще отключился.
После того как попытка оживить мертвеца обернулась неудачей, ребята снова залезли в свой лимузин. Когда автомобиль мягко тронулся с места, Джон обернулся и посмотрел на остальных. «Но где же Элвис?» – воскликнул он скользящим вверх, точно водяной жук, голосом.
После «Help!» Джон Леннон записал песню «You 've Got To Hide Your Love Away», которая была чистым подражанием Бобу Дилану, не дотягивая при этом по качеству до образца. Его антипатия к американскому певцу сменилась искренним восхищением. Теперь он слушал его музыку день и ночь. Боб поразил Джона еще и тем, что, совершив убийство, сумел отвертеться от тюрьмы. Вместо того чтобы стараться понравиться, распевая протухшие хиты чистеньким голоском, прерываемым разными охами и вздохами, этот «маленький еврей» носил то, что ему нравилось, писал кошмарные вещи и издевался в своих песнях над девчонками так, как Джон мог позволить себе только в очень узком кругу. Вместо слащавого «Я хочу держать тебя за руку» Дилан скорее, не колеблясь, рявкнул бы «Я хочу спалить твою руку». И хотя как звезда он не достиг уровня «Битлз», ему по крайней мере не требовалось делиться с другими ни славой, ни деньгами. И тогда Джон начал задумываться о том, что из битломании, возможно, есть выход: путь, указанный Бобби Циммерманом.
Новое направление, в котором стал развиваться Леннон, ознаменовали песни, написанные им для альбома «Rubber Soul»105. «Битлз» всегда относились к американской поп-музыке, как к игре в шашки с ярко раскрашенными фишками, которые они могли передвигать в любом направлении, поскольку эта игра была для них чужой. Теперь «Битлз» сделали следующий шаг на пути своего развития и начали писать замечательные по стилю пародии на эту легко сочиняемую и полностью предсказуемую музыку. Они воспользовались популярным звучанием фирмы «Тамла/Мотаун», которое приблизило их музыку к отправной точке, а именно к ритм-энд-блюзу, не втравливая их при этом в неравное состязание с негритянской музыкой.
Лучшим вкладом Джона Леннона в этот альбом стала песня «Norwegian Wood»106 – в высшей степени оригинальная композиция, автором которой мог быть только он, и никто другой. В то время как так называемые умники британского попа – Брайен Джонс и Мик Джаггер изображали из себя плохих мальчиков, воюющих с цензурой звукозаписывающих компаний, Леннон использовал новые возможности поп-музыки с серьезностью настоящего художника. В своих песнях он дал анализ новой жизни, с которой столкнулся в среде продвинутых обитателей Лондона. Если, сочиняя песню «Drive My Car»107, он думал об исключительно воинственных и самовлюбленных женщинах, которых встречал в Лос-Анджелесе, то в «Norwegian Wood» дал портрет раскрепощенной женщины из тех, что попадались ему в современных лондонских офисах и на дискотеках.
«Norwegian Wood» – так назывался популярный в Англии и неизвестный в Америке стиль домашнего дизайна, который характеризовался широким использованием мебели из массива сосны. Леннон рассказал историю о том, как девушка познакомилась с молодым человеком и привела его к себе домой в квартиру, обставленную в стиле «Norwegian Wood», но мебели было так мало, что она предложила ему сесть на пол, затем угостила вином и стала вести себя так, как обычно в таких ситуациях ведут себя мужчины. Наконец, когда по ее разумению подошло время, она небрежно сообщила ему, что пора в постель. Но вместо того чтобы поступать, как ему велят, парень проводит ночь в ванной комнате. Вместо обычной картины, когда девушка просыпается утром и видит, что любовник ушел, у Леннона все наоборот: просыпается парень и обнаруживает, что девушка ушла – на работу! Тогда он разжигает огонь в камине и размышляет о том, как же хороша «Норвежская мебель», иными словами, насколько лучше жить в мире, где женщины чувствуют себя свободными и независимыми, чем в старом мире, где мужчины несут за них ответственность.
Когда Джон Леннон закончил запись «Norwegian Wood», он перестал быть Битлом Джоном, Человеком в маске из надувной жевательной резинки. Теперь в нем можно было признать новатора, который сделал больше, чем кто-либо другой, для того чтобы превратить рок-музыку пятидесятых в рок-музыку шестидесятых. Взяв на вооружение остроумную тактику музыкальной пародии, он окончательно порвал с роковыми традициями и приблизился к умному и рафинированному стилю Ноэля Коуарда, который вскоре стал одним из его любимых музыкантов.
Двойственный подход Леннона к пародии, лиричный и в то же время критический, характерен для его двойственной натуры. Вообще-то он писал пародии еще со школьной скамьи. В замечательных прозаических произведениях «In His Own Write» (1964) и «A Spaniard in the Works»108 (1965) Джон обращается к детским сказкам или газетным историям, превращая их в мрачные шутки, бесконечно играя словами. Приняв вызов журналиста Кеннета Элкотта, который спросил у Джона, почему он не использовал свою склонность играть словами при сочинении песен, Леннон, начиная с этого момента, приложил все усилия, чтобы как можно скорее засыпать ту пропасть, которая отделяла его музыку от того, чем был он сам. Звучит парадоксально, но только перейдя к изложению своих двойственных сюжетов и непрерывно пользуясь двусмысленностями, Джон сумел наконец выразить себя.
Успехи Джона Леннона ничуть не противоречили успехам группы в целом. Удивительно, но чем больше «Битлз» насмехались над американской негритянской музыкой, которая к тому времени вступила в этап «соул», тем больше схватывали ее подлинную сущность. Ни одна из прочих пластинок «великолепной четверки» не передает с такой точностью чувственность ритм-энд-блюза, как сторона "А" диска «Rubber Soul».
Питер Браун считал, что секрет вновь обретенной чувственности «Битлз» заключался в круглосуточном употреблении марихуаны и что именно ее действие помогло музыкантам освободиться от скованности. Но дело было не в этом. К примеру, двадцатичетырехлетний Пол Маккартни достиг к этому времени такой музыкальной зрелости, что уже мог себе позволить соперничать в игре на бас-гитаре с негритянскими исполнителями.
Когда в декабре 1965 года «Rubber Soul» попал на прилавки магазинов, он завоевал для «Битлз» много новых поклонников. Зрелые любители музыки в Америке, которые прежде игнорировали группу, считая ее очередной тинейджерской сенсацией-однодневкой, встали в стойку. Они учуяли свежее дуновение с берегов Мерсисайда. Для тех же, кто пристально следил за карьерой «Битлз», последний альбом был интересен тем, что явился подтверждением серьезного прогресса группы. Если в начале пути они были вынуждены продавать себя, чтобы добиться успеха, то теперь использовали свой успех, чтобы переступить через навязанные им образы. Благодаря глубокому знанию поп-музыки, исключительному опыту композиторов-текстовиков и возрастающему мастерству как исполнения, так и звукозаписи, «Битлз» были готовы к строительству сверкающего сооружения под названием «шестидесятые годы».
Глава 20 Домашний битл
Частная жизнь Джона Леннона в годы, когда слава «Битлз» достигла своей вершины, проходила в Кенвуде – большом доме с вычурной архитектурой, расположенном в часе езды к югу от Лондона возле деревни Вейбридж. Для человека, который с презрением относился к буржуазной претенциозности и заявлял, что «хочет жить как все», этот выбор был поистине странным. Это сооружение, расположенное на вершине лесистого холма, являвшегося частью имения Сент-Джорджес Хилл, обитатели которого неизменно играли по субботам партию в гольф перед тем, как отправиться в «Кантри-клуб», вызывало у Леннона неприятные ассоциации с детскими годами, проведенными в Аллертоне. Два года спустя после того как Джон приобрел дом за двадцать тысяч фунтов, а потом потратил еще сорок тысяч на отделку и установку бассейна с подогревом, он заявил журналистам: «Вейбридж мне совсем не нравится. Для меня это просто остановка, как остановка автобуса... Когда я решу, чего в действительности хочу, у меня появится настоящий дом». Тогда зачем же он купил его? Последовал совету своих не очень умных консультантов, которые предложили ему инвестировать в недвижимость, с тем чтобы платить меньше налогов, а затем указали в направлении графства Суррей.
Сделка была заключена в июле 1964 года, накануне первого турне «Битлз» по Соединенным Штатам. Именно во время пышного приема, который устроил Брайен, чтобы отметить это событие, Джон и сделал свой первый шаг к строительству той пирамиды, в которой в конце концов он и похоронил себя живьем. Восхищаясь тем, как был перестроен новый дом Брайена, с его высокими французскими окнами и шикарной мебелью, Джон познакомился с Кеном Партриджем, художником-декоратором, который работал у Брайена. «Все это сделали вы? – спросил он у Кена своим необычно мягким голосом а-ля Борис Карлофф, которым умел разговаривать, когда хотел кому-то польстить. – Это вы – Кен Партридж? А вы можете отделать дом?» И прежде чем Партридж смог что-либо ответить, продолжил: «Мы только что купили дом. – Он повернулся к Синтии: – Подскажи, где?» – «По-моему, в Санбери», – вяло ответила Синтия.
Не узнав больше ничего, кроме того, что в доме двадцать семь маленьких комнат, Партридж вернулся в мастерскую и просидел всю ночь над составлением планов, которые на следующее утро показал Джону и Синтии, перед тем как они отправились в аэропорт. Джон быстро просмотрел чертежи. Проект ему понравился, и Партридж получил добро на то, чтобы начать работу по полной реконструкции. В течение девяти следующих месяцев семейство Леннонов ютилось на чердаке, в то время как остальная часть дома превратилась в ужасную, шумную и грязную стройплощадку.
Будучи предоставленным самому себе, Партридж собрался отделать Кенвуд в соответствии с собственными представлениями о том, как должна жить поп-звезда. Таким образом, необщительный Леннон стал обладателем большого числа гостиных, предназначенных для бесконечных вечеринок; человек, бичевавший себя за то, что превратился в «толстого Битла», обрел кухню и столовую, которые были достойны истинного гурмана. Но главное – стиль дома был разработан согласно потребностям одинокого мужчины среднего возраста вроде Брайена Эпстайна.
Джон нашел единственную возможность как-то участвовать в отделке жилища: он ходил по дому, точно ошалевшая птица, которая пытается отыскать свое гнездо. В темном, обшитом деревянными панелями холле прихожей, уставленном от пола до потолка книгами, которых он никогда не читал, Леннон поставил рыцарские латы с головой гориллы, которая держала во рту перевернутую трубку. А огромный камин в гостиной? Это же лучшее место для установки только что появившейся в продаже первой модели цветного телевизора, потому что смотреть телевизор, особенно так, как это делал он, – без звука, по его мнению, было все равно что созерцать огонь.
То, что Джон не мог переделать, он попросту раздаривал. На стенах столовой, задрапированных сиреневой тканью, Партридж развесил натюрморты XVIII века в рамах медного цвета с тонкой серебряной насечкой. Когда кто-то восхитился этими картинами, Джон воскликнул: «Да заберите их себе! Это такое дерьмо!» (А стоили они несколько тысяч фунтов.) И хотя кухня считалась владением Синтии, она чувствовала себя здесь совершенно потерянной. Кухня была настолько современной, что в ней даже отсутствовала плита. Синтия никак не могла разобраться со всей этой ультрамодной аппаратурой, так что пришлось даже вызвать специалиста из Лондона, чтобы объяснить ей, как нажимать на кнопки и устанавливать циферблаты. Но так или иначе все эти приборы оказались совершенно бесполезны, поскольку Ленноны никогда никого не принимали и питались очень простой пищей. А Джон вскоре вообще стал вегетарианцем.
Джон и Синтия жили в Кенвуде, словно дворецкий и горничная в отсутствие хозяев. Они переселились в одну из задних комнат и напрочь игнорировали остальные помещения. Сзади кухни была небольшая веранда, и именно здесь обосновался Леннон. Он расставил по полкам сувениры, украсил стены фотографиями «Битлз», убрал из комнаты всю мебель, за исключением пианино, которое принадлежало его матери, и слишком короткого для него дивана в стиле королевы Анны, на котором он и валялся целыми днями, положив голову на стопку подушек и свесив ноги. Угольная печь приветливо потрескивала, кошка Мими пристраивалась рядом, свернувшись калачиком на пледе, и Джон погружался в свои детские воспоминания.
Когда в сентябре 1965 года «Битлз» закончили турне, гастрольные поездки вообще сидели у них в печенках. Но если остальные участники группы расценили перерыв, как передышку, для Джона это была катастрофа. Стоило ему сойти с накатанных рельсов безумного ритма работы, как он впал в состояние зомби, ушел в себя и почти погрузился в летаргический сон.
Он вылезал из своей восьмифутовой квадратной кровати не раньше трех часов дня, спускался в кухню, где экономка готовила ему завтрак, который состоял из густо покрытых сахаром хлопьев, которые выпускали в Америке для маленьких детей. Шумно жуя и с удовольствием облизываясь, он вел себя, точно ни в чем не отдающий себе отчета затворник. После завтрака Джон отправлялся на залитую солнцем веранду и падал на диван. Если ему и доводилось время от времени просматривать газеты, то большую часть времени он проводил, уставившись в телевизор, у которого, по обыкновению, выключал звук; он смотрел его, пока снова не засыпал.
Неутолимая потребность Джона во сне лишний раз показывала, насколько он был истощен. После нескольких лет круглосуточного рок-н-ролла, амфетаминов, внезапных переездов, не говоря уж о постоянно сдерживаемой ярости и ночных оргиях, Леннон действительно дошел до предела. Джон написал потрясающую песню о своей летаргической жизни, которую назвал «I'm Only Sleeping»109. Грустная мелодия, навевающая воспоминания о годах Великой депрессии, поднимается и опускается, скользя по смутной гамме ми-бемоль-минор, прекрасно передавая сумрачное, чувственное и подвешенное состояние, которым автор был обязан в равной мере сильной усталости и наркотикам.
Великая Летаргия Леннона, растянувшаяся на недели, а затем на месяцы, вдохновила Морин Клив назвать Джона «самым ленивым человеком в Англии», и она попала в точку, ибо первым вопросом, который задал Джон, услышав в телефонной трубке ее голос, был: «А какой сегодня день?»Вскоре стало ясно, что состояние оцепенения исходило вовсе не от постоянной борьбы с усталостью; Джон страдал от скуки и депрессии. В отличие от остальных Битлов, у которых были в жизни и другие интересы, у него таковых не водилось, за исключением шатаний по окрестностям в обществе Ринго или Джорджа, которые жили неподалеку.
Когда Джон переехал в Сент-Джорджес Хилл Истейтс, Ринго последовал за ним и обосновался со своей женой Морин, парикмахершей из Ливерпуля, и сыном Заком в доме, расположенном у подножия холма. Джордж со своей подружкой, молодой манекенщицей Патти Бойд, тоже поселился неподалеку, в Эшере, где у него была вилла, выкрашенная в белый цвет. Самое странное жилье избрал себе Пол, который отказался последовать за своим лидером в этот уголок, где проживали многие деловые люди из Лондонского Сити. Познакомившись с совсем юной актрисой с морковными волосами Джейн Эшер (дочерью известного врача-психиатра с Харлей-стрит), Пол переехал в мансарду дома Эшеров на Уимпол-стрит. Это была совсем маленькая комнатушка, в которой практически все пространство было занято узкой односпальной кроватью и платяным шкафом. На этажерке были выставлены два рисунка Жана Кокто из серии «Опиум», томик Альфреда Жарри и несколько гитарных медиаторов.
Влияние, которое Эшеры оказывали на Пола, а следовательно, и на всех «Битлз», было огромным. Это была образованная семья среднего достатка, все члены которой живо интересовались искусством. Именно они сумели пробудить у Пола интерес к классической музыке и авангарду, что в конечном счете привело «Битлз» к отходу от поп-рока в пользу поднимающейся волны арт-рока.
В то время как Пол насыщался культурой, посещая лондонские театры, кино– и концертные залы, а также художественные галереи, единственным развлечением Джона было покупать себе дорогие игрушки и встречаться с друзьями детства. Во время одного из редких приливов необыкновенной щедрости он купил Питу Шоттону половину акций небольшого супермаркета, расположенного в часе езды от Вейбриджа. В благодарность Пит должен был каждую неделю уезжать на уик-энд из дома и проводить пару дней с Джоном. Они запирались в одном из кабинетов и погружались в наркотический дурман, вдали от женщин и криков Джулиана. Позднее, когда все в доме укладывались спать,они поднимались на чердак, где Джон держал свои игрушки, среди которых было много настольных игр и маленьких электрических машинок.
После того как в 1965 году Леннон получил права, друзья иногда отправлялись покататься на черном «феррари» Джона. Машиной Джон управлял так, словно это был детский автомобильчик: он нажимал на газ и крутил руль, но не любил тормозить и так и не научился переключать скорость. Что он действительно любил, так это ощущение, испытываемое при столкновениях, но насладиться им ему довелось лишь однажды. Как-то раз, во время съемок «Help!» на Багамах, все четверо «Битлз» сели каждый в свой «кадиллак» и поехали в заброшенный карьер, где принялись гонять друг за другом до тех пор, пока автомобили не превратились в куски железа.
Обычно Джон доверял руль своему здоровенному шоферу Лесу Энтони, бывшему валлийскому гвардейцу, который был при нем и водителем, и телохранителем. Лес оставался у Джона в течение семи лет, поскольку Леннон на собственном опыте убедился, как трудно найти надежного человека. Сначала, когда еще ни у него, ни у Синтии не было прав, Джон купил черно-бордовый подержанный «роллс-ройс» и нанял шофера, даже не спросив о рекомендациях. Тот, быстро сообразив, что имеет дело с новичками, попросил разрешения пользоваться автомобилем в нерабочее время. Он фактически жил в «роллсе», точно цыган в грузовичке, и если бы кто-то из соседей не открыл Джону глаза, Леннон еще долго бы жаловался на застоялый запах пива и сигарет в салоне, не говоря уж о подозрительных пятнах на сиденьях лимузина.
Следующий водитель притащил за собой жену, которая стала работать поварихой. Однако они быстро разобрались во взаимоотношениях семейной пары, и когда хозяин бывал в отъезде, кормили Синтию и Джулиана не поймешь чем, а сами ели и пили за двоих.
В конце концов Синтия нашла идеальную горничную в лице местной жительницы Дот Джэрлетт, единственной потребностью которой было чтобы кто-либо нуждался в ее услугах.
Синтия захотела, чтобы и ее мать переехала к ней в уединенное жилище в Вейбридже. И хотя эта властная женщина, будучи врагом всей мужской половины человечества, сослужила Джону хорошую службу, освободив его от обязанности оказывать внимание жене, она превратила его семейную жизнь в бесконечный кошмар. Она относилась к своему знаменитому зятю, как к дегенеративному тедди-бою, ни на что не способному бездельнику, день и ночь болтающемуся по дому. Джон платил ей той же монетой. В течение многих лет они не переставали враждовать, избегая прямых столкновений, так что их взаимная неприязнь невольно выливалась на Синтию.
Что же касается еще одного обитателя Кенвуда, маленького Джулиана, то все женщины, которые ухаживали за ним, находили его дружелюбным, умным и очень самоуверенным, если не сказать тираном. Так же, как и его отец, он обожал играть словами и созвучиями. Однажды он принес из школы акварельный рисунок, на котором была изображена светловолосая девочка на фоне звезд, и назвал его «Lucy in the sky»110. Поскольку Синтия не участвовала в воспитании сына, он нередко, подражая отцу, относился к ней пренебрежительно, называл «идиоткой» или кричал ей: «Заткнись!» Зато в присутствии отца мальчик вел себя очень тихо.
Джон не любил детей; сохранив в собственной душе слишком много детского, он не терпел соперников. Когда Джулиан подходил к нему с какой-нибудь просьбой, Леннон окидывал сына угрожающим взглядом и цедил сквозь зубы: «Нет! Я не буду чинить твой велосипед, выкручивайся сам, Джулиан!» Перепуганный ребенок замыкался и уходил, втянув голову в плечи, – вскоре такое поведение в присутствии отца стало для ребенка привычным. Совершенно не отдавая себе отчета в том, что всему причиной он сам, Джон пришел к выводу, что его сын не совсем нормальный ребенок. «Он какой-то заторможенный, – сказал как-то Джон тете Мими. – Яблоко от яблони – весь в мать», – вздохнув, добавил он.
Даже видя, насколько жесток бывал Джон по отношению к собственному сыну, Синтия оставалась по-прежнему покорной. Казалось, целью жизни этой женщины было стремление любым путем избежать ссор. Целые дни она проводила, гуляя с матерью по антикварным лавкам или часами просиживая в кресле у парикмахера. Иногда женщины просили Леса отвезти их в Хойлейк, где стоял старый дом миссис Пауэлл. Здесь они ходили в гости к старым соседям, которым Синтия с восторгом описывала свою блестящую жизнь в большом городе в качестве жены суперзвезды.
К сожалению, если кто-то ей и внимал, то никак не супруг, который продолжал вести себя так, будто ее не существовало. Он мог в течение нескольких дней не обмолвиться с ней и словом, что не мешало ему болтать с садовником или шофером, чтобы показать им, насколько он доброжелателен к окружающим, – ко всем, за исключением членов собственной семьи.
Если бы Джон не был настолько ребячливым и зависимым от женщин, он мог бы уже тогда положить конец этому браку. Он никогда не хотел жениться на Синтии. Теперь же он дошел до точки, когда просто мечтал ее уничтожить. Вместе с тем у него было достаточно денег, чтобы обеспечить ей приличное содержание. А еще у него были «Битлз», к которым он всегда мог вернуться, а также целый мир, который ждал его, распахнув свои объятия. Так чего же он медлил? Джон и сам не мог ответить на этот вопрос, хотя неоднократно задавал его себе. Он заявил Морин Клив во время интервью, которое дал ей в Кенвуде в марте 1966 года: «Я собираюсь сделать что-то другое, нечто такое, что я должен сделать, вот только пока не знаю, что именно». А когда он попытался решить эту задачу, то пришел в отчаяние. Однажды вечером он пошел в ванную комнату, упал на колени и стал молиться, как умел: «Господи Иисусе Христе или кто бы то ни был! Молю тебя, хотя бы раз скажи мне, что же я должен делать?»
Глава 21 В поисках «белого света»
Однажды январским или февральским вечером 1966 года Джон Леннон зашел в книжную лавку «Индика» и попросил завернуть ему по экземпляру «Психоделического опыта» и «Психоделического читателя», авторами которых было трио американских академиков-ренегатов: Тимоти Лири, Ральф Метцнер и Ричард Алперт. «Психоделический опыт», учебник по «кислотным» путешествиям, основанный на исследовании учения о перемещении душ после смерти, описанного в «Тибетской Книге Мертвых», был «библией» культа ЛСД.
Как говорилось в романе «Групи»111, «для того чтобы совершить хорошее путешествие, надо шаг за шагом идти по книге Лири... до того момента, пока Белый Свет откровения не ослепит ваш взор». Много лет спустя Джон признался: «Принимая кислоту, я получил послание, в котором требовалось, чтобы я разрушил свое эго; и я сделал это... я разрушил самого себя». Чуть дальше, в том же интервью Леннон пояснил, что он имел в виду, когда рассказал, как вновь обрел самого себя – два года спустя: "Я снова начал драться и орать на каждом углу: «Ну что ж, я делаю, что хочу, и катитесь вы все!» Иными словами, Леннон убил в себе протестующее и враждебное эго, которое и без того уже сходило на нет, в то время как Джон спал днями напролет на диване в Кенвуде. Кислота добила прежнего Леннона. И хотя, отказавшись от наркотиков, он в какой-то мере обрел прежнюю агрессивность, он никогда уже не был таким, как прежде. Известная пословица гласит: «Обжегшись на молоке, дуют на воду». Это правило никоим образом не касалось Леннона. Он уже попробовал ЛСД в 1964 году, когда Майкл Холлингсхед привез этот наркотик в Англию.
Поначалу приняв Майкла за «агента с высокоразвитым чувством сознательности», Тимоти Лири тем не менее быстро сообразил, что этот человек опасен, поскольку на всех вечеринках, куда его приглашали, он подсыпал в бокалы «кислоту», не предупреждая об этом тех, кто из них потягивал. Лири отделался от него, отправив в Англию и снабдив тысячей экземпляров своих сочинений и запасом ЛСД. Приехав в Лондон, Холлингсхед сразу же разместил на Понс-стрит филиал своего «Фонда Касталиа» и так же, как в Соединенных Штатах, начал приучать желающих к употреблению «кислоты». Перед тем как попасть в тюрьму за хранение конопли (ЛСД тогда еще не был запрещен), он поставил определенное количество «кислоты» директору «Плейбой-клуба» Виктору Лаунсу. Именно из этой партии впервые познали вкус «философского камня» «Битлз».
Посредником при этой операции послужил некий зубной врач, чья подружка присматривала за плейбоевскими «банни»; она-то и попросила у Лаунса немного ЛСД для «великолепной четверки». Обрадовавшись возможности оказать услугу королям поп-музыки, Лаунс передал для них шесть волшебных пилюль. Через несколько дней, поужинав дома у зубного врача, Джон с Синтией и Джордж с Патти отведали кофе, в котором был растворен наркотик. Следом за этим хозяин объяснил им, что они только что выпили, и попросил ни под каким предлогом не покидать его квартиры.
Джон воспринял это предупреждение, как заговор с целью втянуть их в сексуальную оргию, и стал настаивать на том, чтобы немедленно уехать. Вся четверка погрузилась в «астон-мартин» Джорджа, но дантист, в ужасе при виде того, что Харрисон сел за руль находясь под действием «кислоты», вскочил в свой автомобиль и погнался за ними. Харрисон, большой любитель автогонок, принял вызов и надавил на педаль, начав со свистом выписывать виражи и стараясь оторваться от преследователя. Наконец он затормозил возле «Пиквикского клуба».
Оказавшись внутри, Джон начал видеть галлюцинации. Когда стол, за которым они сидели, внезапно стал вытягиваться, ему захотелось оказаться в хорошо знакомом месте, и он решил отправиться в «Ад Либ». Но стоило ему войти в лифт, как светящиеся кнопки стали изрыгать пламя.
Голова дантиста, который не отставал от них ни на шаг, превратилась в голову свиньи. В конце концов компания поехала домой к Джорджу, который вел автомобиль очень осторожно, в то время как Патти порывалась выйти из машины и отправиться бить витрины. Добравшись до места назначения, Джон захотел заняться рисованием и начал изображать карикатуры на «Битлз», ставя внизу подпись «Мы все с тобой согласны». Даже когда все заснули, у Джона продолжались галлюцинации, поскольку, желая смягчить действие ЛСД, он принял вдогонку дозу таблеток. Последнее, что ему запомнилось перед тем, как он погрузился в пустоту, было, что вилла превратилась в подводную лодку, проплывающую вдоль восемнадцатифутовой стены, а он был ее капитаном. Приключение ошеломило Леннона, но отнюдь не помешало ему снова приняться за «кислоту» в августе 1965 года, когда «Битлз» на пять дней остановились в Лос-Анджелесе. На этот раз компанию им составил Питер Фонда, который за несколько лет до того чуть не умер на операционном столе и поэтому без конца повторял: «Я знаю, что значит умереть». (Позднее Леннон использовал эту строчку в песне «She Said»112.) В конце концов Джон велел ему заткнуться. Но когда все перешли за стол, он обнаружил, что ему никак не удается удержать в руках нож и вилку или помешать пище сползать с тарелки на скатерть.
Стоило Леннону проникнуться верой в «кислоту», и его следующий шаг был очевиден.
Он задумал прославить свою веру в песне, которая должна была стать путеводной звездой зарождающейся контркультуры. До него наркотики вдохновляли иных музыкантов. Намеки на это встречались и в композициях джазовых музыкантов, включая Луи Армстронга. Но каждый раз эти упоминания были косвенными или выражались в форме шутки, понятной ограниченному кругу слушателей. Сочиняя песню «Tomorrow Never Knows»113 (это выражение придумал Ринго вместо фразы «you never know what tomorrow will bring»114), Леннон захотел не просто рассказать об ЛСД и описать его действие, но, скорее, объявлял о своем открытии: он решил, что нашел способ спасения души. Изначально озаглавленная «The Void»115 (этот термин был употреблен при переводе на английский язык «Тибетской Книги Мертвых» для обозначения зоны, куда попадают души людей после смерти), эта песня почти дословно заимствует идеи Тимоти Лири. А первая фраза: «Если тебя охватывает сомнение, заставь замолчать свои мысли, расслабься и плыви по течению» – просто цитата из «Психоделического опыта». Что касается музыки, ставшей прообразом того, что впоследствии будут называть «кислотным роком», то она с максимальной достоверностью передает, как Лири описывал восприятие звуков под действием наркотика. Лири писал, что «кислота» производит шипение, треск и постукивания. Леннон и Мартин старались следовать этому описанию: в песне есть и электронное шипение, и треск электрогитар, и стук барабанов. Джон собирался напеть стихотворный текст так, как это делает далай-лама перед сборищем тысяч монахов, но из-за отсутствия необходимой технологии от этой идеи пришлось отказаться. Однако, пропустив голос Джона через динамик Лесли (вращающееся устройство, обычно используемое для придания непрерывного волнообразного звучания гитарам при исполнении «кислотного рока»), гениальный продюсер добился того, что голос Леннона зазвучал, словно голос психоделического муэдзина, созывающего на молитву всех правоверных.
Глава 22 Битловский бумеранг
1966 год стал для «Битлз» поворотным. В самом его начале «великолепная четверка» взирала на мир с вершины своей славы, будучи объектом истерического поклонения, примером для подражания всей молодежной культуры, пророческим явлением, указывающим направление движения современного мира.
В 1966 году, вкусив восхитительные плоды собственного труда, «Битлз» внезапно убедились, что в доброе вино оказались подмешаны грозди гнева. Впервые они ощутили на своих губах горький привкус, когда 28 июня прибыли в Токио.
В VIP-зале аэропорта их встретил офицер полиции в штатском, который сообщил, что группа фанатичных крайне правых студентов поклялась перебить их в отместку за выступление в «Ниппон Будокан» (спортивном зале для занятий боевыми искусствами), самом большом крытом зале в городе, которое студенты считали мавзолеем, сооруженным в память японских солдат, погибших на войне. Чтобы обеспечить безопасность «великолепной четверки», власти прибегли к помощи тридцати тысяч вооруженных солдат, что соответствует двум армейским дивизиям. Все эти солдаты были выстроены на пути от аэропорта до центра города и вокруг отеля, в котором, как в осажденной крепости, должны были находиться музыканты в промежутках между выступлениями. Подобные исключительные меры позволили «Битлз» покинуть Японию без ущерба собственному здоровью, тем не менее инцидент, имевший место из-за недостаточной согласованности действий Брайена Эпстайна и японских промоутеров, омрачил азиатское турне. Ситуация в Маниле оказалась еще тяжелее, чем в Токио: откровенно говоря, здесь «Битлз» были недалеки от того, чтобы вообще прервать турне.
Когда 3 июля самолет совершил посадку в аэропорту филиппинской столицы, музыкантов приветствовала самая большая толпа поклонников, когда-либо собиравшаяся ради них в аэропорту, – пятьдесят тысяч душ! Однако спустя буквально несколько мгновений после приземления дверь самолета резко распахнулась и в салон первого класса ворвался вооруженный батальон офицеров в белых касках. Не дав никаких объяснений, они схватили «Битлз» и поволокли вниз по трапу. «Эти здоровенные гориллы в рубашках с короткими рукавами вытащили нас из самолета, – писал Харрисон, сохранив обиду даже много лет спустя. – Они конфисковали наш „дипломатический багаж“ (речь шла о ручной клади, в которой они перевозили наркотики и которую, по молчаливому согласию всех таможенников мира, никто никогда не обыскивал) и увели нас всех четверых, Джона, Пола, Ринго и меня, не тронув ни Брайена, ни Нила, ни Мэла. Затем на катере в сопровождении двух полицейских нас вывезли в Манильский залив. Все они были вооружены винтовками... Мы решили, что нас арестовали... и что они нашли в нашем багаже наркотики».
В действительности же произошло вот что: филиппинские власти, прослышав о том, что японцы мобилизовали тридцать тысяч человек для охраны «Битлз», решили не ударить в грязь лицом. Они использовали еще более суровые меры предосторожности. Аэропорт был оцеплен двумя вооруженными батальонами, затем «Битлз» переправили под надежной охраной в штаб военно-морских сил, где их погрузили на борт частной яхты, курсировавшей вдоль залива под охраной военного катера в ожидании начала концерта. Единственная проблема заключалась в том, что никто не удосужился сообщить «Битлз» о принятых мерах безопасности.
Когда Брайен Эпстайн увидел, что музыкантов забрали, он пришел в дикую ярость. И ему понадобилось несколько часов, чтобы наконец узнать, что же в действительности произошло. Из золотой клетки «Битлз» выпустили только в четыре часа утра, после того как закончился прием, данный в их честь владельцем яхты. Когда они добрались до своих апартаментов в гостинице «Манила», они были совершенно без сил.
На следующий день, 4 июля, они долго не могли проснуться. Им сразу же пришлось натягивать белые костюмы и отправляться на футбольный стадион «Ризал», где предстояло отыграть два концерта – один в середине дня и второй вечером. Стояла невыносимая тропическая жара, а шум многотысячной, в значительной части безбилетной аудитории мешал играть. Одна лишь мысль грела музыкантам душу – о возможности спокойно отлежаться весь следующий день в своих номерах с кондиционерами, прежде чем покинуть страну. Однако «Битлз» и не догадывались, что уже назревает кризис, который поставит под угрозу их жизнь. Как водится, проблема возникла по вине Брайена из-за его невероятного неумения вести дела.
Когда группа еще находилась в Токио, Брайен получил адресованное «Битлз» приглашение от Имельды Маркое с просьбой прибыть утром 4 июля на полуофициальный прием во Дворец Малакананг. Гостями приема должны были стать три сотни тщательно отобранных детей – сыновей и дочерей из наиболее влиятельных семей страны. Кроме того, Имельда, считавшая себя поклонницей «Битлз», очень хотела представить любимых музыкантов своим детям и самому президенту Маркосу. Это приглашение было большой честью, и никому даже в голову не пришла бы мысль от него отказаться. Тем не менее Брайен не только забыл на него ответить, но когда филиппинский промоутер позвонил ему, чтобы напомнить, что нельзя заставлять ждать супругу президента, заявил, что не станет будить музыкантов до начала концерта. Кроме того, он поручил ошеломленному коллеге передать, насколько «Битлз» и он сам неприятно удивлены приемом, который им оказали на Филиппинах.
Передать подобное послание диктатору восточного государства было сродни полной потере разума. Даже Леннон, которого часто упрекали в высокомерии по отношению к власть предержащим, никогда не позволял себе подобной грубости. Скорее всего, Брайен просто хотел поразить «Битлз», доказав, что и он тоже может послать куда подальше сильных мира сего. Как бы то ни было, когда утром 5 июля они проснулись у себя в гостинице, то обнаружили, что попали в самый центр общенационального скандала.
«ИМЕЛЬДА ПОПАЛА В ДУРАЦКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. СЕМЬЯ ПРЕЗИДЕНТА НАПРАСНО ОЖИДАЛА ПОЯВЛЕНИЯ БРИТАНЦЕВ» – такими заголовками пестрела первая страница манильской «Тайме». Телекомментаторы не умолкая твердили об оскорблении, нанесенном всей нации. Очень скоро до «великолепной четверки» дошло известие о том, в середине ночи их пресс-атташе Вик Льюис был вытащен из кровати, а затем препровожден во дворец, где высшие офицеры филиппинской армии продержали его до утра.
Брайен Эпстайн пришел в ужас, когда сообразил, во что втравил своих ребят. Он помчался в телестудию, где долго объяснял перед объективами причины своего поведения и приносил извинения миссис Маркое. Но из-за какой-то загадочной «помехи в эфире» все его выступление оказалось стертым.
По словам филиппинского журналиста, которого «Битлз» приняли у себя в номере вечером того же дня. Пол открыто встал на сторону Брайена. Он заявил, что у «Битлз» нет никаких обязательств перед первой леди страны. Джон держался более сдержанно. Он окинул взглядом собравшуюся внизу толпу и сказал: «Нам бы неплохо узнать о Филиппинах побольше. И прежде всего, как отсюда убраться!»
Утром 6 июля, когда «Битлз» собрались уезжать, они обнаружили, что к ним относятся, как к неприкасаемым. У дверей не было охраны, портье не отвечал на телефонные звонки, а дирекция гостиницы сообщила, что не желает иметь с ними ничего общего. Выехать из гостиницы в таких условиях и добраться до аэропорта было сродни настоящему подвигу. Нагруженные чемоданами и оборудованием и не имея никого, кто мог бы им помочь, «Битлз» отчаялись успеть к самолету. Однако Брайену удалось дозвониться напрямую до пилота рейса 862 авиакомпании «КЛМ», вылетавшего в Нью-Дели, и заручиться его обещанием ждать их до последнего. По дороге в аэропорт они попали в час пик, так что автомобили двигались буквально шагом. Но когда наконец они подъехали к нужному терминалу, они поняли, что неприятности еще только начинаются.
Перед зданием аэровокзала была огромная кричащая толпа, в которой были заметны полицейские в красных сомбреро и солдаты в униформе оливкового цвета. «Вокруг нас разыгрывалась самая настоящая истерия, вопящие юнцы тянулись, чтобы прикоснуться к нам, но среди них были и взрослые, которые швыряли в нас камнями и колошматили нас, когда мы проходили мимо», – расскажет потом Джордж Харрисон. Поскольку дирекция аэропорта распорядилась отключить лифты, музыкантам и официальным представителям «НЕМС» пришлось самим тащить инструменты вверх по лестницам. Когда они добрались до зала вылета, на них налетела толпа. Ринго получил удар под дых и был сбит с ног, затем на него обрушился град ударов ногами. Брайена тоже стали бить и бросили на пол. Когда он поднялся, у него была поранена лодыжка. Джордж и Джон тоже получили несколько ударов, одному только Полу удалось вырваться и убежать.
Во время таможенного контроля взбешенных граждан сменили солдаты. Когда Мэл Эванс попытался прикрыть «Битлз», его опрокинули на землю и избили. Шофер Элф Бикнелл получил травму позвоночника и перелом ребра. При каждом новом ударе толпа, оставшаяся за стеклянными перегородками, взрывалась поощрительными криками. Наконец «Битлз» отпустили, и они помчались к голландскому самолету, осыпаемые оскорблениями и градом камней: «Убирайтесь из нашей страны!.. Негодяи! Катитесь к черту!»
Стоило пассажирам занять свои места и вознести молитву о счастливом избавлении, как из громкоговорителей салона первого класса раздался голос: «Просьба к мистеру Эпстайну и мистеру Эвансу покинуть самолет». Брайен и Мэл побледнели. Решив, что пришел его последний час, Мэл повернулся к остальным: «Передайте Лил, что я ее люблю».
Внизу у трапа самолета стояли промоутер и представитель филиппинской налоговой службы. Брайен должен был подписать письмо, в котором говорилось, что он признает задолженность «Битлз» перед внутренней налоговой службой в размере 5 200 фунтов. Затем промоутер, в качестве оплаты разрешения на вылет, потребовал у Брайена «коричневый бумажный пакет с деньгами», в котором находилась половина прибыли от двух концертов. Перепуганный Брайен протянул наличные, и самолет получил разрешение на взлет. .
К этому моменту Брайен был уже на грани нервного срыва. «Ну как же я мог сделать такое? – спрашивал он у Питера Брауна. – Это я во всем виноват. Это из-за меня они чуть не погибли. Я никогда себе этого не прощу». В этот момент, оттолкнув стюардессу, попытавшуюся заставить его сесть и пристегнуть ремень, к Эпстайну пробился Вик Льюис. Приблизив лицо вплотную к уху Брайена, он прорычал: «Деньги у тебя?» – «Только не говори мне о деньгах!» – крикнул Брайен. «Нет, я буду говорить о деньгах! – вопил Льюис. – Да я сейчас убью тебя к чертовой матери!» Льюис схватил Брайена за глотку, но был вынужден тут же разжать хватку, так как на помощь Эпстайну пришел Питер Браун, силой заставивший Вика сесть на место.
Самолет еще не успел набрать высоту, а Брайена уже затошнило и у него поднялась температура. Когда они сели в Нью-Дели, он едва держался на ногах и не мог идти без посторонней помощи. Джон, Пол, Джордж и Ринго были в бешенстве, и можно сказать, Брайену очень повезло, что он заболел. Он провел в постели четыре дня, в течение которых врач и медсестра непрерывно дежурили возле него. А тем временем «Битлз» сидели в гостиничных номерах, курили, пили виски и глотали вместе с ним свои упреки.
Когда они погрузились в самолет, летевший в Англию, они сообщили Брайену, что решили прекратить гастрольную деятельность. Брайен воспринял это известие как начало собственного конца.
Во время полета состояние Эпстайна ухудшилось. Все его тело покрылось красной сыпью, и пилотам пришлось вызвать к трапу самолета машину «скорой помощи». «Что же будет со мной, если они прекратят гастролировать? – хныкал он. – Что же мне делать?» Врач поставил Брайену диагноз: мононуклеоз и прописал месяц покоя. Брайен отправился в роскошный отель в Портмейрион на валлийском побережье, но буквально через четыре для был вынужден срочно вернуться в Лондон. В карьере «Битлз», внезапно ставшей столь бурной, возник новый кризис.
Еще в марте, опубликовав газетный портрет Джона Леннона, журналистка Морин Клив привела ряд его высказываний по поводу религии: «Христианская религия исчезнет без следа, об этом не стоит и говорить. Я прав, и будущее это докажет. Мы стали более популярны, чем Иисус. И еще не известно, что исчезнет сначала – рок-н-ролл или религия. Иисус был в порядке, только вот его ученики были самыми обыкновенными тупоголовыми».
Когда эти замечания были опубликованы на страницах «Ивнинг Стандарт», никто не почувствовал себя обиженным, потому что англичанам было совершенно наплевать на мнение Леннона о религии. Но когда в июле 1966 года эти речи были перепечатаны в американском журнале «Дэйт-бук», они спровоцировали начало самой настоящей религиозной войны, причем вовсе не по причине воинственности истинных верующих, а потому, что американцы уделяют высказываниям поп-звезд столько же внимания, сколько высказываниям собственных политических деятелей, которые в этой стране являются в каком-то смысле королями шоу-бизнеса.
Общеизвестно, что Леннон имел обыкновение сравнивать себя с Христом. Он неоднократно заявлял, что вернется на Землю, как Мессия. Но он совершил ошибку, предавая широкой огласке то, что мог себе позволить в частных беседах и во что свято верил сам. Дело в том, что он нарушил табу, которое запрещало суперзвезде обращать внимание на то, что к нему и в самом деле относились чуть ли не как к Мессии. В результате это привело к взрыву, который вполне мог закончиться гибелью Леннона еще за несколько лет до того, как это произошло на самом деле, и который, безусловно, сыграл свою роль в подготовке будущего преступления, поскольку убийцей Леннона стал религиозный псих из «Библейского пояса», который верил в то, что его божественное предназначение заключается в том, чтобы поразить лжемессию.
Момент для разжигания скандала был выбран очень удачно, поскольку через месяц «Битлз» должны были отправиться в турне по четырнадцати городам Соединенных Штатов, ряд из которых был расположен в южной глубинке страны, отличающейся глубоким религиозным фанатизмом. Брайен Эпстайн, готовый с этого момента использовать все, что было в его власти, чтобы избежать нового скандала, собирался отменить турне, что привело бы к потере нескольких миллионов долларов. Но в конце концов, не приложив никаких усилий для того, чтобы сгладить ситуацию и успокоить буйные умы, он дал добро на проведение гастролей.
Леннон, который всегда отвратительно себя чувствовал во время гастролей по Штатам, на этот раз, покидая Лондон, был просто в ужасном состоянии, так же, впрочем, как и остальные «Битлз». Перед самым выходом на пресс-конференшись через какое-то время наверх, заметил в его облике что-то странное. Браун попытался его встряхнуть, побить по щекам, но быстро понял, что не сможет разбудить Брайена. Он позвонил доктору Кауану, который велел немедленно вызывать «скорую». Питер ответил, что это может повлечь за собой скандал. И тогда доктор пообещал приехать как можно скорее.
Когда он влетел в квартиру и взглянул на сильно покрасневшее лицо Брайена, он тотчас понял, что его пациент на грани смерти от передозировки. Доктор Кауан, Питер Браун и шофер Брайена перенесли Эпстайна в «бентли» и помчались в больницу «Ричмонд Хилл», где больному срочно сделали промывание желудка. Когда Брайен пришел в себя, он заявил, что просто принял лишнюю пилюлю. Однако по возвращении домой Питер Браун обнаружил записку, которую Брайен оставил на тумбочке: «Для меня это слишком, я так больше не могу». К записке прилагалось завещание, по которому его наследниками становились Куини и Клайв Эпстайн, брат Брайена; кое-что перепадало также Брауну. Когда Брайена выписали из больницы, он был направлен в клинический центр в Пугни для прохождения курса дезинтоксикации.
«Битлз» приняли решение оставить сцену, несмотря на огромное давление со стороны – как поклонников группы, так и собственных адвокатов. Столь необычная демонстрация упрямства была продиктована вовсе не страхом перед разъяренной толпой или боязнью полупустых залов, совсем наоборот, если бы «Битлз» по-настоящему захотели продолжать гастрольную деятельность, они сумели бы выйти из положения, подобно тому, как это удалось другим группам, столкнувшимся с аналогичными проблемами. Правда заключалась в том, что «Битлз», с одной стороны, совершенно не страдали привязанностью к сцене, а с другой – не обладали подходящими характерами для такого рода деятельности. Герой рок-сцены должен быть похож на укротителя, навязывающего свою волю диким животным. Что же касалось «Битлз», то они не стремились кому-либо навязываться. Они никогда не демонстрировали театральных способностей, которыми обладали великие шоумены рок-музыки, поскольку им явно недоставало ни чарующей силы Боба Дилана, ни потрясающей уверенности Элвиса Пресли, ни выдающейся сценической игры Литтл Ричарда, ни харизматического экстаза Джеймса Брауна. «Битлз», будучи, скорее,
цию в Чикаго, специально организованную для того, чтобы разрядить атмосферу, Джон не выдержал и разрыдался. В этот день перед журналистами предстал покорный и раскаявшийся Леннон. Однако журналисты ни за что не хотели его щадить, постоянно спрашивая, не собирается ли он покаяться в своем богохульстве. И как ни старался Леннон избежать столь унизительной процедуры, его в конце концов вынудили признать, что он сожалеет о сказанном.
Турне обернулось кошмаром. И дело было не только в том, что «Битлз» не покидали опасения за собственную жизнь, – на этот раз им приходилось выступать в огромных залах, которые они уже не могли заполнить. Стадион «Ши», ставший ареной их триумфального выступления в прошлом году, сообщил об одиннадцати тысячах непроданных билетов. Когда группа приехала в Мемфис, в отеле раздался анонимный телефонный звонок. Звонивший заявил, что они будут убиты во время одного из двух запланированных выступлений в местном «Колизее». Когда во время концерта кто-то бросил на сцену петарду, Пол, Джордж и Ринго как по команде повернулись в сторону Джона, почти ожидая увидеть его мертвым.
Путешествие закончилось в Сан-Франциско. Когда 29 августа «Битлз» выступали в Кэндлстик-парке, все уже понимали, что это был их последний концерт. И тем не менее, кажется, один только Брайен Эпстайн был искренне огорчен этим историческим решением. «Что теперь будет со мной? – подавленно вопрошал Брайен, обращаясь к Нэту Вайссу. – Что будет с моей жизнью? Может, мне надо вернуться в школу и поучиться чему-нибудь другому?»
Его отчаяние было вызвано не только решением «Битлз»; «НЕМС» оказалась на грани краха. До сих пор другие группы, чьим менеджером оставался Брайен, продолжали исправно работать, хотя им и не удалось утвердиться на американском рынке. Но мода на мерси-бит стала угасать, а Британские острова охватил экономический кризис. Рабочая среда, составлявшая основную массу поклонников английских рокеров и эстрадных артистов, которые не стали большими звездами, была поражена безработицей. «НЕМС» была обречена, «Битлз» также больше не нуждались в услугах компании, и Брайен решил, что его жизнь кончена.
Доктор Кауан, осмотревший Брайена после возвращения в Англию, был сильно озабочен его состоянием и предложил Питеру Брауну переехать в дом на Чепел-стрит, чтобы иметь возможность присматривать за другом. Однажды вечером, когда Брайен рано отправился спать, Питер, подняв
камерными музыкантами, гораздо лучше чувствовали себя в закрытых помещениях, таких, например, как полуподвально клубы, где они получали свободу играть вместо тяжкой обязанности устраивать шоу. Их лучшие черты, такие, как ум, чувство юмора, умение пародировать или подшучивать, полностью терялись на огромных концертных сценах.
С того самого момента, когда «Битлз» заиграли коммерческую музыку, они свели ее к простейшей формуле, такой, как сиюминутный рок, которая им совершенно не подходила и оставляла у них чувство неудовлетворенности. Оставаясь далекими от того, чтобы превратиться в рок-гладиаторов, они стали неподвижными, неслышными и почти невидимыми манекенами, выставленными на усладу беснующейся толпе. Они перестали быть «великолепной четверкой», сделавшись, скорее, фаллическими символами, при помощи которых ненормальные фаны доводили себя до оргазма. Неудивительно, что ребята только и мечтали о том, чтобы бросить гитары и навсегда убежать со сцены.
Кроме того, если бы «Битлз» продолжили концертную деятельность, им бы никогда не удалось подняться выше определенного уровня, поскольку с тех самых пор, как они начали выступать на сценах старых английских театров, они не поменяли ничего, за исключением костюмов, в то время как именно перемена, революционная перемена стала ключевым словом в конце шестидесятых.
Если рассматривать решение музыкантов оставить сцену под таким углом зрения, то надо признать, что оно явилось самым честным и достойным поступком за всю их карьеру, поскольку стало плодом самоосознания и позволило проявить их подлинный характер. Рожденные для свободной игры в свободной обстановке, они вернулись именно туда, где было их настоящее место, к студийным микрофонам, перед которыми могли создавать лучшее, на что способны. Покинув сцену, они внесли тем самым немалый вклад в развитие рок-театра путем возрождения идеи радиотеатра, ярким примером чему может служить «Сержант Пеппер». эти песни не надо было смотреть, их надо было слушать.
Первым осязаемым результатом принятого решения стало то, что, сбросив ярмо обязательных выступлений, они разлетелись в разных направлениях и занялись реализацией индивидуальных проектов. Осенью 1966 года Джордж и Патти впервые поехали в Индию, где познакомились с Рави Шанкаром и получили свою первую мантру из рук махариши Йоги. Пол уехал с Мэлом Эвансом в турпоездку по Восточной Африке.
Джон, не зная, чем себя занять, согласился исполнить роль рядового Грипвида в сатирическом фильме Ричарда Лестера «Как я выиграл войну», никудышной картине, которая доказала, что Леннон напрочь лишен актерского дарования. Однако нет худа без добра: в этом фильме Джон впервые надел свои знаменитые бабушкины очки. Проведя два месяца за границей, сначала в Селле на севере Германии, затем в Алмерии на южном побережье Испании, он был рад вернуться домой, где снова погрузился в «кислотные» воды. Однажды вечером, после трехдневного наркотического путешествия без сна и отдыха он вылез из своего черного «коппера-мини» у входа в Мэйсонз Ярд и направился в галерею Индика, куда его пригласили посмотреть шоу эксцентричной японской художницы по имени Йоко Оно.
Глава 23 Железная бабочка
Иоко Оно родилась в Токио снежным вечером 18 февраля 1933 года. Мать ее происходила из семьи Ясуда – эта фамилия ассоциировалась с гигантскими финансовыми, торговыми и промышленными корпорациями, которые составляли хребет японского делового мира. Дед Йоко Дзенсабуро Иоми женился на дочери Дзендзиро Ясуда (основателя Токийского банка), а затем был усыновлен собственным тестем, как того требуют японские обычаи. Назначенный президентом банка и избранный в палату пэров, Йенсабуро наслаждался своей потрясающей карьерой, пока не прогневал тестя своим поведением. Незадолго до того, как в 1921 году Дзендзиро пал от руки фанатика левого толка, он лишил своего зятя и его потомство наследства, которое оценивалось в миллиард долларов. С тех пор семья Йоко страдала не только от крушения надежд, но и от того, что оказалась оторванной от семейного дерева – это трагедия для любого японца.
Исоко, мать Йоко, была последней из восьми детей в семье Дзенсабуро. Застенчивая миловидная девушка получила поверхностное образование, традиционное для девочек из буржуазных семей, например, она изучала живопись под руководством знаменитого мастера школы Сова. Однако в отличие от сестер и кузин, которые стали непрофессиональными художницами, она решила раскрыть свои таланты в общественной сфере и стала хозяйкой одного из самых модных токийских салонов для высшего общества. Ее муж, Эисуке Оно, был красавцем-мужчиной, прекрасным танцором, удачливым игроком в го, любителем гольфа и выпивки и талантливым пианистом. Он был родом из семьи самураев, чья родословная восходила к императорскому дому IX столетия. Окончив Токийский университет с дипломами по математике и экономике, он стал специализироваться на политических и правовых науках, при этом, что было редкостью, бегло говорил на английском и французском языках. В 1927 году он поступил на работу в Иокогамский банк и начал долгое восхождение по служебной лестнице, оказавшись в итоге на самой верхней ступени этого учреждения, которое после войны будет переименовано в «Бэнк оф Джапан».
Родители Иоко познакомились на горном курорте для представителей высшего общества Каруидзава. Их брак, явившийся плодом усилий обеих семей, нельзя было назвать счастливым. Супруги Оно не любили друг друга, да и интересы дела вынуждали Эисуке подолгу находиться вдали от семьи. Вскоре после женитьбы его направили работать в Соединенные Штаты. Поэтому Йоко, старшая из троих детей, впервые увидела отца, когда ей уже исполнилось три года. Каждый вечер мать показывала пальцем на фотографию, стоявшую возле постели дочери, и велела ей говорить «спокойной ночи, папа». Кстати, имя Йоко переводится как «дитя Океана», то есть того, кто всегда далеко.
Оно входили в число тех немногочисленных японских семей, которые ассимилировали западную культуру ради успешной деловой либо дипломатической карьеры. (Дядя Йоко, посол Казе, был первым представителем Японии в Организации Объединенных Наций.) В 1936 году маленькая Йоко приехала с матерью в Сан-Франциско. Ее брат Кейсуке родился уже в США. На следующий год, после нападения японцев на американскую канонерскую лодку «Панай» в Китайском море, американо-японские отношения настолько осложнились, что Исоко была вынуждена вернуться с детьми домой, в то время как ее муж получил назначение в нью-йоркское отделение банка.
По возвращении в Японию Исоко пришлось взвалить на себя заботы по управлению имением Ясуда – внушительным сооружением, возвышавшимся на холме позади императорского дворца и окруженным большим парком. Более тридцати человек прислуги оказались в подчинении хозяйки дома, ни на минуту не ослаблявшей своей железной хватки.
Маленькая Йоко обожала свою мать и следовала за ней по пятам. После обеда, когда миссис Оно принимала гостей, Йоко подавала чай, в то время как мать нахваливала свою идеальную дочь. Но хотя Исоко гордилась тем, что может демонстрировать Йоко, точно умную куклу, она никогда не проявляла к ней материнской заботы. Она находила дочь некрасивой и не уставала повторять, что если та и сможет когда-либо добиться успеха, то только благодаря уму. Вероятно, причина такого отношения крылась в ревности, так как Эисуке обожал девочку, и Йоко платила ему тем же. Йоко страдала от холодности матери, чье внимание ей удавалось привлечь только одним способом – стараясь быть идеальной дочерью.
В 1940 году, когда Йоко исполнилось семь лет, семья вновь вернулась в Америку и обосновалась на Лонг-Айленде. Но угроза войны в очередной раз заставила их вернуться домой. На этот раз Эисуке направили по делам банка во Францию, а затем, когда в 1942 году японцы оккупировали французский Индокитай, он получил назначение в Ханой, где жил вполне благополучно, в то время как миллионы вьетнамцев умирали голодной смертью из-за японской блокады на поставки риса из южных областей.
Иоко стремилась получить лучшее образование, доступное для девочки ее возраста у себя в стране. Она поступила в школу Гакусуин, куда принимали детей только из тех семей, которые имели связи с императорской фамилией или с палатой пэров. Затем она была переведена во вновь созданную Академию для студентов, которые учились за рубежом. Здесь, помимо обычной программы, она познакомилась с буддийскими текстами, Библией (ее отец был христианином), каллиграфией, с основами японского искусства, а также западной музыки и балета.
Столь насыщенная школьная программа вызывала у Иокб такой же протест, как и суровая дисциплина, которую навязывала ей мать. «Меня кормили информацией, точно домашнее животное, – сетовала она позднее. – А я все это ненавидела. Особенно музыку. Дело доходило до того, что каждый раз перед уроком музыки я буквально теряла сознание. Наверное, так я пыталась вырваться». В 1944 году, когда бомбардировщики Б-29 стали бомбить Токио, Исоко увезла детей на принадлежавшую Оно ферму, расположенную недалеко от Каруидзавы. Здесь изголодавшиеся крестьяне обобрали Исоко, но Йоко якобы быстро взяла ситуацию в свои руки и заставила крестьян все вернуть.
После капитуляции Японии семейство Оно поселилось в небольшом доме в имении Ясуда, расположенном в Камакуре, маленьком городке на берегу залива Сагами. Вернувшись из Индокитая, Эисуке в 1947 году был назначен сначала заместителем директора, а затемни директором департамента иностранных дел банка. Когда Йоко вновь встретилась с отцом, она была уже подростком, чувствительным, страдавшим от множества проблем, возникших как следствие прошедшей войны. Но теперь Эисуке относился к ней гораздо прохладнее. Такая перемена отчасти объяснялась очевидной зрелостью Йоко, а отчасти тем, что у отца появилась подруга-гейша, которую он поселил в другом городе и которая родила ему двоих детей.
Вернувшись в школу, Йоко повела себя как преждевременно созревший ребенок, начала курить, выпивать и много говорить о мужчинах. Половой зрелости она достигла тоже довольно рано. «Йоко рано начала интересоваться сексом... – вспоминает ее двоюродный брат Хидеаки Касе. – Еще до отъезда в Нью-Йорк она меняла мужчин, как перчатки». Рассказывают, что одним из самых горячих ее поклонников был не кто иной, как ее одноклассник принц То-си, младший сын императора, и что в какой-то момент речь даже шла о замужестве. Но к этому времени – в 1952 году – Эисуке был назначен директором нью-йоркского отделения «Бэнк оф Джапан».
Сначала Йоко решила остаться в Японии, обрадовавшись возможности освободиться от родительской опеки и заявив, что она не может прервать учебу, благодаря которой должна была стать первой девушкой – студенткой философского факультета в истории Гакусуина. Однако уже в конце лета она внезапно бросила занятия и вылетела в Нью-Йорк. В Штатах Йоко сначала изучала литературу и пение в Гарварде, а затем в 1953 году записалась в колледж Сары Лоуренс, расположенный в фешенебельном предместье Бронксвилла. Этот колледж был идеальным местом для богатой японской девушки, интересовавшейся искусством и стремившейся выйти за рамки стандартного образования; здесь обучалось немало девушек, которые считали себя художественными натурами благодаря состоянию собственных родителей.
Очень мало у кого из учившихся в колледже в одно время с Йоко сохранилось о ней хоть какое-нибудь воспоминание. «Я прекрасно ее себе представляю, – вспоминала одна из ее первых преподавательниц, – но совершенно ничего не могу о ней сказать». Одна из бывших соучениц добавляет: «Она была маленькой, странной и всегда одевалась в черное». Йоко очень мало общалась с окружающими. Ричард Рабкин, один из студентов Гарварда, занимавшийся в то время психиатрией, находил ее «очень туманной... Она боялась окружающих... Если ты японец – это плохо, если нет – это тоже плохо... Она не умела обращаться с мужчинами по-дружески. Чтобы подружиться с ней, надо было сначала доказать, что ей не стоит тебя опасаться».
Единственным человеком, с которым она более или менее дружила, была ее одноклассница Бетти Роллин, ставшая позже телерепортером, журналисткой и писательницей. Йоко поразила Бетти своей необыкновенной «поэтичностью». Она изъяснялась «на хайку»116, разговаривая тоненьким приглушенным голосом и коверкая английские слова. Остальные девушки не считали Йоко симпатичной из-за слишком большого бюста, слишком широких бедер и не особенно стройных ног но Бетти находила ее «воздушной» и очень умной. Сама же Йоко отличалась в то время явно несвойственной ей чрезмерной застенчивостью. На третьем курсе она переехала жить в студенческое общежитие, но старалась держаться подальше от светской жизни, отказываясь от приглашений подруг, которые каждую неделю отправлялись в мужские колледжи на охоту. Вообще-то и жизни Йоко всегда были мужчины, но -то были японцы, с которыми она встречалась с разрешения родителей.
С самого начала обучения Йоко поставила себе цель стать оперной певицей и сделать карьеру в Европе – это было по меньшей мере странно для девушки, которая не обладала ни голосом, ни особым музыкальным талантом и которая падала в обморок перед уроками игры на фортепиано. Но Йоко считала себя способной добиться любой цели, какой бы она ни была. В конце третьего года учебы Йоко внезапно бросила колледж. Этому предшествовал знаменитый инцидент, над которым до сих пор смеются в студенческом общежитии. Однажды миссис Оно приехала в общежитие, где жила Йоко, и сразу стала чего-то требовать и давать какие-то указания, чем совершенно взбесила свою дочь. Наконец она заявила, что забирает ее из колледжа. Йоко вылетела из комнаты и заперла дверь на ключ. Когда миссис Оно обнаружила, что оказалась в плену, то начала вести себя совершенно неподобающим для японской леди высшего сословия образом, принявшись колотить в дверь и кричать, чтобы ее выпустили. За эту выходку, достойную Джона Леннона, декан вызвал Йоко на ковер. Он также пригласил и миссис Оно, но та отказалась еще раз приехать. Это было последнее, чем отличилась Йоко Оно в колледже Сары Лоуренс.
Знакомством со своим первым мужем Йоко была обязана интересу, который она проявляла к музыке. Как-то раз приятель ее двоюродного брата Танака Кодзо, тронутый восторженным отношением девушки к этому виду искусства, познакомил ее с одним из самых блестящих японских студентов композиторского отделения, когда-либо учившихся в Соединенных Штатах, Тоси Ичиянаги. Тоси был худощавым, молчаливым юношей невысокого роста с походкой танцора. У него была подружка, с которой он расстался вскоре после знакомства с Иоко. Родители Иоко неодобрительно отнеслись к этой связи, поскольку семья Тоси по социальному статусу располагалась ниже, чем семья Оно, но родительское недовольство только подстегнуло Иоко, и она уговорила Тоси разрешить ей переехать жить к нему. Нетрудно угадать, какова была реакция на этот поступок в семействе Оно. Однако родительское давление внезапно ослабло: в мае 1957 года Эисуке был отозван в Японию и назначен генеральным директором «Бэнк оф Джапан».
Как только родители Иоко покинули США, они с Тоси тотчас поженились. В течение целого года Оно отказывались признать этот брак, но затем изменили свое отношение и приехали в Нью-Йорк, чтобы публично отметить бракосочетание дочери, ради чего был устроен прием в небольшом, но изысканном отеле в районе Вест-Сайда.
Мужчина, за которого вышла Иоко, был во всех отношениях полной ее противоположностью. Будучи единственным сыном в семье профессиональных музыкантов, он был настолько хорошо подготовлен дома, что, когда поступил в колледж, сразу смог заняться теорией композиции под руководством двух очень известных японских композиторов. И хотя Тоси был всего на две недели старше Иоко, к моменту своей свадьбы он добился таких результатов, которые вполне могли бы удовлетворить амбиции гораздо более взрослого человека.
Тоси и Иоко жили очень бедно. Они ютились в маленькой квартирке в рабочем квартале в доме 426 по Амстердам-авеню, в которой не было даже платяного шкафа, так что им приходилось развешивать одежду на крючках, вбитых прямо в стену. Иоко работала переводчицей в какой-то импортно-экспортной конторе, сопровождая японских бизнесменов. Она выглядела как самая обычная молодая женщина: темные костюмы, перчатки, туфли на высоком каблуке, тщательно наложенная косметика. Ей приходилось содержать Тоси, который перестал получать стипендию. Встречаясь с музыкантами, Иоко неизменно стремилась им польстить, осыпая возвышенными похвалами. Когда Иоко принимала гостей, она проявляла чудеса восточного кулинарного искусства, нередко заставляя их подолгу ждать, зато результат всегда бывал достойным ожидания. Когда ее спрашивали о японской музыке, она в ответ пела народные песни чистым, тоненьким, почти детским голоском.
Те, кто встречался с молодой семейной парой, находили Тоси мягким, бесцветным подкаблучником. Спустя годы он признался одной японской газете, что «Иоко всегда нуждалась в том, чтобы с ней обращались, как с королевой... Она была эгоистична и очень болезненно ко всему относилась... она действительно была художественной натурой, в том смысле, что всегда что-то из себя изображала и тратила, сколько хотела». Упоминание об игре – скорее всего намек на супружескую неверность Иоко. Сама она рассказывала Марии Хеа, что иногда на нее находило желание переспать с другим мужчиной, и Тоси давал ей на это разрешение, хотя, как она говорила, эти ее приключения причиняли мужу сильную боль. Самой Иоко подобные эскапады тоже обходились недешево, потому что после них она нередко беременела и все кончалось подпольным абортом. «В Нью-Йорке мне то и дело приходилось делать аборты, – сообщила она в 1970 году журналу „Эсквайр“. – Я была слишком нервной натурой, чтобы соблюдать меры предосторожности... Я выходила из дома, бросалась с головой в очередной роман, затем возвращалась и: „О! Я снова влипла!“ Мой первый муж был очень добрым». Скоро эти операции скажутся на состоянии ее здоровья, и ей будет очень трудно выносить ребенка до конца беременности.
Многие, кто был знаком с Иоко в тот период, полагали, что у нее уже был ребенок, которого она тайно родила в Японии, поскольку Иоко неоднократно упоминала об этом, беседуя с близкими друзьями.
Все последующие отношения Иоко с другими мужчинами неизменно строились по той же схеме, которая была определена при ее замужестве. Каждый раз создавалось впечатление, что Иоко необходим мужчина, который помог бы ей выпутаться из сложного положения, и очень скоро этот мужчина становился лишь средством для удовлетворения несбыточных амбиций Иоко, стремившейся ко всемирной славе. Хотя Тоси так и не стал знаменитостью, он был знаком со всеми признанными авторитетами современной музыки. Через Дэвида Тьюдора, лучшего ученика композитора Стефана Вольпе, он познакомился с Джоном Кейджем и стал посещать его лекции в Нью Скул. Кейдж, в свою очередь, представил Тоси Мерси Каннингхэму, который принял молодого композитора на работу в свою танцевальную труппу в качестве репетиционного пианиста.
Затем он познакомился с Ла Монте Янгом, юным гением с Западного побережья, приехавшим в Нью-Йорк в 1960 году и оказавшим огромное влияние на весь американский авангард.
Когда Йоко познакомилась с новыми коллегами своего мужа, ей пришла мысль стать авангардисткой. Бросив Тоси, она переехала жить в художественную мастерскую, переоборудованную под жилье и расположенную в доме 112 по Чемберс-стрит в промышленном квартале города. У нее завязался роман с писателем Майклом Румейкером, который создал удивительный портрет самой Иоко в романе «Бабочка», где рассказал историю их совместной жизни. Это портрет женщины-ребенка, застенчивой, озорной, невинной и легкой, словно бабочка, но которая очень быстро претерпела ряд метаморфоз, принимая все более и более мрачные очертания, прежде чем обнажить несгибаемую сущность японского солдата, «готового на любую хитрость, на любую жестокость и даже на убийство». Иоко внезапно прервала эту связь, оставив Румейкера в раздумьях над своей бабочкой, которая оказалась «железной».
Йоко рассталась с Майклом Румейкером, когда попала во власть колдовских чар Ла Монте Янга, человека, который оказал решающее влияние на всю ее художественную карьеру. Янг был крошечным мужчиной – он весил меньше пятидесяти килограммов, носил одежду из рубчатого вельвета и неизменные остроносые ботинки, наподобие тех, что были у эльфов. Казалось, он создан для того, чтобы составить идеальную пару с Иоко, одевавшуюся в черный свитер, лыжные брюки и ботинки с серебряными пряжками. Этот человечек, похожий на гнома, стал воплощением американской гениальности больше, чем любой другой из современных музыкантов, поскольку каждое из его произведений было насыщено неуемной энергией, которая олицетворяет собой суть американской души. Янг и сам переполнялся этой энергией, которая вдохновляла его на неожиданные импровизационные джем-выступления с другими музыкантами. Задолго до того, как Джимми Хендрикс поджег свою гитару, Ла Монте Янг запаливал на сцене скрипку, принимался пересчитывать горошины или выделывал еще какой-нибудь фортель, заставляя публику смеяться – или хвататься за оружие.
По мнению поэтессы Дайен Вакоски, которая жила в то время с Янгом, отношения между ее любовником и Йоко не были бескорыстными: «Ему был нужен импресарио, а она нуждалась в гении». Йоко стала его импресарио и предложила свою мастерскую в качестве площадки, на которой Янг организовал в течение зимы 1960/61 года целую серию исторических авангардистских перформансов, в которых приняли участие Ла Монте Янг, Дэвид Тьюдор, Роберт Моррис, Джексон Мак Лоу, Уолтер Де Мария, Саймон Моррис, Кристиан Вулфф, Терри Райли и Дайен Вакоски. Йоко выполняла функции билетерши, но одновременно находила возможность и самой принять участие в выступлениях. «Мы сидели на ящиках с апельсинами, – вспоминает Беата Гордон. – На стене висел большой лист бумаги. Йоко взяла вазу с желе и выплеснула содержимое на бумагу. Она швырнула туда же пару яиц, взяла баночку туши и принялась рисовать пальцами. В конце концов она достала спички и подожгла бумагу. Помню, как я осмотрелась вокруг и подумала: „Ну все, сейчас я умру!“ К счастью, Джон Кейдж посоветовал ей воспользоваться огнетушителем».
Вообще-то в тот период Иоко называла себя поэтессой, Вакоски находила это явным преувеличением: «Я обижалась на нее за то, что она называла „поэзией“ ту чушь, которую сочиняла. Йоко была не художником, но карьеристкой. Она зарабатывала тем, что позировала, спала со всеми мужчинами подряд и абсолютно ничем не жертвовала во имя своего искусства, как это делали настоящие артисты-авангардисты». Ла Монте Янг относился к ней несколько терпимее, признавая, что Иоко «стремилась к успеху», что самое главное для нее было «добиться признания», но при этом считая, что ее усилия были искренними.
Приключение с Ла Монте Янгом позволило Иоко занять определенное место на той сцене, которая вскоре стала называться концептуальным искусством. Эта связь не мешала ей заводить других любовников или часами болтать по телефону с Тоси, который к тому времени уже вернулся в Японию. Кстати, ее последним любовником перед отъездом на родину тоже был японец. Художник Сусаку Аракава только что приехал в Нью-Йорк, при этом все его пожитки умещались в нескольких бумажных пакетах, английского он почти не знал. Йоко поселила симпатичного молодого человека у себя в мастерской, и пока он готовил холсты для художника Сэма Френсиса, пыталась найти для него поддержку в лице других уже добившихся известности художников, включая Яиои Кусаму.
Весной 1962 года она сообщила Аракаве о своем отъезде в Японию. Тот очень рассердился, поскольку ее отъезд ставил его в трудные положение. Позже он вспоминал о ней как об очень бедной девушке, подверженной частым депрессиям, и намекал, что она неоднократно пыталась покончить с собой. Годы спустя Йоко подтвердила, что в тот период «часто подумывала о самоубийстве – просто о том, чтобы сделать это». И в то же время Дракава заметил, что она была «очень твердым человеком. Она могла убить».
Глава 24 Грейпфрутовые колодцы
Однажды мартовским утром 1962 года к дверям мастерской, где жила Йоко, подошли два человека в темных костюмах. Это были сотрудники «Бэнк оф Джапан», приехавшие, чтобы сопроводить ее до аэропорта Кеннеди, откуда они получили указание не уезжать до тех пор, пока не увидят своими глазами, как молодая женщина села в самолет, вылетающий в Токио.
Ее отъезд был организован родителями Йоко под предлогом помолвки ее брата. На самом деле семейство Оно твердо решило восстановить брак Йоко. До них докатились слухи о недостойном поведении дочери в Нью-Йорке, и они испугались, что их доброе имя может быть запятнано. По прибытии в Токио ее поселили в квартире, принадлежавшей семье Оно, в которой уже жил Тоси, готовый все забыть.
Поначалу казалось, что официальное примирение принесло свои плоды. Тоси рассказал Йоко о перформансах авангардистов, проводимых в Соджетсу-холле, небольшом элегантном зале, ставшем главной японской сценой для экспериментальных искусств. Не теряя ни секунды, она принялась за постановку в этом зале спектакля под названием «Труды Йоко Оно», проведение которого было запланировано на 24 мая.
За основу этого шоу была взята программа представления «Грейпфрут в мире Парка», которое Йоко давала в ноябре прошлого года в Карнеги-холле. Для постановки спектакля требовалось большое число актеров, чьи поиски были поручены Тоси, в то время как Йоко занялась рекламой перформанса. Она убедила руководство одного из местных телеканалов заснять на пленку все пять с половиной часов эксцентрического действа и бездействия. Несмотря на ее усилия, оценка критиков была резко отрицательной, да и какой еще она могла быть, когда одно из отделений заключалось, например, в том, что Йоко выходила на сцену, долго неподвижно сидела перед роялем, затем в течение пяти минут молотила по клавишам, выкуривала до фильтра сигарету и покидала сцену?!
Негативные отзывы критиков дошли до Йоко как раз в тот момент, когда она была на грани очередной депрессии. Семья дала ей понять, что она плохая жена и даже пропащая женщина, а теперь еще и коллеги говорят ей, что она дискредитирует своим поведением тот самый авангард, частью которого себя считала. Куда бы она ни отправилась, всюду у нее возникало ощущение, что к ней относятся как к парии. И тогда Йоко замкнулась в себе. Она стала в одиночестве ходить в театры и кино, в одиночестве гулять по улицам. Она была настолько подавлена, что вновь начала подумывать о самоубийстве.
«В то время, – расскажет она позже, – я жила вместе с г-ном И. на одиннадцатом этаже жилого дома. В полночь я просыпалась и, точно в бреду, подползала к окну. Я пыталась выпрыгнуть из окна. Всякий раз г-н И. оттаскивал меня, но так продолжалось почти каждую ночь. Через какое-то время он посоветовал мне обратиться к врачу. Я тоже пришла к такому выводу. Я очень эмоциональная женщина. Я стараюсь поступать логично. Но не могу получить удовлетворение, если это идет вразрез с моими чувствами... Какая-то часть моего разума очень сильна, а другая – слишком слаба... Я довела себя до крайности. Я принимала лекарства, но все равно хотела умереть. Неожиданно я обнаружила, что нахожусь в психиатрической лечебнице».
Тоси и семья Оно решили положить Йоко в больницу. Несколько недель она провела взаперти в обитой мягкой тканью палате, где ее пичкали сильными транквилизаторами. Тоси ежедневно навещал ее, пытаясь смягчить отчаяние жены. Именно с этой целью он как-то привел с собой молодого человека по имени Тони Кокс, который приехал из Нью-Йорка, где был вхож в окружение Ла Монте Янга. Йоко отказалась принять американца, она никого не хотела видеть. Она даже не захотела оставить у себя в палате принесенные им цветы. «В конце концов, – рассказывает Йоко, – ему удалось добиться симпатии одной из медсестер, которая стала упрашивать меня познакомиться с ним. И я уступила, поскольку была слишком слаба, чтобы сопротивляться... У моего врача Тони узнал о симптомах моего заболевания и о том, чем меня лечили. Он был знаком с медициной и посоветовал мне снизить дозы транквилизаторов. Еще он сказал мне, что мои нью-йоркские работы произвели на него большое впечатление и что он продал все, что имел, чтобы купить билет на корабль и отправиться разыскивать меня в Японию. Наконец-то у меня появился поклонник!»
Если бы Йоко не поспешила принять предложенную Тони Коксом помощь, она могла бы, позвонив кое-куда в Нью-Йорк, навести справки и узнать, кем он был на самом деле. Скорее всего, это положило бы конец их отношениям еще до того, как они начались, и изменило бы тем самым всю ее последующую жизнь.
Родители Тони, появившегося на свет в 1937 году, были художниками. Они познакомились в Нью-Йорке во времена Великой депрессии, когда оба посещали Лигу студентов художественных училищ. Несмотря на то, что среди его родственников был некий преподаватель этики, известный своим воинствующим антисемитизмом, Джордж Кокс без колебаний взял в жены еврейку. Что до самой Миллисент Гуткин, то она прилагала все усилия для того, чтобы забыть о своем происхождении, и даже дважды делала пластические операции, объясняя, что в то время было небезопасно носить имя «миссис Кокс» и выставлять напоказ такой еврейский нос. Тони вырос в период наибольшего разгула антисемитизма в современной Америке, и его юные годы прошли в Беллморе на Лонг-Айленде, где не было евреев, но зато было много американцев немецкого происхождения. Чтобы ничем не отличаться от любого местного мальчишки, ему приходилось скрывать свое еврейское происхождение, и не исключено, что именно это оказало определенное влияние на формирование неординарной личности молодого человека.
Тетка Тони вспоминала, что он был очень красивым ребенком, «способным от кого угодно добиться чего угодно». Его беда заключалась в том, что еще в юные годы он стал свидетелем ужасных страданий матери. Ему исполнилось шестнадцать лет, когда она умерла от рака, и после этого он сразу убежал из дома. Это был первый из побегов, которые в конечном счете привели его на путь сначала подростковой, а затем и вполне сознательной преступности.
В семнадцать лет он украл соседский катер, был арестован и провел несколько дней в тюрьме. Будучи отчисленным из двух частных школ, он каким-то образом умудрился записаться на художественный факультет университета в Буффало, но вскоре бросил учебу. Затем, осенью 1958 года; он вдруг объявился в качестве студента нью-йоркского художественного училища «Купер Юнион», которое располагалось в двух шагах от Нижнего Ист-Сайда, где проживали многие известнейшие художники.
Познакомившись с окружением Джона Кейджа и Ла Монте Янга, Тони быстро сумел завоевать всеобщее расположение. Красота, скромная элегантность и уважительное восхищение, которое молодой человек в роговых очках демонстрировал в присутствии тех, кого называл «мэтрами», не могли остаться незамеченными у тех, кто окружал Джона Кейджа, а среди них было немало гомосексуалистов. Однако художники очень скоро поняли, как они в нем ошиблись. Как-то Тони угнал автомобиль Джона Кейджа и даже поменял на нем номера; и хотя вор был пойман, композитор не стал выдвигать против него обвинение. А Кокс тем временем продолжал превращаться из обаятельного студента-художника в бесчестного и опасного типа.
Развитие Тони достигло решающего момента, когда он начал заниматься наркотиками, торгуя не только травкой и гашишем, но и недавно появившимися, мало известными психоделическими средствами, которые в то время еще не были запрещены, такими, как мескалин, поступавший с фармацевтических предприятий в Нью-Джерси, почки эхинокактуса Вильямса из Аризоны, а также экзотические гармалин и айбогейн, производившиеся компанией «Лайт энд Компани». Тогда же Кокс познакомился с Джонни Эпплсидом, который занимался психоактивными средствами, с Чаком Биком, потомком ста двух поколений раввинов, которого Тони познакомил с еще одним из своих друзей, Джоном Бересфордом, английским педиатром, работавшим в больничной лаборатории. Это знакомство имело историческое значение, поскольку именно тогда вспыхнула первая искра, из которой разгорелось пожарище ЛСД, охватившее собой все шестидесятые годы нашего столетия.
По совету Чака Бика Бересфорд написал на бланке своей больницы письмо, адресованное швейцарской фирме «Сандоз», и вскоре получил по почте целый грамм чистого ЛСД-25 – такого количества «кислоты» хватило бы для того, чтобы заставить заторчать целый город. Маленький пузырек с белым порошком, разбавленным обычным сахаром, завел весь хипповый андеграунд Нью-Йорк-сити, включая Тимоти Лири, ставшего апостолом психоделической революции.
С наступлением лета 1961 года Тони настолько глубоко увяз в преступном мире, что у него возникли серьезные проблемы с мафией, которая его заказала, и это заставило Тони уйти в глубокое подполье. Но вскоре выяснилось, что его разыскивали не только гангстеры: летом 1962 года у него на хвосте сидели и агенты ФБР. Ему удалось смыться, угнав автомобиль, принадлежавший Алану Марлоу, мужу поэтессы Дайен Деприма, украв кредитную карточку еще у одной жертвы и стащив все деньги, которые Ла Монте Янг собрал для издания своей «Антологии», основополагающего труда по концептуальному искусству. Тони встретился при въезде в Портленд со своим приятелем Элом Вундерлихом, который помог ему перекрасить белый «форд» 1957 года выпуска в другой цвет. На следующий день Кокс отправился в Лос-Анджелес проведать тетю Бланш. А примерно 1 августа он сел на корабль, взявший курс на восток.
В интервью, опубликованном на страницах журнала «Рэдикс», Тони рассказал, что идея отправиться в Японию на поиски Иоко Оно пришла ему в голову после того, как Ла Монте Янг поведал ему о молодой и красивой японской артистке, которая не так давно внезапно исчезла. Поговаривали, что она вернулась в Японию. Наравне с известностью Тони привлекал в ней тот факт, что она дочь президента банка.
Еще на корабле кто-то из пассажиров сказал ему, что знаком с артисткой по имени Йоко Оно, недавно вернувшейся из Штатов. Тони удалось разыскать эту женщину, но он быстро убедился, что это была не та Йоко Оно – фамилия Оно встречается в Японии не так уж редко. Вместе с тем эта женщина помогла ему отыскать ту самую Йоко Оно. Однако удача обернулась двойным разочарованием: он узнал, что она, во-первых, замужем, и во-вторых, что ее поместили в лечебницу.
Когда Тони пробрался-таки в палату к Йоко, он обнаружил, что она находится под действием сильных успокоительных препаратов. Волей случая выяснилось, что эти лекарства ему знакомы. Тоси попросил Тони помочь вытащить Иоко из больницы. Кокс пошел на прием к главному врачу. Он представился журналистом из Нью-Йорка, пишущим об искусстве, уточнив, что готовит статью о том, как известную артистку насильно удерживают и пичкают наркотиками. Неужели дирекция больницы заинтересована в такого рода рекламе? Пациентка была немедленно выписана.
Но и после выхода из больницы Иоко никак не удавалось преодолеть депрессию. «Я слишком скучала по Нью-Йорку, – напишет она через несколько лет. – Мы часто встречались с Тони в кондитерской на Синдзуку (токийский Таймс-сквер) и подолгу разговаривали. Он тоже был очень одинок. В Токио у него не было знакомых. Весь наш разговор вертелся вокруг Нью-Йорка. Мы чуть не плакали от одиночества и меланхолии».
Спасение от недуга пришло к Йоко неожиданно: директор Соджетсу-холла объявил о том, что пригласил Джона Кейджа и Дэвида Тьюдора выступить в Токио и совершить турне по Японии. Это означало, что Тоси будет выступать с ними в качестве вспомогательного артиста, а Йоко сможет быть переводчиком и сопровождающим труппы. Иоко и Тоси рассказали о предстоящем турне Тони и пригласили его составить им компанию. А Йоко, воспользовавшись ситуацией, объявила, что на этом ее брак с Тоси можно считать расторгнутым.
Для выступления в Соджетсу-холле, которое состоялось в октябре, Кейдж и Тьюдор пригласили много японских музыкантов, а также Иоко, которая висела над сценой, сидя на стуле, подвешенном на театральных колосниках, а затем ложилась на рояль, откинув голову таким образом, что ее длинные черные волосы спускались до самого пола. В промежутках между концертами американцы совершали туристические поездки в обществе Пегги Гуггенхайм, которая напишет в своих мемуарах: «Я разрешила Тони переночевать в спальне, которую делила с Йоко. В результате получился очаровательный ребенок, наполовину американец, наполовину японец».
После турне Йоко поселилась в гостинице вместе с Тони, который настаивал на том, чтобы они как можно скорее поженились. Но такого скандала семейство допустить не могло. И в очередной раз сопротивление родителей подтолкнуло Йоко поступить против их воли. 28 ноября 1962 года, еще не разведись с Тоси Ичиянаги, она сочеталась браком с Тони Коксом. Церемония состоялась в американском посольстве в Токио.
Через некоторое время адвокат нашел способ узаконить этот незаконный акт. 1 марта 1963 года Иоко развелась с Тони, а следом за ним – с Тоси, который через три дня снова женился – на Сумико Ватанабе. Затем, 6 июня Иоко повторно вышла замуж за Тони. К этому времени любовники уже переехали из города в небольшой коттедж, построенный в английском стиле и расположенный на берегу озера, где Иоко могла наслаждаться покоем и одиночеством. Благодаря связям родителей Йоко, Тони устроился в школу преподавателем английского языка. Но вместо того чтобы тратить заработанные деньги на еду или другие жизненно необходимые вещи. Тони вкладывал их в искусство. Однажды, например, он украсил комнату огромным количеством воздушных змеев, на которых были напечатаны стихотворения, написанные Иоко.
Иоко в очередной раз решила сделать аборт. Ее подруга, писательница-феминистка и скульпторша Кейт Миллетт, вышедшая замуж за японского скульптора, вспоминает, что Иоко часами могла говорить об этом аборте. Однако и врачи, и Тони посоветовали ей оставить ребенка. «Они напугали меня, – рассказывала Иоко. – Они сказали, что еще один аборт может быть очень опасным. И тогда я решила родить Киоко. А еще я подумала, что, может быть, почувствую себя лучше, когда у меня будет ребенок, поскольку у нас считалось, что все женщины обожают рожать детей». На самом деле вряд ли аборт был более рискованной операцией, чем тот способ, которым Иоко задумала родить своего ребенка.
Джон Натан, работавший в одной школе с Тони, рассказал, что в то утро, 3 августа 1963 года. Тони появился на работе в возбужденном состоянии и пробормотал что-то вроде: «Ну все, мы сделали эту штуку с ребенком прямо у нас дома!» Когда Натан поинтересовался, что он имеет в виду, Тони рассказал, что принял роды самостоятельно. Перепуганный Натан вскочил в машину и помчался к Коксам домой. Он обнаружил Иоко, лежащей на полу; рядом никого не было, кто мог бы о ней позаботиться. Натан срочно отвез мать и дочь в больницу. Подруга Коксов миссис Ричи рассказала, что «Тони вбил себе в голову мысль, что будет просто замечательно, если он сам примет роды у жены». А когда миссис Ричи отправилась в больницу проведать Иоко, та объяснила: «Я и не думала, что это так трудно».
Если с ребенком все было в порядке, то молодая мама долго не могла прийти в себя. Выйдя из больницы, она переехала вместе с Тони и Киоко в крошечную квартирку, расположенную на тридцать пятом этаже нового жилого дома в квартале Сибуя – токийском аналоге нью-йоркского района Гринвич-вилледж. Миссис Оно, помирившаяся с дочерью после рождения ребенка, оплачивала аренду квартиры и услуги няни, взятой в помощь Иоко. В единственной комнате нового жилища, отделенной от кухни японской ширмой, постоянно царил беспорядок: повсюду валялись горы немытой посуды и грязного белья, по полу свободно ползали раки-отшельники, поскольку Тони взялся сделать о них фоторепортаж. Сам он говорил, что Иоко напоминала ему в то время умственно отсталую девочку – героиню одной давно прочитанной книжки. А Иоко резюмировала свою тогдашнюю жизнь одним словом – «колодцы».
Рождение Киоко отнюдь не наладило семейную жизнь ее родителей. Иоко удвоила нападки на Тони. Еще одна подруга, Барбара Энн Коупли-Смит рассказала, что как-то Тони в отчаянии позвонил ей и сообщил, что сидит в ванной комнате, залитой кровью и усыпанной осколками стекла, и не может отыскать свои очки. Когда Барбара примчалась к ним домой, она обнаружила, что Иоко специально раздавила очки Кокса, который без них был все равно что слепой. Тони рассказал, что жена продержала его в ванной три четверти часа, приставив к горлу отбитое горлышко бутылки. Подобные сцены стали повторяться. У Эла Вундерлиха, который вновь встретился с Тони, приехав в Японию в 1964 году, создалось впечатление, что Тони и Иоко «стремились убить друг друга. Стоило переступить порог их дома, – добавляет он, – как вы сразу оказывались в самом центре тайфуна».
В промежутках между попытками вцепиться друг другу в глотку они напряженно работали, стараясь раскрутить артистическую деятельность Иоко. К этому моменту Иоко была звездой, а Тони – менеджером: такая схема будет неизменно повторяться со всеми мужчинами, которые придут на смену Коксу. А в тот период они занимались изданием «Грейпфрута» – главной претензии Иоко на славу. Это был небольшой сборник текстов от одной до шестнадцати строк, отпечатанных на маленьких квадратных страничках. Несмотря на то, что внешне эти сочинения напоминали стихи, они, скорее, являлись прозаическим описанием действий, которые необходимо совершить. В течение последующих десяти лет Иоко использовала большую часть этих «сценариев» в своих фильмах, сценических перформансах или при изготовлении художественных артефактов. Даже самые простейшие из этих текстов всегда предполагали определенное действие. «Зажги спичку и смотри, как она догорает» – этот текст стал сценарием самого известного фильма Иоко, где с использованием сверхскоростной кинокамеры показано, как сгорает спичка. В текстах «Грейпфрута» присутствовала некая единая тональность, отражавшая, благодаря своей искусственности, одну из сторон личности автора, которой Майкл Румейкер дал следующее восторженное определение: обреченный маленький восточный денди, оторванный от внешнего мира и погруженный в мир собственных очаровательных капризов.
Иоко мечтала о том, чтобы отделаться от Тони и Киоко и вернуться в Нью-Йорк. Теперь, получив благодаря замужеству американское гражданство, она могла окончательно переехать в Соединенные Штаты. Перед отъездом она организовала с Тони и Джеффом Перкинсом, молодым сотрудником медицинского корпуса военно-воздушных сил, свой последний спектакль в Соджетсу, который назвала «Прощальный перформанс Йоко Оно». Джефф вспоминал, что они с Тони играли сцену, в которой были привязаны друг к другу спина к спине, а к ним на тонких нитях были прицеплены консервные банки и бутылки из-под молока. В полной темноте они передвигались из одного конца сцены в другой, стараясь как можно меньше шуметь. В это время Йоко объявила, что выпустила в зал двух змей, и добавила, что каждый зритель имеет право зажечь только одну спичку, чтобы обнаружить рептилий.
В единственной за весь вечер по-настоящему интересной сцене, называвшейся «Отрезанный кусок», Йоко появилась на сцене в черном одеянии с огромными ножницами в руках. Опустившись на колени, она бесстрастно посмотрела на зрителей и предложила им по очереди подойти к ней и отрезать от ее одежды любой понравившийся кусок. Созданный ею в этот момент образ неизбежно напоминал древнейший японский обряд сеппуку или харакири. По мере того как зрители робко отрезали крошечные кусочки ткани, напряжение возрастало. Сейчас никто уже не помнит, насколько далеко зашло разрезание одежд в тот вечер, но когда позже ей доводилось повторять этот перформанс, она нередко оставалась абсолютно обнаженной, а иногда утрачивала даже часть своей великолепной шевелюры.
Йоко покинула Японию 23 сентября 1964 года на самолете авиакомпании «Пан Америкэн», вылетавшем в Сан-Франциско. Свой отъезд она объяснила тем, что якобы возвращается в Нью-Йорк, чтобы завершить образование. Тони остался на родине жены с дочерью Киоко.
Глава 25 Сказка о двух городах
Нью-Йорк
Находясь в Японии, Йоко принималась рыдать при одной только мысли о Нью-Йорке. Но стоило ей вернуться сюда, как у нее появилось гораздо больше причин для слез. Возвращение Йоко на авангардистскую сцену оказалось исключительно неудачным. Ее назойливая манера популяризации собственного искусства настолько надоела серьезным покупателям, что такие ценители, как Айвен Карп из галереи Гастелли, бегали от нее, едва завидев. Но не только в этом заключалась причина неудач. Концептуальное искусство по определению неосязаемо, а значит, его очень трудно продать. А именно к этому и стремилась Йоко – продавать свои произведения: всюду, куда бы она ни шла, она раздавала листки бумаги с отпечатанным на них прайс-листом.
В этом каталоге было все: кассеты с записью шума падающего в Индии снега; тактильные стихотворения, стоимость которых варьировалась в зависимости от использованного материала; машины, которые плакали, говорили или сообщали вечное время; планы домов, продуваемых ветром насквозь, или таких, где было видно все, что происходит внутри, но не видно, что происходит снаружи; картины, которые зритель должен был воспроизводить у себя в голове; садовые наборы, состоящие из дыр для облаков и тумана; письма и ответы на них; воображаемая музыка; нижнее белье, подчеркивающее физические недостатки, а также неопубликованные или опубликованные тексты «Грейпфрута». Идеи, шутки, фантазии – и ничего, что можно было бы повесить на стену.
Вероятно, наиболее всеобъемлющее суждение о Йоко прозвучало из уст Энди Уорхолла. Как-то вечером Энди и его кинорежиссер Пол Моррисси увидели Йоко на благотворительном концерте. Она стояла за куском материи, в которой была проделана дыра, и через эту дыру пожимала всем желающим руки. Когда Моррисси спросил: «Кто это?», Энди ответил: «Она все время путается под ногами. Она все время что-то делает. Она все время кому-то подражает».
Когда стало ясно, что усилия Йоко не имеют успеха, она восстановила отношения с Тони Коксом. Он приехал к ней в начале 1965 года и привез с собой Киоко. Но Йоко не захотела жить с дочерью, и Тони договорился о том, чтобы поместить ребенка в семью Уайти Кэцца, который был коллегой его отца и жил на Лонг-Айленде с женой и пятью детьми. В течение девяти последующих месяцев маленькая Киоко редко виделась со своими родителями.
Тем временем Тони решил проблему бесплатного жилья с ловкостью, присущей только таким жуликам, каким был он сам. Он подыскивал квартиру в Гринвич-вилледж, вносил обязательный аванс в размере трехмесячной арендной платы, а когда подходил срок следующего платежа, попросту «забывал» о нем. По прошествии времени домовладелец затевал процедуру выселения, и, таковы уж законы Нью-Йорка, процесс этот затягивался надолго.
Пытаясь любым путем привлечь к себе внимание. Тони и Йоко предложили свою помощь некоммерческой радиостанции «WBAI», которая специализировалась на культурных программах и готовилась к проведению благотворительного концерта в Таун-холле, запланированного на 14 августа 1965 года. Тони стал работать в паре с продюсером концерта Норманом Симаном,а Иоко исполняла роль секретарши. В ходе работы она познакомилась с музыкальным директором радиостанции Энн Макмиллан, прямой и открытой женщиной, которая пришла в ужас, увидев, в каких условиях жили супруги Кокс в тех квартирах, что снимали в течение этого лета на Гудзон-стрит и Кристофер-стрит. «Я вовсе не мещанка, но, Боже мой! какие же это были дыры! У меня просто сжималось сердце». Здесь царила духота, точно в сауне, грязь, словно в выгребной яме, и повсюду кишели тараканы, о которых один из гостей сказал, что они обрамляли неподвижное лицо Йоко, наподобие восклицательных знаков. Теперь в этих условиях жила и Киоко: отец настоял на том, чтобы забрать ее из Лонг-Айленда, но поскольку родители были постоянно заняты, они часто оставляли девочку дома одну, усаживая ее на ворох старых газет, поскольку она не была приучена самостоятельно ходить в туалет. «Ради всего святого! – взорвалась однажды Энн Макмиллан, обнаружив ребенка в таком виде. – Почему вы не доверите ее кому-нибудь, кто хочет о ней позаботиться?» Иоко как раз прилагала немало усилий, чтобы раз и навсегда отделаться от этой неприятной обузы, но все попытки терпели неудачу. У Тони была бездетная замужняя двоюродная сестра, которая была готова взять девочку к себе, но ее муж был против, опасаясь того, что через какое-то время Йоко переменит решение и захочет забрать дочь. Йоко подыскала семью, которая была готова пойти на риск, но на этот раз воспротивился уже Тони, который решил взять на себя заботы по уходу за Киоко.
Когда наступило лето 1966 года, Иоко Оно и Тони Кокс стояли на краю своего совместного творческого и семейного пути. В этот самый момент Марио Лмая, симпатичный молодой человек из Бруклина, переселившийся в Лондон и основавший там новую газету «Искусство и артисты», чьей целью было познакомить флегматичных британцев с последними необычными событиями в мире искусства, пригласил Йоко, чьи работы были ему незнакомы, принять участие в выставке, которую он решил организовать в Лондоне под названием «Симпозиум по саморазрушающему искусству». Несмотря на то, что Йоко вряд ли могла позволить себе потратиться на поездку в Англию для участия в этом симпозиуме, идея настолько заразила ее, что стала навязчивой.
И очень скоро они с Тони серьезно сцепились по вопросу о том, нужно ей ехать или нет. Конфликт ставил под угрозу дальнейшую совместную жизнь, и супруги решили обратиться за помощью к юристу по семейным вопросам.
Эл Кармайнс служил помощником священника в церкви Джадсон, и его основной задачей было оказание помощи семейным парам, попавшим в трудное положение. Познакомившись с Коксами, он заметил, что Йоко «играет роль восточной жены – спокойной, покорной, прислуживающей собственному мужу. Но я сразу понял, что в глубине души она снедаема плохо скрытым честолюбием. Она хотела поехать в Англию, а Тони боялся предоставить ей такую свободу». Чем большим собственником казался Тони, тем больше Иоко замыкалась в себе и стремилась от него сбежать. Йоко отметала любые вопросы, предложения или аргументы Кармайнса, направленные на то, чтобы заставить ее сосредоточиться на семейных проблемах, вместо того чтобы думать о поездке в Англию, – священник был вынужден признать, что Йоко была «железной женщиной... одной из самых сильных личностей, которых мне доводилось встречать... Эта сила одновременно пугала и вызывала восхищение».
По истечении двух месяцев Кармайнс понял, что делать нечего. «Если бы Йоко хотела спасти семью, у них бы это получилось, – сказал он в заключение. – Несмотря на весь свой мужской шовинизм. Тони был готов на все, лишь бы наладить семейную жизнь. Но она не хотела оставлять все как есть». Во время последнего сеанса Иоко объявила: «На следующей неделе я уезжаю в Лондон». Тони заявил: «Я вовсе не уверен, что она поедет в Лондон». На что Йоко ответила: «Нет, поеду». Коксы вернулись к исходной точке, где находились в тот день, когда пришли на первую консультацию. Йоко протянула Кармайнсу руку и сказала: «Мне было приятно с вами познакомиться». В следующий раз он услышал ее имя уже в связи с Джоном Ленноном.
Лондон
В начале сентября 1966 года в квартире Марио Амая раздался звонок. Открыв дверь, он обнаружил на пороге Йоко Оно, Тони Кокса и Киоко. Они только что сошли на берег после долгого плавания на борту сухогруза, пришедшего из Монреаля, и им негде было остановиться. «Что мне с ними делать?» – спросил по телефону Амая у историка Кена Дэвидсона, с которым как раз собирался пообедать. «Тащи их сюда», – великодушно ответил Дэвидсон. Несколько минут спустя вся компания сидела за столом в уютном ресторане на Годфри-стрит. «Объясните мне, что такое концептуальное искусство», – попросил Дэвидсон у Иоко. Молодая женщина пустилась в пространные рассуждения о древнем мосте в Киото, считающимся национальным достоянием, откуда никто не уходит, не прихватив на память камешка. «Дорогая, – ответил на это Дэвидсон, -а вы не считаете, что было бы гораздо интереснее, если бы вы пошли на этот мост и ничего оттуда не взяли?»
Иоко очень понравилась эта мысль, и она попыталась реализовать ее в своем последующем творчестве.
В Лондоне у Коксов был внушительный перечень имен и телефонных номеров всех, кто так или иначе был причастен к художественной жизни. Пользуясь этими связями, им удавалось ежевечерне посещать различные приемы, где они могли хотя бы поесть. Вскоре к ним проникся симпатией художник-сюрреалист Адриан Моррис. Однажды вечером они оказались на приеме в доме у Моррисов в Челси. Уже собираясь уходить, Тони и Иоко рассказали хозяевам душещипательную историю о том, что арендованный ими дом еще не готов к заселению и что им приходится тратить бешеные деньги на гостиницу, и попросили приютить их на эту ночь. Они пробыли у Моррисов весь уик-энд, а в понедельник утром даже не сделали вид, что собираются уходить. Моррис, который очень любил свою «маленькую Иоко», разрешил им остаться. В течение четырех месяцев Иоко, Тони и Киоко жили в комнате, которую Моррис окрестил «окружающей средой». Постельное белье ни разу не менялось, все было заляпано грязными пятнами, пол усеян фотографиями, а на гвозде висел засохший презерватив. В помещении стояла жуткая вонь.
Исследуя лондонскую театральную сцену. Коксы довольно быстро обнаружили Мэйсонз Ярд – бывший манеж, расположенный в Сент-Джеймсе, который к этому времени считался святая святых андеграунда и новой контркудьтуры. Мэйсонз Ярд, который раньше был излюбленным местом сборищ гомосексуалистов, посещавших знаменитые на всю округу местные общественные туалеты, и наркоманов, забегавших после трудовой ночи позавтракать «У Гаса» – в рабочем баре, талисманом которого являлся огромный кот с набриолиненной шерстью, в одночасье превратился в самое модное место в городе, после того как здесь открылась «Скотч оф Сент-Джеймс», принявшая у «Ад Либ» эстафету наикрутейшей дискотеки продвинутого Лондона.
Дирекция заведения, стремившаяся заполучить элиту бит-музыки, подмечала, на какие места предпочитали усаживаться члены разных групп, а затем прикрепляла к этим столикам и креслам таблички с надписями «Битлз» или «Роллинг Стоунз». И если рок-звезда появлялась тогда, когда ее столик был занят, менее желанный посетитель тотчас пересаживался на другое место.
Особую изюминку заведению придавали проходившие здесь время от времени джем-выступления известнейших шоуменов, таких, как Пол Маккартни, который однажды собрал на местной сцене группу, в состав которой вошли барабанщик Сэмми Дэвиса-младшего, органист Дэйва Кларка и музыкант из группы «Мармалэйд». Кроме того, здесь можно было увидеть прорывавшихся на лондонскую сцену Айка и Тину Тернер или уж совсем неизвестных музыкантов, чья слава была еще довольно далеко, таких, как Хосе Феличиано или Джо Кокер.
В Мэйсонз Ярде «Битлз» привлекала не столько «Скотч», сколько галерея и книжный магазин «Индика» (от cannabis indica117). Открытая на деньги Питера Эшера, у чьих родителей в доме жил Пол Маккартни, и управляемая двумя молодыми людьми – Джоном Данбаром (другом детства Питера и мужем поп-звезды Мэрианн Фэйтфул) и лучшим другом Пола Майлзом, «Индика» ставила своей целью познакомить Лондон и его обитателей с новой культурой андеграунда. Майлз, пропагандировавший творчество писателей бит-поколения, организовал в июне 1965 года прием в честь Аллена Гинсберга, на который пригласил «Битлз». Когда Джон и Джордж появились среди гостей в сопровождении Синтии и Патти, американский поэт был уже в стельку пьян. Толстый и волосатый автор «Воя» стоял в центре комнаты совершенно голый в трусах на голове и с табличкой с надписью «Стоянка запрещена», болтавшейся у него между ног. Джон Леннон, которого шокировали эксцентричные выходки других, коротко взглянул на бородатого барда и пробормотал: «Только не перед девчонками, чувак!»
Пол Маккартни с самого начала оказывал поддержку «Индике», вложив в дело пять тысяч фунтов и даже приняв личное участие в монтаже полок и покраске стен. Такое поведение вполне вписывалось в образ Пола, который стремился быть причисленным к авангарду, везде появлялся в обществе Уильяма Берроуза и предавался странным эстетическим экспериментам. Джон, который по-прежнему продолжал называть себя «антиинтеллектуалом», с большим подозрением смотрел в ту сторону, куда Пол увлекал группу. Но Леннон всегда проявлял себя человеком, следующим веяниям моды, поскольку, как он сам неоднократно объяснял, влияние «Битлз» на формирование современных вкусов заключалось не в том, что они изобретали что-то новое, а в том, что умели раньше других уловить новые течения, находившиеся еще в стадии эфемерных вибраций, и усилить их благодаря собственной популярности. Такова была сцена, подготовленная для встречи Джона Леннона и Йоко Оно осенью 1966 года.
Майлз прекрасно запомнил тот день, когда Иоко впервые появилась в галерее: «Теперь я признаю, что ее отличала типичная для жителей Нью-Йорка бешеная энергия. У нее была мертвая хватка, и от нее было невозможно отвязаться». В противоположность Майлзу, Джон Данбар гораздо легче поддался ее напору. Правда, сегодня он утверждает, что если бы захотел погубить Джона Леннона, то не смог бы придумать ничего лучше, чем познакомить его с Йоко Оно. Как только Коксы нашли благодетелей, согласившихся финансировать их шоу, Данбар назначил им дату. Ни Йоко, ни Тони не собирались утруждать себя изготовлением собственных произведений: воплощение их идей было поручено трем талантливым студентам из Королевского художественного колледжа.
Коксы, безусловно, обрадовались, когда узнали о том, что «Битлз» часто бывали в галерее «Индика», что они покупали здесь журналы и книги и обязательно посещали все выставки. (Когда Джон зашел сюда в первый раз, он попросил найти какое-нибудь описание аккумуляторов человеческой энергии и спросил Ницше. Джордж купил несколько иллюстрированных томов по тантрическому искусству, а Пол, занимавшийся благоустройством нового дома в Сент-Джонс-Вуд, приобрел журналы «Домус». Майлз отмечал, что «Битлз» не особенно увлекались чтением, но здорово вдохновлялись, рассматривая картинки.) Тони и Йоко почувствовали приближение удачи и набросились на «Битлз», точно хищники на свою жертву.
Йоко всегда любила разыгрывать карту Джона Кейджа, рассказывая о своем длительном и плодотворном сотрудничестве с величайшим американским композитором-авангардистом. Познакомившись с Полом, она рассказала ему, что собирает для публикации партитуры всех великих музыкантов XX века, от Стравинского до «Битлз», – и все это под руководством Джона Кейджа. Несмотря на то, что этот треп выглядел вполне правдоподобно. Пол Маккартни не собирался передавать свои рукописи этой маленькой назойливой незнакомке. Он не без издевки предложил ей обратиться к Джону, которого приводило в восторг все, что касалось авангарда.
В тот памятный вечер – в понедельник 9 ноября 1966 года – Джон совершенно ничего не соображал. За три последних дня он не сомкнул глаз, утонув в «кислоте» по самую макушку. Но его поджидала Йоко. «Йоко бросила на Джона один-единственный взгляд и тут же прилипла к нему, точно пиявка, – рассказывает шофер Леннона Лес Энтони. – Она повисла у него на руке, пока он рассматривал выставку, и не переставая все время о чем-то рассказывала своим тоненьким пронзительным голоском, пока он в конце концов не сбежал».
Позднее Леннон совсем по-другому и гораздо подробнее описал эту встречу, как и прочие эпизоды его широко разрекламированных отношений с Йоко. Он вспомнил о том, как забрался на лестницу, чтобы рассмотреть холст, прикрепленный к потолку; с него свисала лупа, при помощи которой можно было прочитать одно-единственное слово, напечатанное на холсте мелким шрифтом. Леннон ожидал подвоха, дающего понять зрителю, что он напрасно так высоко залез, и был приятно удивлен, прочитав слово «Да». Еще ему запомнилось, как он подошел к доске, рядом с которой лежали молоток и гвозди. Леннон захотел вбить гвоздь, но Йоко пожелала, чтобы доска осталась нетронутой до открытия вернисажа. Когда же Джон Данбар стал настаивать, она сказала Леннону, что это будет стоить ему пять шиллингов. «А если я вобью воображаемый гвоздь за воображаемые пять шиллингов?» – возразил на это Леннон. Позднее Иоко призналась, что нашла этот ответ очень забавным. Вообще-то ей было бы намного приятнее, если бы Джон, вслед за которым она выскочила из галереи на Дьюк-стрит, предложил ей составить ему компанию. Вместо этого он извинился, сославшись на то, чтет его ждут в студии. «Возьмите меня с собой!» – взмолилась Йоко. «Нет, мы очень заняты!» – раздраженно рявкнул Джон и захлопнул дверцу своего «мини».
Когда Йоко рассказала Тони, что познакомилась с Ленноном, он стал настаивать на том, чтобы она постаралась извлечь из этого максимум выгоды. Йоко не требовалось подгонять. Она нацелилась на Джона и уже через два дня сумела проскользнуть мимо охранников и пробраться в помещение Студии 2 на Эбби-роуд. После того как ее выставили за дверь, она продолжала сшиваться перед зданием, смешавшись с группой молодых поклонниц, которые проводили здесь день и ночь даже в самую холодную погоду в ожидании возможности увидеть кого-нибудь из «Битлз» или даже поприветствовать их.
Однажды вечером, когда Джон и Синтия садились в свой лимузин, Йоко бросилась вперед и уселась между ними. Они высадили ее возле дома, но теперь она стала преследовать Джона и в Кенвуде. Она настойчиво околачивалась перед домом, и как-то раз, когда на улице было особенно холодно, дело дошло до того, что миссис Пауэлл пожалела ее и пригласила в дом, чтобы Иоко могла вызвать себе такси. Йоко воспользовалась моментом и забыла на телефонном столике кольцо, за которым вернулась через некоторое время. Она засыпала Джона письмами с требованием денег. «Если вы не окажете мне поддержку, все будет кончено! Я убью себя!» – угрожала Йоко. Синтия, которая уже недоумевала по поводу этой странной маленькой японки, была шокирована, когда однажды увидела, как Джон открыл посылку, полученную от Йоко, и вытащил из нее коробку из-под «Котекса», в которой лежала разбитая чашка, измазанная в красной краске.
Тактика, которую избрала Йоко, навсегда отвратила бы от нее нормального мужчину, но Джону все это льстило. Он привык к тому, что был скорее дичью, нежели охотником; однако большая часть девушек, которые преследовали его, вызывала у него презрение: это были групи, девицы из шоу-бизнеса, шлюхи или маленькие фанатки, которых ему доставляли прямо в номер, точно бифштекс. В течение всех этих лет, прошедших со времени бурного романа с Синтией еще в колледже, он не только не влюблялся, но даже и не увлекался сколь-нибудь серьезно другой женщиной. Вся его страсть – странный сплав любви и ненависти, являвшийся сутью существования, в течение долгого времени была сфокусирована на Брайене Эпстайне, которого Джон, по его собственному признанию, сделанному много лет спустя, «любил больше, чем женщину».
Женщине, поставившей себе целью соблазнить Джона Леннона, нужно было обладать сильным мужским характером. Таким характером в достаточной степени обладала Иоко Оно, но это было не единственное ее преимущество перед остальными: Джон испытывал слабость к азиатским женщинам, а с недавних пор проникся восхищением к нью-йоркскому авангарду, чьим представителем в Лондоне гордо объявила себя Йоко. Кроме того, Джон считал, что ему нечего опасаться, поскольку все козыри у него. Он привык к тому, чтобы снимать женщин ради легких забав на заднем сиденье лимузина. Так зачем же отказывать Йоко?
«Джон начал давать слабину, – рассказывает Лес Энтони. – Пришел день, когда Синтия уехала на север, а Йоко приехала к ним домой, чтобы поговорить о спонсорском участии Джона в своем шоу. Они назвали это деловой встречей. Но она уехала лишь утром, и после этого Джон уже не мог без нее обходиться... Первое время, до того как Джон оставил Синтию, он, если так можно выразиться, обхаживал Иоко на заднем сиденье автомобиля, пока я возил их по окрестностям».
Как же отличается рассказ очевидца от голливудской фантазии, которую через несколько лет сочинили и обнародовали Джон и Иоко! Они утверждали, что прошло целых полтора года с момента их первого знакомства и до того дня, когда они слились в обоюдной страсти в Кенвуде. Если верить Лесу Энтони, который явно был в курсе дела, от первой встречи и до первой постельной сцены прошло не более трех недель.
Связь с Джоном Ленноном не принесла облегчения и без того запутавшейся Иоко. Кстати, с Тони не возникло никаких проблем, напротив, он всячески поощрял ее роман с Ленноном. Как верно заметил Адриан Моррис: «Тони попал в свою собственную ловушку». Но Йоко с трудом мирилась с вызывающим поведением Джона, который вел себя как настоящий мачо. Привыкшая к тому, что Тони обращался с ней, как с маленькой принцессой, она вдруг оказалась лицом к лицу с чувствительной и враждебной суперзвездой, которая к тому же непрерывно глушила себя наркотиками. «Я был способен заставить заткнуться любую женщину, – рассказывал Джон несколько лет спустя. – Чаще всего побеждал тот, кому удавалось перекричать другого. Мне было неважно, прав я или нет, я все равно выходил победителем, особенно с женщинами. Все они рано или поздно сдавались. Но только не Иоко. Она могла продолжать часами, до тех пор пока до меня не доходило. Именно тогда я начал уважать ее». Но не только упорство было основным достоинством Йоко. В ней Джона Леннона привлекало то, что она идеально подходила для исполнения звездной роли в той грандиозной пьесе, которую он сам себе придумал.
«Я всегда мечтал о том, чтобы познакомиться с артисткой, в которую мог бы влюбиться, – признался Джон. – Я думал об этом еще тогда, когда учился в художественном колледже. Когда мы познакомились и разговорились, я понял, что она знает то же, что знаю я, а может быть, даже больше. И все это варилось в голове у женщины. Меня это просто потрясло. Я понял, что напал на золотую жилу. Это был человек, с которым я мог договориться или разругаться, как с каким-нибудь старым приятелем, но с которым я мог еще заняться любовью и который мог погладить меня по голове, когда я уставал, болел или впадал в депрессию. Кто мог заменить мне мать. В общем, это было так, точно я выиграл большой приз». Иоко Оно дала Джону возможность реализовать самую старую и самую глубокую свою фантазию: объединить в одном лице мать, любовницу и друга. Непрерывное преодоление сексуальных преград и барьеров инцеста – вот где был ключ взаимоотношений этих двух людей, о чем, кстати, свидетельствовала и странная привычка Джона говорить о Йоко, используя безличное местоимение «оно». В воображении Леннона Иоко Оно олицетворяла сказочный персонаж, которого встречает герой, когда попадает в беду или в трудное положение и который решает все его проблемы. Прекрасным подзаголовком «Баллады– о Джоне и Иоко» могло бы стать название «Кот в сапогах».
«Спящая красавица» тоже подходит, поскольку уже в течение нескольких лет Джон сидел взаперти в Кенвуде и мечтал о прекрасной принцессе, которая бы пришла и разбудила его своим поцелуем. "Поскольку я был чрезвычайно застенчив, – признался Джон, – особенно когда дело доходило до красивых дам, мне всегда требовалось, чтобы она (Йоко) была достаточно агрессивной, чтобы «спасти меня», то есть «вытащить из всего этого». Иногда он сравнивал Йоко с наркотиком: «Она приходила, начинала со мной разговаривать, и я в конце концов улетал. Споры доводили меня до того, что я улетал все выше и выше. А когда она уходила, я возвращался к своей серой жизни. Затем я встречался с ней снова, и снова ощущения становились похожими на кислотное путешествие... Я зацепился после первой же дозы. Я уже не мог без нее обходиться». На этом этапе Иоко уже не требовалось быть с Ленноном агрессивной. Она могла перейти к более мягкой, но не менее эффективной тактике, чтобы воспользоваться состоянием и известностью звезды ради продвижения собственной карьеры.
В начале 1967 года Моррис наконец попросил Коксов уехать. Уезжая в отпуск, он и его жена Одри оставили дом на Тони и Йоко, и с тех пор здесь воцарились такой беспорядок и такая грязь, что женщина, которая там убиралась, пришла в ужас и перестала убираться вовсе. Перед самым отъездом Морриса Иоко рассказала ему, что влюблена в «бизнесмена» – это было кодовое имя, которое она дала Джону Леннону, – и что он очень осложнил ее жизнь.
Двоюродный брат Иоко Хидеаки Кадзе вспоминает, как навестил ее в начале января 1967 года, обнаружив ее лежащей на огромной кровати в белом неглиже, подложив под спину несколько подушек, в то время как Тони спал на диване, завернувшись в одеяло. Когда Кадзе вошел к ним. Тони было приподнялся, но тут же снова погрузился в глубокий сон. «Не обращай на него внимания», – по-японски сказала брату Иоко. Их беседа продлилась около двух часов. Иоко ругала Японию и рассказывала о своей сказочной карьере в Англии, хвастая тем, что основала движение «Власть Цветов», изобрела хэппенинги и массу других модных эстетских новшеств. Нет сомнения в том, что и Джона Леннона она кормила теми же россказнями, слушая которые он улетал все выше и выше. Джон нашел себе приятеля-гения.
Еще один японец встречался в то же время с Йоко – Танака Кодзо, который прожил десять дней в той же гостинице, куда переехали Коксы. Йоко пожаловалась ему на то, что не в состоянии продолжать вести столь жалкое существование, что Тони ни на что не годен и что она хочет оставить его. Тем не менее эта гордая и сильная женщина не осмелилась уйти от мужа, пока не убедилась, что другой мужчина готов обеспечить ее всем, к чему она стремилась: богатством, властью и славой.
Глава 26 Сержант Пеппер Маккартни
Фотографии, которые были сделаны во время записи «Сержанта Пеппера», открыли публике совершенно нового Джона Леннона. Вместо обычной клоунской маски – разинутого рта, вытаращенных глаз – все увидели молодого человека, который внезапно постарел лет на сорок. Бабушкины очки не скрывали глаз, выпученных, точно у дохлой рыбы. Сухие, опущенные книзу усы подчеркивали странность постаревшего лица, а сутулые плечи скорее пристали вышедшему на пенсию портье. Как подметил Майлз, «Джон решил разрушить свое эго. И ему это удалось». Гибель собственного эго в результате злоупотребления ЛСД и изучения «Тибетской Книги Мертвых» не была единственной причиной метаморфозы Джона.
Во-первых, он никогда не принимал «кислоту» во время записи, а во-вторых, его плохое настроение улетучивалось, как только работа в студии подходила к концу. Так что причину надо было искать либо в употреблении более сильных наркотиков, либо в серьезном эмоциональном расстройстве. На самом деле, оба эти фактора действовали одновременно. Джон не мог смириться с тем, что Пол все больше брал на себя руководство группой. Эту угрозу Джон ощущал уже в течение многих лет, может быть, с того самого дня, когда они с Маккартни только познакомились. Будучи более энергичным человеком и более одаренным музыкантом, Пол всегда имел на руках те козыри, которых не доставало Джону, но так как он был моложе Джона и по возрасту, и по опыту, это удерживало обе конфликтные личности от того, чтобы сцепиться друг с другом раньше. Кроме того, в группе существовало некое распределение обязанностей. Пол, который ощущал себя в мире шоу-бизнеса как рыба в воде, взял на себя роль фронтмэна «Битлз» на сцене и фактического менеджера группы за ее пределами, в то время как Джон довольствовался образом гордого артиста-одиночки и исполнял большую часть песен на пластинках. Все последние годы он неизменно записывал свою песню на стороне "А" любого сингла и львиную долю вещей на альбомах. Свое лидерство он видел в том, чтобы быть основным певцом. Несмотря на то, что публика воображала, будто оба лидера группы очень близки друг к другу, дела обстояли совсем иначе. Джон сравнивал их взаимоотношения с поведением двух солдат, оказавшихся в одном окопе, от каждого из которых зависела жизнь другого. Стоило стрельбе прекратиться, как у обоих пропадало всякое желание оставаться вместе. Во время гастролей Джон селился в одном номере с Джорджем, а Пол – с Ринго. Леннон и Маккартни никогда не откровенничали друг с другом. На вопрос журналистов, которые попросили Джона рассказать о связи Пола с Линдой Истман, Джон ответил, что они уже давно перестали обсуждать друг с другом проблемы личной жизни. У них были разные компании, они появлялись в разных местах. Когда Леннон впал в прострацию перед «кислотным буддой», он нарушил тем самым хрупкое равновесие, которое сохранялось между ним и его партнерами. Чем более пассивным и замкнутым становился он сам, тем большую активность проявлял его соперник, который прогрессировал с огромной скоростью, постоянно обрушивая на головы других Битлов свои последние открытия – от Вивальди до Стокхаузена, от самых последних достижений в области звукозаписи до нового звучания прото-синтезатора «Меллотрона».
Все это неизбежно делало Пола единоличным лидером группы. Первым результатом этого возвышения стал лучший из сборных альбомов «Битлз» «Revolver». Этот альбом обозначил завершение перехода от рок-н-ролла к року, начатый еще в «Rubber Soul». Термин «рок» был намеренно взят на вооружение музыкантами, чтобы провести черту между музыкальными стилями шестидесятых и пятидесятых годов. Рок предполагал использование умных текстов, касающихся серьезных тем. Рок означал новое звучание и музыкальный язык, собранный из всех эпох по всему миру. Но рок означал еще и новое психоделическое сознание и чувственность, которые прививались путем широкого распространения ЛСД. Первый же трек альбома явился сигналом вступления в новую эру. Вместо ожидаемых музыкальных аккордов раздались покашливания, а затем чей-то голос произнес: «Раз, два...» Такое вступление в стиле cinema-verite118, которое подчеркивало тот факт, что «Revolver» не безличный продукт, а плод студийного труда пятерых живых людей, положило начало совершенно новой игре, в ходе которой рок-группы будут жонглировать реальностью и иллюзией подобно тому, как этим испокон веков занимались драматурги и режиссеры. Тема первой песни также означала наступление коренных перемен. Если и есть в мире сфера, не касающаяся тинейджеров, так это проблема сбора налогов. Таким образом, выстрелив первую пулю из своего револьвера в сборщика налогов119, «Битлз» сразу покончили с распространенным доселе мнением, благодаря которому группа ассоциировалась исключительно с молодежной аудиторией, и причислили себя к более зрелому поколению, которое сумело оценить смелость музыкантов, выразивших свои эстетические запросы без традиционной любовной тематики. Каждая песня, записанная на «Revolver», помимо того что являлась новой вещью, открывала совершенно новые перспективы. «Eleanor Rigby» со струнным квартетом и персонажами, сошедшими со страниц романа Диккенса, напоминала о далеком прошлом, в то время как «Tomorrow Never Knows», в которой голос робота звучит на фоне какофонической смеси звуков, приглушенных завываний скрипок и мучительных гитарных риффов, была неким пророческим жестом в направлении психофармацевтического будущего. А между этими двумя крайностями «Yellow Submarine»120 (которую, кстати, многие считали песней о нембутале, продававшемся в форме продолговатых пилюль желтого цвета) звучала как смешная уличная песенка, a «Good Day Sunshine»121 – как веселая и беспечная ария из музыкальной комедии. Так кто же был главным ответственным за выпуск такого галлюциногенного альбома? До сих пор ответом всегда было имя Джона Леннона. Тем не менее к этому моменту ситуация в корне изменилась. Пол достиг абсолютного равенства с Джоном как композитор, написав «Элинор Ригби», которая, несмотря на свою сентиментальность, была не менее хороша, чем лучшая вещь Джона на этом альбоме – «Tomorrow Never Knows». Кроме всего прочего, две эти песни явились подтверждением того, что Джон и Пол были не только равны, но и представляли друг другу полную противоположность в искусстве, так же, как это всегда было в жизни. Именно Полу, вдохновленному познанием чудес мира лондонской культурной жизни, открывшейся ему благодаря общению с Эшерами, принадлежала заслуга использования всех технических новшеств, которые можно услышать на «Револьвере». Джон Леннон, еще более замкнутый и настороженный, никогда не поддался бы влиянию новых течений и веяний, если бы не уступил соблазну и не принял вызов, брошенный ему Полом. По иронии судьбы, именно Джон, обратившийся в новую веру, повел «Битлз» дальше, к еще более высоким горизонтам, но к этому времени в том же направлении стал двигаться уже весь мир. Когда в ноябре 1966 года «Битлз» начали записывать треки будущего диска, которым стал «Сержант Пеппер», Пол Маккартни был уже де-факто художественным руководителем группы. С самого начала «Сержант» был его альбомом. Ему принадлежал замысел пластинки, он написал по меньшей мере половину вещей, он руководил звукозаписью, контролировал сведение и принимал участие в разработке обложки. Джон Леннон чувствовал себя униженным силовыми методами Пола, он даже сетовал на то, что его партнер захватил лидерство, поставив его перед свершившимся фактом. "Когда Пола начинало поджимать, – ворчал Леннон, – он появлялся с двумя десятками хороших песен и говорил: «Будем записывать». И мне тоже приходилось срочно сочинять хренову кучу песен. Вот так и был записан «Сержант Пеппер». Конечно, Леннон преувеличивал. Но даже если бы его слова оказались правдой, такое поведение вряд ли можно было поставить Полу в вину. Поскольку такая ситуация только подтверждала то, о чем все и так давно догадывались: власть, которую Пол приобрел в составе группы, стала прежде всего следствием возрастающей апатии Леннона. Что стало бы с «Битлз», если бы Пол не «заявился с двумя десятками хороших песен»? Ответ простой: они никогда не записали бы того альбома, который принес «Битлз» наибольший успех. А погруженный в летаргический сон Леннон, возможно, не написал бы своих лучших песен. Чтобы оценить, насколько мягко, по оценкам рок-мира, взял власть в свои руки Пол, достаточно сравнить это с тем, какими методами Мик Джаггер сумел вытеснить основателя и лидера «Роллинг Стоунз» Брайена Джонса. В обоих случаях гений группы переключился на наркотики и полностью утратил творческую активность. И тогда эстафету принял молодой и честолюбивый лейтенант, выбрав то направление, которое активно не принимал бывший лидер. Но на этом сходство заканчивается.
Пол никогда не пытался отделаться от Леннона.
Напротив, до самого последнего года жизни Джона он не оставлял попыток возродить прежнее сотрудничество. Несмотря на то, что Джон серьезно обижался на Пола за проявление авторитарности, он ни разу не сделал попытки что-либо изменить.
Вместо того чтобы раз и навсегда расставить все по своим местам, что было бы нормально для старых партнеров, Джон предпочитал обижаться и забиваться в нору, точно испуганный зверек.
Леннон не стремился быть лидером, но и идти вслед за кем-то тоже не хотел, поэтому ему оставалось лишь самоустраниться. Такое поведение не только привело к окончательному распаду «Битлз», но и обозначило начало длинного и мучительного процесса, который в конце концов разрушил и самого Джона Леннона. Джон не был единственным Битлом, которого охватила депрессия в период записи «Сержанта Пеппера». Все ребята, за исключением Пола, были измотаны беспрецедентно тяжелой работой. С ноября 1966-го по март 1967 года они провели в студии семьсот часов, и каждая минута была посвящена выпуску нового ежегодного весеннего альбома. Основной проблемой явилось даже не направление, в котором Пол увлекал за собой группу, а необходимость работать над пластинкой, которая была призвана расширить границы звукозаписи поп-музыки, не имея при этом доступа к необходимым техническим средствам.
Студия 2 на Эбби-роуд, построенная в 1931 году, напоминала простой маленький кинотеатр, из которого убрали кресла, а аппаратную перенесли вбок. Эта студия, помимо того что была неудобной и неуютной, имела к тому же очень слабое техническое оснащение. Пульт был настолько примитивен, что иногда требовалось целых полчаса, чтобы записать простой плей-бэк.
Четырехдорожечные магнитофоны были устаревших моделей, а электроинструментов почти не было. Например, чтобы добиться в «Yellow Submarine» такого звука, словно голос проходит через трубу, звукоинженер, вместо того чтобы повернуть рычажок и включить соответствующий фильтр, заставил Джона кричать в чертежный картонный тубус. Существовало простое решение всех этих проблем, которое, кстати, уже давно было взято на вооружение музыкантами «Роллинг Стоунз». «Битлз» надо было сесть на самолет, вылетающий в Нью-Йорк или лучше в Лос-Анджелес, чтобы оказаться среди лучшей в мире звукозаписывающей аппаратуры. Но, как ни странно, «Битлз» всегда смиренно подчинялись бережливой политике «И-Эм-Ай». Будучи честолюбивыми, работоспособными и исключительно творческими молодыми людьми, они были напрочь лишены практичности и нахальства, которые бы позволили им выдвигать определенные требования и добиваться их удовлетворения.
Первооткрыватели, но отнюдь не бунтари, эти «милые рокеры» выжимали наилучшие результаты из того, что им давали, даже если им приходилось принимать довольно жалкий вид. Для того чтобы получить представление о том, какими были «Битлз» во время создания альбома, признанного шедевром рок-эпохи, достаточно представить их садящими в углу пустого и унылого зала, наподобие персонажей из перформанса «Сумерки богов». Большую часть времени им приходилось ждать. Они играли в шахматы или карты, пили чай, поедали тосты с фасолевой пастой или болтали с друзьями детства. Пол тем временем был жутко занят: он то взбегал вверх по лестнице в аппаратную для последней консультации с Джорджем Мартином, то кубарем скатывался вниз, чтобы попробовать микрофон, призывал остальных порепетировать свои партии, пока не наступало время прослушать только что сделанную запись, что означало еще один длинный перерыв в работе.
Иногда паузы затягивались настолько, что Джон Леннон внезапно выходил из транса и принимался орать: «Какого хрена вы там делаете! Вам не полагается никаких перерывов на чай! Вы должны работать все время, что мы здесь находимся, потому что мы хреновы Битлы!» Для того чтобы держаться в форме во время этой записи, «Битлз» приходилось принимать наркотики. По иронии судьбы, самое знаменитое произведение в жанре «кислотного рока» было создано под действием коктейля, который был изобретен еще во времена строительства Эбби-роуд. Однажды вечером Майлз раскрыл секрет терпеливости «Битлз», увидев у них пробирки с белым порошком. Когда ему предложили попробовать, он осторожно спросил: «А что это?» И услышал в ответ: «Это спидболл», – то есть классическая смесь кокаина и героина. Когда «Битлз» задумали отправиться в длинное путешествие, которое должно было привести их в «Пепперлэнд», они не представляли себе, куда заведет их этот путь.
Вместо того чтобы приносить в студию композиции, отработанные на сцене, они принялись работать, как джазовые музыканты, беря за основу некую призрачную идею, фразу, придуманную для названия песни, несколько музыкальных тактов или припев, нацарапанный на клочке бумаги. Песни с диска «Сержант Пеппер» стали плодом коллективной импровизации, в которой принял участие и Джордж Мартин, выступивший на этот раз не только в роли продюсера, но, наряду со всеми остальными, композитора, аранжировщика, звукоинженера и даже исполнителя. Это коллективное творчество имело как положительные, так и отрицательные последствия. Большим преимуществом являлось то, что, сочиняя прямо на пленку, они проскакивали промежуточный этап, который разделяет замысел и конечный продукт. В то же время этот процесс приводил к дополнительной потере времени, поскольку все пятеро далеко не всегда придерживались одинакового мнения. Джорджу Мартину нередко приходилось прилагать усилия, чтобы понять, чего хотят «Битлз», поскольку они выражали свои мысли очень расплывчато и редко использовали технические термины. Что же касается самих «Битлз», то все они были настолько разными и настолько неравноценными, что тянули общую повозку кто в лес, кто по дрова.
Для того чтобы решить эти проблемы, участникам группы было достаточно установить между собой нормальный контакт. Но «Битлз», искрометные на пресс-конференциях и болтливые с друзьями, совершенно не умели объяснить друг другу свои самые важные идеи. Полу удавалось добиваться своей цели лучше других, так как он заставлял группу записывать одну и ту же вещь бесчисленное множество раз, пока не получал запись идеального качества. Затем он вставал за спиной у инженеров и контролировал каждый шаг важнейшего процесса сведения. Джон терпеть не мог этой скучной работы. У него всегда было так: «Раз, два, три – записываем!» И если в течение нескольких первых попыток ничего не получалось, он был готов все бросить. Именно поэтому многие из его лучших композиций окажутся безнадежно искалеченными.
Как обычно, он станет винить в этом Пола Маккартни, о котором позже скажет: «Когда что-то получалось. Пол бессознательно старался это разрушить». Даже «Strawberry Fields» не минует эта горькая участь. Леннон сочинил свою знаменитую песню в течение шести длинных и тоскливых недель, которые провел в Испании на съемках фильма «Как я выиграл войну». (Несмотря на то, что Джон всегда превозносил спонтанно рождавшиеся композиции, такие, как «Across the Universe»122, которую он написал за один присест под действием внезапного прилива вдохновения, лучшие его произведения всегда были плодом долгих усилий.) Вернувшись в Лондон, он показал песню Джорджу Мартину, который нашел ее «нежной» и «милой». Когда же за нее принялась группа, она постаралась облечь песню в форму хард-роковой композиции, что отчетливо заметно по вступлению. Пол берет несколько нерешительных, потусторонних аккордов на «Меллотроне», в то время как Джордж перебирает пальцами по струнам индийской арфы, извлекая звуки волшебной гаммы -и то и другое означает прелюдию к некоей «запредельной» музыке. Но неожиданно Ринго шарахает по ударным... и магия исчезает. Честно говоря, в этом случае «Битлз» вряд ли можно в чем-либо обвинить, поскольку сам Леннон и понятия не имел, чего же он хотел добиться. «Strawberry Fields», неизменно считавшаяся песней о наркотиках и/или о детстве, передает, скорее, совершенно особое чувство реальности, которое было присуще Леннону, нежели чувство нереальности, поскольку здесь он объясняет, что реальное нельзя отделить от нереального и что пытаться сделать это означало бы напрасную потерю времени и сил. Такое понимание уходило корнями в его детство, полное безумных видений, когда даже отражение лица в зеркале могло таинственным образом преображаться. Первым этапом для передачи подобных состояний духа стал подбор соответствующей словесной текстуры. Решение Леннона было простым. Ему захотелось спародировать запинающийся сленг хиппи, людей, пребывающих в трансе и разговаривающих так, словно они делают шаг вперед и тут же шаг назад.
Кроме того, здесь он впервые использовал в тексте песни излюбленную игру двусмысленностями, которая позволила ему поставить главный вопрос, возникавший у него в результате собственных видений: что они давали ему – возвышали или принижали, делали мудрее или глупее нормального человека? И он пришел к странному выводу о том, что они делали его непохожим на всех остальных, словно без своих видений он походил на любого из живущих. В детстве Джон круглый год играл на пустырях, которые окружали приют Армии Спасения под названием «Земляничная поляна». "В этом месте было что-то, что всегда пленяло Джона, – рассказывает Мими. – Приют был виден из нашего окна, и он любил ходить туда на ежегодные праздники, которые устраивались в саду. Как только он слышал первые звуки оркестра Армии Спасения, он начинал тянуть меня за рукав, говоря: «Скорее, Мими, а то опоздаем!» (Может быть, именно благодаря воспоминаниям об этом на обложке «Сержанта Пеп пера» изображен духовой оркестр, ведь изначально предполагалось, что «Strawberry Fields» войдет в этот альбом, а музыканты на обложке будут одеты в строгую униформу солдат Армии Спасения.) Однако в памяти Джона навсегда запечатлелось, что детские радости неотвратимо связаны со страданиями. Он прекрасно понимал, что маленькие девочки в сине-белых платьицах были такими же сиротами, как и он. «Земляничная поляна» была для Джона не просто местом детских игр – она стала его духовным домом. Одиночество и замкнутость явились во многом следствием того, что Джон рано лишился родителей. Таинственный мир, о котором поется в песне, не имеет общих корней с состоянием наркотического опьянения, наркотики лишь преувеличили то состояние, которое для Леннона было естественным. «Strawberry Fields» имела для Джона Леннона большое значение, и его возмутило, как предательски все остальные отнеслись к его произведению. Он посетовал Джорджу Мартину на то, что запись никуда не годится. Во-первых, в ней не было динамики, приводящей к пику или низвергающей в бездну, а во-вторых, она не отражала тот галлюциногенный эффект, который заключался в тексте. Видя, что Мартин согласен, Джон попросил его написать для нее аранжировку в стиле «Элинор Ригби», которая стала первой композицией «Битлз» с использованием классической музыкальной текстуры. Мартин выполнил просьбу, задействовав трубы и скрипки, и создал тем самым произведение, ставшее первым и знаменитейшим образцом популярного впоследствии жанра, который можно было бы назвать барок-н-ролл. Но Леннон все еще не был удовлетворен. Он позвонил Мартину и сказал, что ему больше нравилось начало первого варианта и конец второго. Нельзя ли их объединить? Продюсер, который так и не смирился с музыкальной безграмотностью «Битлз», сухо ответил: «Они написаны в разных тональностях и разных размерах». Но возражения такого рода Леннона не смущали. «Я уверен, что ты можешь это уладить, Джордж», – льстиво проговорил Джон и повесил трубку до того, как Мартин ему ответил. И Джордж действительно смог все уладить. Он обнаружил, что ускорение на пять процентов записи второго, более медленного варианта привело к синхронизации обоих вариантов как по тональности, так и по темпу. Склейка отчетливо слышна непосредственно перед вступлением скрипок, но кто обратит на это внимание в композиции, столь сильно нагруженной акустическими эффектами? Пластинка, которая получилась в результате всех этих манипуляций, вышла очень далекой от изначального замысла Джона Леннона, что объясняет тот факт, что он до самой смерти не переставал по этому поводу сокрушаться. Вместо «нежной» и «милой» песенки, повествующей о возврате в детство на волнах сменяющихся видений, «Strawberry Fields» вырвалась из миллионов громкоговорителей по всему миру, как фантасмагорический калейдоскоп непонятных образов и необычно записанных звуков.
В конечном счете Леннон был вынужден признать, что, пытаясь спасти свою песню от искажения, он добился лишь того, что отдал ее на растерзание Джорджу Мартину, который и явился подлинным автором оригинального звучания. Вероятно, холодное и презрительное отношение Леннона к Мартину в последующие годы объясняется тем, что и как продюсер делал для песен Джона. Когда журналисты стали называть Мартина «пятым Битлом», у всех «Битлз» это вызвало сильное раздражение. «Ливерпульским мальчикам» было непросто признать чужие заслуги, особенно123 когда они почувствовали, что чей-то разум влечет их к неведомым берегам. После того как в феврале 1967 года «Strawberry Fields» и «Penny Lane» вышли на одной сорокапятке, причем Пол получил сторону "А", поскольку даже Брайен согласился с тем, что «Penny Lane» – более коммерческая песня, «Битлз» пришлось практически все начинать с нуля, так как в экономной Англии считалось дурным тоном включать в альбомы-гиганты песни, вышедшие ранее на синглах. После того как уже было записано довольно приличное количество вещей, включая и ту, которая должна была стать заключительной песней на диске, на Пола нашло озарение. Он предложил поместить все композиции диска в формат концерта в исполнении старого духового оркестра, который должен был начинаться увертюрой и заканчиваться репризой, и где сами они могли бы выступить как персонажи любительского спектакля и даже придумать себе соответствующие имена, такие, как Билли Ширз124. Пол только что приехал из Сан-Франциско, где музыканты уже начали придумывать себе всякие забавные прозвища, как, например «Big Brother and the Holding Company» или «Country Joe and the Fish»125. Проникнувшись этим духом, он разродился замечательным названием: «Sgt. Pepper and His Lonely Hearts Club Band»126. Ничто не может охарактеризовать Пола Маккартни лучше, чем сама идея пластинки «Сержант Пеппер», поскольку даже будучи самым большим авангардистом среди «Битлз», Пол оставался в душе очень близок к старым эстрадным артистам, таким, как Эл Джолсон или Морис Шевалье. Одним из главных парадоксов этого диска стало то, что публика приняла за пророчество новой эры песни, в которых «Битлз» прославляли повседневную жизнь обыкновенных людей. За яркой обложкой и звуковыми эффектами скрывались старомодные стиль и позиция. И речь шла о самом обычном мире, где девушки выскальзывают за дверь родительского дома и убегают с хулиганом, торгующим мотоциклами, оставляя престарелых родителей причитать высоким фальцетом («She's Leaving Ноте»127), а хорошие парни умеют принять помощь от своих друзей («With A Little Help From My Friends»128). Безусловно, не обошлось и без нескольких экзотических отклонений Джона, проходящего сквозь зеркало в «Lucy in the Sky With Diamonds»129, и Джорджа, разворачивающего свой индийский молельный коврик, но даже их едва ли можно было назвать экзотическими приправами, добавленными в традиционное английское рагу.
Весь альбом от начала и до конца явился плодом индивидуального творчества Пола Маккартни. И вдруг, словно из ниоткуда, подобно кораблю-призраку, чья корма еще не освободилась ото льда, раздался полный безысходной решимости голос Леннона, привносящий извечную ноту грусти, человека, предлагавшего свой взгляд на повседневную жизнь, позаимствованный из сегодняшних «утренних газет», и этот голос разрушил в одночасье веселый оптимизм Пола. По мере того как Джон перелагает сюрреалистическую смесь информации, заключенной на газетной полосе, то тут то там является смерть, описанная при помощи терминов, возникших от взрывающих мозг наркотиков или всемирной скуки, которые превращают ее в долгожданное избавление. В середину песни вставлен мостик – музыкальный фрагмент, выловленный из песенного скарба Пола, в котором вскользь упоминается еще один обычный житель «Пепперленда», спешащий на автобус, чтобы успеть на работу. Этот бессмысленный кусок информации, похожий на телерекламу, врезается в трагедию Джона столь же нелогично, сколь нелогичной бывает расположение газетных статей на одной странице. Когда же стремительная тема Леннона возвращается, она ускоряется, точно адская машина, вышедшая из-под контроля, и наконец взрывается финальным аккордом в ми-мажоре, традиционно символизирующем в западной музыке Рай. Когда «Сержант Пеппер» появился в продаже, хиппи принялись изучать его загадочную обложку сквозь дым марихуаны и ароматических палочек, точно монахи, склонившиеся над рукописью, испещренной загадочными знаками. Они нашли именно то, что искали: аллегорию реинкарнации. Все без исключения музыкальные критики, специализирующиеся на рок-музыке, и андеграундная пресса подчеркивали контраст, существовавший между членами группы, изображенными на черно-белом снимке, где «Битлз» похожи на восковые фигуры, и персонажами в разноцветных мундирах, напоминающими ярких бабочек на клумбе с цветами.
Старые «Битлз» умерли и похоронены, в то время как возродились новые «Битлз». Хиппи объявили «Сержанта» священной музыкой. Как жаль, что выпуск пластинки пришелся не на Пасху! История показывает, что все эти притянутые за уши интерпретации не стоили ломаного гроша.
Британский художник, работавший в стиле поп-арта, Питер Блэйк, автор обложки для альбома, вспоминает, что когда Джон и Пол обратились к нему (по рекомендации владельца галереи Роберта Фрэзера, мечтавшего заполучить рок-звезд в качестве клиентов), их идея ограничивалась концертом оркестра в парке. «Можно изобразить оркестр и толпу зрителей», – предложил Блэйк; у него сразу возникло видение «волшебной толпы» (на авторство которой также претендовал Пол): множество знакомых и незнакомых лиц, объединенных в одном фотомонтаже. Блэйк, Фрэзер, Джон, Пол и Джордж составили каждый свой список тех, чьи лица они хотели бы видеть среди этой «волшебной толпы». Ринго не принимал участия, заявив: «Меня вполне устроят те, кого выберут остальные». По иронии судьбы Блэйк оказался единственным, кто включил в список рок-певца Дайона из группы «Дайон энд Белмонтс», кроме того, у него значились два английских театральных актера Лео Горси и Хантц Холл, а также его друг, американский художник Ричард Меркин. Фрэзер, который был первым, кто познакомил Англию с поп-артом, предложил включить своих любимых художников во главе с Ричардом Линднером. Джордж Харрисон захотел увидеть в толпе целое племя никому не знакомых индийских гуру, включая махариши Махеша Йоги.
Некоторые, такие, как Ленни Брюс и Терри Маутерн, были любимцами всей группы, а ряд других – набившими оскомину иконами, расклеенными в витринах магазинов, которые торгуют постерами.
Наиболее эксцентричный список предложил Джон Леннон, с энтузиазмом включившийся в игру. Он выбрал Иисуса и Гитлера, Элистера Краули, известнейшего английского оккультиста, писателя Стивена Крейна и давешнего футболиста из Ливерпуля Элберта Стеббинса – любимца Фредди Леннона. Чтобы придать фотомонтажу законченный вид, каждый должен был принести какие-нибудь объемные предметы, чтобы разместить их на фоне цветов. Пол приволок свою коллекцию музыкальных инструментов, а Блэйку, у которого дома стояла восковая фигура Сонни Листона, показалось, что будет забавно сделать так, будто восковые фигуры «Битлз», словно вышедшие из музея мадам Тюссо, смотрят на оркестр «сержанта Пеппера», чей барабан разрисовал ярмарочный художник. 30 мая 1967 года, в восемь часов вечера «Битлз» приехали к фотографу Майклу Куперу, переоделись в сверкающие атласные костюмы с золотым кантом, как у музыкантов девятнадцатого века; костюмы были пошиты по заказу в мастерской Театрального агентства Бермана. Сеанс продолжался три часа, в течение которых «Битлз» позировали, в то время как приятели Роберта Фрэзера наполняли воздух едким ароматом марокканского гашиша. В результате «Битлз» пришли в такой восторг, что в порыве энтузиазма захотели добавить к альбому ряд новых элементов.
Во-первых, вместо одиночного гиганта они решили сделать двойной альбом, набитый, точно рождественский чулок, кучей хипповских прибамбасов: значками, майками и наклейками. И тогда на студии «И-Эм-Ай» прозвучал сигнал тревоги. О двойном альбоме не могло быть и речи, а решение набивать конверты всякой всячиной делало невозможным складирование пластинок. Но самой худшей в глазах лорда Шоукросса, одного из директоров компании, была идея использовать на обложке фотографии известных людей и каких-то представителей шоу-бизнеса, которые вполне могли подать на компанию звукозаписи в суд. Это ставило под угрозу весь проект. Подобные аргументы произвели на Брайена впечатление, и он попытался отговорить «Битлз» от их затеи. А когда они твердо отказались, запаниковал. Для того чтобы получить согласие заинтересованных лиц, понадобился целый месяц. Некоторые из них, например, Ширли Темпл Блэк, большая шишка из ООН, принялись задавать массу неприятных вопросов.
Других было невозможно разыскать, Лео Горси запросил кучу денег и его фотография была снята, так же как и Ганди, признанного слищком добродетельным для такой компании. Гитлер остался, а Иисус был исключен из-за всем известного замечания Джона. Мае Вест ответила на стандартное письмо встречным вопросом: «А что мне прикажете делать в Клубе одиноких сердец?» Однако на этом сражения вокруг «Сержанта Пеппера» не закончились. Встал вопрос о том, чьи имена следует упомянуть на обложке. «Ничьи», – сразу заявил Пол. Роберт Фрэзер попытался убедить его отметить участие Питера Блэйка и Майкла Купера, однако, за исключением Джорджа Мартина, никто из многочисленных музыкантов, технических сотрудников и других помощников, которые приняли участие в реализации проекта, не был указан. «Пол захотел создать впечатление, что все сделал он один», – объяснил Фрэзер. И недалек был тот день, когда это впечатление будет соответствовать действительности. «Сержант Пеппер» выстрелил так, что эхо разнеслось по всему свету.
За одну ночь он вновь зарядил ауру «Битлз» электрической силой битломании, только отныне битломания приобрела психоделическую окраску.
Этот альбом, ставший памятником шестидесятым, так и искрится возбуждением целого поколения, которое было уверено в том, что держит весь мир в своих руках в промежутках между двумя «кислотными» путешествиями. Помимо эзотерического значения, которое придавали «Сержанту» хиппи, диск обязан своим успехом тому необъяснимому очарованию, благодаря которому некоторые из его песен никак не шли из головы у слушателей. В то лето «Сержант Пеппер» был всюду – и в домах, и на волнах всех радиостанций. Триумф Пола обернулся пирровой победой, поскольку «Сержант» обозначил начало губительного разлада между лидерами «Битлз», который безвозвратно лишит миллионы любителей музыки возможности наслаждаться плодами труда самого великого соавторства современности в области композиции и звукозаписи. Гнев Леннона начал разгораться. Он будет тлеть еще в течение года, а затем внезапно вспыхнет ярким пламенем, сметая с пути все, что было достигнуто в течение десяти лет упорного труда, строжайшей самодисциплины, тесного сотрудничества, неослабевающего вдохновения, а самое главное, полной самоотдачи во имя достижения вершины. Подняться выше «Сержанта Пеппера»130 «Битлз» было уже не суждено.
Глава 27 Лето любви
«Спикизи», самое модное ночное заведение лета 1967 года, располагалось в подвале дома 30 по Маргарет-стрит, сразу за Оксфорд Серкус. Изначально отделанный в стиле «Бонни и Клайда» – черные стены и гроб, украшенный венками, вместо стойки портье, – клуб довольно скоро облюбовали хиппи, и его владельцы, как по мановению волшебной палочки, разукрасили интерьеры под индийский павильон, оклеив стены набивной хлопчатобумажной тканью розового, оранжевого и зеленого цветов. Начиная с этого момента, дела клуба пошли в гору.
Вся элита бит-музыки собиралась здесь ежедневно после полуночи. Право на бесплатный вход имели самые известные и самые красивые лондонские групи, которые слонялись какое-то время по залу бара-ресторана, прежде чем получали доступ в небольшое помещение, располагавшееся в глубине. Здесь, развалившись в мягких креслах и на диванах, отдыхали короли мира рок-музыки: Джон и Пол, Мик и Кейт, Пит и Муни131 – все, как один, торчали, будто шпалы, и взирали со смешанными чувствами на узенькую сцену, на которую каждую ночь приглашали новых чудо-музыкантов.
В один из вечеров это мог быть Джимми Хендрикс, разодетый в военный мундир защитного цвета, в яркой африканской шапочке, контрастирующей с зомбиобразным лицом «кислотного» оттенка; Джимми так умел извиваться, что Элвис Пресли показался бы рядом с ним паралитиком. Излюбленным трюком музыканта был момент, когда он зажимал свой «стратокрузер» между ног, продолжая извлекать из него неслыханные доселе звуки, и начинал размахивать перед носом у всех этих прихиппованных белых английских мальчиков и девочек своим огромным, вздувшимся, орущим электрическим членом.
В другой раз гостем оказывался король английских хиппи Артур Браун, прятавший лицо под серебряной маской и украшавший голову парой пылающих рогов, которые делали его похожим на жестокого шамана племени майя, только что вернувшегося после жертвоприношения, или на тевтонского дьявола, совершающего приготовления к Вальпургиевой ночи.
Сара Керночан, удостоенная впоследствии приза Академии как копродюсер фильма «Марджоу», работала в то время официанткой в «Спикизи». «Битлз» одевались совершенно одинаково – в индийские рубашки или вельветовые куртки, – вспоминает она. – Тогда это был последний писк лондонской моды. Через несколько недель все стали вешать себе на шею маленькие колокольчики. Джон был постоянно окружен толпами девиц. Он просто был увешан ими, стараясь укрыться под этим живым панцирем". Тот образ, который являл собой Леннон во время «лета Любви», был совершенно не похож ни на одну его прежнюю ипостась. Если в «Ад Либ» он обычно забивался в угол, оставаясь «наедине с самим собой», и приходил в себя лишь во время нечастых приступов ярости, то теперь всех, кто проходил мимо, он приглашал присесть за свой столик.
Перемены, произошедшие с Джоном, очень обрадовали Пита Шоттона, они подтверждали его убеждение, что в глубине души его друг всегда оставался милым человеком. «Сегодня Джон никому ничего не пытается доказать, – объяснял Пит. – Он перестал стремиться к тому, чтобы быть номер один, и поэтому он так счастлив». Даже сам Джон отметил перемены в своем сердце, сочинив песню, ставшую гимном «лета Любви» – «АН You Need Is Love».
Сам Джон считал, что переменой в характере он обязан «кислоте». «Наверное, я совершил не меньше тысячи путешествий, – признавался он. – Я глотал ее постоянно, как конфетки».
Если бы не наркотики, Джон Леннон не решился бы принять участие в юмористическом маскараде, который состоялся «летом Любви», поскольку, даже оставаясь символом шестидесятых годов, он никогда не был настоящим «Love Child»132. По темпераменту ему была близка «сердитая молодежь» пятидесятых, с которой он часто себя сравнивал, или "поколение собственного "я", чьи принципы нарциссизма Джон защищал до конца жизни. Джону Леннону были чужды ценности, которыми дорожили хиппи: простые удовольствия, плоды собственного труда, безмятежное существование и любовь к окружающим. И вместе с тем Леннон, часто называвший себя журналистом, прекрасно отдавал себе отчет в том, что таково веяние времени. Так что, вероятнее всего, он испытал большое облегчение, когда понял, что, глотая свои «конфетки», он в кои-то веки начал шагать в ногу с толпой.
Синтия была потрясена внезапной переменой в характере собственного мужа. Тот Джон, которого она знала раньше, был крайне нелюдимым человеком и терпеть не мог принимать кого-либо у себя дома. «Теперь же, – рассказывает она, – он никогда не возвращался домой в одиночестве. После каждого сеанса звукозаписи или после шатания по ночным заведениям он притаскивал домой кучу людей, которых подбирал по дороге. Обычно все они бывали в полной отключке. Джон даже не знал, кто они такие, ну а я тем более. Всю ночь они пьянствовали и слушали музыку, опустошали запасы съестного и в результате превращали дом в помойку». Синтия понимала, что если не присоединится ко всем остальным, то скоро останется за бортом. Поэтому в конце концов она уступила Джону, который давно уже уговаривал ее еще раз попробовать «кислоту». «Путешествие» вновь обернулось кошмаром. «Я видела Джона в образе скользкой змеи или гигантского мула с острыми, как бритва, зубами, который смеялся и издевался надо мной».
Неуемный аппетит Джона к ЛСД вдохновил «Битлз» на одну из сверхсекретных авантюр: «великую экспедицию по контрабанде кислоты». Ребята решили обеспечить себя таким количеством ЛСД, которого хватило бы до конца дней, при этом они знали, что товар наивысшего качества можно было приобрести в знаменитой секретной лаборатории Аугустуса Стенли Оусли III. Поездка была организована под прикрытием участия в поп-фестивале в Монтерее, на который «Битлз» послали группу кинооператоров, зная, что права на съемку приобретены американской компанией. План был простым: они намеревались воспользоваться громоздким багажом киношников, чтобы спрятать в нем контрабанду. Когда кинематографисты вернулись в Лондон после, казалось бы, напрасной поездки, они доставили в ящиках вместе с аппаратурой немалое количество прозрачной жидкости невообразимой силы. В конце июня на полках, установленных в солнечной комнате у Джона Леннона, стояли две пол-литровые бутылки, наполненные чистой «кислотой».
Тем же летом, несколько позднее, Джон отправил семью отдыхать в Пезаро на итальянское побережье Адриатического моря. А сам тем временем стал вести веселую холостяцкую жизнь в компании Джона Данбара, чей брак с Марианн Фэйтфул распался, когда она уехала вместе с «Роллинг Стоунз». Каждый день после полудня перед домом, где с родителями жил Данбар, останавливался «ролле» Джона, перекрашенный в желто-оранжевый цвет и разрисованный красными цветами и знаками зодиака. Но если снаружи машина выглядела просто необычно, то вид изнутри оказывался совершенно запредельным. Джон взял в привычку угощать всех своих пассажиров чаем из термоса, в который был добавлен ЛСД. И очень скоро, пока машина катилась по городу в сторону предместий, все предметы за пределами затемненных стекол начинали принимать причудливые формы, а время замедляло свой бег под звуки песни «Whiter Shade of Pale»133, которую Джон беспрерывно крутил на магнитофоне.
Если на Леннона находило озорное настроение, он щелкал тумблером и врубал мощнейшие громкоговорители, вмонтированные в колпаки передних колес. И тогда окрестности оглашались звуками скотного двора, садящегося самолета или голоса Питера Селлерса, пародирующего радиопередачу, посвященную выборам. Перепуганные пешеходы прятались в подворотни, в то время как Леннон покатывался на заднем сиденье от хохота под исключительно реалистическую запись шума проезжающего поезда.
Однажды вечером, когда Леннон и Данбар сидели на диване в гостиной у Джона в Кенвуде и таращились в телевизор, они вдруг увидели большую толпу явно обкурившихся парней и девиц с размалеванными телами, которые размахивали ароматическими палочками и вовсю веселились в просторном дворце викторианской эпохи. Сфокусировав остатки сознания на экране, Леннон и Данбар определили, что дело происходит в Александер Палэс, где в этот день должно было состояться мероприятие под названием «Четырнадцатичасовой сон в Текниколоре». Леннон тут же потребовал, чтобы шофер отвез их туда. Когда искатели приключений, облачившись в длинные темные пальто, подъехали к старинному зданию, возвышавшемуся на вершине холма в северной части города, то обнаружили, что попали в такой огромный парк, что две рок-группы могли бы одновременно играть в разных его концах, не мешая друг другу. В середине парка был установлен гигантский тобогган, а по стенам замка гуляли амебообразные тени сказочного светового шоу. Сорока двум группам предстояло выступить той ночью, а рассвет публика встречала под пронзительные звуки «Пинк Флойд», исполнявших «The Piper at the Gates of Dawn»134.
И хотя Джон Леннон перестал бояться людей, он начал опасаться того, что его станут принимать за обыкновенного наркомана. Ему требовалось как-то скрыть это обстоятельство, и он выбрал простейший, но очень эффективный способ: когда к Джону обращался кто-то незнакомый, он улыбался. «Если у тебя счастливый вид, тебя никто ни о чем не спрашивает», – объяснил он Данбару. Вообще-то его улыбка больше напоминала гримасу. А когда он наклонялся к незнакомцу, завернувшись в длинное черное пальто, и, растянув в улыбке рот, демонстрировал свои белые зубы, то становился похож на Носферата, принимающего гостя у себя в замке, затерянном среди Карпатских гор. Черные пальто, в которые одевались в ту пору английские рок-музыканты, были одним из элементов моды, основанной на полете воображения. Это была эпоха, когда запреты перестали касаться одежды, и вскоре гардероб лондонских рок-звезд напоминал своей экстравагантностью костюмерные оперных артистов прошлого века. Главная цель моды хиппи заключалась в том, чтобы подобрать абсолютно несочетающуюся одежду и скомбинировать ее таким образом, чтобы создать совершенно новый и вместе с тем убедительный образ. В этом комбинаторном стиле никто не мог сравниться с Джоном Ленноном. Во время встречи с прессой по случаю выхода «Сержанта Пеппера» Джон был одет наиболее экстравагантно и вместе с тем с наибольшим вкусом, чем кто-либо из присутствовавших. На нем была зеленая рубашка в цветочек и темно-красные вельветовые брюки, желтые ботинки и носки, широкий ремень с кожаной поясной сумкой.
Маскарад «лета Любви» закончился вместе с хорошей погодой. Леннон и Данбар начали ощущать отрицательные эффекты злоупотребления наркотиками. Во-первых, прекратились галлюцинации и вернулась прежняя будничная серость, затем они обнаружили, что у них пропало сексуальное желание, а очень скоро они вообще еле держались на ногах. Каждый раз, когда они «улетали», им приходилось сгибаться пополам и передвигаться на четвереньках. Однако хуже всего были постоянные приступы тревожно-угнетенного состояния. Одно из самых ярких воспоминаний Данбара относится как раз к такому моменту. Его внезапно охватила паника, но Джон наклонился к нему и сказал: «Мы все чувствуем то же самое».
В то время как Джон Леннон экспериментировал под действием «кислоты», Йоко Оно и Тони Кокс продолжали устраивать свою карьеру. В январе 1967 года они поселились в доме 25 по Ганновер-Гейт-Мэншн, в красивом старинном здании, где квартиры в ожидании покупателей временно сдавались всем желающим. За 200 долларов в месяц Коксы получили в свое распоряжение шестикомнатные апартаменты с высокими потолками и балконами, выходившими на Реджент-парк. Йоко перекрасила стены в белый цвет и заказала для гостиной белое ковровое покрытие. Чтобы не занимать пространства, эта комната была вообще лишена какой-либо мебели. День и ночь здесь не уменьшался поток посетителей, состоявший в основном из представителей авангарда, которые непрерывно болтали, ели, пили чай или говорили о делах, сидя на полу.
«В то время как Тони крутился, точно белка в колесе, Йоко руководила придворным действом, – вспоминает сосед по лестничной клетке Дэн Рихтер, который работал в то время со Стэнли Кубриком на съемках фильма „2001 год: Космическая Одиссея“. – У всех создавалось впечатление, что все делал один Тони, а Йоко бездельничала. На самом же деле ее активность была гораздо более эффективной... Тони самоустранился, он всего лишь организовывал, продавал. Она была артисткой, а он – ее агентом... Она изображала из себя принцессу и не видела никаких проблем в том, что ей прислуживали, – она была самурайского рода! Тони предпочитал созидать втайне от других и осуществлять свою власть, находясь за троном. И в то же время оба они считали себя ровней друг другу. Им постоянно что-то требовалось, причем чаще всего речь шла о невероятных вещах, таких, как машина для производства тумана или триста пар ножниц. Тони то и дело просил меня одолжить ему студийную камеру или даже две. А еще ко мне могли постучаться соседи снизу и пожаловаться, что потолок только что рухнул им на голову. Тогда мы залезали к Коксам через окно и находили, что хозяева уехали как минимум два дня назад, забыв закрыть краны в ванной комнате».
Когда речь заходила о том, чтобы раздобыть денег, Тони оказывался чрезвычайно талантлив. «Он отправлялся в банк, – продолжает Рихтер, – и начинал рассказывать, что представляет интересы зарубежной кинокомпании, которая через два дня должна прислать на его имя аккредитив, выдумывая при этом любые реквизиты. Затем говорил, что хочет открыть счет, а уже уходя, словно спохватившись, спрашивал, не может ли он прямо сейчас получить чековую книжку, которая была ему нужна, чтобы немедленно приняться за работу. Англичане не были готовы к таким фокусам. А у Тони всегда был невинный и честный вид. Он мог смотреть вам в глаза и врать не краснея. Причем неизменно создавалось впечатление, что он сам свято верит в то, что говорит, – он был открыт, убедителен, ему невозможно было отказать. Тони стал настоящим кошмаром для управляющих банками».
Тони задумал снять фильм и для этого объединился с неким многосторонне одаренным человеком, Виктором Масгрейвом, журналистом, критиком, поэтом, владельцем художественной галереи, кинематографистом, психотерапевтом и шахматистом. В качестве вклада в картину Виктор предоставил свой дом, располагавшийся в квартале Мэйфэйр. Фильм, изначально озаглавленный «Фильм № 4», но получивший известность как «Задницы», должен был продемонстрировать крупным планом во весь экран триста шестьдесят пять голых движущихся задниц. Для того чтобы собрать такое количество актеров и организовать съемки, Коксы пригласили себе в помощь молодую супружескую пару из Калифорнии – Тима и Робин Рудник, которые согласились работать в обмен на бесплатное проживание в квартире Коксов на Ганновер-Гейт.
Первым театром военных действий стал для Коксов клуб «УФО» («Unlimited Freak Out»135), который рекламировали как «Первый психоделический дансинг в Лондоне», где в то время выступала еще никому не известная группа «Пинк Флойд». Йоко дала здесь несколько представлений, во время которых, например, сажала в один мешок мужчину и женщину, спина к спине, и просила описать свои ощущения. Или вызывала на сцену девушку, одевала в бумажное платье и начинала разрезать его на кусочки ножницами, к которым был подсоединен микрофон. Каждый разрез издавал металлический звук, приводивший в восторг публику, в то время как Йоко раздевала таким образом участницу перформанса до трусов. А однажды ночью, к полному изумлению зрителей, вместе с Йоко на сцену вышел Джон Леннон и предложил всем желающим принять участие в съемках «Фильма № 4».
Может показаться удивительным, какое огромное число людей согласились обнажить перед кинокамерой свой зад. Скорее всего, такое поведение можно объяснить на примере истории одного француза, который однажды на Рождество послал всем своим родным фотографию собственной голой задницы, – этот же трюк Джон и Йоко повторили в 1972 году. Когда француза попросили объяснить причины его шокирующего поступка, он вполне разумно ответил, что, во-первых, задница обычно пребывает в гораздо лучшей форме, чем лицо; во-вторых, задница обладает неоспоримым преимуществом свежести; а в-третьих, задница является гораздо более интимным подарком, нежели лицо, поскольку все вокруг видят наши лица, тогда как задницу мы показываем только тем, кого любим. Так или иначе, великое множество артистов, писателей, манекенщиц и тому подобных личностей выставили свои попки перед камерой Йоко.
Что до организаторских способностей, то здесь Тони оказался на высоте. Каждый вечер он привозил добровольцев в Мэйфэйр к Масгрейву домой, а после съемок отвозил обратно в «УФО». Когда приезжал очередной участник, его отводили в маленькую костюмерную, где он должен был снять все, что на нем было ниже пояса. Затем его сопровождали в студию – небольшую комнату, освещенную огнем из камина. Здесь актера устанавливали на шестифутовом поворотном круге, и несколько минут отводилось на то, чтобы обучить новичка ходить на нем. А потом примерно в течение двадцати секунд Тони снимал его на пленку.
Сама Йоко назвала «Задницы» «бесцельной петицией, которую люди подписали собственными анусами». Однако зрители восприняли фильм совершенно иначе. С самого начала, отказавшись выдать фильму прокатную лицензию, цензоры обрекли «Задницы» на успех. Йоко решила пикетировать бюро Совета кинематографической цензуры. Она попыталась найти единомышленников, но потерпела неудачу. Тем не менее когда она приехала на место с охапкой бледно-желтых нарциссов в руках, то увидела поджидавшую ее толпу репортеров и телеоператоров, а также семнадцать выстроившихся в ряд полисменов. В тот вечер Йоко появилась на телеэкране, а лондонская редакция «Тайме» поместила на страницах газеты подробности этой истории.
8 августа, благодаря специальному разрешению, выданному Советом Большого Лондона, в «Джейси Татлер» состоялась премьера фильма, сборы от которой пошли в пользу Института современного искусства. На мероприятии присутствовало множество знаменитостей, поскольку «Задницы» оказались очень близки сердцам англичан – ни одна другая страна в мире не испытывает такого пристрастия к анальному юмору. Первого же взгляда на все эти задницы – толстые и худые, плоские и откляченные, в форме груши и в форме сердца, бледные и загорелые, безволосые и волосатые, гладкие и в пупырышек – было достаточно, чтобы вызвать всеобщий восторг. Несмотря на суровые выступления критиков, «Фильм №4» оставался гвоздем сезона, сначала в «Джейси Татлер», а затем в кинотеатре «Тайм» недалеко от Бэйкер-стрит. Для Джона Леннона «Задницы» стали веселым подтверждением его собственного мнения о Йоко как о непризнанном гении.
Глава 28 Последний вздох Брайена
Никогда раньше Брайен не был так несчастлив, как «летом Любви». В начале года он сделал заявление о том, что не желает продолжать руководить «НЕМС», поскольку получает удовлетворение только от работы с «Битлз» и Силлой Блэк. Столь процветавший прежде бизнес так упал в цене, что если в лучшие времена Брайену предлагали за него двадцать миллионов долларов, то сейчас ему с трудом удалось продать пятьдесят один процент акций менеджеру «Би Джиз» Роберту Стигвуду за полмиллиона фунтов стерлингов. К этому моменту Брайен уже обратился к психиатру, доктору Джону Фладу, который положил его в клинику недалеко от Роухэмптона.
Брайен, который страдал от хронической депрессии и бессонницы, перепробовал множество наркотиков, включая героин, и зашел так далеко, что к подкладке каждого из его деловых костюмов были пришиты многочисленные кармашки, в которых он хранил разные препараты на все случаи жизни: в одном лежали таблетки прелли, в другом – секонал, в третьем – карбритал, в четвертом – «черная красотка» байфетамин, в пятом – «кислота» и так далее. Брайен опасался курса дезинтоксикации и поэтому согласился на лечение сном. Но когда через неделю он проснулся, то не почувствовал облегчения. Как заметил великий Чарли Паркер, прошедший аналогичный курс лечения, «от наркотика можно очистить тело, но не мозг». А мозг Брайена, кроме всего прочего, был крайне озабочен мыслями о контракте с «Битлз», срок действия которого истекал 8 октября 1967 года.
Что касалось финансовой стороны, то здесь ему нечего было опасаться, так как по условиям нового контракта, который в ноябре прошлого года «Битлз» подписали с «И-Эм-Ай», он в течение девяти следующих лет продолжал получать двадцать пять процентов от всех их доходов, независимо от того, оставался он менеджером группы или нет. Естественно, никто из «Битлз» не потрудился прочесть текст контракта. Они всегда доверяли Брайену, и до сих пор между ними не возникало никаких проблем. Тем не менее Брайен вдруг испугался и решил подстраховаться. Когда позднее «Битлз» поняли, как с ними обошелся любимый менеджер, они были глубоко шокированы.
Кстати, даже сейчас невозможно с уверенностью ответить на вопрос, собирались ли «Битлз» уволить Брайена. Аллен Кляйн, следующий менеджер группы, утверждал, что судьба Брайена была решена, но информация Кляйна исходила от Леннона, который так умел подобрать слова, что собеседник обычно слышал то, что хотел услышать. А поскольку переговоры с Кляйном вел именно Леннон, он был заинтересован в том, чтобы новый менеджер не сомневался, что получил бы это место независимо ни от каких обстоятельств.
Майлз присутствовал при, возможно, последнем разговоре Пола с Брайеном, который состоялся в конце лета. В ходе беседы, посвященной в основном обсуждению проекта съемок телевизионного шоу «Magical Mystery Tour»136, Брайен стремился найти решение, которое обеспечило бы каждому из членов группы равное участие в передаче. Было ясно, что к этому времени основной заботой Брайена было успокаивать болезненное самолюбие каждого из музыкантов. Дипломатичный Пол, безусловно, был глубоко благодарен за это Брайену, поскольку стремился всеми силами поддержать хотя бы видимость единства в группе, стараясь избежать окончательного выяснения отношений с Джоном, общаться с которым становилось все труднее день ото дня. Поскольку на карту был поставлен вопрос о дальнейшем существовании «Битлз», Пол ни за что не решился бы на то, чтобы выгнать единственного человека, который олицетворял их солидарность.
В июле, находясь на отдыхе в Бурнемауте, скоропостижно скончался отец Брайена. Состояние самого Брайена резко ухудшилось, поэтому когда его мать пожаловалась сыну на то, что не знает, чем себя занять, он пригласил ее переехать к нему и пожить какое-то время в Лондоне. С этого момента его жизнь в одночасье изменилась. Вместо того чтобы возвращаться домой каждый день к трем часам утра и напихиваться таблетками, чтобы уснуть, Брайен вернулся к детским привычкам и просыпался, когда мама раздвигала на окнах шторы, после чего съедал завтрак в постели, в то время как она сидела рядом. Вечером он ужинал, потом смотрел вместе с ней телевизор до десяти часов, после чего удалялся в спальню с чашкой горячего шоколада.
Но когда 24 августа Куини уехала, Брайен вздохнул с облегчением. Теперь можно было и повеселиться. В тот же вечер он пригласил на ужин Саймона Напье-Белла, красавца менеджера группы «Ярдбердз», которому не терпелось выудить из Брайена все подробности о «Битлз». Позже вечером, вернувшись домой на Чепел-стрит, Брайен безуспешно попытался его соблазнить, а затем предложил провести вместе предстоящий уик-энд, но снова получил отказ. И Брайен опять загрустил.
Покуда Брайен был озабочен поисками нового дружка, «Битлз» стремились к нирване. Они побывали на лекции махариши Махеши Йоги, который уже был знаком жителям Лондона по книге «Наука Бытия и Искусство Жизни». Махариши заявил, что настал момент, когда он должен распрощаться с мирским тщеславием и погрузиться в молчание. Патти и Джордж Харрисоны, которые уже встречались с гуру в Индии, а затем приняли участие в его Движении духовного возрождения, предупредили остальных «Битлз», что это последняя возможность припасть к ногам учителя.
Приехав в «Парк-Лэйн Хилгон», где остановился махариши, «Битлз» застали здесь плотную разношерстную толпу, состоявшую в основном из индусов в териленовых костюмах и сари, а также из британских бездельников. «Битлз» провели в первый ряд, где в позе лотоса, обратив ладони к небу и опустив глаза, расположились самые преданные ученики. Для начала махариши предложил помедитировать в течение пяти минут. Когда наконец в тишине раздался его пронзительный голос, он начал говорить о благотворном влиянии трансцендентальной медитации. «Только эта техника, – объяснял он, – способна привести человека к полной реализации его жизни». Достаточно посвятить ей полчаса в день, и результаты не заставят себя ждать. «Омоложение доступно каждому! – провозглашал махариши. – Лицо человека может преобразиться уже через два-три дня». При этих словах все «Битлз» пристально посмотрели на старика. Господь свидетель, он был далеко не красавцем: смуглая кожа, толстый нос, длинные жирные волосы и неухоженная борода. И в то же время он был прав! Его лицо действительно светилось. При этом он обладал такой силой убеждения, что стоило ему закончить выступление, как «Битлз» поднялись на сцену и в один голос заявили, что хотят стать его последователями. Махариши был не таким человеком, чтобы упустить подобную удачу. Он тут же пригласил мировых знаменитостей присоединиться к нему в персональном вагоне, который отправлялся на следующий день в уэльсский город Бангор, где Йоги планировал провести пятидневную стажировку своих адептов.
В назначенное время «Битлз» в сопровождении Мика Джаггера и Марианн Фэйтфул прибыли на вокзал Паддингтон, где им с трудом удалось пробиться сквозь толпу журналистов. Не успели они облегченно вздохнуть, как услышали отчаянные крики: «Джон! Джон!» Это была Синтия, которую не пропускал полисмен, принявший ее за еще одну поклонницу. Теперь она прорвалась на платформу и бежала вдоль поезда. В этот момент состав тронулся. Джон высунулся из окна и крикнул: «Беги, Синтия, беги!»
В субботу махариши и «Битлз» давали совместное выступление в актовом зале педагогического колледжа. Когда наступило время вопросов и ответов, «ливерпульские мальчики» впервые стали свидетелями крайней подозрительности и враждебности по отношению к махариши со стороны представителей британской прессы. Будучи непревзойденными мастерами пресс-конференций, «Битлз» дали такой отпор журналистам и отвечали с таким юмором, что вызвали аплодисменты. А затем они взорвали бомбу, которая вознаградила журналистов за продолжительное ожидание. Пол, выступивший от имени группы, сделал заявление о том, что они решили отказаться от наркотиков. «Мы хотели попробовать, что это такое, – сказал он. – Но теперь с этим покончено. Мы больше не нуждаемся в наркотиках. Мы считаем, что нашли новые возможности для достижения своих целей». Этим выступлением Пол прежде всего хотел дать ответ волне антирекламы, которая обрушилась на «Битлз» после того, как в начале лета он признался в интервью журналу «Лайф», что участники группы принимали ЛСД.
На следующий день, в воскресенье, «Битлз» в кои-то веки и в самом деле удалось отдохнуть. Они гуляли по территории студенческого городка в сопровождении жен, включая Синтию, и обсуждали перспективы предпринятого ими нового духовного приключения. В скором времени они собирались отправиться в Индию, в ашрам махариши, расположенный у подножия Гималаев. Они надеялись, что там, в атмосфере, располагающей к медитации, им удастся постичь великую тайну культа. А потом...
Умиротворенная тишина внезапно была прервана резким звуком телефонного звонка. «Кому-то все же придется ответить», – заметил Джордж. Джейн Эшер сняла трубку. Это был Питер Браун. «Дай мне Пола», – попросил он.
Когда трубка оказалась в руках у Пола, Браун мрачно произнес: «У меня плохие новости». В ту же самую пятницу, когда «Битлз» уезжали из Лондона вместе с махариши, Брайен Эпстайн уселся в свой серебристый «бентли» и поехал в загородную резиденцию в Кингсли-Хилл в Суррее, где планировал провести замечательный уик-энд в компании Питера Брауна и Джоффри Эллиса, старого приятеля и коллеги. По свидетельству Венди Хэнсон, Брайен собирался организовать этой же ночью оргию с участием нескольких парней, которых он выписал из города. Когда Питер Браун приехал на ужин, он застал Брайена в дурном настроении, потому что те ребята так и не появились. Ужин сопровождался обильным употреблением белого вина, но Эпстайн оставался безутешен. После ужина он несколько раз звонил в Лондон, пытаясь пригласить других мальчиков. Когда же и эти усилия не увенчались успехом, он снова сел в машину и уехал в город.
В субботу Брайен позвонил Питеру и сказал, что собирается снова приехать в Суррей. Услышав, что Брайен еле ворочает языком, Браун посоветовал ему ехать на поезде. Эпстайн согласился, но так и не появился той ночью в Кингсли-Хилл.
Брайена хватились только к полудню в воскресенье. Если верить Брауну, дело обстояло следующим образом: дворецкий Брайена Антонио Гарсия позвонил Брауну, а затем Джоанне Ньюфилд, секретарше Брайена, и сообщил, что хозяин не выходил из своей спальни с предыдущего вечера и что дверь в спальню заперта, а интерфон отключен. Джоанна попыталась связаться с врачом Брайена Норманом Кауаном, но того не было дома. Тогда она позвонила старейшему из слуг Брайена Элистеру Тейлору и договорилась встретиться с ним на Чепел-стрит.
Тем временем Питер Браун перезвонил Антонио и сказал, что считает его волнения глупыми – довольно странное заявление, если учесть, что однажды при аналогичных обстоятельствах он сам находил Брайена на волосок от смерти. Более того, он даже посоветовал Антонио не звонить Тейлору, чтобы не беспокоить его попусту. Когда дворецкий передал этот разговор приехавшей Джоанне, она возмутилась и сама перезвонила Брауну. Теперь его тон переменился. На этот раз он посоветовал ей не звонить Кауану, думая, что тот в Лондоне, а обратиться к его собственному врачу Джону Голлуэю, который жил как раз неподалеку.
Когда доктор Голлуэй приехал в дом к Эпстайну, там уже собралось немало народу: Антонио и его жена Мария, шофер Брайен Бэрретт, Тейлор и Джоанна. Никто не знал, что делать: Брайен заперся за двойными дубовыми дверями своей спальни. И как они ни стучали, им не удавалось его разбудить. Когда Джоанна в очередной раз позвонила Брауну, он велел Голлуэю ломать дверь.
Первыми в темную спальню вошли Джоанна и доктор Голлуэй. Джоанна увидела Брайена Эпстайна, лежащего на краю кровати, свернувшись в позе эмбриона. Прежде чем она успела подойти к постели, доктор схватил ее за руку и вытолкал за дверь. «Все в порядке, – спокойно объявила она остальным. – Он спит».
Однако то, что увидел доктор, выглядело далеко не так оптимистично. Из носа у Брайена сочилась кровь, а вся простыня под ним была пропитана кровавыми выделениями. Сердце остановилось. Причина смерти казалась очевидной: повсюду, куда доктор ни обращал свой взор, он видел таблетки, таблетки, таблетки – в баночках и коробочках, на полках и в ящиках прикроватной тумбочки.
Все довольно быстро сошлись во мнении, что Брайен покончил с собой, поскольку он предпринимал такие попытки и раньше. Однако патологоанатом пришел к выводу, что Брайен умер от случайного приема слишком большой дозы снотворного – от частого применения барбитуратов он довел свою нормальную дозу до грани смертельно опасной для организма. Но Скотленд-Ярд все еще не был удовлетворен таким объяснением гибели Брайена -и на то были причины.
Подлинные обстоятельства гибели Брайена намеренно держались в тайне. Ключ к разгадке был подсказан адвокатом Соммервиллом, который в 1964 году являлся представителем «Битлз» по связям с общественностью. В интервью, данном специально для этой книги и записанном на пленку, он рассказал, что последнюю ночь своей жизни Брайен провел не один. Вместе с ним в спальне находился некий гвардеец из Колдстримского полка, с которым его познакомил Соммервилл. Именно этот человек первым обнаружил тело Брайена. От дальнейших подробностей Соммервилл уклонился, настаивая лишь на том, что смерть Брайена не была самоубийством, и предупредив, что, даже если этого гвардейца удастся найти, он все равно ничего не скажет.
Тем не менее последнее слово по праву должно принадлежать Саймону Напье-Беллу, который, узнав о смерти Брайена Эпстайна, немедленно вернулся из Ирландии в Лондон, уверенный в том, что Брайен наверняка оставил какое-нибудь сообщение на автоответчике. Предчувствие его не обмануло: на автоответчике его ожидало не одно, а сразу несколько сообщений.
Первое было оставлено в пятницу утром, когда он уехал. Следующее – по возвращении Брайена ночью того же дня. Брайен полагал, что Напье-Белл также вернулся в город, и просил его сразу перезвонить. Следующее послание, оставленное глухим голосом, содержало упрек – «Я же просил тебя не уезжать» – и настойчивую просьбу вернуться к прерванному разговору. Потом шли несколько звонков, которые Брайен сделал уже вечером на следующий день после того, как проснулся. Чем дальше, тем менее членораздельным становился его голос. Гораздо более примечательным был тот факт, что эти звонки, казалось, предназначались совсем другому человеку, поскольку содержали намеки на такие интимные моменты, которые не имели ничего общего с мимолетным флиртом между Брайеном и Напье-Беллом. В заключение Саймон сказал: «Брайен считал, что его жизнь бессмысленна. А где-то в Северном Уэльсе улыбчивый гуру пытался распространить свое влияние на человека, который значил в жизни Брайена больше, чем кто-либо другой... Может быть, дело всего лишь в том, что у меня был автоответчик, а в воскресном лагере Махариши его не было». Может быть, и так.
Глава 29 Любовный треугольник
Любовная история, на которую так красноречиво намекал Саймон Напье-Белл, касалась отношений Брайена Эпстайна и Джона Леннона. Однажды за ужином Брайен признался Саймону, что «боится потерять Джона навсегда», однако не сказал почему.
Йоко Оно рассказала Марии Хеа, что незадолго до гибели Брайена на Чепел-стрит заехал Джон Леннон. Должно быть, что-то возбудило его, и он, как обычно, заломил Брайену за спину руку, заставив его согнуться пополам. Джон уже готовился перейти к делу – а может быть, и перешел, – когда в комнату вошла Куини, услышавшая возню. Увидев сына, подвергшегося сексуальному нападению, она в ужасе выбежала вон и сразу позвонила в полицию. Джон запаниковал, вскочил в автомобиль и приказал Лесу Энтони отвезти его к Питеру Брауну в Мэйфэйр. Ворвавшись в дом к управляющему делами группы, Джон потребовал, чтобы тот немедленно организовал ему выезд из страны.
Тем временем на Чепел-стрит прибыла полиция. Представителей власти встретил Брайен. Тщательно выговаривая слова с безупречным акцентом жителя лондонского Вест-
Энда, он объяснил, что тревога была ложной: его мать, неважно чувствующая себя после недавней смерти мужа, не поняла, что происходит, когда застала сына за дружеской возней со старым приятелем. Брайен принес полисменам свои извинения и выпроводил их за дверь.
Общаясь с прессой после смерти Брайена, Джон взял на вооружение одну из идей махариши, который провозгласил, что смерть есть не что иное, как врата на пути к лучшей жизни. Но в сердце у него поселился страх. В течение многих лет Брайен в каком-то смысле заменял ему мать, защищая и оберегая его от любых проблем. Теперь он был мертв. «Я пришел в ужас, – признался Леннон позднее. – Я решил, что нам кранты!» Скорее всего, про себя он думал: «Мне кранты!» Он опять оказался брошенным человеком, от которого ждал любви и защиты. Леннон настолько идентифицировал Брайена с Джулией, что после его смерти, так же как и после смерти матери, организовал сеанс спиритизма, на котором, кроме медиума, присутствовали все члены «Битлз», причем никто из них никогда не проронил ни слова о том, что там произошло.
В столь критический момент было естественным, что Джон обратился за поддержкой к Йоко, поскольку уже тогда он верил в ее необычайную мудрость и силу и был уверен в том, что она поможет решить все его проблемы. Привязанность к молодой женщине стала настолько сильной, что его уже не удовлетворяла неопределенность существовавших между ними отношений. И он попросил ее принять решение.
Йоко как раз в тот момент переживала не менее серьезный кризис, который непосредственно угрожал ее жизни. Она рассказала кузине Тони Джоди Фридиани, которая заехала к Коксам, будучи проездом в Лондоне, что все последнее время жила в постоянном страхе за свою жизнь и за жизнь дочери. Тони начал проявлять жестокость. Йоко мечтала уйти от него, но боялась завести об этом разговор, опасаясь, что он попросту ее убьет.
Через неделю Джоди собралась поехать на знаменитый эдинбургский фестиваль, а когда в начале сентября вернулась в Лондон, чтобы пересесть на самолет до Штатов, решила заехать попрощаться с Тони и Киоко. Она застала Тони в одиночестве. «Где Йоко?» – спросила Джоди. «Она с Джоном Ленноном», – горько ответил Тони.
Йоко уехала не просто провести с Джоном вечер. Ее не было уже так долго, что Тони успел поменять дверные замки.
До сих пор Джон и Йоко встречались лишь от случая к случаю, предаваясь любовным играм на заднем сиденье лимузина или просто разговаривая по душам. Тот оборот, который приняли события, придал их отношениям более официальный характер. Тони смотрел сквозь пальцы на то, что Джон был любовником Йоко, а Джон в обмен на это щедро оплачивал творческие потуги Тони и Йоко.
Естественно было думать, почему бы Джону и Йоко не покончить со своими неудачными браками раз и навсегда. Но они еще не были к этому готовы. Джон, которому не терпелось начать новую жизнь, опасался неизбежного скандала при разводе с Синтией. А Йоко, несмотря на все свои проблемы, прекрасно понимала, что, оказывая слишком большое давление на любовника, рискует навсегда его потерять. Что же касается Тони, то он хоть и не желал мириться со складывающейся ситуацией, но не видел другого выхода, ибо ему уже грозила тюрьма. А имея за спиной такого ангела-хранителя, они с Йоко безбоязненно могли готовить новый проект.
Выставка «Половина ветра», проходившая в галерее Лиссон с 11 октября по 14 ноября, стала самым амбициозным проектом Коксов. И если множество выставленных на белых подставках предметов – таких, например, как обычная бутылка, озаглавленная «Песнь флейты для Джона», или композиция из четырех ложек из нержавейки, названная «Три ложки», – не представляли особого интереса, то три отдельно созданных «среды обитания» предлагали вниманию посетителей лондонской галереи совершенно незнакомую доселе художественную концепцию.
Первая из них, которая называлась «Зал половины весны», располагалась на втором этаже галереи и содержала большое количество экспонатов, представлявших собой половины различных предметов обихода: половина кровати с половиной подушки, укрытая половиной одеяла, стоящая рядом половина стула. Полубезумный дизайнер обставил комнату половиной радиоприемника, половиной гладильной доски, а также половиной шкафа, где на полках стояли полукастрюли, полусотейники и полчайника.
В подвале находилась среда обитания, которую они демонстрировали еще в Нью-Йорке, называвшаяся «Камень». Основная идея заключалась в том, что посетитель должен был залезть в большой черный мешок и раздеться. Скрюченная фигура напоминала снаружи черный камень вроде тех, что можно увидеть в садах дзен.
Третья среда – «Двор» – являлась, скорее, хэппенингом. Чтобы попасть сюда, посетитель должен был пройти вдоль белой линии, которая вела от галереи до ближайшего питейного заведения, выпить чего-нибудь освежающего, а затем вернуться тем же путем в галерею, где в одной из комнат в углу, скрестив ноги, сидела Йоко. Перед ней стоял поднос, на котором лежали ключи с этикетками: «полгода», «полслова», «ползвука шагов». Каждому подошедшему к ней Йоко говорила: «Выбирайте ключ, и я прошепчу вам на ухо послание». Обычно послание состояло из одного слова на японском языке.
Единственными предметами в этой комнате были большие пустые химические сосуды, расставленные на полке. Если верить каталогу, Джон Леннон предложил Йоко продать другие половины использованных экспонатов, засунув их в бутылки. Поэтому на сосудах, стоявших на полках, были наклеены соответствующие этикетки: «Полстула», «Полкомнаты», «Полжизни» и так далее. Это была самая остроумная идея всего шоу.
После выставки в галерее Лиссон Джон Леннон все чаще стал появляться у Коксов, заставляя дергаться Тони. «Вначале Тони сам подталкивал Йоко на охоту за Джоном, – объяснял Дэн Рихтер, – но когда он увидел, что их отношения стали принимать серьезный оборот, ему это не понравилось».
Тем не менее Тони и Йоко продолжали работать вместе. Незадолго до Рождества они приняли участие в Международном кинофестивале в бельгийском городе Ноккеле-Зут, где представили свои «Задницы». Здесь они познакомились с воинствующим хэппенингистом Жан-Жаком Лебедем, который принял решение саботировать своими хэппенингами «все, что имеет отношение к культуре». Собрав единомышленников, среди которых были Йоко и Тони, он предстал перед жюри вместе с целой толпой обнаженных и голозадых участников фестиваля, державших в руках листы бумаги с номерами, под которыми они принимали участие в конкурсе, в надежде спровоцировать членов жюри на какую-нибудь дискредитирующую выходку. Кроме того, Йоко, не удовольствовавшись тем, что члены ее семьи неизбежно должны были увидеть ее голой на страницах хотя бы одного из многочисленных периодических изданий, освещавших это мероприятие, воспользовалась случаем послать родственникам необычный сувенир. Случайно столкнувшись с японским кинокритиком Сигеоми Сато, она вручила ему флакон с желтоватой жидкостью и попросила отвезти его в Японию. «Что это?» – спросил ничего не подозревавший критик. «Моя моча», – чуть помедлив, ответила Иоко.
В конце осени и в начале зимы «Битлз» были заняты тем, что рыли колодец под названием «Magical Mystery Tour». В нем им предстояло утонуть. Идея шоу возникла в неугомонном мозгу Пола в тот момент, когда он пролетал над Соединенными Штатами в апреле 1966 года. Продиктовав основные мысли Мэлу Эвансу, он представил проект остальным членам группы, которые отнеслись к нему без особого энтузиазма. Что касается Джона, то он был просто взбешен: "Я чуть не подавился, когда услышал, как он обделал все это дело с Мэлом Эвансом. А затем он заявляется и говорит: «Вот что мы теперь будем делать. А ты сочиняешь вот эту часть». Джон был абсолютно уверен, что «Magical Mystery Tour» полностью повторял историю с «Сержантом Пеппером», только на этот раз эксперимент, который затеяли «Битлз», выходил за рамки чисто музыкального действа, где они чувствовали себя на высоте, и касался того вида искусства, в котором они практически ничего не смыслили.
Понимая, что поклонники уже давно испытывали потребность увидеть «Битлз», Пол собрал всех партнеров у себя дома 1 сентября, чтобы обсудить вопросы, связанные с будущим группы. Джон полностью погрузился в создание «Таинственного путешествия» и в течение нескольких месяцев упорно трудился как автор, исполнитель, режиссер и монтажер. Его основным вкладом в этот проект стала композиция «I Am the Walrus». Знаменитый текст песни он написал, вставив в пишущую машинку лист бумаги, на котором время от времени, когда им двигало вдохновение, печатал одну или несколько строк. Как же далека была эта терпеливая, пассивная манера работать от времен «Тин Пэн Элли», когда он хватался за любые американские новинки, расчленял их, а затем склеивал на скорую руку, точно песенный кузнечных дел мастер. Теперь он научился спокойствию и черпал вдохновение в средствах массовой информации, превратив свой мозг в лист бумаги, на который наклеивал вырезки из радиопередач, телерекламы, газетных заголовков, сирен «скорой помощи», детского лепета – из всего того, что составляет обычную жизнь обычных людей. Когда возникала необходимость написать текст, он забрасывал крючок в эту кучу накопленного материала и извлекал оттуда на свет Божий те немногочисленные драгоценные образы, которые были ему нужны.
Такая манера работать была органична для Леннона, «1 Am the Walrus» продемонстрировала творческие возможности Леннона, влияние Льюиса Кэрролла, детских воспоминаний, уличных шумов, плюс акустический коллаж и неизбежный мерси-бит. Вступительная часть выглядела мрачной. Достойная оперы в стиле поп, она напоминала саундтрек к какому-нибудь черно-белому фильму конца сороковых, такому, как «У причала», где вступительные титры идут на фоне заброшенных доков и ржавых барж. На все это накладывался глубокий и трагический звук, искаженный громкоговорителями старого кинозала. Затем поднимался резкий, вибрирующий, ледяной и в то же время неотразимый голос Леннона, больше похожий на мелодичный речитатив, чем на пение, поскольку ему было совершенно наплевать на мелодию, когда удавалось написать текст такой силы.
Леннон был снова охвачен гневом. Он иронизировал, проклинал, бросал вызов, сыпал насмешками. Нигде более он не достигал такого идеального равновесия между языком как средством выражения мыслей и языком – инструментом действия. Без труда можно представить себе гримасы и лихорадочные жесты, которые он производил, выплевывая в микрофон каждое слово. Эта песня вскрыла, помимо всего прочего, и массу противоречий, в которых запутался автор. Не потому ли он сначала набрасывается на экспертов-медиков, осуждающих курение травки, в то время как наркоманы покатываются со смеху, а затем вдруг начинает издеваться уже над теми, кто тонет в дыму косяков и чей смех тотчас затихает? Крабообразная рыба-мегера и секс-богиня Брижит Бардо сливаются воедино от всплеска подростковой ярости Джона. Наконец, в «Морже» Леннон впервые приоткрыл дверь, ведущую на чердак его разума, где он всю жизнь собирал коллекцию гротескных образов, которых прежде выпускал из себя, рисуя монстров на бумаге.
Столь гневная песня требовала передышки, которую и предоставил Леннон, сочинив одну из своих самых лирических мелодий, ставшую островком пасторального покоя посреди душевной бури. Образ домашнего сада не только позволял спрятаться от предшествовавшего оскаленного рыка, но и явился как бы переходом к ревущим, булькающим звукам, которые издавал уже сам Морж.
Закончив запись этой песни, Леннон перечитал балладу «Морж и Плотник», включенную в сборник «Зазеркалье», и только тогда понял, что исказил стихотворение Льюиса Кэрролла: «Я только позже осознал, что Морж был на самом деле большим и жирным капиталистом, который сожрал всех устриц». Кстати, не исключено, что, сочиняя эту песню, Джон подсознательно думал о другом здоровом, толстом, черном любителе морской пищи с большими белыми клыками – об одном из самых любимых певцов Леннона в течение всей его жизни – Фэтсе Уоллере (иначе говоря, о «Морже»), авторе классической «I Want Some Seafood, Mama!»137 (Еще одно прозвище, которое берет себе Джон в этой песне – «Eggman», то есть «Человек-яйцо», звучит как явная ассоциация пищи и секса, поскольку так Леннон называл Эрика Бердона из группы «Энималз», который прославился тем, что обожал разбивать сырые яйца о тела девушек, с которыми занимался любовью.)
В финале «Моржа» блестяще использован звуковой монтаж. Никогда еще Леннон не демонстрировал такой игры воображения и такой техники исполнения. Силу этого произведения обусловило не только богатство используемых средств – симфонический оркестр, двадцатиголосый хор и даже не «Шекспировский цирк» Би-би-си. Искусство заключалось в самой композиции, выполненной в виде звукового путешествия, поиска музыкальных образов на радиоволнах.
В «I Am the Walrus» Джон Леннон наконец нашел те художественные выразительные средства, которые идеально ему подходили, и добился оптимального баланса между свойственным ему состоянием летаргии и творческими потребностями.
Глава 30 «Дорогой Альф, Фред, папа, отче, отец, кто бы ты ни был»
Вскоре после того как 9 октября 1967 года Джон Леннон отметил свое двадцатисемилетие, он совершил один из свойственных ему импульсивных, противоречивых поступков – пригласил в Кенвуд своего отца. Учитывая все, что он рассказывал о «подлом Альфе», это было тем более удивительным, что всем была известна история, которая произошла после того, как они вновь встретились в апреле 1964 года. После семнадцатилетнего отсутствия Фредди Леннон вновь возник из небытия, побуждаемый братом Чарльзом и коллегами по работе опровергнуть потоки лжи, распространяемые по его поводу в прессе. Встреча, которую организовали два журналиста из «Дэйли скетч», состоялась в гримерной театра Скала, где «Битлз» снимали «A Hard Day's Night».
Джон испытал необычное впечатление, когда увидел человека, чье лицо наглядно демонстрировало ему, что может стать с его собственным лицом через тридцать лет, если от него отвернется удача. И хотя Фредди удалось сохранить некоторую вальяжность, он потерял почти все зубы и стал похож на бродягу. Тем не менее во всем остальном он удивительно походил на Леннона: длинный прямой нос, маленькие миндалевидные глаза, густые брови, узкий, тонко очерченный рот, квадратный подбородок и то же выражение лица. А когда Фредди открыл рот и заговорил, все услышали голос Джона, слегка окрашенный напевным ливерпульским выговором.
Что же касается Фредди, то он увидел в Джоне Джулию. "Он напомнил мне свою мать, – рассказывал Фредди. – Ее лицо принимало такое же замкнутое выражение, когда она на кого-то сердилась... Я протянул ему руку, но Джон лишь что-то проворчал и с подозрением спросил: «Чего тебе?» Видя его враждебность, я ответил, что мне ничего не надо, но он настаивал: «Раньше тебе не было до меня никакого дела, зачем же ты заявился сейчас?» Наверное, он решил, что я пришел просить у него денег, и тогда я спросил: «А разве недостаточно просто быть твоим отцом?»
Вскоре отец и сын разговорились. Фредди не утратил прежней joie de vivre138 и принялся с юмором рассказывать о своей жизни, время от времени перемежая речь двусмысленными шуточками. Однако Леннону пора было уезжать на Би-би-си. На следующий день он с большим воодушевлением рассказал о Фредди Питу Шоттону. «Я рад, что встретился с ним! – заявил Джон. – Он очень забавный. Такой же чокнутый, как и я!»
Яблоко от яблони. Эта идея, поселившаяся в голове у Джона, стала положительным полюсом далеко не однозначного отношения к вновь обретенному отцу. И тем не менее отрицательный полюс оказался сильнее. Вероятно, именно поэтому он не стремился вновь увидеться с отцом после той первой встречи. Время от времени Джон посылал ему немного денег. Но главное, его чувства продолжали пребывать в сильном беспорядке, поскольку даже в письмах он не знал, как обратиться к отцу, и поэтому начинал их так: «Дорогой Альф, Фред, папа, отче, отец, кто бы ты ни был».
Год спустя Фредди, который работал теперь в гостинице недалеко от Эшера и зарабатывал 10 фунтов в неделю плюс бесплатное проживание и питание, заявил одному из журналистов: «На жизнь я не жалуюсь. Просто хотелось бы, чтобы со мной считались... Я очень хотел бы познакомиться с невесткой и малышом. Было бы неплохо еще раз увидеться с Джоном и объяснить ему кое-что». Этот призыв вызвал бурную реакцию Джона, который решил, что отец «шантажирует» его при помощи прессы.
В это же самое время некий энергичный агент компании «Гордон Миллз Организейшн» (которая была менеджером Тома Джонса, Энгельберта Хампердинка и многих других артистов) по имени Тони Картрайт убедил Фредди Леннона подписать с ними контракт и выпустить пластинку. Записав на диск приукрашенную историю, озаглавленную «Это моя жизнь», Фредди осуществил свою давнюю мечту, на которую Джон отреагировал с присущей ему двойственностью. Втайне заслушиваясь этим рассказом у себя дома в Кенвуде, он одновременно строил вместе с Брайеном планы, нацеленные на то, чтобы навсегда убрать с английского и американского рынков «неуместное» использование имени Леннон.
Такое поведение оскорбило Фредди Леннона, чей темперамент и острый язык были отнюдь не слабее, чем у сына. Как-то февральским днем 1966 года Джон открыл дверь своего дома и буквально столкнулся с отцом, которого на этот раз сопровождал Тони Картрайт. Джон, который терпеть не мог агента из «Гордон Миллз», захлопнул дверь у них перед носом, а через несколько недель сурово обрушился на отца в очередном интервью. Тогда в дело вмешался младший брат Фредди, Чарльз. Он написал Джону длинное письмо, в котором потребовал перестать слепо доверять вранью Мими и выслушать правду о своем детстве. Он рассказал ему все: историю неверности Джулии, незаконнорожденной сестры, трагедии, разыгравшейся в Блэкпуле. Джон не ответил, но в глубдне души он понимал, что это правда.
В октябре 1967 года, когда Фредди вновь переступил порог дома в Кенвуде, его сопровождал Лес Энтони, а Джон принял старика с распростертыми объятиями. Несколько удивленный столь резкой переменой, Фредди постарался не упустить возможность и предложил Джону пригласить дядю Чарльза, у которого близился день рождения. В мгновение ока этот давно забытый родственник был доставлен пред светлые очи Джона, который приветствовал его возгласом: «С днем рождения, дядя Чарли!» И прежде чем пораженный Чарльз смог вымолвить хоть слово, Джон продолжил: «А правда, клллассный у меня старикан?» При виде подобного проявления сыновней любви Чарльз совсем лишился дара речи. «Ты что, не слышал, что я сказал?» – спросил Джон. «Я столько лет ждал этого, Джон», – ответил Чарльз, обретя, наконец, способность говорить.
Пока мужчины разминались пивком, женщины трудились на кухне. Фредди приехал вместе со своей подружкой Полин Джонс, девятнадцатилетней студенткой университета, которая устроилась подработать на каникулах в «Тоби Джаг», где и познакомилась с этим симпатичным работником кухни, который сразу завоевал ее сердце. Полин явно нуждалась в мужчине, способном заменить ей недавно умершего отца, но помимо этого Фредди оказался самым веселым и обаятельным из всех, с кем она до этого встречалась. Полин, симпатичная и очень умная девушка, заняла в жизни Фредди то место, которое когда-то принадлежало Джулии. Можно себе представить, какое впечатление это произвело на Джона Леннона! Нет сомнений в том, что ему потребовалось сверхусилие, чтобы не вылететь за дверь и не скатиться к подножию холма, где жил Ринго, с воплем: «Мой папан спит с битловской фанаткой!» Синтия же поняла, что эта девушка поможет ей решить одну проблему.
В свете недавно начавшихся отношений между Джоном и Йоко Оно они с Синтией пришли к некоему молчаливому соглашению, в соответствии с которым каждый имел право идти своим путем. Синтия взяла привычку проводить вечера в Лондоне, куда переехала ее мать. И поскольку ей нередко приходилось возвращаться поздно, ей нужна была няня, которая согласилась бы постоянно жить у нее. Поэтому она предложила Полин переехать в Кенвуд, чтобы присматривать за Джулианом и выполнять обязанности секретаря.
Когда в конце октября 1967 года Полин Джонс окончательно перебралась к Синтии, она сразу окунулась в мрачную атмосферу, царившую в доме. Среди знакомых распространился слух, что Синтию частенько видят с парикмахером, чей салон находился неподалеку от дома, где жила ее мать. Майлз утверждает, что среди битловских жен прошло некоторое волнение и что они все единодушно встали на защиту Синтии. Когда сплетни докатились до Джона, он подпрыгнул до потолка и стал угрожать разводом. Тогда в дело вмешался Брайен Эпстайн, которому удалось успокоить Джона и спустить дело на тормозах.
Полин, которая совсем иначе представляла себе семейную жизнь, была удивлена тем, что почти все время оставалась одна. Фредди провел в этом доме три долгих недели, в течение которых ему едва удавалось повидаться с Джоном, постоянно занятым работой над «Magical Mystery Tour» и над выставкой Йоко, после чего перебрался в Кью, где Джон снял для него небольшую квартиру. Кроме того, он положил ему за счет «Битлз» содержание из расчета двенадцать фунтов в неделю, что соответствовало его последней зарплате в отеле. Что же касалось самих Джона и Синтии, то они редко бывали дома и вели себя, как привидения. «Как только Джон появлялся, он тут же уходил в себя, – вспоминает Полин. – Он пребывал в постоянном напряжении и был не способен общаться с кем бы то ни было. Он просыпался в десять, молча съедал завтрак, приготовленный кухаркой, садился в свой „ролле“ и уезжал в Лондон, откуда возвращался только поздно вечером. Было очевидно, что Синтия страдала от такого отношения, но вскоре у нее появилась собственная жизнь... Она стала возвращаться даже позднее Джона и, чтобы не беспокоить его, укладывалась спать в комнате для гостей. Когда же она возвращалась раньше, Джон приезжал очень поздно и ночевал в соседней комнате. Они почти никогда не делили супружеское ложе».
После Рождества Полин решила уехать из Кенвуда, так как ей было трудно справляться с избалованным Джулианом, а кроме того, она начала ощущать на себе влияние таинственных вибраций, которыми был насыщен этот дом. Она перебралась к Фредди в Кью, где и находилась в тот момент, когда произошел очередной инцидент, внесший новый разлад в семейство Леннонов.
В тот вечер Фредди и Полин отправились в один из ночных клубов, популярных у лондонских рок-музыкантов. Когда Фредди, успевший изрядно набраться, увидел Синтию в обществе мужчины, на него нахлынули болезненные воспоминания о неверности Джулии. Приблизившись к Синтии, старый морской волк прилюдно выдал ей все, что о ней думал. Вершиной красноречия стало заявление о том, что если она столь легка на раздачу своих милостей, то не мешало бы ей уделить хотя бы часть и ему! Синтия пришла в ужас. После этого случая она никогда больше ни словом не обмолвилась с Фредди Ленноном.
На следующее утро Джон, которому рассказали об этом скандале, остановился по дороге на работу у дома своего отца. Опасаясь худшего, Фредди отказался ему открыть. Джон бушевал в коридоре перед запертой дверью, крича, что подобные выходки наносят вред его репутации. В конце концов он прокричал в бессилии: «Заткни свою поганую пасть, если не хочешь, чтобы опять пролилась кровь!»
Джон успокоился довольно быстро и даже оплатил судебные издержки Полин, которая затеяла тяжбу со своей матерью; он также взял на себя расходы по трехнедельному пребыванию Фредди и Полин в Эдинбурге, которое было необходимо для того, чтобы сочетаться браком вопреки запрету английского суда. А когда у счастливого семейства появился ребенок, Дэвид Генри Леннон, родившийся 26 февраля 1969 года, Джон купил им маленький домик в Брайтоне за шесть с половиной тысяч фунтов. Но в течение последующих трех лет он ни разу не встретился со своим отцом.
Глава 31 Правда ли, что бог обитает в душах стариков?
В феврале 1968 года «Битлз» сели на самолет и отправились в Индию, чтобы встретиться с Mахариши у него в ашраме. Приземлившись в Нью-Дели, они пересели в джип, чтобы проделать на нем еще две сотни километров до Ришикеша. А сразу за священным городом, омытым водами Ганга, открывался вид на заснеженные вершины Гималаев. «Город кишел саддуками в шафраново-желтых платьях, послушниками в белом, голыми отшельниками, покрытыми грязью и протягивающими свои чашки в ожидании подаяния, женщинами с оттененными тушью глазами и перепачканными хной ладонями» – так описывала те места журналистка из «Гардиан» Ивлин Росс. Но «Битлз» не довелось полюбоваться настоящей Индией. Они проехали через город без остановок и вскоре достигли – уже верхом на ослах – обрывистой горловины реки, которую преодолели пешком по подвесному мостику, протянутому прямо к деревянным воротам Академии медитации. То, что они обнаружили за воротами, ничем не напоминало хижины, в которых традиционно обретались монахи-индусы: это был современный роскошный отель, построенный по западному образцу, проживание в котором обходилось в 350 долларов в сутки и где каждому из Битлов отвели отдельный коттедж с горячей водой, электрообогревателями и кроватью под балдахином.
Паломников, всерьез заботившихся о погружении в духовную жизнь, будили резкими ударами в дверь в три часа утра. Они вставали, ополаскивали лицо водой из священной реки и собирались в большом плохо освещенном помещении, окуренном благовониями, где они должны были медитировать в течение двух-трех часов до рассвета; медитация завершалась песнопениями и физическими упражнениями. После легкого вегетарианского завтрака всем надлежало уединиться в одной из многочисленных пещер, вырытых под фундаментом храма, и продолжать медитировать до полуденного приема пищи. В качестве разрядки после утра, посвященного воспитанию духа, паломникам предписывались занятия изнурительным физическим трудом в раскаленной и заполненной паром прачечной или в липких от влаги общественных туалетах. «Я бы не сказал, что это была трудная жизнь, – заявил Ринго в интервью журналу „Мелоди Мейкер“, когда вернулся в Англию после десятидневного пребывания в Индии (Ринго не понравилась местная пища, а Морин замучили комары). – Мы просыпались утром – не так чтобы очень рано, – спускались в столовую позавтракать, а потом отправлялись гулять, занимались медитацией или купались. Несмотря на то, что нам все время читали лекции, все это было похоже на каникулы. Если честно, то этот центр медитации – роскошное заведение». А что касается туалетов, то вместо того чтобы их чистить, Джон Леннон изрисовал стены неприличными картинками.
С кем же «Битлз» повстречались в ашраме? Основную часть клиентуры составляли богатые шведки – махариши открыл один из своих центров в Мальмё, но встречались также красотки из Калифорнии и известные поп-звезды: Донован, Май Лав из группы «Бич Бойз» (который позднее совершил турне вместе с махариши) и Миа Фэрроу, приехавшая, чтобы прийти в себя после краткого замужества за Фрэнком Синатрой. Все одевались на индийский манер – сари, широкие брюки, туники и сандалии – и вешали на шею жемчужные бусы с колокольчиками, которые позвякивали при ходьбе. На групповой фотографии, опубликованной в журнале битловского фан-клуба, музыканты позировали вокруг низкорослого гуру и светловолосой кинозвезды. Синтия в темных очках и широких цветастых брюках стояла с краю и походила на школьную учительницу на каникулах. С другого края стоял Джон, улыбаясь в бороду.
Джону очень понравилась Академия медитации, так как здесь он нашел то, о чем давно мечтал: возможность уединиться, ощущение безопасности, отсутствие каких-либо требований и атмосферу, которая способствовала мысленным путешествиям. Он настоял на том, чтобы его поселили отдельно от Синтии, и занял однокомнатное бунгало, где и проводил бесконечные часы, сидя на старом ковре, брошенном на пол. Во время, которое отводилось медитации, Джон писал песни. «Я старался добиться того, чтобы в голове наступила полная тишина, – вспоминал Леннон, – а песни возникали сами по себе. Это было потрясающе! Они так и рвались наружу!» Примечательно, что песни, родившиеся в обстановке полнейшего душевного покоя, стали по большей части отражением того нервозного и декадентского образа жизни, который вел Джон до поездки в Индию. В песне «I'm So Tired»139 говорится об истощении бессонницей как следствии бесконечных «кислотных» путешествий. «Yer Blues» описывает состояние депрессии на грани самоубийства. В «Happiness Is a Warm Gun»140 многократно повторяется фраза о необходимости принять очередную дозу. Отправляясь в Ришикеш, Джон взял себя с собой.
Во время пребывания «Битлз» в Академии медитации британская пресса продолжала пристально наблюдать за ашрамом и регулярно публиковать об этом газетные репортажи. Если музыкальные журналисты, не заинтересованные в том, чтобы портить отношения с «великолепной четверкой», отнеслись к этому чудачеству вполне уважительно, то все остальные не жалели сарказма по поводу того, что происходило в лагере, и дружно объявили махариши жуликом. «Битлз» встали на его защиту. «Даже Христа сначала убили, прежде чем поняли, что он был Иисусом Христом», – заметил Джон.
Вообще-то «Битлз» уже имели возможность узнать об истинных качествах «дергающегося гуру». Накануне отъезда в Индию им стало известно, что махариши вел переговоры с телеканалом Эй-би-си относительно контракта на свое шоу, в котором пообещал участие «великолепной четверки». Когда усилия Питера Брауна, пытавшегося объяснить ему, что об этом не может быть и речи, не увенчались успехом, Пол и Джордж сами полетели в Мальмё, чтобы расставить все точки над "i": «Битлз» не примут участия в такой передаче. Хитрый лис махариши предпочел избежать лобового столкновения: он улыбнулся и повел себя как терпеливый отец с непослушными детьми. «Они – прекрасные парни, – заявил он. – Они делают меня таким счастливым». Он рассчитывал, что они сделают его еще и сказочно богатым. Существовало правило, по которому все ученики должны были платить ему ежегодный взнос в размере собственного недельного заработка. Эти деньги переводились на счет махариши в швейцарском банке. Теперь, покорив «Битлз», гуру задался целью создать по всему миру сеть центров медитации, которая могла бы охватить, миллионы людей. Когда на этот проект ополчились журналисты, гуру объяснил, что именно сейчас ему следует проявить активность, прежде чем он «удалится в молчание».
Индийская идиллия быстро подошла к концу. Первыми уехали Пол и Джейн, показав тем самым, что их устраивало далеко не все. Джон тем временем решил пригласить своего большого друга Алекса Мардаса, молодого грека, который завоевал симпатии Джона тем, что объявил себя электронным гением, способным, при незначительном финансировании, создать целый ряд изобретений, которые могут совершить коренной переворот в жизни и карьере «Битлз». Среди проектов, которые он представил Джону, была автомобильная краска, по заказу менявшая цвет, невидимый ультразвуковой занавес, способный защитить «Битлз» от воплей поклонников, электростатические обои, гарантирующие стопроцентную звукоизоляцию, а также искусственное солнце, способное осветить ночное небо лазерными лучами. Несмотря на абсурдность своих выдумок, Алекс был как раз подходящим человеком для того, чтобы разоблачить махариши. Подозрения возникли у него сразу, едва он впервые увидел индуса. Очень скоро Алекс обнаружил, что старик совратил одну из самых симпатичных девушек, приехавшую из Калифорнии. Когда Джон и Джордж отказались поверить этим скандальным обвинениям, Алекс устроил махариши ловушку.
Когда учитель уединился с любимой ученицей, Алекс подкрался и стал шуметь возле его бунгало, а затем наблюдал, как тот торопливо выскочил наружу, поправляя одежду, а затем отослал девушку восвояси. Тем же вечером Алекс, девушка, Джон и Джордж собрались, чтобы обсудить ситуацию. Джордж был возмущен и ни о чем не желал слышать. Но Леннон быстро сообразил, что их надули. (Впоследствии одна из первых учениц гуру Линда Пирс рассказала, как он соблазнил ее, когда она, будучи двадцатидвухлетней девственницей, впервые поехала в Индию. «Когда я спросила его об обете воздержания, – вспоминала миссис Пирс, – он ответил, что каждое правило должно быть подтверждено исключением. Мы часто занимались любовью, и мне казалось, что я у него не одна».)
В результате ночной дискуссии было решено, что «Битлз» на следующее утро уедут. Алексу было поручено позаботиться о средстве передвижения, а женщинам ведено забрать самое необходимое. Предвидя неизбежность скандала, «Битлз» решили спасаться бегством.
На следующее утро все собрались перед хижиной махариши. "Я как всегда говорил от лица остальных, – рассказывал Джон, – и я сказал ему: «Мы уезжаем». Он спросил почему, и я ответил: «Ну, если ты действительно в такой гармонии с космосом, то должен знать почему». Махариши взглянул на меня и произнес: «Я убью тебя, сукин сын!»
Тем временем Алексу все никак не удавалось столковаться с местными водителями, которые боялись, помогая беглецам, навлечь на себя проклятие махариши. Двоих все же удалось уговорить.
Оба автомобиля были в ужасном состоянии и ломались каждые несколько километров. Затем у одного лопнуло колесо, а у шофера не оказалось запаски. Его коллега отправился за помощью. Просидев три часа на жаре в ожидании возвращения Джорджа и Патти, Джон с Синтией уже начали верить в проклятие старого колдуна. В конце концов им на помощь пришли двое индусов, узнавших Леннона. Когда компания добралась до Нью-Дели, Джон с трудом сдерживал ярость. Тем не менее он так боялся «учителя», что пересилил себя и покинул Индию, не сделав никаких заявлений и не объяснив свой поспешный отъезд.
Когда Джон Леннон вернулся в Англию, он заявил: «Мы ошиблись, чего уж проще?» Такая манера объяснять собственные ошибки была свойственна Джону. В глубине души он был глубоко разочарован. Джон вел себя как маленький мальчик, который проснулся утром на Рождество и, войдя в гостиную, обнаружил, что Дед Мороз на самом деле был его собственным отцом. Вообще-то Джон был склонен верить в чудеса. Так что он постарался поскорее забыть об этой истории, не отдавая себе отчет, что махариши воистину сотворил с ним чудо: впервые за всю свою взрослую жизнь Джон совсем прекратил пить и употреблять наркотики. В течение нескольких недель он жил в состоянии подъема и за два месяца написал вместе с остальными Битлами тридцать песен, которые составили основу «Белого альбома».
Трудно даже вообразить рыночную стоимость тридцати песен «Битлз», написанных ими в расцвете сил! Если махариши и стремился обогатиться за их счет, то, в свою очередь, он обогатил их творческие возможности. Но самое забавное в этой истории то, что именно Леннон, который заставил всю команду «Битлз» уплатить свои взносы гуру, как бы случайно сам забыл это сделать!
Глава 32 Основания для развода
Уже в самолете на пути в Англию Джон впервые за несколько недель снова напился. Под действием алкоголя накопившаяся в душе ярость прорвалась наружу. Без каких-либо видимых причин он вдруг начал рассказывать Синтии о женщинах, с которыми ему довелось переспать за восемь лет семейной жизни. Он не особенно акцентировал внимание на сотнях девушек, с которыми проводил ночи в гастрольных поездках. По свидетельству Питера Брауна, ему доставляло удовольствие говорить о тех, кого Синтия знала хотя бы по имени. Затем он перешел к тем женщинам, с которыми Синтия была хорошо знакома, и объяснил, что если такая-то однажды без предупреждения заявилась в Кенвуд, а другая повела себя странно за ужином в ресторане, то это потому, что за спиной у Синтии он крутил с ними романы. Своими признаниями Джон, должно быть, стремился разрушить окончательно то немногое, что оставалось еще от их брака, но его попытка закончилась неудачей: он ужасно обидел жену, но ни на йоту не приблизился к разводу.
Потерпев неудачу в своем порыве вырваться на свободу, Джон сразу по возвращении вновь стал искать забвения в наркотиках. Он сосал «кислоту» и обкуривался травкой. Пригоршнями глотал амфетамины и упивался виски. Забивал ноздри кокаином и кололся героином. Уяснив, что его вера оказалась тем же наркотиком, он почувствовал, что отныне имеет полное право убрать ногу с тормозов. Через месяц он был уже в таком состоянии, что походил на собственную тень.
Как это бывало всегда в периоды обострений, Джону требовалось одиночество, так что через две недели после возвращения из Индии Синтия была вынуждена уехать за границу в обществе Мэджик Алекса и Дженни Бойд (младшей сестры Патти), которые увезли ее в Грецию. Джон выписал к себе Пита Шоттона, заставив его бросить семью и переехать в Кенвуд. Обменяв таким образом жену на друга детства, Джон снова вернулся к «кислотным» играм, в которые играл прошлым летом с Джоном Данбаром.
Несмотря на то, что Джон только что публично объявил себя бабником, он уделял женщинам очень мало внимания, проводя все время в обществе приятеля детства. Доказательством тому послужила его долгожданная встреча с Брижит Бардо.
«Клллассно!» – воскликнул Джон, когда пресс-атташе компании «Эппл» Дерек Тэйлор сообщил ему, что Б. Б. в Лондоне и сгорает от нетерпения познакомиться с «Битлз». И не переводя дыхания спросил: «А где остальные?» Узнав, что никого из других участников «Битлз» нет в городе, он запаниковал. Ему было явно не по себе, он боялся встречаться с Бардо в одиночку. Дерек Тэйлор предложил пойти вместе с ним, но этого Джону было мало. «А не вмазать ли нам по „кислоте“, совсем по чуть-чуть, чтобы в мозгах просветлело?» – завелся он. Это решение стало для них фатальным, так как к тому моменту, когда они подъехали к гостинице «Мэйфэйр», оба были никакие.
Предварительно Тэйлор позвонил секретарше Бардо и объяснил, что Леннон только что вернулся после паломничества в Индию, где припадал к ногам махариши Махеш Йоги, и что он чувствовал бы себя более свободно в обстановке, которая напоминала бы ему об этой стране. Когда Леннон появился в гостиной у Брижит Бардо, он очутился в настоящем индийском павильоне: повсюду были разбросаны подушки, комната была наполнена цветами и музыкой в исполнении Рави Шанкара.
Но даже знакомая обстановка не помогла Джону преодолеть напряжения и выйти из состояния ступора. Не говоря ни слова, он уселся в позе лотоса и закрыл глаза, будто погрузился в медитацию. Прошло полчаса, а он так и не произнес ни слова. Брижит Бардо была явно не в восторге от такого поведения. Ожидая, что к ней придут все четверо «Битлз», она пригласила несколько симпатичных девушек и планировала свозить всю компанию на ужин в какой-нибудь шикарный ресторан. Теперь же перед ней сидел только один Битл, да и тот явно пребывал в другом измерении. Когда же она попыталась заговорить с Тэйлором, то убедилась, что тот не только не знает ни слова по-французски, но даже и по-английски изъясняется с трудом. В отчаянии она повысила голос и обратилась к зомби, медитировавшему на ковре: «Похоже, что Индия произвела на вас большое впечатление».
«Никаких вопросов! – рявкнул Джон. – Почувствуй вибрацию!»
Бардо подняла руки вверх и вернулась к беседе с подругами по-французски. Через два часа Бардо предприняла еще одну попытку вывести Леннона из транса и предложила всем отправиться в новомодный лондонский ресторан «Парке». Леннон и Тэйлор пришли в ужас от этого предложения, поскольку «Парке» был крошечным по размерам заведением, которым владели выходцы из Ливерпуля. Если их угораздит появиться там в обществе Брижит Бардо и целой стаи красивых девиц, эта новость появится во всех завтрашних газетах, что будет означать нежелательную рекламу для Леннона и домашнюю сцену для Тэйлор. Поэтому Джон сказал, что не должен выходить из своего душевного состояния, которое может привести его к откровению, и посоветовал Бардо отправиться ужинать со своими друзьями. «Когда вы вернетесь, – пообещал Джон, – я напишу для вас новую песню». Делать было нечего, и Бардо отправилась на ужин в женском обществе.
Когда поздно вечером Бардо вернулась в гостиницу, еще не доходя до своего номера, она услышала индийскую музыку. На пороге актриса в изумлении остановилась: в центре комнаты, распластавшись на подушках, точно бродяга на тротуаре, лежал великий Джон Леннон в окружении груды пустых пивных бутылок. А когда она вошла к себе в спальню и увидела валяющегося поперек кровати Дерека Тэйлора, то на какое-то время вообще потеряла дар речи. Сделав над собой усилие, молодая женщина вернулась в салон и принялась что есть силы трясти Леннона. Он с трудом принял вертикальное положение и попытался что-то спеть. Но после нескольких тактов его голова упала на грудь, и он уснул.
Рано утром Лес Энтони доставил Джона в Кенвуд, где Пит Шоттон уже приплясывал от нетерпения услышать рассказ о ночном приключении. «Ну как это было? Как?» – накинулся он с расспросами.
Джон внимательно посмотрел на старого приятеля и рявкнул: «Да ни хрена там не было! Что за хреновый вечер, – простонал он. – Даже хуже, чем когда мы встречались с Элвисом».
То, как повел себя Леннон во время встречи с Брижит Бардо, было поведением человека, доведенного наркотиками до безумия. Еще через два дня они с Питом опять приняли «кислоты» и поднялись к Джону на чердак, где стали записывать на установленных здесь аппаратах Брунелла звуковой фон, который позже был использован в композиции «Revolution 9»139. Когда хозяину дома надоело работать, он сел на пол и поведал Питу о глубоком разочаровании, постигшем его в Индии, а потом погрузился в молчание. Пит уставился на большую фотографию Брижит Бардо и стал воображать, что он сделал бы, если бы ему представилась такая же возможность, как та, что недавно обломилась Джону, как вдруг заметил, что его друг делает руками и предплечьями вращательные движения, словно то были не руки, а крылья.
«Пит, – благоговейно прошептал Леннон. – Мне кажется, я – Иисус Христос!» Но Пит не зря дружило Джоном Ленноном всю ;свою сознательную, жизнь.
«Ну и что ты будешь с этим делать?» – почти небрежно спросил он.
«Я должен всем рассказать об этом, – без тени колебания заявил Джон. – Я должен сделать так, чтобы весь мир узнал, кто я такой!»
«Да они же убьют тебя к чертовой матери, – запротестовал Пит. – Они этого никогда не примут, Джон!»
Но Джона невозможно было переубедить. «Тут уж ничего не поделаешь, – возразил он. Затем, немного подумав, спросил: – А сколько лет было Иисусу, когда его убили?»
Этот вопрос застал Пита врасплох. Он подумал и прикинул (причем ошибся только на год): «Кажется, тридцать два».
Джон принялся загибать пальцы, а затем воскликнул: «Черт! Значит, у меня еще почти четыре года»
Когда на небе появились первые проблески зари, Леннон решил в тот же день отправиться в офис компании «Эппл», чтобы сообщить о своем открытии всем остальным. На этом, совершенно обессиленные, Джон и Пит привалились друг к другу и погрузились в сон. Когда через несколько часов их разбудила домработница Дот Джерлетт, Леннон, все еще пребывая в том же состоянии духа, стал готовиться к собранию административного совета.
Ближе к вечеру организационное ядро «Битлз» в составе Пола, Джорджа, Ринго, Нила и Дерека собралось в офисе у Леннона, присоединившись к Джону и Питу. Все ждали, удивляясь, что же вдохновило традиционно пассивного Леннона на то, чтобы забить в набат. Джон встал из-за стола. «Я хочу сообщить вам нечто очень важное, – начал он. – Я – Христос, который спустился на землю. Вот так». Когда Джон потребовал, чтобы компания «Эппл» подготовила по этому поводу экстренный пресс-релиз, ближайшие партнеры поняли, что лучше не спорить. Справившись с оцепенением, длившимся несколько минут, «Битлз» согласились, что это известие действительно имеет первостепенное значение, и заявили, что им понадобится какое-то время, чтобы осмыслить его и решить, что в этой связи должна будет предпринять компания «Эппл». На этом заседание было отложено на более поздний срок.
Когда вечером Джон и Пит отправились поужинать в ресторан, Джон все еще продолжал витать в облаках. Неожиданно к ним обратился какой-то человек, который был счастлив от того, что оказался рядом со знаменитой поп звездой. «Я очень рад вас видеть, – произнес он. – Как вы поживаете?»
«Вообще-то я – Иисус Христос», – невозмутимо ответил Джон. «Правда? – не моргнув глазом, ответил незнакомец. – А мне очень понравилась ваша последняя пластинка. По-моему, она гениальна!»
Джон и Пит вернулись в Кенвуд. Выкурив несколько косяков, Джон начал заводиться. «Мне захотелось женщину. Ты не возражаешь. Пит?» – поинтересовался он. Шоттон обрадовался, так как это означало, что он сможет немного поспать.
«Тогда, я думаю, надо звякнуть Йоко», – Джон постарался сохранить в своем голосе безразличие, которое, однако, не обмануло Шоттона. «Она тебе нравится?» – спросил он.
«Не знаю, – Джон сделал вид, что не понял намека. – Но что-то такое в ней есть. Я просто хотел бы познакомиться с ней получше. По-моему, сейчас как раз подходящий момент».
Когда Джон впустил Йоко, он и виду не подал, что ждал этой встречи. Все трое уселись в гостиной, чувствуя себя явно не в своей тарелке, причем Йоко даже не пыталась поддерживать беседу. Пит пробыл с ними ровно столько, сколько было необходимо ради приличия, и вскоре откланялся.
Джон и Йоко поднялись на чердак и занялись записью пленки, которая через несколько лет вышла под названием «Two Virgins»140. Джон манипулировал рычажками на микшерском пульте, а Йоко сидела перед микрофоном. В какой-то момент Джон предложил подзарядиться «кислотой». Осоловевшая парочка, в восторге от новой игры, развлекалась до самого утра, и лишь утром дело дошло до постели.
В тот день Пит проснулся довольно рано и спустился позавтракать. На веранде он обнаружил Джона в коричневом кимоно, который уплетал вареное яйцо и запивал его чаем. Когда Пит удивился тому, что Джон так рано на ногах, тот ответил, что еще не ложился, а затем неожиданно попросил Пита немедленно подыскать для него новый дом. «Зачем?» – изумленно спросил Пит. Джон торжественно поставил чашку и произнес: «Затем, что я хочу переселиться туда вместе с Йоко».
«Вот так просто взять – и переселиться?» – огорошенно прошептал Шоттон. И Джона вдруг прорвало: «Да, вот так просто! Вот так просто! Вот оно. Пит. Я ждал этого всю жизнь. И катись все остальное к чертям собачьим! К чертям „Битлз“, к чертям бабки, к чертям все это дерьмо! Если понадобится, я уеду и буду жить с ней в долбаной палатке.»
При этих словах Леннон вскочил на ноги – следом вскочил и Шотгон, закричав: «Так не бывает, Джон!»
«Так не бывает, – эхом отозвался Леннон, который уже почувствовал крылья у себя за спиной, как человек, которому удалось одним махом решить все свои проблемы. – Знаешь, это похоже на то, как мы влюблялись, когда были детьми, – продолжал он. – Помнишь, как бывало, когда ты знакомился с девочкой и начинал думать только о ней и все время хотел быть только с ней – все мысли были заполнены только ею одной. Так вот, Йоко сейчас там, наверху, а я не могу дождаться, когда снова ее увижу. Я вдруг так проголодался, что пришлось спуститься и сварить себе яйцо, но каждое мгновение, что я нахожусь вдали от нее, дается мне с таким трудом!»
Вечером того же дня Йоко перевезла в Кенвуд свои вещи, несказанно удивив Дот Джарлетт своим гардеробом. На следующее утро Джон сунул Питу толстую пачку денег и велел провезти Йоко по магазинам. А очередное задание Шоттона заключалось в том, чтобы связаться с агентством по недвижимости и подыскать загородное жилище в радиусе пятидесяти миль от Лондона, которое было бы окружено большим участком земли. Цена не имела значения.
К тому времени, когда Синтия вернулась в Кенвуд, ,фкон Леннон уже мысленно развелся с ней и женился на Йоко Оно, с которой и переселился в великолепную загородную резиденцию. Единственное, что Джон забыл сделать, так это сообщить жене о ее новом положении. Следствием подобной забывчивости стал кошмар, который пришлось пережить Синтии по возвращении.
«Всюду стояла странная тишина», – вспоминает она. Не было ни Джулиана, ни Дот, ни садовника. Решив, что прошлой ночью в доме, должно быть, проходила очередная вечеринка, после которой все еще спят, она постучала в дверь, но ей никто не ответил. В конце концов она достала из сумочки ключ, который отпирал специальный кодированный замок, но внезапно обнаружила, что дверь не заперта. Синтия вместе с приехавшими с ней друзьями вошла в прихожую, едва освещенную редкими лучами солнца, проникавшими сквозь плотно задернутые шторы гостиной, и позвала: «Джон! Джулиан! Дот! Есть кто-нибудь дома?» Ответом было молчание. Повернув направо и пройдя через столовую и кухню, Синтия подошла к веранде – и обомлела!
В зелено-белом халате и с растрепанными волосами на своем любимом маленьком диванчике расположился Джон Леннон с чашкой чая в руках. Напротив него спиной к Синтии сидела маленькая женщина с огромной копной черных волос, облаченная в черное шелковое кимоно. «Я будто натолкнулась на кирпичную стену, – рассказывала Синтия. – Мне показалось, что я была здесь чужой». Она и в самом деле была чужой. Но она еще не догадывалась, что Джон уже вычеркнул ее из своей жизни.
«Привет!» – бросил Джон после бесконечно долгой паузы, затягиваясь сигаретой. Синтия пребывала в таком шоке, что открыла рот и, точно автомат, принялась произносить заранее заготовленную в самолете речь. «У меня возникла грандиозная идея! – выпалила она. – После того как мы позавтракали в Греции и пообедали в Риме, почему бы нам не отправиться всем вместе поужинать в Лондон?»
«Нет, спасибо», – бесстрастно ответил Джон. В этот момент Иоко обернулась и окинула Синтию «внимательным и уверенным взглядом».
«Это было как удар под дых, – продолжала Синтия. – Я даже не разозлилась. Я была просто огорошена... Поэтому вместо того чтобы кинуться на них с кулаками и начать выяснять отношения, я почувствовала, что мне необходимо немедленно оттуда убраться».
Бросившись наверх, Синтия наспех покидала в чемодан кое-какие вещи, в то время как дорожные чемоданы все еще лежали в багажнике автомобиля. Проходя мимо спальни для гостей, она углядела на ковре пару японских сандалий.
Через пятнадцать минут после возвращения домой она снова очутилась на улице. "Мне показалось, – заметила она, – что своим молчанием Джон говорит мне: «Не смей нарушать чудесное мгновение! Сгинь! Ты только все испортишь». Получив молчаливый приказ Джона, Синтия беззвучно повиновалась, оставив свой дом и своего мужа в руках другой женщины.
Алекс и Дженни предложили Синтии пожить какое-то время в маленьком домике, который они снимали на двоих в центральной части Лондона. Вот что рассказал Питер Браун: «На следующий день она допоздна засиделась в обществе Мэджик Алекса, болтая при свечах и попивая вино. Она никогда прежде особо не доверяла Мэджик Алексу, но той ночью ей было необходимо излить кому-нибудь свою душу. А на рассвете, опустошив немалое количество бутылок, Синтия очутилась в постели с лучшим другом Джона».
Спусти три дня Синтия позвонила Дот и заявила, что желает вернуться в Кенвуд. На этот раз Джон ждал ее в одиночестве, Йоко исчезла. «Я никак не могу понять, почему ты уехала, – запротестовал Джон, который повел себя „тепло и радушно“. – Что это на тебя нашло?» – спросил он так, словно внезапное бегство Синтии было какой-то непонятной выходкой. Но Синтия тотчас парировала этот выпад, потребовав объяснить, чем он занимался с Иоко.
Джон был готов к этому вопросу. Разыграв полное безразличие, он объяснил, что его отношения с Иоко ограничиваются чисто интеллектуальным общением, и заверил жену, что ей абсолютно нечего опасаться. Однако Синтию трудно было в этом убедить. «Я заметила, что у тебя и Иоко много общего, – продолжала настаивать Синтия. – Джон, в ней есть что-то такое, что сильно напоминает тебя. Ты, конечно, можешь рассказывать о ней все, что угодно, что она ненормальная, чокнутая артистка, но у нее аура, перед которой тебе не устоять».
Возражения Джона относительно полного отсутствия какой-либо любви с его стороны по отношению к Йоко были напрасны. Позднее Синтия призналась: «Уже тогда я поняла, что потеряла его».
Когда Синтия поинтересовалась, не следует ли ей отказаться от каникул, которые она собиралась провести с миссис Пауэлл и Джулианом в Пезаро, Джон, естественно, стал уговаривать ее не делать этого. «Напротив, – сказал он, – поезжай и хорошенько отдохни». Синтия заставила себя поверить в то, что ее отсутствие не будет иметь решающего значения и что она так или иначе не имеет права лишать Джулиана обещанных удовольствий.
Между тем Йоко вернулась к Тони, чтобы окончательно расстаться. «Она многим была обязана Коксу, – свидетельствует Дэн Рихтер, который в то время находился с ними. – Ведь это он вытащил ее из психиатрической лечебницы, он помог ей преодолеть трудный период, он находил средства для организации ее выставок, перформансов и съемок ее фильмов, он обеспечивал рекламу». В качестве отступного Тони потребовал 50 процентов от всего, что ей удастся вытянуть из Леннона, и заставил ее подписать контракт, по которому она обязалась удовлетворить это условие. «Ей казалось, что она ему обязана, – объяснил Рихтер, который удостоверил этот документ своей подписью. – Я думаю, что она также была уверена в том, что сможет разорвать это соглашение позднее, если почувствует в этом необходимость».
После того как с Тони все было улажено, а Синтия уехала в Италию, Иоко почувствовала, что может опять вернуться в Кенвуд. Леннон уже считал себя свободным мужчиной и был уверен в том, что развод – не более чем пустая формальность. Не дав себе труда уведомить об этом собственную жену, он начал появляться в обществе со своей новой женщиной. 15 июня, во время проведения Национальной выставки скульптуры, Джон и Йоко устроили свою так называемую Желудевую акцию, замысел которой состоял в том, что они посадили два желудя в качестве жеста, символизирующего «единство и развитие двух культур». Пресса узнала об этом слишком поздно, но три дня спустя, когда Джон и Иоко подъехали к Национальному театру, чтобы присутствовать на премьере спектакля Виктора Спинетти, поставленного по книгам Леннона, репортеры всерьез накинулись на Джона.
Джон Леннон, одетый в белый атласный пиджак, цветастую рубашку и черные брюки вылез из белого «ягуара» Пита Шоттона, держа за руку Иоко Оно – также во всем белом, за исключением черной кофточки. Внезапно со всех сторон к нему ринулись репортеры, защелкали вспышки фотокамер, и Джон был вынужден остановиться. «Где ваша жена? Где Синтия? Что случилось с вашей женой, Джон?» – закричали газетчики. «Я не знаю!» – взорвался Леннон и потащил Иоко к дверям. Поглощенный пьесой, которая имела большой успех, он забыл о журналистах. Однако когда на следующее утро во всех газетах появились фотографии, на которых он держал за руку Йоко, и статьи, намекавшие на то, что он либо ушел от жены, либо изменяет ей, Джон заволновался. Тем не менее его ощущения не шли ни в какое сравнение с чувством, которое испытала Синтия, прочитав английские газеты.
Любая другая женщина немедленно помчалась бы домой, чтобы предстать перед мужем и попытаться спасти свой брак. Но Синтия, всегда опасавшаяся открытых столкновений, улеглась в постель и провела там несколько дней. В конце концов как-то вечером она решилась-таки покинуть свое убежище в обществе двадцативосьмилетнего сына хозяина гостиницы Роберто Бассанини, здорового, добродушного и симпатичного молодого человека, который понравился ей еще во время предыдущей поездки. Когда на следующее утро они вернулись в гостиницу, то застали там Мэджик Алекса.
Оставшись с Синтией наедине, Алекс заметил, что Джону будет небезынтересно узнать о том, что его брошенная жена, вместо того чтобы оплакивать свою судьбу, развлекается в обществе молодых и красивых мужчин. Вынудив молодую женщину занять оборону, он сообщил ей, что Джон хочет развода, чтобы жениться на Иоко Оно. Если Синтия поднимет шум или откажется от сотрудничества, Джон пригрозил забрать у нее Джулиана, а ее отправить обратно в Хойлэйк.
Подобные угрозы возмутили даже Синтию. «Он подает на развод! – взорвалась она. – А на каком основании?»
«Джон обвиняет тебя в адюльтере, – холодно ответил Алекс. – И я согласился свидетельствовать против тебя в пользу Джона». Затем он напомнил Синтии о той самой ночи, когда, после обильной выпивки, она забралась на рассвете к нему в постель. Взорвав свою бомбу, Алекс немедленно укатил обратно в Лондон.
Не успел он выйти из дома, как Синтия бросилась к матери. Миссис Пауэлл чуть не хватил апоплексический удар, когда она услышала о дьявольских планах ненавистного зятя. Когда Синтия сообщила, что собирается в Лондон только на следующий день, Лил ответила, что не может ждать до завтра. После обеда она уже сидела в самолете, который направлялся в Англию.
Когда миссис Пауэлл добралась до дома 34 по Монтегю-сквер, она с удивлением обнаружила на пороге дома букет цветов. Распечатав прилагавшийся конверт, она прочитала: «На этот раз я пришел первым». Джон наконец-то взял реванш.
Тот же детектив, который следил за миссис Пауэлл, должно быть, предупредил адвоката Джона, что Синтия прибудет позже, и буквально через пять минут после возвращения ей было вручено уведомление о начале процедуры развода. Когда она позвонила в «Эппл» и потребовала встречи с Джоном, ей сообщили, что для организации встречи потребуется две недели. Вспылив, она схватила мать, сына и поехала прямо в Кенвуд. На стук в дверях показались Джон и Йоко, оба в черном. Джон был явно не готов к этой встрече лицом к лицу. Когда миссис Пауэлл сказала Иоко: «Мне кажется, что вам лучше уйти в другую комнату и оставить их вдвоем», Джон в испуге закричал: «Нет, Иоко! Останься!»
Синтия мгновенно потеряла над собой контроль и разрыдалась. Ей была невыносима мысль о том, что ее может запятнать обвинение в адюльтере. Она попыталась объяснить, что Алекс ей никогда не нравился, что ей и в голову не приходила мысль заняться с ним любовью и что, сама того не желая, она позволила негодяю себя околдовать. Джон ответил, что у него нет выбора. Если он хочет уберечься от такого рода рекламы, он просто вынужден обвинить ее в адюльтере. После четверти часа споров о том, кто кому и с кем изменил, Синтия нашла, наконец, аргумент, с которого ей следовало начать. «Ты совершенно несправедливо сваливаешь вину на меня, поскольку именно ты стремишься разрушить наш брак!» – закричала она.
Леннон почувствовал, что не в силах продолжать и коротко ответил: «Давай предоставим нашим адвокатам решить это дело». Затем Джон предложил Синтии переехать вместе с Джулианом и матерью в Кенвуд и оставить ему дом на Монтегю-сквер. Когда Лилиан Пауэлл вмешалась и стала настаивать на том, что он не может так просто бросить ее дочь, Леннон закричал: «Это мой дом! Убирайтесь отсюда!»
В следующий раз Джон и Синтия встретились уже в присутствии адвокатов, чтобы обсудить финансовую сторону развода. Когда встреча закончилась, Пит Шоттон, продолжавший жить в Кенвуде, поинтересовался у Джона, как все прошло. "Да просто хренотень какая-то! – в отчаянии воскликнул Леннон. – Всякий раз, когда я пытался что-нибудь сказать Син, ее адвокат прерывал меня и говорил, что я не имею права обращаться к ней, а должен делать это через своего адвоката. В конце концов мне все это надоело, и я сказал ей: «Слушай, Син, забирай к чертовой матери все, что захочешь. Вы тут все это решите, потом скажете мне, и я вам все на хрен отдам».
Как обычно, Синтия сдалась и позволила Джону обвинить ее в супружеской измене. Пойдя на такую мучительную уступку, она по идее должна была бы потребовать от него щедрой материальной компенсации. Вместо этого, вопреки собственным интересам, она позвонила Джону и предложила договориться между собой, поскольку ее адвокаты собирались «расколоть его на несколько сотен тысяч фунтов». Когда до Джона, наконец, дошло, во что ему обойдется развод, он начал торговаться и закричал: «Больше 75 тысяч ты у меня не получишь! Да на что тебе такие деньги? Для тебя это все равно что выиграть в лотерею!»
Несмотря ни на что, развод мог пройти безо всякого шума, если бы в сентябре Иоко не забеременела. При таких обстоятельствах обвинение в супружеской измене, выдвинутое против Синтии, становилось смешным. Так что супруги поменялись ролями, и теперь Синтия потребовала у Джона развода. Тем не менее Леннон в результате отделался всего лишь легким испугом. Ему предстояло выплатить 100 тысяч фунтов плюс еще 2 400 фунтов ежегодно в качестве алиментов на Джулиана. Трастовый фонд в пользу Джулиана также не отличался особой щедростью. В двадцать пять лет сын должен был получить 100 тысяч фунтов при условии, что у Джона не будет других детей, в противном случае эта сумма сокращалась наполовину. Все права по опеке сына переходили к Синтии, и эту жертву Джон принял с явным облегчением.
8 ноября 1968 года, через две недели после того как Леннон официально объявил о беременности Йоко, Синтия получила развод. «Синтия сразу оказалась отрезанной от „Битлз“, – писал Питер Браун. – Очень немногие из служащих или друзей осмелились оказать ей поддержку или что-то сказать против Иоко. Все боялись разгневать Джона». Единственным, кто поддержал Синтию и выразил ей свою симпатию, оказался Пол. "Я была очень удивлена, когда однажды солнечным утром Пол заявился ко мне собственной персоной, – вспоминает Синтия. – Я была тронута его искренней заботой о нашем благосостоянии, но больше всего меня взволновала одинокая алая роза, которую он преподнес мне, сопроводив свой жест шутливым предложением: «Ну так как, Син? Может, давай теперь поженимся?»
Настоящими жертвами развода стали Джулиан Леннон и Киоко Кокс. Джон будет очень редко встречаться с сыном, а Йоко не станет прилагать особых усилий (за исключением эпизода с похищением, о чем речь пойдет ниже), чтобы повидаться с Киоко. Первое время девочка проводила много времени в доме у подруги семьи Мэгги Постлуэйт, которой Джон дал номер своего телефона для экстренных случаев. Один раз Мэгги воспользовалась этим номером, но ничего не добилась. Специальный служащий принял ее сообщение, но отказался подозвать кого-либо из Леннонов. Ни Джон, ни Йоко не перезвонили. Киоко была потрясена, когда поняла, что не может поговорить с мамой даже по телефону. Тогда Мэгги пришлось позвонить Тони, который приехал и забрал дочь.
Развод Иоко обошелся Джону значительно дороже, чем его собственный. Он согласился оплатить долги Кокса, общая сумма которых составила порядка 100 тысяч фунтов? Никто не знает; сколько в точности получил Тони, но, по словам его брата Ларри, он уехал из Англии «с набитыми карманами». Из-за налоговых сложностей эти деньги были проведены через бухгалтерию компании «Эппл филмз» как платеж за приобретение кинокамер и за аренду судна для съемок фильма в районе Виргинских островов: Свидетельство о разводе, датированное 30 января 1969 года, положило конец этой запутанной истории, за исключением одного: опеки над Киоко. В акте было записано, что решение по этому вопросу должно быть принято позднее «компетентными судебными инстанциями». Почему столь важный вопрос остался нерешенным? По свидетельству Аллена Кляйна, Джон Леннон, отказавшись от опеки над собственным ребенком, требовал, чтобы Йоко поступила так же. Однако Йоко захотела оставить лазейку, которая позволила бы ей позднее заявить на Киоко свои права.
Глава 33 Медовый месяц с героином
Задолго до того как Джон и Йоко обрели свободу, они стали рабами героина. Йоко рассказала Марии Хеа, что Джон пристрастился к наркотикам задолго до того, как впервые дал попробовать их ей, при этом она добавила, что, в отличие от нее, он мог свободно отказаться от наркотиков. Тем не менее для прессы она припасла совсем другую историю: «Джон... спросил меня, пробовала ли я его когда-нибудь (героин. -А. Г.). Я ответила, что когда он был в Индии, на одной из вечеринок мне представилась возможность его попробовать. Я не знала, что это такое. Вероятно, в тот раз доза была невелика, так как потом мне не было плохо (читай: не тошнило. – А. Г.). Поэтому, думаю, Джон скорее всего начал принимать их как раз потому, что я ему сказала, что мне понравилось». Какая разница, кто из них кого втянул, гораздо серьезнее то, что случилось дальше.
«Тони-Испанец» Санчес, приятель Роберта Фрэзера, популярного среди поп-звезд торговца искусством (который был арестован вместе с «Роллинг Стоунз» в мае 1967 года и посажен в тюрьму за хранение героина), частенько составлял тем летом компанию Джону Леннону и наблюдал, как тот накачивался наркотой в обществе известных наркоманов Брайена Джонса и Кейта Ричарда. "Мне казалось, что Джон, – писал он, – последует за Брайеном в тот мир, где безраздельно властвуют наркотики. (Леннон принимал героин, кокаин и гашиш, равно как ЛСД, марихуану и таблетки амфетаминов. – А. Г.) Он звонил мне чуть ли не каждый день и просил раздобыть очередную дозу... Однажды он повел себя очень агрессивно, потребовав, чтобы я достал героина. Он даже прислал ко мне своего шофера. Джон настолько замучил меня своим постоянным давлением, что я взял у шофера двести фунтов и вручил ему пакетик с двумя раздавленными таблетками аспирина. Я надеялся, что после этого он отстанет от меня раз и навсегда. Но на следующий день Джон снова позвонил и потребовал еще. «Так тебе понравилось?» – спросил я. «Да я как-то об этом не думал, – ответил Джон, – но заторчал слабовато».
Квартира Ринго на Монтегю-сквер повидала немало наркотических безумств еще до того, как сюда переехали Джон и Йоко. Задолго до них здесь какое-то время жил Джимми Хендрикс, который в наркотическом угаре развлекался тем, что швырял в стены и в шторы из синего шелка баночки с красками. После этого Ринго все перекрасил в белый цвет. И вот он опять приютил наркоманов. «Почти весь июль они провели в подвале на Монтегю-сквер, валяясь в состоянии полного добровольного отупения, – вспоминает Питер Браун. – Очень скоро квартира стала напоминать свинарник, настоящий притон, где никогда не застилались постели, а пол был завален грязным бельем и газетами». Они повесили на стену коллаж Ричарда Чемберлена, составленный из газетных вырезок, посвященных аресту «Роллинг Стоунз», и любовались им сквозь дым ароматических палочек так, будто наблюдали за собственным падением в пропасть.
Позднее Йоко вспоминала, что в то лето они с Джоном соблюдали диету, состоявшую из шампанского, икры и героина. Для Джона это был «необычный коктейль из любви, секса и полного забытья». Вероятно, никогда больше они не были так близки друг к другу и так счастливы, как тогда. Несмотря на видимую запущенность и отупение, они испытывали блаженство, сравнимое разве что с тем чувством, которое испытали те, кому довелось отведать настоящего любовного эликсира. Лежа в кровати и взирая на мир через телевизионное окно, или занимаясь любовью, или шатаясь, точно зомби, по квартире, они плавились и сливались воедино. Подобный симбиоз стал еще одним героиновым чудом, заставившим обоих в высшей степени эгоистичных любовников праздновать свою любовь так, словно они были единым существом, поселившимся в двух человеческих телах.
Кроме всего прочего, героин обладал свойством возвращать Джона в детство. «Я ощущал себя ребенком, завернутым в пеленку и плывущим по теплой воде», – говорил он. Когда Джон возвращался в детство, он неизбежно встречал в конце пути свою мать, в результате чего и появилась песня «Джулия». Записанная тем летом песня лучше любых слов выражает суть того чувства, которое Джон испытывал к Йоко.
В этой песне слушателя сразу поражает теплая, расслабленная, почти воркующая интонация голоса Леннона, когда в приступе любви и радости он начинает повторять имя матери, точно ребенок, который тянет свои ручонки для объятий. В этой песне Джон снова превратился в того нежного ребенка, каким был до того, как его бросили. Используемый здесь замечательный музыкальный язык, полный реминисценций покоя и чувственности океанского побережья, очень схож по стилистике с творчеством одного из талантливейших современников «Битлз» Антонио Карлоса Жобина. Джон Леннон никогда не отличался особой любовью к бразильскому композитору, но на этот раз именно стилистика Жобина вдохновила его, когда, называя мать «дитя Океана», он напрямую ассоциирует ее с Иоко.
Заставив воскреснуть душу нежного ребенка, которая в течение стольких лет скрывалась под маской школьного хулигана, затем подростка-тедди-боя, рокера из Мерсисайда и, наконец, прославленной, но глубоко несчастной поп-звезды, Джон Леннон повернул ход своего духовного развития. Несмотря на презрительное доселе отношение к женщинам, он внезапно отказался от своих мачистских претензий и ударился в противоположную крайность: он то изображал ребенка, то идентифицировал себя с противоположным полом, в частности, с Иоко, всегда ненавидевшей мужчин.
Начало столь революционного преображения было обозначено на выставке Леннона в галерее Роберта Фрэзера, открывшейся 1 июля 1968 года. Темой выставки стала общеизвестная маниакальная страсть Джона к калекам и уродам. Но гораздо большее значение имела стилистика разработки этой темы, заимствованная у Иоко.
Когда вечером на открытие выставки собрались критики, журналисты и другие приглашенные, они оказались в совершенно пустом выставочном зале. В самом дальнем конце галереи на стене висел большой круг, вырезанный из куска белой материи, на котором мелким шрифтом было написано: «Вы находитесь здесь». Это и было названием выставки, посвященной Иоко. А фраза и белый круг были позаимствованы у планов метрополитена: автор применил тот же метод, чтобы объяснить посетителям, как добраться до собственно выставки, которая была расположена в подвальном помещении.
Здесь посетителя ожидали выполненные в натуральную величину манекены искалеченных или парализованных детей с ногами в ортопедических скобах или сидящих в инвалидных колясках, которые держали в руках баночки для сбора подаяния. Вокруг них располагались фигуры разных животных, собиравших пожертвования для бездомных собак или умственно отсталых людей. Эта тема была хорошо знакома Леннону, но куда же подевался столь характерный для него истерический юмор, полный отвращения и гнева одновременно? Пытаясь подражать холодному артистизму Иоко, Джон кастрировал самого себя.
В следующий раз Джон появился на публике 26 июля на приеме, устроенном в честь двадцатипятилетия Мика Джаггера, который проходил в новом клубе «Везувио», открытом в этот вечер Тони Санчесом при участии Джаггера и Кейта Ричарда. "Мик эффектно появился в самую последнюю минуту, – рассказал Санчес, – держа в руках пробный оттиск пластинки «Beggars' Banquet»141. Весь мир с нетерпением ожидал выхода этой пластинки, поскольку от нее зависело будущее группы. «Если сейчас им не удастся записать хорошую пластинку, – утверждали музыкальные дельцы, – значит, им не сделать этого уже никогда». Праздник удался на славу. Столы были уставлены огромными серебряными сосудами с пуншем, разбавленным метедрином, блюдами пирожков с гашишем, ставшими в то лето хитом сезона, и маленькими тарелками с гашишем для курильщиков". Санчес волновался, так как отделение полиции на Тоттенхем-Кортроуд располагалось всего в трехстах ярдах от клуба. Если бы полицейским пришла в голову мысль заявиться на вечеринку, они должны были бы арестовать всех британских поп-звезд. Но по мере того как празднество продолжалось, Санчес позабыл о своих тревогах.
"Когда приехал Пол Маккартни, – рассказывает дальше Тони-Испанец, – все танцевали под «Beggars' Banquet», который, благодаря таким вещам, как «Sympathy for the Devil»142 и «Street Fighting Man»143, был, безусловно, лучшим альбомом за всю карьеру «Роллингов». Пол незаметно протянул мне пластинку и сказал: «Интересно, что ты скажешь об этом, Тони? Это наша последняя запись». Я поставил ее на проигрыватель, и медленное крещендо «Hey, Jude»144 буквально потрясло весь клуб. Затем я перевернул ее на другую сторону, и все услышали отдающий в нос голос Джона, который пел «Revolution»145. Когда музыка закончилась, я посмотрел на Мика и понял, что он в бешенстве. «Битлз» опять побили его".
Очень скоро день рождения превратился во всеобщую наркотическую вакханалию. Пирожки с гашишем сделали свое дело, и даже прислуга еле держалась на ногах. Поздно вечером Леннон, «у которого глаза, казалось, готовы вылезти из орбит», шатаясь, подошел к Санчесу и попросил вызвать ему такси. Санчес послал на улицу портье – тот не вернулся, другого – тот тоже исчез. Леннон начал нервничать. «Что это за портье, которым нужно полчаса, чтобы найти такси на Тоттенхем-Кортроуд?» – бушевал он. Когда не вернулся и третий посыльный, Санчесу стало не по себе. Ему внезапно пришла в голову мысль, что снаружи стоят полицейские и хватают одного за другим всех, кто выходит. На самом же деле портье дошли до такого состояния, что, оказавшись на улице, просто забывали, зачем их послали, и отправлялись погулять. Один из них к утру очнулся на клумбе с розами в парке Сент-Джеймс.
Леннон уже рвал и метал, когда к нему подошел Мик Джаггер и, осведомившись, в чем дело, протянул ключи от своего темно-синего «астон-мартина DB6» с затемненными стеклами. Санчес попросил своего кузена довезти Джона и Иоко до дома. Молодой человек – большой поклонник «Битлз» – очень обрадовался выпавшей на его долю чести. Но, оказавшись за рулем такого сложного автомобиля, бедняга обнаружил, что не может найти даже замка зажигания. Леннон уже задымился от ярости, когда вдруг кто-то постучал в окошко с его стороны. Это был полисмен. А у Джона в кармане как раз лежал пузырек с кокаином. До смерти перепугавшись, он бросил его на пол. Оказалось, что полисмен всего лишь хотел помочь. Он показал водителю, как включается зажигание, и, сорвавшись с места, компания умчалась в ночь.
Джон шарил руками по полу, пытаясь найти свой кокаин. «Это машина Мика Джаггера, – пробормотал он, – и я не могу оставить кокаин у него на полу, так не поступают!» В этот момент водитель нажал на газ, и Леннон свалился на пол. Джон зашелся в новом приступе ярости: «Останови машину! Мы вылезаем! Лучше я пойду домой пешком. А ты найди кокаин и оставь его себе».
«Revolution» обозначила для Джона Леннона очередную точку отсчета: это была его первая политическая песня. Изначально вещь называлась «Revolution 1», и она была написана под влиянием демонстрации, прошедшей тем летом у здания американского посольства, которую Джон наблюдал по телевизору. Первым музыкальным ответом Джона революционерам стало осуждение, сделанное голосом циничного дядюшки, который говорит: «Ну что, малыш, тебе захотелось стать мужчиной?», затем он какое-то время ведет парнишку за собой, но вдруг поворачивается и буквально уничтожает его словами о том, что не хочет иметь ничего общего ни с ним, ни с его идеалами. И тем не менее мгновение спустя после того, как он предупреждает революционеров о том, что их демонстрации повлекут за собой насилие, и заявляет, что ему с ними не по пути («count me out»), он вдруг резко меняет свое отношение, и ключевое слово «out» превращается в его устах в «in»! Так на чьей же он стороне? Джон и сам не в силах ответить на этот вопрос, поскольку его отношение ко всякой радикальной идее всегда было амбивалентным, что наглядно продемонстрировала дальнейшая история песни «Revolution».
Разобравшись с политикой, Джон ударился в другую крайность и написал свою самую авангардистскую композицию «Revolution 9». Она начинается с медленного затухания коды «Revolution 1», на которую Леннон наложил самые различные звуки и звуковые эффекты, хранившиеся в фонотеке «И-Эм-Ай», прерываемые странным голосом, напоминающим голос звукоинженера, который, проверяя микрофон, многократно повторяет одно и то же: «Номер девять! Номер девять!» Получившийся в результате монтаж сильно напоминал работы Джона Кейджа начала пятидесятых.
Следующим делом Джона было объединить оба интересных, но совершенно разных эксперимента на одной пластинке и вынести их на суд «Битлз». Ребята, находившиеся под сильным влиянием Пола, отвергли предложение Джона, заявив, что пластинка недостаточно хороша, чтобы выйти как сингл группы «Битлз». Такой приговор обидел и разозлил Джона, который считал, что ряд последних творений Пола, таких, например, как «Леди Мадонна», были просто барахлом. Однако, вместо того чтобы хвататься за пистолеты, Джон подчинился. Он не только отдал Маккартни сторону "А", но и вернулся в студию, где превратил «Революцию 1» в «Революцию 2», ускорив ее темп и включив несколько зажигательных фортепианных проходов в исполнении Ники Хопкинса. В результате получился тривиальный поп-шлягер, как нельзя лучше подходящий для оборотной стороны сорокапятки «Hey, Jude».
Позднее «Revolution 1» заняла свое законное место в «Белом альбоме» – удивительной компиляции произведений, написанных всеми четырьмя членами группы, – который Джон Леннон считал величайшим достижением «Битлз». Если брать по отдельности каждую из песен, вошедших в «Белый альбом», все они значительно превосходили по качеству композиции с «Сержанта». Несмотря на то, что «Белый альбом» стал свидетельством того, какого высочайшего уровня достигли «Битлз» во всех разновидностях поп-музыки конца шестидесятых годов – будь то арт-рок-пародия («Back in the USSR»146, «Why Don't We Do It in the Road»147), детская пастораль («Dear Prudence», «Blackbird»148), фантасмагория в стиле поп-арт («Helter Skelter», «Bungalow Bill»149), поп-сюрреализм («Glass Onion»150, «Happiness is a Warm Gun»), – калейдоскопическое нагромождение прекрасных вещей оказалось чрезмерным для восприятия любого слушателя. В отличие от «Сержанта», где Полу удалось создать единое и красноречивое произведение из ряда разнородных и зачастую посредственных композиций, «Белый альбом» стал образцом бессмысленного набора богатейшей коллекции лучших битловских песен и демонстрацией того, насколько часть может быть лучше целого, а стремление к большему успеху обернуться неожиданным поражением.
В то время как «Битлз» расфасовывали новый двойной альбом в абсолютно белые конверты, Джон и Йоко сражались за выход своего первого гиганта – «Two Virgins». Эта пластинка, настолько же лишенная художественности и содержания, насколько битловский альбом в избытке был насыщен и тем и другим, скорее всего так и осталась бы незамеченной, если бы не ее поразительный конверт.
Джон утверждал, что идея позировать обнаженным вместе с Иоко принадлежала ему, но в действительности эти снимки лишь повторяли фото обнаженных Тони и Йоко, сделанные в Ноккеле-Зут (если не принимать во внимание тот факт, что на новых снимках присутствовал еще и третий «девственник» – бородатый юноша маленького роста). Когда запись вместе с фотографиями была доставлена в офис «Эппл» для утверждения руководством «И-Эм-Ай», Питер Браун решил, что это шутка, и запер материалы в ящик стола. Но через несколько дней Джон позвонил и поинтересовался, как обстоят дела с этой пластинкой, и тогда Браун попытался уговорить его отказаться от проекта. Джон сразу отмел любые возражения, так как, по его собственному признанию, он ставил себе целью именно шокировать публику.
«Пол отнесся к этому конверту с неописуемым отвращением, – рассказывает Браун. – Он воспринял его как личное оскорбление, а Джон, вероятнее всего, именно этого и добивался». Когда директор «И-Эм-Ай» сэр Джозеф Локвуд увидел фотографии, он тоже отказался поверить в то, что Джон серьезно собирался их обнародовать.
Во время встречи, на которой присутствовали также Пол и Йоко, Джон спросил у сэра Джозефа: «Ну как, вас это шокирует?»
«Нет, я видел вещи и похуже», – ответил патрон «И-Эм-Ай».
«Так, значит, все в порядке?» – не дал ему опомниться Джон.
«Нет, не все! – рявкнул сэр Джо. – Мне нет дела до богачей, всяких герцогинь и остальных твоих последователей. Но что касается остальных фанатов – мамочек, папочек и их дочек, то совершенно очевидно, что они этого не поймут. Ты только причинишь вред себе самому, а что выиграешь? Чего ты этим добиваешься?» «Это искусство», – ответила Йоко. «В таком случае лучше поискать для вашего конверта кого-нибудь попривлекательнее, – резко возразил сэр Джо, – а то ваши тела никуда не годятся. Пол Маккартни смотрелся бы гораздо лучше».
В конце концов был найден компромисс: альбом был выпущен на лэйбле «И-Эм-Ай», а генеральным дистрибьютором стала компания «Битлз» «Эппл».
Эффект, который пластинка произвела на британскую публику, был обескураживающим. Разве могли поклонники четверки симпатичных парней смириться с видом этих отталкивающих тел на обложке? После того как общество вынесло свой отнюдь не лестный приговор, Леннон горько посетовал: «Похоже, весь мир считает, что мы очень некрасивая пара».
В следующий раз Джон и Йоко оскорбили британское общественное мнение в октябре, когда Леннон объявил, что Иоко беременна. Теперь уже все без исключения сошлись во мнении, что Джон окончательно слетел с катушек, потому что сначала он бросил свою нежную английскую жену, променяв ее на подозрительную японку, а теперь сделал своей новой подруге ребенка еще до того, как оба они успели развестись. Что же будет? Ответ не заставил себя долго ждать. Не прошло и двух недель, как Джона и Иоко арестовали.
В отличие от всех остальных представителей продвинутого лондонского общества, «Битлз» всегда находились над законом. Как-то в «Спикизи» ребята из бригады по борьбе с наркотиками, которые постоянно околачиваются по ночным заведениям переодетыми в хиппи и в длинных париках, захватили целую компанию, среди которых был и Джон Леннон. «Я с ними! Почему вы не арестуете меня вместе с ними!» – закричал Леннон, когда полицейские начали вытаскивать его приятелей на улицу. Теперь ситуация изменилась. Даже наиболее привилегированные поп-звезды не могли считать себя защищенными: сержант Норман Пилчер, объявивший беспощадную войну наркотикам (позднее он получил два года тюрьмы за то, что подбрасывал вещественные доказательства), наметил своей следующей жертвой Джона Леннона. К счастью для Джона, в бригаде по борьбе с наркотиками нашелся человек, который вел двойную игру. Рано утром 18 октября 1968 года этому человеку удалось предупредить Леннона о готовившемся налете полиции.
Пит Шоттон, приехавший в то утро на Монтегю-сквер, был крайне удивлен, когда застал Джона, ползавшего по коврам с пылесосом в руках. Леннон объяснил Питу, что с минуты на минуту ожидает прихода полиции и что у нее неплохие шансы что-нибудь здесь обнаружить, поскольку до него в этой квартире жил Джимми Хендрикс. Шоттон, служивший в свое время в полиции, умело пробежался по карманам, ящикам и осмотрел домашнюю аптечку. Занятый этим делом, он услышал, как между Джоном и Иоко начал разгораться спор. Йоко требовала, чтобы Пит немедленно ушел. Шоттон откланялся, не забыв тем не менее прихватить с собой пакет с мусором из пылесоса.
Без пяти двенадцать раздался звонок. Йоко спустилась и открыла дверь, ведущую в прихожую. Стоявшая снаружи женщина сообщила, что она принесла заказное письмо. Приоткрыв входную дверь, Йоко сразу поняла, что эта женщина – не почтальон. Она захлопнула дверь и бросилась наверх предупредить Джона, который как раз спускал в унитаз остатки героина. «Вызывай адвоката!» – закричал он.
В это время другой полицейский, назвавшийся Найджелом, прокричал через подвальное окно, чтобы его впустили. «Что вам надо?» – спросил Леннон. «Это полиция!» – закричал фараон. «Вы не можете просто так врываться ко мне в дом», – ответил Леннон, стараясь выиграть время.
«Откройте, или я буду ломать дверь! – опять закричал офицер полиции. – У нас есть ордер!»
«Я хочу его увидеть», – потребовал Джон, который кое-чему научился у своих друзей-наркоманов.
Женщина-офицер любезно развернула документ и прислонила его к окну спальни. Джон сделал виДд что внимательно изучает его содержание. Тем временем Йоко удалось связаться с адвокатом, который пообещал немедленно прибыть на место действия. Тогда Джон попросил, чтобы им дали время одеться. Но трое полисменов уже принялись ломать дверь, а Найджел сумел открыть окно и протиснулся внутрь дома. Мгновение спустя в комнату ворвался сержант Пилчер с криком: «Отлично! Вы арестованы за сопротивление правосудию!»
Когда Николас Кауан, адвокат Леннона, прибыл на Монтегю-сквер, он застал в доме полицию, которая проводила тщательный обыск с помощью двух собак, специально натасканных на наркотики. В результате обыска были обнаружены следующие улики:
1. 27,3 грана151 гашиша в незапечатанном коричневом конверте, лежавшем в синем чемодане в спальне.
2. Портсигар со следами гашиша – на полу у окна в спальне.
3. Машинка для скручивания сигарет со следами конопли на зеркале в спальне.
4. 191,8 грана гашиша в футляре от бинокля в гостиной.
5. Два флакона с таблетками амфетаминов..
6. Полграмма морфина.
Когда Питер Браун, разбуженный звонком из «Эппл», прибыл на Монтегю-сквер, он застал Леннона «посеревшим от страха и судорожно курящим одну сигарету за другой». Браун увидел, как полицейские вывели Джона и Йоко, проталкиваясь сквозь толпу журналистов. В тот же самый момент Пол Маккартни уже разговаривал по телефону с сэром Джозефом Локвудом, который согласился позвонить в полицейский участок на Пэддингтон Грин и объяснить Джону, как ему следует себя вести. Когда сэру Джо удалось наконец пробиться к Джону, тот уже успел прийти в себя. «Алло! – ответил он. – У аппарата сержант Леннон. Чем могу быть полезен?»
Джона и Иоко освободили под залог и проводили к машине сквозь собравшуюся на улице толпу зевак.
На следующее утро Джон и Иоко предстали перед мировым судьей Мэрилбона. Когда они появились в зале суда, их уже ожидала толпа зрителей, разделившаяся на два противоборствующих лагеря: хиппи и домохозяйки. «Удачи вам! И да благословит вас обоих Господь!» – закричал кто-то из хиппи, на что хриплый женский голос тут же ответил: «Лучше пойди постригись!»
Стоя у скамьи обвиняемых, Джон и Йоко являли собой удивительную картину. Леннон был одет в черную униформу военного образца: узкие черные брюки и черную куртку, застегнутую на все пуговицы. Длинные каштановые волосы раскинулись по плечам. На Йоко были брюки, меховое манто и теннисные туфли. Заседание длилось не более пяти минут. Оба обвиняемых были отпущены под залог до 28 ноября. Когда они вышли из здания суда, то обнаружили, что их машину отогнали от подъезда, возле которого они ее оставили. Пока «бобби» пытались подогнать ее назад, растерянная парочка подверглась нападению толпы. Йоко прижалась к Джону. Позже она заявила, что кто-то ударил ее камнем по голове.
7 ноября Йоко была помещена в больницу Королевы Шарлотты. У врачей возникло опасение, что она может потерять ребенка. Джон устроился в той же палате на надувном матрасе и в течение двух недель практически не покидал здания больницы. Когда стало очевидно, что ребенка спасти не удастся, Джон раздобыл стетоскоп с вмонтированным микрофоном и записал последние удары сердца своего нерожденного ребенка, которого он нарек Джоном Оно Ленноном II. (Эта запись вошла в «Жизнь со Львами».) Глубокое беспокойство Джона о Йоко и горе от потери ребенка были усугублены еще и чувством вины. Много лет спустя Йоко рассказала своей помощнице Арлин Рексон, что этот выкидыш случился у нее в результате побоев, которые она получила от Джона. Через пять дней после вынужденного аборта Йоко и Джон вновь предстали перед судом в Мэрилбон.
Джон решил признать себя виновным в хранении гашиша, так как опасался, что, если они с Йоко станут отвергать все предъявленные обвинения и проиграют, ее могут депортировать из страны. Решение это оказалось в высшей степени ошибочным, поскольку, учитывая его огромные финансовые возможности и уникальную социальную позицию, у Леннона были огромные шансы на оправдательный приговор, что помогло бы ему избежать бесконечной войны, развернувшейся позднее между ним и американскими иммиграционными властями. Защитив своими признаниями Йоко, Джон рисковал быть приговоренным как к уплате относительно небольшого штрафа, так и к девяти месяцам тюрьмы, как это было в случае с основателем «Интернэшнл тайме» Джоном Хопкинсом или с группой «Пинк Флойд».
Защитник Мартин Полден обратился к суду с просьбой о снисхождении, аргументируя свое заявление тем, что Леннон окончательно отказался от наркотиков после того, как стал адептом трансцендентальной медитации. Конопля, обнаруженная у него дома, заявил он, валялась в этих футлярах уже больше года. В конце своего выступления адвокат напомнил о том, что его клиент «доставил удовольствие миллионам людей». Судья отклонил обвинение в сопротивлении правосудию и приговорил обвиняемого к уплате штрафа в размере 150 фунтов плюс 21 фунт судебных издержек. Затем он предупредил Леннона, что в следующий раз, когда его признают виновным по аналогичному обвинению, ему будет грозить год тюремного заключения.
Не успели Джон и Йоко разобраться с правосудием, как их выгнали из квартиры на Монтегю-сквер. Домовладелец добился решения, в соответствии с которым Ринго запрещалось уступать свою квартиру «некоему Джону Леннону и/или некоей Йоко Оно Кокс». Джон и Йоко решили вернуться в Кенвуд, где уже давно никто не жил. Синтия заявила, что ей тяжело жить в доме, полном воспоминаний о семейной жизни, и уехала, но прежде они с матерью вывезли все, что могло представлять какую-либо ценность: столовое серебро, посуду, мебель и даже сильно перепачканный многочисленными кошками Джона ковер, который был постелен в гостиной. Сюда вернулись Джон и Йоко, свалив в одной из комнат все ее творения.
«Они поселились в спальне, – рассказывает Лес Энтони, – а наверху оборудовали маленькую кухоньку. Нельзя сказать, чтобы Йоко когда-нибудь занималась готовкой. Она даже ни разу не вымыла за собой чашку. Вначале они ели много риса, но даже он у нее подгорал. Когда я заезжал за ними, они всегда просили помыть посуду, а учитывая кучу пригоревших кастрюль, это оказывалось не таким простым делом».
Подобно большинству наркоманов, Джон и Йоко предпочитали вести постельный образ жизни. Они забирались в огромную кровать Джона, а вокруг плескалось Саргассово море книг, журналов, газет, пленок и пластинок, грязного нижнего белья и других предметов одежды. В комнате был цветной телевизор и кинопроектор, а на стене в качестве украшения висели их собственные фотографии в обнаженном виде, обрамленные парой презервативов, наполненных мочой. В таких условиях они зимовали вплоть до Рождества.
За день до Рождества в штаб-квартире компании «Эппл» как всегда проходила вечеринка с участием «Битлз», технических служащих и их детей. Учитывая то, что в течение двух последних месяцев никто не видел Джона и Йоко, их появление в костюмах Санта-Клауса и его подруги произвело сенсацию. Несмотря на бледность и истощенный вид, Джон спокойно руководил раздачей подарков, тихо посмеиваясь в искусственную бороду.
В новогоднюю ночь «Битлз» по традиции собирались дома у Силлы Блэк на Портланд-плэйс. В том году праздник получился грустным, поскольку на нем не было Брайена Эпстайна, Синтии Леннон и Джейн Эшер, которая разорвала свою помолвку с Полом после того, как однажды, внезапно вернувшись домой, застукала его с американкой Френси Шварц. Джона и Иоко тоже не было среди гостей. Они предпочли отмечать торжество в компании новых друзей. В преддверии Нового года у Джона Леннона было немало причин для грусти. У него появилась зависимость от героина. Его доброе имя было опорочено. Его сын получил тяжелейшую моральную травму. Его отношения с остальными членами «Битлз» и компанией «И-Эм-Ай» были поставлены под угрозу. В течение долгих лет, когда Джон Леннон находился на вершине славы, он мечтал о настоящей любви и о том, чтобы испытать те чувства, о которых пел в своих песнях. И вот теперь он воспылал страстью к Иоко и пожертвовал ради этой любви всем, что имел. «Я действительно верил в то, – признался он позднее, – что все, что мне нужно – это любовь». И тем не менее стоило ему начать поступать в соответствии с этим убеждением, как его стали преследовать одна беда за другой.
Глава 34 «Get Back!»
2 января 1969 года около полудня «Битлз» по очереди начали подъезжать к зданию студии Твикенхем, расположенной за пределами Лондона, где в свое время было отснято немалое количество сцен из фильмов «A Hard Day's Night» и «Help!». Однако те четверо молодых людей, которые собрались здесь сегодня, мало чем походили на себя прежних. Согласно последним требованиям моды, все отрастили волосы до плеч. Ринго обзавелся длинными усами торговца из фруктовой лавки, а Пол – густой черной бородой жителя гор. Однако необычность внешнего вида была несравнима с теми изменениями, которые произошли за последнее время у них в голове.
Джон, появившийся вместе с Йоко, которая так вцепилась в его руку, словно только что его арестовала, был по уши накачан наркотиками и, казалось, всем своим видом говорил: «А плевать мне на все!» Джордж был напряжен и зол, так как предчувствовал, что группа на пороге того, чтобы совершить гигантский шаг назад. Ринго, в свою очередь, пребывал в полной депрессии: Пол настолько замучил его во время последних сеансов в студии, что он чуть было вообще не ушел из группы. Единственным из всех, кто не претерпел особых изменений, был Пол, который явился с получасовым опозданием, поскольку добирался до студии городским транспортом, во-первых, из экономии, а во-вторых, чтобы лишний раз продемонстрировать свою принадлежность к простому народу.
Причиной, по которой все музыканты собрались в столь необычном месте в столь неурочный час, стало решение Пола предпринять последнее усилие, чтобы вновь собрать «Битлз» вместе после того, как каждый из них пошел своим путем во время записи «Белого альбома». Первой мыслью Пола было попытаться убедить партнеров отправиться в турне, так как он считал, что это поможет группе сплотиться. Но поскольку никто не был готов к возобновлению гастролей, Полу пришла другая идея: дать один-единственный концерт, который можно было бы превратить в телевизионное шоу. Однако время шло, а благоприятного случая для такого концерта все не представлялось. Тогда Пол и его режиссер Майкл Линдсей-Хогт предложили на выбор целый ряд экзотических мест, таких, как оазис в Сахаре или римский амфитеатр в Триполи. «Мне было бы приятнее сыграть в сумасшедшем доме», – не удержался от сарказма Джон.
Тем временем музыканты договорились о начале записи музыкального материала для нового весеннего альбома, основной темой которого должна была стать идея возрождения рок-н-ролла. Предполагалось, что в этом альбоме «Битлз» вернутся к своим корням в Ливерпуле и Гамбурге, вспомнят старые хиты и некоторые ранние песни, которые так и не были записаны. Пол убедил ребят приступить к работе в Твикенхеме, с тем чтобы съемки рабочих моментов могли позднее войти в фильм-концерт или стать материалом для документального фильма о группе.
Тем не менее общеизвестно, что никакая рок-группа – и меньше всех «Битлз» – не может допустить того, чтобы публика стала свидетелем работы в студии. Сомнительные шуточки, постоянные наркотики, язвительные комментарии в адрес общих знакомых, взаимные подкалывания могли вконец испортить ревностно охраняемый имидж группы. Кроме того, их безумно раздражал предложенный график работы: если раньше никто из музыкантов не заявлялся в студию раньше семи – десяти вечера, где затем все работали до рассвета, то теперь они были вынуждены начинать работу в полдень, при этом постоянное присутствие съемочной группы выбивало музыкантов из колеи.
Однако эти проблемы оказались цветочками по сравнению с тем, что произошло, когда в дело включилась Иоко. С самого начала она ясно дала всем понять, что не собирается сидеть вместе с другими из окружения «Битлз» у стенки. Если этот фильм будет показан по телевидению, она будет принимать в нем участие. Она ни на минуту не отпускала от себя Джона, дойдя до того, что садилась с ним на один табурет перед фортепьяно, постоянно вмешиваясь в обсуждение, словно была членом группы, особенно когда дело доходило до того, чтобы давать указания обслуживающему персоналу. У нее хватило нахальства даже на то, чтобы давать музыкантам советы относительно исполнения музыки.
Несколько лет спустя Джон и Йоко рассказали журналистам о свинском отношении членов «Битлз» к бедной Иоко – те якобы были не в состоянии смириться с тем, что женщина может вести себя с ними на равных. На самом же деле «Битлз» не прибили Йоко на месте только потому, что не хотели провоцировать Джона. Они порхали вокруг нее, как беспомощные маленькие птички, старающиеся защитить свое гнездо от хищной кошки. Джон жаловался: "Пол то и дело подходил к Йоко и говорил: «Слушай, не могла бы ты отойти в сторонку?» Совершенно очевидно, что это было неспроста.
Для того чтобы закрепить свою власть над Джоном, Йоко прежде всего надо было удалить Пола. Соперничество, с самого начала существовавшее между Ленноном и Маккартни, всегда было слабым местом «Битлз», теперь оно непосредственно угрожало существованию группы, и Йоко не собиралась упускать такую возможность. Однако Пол также отдавал себе отчет о деликатности создавшейся ситуации: съемки фильма показывают, что все это время он вел себя чрезвычайно осторожно. Но, подобно Иоко, Пол Маккартни также был рожден, чтобы быть лидером. Более того, в отличие от Иоко он обладал талантом и опытом, которые давали ему право командовать. Пол был автором тех песен «Битлз», которые пользовались наибольшим коммерческим успехом и приносили львиную долю дохода от радиотрансляций и отчислений за использование авторских прав. У него в голове рождались чудесные мелодии, и он обладал всем необходимым, чтобы превращать их в законченный продукт. Кстати, Джон как-то признался, что, когда дело доходило до записи, ему каждый раз приходилось заново учить расположение клавиш на клавиатуре. Поэтому неудивительно, что Пол все чаще срывался на Ринго (который с годами стал играть только хуже) или терял терпение с Джорджем, который так и остался довольно средним гитаристом. Что же касалось Джона, то он вообще превратился в апатичного наркомана, на которого Пол уже не мог полагаться, как прежде. В конце концов несколько лет группа держалась на плаву только благодаря Полу, а теперь он наблюдал, как она медленно, но верно идет ко дну. Естественно, порой наступали моменты, когда он набирал в легкие побольше воздуха и очень вежливо, но с едва заметным оттенком угрозы в голосе, говорил Йоко: «Назад!»
К сожалению, в отношении Джорджа Пол явно переборщил. Но опять-таки поведение Пола было вполне объяснимо: в эпоху, когда на рок-сцене появилось много виртуозных гитаристов, Джордж Харрисон явно оказался не на высоте. Тем не менее однажды Джордж взбрыкнул и, хлопнув дверью, уехал домой в Эшер. Переступив порог, он громко объявил: «Я ушел из группы. „Битлз“ больше не существуют!» Несмотря на то, что Джордж довольно скоро вернулся, его уход послужил сигналом для Джона и Ринго, которые наложили вето на планы Пола относительно телевизионного шоу. Когда, вернувшись, Джордж привел с собой Билли Престона, молодого негритянского пианиста из оркестра Литтл Ричарда, группа решила ограничиться выпуском альбома и документального фильма.
В этот самый момент Джон отважился предпринять плохо подготовленную контратаку. Он предложил, чтобы Пол взял на себя работу над фильмом и оставил запись пластинки ему. Он задумал пойти путем, обратным тому, который избрал Пол, когда выпускал такие диски, как «Сержант Пеппер», решив вернуться к тому, что он называл рок аи nature!152. «Джон решил исключить любые звуковые эффекты, такие, как эхо, постсинхронизацию, все мои маленькие хитрости, – рассказывал Джордж Мартин. – Это должен был быть „честный альбом“, и если первая запись оказывалась неудачной, то они записывали еще и еще, до тех пор, пока у них не получалось то, что они хотели. Это было ужасно. Мы делали одну пробу за другой, а Джон периодически интересовался, какая запись была лучше – номер шестьдесят семь или номер тридцать девять». Такой подход был заранее обречен на неудачу, поскольку группа слишком давно отказалась от живой записи в пользу всяких студийных премудростей.
Проведя в Твикенхеме десять ужасных дней, «Битлз» решили продолжить свою работу в таком месте, которое они считали лучшей студией в мире: речь шла о великолепном семидесятивосьмидорожечном микшерском пульте, который вот уже несколько месяцев монтировал в подвальном помещении штаб-квартиры «Битлз» в доме 3 по Сэвил-роу Мэджик Алекс. Каково же было их удивление, когда они обнаружили, что работа по монтажу студии только началась! Дорогостоящее оборудование, доставленное из Германии, не было еще даже распаковано. Такое потрясение, по идее, должно было бы навсегда вычеркнуть Мзджик Алекса из жизни «Битлз», но Леннон упорно продолжал верить в то, что этот «волшебник» и впрямь был гением.
Грустная эпопея, продолжавшаяся в течение шести недель, завершилась 30 января 1969 года. В полдень все члены группы забрались на крышу здания на Сэвил-роу, чтобы сыграть свой последний концерт. Пол настаивал на том, чтобы в фильм вошли кадры хотя бы символического концерта. Так что «Битлз» придумали, каким образом можно было выступить на публике, одновременно оставаясь от нее на почтительном расстоянии. Музыканты, окруженные членами своей команды и ближайшими друзьями, заняли свои места среди труб и начали отсчет, предшествующий вступлению к «Get Back». Стоило первым звукам вырваться из динамиков и разнестись по всему кварталу, как разверзлись врата ада.
Местные клерки и секретарши в мини-юбках повыскакивали из офисов и наводнили крыши соседних домов. Высыпавшая на улицу толпа перекрыла движение перед домом 3, все задирали головы вверх и озирались, пытаясь увидеть музыкантов. Закройщики и портные многочисленных ателье, расположенных по соседству, бросились названивать в местное отделение полиции. В своем последнем бесстыдном и издевательском приступе самоутверждения «Битлз» нарушили повседневный покой обывателей.
Вдобавок ко всему они по-настоящему загорелись своей игрой. Джон выкладывался, словно какой-нибудь рок-Паганини: порывы ветра растрепали длинные волосы, а длинное худое тело, облаченное в коричневый меховой жакет, извивалось, точно змея, когда музыкант боролся со своей гитарой, выкрикивая в микрофон слова очередной песни. Подпрыгивая и счастливо улыбаясь, он, казалось, вновь на какое-то мгновение обрел на этой крыше свою прежнюю энергию, стремясь даже больше, чем Пол, завершить фильм взрывом былого неистовства.
Когда умолкли последние отголоски музыки, Джон обернулся и сказал, обращаясь ко всем присутствовавшим: «Я хотел бы поблагодарить вас всех от имени группы – и я надеюсь, что прослушивание было удачным!» Неплохо. Но и не грандиозно. Чуть-чуть иронии, но в целом довольно грустная эпитафия тому, что было самой сказочной карьерой за всю историю шоу-бизнеса.
Глава 35 «Битлз» разорены
«У нас нет и половины тех денег, что нам приписывают... Мы теряем деньги. Если так пойдет и дальше, через полгода мы разоримся». Такое заявление Джон Леннон сделал 18 января 1969 года. Но подобно тому, как три года назад никто не откликнулся на его крик о помощи, прозвучавший в песне «Help!», финансовое SOS Леннона также не было воспринято всерьез. И это неудивительно. В течение стольких лет пресса уделяла так много внимания финансовым успехам «Битлз», что все считали «великолепную четверку» самыми богатыми молодыми людьми на свете. Что, кстати, было чистой правдой, если говорить о валовом доходе. К декабрю 1968 года «Битлз» заработали в общей сложности (согласно аудиторскому заключению компании «Артур Янг») 154 миллиона долларов. И в то же время Леннон ничуть не преувеличивал: у «Битлз» практически не оставалось ни гроша.
Единственным человеком, который правильно отреагировал на сигнал бедствия Джона Леннона, оказался Аллен Кляйн, менеджер «Роллинг Стоунз», «Кинкс» и Донована. Будучи бухгалтером по образованию, Кляйн по собственному опыту знал, что даже самые великие звезды шоу-бизнеса нередко сталкивались с серьезными финансовыми трудностями, связанными с собственными экстравагантными поступками, плохим менеджментом или жульничеством. Начиная разбираться в бухгалтерии некоторых знаменитостей, он обнаружил, что зачастую те, кто купается в роскоши так, будто им позволено все на свете, на самом деле находятся на грани банкротства. Так случилось с Элвисом, который, проживи он еще хотя бы год, полностью бы разорился.
Помимо всего прочего, Кляйн откликнулся на призыв Леннона еще и потому, что менеджер «Роллинг Стоунз» давно мечтал стать менеджером «Битлз». «Все, они у меня в кармане!» – воскликнул он, когда услышал сообщение о смерти Брайена Эпстайна. Но он жестоко ошибался. Прошло еще восемнадцать месяцев, а он ни на шаг не приблизился к «Битлз». Подругой Пола стала Линда Истман, дочь нью-йоркского адвоката Ли Истмана (не имевшего никакого отношения к компании «Истман-Кодак»), который имел тесные связи с музыкальными издательствами и миром искусства. По настоянию Пола «Битлз» пригласили сына и партнера Истмана – Джона представлять их интересы в вопросах, связанных с бизнесом. Однако стоило Полу заикнуться о возможной женитьбе на Линде, как Джон сразу начал подыскивать менеджера, который не был бы родственником одного из его партнеров. Эти поиски вскоре привели его к Кляйну, который вспоминает о том, как был поражен, когда впервые набрал номер Джона и услышал, как знакомый голос напевает на мотив песенки «Три слепых мышонка» следующие слова: «Нас нет дома! Нас нет дома! Оставьте свое имя! И может быть, мы вам перезвоним!» Вечером 27 января Кляйн встречал Джона Леннона и Йоко Оно на пороге своего роскошного номера в отеле «Дорчестер».
Аллен Кляйн был одним из тех, к кому окружающие относятся с опаской. Недаром кто-то из журналистов окрестил его «самым крутым заправилой поп-джунглей», а британская пресса не раз обвиняла в махинациях на бирже, нарушении налогового законодательства, а также в том, что он ведет нечестную игру с «Роллинг Стоунз». В Англии Кляйна всегда воспринимали как коварного и безжалостного нью-йоркского еврея, поставившего себе целью растащить национальное достояние Великобритании. Но в действительности все эти обвинения почти не имели под собой оснований.
Джон Леннон, вероятно, был немало изумлен, когда впервые встретился с человеком, окруженным такой зловещей аурой; по правде говоря, и менее чувствительные, чем Леннон, люди приходили в замешательство, когда знакомились с Алленом Кляйном, поскольку вместо саблезубого тигра с телефонными трубками в каждой лапе и убийственным взором перед ними оказывался невысокий, небрежно одетый коренастый мужичок, отдаленно напоминавший Бадди Хэкетта, который всем своим видом давал понять, что ему не терпится выбежать из дома и погонять мяч на аллее в саду. По сравнению со стилем Джона Истмана, стремившегося во всем походить на блестящего Джека Кеннеди, Аллен Кляйн был, скорее, олицетворением отважного защитника рабочего класса.
«Я вовсе не так умен, как говорят, – говаривал Аллен, отрицая самое очевидное из своих достоинств. – Я просто умею хорошо подготовиться». И как же он подготовился к этому историческому событию? Чтобы разрядить обстановку, он предложил гостям вместе поужинать. Ведь очевидно, что за столом беседовать гораздо приятнее. Как оказалось, на ужин была предложена вегетарианская пища, как нельзя лучше отвечавшая требованиям привередливого Джона Леннона. Но еще лучше удалась Кляйну застольная беседа. "Первое, чем поразил меня Аллен, – рассказывал Леннон, – и это, безусловно, было лестным, так это тем, что он прекрасно знал все наши старые песни. Он даже мог отличить песни Пола от моих. Он говорил: «Вот эту фразу написал не Маккартни, верно?» И я отвечал: «Точно!» Именно это меня заинтересовало – он понимал, каков вклад каждого из нас в успех группы. А то все считали, что делом занимались только Пол и Джордж Мартин. Он знал мои тексты и понимал их-не то чтобы там было много чего понимать, – но ему они нравились. И тогда я подумал: «Если этот человек сумел узнать меня так хорошо, ограничившись тем, что послушал мои пластинки, он, наверное, вообще неплохо соображает».
В общении с Йоко Оно Кляйн оказался таким же ловким, как и в беседе с непредсказуемым Джоном. В его речах ни разу не промелькнуло и намека на ту снисходительность, с которой к Йоко относились мужчины из окружения «Битлз» и которая буквально сводила ее с ума. Кляйн обращался к ней так же уважительно, как и к Джону, подчеркивая, что принимает их за равных, и за это Джон был ему очень признателен. А вознаграждение не заставило себя долго ждать.
Прошло не больше двух часов, как Джон сказал: «Слушай, Аллен, а ты не хотел бы стать нашим с Йоко менеджером?» В ту пору Леннон уже не мог говорить от лица остальных членов группы. «Ты не сможешь быть менеджером „Битлз“, – предупредил он Кляйна, – потому что они уже подписали договор с Истманом».
Это известие не испугало Кляйна. «Адвоката всегда можно уволить», – ответил он, не давая вместе с тем немедленного согласия, несмотря на то, что его финансовое положение было немногим лучше, чем у Джона. Кляйн был прирожденным транжирой – и прирожденным оптимистом. Подобно игроку в покер, он умел пасовать и знал, когда поднимать ставку. Он решил не торопиться и ответил, что будет счастлив работать с Леннонами.
«Хорошо, так что же нам теперь делать?» – сразу взял быка за рога Джон.
«Я думаю, вам лучше отправиться спать», – ответил Кляйн.
«В чем дело? – возмутился Леннон. – Ты отказываешься?»
«Вовсе нет», – улыбнулся Кляйн. «Тогда скажи, что я должен делать», – повторил Джон. «Я считаю, – решился, наконец, Кляйн, – что вам надо написать своим партнерам и поставить их в известность о том, что вы предложили мне вести ваши дела. Но прежде чем сделать это, вам следует позвонить им – это будет более по-дружески».
С этими словами Кляйн вышел в соседнюю комнату и вернулся с пишущей машинкой, которую поставил на пол, заправив в нее чистый лист бумаги. К трем утра Йоко отпечатала уведомления, которые были адресованы сэру Джозефу Локвуду из «И-Эм-Ай», Дику Джеймсу из «Норзерн Сонгз», Клайву Эпстайну из «НЕМС Ентерпрайзис» и Харри Пинскеру из «Брайс энд Ханмер». Текст послания гласил: «Я обратился к Аллену Кляйну с просьбой взять на себя ведение моих дел. Прошу Вас предоставить ему любую необходимую информацию и полное сотрудничество. С любовью, Джон Леннон».
Выталкивая Аллена Кляйна на ринг против Джона Истмана, Джон на самом деле готовил атаку против Пола. 3 февраля «Битлз» провели совещание, на котором тремя голосами против одного решили нанять Аллена Кляйна в качестве менеджера группы, преодолев таким образом протест Пола. Затем ребята встретились с Кляйном и Истманом. Истман предложил Аллену сопровождать его во время встречи с сэром Джо, на что Кляйн ответил резким отказом, мотивировав его тем, что хочет чувствовать себя свободным в плане ведения дел «Битлз», точно так же как Истман должен иметь свободу, как их адвокат. На следующую встречу с Кляйном Истман пригласил своего отца. Но и в этот раз Аллен Кляйн хорошо подготовился.
Не успел Ли Истман усесться рядом с сыном и будущим зятем, как у него буквально выбили почву из-под ног. Аллен Кляйн с дразнящей улыбкой на устах начал совещание с того, что огласил результаты небольшого расследования, в ходе которого выяснилось, что настоящее имя Ли Истмана Леопольд Эпстайн! Джон Леннон разразился жестоким смехом, и до конца совещания они с Кляйном обращались к Истману не иначе, как «Эпстайн»: «Да, мистер Эпстайн» или «Нет, мистер Эпстайн», или «Если бы меня звали Эпстайн...» – так продолжалось до тех пор, пока обычно вежливый адвокат не взорвался. «Он обзывал меня самыми последними словами, – вспоминал Кляйн. – А я просто сидел и слушал, как он отводил душу. И всем стало ясно, каким он был на самом деле: вспыльчивым, педантичным, высокомерным». В конце концов Истман вылетел, хлопнув дверью, вместе со своим сыном и все тем же будущим зятем.
Но гнев Истмана был ничем по сравнению с яростью Джона Леннона. «Да он просто свинья! Глупая, поганая буржуйская свинья! – бушевал Леннон. – Он решил, что может навешать мне хреновой лапши своими разговорами о сраном Кафке, Пикассо и Кунинге, черт их всех дери! Да плевать мне на них!» Так началась затяжная война, которая привела к распаду «Битлз».
Несмотря на то, что Пол ненавидел Кляйна столь же страстно, насколько Джон ненавидел Истманов, ему пришлось в конце концов согласиться на то, чтобы уполномочить нового менеджера разобраться с финансовыми делами группы. На целых два месяца Аллен погрузился в работу, проводя все свое время в офисе «Эппл», окруженный горой документации. Когда работа была завершена, у него в голове ярким неоновым огнем горело только одно слово: ИДИОТ!
Брайену Эпстайну, этому маленькому лорду Фонтлеруа, удалось невозможное. Он заполучил в свои руки величайшее дело в истории шоу-бизнеса и умудрился провалить его, заключая одну неудачную сделку за другой. Вся эта история представляла собой сплошной кошмар. Ни одного нормального контракта, ни одного случая, когда оговоренные процентные отчисления реально соответствовали уровню и отвечали интересам музыкантов. Но самым катастрофичным было то, что «Битлз» действительно были разорены, мало того, у них не было никаких шансов вернуть хотя бы часть того, что они потеряли.
О чем бы ни шла речь – об авторских отчислениях, которые они получали от продажи пластинок, правах на издание песен, концертных турне, фильмах – Брайен Эпстайн неизменно соглашался на оскорбительно ничтожные условия для своих клиентов.
Когда Аллен Кляйн взглянул на нижнюю строчку аудиторского заключения, он сразу обратил внимание на две цифры, стоявшие там, как надгробные памятники. Одна из них показывала чистую прибыль «Битлз» за 1968 год – жалкие 78 тысяч фунтов. Вторая отражала задолженность «Битлз» перед компанией «Эппл», у которой они были вынуждены занимать деньги для оплаты своих счетов: Джон был должен 64 тысячи, Пол -66 и по 35 тысяч Джордж и Ринго. Требовалось немедленно что-то предпринять, пока ребятам не пришлось распродавать имущество.
Свою первую атаку Кляйн обрушил на «НЕМС», которая находилась теперь в руках Куини и которой руководил брат Брайена Клайв. Несмотря на то что компания перестала выполнять какие-либо полезные для группы функции, она продолжала получать двадцать пять процентов от всех ее доходов. Джон Истман попросил у Локвуда заем в размере 1 250 тысяч фунтов для того, чтобы группа могла выкупить «НЕМС» у нынешних владельцев, но Аллен отговорил «Битлз» от этой сделки, предупредив их, что возвращать им придется два миллиона. Кроме того, он считал, что у него неплохие шансы заполучить «НЕМС» вообще задаром, поскольку, по его мнению, Клайв не был готов к тому, чтобы ввязаться в процесс, который могли затеять против него «Битлз», обвинив компанию не только в несоблюдении их интересов, но и в жульничестве, присвоении денежных средств и плохом управлении. Аллен Кляйн оказался прав. Как только Клайв получил от Джона Истмана уведомление о том, что Кляйн затеял аудиторскую проверку состояния дел между «Битлз» и «НЕМС», а также «Немперор Холдинг Лтд» (правопреемником «НЕМС»), он сразу сообразил, что ему нельзя терять ни минуты. Ему надо было немедленно и во что бы то ни стало выбраться из этой неприятной истории. Он связался с Леонардом Риченбергом из «Трайомф Траста» и продал ему «НЕМС» за 750 тысяч фунтов.
Аллен Кляйн отреагировал на этот неожиданный поворот со свойственной ему быстротой и смелостью. Появившись в офисе Риченберга, он поздравил соперника с удачным приобретением, после чего поведал ему, что аудиторская проверка выявила огромную сумму долгов, которые наделал Эпстайн еще в те времена, когда группа выступала с гастролями. Кроме того, против «НЕМС» было подано столько судебных исков, что, начав защищаться, «Трайомф» мог поставить себя на грань банкротства. Риченберг выставил Кляйна за дверь. Ничуть не смутившись, Кляйн написал фирме «Генри Энсбачер энд Компани», ответственной за получение авторских гонораров «Битлз», письмо с распоряжением с этого момента переводить все денежные средства на счета «Эппл Корпс».
В ответ на это «Трайомф Траст» подал в суд на «И-Эм-Ай». Тем временем столь необходимая каждой из сторон сумма авторских отчислений, превышавшая 1 миллион фунтов, была помещена на депозитный счет в Ллойде-банке в ожидании разрешения разногласий. Риченберг усилил свою позицию, обнародовав в прессе немало компрометирующих материалов на Аллена Кляйна, это заставило последнего изменить свою тактику и пойти на переговоры. Однако в этот момент разразился новый, гораздо более серьезный кризис.
Однажды мартовским утром Джону Леннону на глаза попалось газетное сообщение о том, что Дик Джеймс и Чарльз Силвер, владельцы компании «Норзерн Сонгз», только что продали принадлежавшие им 32 процента акций компании сэру Лью Грейду из «Ассошиэйтед Телевижн Корпорейшн» (АТВ), которая и без того уже владела тремя процентами. Теперь доля сэра Лью во владении битловской песенной копилкой превышала 30-процентную, которая была в руках самих «Битлз». В последнем отчаянном усилии удержать контроль над компанией разъяренный Джон немедленно вызвал Пола и Аллена. На этот предательский поступок Джеймса подвигла боязнь распада «Битлз» (он не был уверен, что каждый из них в отдельности что-то из себя представляет), а последней каплей явился выход Джона и Пола из состава административного совета «Норзерн Сонгз» и передача их полномочий своим представителям, адвокатам и бухгалтерам, которые работали на Дика Джеймса. Между «Битлз» и Лью Грейдом началась борьба, которая растянулась на пять месяцев.
В июле 1969 года Кляйн вплотную приблизился к своему обещанию заполучить «НЕМС» за гроши. За 90 процентов акций не принадлежащей им компании «Битлз» выложили 750 тысяч фунтов наличными и 300 тысяч в виде замороженных авторских отчислений плюс 50 тысяч долларов за долю «НЕМС» в принадлежавшей «Битлз» кинокомпании «Субафилмз Лтд» и 5 процентов от общего дохода «Битлз» по авторским отчислениям за период с 1972 по 1976 год.
Что касается битвы за «Норзерн Сонгз», то здесь Кляйну было суждено признать свое поражение. 9 сентября АТВ приобрела дополнительный пакет акций этой компании и получила в результате 54 процента акций издательства, которое распоряжалось музыкальным наследием «Битлз». Аллен Кляйн не оставлял попыток получить преимущество на американском издательском рынке и в какой-то момент уже почти праздновал победу, но Пол Маккартни в очередной раз уперся (дело и здесь не обошлось без рекомендаций Истманов), и «Битлз» были вынуждены срочно распродать все имевшиеся у них на руках активы, в результате чего они потеряли право на продажу (сохранив при этом права на получение авторских отчислений) 160 собственных песен.
Сила эмоционального потрясения, которое испытали Джон и Пол от потери контроля над плодами своего творчества, не поддается определению. А финансовая стоимость утраты была четко определена в 1986 году, когда Майкл Джексон приобрел издательский каталог АТВ, основу которого составили 200 песен «Битлз», за 47,5 миллионов долларов.
В мае Аллен Кляйн подписал с «Битлз» трехгодичный контракт по менеджменту группы, после того как контрпредложение Пола было отклонено тремя голосами против одного. Потребовав для себя 20 процентов от всех доходов по контрактам, которые будут подписаны при его участии, Кляйн обеспечил себе поддержку музыкантов в решении первой намеченной задачи: добиться пересмотра условий контракта между «Битлз» и «И-Эм-Ай», который должен был оставаться в силе еще в течение восьми лет. Свои переговоры он основывал на той статье контракта, в соответствии с которой «Битлз» должны были в течение этого периода записать девяносто вещей. Учитывая интенсивность работы в период записи «Белого альбома», группа была близка к тому, чтобы выполнить установленную квоту. Если «И-Эм-Ай» хотела, чтобы ребята продолжали записывать новые песни, для этого требовалась новая финансовая мотивация. Даже злейшие враги всегда считали Аллена Кляйна одним из лучших специалистов в музыкальном бизнесе по ведению переговоров. Когда же была достигнута договоренность с сэром Джозефом Локвудом, он удостоился похвалы даже из уст Истманов.
Согласно договору, подписанному 1 сентября 1969 года, авторские отчисления в пользу «Битлз» в Америке на период трех последующих лет увеличивались с 40 до 57 центов, причем не только на новые пластинки, но и «на всю существующую продукцию». (Тем самым была подготовлена почва для прибыльных повторных тиражей, осуществленных компанией «Кэпитол» в семидесятые годы.) Через три года отчисления увеличивались до 72 центов за альбом, что было почти вдвое больше того, что «Битлз» получали в тот момент. Для этого «Битлз» должны были выполнить единственное условие: объем продаж двух последних альбомов группы должен был превысить полмиллиона копий каждый. Тем не менее самой важной чертой нового договора было не увеличение суммы процентных отчислений, а совершенно новый подход к ведению собственных дел со стороны «Битлз».
С этого момента «Эппл» становилась владельцем всех пластинок «Битлз» в Соединенных Штатах, где «Кэпитол» получала лицензию на производство и распространение продукции. Подобный контракт Кляйн уже подписал в свое время для «Роллинг Стоунз», и вскоре такая форма была признана идеальной для всех наиболее известных ансамблей. Она предоставляла музыкантам абсолютное право самим распоряжаться своей продукцией со всеми вытекающими отсюда последствиями, касающимися политики продаж. Кроме того, они получали определенные преимущества в плане налогообложения, поскольку теперь не были обязаны переводить в Великобританию все свои доходы и платить налоги на сверхприбыль, доходившие порой до 110 процентов.
Добившись радикального пересмотра важнейшего контракта, касавшегося звукозаписывающей деятельности группы, Аллен Кляйн наконец-то усадил «Битлз» в водительское кресло. Теперь, при условии, что они будут продолжать выпускать по два альбома, три сингла и одному сборнику в год, сохраняя при этом обычный уровень продаж, у них очень скоро должно было появиться именно столько денег, сколько им было принято приписывать.
Глава 36 «Постельные интервью»
14 марта 1969 года, когда Джон и Йоко покинули Лондон в своем белом «роллс-ройсе», они приняли решение пожениться. «В интеллектуальном плане мы, конечно, не верили в брак, – объяснял Джон, – но любовь не бывает интеллектуальной». Как всегда в момент принятия важнейших решений, Джон поддался внезапному порыву и совершил один из самых решительных поступков в своей жизни. Их автомобиль направлялся в сторону Саутгемптона, и он спросил у Леса Энтони, можно ли сочетаться браком на пароме. Лес ответил, что понятия не имеет, и Джон послал его все разузнать. Сами Джон и Иоко ожидали его в Пуле, в расположенном на берегу бунгало, которое Джон купил в 1965 году для Мими.
Тот факт, что мысль жениться на Йоко возникла у Джона именно когда он ехал к Мими, – очень красноречив, так как трудно было бы найти человека, который противился бы этому браку больше, чем его тетка. Когда Леннон представил ей свою азиатскую принцессу, она чуть не лопнула от злости при виде этой коротконогой лохматой японки. Едва Иоко вышла во внутренний двор, чтобы полюбоваться видом на залив, Мими повернулась к Джону и резко спросила: «Это что за уродливый карлик, Джон?» Подобное оскорбление не могло не вывести Джона из себя, но ему не хотелось ругаться с Мими теперь. Он лишь вздохнул: «О Мими!», словно желая сказать: «Ну как ты можешь говорить такие ужасные вещи?»
Однако Мими была серьезна, как никогда. Она заявила Джону, что, закрутив роман с этой «Йо-Йо», он совершил большую глупость. Что он в ней нашел? Неужели ему не известно, что за люди эти японцы? Если к Синтии Мими всегда относилась с некоторой долей презрения, то ее чувство к Иоко больше походило на ненависть. Именно поэтому Джон не сообщил ей о принятом в пути решении. Мими узнала о свадьбе Джона точно так же, как в свое время о свадьбе Джулии, – когда было уже невозможно что-либо изменить.
Тем временем Джон буквально приплясывал от нетерпения в ожидании звонка от Леса. Наконец телефон зазвонил, и раздосадованный Джон узнал, что единственным судном, на котором можно было сочетаться браком, был большой океанский лайнер, который отправлялся уже через два часа. «Почему ты сразу не купил билеты?» – налетел Джон на растерявшегося шофера. Через несколько минут Лес перезвонил и сообщил, что с билетами они опоздали.
Джон приказал Лесу везти их прямо в Париж – идеальное место для медового месяца. Верный, но ворчливый шофер довез хозяина до ворот морского порта, и только тут выяснилось, что пассажиры не захватили с собой паспорта. Вне себя от разочарования Джон позвонил в офис и заявил Питеру Брауну, что желает обвенчаться в течение получаса! Браун лихорадочно шевелил мозгами: единственным местом, где эту проблему можно было решить без промедления, был Гибралтар. Но Джон не хотел в Гибралтар, он хотел в Париж. Тогда, арендовав частный реактивный самолет, он отправился в Ле Бурже.
Вероятнее всего, внезапное желание Джона Леннона жениться на Йоко можно объяснить бракосочетанием Пола Маккартни и Линды Истман, о котором пресса сообщила за два дня до этого. Событие оказалось неожиданным даже для самых близких друзей, но, учитывая тот факт, что Линда была уже на четвертом месяце беременности, они отнеслись к решению Пола с пониманием. И хотя Пол стал уже третьим Битлом, совершившим «правильный поступок», никто из группы не присутствовал на церемонии, состоявшейся в Мерилбоуне. Газеты не преминули бы сообщить об этом на первых полосах, однако в тот день разразился скандал: Джордж и Патти Харрисон были арестованы за хранение сигарет с марихуаной. Джон объявил бракосочетание Пола «пробным камнем» к его собственной свадьбе. Как это часто бывало и раньше, оба одновременно совершили одинаковые поступки, потому что давно уже плыли в одной лодке. (Когда Пол исполнил «Hey, Jude», Джон воскликнул: «Кллласс! Это мое!» Пол от удивления широко раскрыл глаза и запротестовал: «Да нет же! Мое!») Как и прежде, симметрия была идеальная.
Линда Истман, как и Йоко Оно, происходила из среды крупной буржуазии. Она жила в Скарсдэйле и посещала колледж Сары Лоуренс. Как и Йоко, она была разведена и имела шестилетнюю дочь от первого брака. Как и у Иоко, в ее жизни было много известных молодых мужчин, в свое время она была рок-фотографом и даже просто групи. Ей, как и Йоко, пришлось немало попотеть, чтобы заполучить себе Битла. (Когда осенью 1968 года она переехала к Полу в Сент-Джонс-Вуд, тот говорил Майлзу: «Надеюсь, теперь проблем не будет, а то когда она приезжала сюда в прошлый раз, мне пришлось выкинуть ее чемодан через ограду».) Ирония судьбы заключалась в том, что с самого начала Линде больше нравился Джон, тогда как Иоко позднее утверждала, что могла бы запросто отхватить себе Пола.
Джон и Йоко тайно пробыли в Париже четыре дня, а затем позвонили Элистеру Тейлору в «Эппл» и сообщили, что им нужны деньги и транспорт до Гибралтара. Тейлор встретился с ними в Ле Бурже, у трапа зафрахтованного самолета. Когда Питер Браун и его друг Дэвид Наттер – будущие свидетели на церемонии бракосочетания – прибыли в бюро регистраций, они застали Джона и Йоко облаченных в девственно белые наряды: на Джоне был белый свитер, брюки, длинный белый пиджак из рубчатого вельвета и теннисные туфли, а на Иоко – ослепительно белый трикотажный костюм с мини-юбкой и огромная шляпа с мягкими полями.
Во время церемонии, продолжавшейся ровно три минуты, Джон стоял с сигаретой во рту, засунув одну руку в карман, в то время как Иоко смущенно поеживалась. Наттер беспрерывно щелкал фотоаппаратом. Через семьдесят пять минут после прибытия в Гибралтар мистер и миссис Джон Леннон уже летели обратно в Париж. Французская пресса пронюхала об этом событии, и поэтому по прибытии в аэропорт Джона и Иоко обступила многочисленная толпа. «Мы оба – страшные романтики, – провозгласил Джон. – Мы очень желали, чтобы нас обвенчал архиепископ Кентерберийский, но это невозможно, поскольку он не венчает разведенных». – «Я только что пережила удивительные ощущения, – подхватила Иоко, – когда Джона спросили: „Согласен ли ты взять эту женщину себе в жены?“ Брачная церемония – это так старомодно. Это все равно, что надеть старинное платье».
Вскоре после этого, когда парочка, отобедав с Сальвадором Дали, возвращалась в отель, на Леннонов налетела стайка визжащих девиц, которые так и норовили потрогать и поцеловать Джона. Иоко в ужасе выскочила из машины и закричала. Она пыталась объяснить им, что они уже не могут так себя вести, ибо отныне Джон Леннон принадлежит только ей.
Через несколько дней Ленноны внезапно объявились в Амстердаме, где в номере отеля «Хилтон» состоялось их первое «постельное интервью». Идея использовать рекламную волну, вызванную собственной свадьбой, в целях пропаганды мира оказалась разумной – после того как Джон несколько раз объяснил это в прессе. Сам по себе замысел явился остроумным примером отношения Леннонов к жизни как к искусству и к искусству как к жизни. «Эти ребята расталкивали друг друга, пытаясь проникнуть к нам в спальню первыми, – вспоминал Джон о первых „постельных интервью“, – они думали, что мы будем заниматься любовью прямо у них на глазах: голые, в постели, Джон и Иоко, секс» Но когда журналисты приближались к постели, их взорам открывались лишь два неподвижных тела, одетых в белое, словно пациенты на больничной койке. «На самом деле, – говорил Джон, – мы обращаемся с посланием ко всему миру, в основном к молодежи, ко всем, кто готов к протесту против любой формы насилия». В конце Джон резюмировал свою мысль одной, ставшей позднее крылатой фразой: «Дайте миру шанс!»
Джон всегда считал, что массовое сознание легко поддается воздействию зрительных образов и лозунгов. Он был убежден, что за годы существования «Битлз» он в совершенстве овладел техникой манипулирования средствами массовой информации, а кроме того, приобрел очень способного партнера в лице Иоко Оно, которая всю жизнь только и занималась тем, что рекламировала себя. Собственные усилия во имя дела мира Ленноны организовали по образцу ежедневной сетки программ какой-нибудь теле– или радиостанции. Каждое утро после завтрака – чашки чая с тостами – они выходили в эфир с десяти утра до десяти вечера с десятью одночасовыми программами, которые прерывались только тогда, когда горничная-португалка приходила менять в номере белье, причем эта операция была неоднократно запечатлена фотографами и нередко транслировалась по телевидению.
Каждый час в «студию постельного мира» допускалась новая группа журналистов, которые рассаживались на полу или выстраивались у стены и записывали радиовыступления. Джон и Иоко брали слово по очереди, оставаясь при этом совершенно бесстрастными, так как чаще всего находились под действием наркотиков. Даже при ближайшем рассмотрении они больше походили на персонажей из черно-белого фильма, нежели на живых людей из плоти и крови. И хотя они провели не одну сотню часов за рассуждениями о мире, ни Джону, ни Иоко так и не удалось сказать по этому поводу чего-нибудь заслуживающего внимания. «Когда нацизм обрушился с преследованиями на еврейский народ, – вещала Иоко, – это было не просто преступление Гитлера или Германии, это отображало стремление каждого отдельного человека, который сочувствовал преследованию евреев, – вы понимаете?.. Если где-то внезапно вспыхивает война, мы все виноваты в этом». Должно быть, голландцы извлекли из этих речей немало поучительного!
Хотя было бы странно ожидать от Джона или Иоко какого-то реального вклада в дискуссию на тему мира. Джон не имел ни малейшего понятия о политических процессах и не испытывал к ним ни капли доверия. Когда «Битлз» задумали однажды приобрести греческий остров, журналисты предостерегли их, объяснив, что этим поступком они сыграют на руку фашистскому режиму черных полковников. На это Джон ответил: «Мне наплевать, какое там правительство – фашистское или коммунистическое... Все они одинаковы». Что касается Иоко, то она разбиралась в политике еще меньше, чем Джон, и до того времени вообще не высказывалась на подобные темы. Однако было ясно, что инициатором «постельных интервью» стала именно она, вдохновившись скорее всего выступлениями японского артиста Яйои Кусама, проповедовавшего великую силу наготы. Если бы Иоко была замужем не за таким изначально сдержанным человеком, как Джон Леннон, не исключено, что «постельные интервью» могли приобрести значительно более эпатажные формы.
Кроме всего прочего, «постельные интервью» оказались очень эффективным средством преодолеть нелестное общественное мнение в отношении Леннонов. Вместо свихнувшихся на наркотиках и погрязших в адюльтере Джона и Иоко (а именно так представляла их пресса с тех пор, как они были вместе) перед публикой предстали гуру, наставлявшие прямо на брачном ложе.
В тех же самых средствах массовой информации, которые прежде писали о них бог весть что, «постельные интервью» пошли на ура. Джон и Иоко становились героями нового течения – всемирного антивоенного движения, которое, как и любое другое политическое движение, искало союзников и лидеров везде, где это было возможно. И поскольку Джону и Иоко было угодно проводить медовый месяц, лежа по двенадцать часов в день в постели и выступая за мир, они быстро стали символами этого движения, что им, безусловно, льстило.
В своих самых первых интервью в Амстердаме Леннон ясно дал понять, что выступление в защиту мира для него равнозначно борьбе против насилия. «Во мне столько же насилия, сколько в любом другом человеке, – заявил Джон в одном из обращений к голландской прессе, – и я уверен, что и в Иоко тоже. Мы жестокие люди, но я больше люблю себя, когда я не жесток». Однако его слова были лишь отчасти правдивыми, так как на самом деле в Ленноне было больше жестокости, чем в обычном человеке, и он это прекрасно знал. Объявляя крестовый поход против насилия, он стремился избавиться от своего прошлого, о чем сам говорил так: «Любовь и мир защищают обычно самые жестокие люди... Я – жестокий человек, который научился не быть жестоким и который сожалеет о насилии, которое совершал».
После недели, проведенной в постели, Джон и Иоко отправились в Вену, куда были приглашены на телевизионную премьеру своего фильма «Изнасилование». Остановившись в «Захере», элегантном отеле, расположенном за Оперным театром, Ленноны занялись подготовкой следующего рекламного трюка. Они начали с того, что развесили по малиновым стенам гостиной таблички с надписями КРОВАТЬ, МИР, ПОЛНАЯ КОММУНИКАЦИЯ, ОСТАВАЙСЯ В ПОСТЕЛИ, ОТРАСТИ ВОЛОСЫ, ЭТО ВЕСНА, Я ЛЮБЛЮ ДЖОНА, Я ЛЮБЛЮ ИОКО. Затем, когда в холле гостиницы собрались представители прессы, Джон и Иоко поднялись к себе в номер и сделали из белого постельного покрывала подобие большого мешка. «Мы залезли в этот мешок и спустились на лифте, – делился воспоминаниями Джон, – затем устроились поудобнее в центре гостиной, а после этого туда впустили и всех остальных».
Венские журналисты были озадачены, когда увидели на журнальном столике большой белый мешок. А когда они сообразили, что внутри мешка, то пришли в замешательство. «Это была очень странная сцена, – продолжал Джон, – потому что они никогда раньше нас не видели и не слышали. Некоторые из них стали просить: „Ну давайте, вылезайте“. А мы так и не дали им увидеть себя. Они просто стояли и спрашивали: „А вы правда Джон и Иоко?“ или „А что на вас надето и зачем вы это делаете?“ А мы отвечали: „Это полная коммуникация без малейшего вреда“. Было просто классно! Они попросили нас спеть, и мы исполнили несколько песенок. Иоко спела очень милую японскую народную песню. В результате они так нас и не увидели».
«Постельные интервью» позволили Джону и Иоко утвердиться в абсолютно новом образе. Отныне они становились не просто звездами или знаменитостями. Они попадали в ряды нового класса поп-величеств, наилучшими представителями которого были «папа» Энди Уорхолл и «раввин» Аллен Гинсберг, художники, ставшие лидерами целого поколения благодаря присущему обоим величайшему таланту саморекламы. Джон и Иоко, будучи вообще мифическими фигурами, подходили к этой роли еще лучше. Их миф получил свое название после выхода наскоро написанной песенки – «The Ballad of John and Yoko»153. В балладе говорится о том, как идеальные любовники подвергались нападкам со стороны прессы, арестам со стороны полиции, преследованиям со стороны остальных Битлов и были вынуждены уехать и спрятаться ото всех. Паранойя Джона достигла к этому моменту такого уровня, что малейшее происшествие принимало для него вселенские масштабы. И стоило представителям иммиграционной службы не разрешить им подняться на паром из-за отсутствия паспортов, как он поднимал несусветный скандал.
Каждый день Джон Леннон тщательно анализировал многочисленные высказывания прессы о нем и о его жене. Обнаружив критику, предпринимал контрмеры: от телефонных звонков до оскорбительных писем в редакцию или резких замечаний по радио или телевидению в адрес тех, кого считал своими обидчиками. Джон был абсолютно убежден в том, что множество людей сгорают от желания разделаться с ним, – и это придавало ему столько же решимости в стремлении разделаться с ними.
По завершении медового месяца Джон и Йоко решили изменить тактику. Теперь, вместо того чтобы прятаться дома, они будут постоянно находиться на людях и станут лидерами движения борцов за мир. Для осуществления столь честолюбивых планов им был необходим большой, хорошо оборудованный офис и многочисленные сотрудники. Все это они нашли в доме 3 по Сэвил-роу, где располагалась штаб-квартира «Эппл Корпс».
С момента своего образования «Эппл» была призвана удовлетворить требования бухгалтеров компании о создании сети коммерческих предприятий. Первым шагом по реализации этого замысла стало открытие модного бутика «Фул», торговавшего великолепной одеждой от самых лучших модельеров, которые создавали одежду в стиле «хиппи». Затем, в мае 1968 года компания обратилась с призывом к молодым артистам представить свои работы с целью их возможного дальнейшего финансирования. Сотни кассет, рукописей, разработок и дизайнерских проектов посыпались на «Битлз», как из рога изобилия. Пол и Джордж подписали контракты с молодыми талантливыми музыкантами, такими, как Джеймс Тейлор, Мэри Хопкинс и Бэдфингер. Джон провел пару недель за прослушиванием молодых конкурсантов, не скрывая при этом своего к ним презрения, а затем вообще умыл руки. Тем временем бутик, который принес за первые восемь месяцев немало убытков, неожиданно пошел в гору благодаря умелому менеджменту Джона Линдона; однако Йоко Оно, прочитав какую-то статью, в которой «Битлз» с издевкой называли барахольщиками, обратилась к членам группы, умоляя их закрыть «Фул». «Джон, эта лавка – просто посмешище, мы должны отделаться от нее, – убеждала она. – Мы должны все раздать даром, абсолютно все!» Как рассказывал Линдон, «Йоко налетела на „Битлз“ как вихрь, и в течение двадцати минут ей удалось убедить их закрыть магазин».
С финансовой точки зрения это решение обернулось катастрофой, так как в дополнение к потере находившегося на складе товара на сумму в 112 тысяч фунтов плюс расходы на ремонт помещения и т. п. компании пришлось оплатить стоимость уже заказанной осенней коллекции. Когда 31 июля магазин распахнул свои двери для всех желающих поживиться задаром, Джон и Йоко были в первых рядах. Они загрузили в свой белый «ролле» несметное количество пакетов с одеждой. Джон веселился от души, восклицая: «Это смахивало на ограбление!»
С тех пор Джон надолго оставил попытки заняться бизнесом. И вот весной 1969 года Леннон неожиданно вновь появился в «Эппл», точно король, вернувшийся из изгнания со своей королевой, и сразу взял бразды правления в свои руки. Он то посылал тридцать человек из служащего персонала собирать желуди, решив разослать их главам государств в качестве символа мира, то заставлял сотрудников отвечать на бесчисленные письма, которые потоком стекались к Леннонам в ответ на их призывы. «Домашний хиппи» Ричард Делелла считал, что "целью Леннона было максимальное насыщение средств массовой информации. На все лады, по любому поводу было необходимо все время повторять одно и то же: «Мир! Мир! Мир!»
Однако колесить по Европе, призывая к миру, было занятием немного странным, так как войну против вьетнамцев вели не голландцы, не французы и не жители Вены. Поэтому однажды в конце мая Джон и Йоко в сопровождении Киоко, Кокса, Дерека Тейлора, Тони Фосетта (своего нового помощника), двух кинооператоров, заняв двадцать шесть мест багажа, прибыли к причалу, у которого стояла готовая к отплытию «Королева Елизавета II». Когда они предъявили паспорта представителям иммиграционных властей, то к своему ужасу узнали, что их заявление на выдачу визы в Соединенные Штаты отклонено, поскольку в свое время Джон Леннон был признан виновным в хранении гашиша. Ничуть не растерявшись, Ленноны отправились в Хитроу и сели на рейс до Ямайки. Затем они снова изменили курс и полетели в Торонто, где после двухчасового ожидания в аэропорту их наконец-то впустили в страну. 26 мая Ленноны улеглись в постель в номере, расположенном на девятнадцатом этаже отеля «Королева Елизавета» в Монреале, и приготовились насыщать средства массовой информации.
Дерек Тейлор подсчитал, что в течение недели, проведенной Леннонами в постели в Монреале, они принимали примерно по 150 журналистов в день, разослав свои послания мира не менее чем в 350 радиостанций Соединенных Штатов. Во время одной из таких бесед радиокомментатор из Беркли поинтересовался их мнением по поводу разворачивавшейся в тот момент схватки между студентами и полицией за так называемый Народный парк. Леннон разволновался и призвал протестующих избежать побоища.
Но самым важным событием стали сочинение и запись песни «Give Peace a Chance»154. Леннон сочинил песню во время одного из «постельных интервью» и сразу же решил ее записать. В номер доставили портативный четырехдорожечный магнитофон, а среди поклонников, толпившихся на улице перед гостиницей, выбрали пятьдесят человек для хора. Как только прошел слух о звукозаписи, к Леннону присоединилась целая группа знаменитостей: Тимоти и Розмэри Лири, Томми Смозерс, Петыола Кларк, Мюррей К., Док Грегори, а также католический священник, раввин и глава канадского храма Радха Кришна. Развесив текст песни на стенах спальни, Джон энергично дирижировал пением прямо из кровати, в то время как комната была залита светом прожекторов съемочной группы.
В этот момент Леннон ощущал себя живым воплощением традиций американского движения за гражданские права. "В глубине души, – признался он, – я мечтал написать что-нибудь такое, что могло бы стать заменой «We Shall Overcome». «Give Peace a Chance» была мгновенно подхвачена миллионами голосов, поскольку выражала именно то, что было у всех на уме.
Глава 37 Вдребезги!
Кенвуд, июнь 1969 года.
«Машину поведешь ты!» – рявкнула Йоко. Джон подчинился приказу, словно был дядей Джорджем, попавшим под каблук тети Мими. Он сидел за рулем, размышляя о нелегкой задаче, которую ему предстояло выполнить. Ему надо было проехать практически через всю Великобританию от Суррея до Сангобега, расположенного на самом севере Шотландии. Это было нелегкое испытание для человека, привыкшего мечтать, сидя на заднем сиденье лимузина, слушая рок, глядя в экран телевизора и кайфуя. Зачем все это было нужно? 3атем,.-что Йоко решила приучить Джона «поступать, как настоящий мужчина».
С тех пор как они поженились, эта фраза постоянно вертелась у нее на языке. Что такое «настоящий мужчина» в понимании Йоко Оно? Очевидно, это тот, кто способен делать вещи, которые боится делать она, например, управлять автомобилем.
Наверное, Джон ощутил, как в нем нарастает тревога, когда согласился выполнить просьбу жены. Несмотря на то, что Джон редко усаживался за руль, он уже был виновником немалого числа аварий, о которых полиция соглашалась не распространяться. И дело было не только в том, что он плохо видел, с трудом мог заставить себя сосредоточиться и часто находился под действием наркотиков. Проблемы начинались уже тогда, когда Джону приходилось выполнять какое-либо действие, для которого требовалась координация движений. Если бы он обратился к невропатологу, врач, безусловно, обнаружил бы у Леннона многочисленные аномалии. Плохую координацию, ригидные, спазмодические движения, дислексию, неспособность к выполнению простейших действий, таких, как вождение автомобиля или управление домашней техникой. (А как же тогда игра на гитаре? Ведь он был одним из величайших ритм-гитаристов! Об этом было бы трудно судить только по записям «Битлз», так как гитара Джона растворяется в смешанном звучании разных инструментов. Отчетливо слышен Пол на бас-гитаре, Джордж на соло, Ринго на ударных – но где же Джон? Только в последние годы, когда он занялся сольной карьерой, а затем еще позднее, когда выплыли на свет старые студийные записи, появилась возможность оценить Леннона как гитариста. И сразу стали очевидны две вещи: игра Джона отличалась жесткостью, словно его пальцы были налиты железом, а когда он пытался исполнить некие мелодические вариации, это удавалось ему с трудом.)
Хотя Джон согласился вести машину только из-за Йоко, сама идея поездки возникла именно у него. Узнав, что Тони решил отправить Киоко к ним в гости, он захотел вывезти всю семью, включая и своего сына, в сентиментальное путешествие по тем местам, где прошла его молодость. Легко себе представить, с каким нетерпением ожидал он того момента, когда сможет показать им «Кэверн» или Вултон и все свои излюбленные места в Ливерпуле. Оттуда они могли отправиться в гости к тете Матер и дяде Берту в Эдинбург, а затем наступил бы кульминационный момент путешествия – посещение Хайлендз, того района, где он проводил самые счастливые дни своего детства. На старой ферме близ Дарнесса Джулиан и Киоко могли бы насладиться всем тем, что приводило в восторг маленького Джона: простым, вросшим в землю домом, северным морем и дикой красотой овеваемых ветрами холмов.
Но Йоко, заставив Джона сесть за руль, превратила эту мечту в пытку. Уже по прибытии в Ливерпуль стало очевидно, что Йоко совершила ошибку, настояв на своем. У Джона начались проблемы с переключением скоростей на зелено-желтой «мини» (которую они выбрали специально, чтобы сохранить инкогнито). Когда механик на станции обслуживания попытался разобраться, в чем дело, он констатировал, что Джон разбил коробку передач.
Лес Энтони немедленно доставил другую машину Джона – белую «макси», предложив свои услуги. Но Йоко и слышать об этом не хотела. Так что Джону снова пришлось заняться «мужским делом» и двинуться с семьей дальше – в Эдинбург. Кроме того, Йоко потребовала, чтобы по дороге они останавливались в самых захудалых заведениях, чтобы не быть узнанными.
Худо ли, бедно ли, пребывая в постоянном напряжении и стремясь всеми силами сконцентрироваться на дороге, Джон смог добраться с семьей до фермы Берта и Матер, расположенной близ деревушки Сангобег. Здесь их уже встречали товарищ по детским играм, двоюродный брат Стенли Парке и его очаровательная жена Дженет. Джон вроде бы мог расслабиться, но не тут-то было. Разве Йоко могла снизойти до этих простолюдинов? Она сделала непроницаемое лицо и погрузилась в себя. "Йоко сидела в углу и едва раскрывала рот, – жаловался Стенли. – Из нее невозможно было вытянуть ни слова. Никому в семье она не понравилась. Когда Джон взял ее с собой в паб, где хотел повстречаться с теми, кого знал с детства, ребята сказали, что она выглядела, словно «привидение». А ее дочка, рано созревшее отродье, это был просто ужас! Она совершенно застращала Джулиана. Моя мать подошла к Йоко и сказала: «Вы не должны позволять своему маленькому монстру так подавлять Джулиана».
Контраст между детьми был поразительным. Речью Киоко напоминала взрослую женщину, а ее поведение было столь же властным, как и у матери. Джулиан же был грустным и молчаливым, как рыба. Одному фотографу из Эдинбурга удалось сделать замечательную семейную фотографию
Леннонов с детьми, одетыми в кильт, на которой Джулиан с лицом, лишенным всякого выражения, сидит перед своим бородатым отцом и смотрит в сторону от камеры – бесстрастный шестилетний ребенок. А перед Йоко устроилась шестилетняя Киоко, нацелив в объектив свои убийственные черные глаза.
1 июля тетя посоветовала Джону показать Йоко самое живописное место в округе, покрытую льдом бухту необыкновенной красоты. Стенли объяснил Джону, что к бухте ведет узкая односторонняя дорога, расширяющаяся каждые шестьдесят ярдов, чтобы встречные машины могли разминуться. Джон усадил Джулиана рядом, а Йоко с дочерью устроились на заднем сиденье. Объехав вокруг Лох Эриболла, глубоководного порта, окруженного голыми холмами, они приближались к цели своего путешествия, следуя вдоль побережья, когда внезапно Джон увидел машину, которая ехала навстречу. Оба автомобиля ехали медленно, видимость была превосходной, но Леннон вдруг запаниковал. Он поднял вверх руки, словно на него напал столбняк. Белый «макси» загремел в кювет, так что никто в машине не смог избежать ударов о приборную доску, лобовое стекло и боковые дверцы.
Вспоминая о том, что тогда произошло, Йоко неизменно приходила в бешенство: Джону удалось вылезти из машины через переднюю дверцу и вытащить Джулиана. Убедившись, что у него нет серьезных повреждений, он схватил мальчика в охапку и начал плясать, точно взбесившийся тролль. «Мы живы! Мы живы!» – весело распевал он, в то время как оглушенная Йоко с окровавленным лицом корчилась от боли, слыша рядом с собой крики дочери. Она была в ярости от того, что Джон не вспомнил о ней в этот миг. Ей не дано было понять, какое облегчение испытывал Джон. Он понял, что ему никогда больше не придется вести машину.
Встречный автомобилист отвез Леннонов в Лоусонскую больницу, где врач-хирург зашил раны и сделал рентген. Больше всех пострадала Йоко. Ей наложили четырнадцать швов на лице, а так как она вновь была беременна, ее осмотрели особенно тщательно, но пришли к заключению, что ребенок не пострадал. Киоко отделалась четырьмя швами на губе, а Джон – семнадцатью на голове. Джулиан был всего лишь в легком шоке, и вскоре его выпустили, поручив заботам тетки Джона, тогда как все остальные пробыли под наблюдением в больнице еще целых пять дней.
Как только до Синтии дошло известие об аварии, она бросилась за сыном в сопровождении Питера Брауна. Синтия забрала Джулиана у Матер, не сказав Джону и Йоко ни слова.
Когда Леннонам разрешили покинуть больницу, они вернулись домой на вертолете. По прибытии Иоко слегла. А еще через несколько дней покореженную «макси» доставили на территорию имения. Позднее Иоко пришла идея водрузить останки машины на бетонный постамент, возведенный перед окнами гостиной, чтобы каждый раз, глядя из окна, они могли возблагодарить небо за то, что остались живы.
Сразу по возвращении Джону было необходимо срочно появиться в студии, где «Битлз» уже работали над записью «Abbey Road»155. Джону не улыбалась перспектива снова сесть за работу вместе с Полом, но, начиная с этого диска, в силу вступала новая ставка процентных отчислений, и на кону оказались очень большие деньги. Несмотря на то что врачи предписали Иоко лежать, пока не прекратятся боли в спине, она настояла на том, чтобы присутствовать во время сеансов звукозаписи. В назначенный день в студию на Эбби-роуд доставили огромную кровать, на которой в течение двух недель с комфортом располагалась Йоко. Она читала, вязала, спала и в то же время неустанно следила за Джоном. Тем временем «Битлз» и Джордж Мартин нередко засиживались до четырех утра. Результатом этих высокопрофессиональных усилий стал высокопрофессиональный альбом.
Появление «Abbey Road» подчеркнуло добровольный отказ «Битлз» от прежнего курса, когда группа старалась во всем придерживаться золотой середины, ибо на этот раз Пол поставил цель создать, по выражению Джона, «высоко-классный продукт, чтобы поддержать миф». Сторона "Б" этого альбома, являющаяся по сути длинным попурри, мастером на которые всегда был Пол, включает в себя песни, которые «Битлз» начинали сочинять и оставляли незаконченными. Джон был не в восторге от такого решения, сетуя на то, что «эти куски не имеют между собой ничего общего, ни одной связующей ниточки, за исключением того, что мы просто соединили их вместе». Вообще-то все эти вещи объединяло одно – чувство ностальгии. То была ностальгия по музыкальным комедиям сороковых годов, когда «Битлз» были еще детьми. Отчасти это объяснялось появлением новой культуры, пропитанной ностальгическими тенденциями поп-арта, отчасти – глубокой привязанностью Пола Маккартни к образности того, прежнего шоу-бизнеса. Результатом этих глубинных процессов стало зарождение следующего крупного направления в развитии поп-музыки под названием глэм-рок.
Благодаря «Abbey Road» им удалось достичь поставленной цели и создать впечатление, что с ними все в полном порядке. Однако кризис, который уже давно назрел, должен был вот-вот разразиться. Однажды вечером, вместо того чтобы отправиться в студию. Пол предпочел остаться дома и поужинать при свечах в обществе Линды. Когда Джон понял, что записи не будет и что он приехал напрасно, его обуяла дикая ярость. Он примчался к дому Пола, перелез через забор, ворвался в гостиную и сорвал со стены висевшую на ней картину, которую будучи еще студентом художественного колледжа сам нарисовал и подарил Полу много лет назад. На глазах у изумленных Пола и Линды Джон ударом ноги распорол самую середину холста.
Глава 38 Голосуя за мир, ты голосуешь за Леннона
В один из сентябрьских вечеров 1969 года Джон Леннон поднял телефонную трубку у себя в кабинете и услышал голос молодого канадского промоутера, который принялся рассказывать ему о предстоящем большом концерте с участием Чака Берри, Фэтса Домино, Джина Винсента, Бо Дидли и Литтл Ричарда. Услышав имена этих людей, Леннон неожиданно заметил: «Мы сможем присутствовать, но только при условии, что нам дадут сыграть». Сыграть! Самое большее, на что рассчитывал промоутер, так это на присутствие Джона. Неужели «Битлз», которые не выступали на публике уже три года, согласятся сыграть на фестивале «Рок и Возрождение» в Торонто? Это было слишком хорошо, чтобы быть правдой. И в следующий миг промоутер услышал, как Леннон приказал своим сотрудникам: «Соедините меня с Джорджем... И разыщите Клэптона!» Затем Джон объяснил, что намерен приехать вместе с Йоко и группой, составленной из звезд, и что у него очень мало времени, ведь до концерта оставалось меньше тридцати шести часов.
Длинноволосый хиппи на другом конце провода не мог прийти в себя. Джон Брауэр, двадцатитрехлетний отпрыск семейства, которое долгое время находилось в авангарде политической жизни Канады, обучался в самых престижных учебных заведениях страны, но внезапно уехал в Калифорнию и занялся бизнесом в области звукозаписи. Разорившись, он вернулся домой с женой и ребенком, где вместе с друзьями занялся организацией концерта, который, как оказалось, вполне мог стать настоящей сенсацией. До сего дня на двадцатитысячный стадион было продано только восемьсот билетов, и адвокаты посоветовали ему позвонить Джону Леннону, который был известным фанатом старого рок-н-ролла.
Одно только обещание Леннона гарантировало аншлаг. Беда заключалась в том, что Брауэру никто не верил. «Не надо нас дурачить, – отвечали ему, когда он стал обзванивать радиостанции, чтобы сообщить эту новость. – Нам прекрасно известно, что у тебя проблемы со сбытом билетов». Тогда Брауэр снова позвонил в «Эппл» и записал на пленку голос Тони Фосетта, который зачитал ему список собиравшихся приехать музыкантов: Джон Леннон, Йоко Оно, Эрик Клэптон, Клаус Фурман. Господи! Мог ли он мечтать о большем? Однако на радио ему опять никто не поверил. «Ну парень, – ответили ему, – видно, вы действительно попали! Это же надо додуматься – найти кого-то с английским акцентом и сфабриковать такую запись!»
Аллен Кляйн подлил масла в огонь. «Все это полная ерунда! – заявил он прессе. – Никто никуда не едет».
К этому моменту до полной катастрофы оставались уже считанные часы, и Брауэр развил бурную деятельность. Он снова позвонил Леннону и записал уже его голос. И опять никто ему не поверил! В конце концов один ди-джей из Детройта все-таки запустил запись в эфир, и концерт был спасен. Десять тысяч билетов были распроданы в день концерта. А Джон Леннон тем временем решил отказаться от поездки!
Проведя целую ночь в поисках Клэптона, на которого Джон очень рассчитывал, он рухнул в постель в субботу в полшестого утра. Когда Клэптон очнулся от глубокого наркотического сна, то сразу устремился в аэропорт, но опоздал на утренний рейс. Вместе с другими музыкантами, басистом Клаусом Фурманом и барабанщиком Аланом Уайтом, он позвонил Леннону, чтобы узнать, как быть. Но Джон был в таком отрубе, что даже не смог выбраться из постели. «Отправьте им букет роз с любовью от Джона и Иоко, поехать мы не сможем», – пробормотал он и повесил трубку. Вне себя от ярости Клэптон перезвонил и заорал: «Слушай, ты, скотина! Я сюда в аэропорт не шутки шутить приехал! Если вы немедленно тут не появитесь, можешь больше никогда ни с какими просьбами ко мне не обращаться!»
Леннон и Рихтер с женами успели на рейс, отправлявшийся в 15 часов 15 минут.
Пока самолет летел над Атлантическим океаном, музыканты пробовали репетировать на неподключенных электрогитарах. Это было похоже на комедию, поскольку Леннон не мог вспомнить ни одного текста, кроме тех песен, что он пел в «Кэверн». Через какое-то время Джону и Эрику стало плохо: им требовалась очередная доза, но они опасались, что, если слишком заторчат, не смогут выйти на сцену. Ребята решили крепиться. Очень скоро Джона затошнило, и он выскочил в туалет. После каждого приступа рвоты он выкуривал по косяку: чтобы никто ни о чем не пронюхал, каждый раз, выдыхая затяжку, он опускал голову в унитаз и спускал воду, которая уносила с собой и дым. Наконец в четыре пополудни самолет произвел посадку. Уладив проблемы с иммиграционными властями, возникшие из-за отсутствия у Йоко необходимых прививок, группа британских рок-звезд вывалилась из здания аэровокзала и оказалась в самой гуще огромной толпы затянутых в черную кожу байкеров – это были «бродяги», то же самое, что американские «ангелы ада».
Брауэр решил встретить Леннона как настоящего рок-Зигфрида. Стоило бородатому апостолу мира, одетому во все белое, появиться со своей азиатской женой, одетой в длинное оранжевое платье и жакет из красного шелка, как сопровождавшие их байкеры на бешеной скорости помчались по шоссе до стадиона, выехали на поле и подняли вверх свои затянутые в кожаные перчатки кулаки под истерические вопли фанатов. Сорок мотоциклистов спереди и сорок сзади – появление Леннона было обставлено воистину по-королевски. Однако когда Леннона отвели в комнату, отведенную для музыкантов, Джон запаниковал.
Леннон, который всегда испытывал ужас перед выходом на сцену, был способен в такие моменты на самые безумные выходки.
«Слушай, старик, ты не мог бы раздобыть немного коки?» – обратился он к Брауэру заговорщическим тоном.
«Нет проблем! – ответил молодой импресарио, вне себя от возбуждения. – Деннис, тащи-ка сюда шесть бутылок!» Затем, повернувшись с победным видом к гостям, он увидел, как Джон и Йоко недоуменно переглянулись, как бы говоря: «Боже, во что же мы вляпались на этот раз?»
«Нет, нет! – воскликнула Иоко. – Коки – в нос!» И она сделала жест, будто втягивает что-то носом с тыльной стороны ладони.
До Брауэра наконец дошло, что его просят достать тяжелых наркотиков! Он не знал, что делать, – но не мог же он им отказать! Поэтому Брауэр выскочил на сцену и вызвал за кулисы доктора Снайдермана.
«В чем дело, парень? – с трудом выдавил из себя невысокий смуглый человечек по имени Дэвид Снайдерман. – Полиция?» Когда Снайдерман понял, чего от него хотели, он в отчаянии воскликнул: «О Боже! Я подумал, ты пытаешься предупредить меня об опасности! У меня был и кокаин, и гашиш! Но когда я услышал, как ты закричал, то выбросил все на землю». Затем он опрометью бросился назад и вскоре вернулся с «лекарством». Джон и Иоко заперлись в туалете, а когда вышли оттуда, бледности на их лицах значительно поубавилось.
Теперь Леннону предстоял тяжелый спор с Литтл Ричардом, который захотел выступить предпоследним. Одно дело – восхищаться прежними кумирами издалека, но совсем другое – позволить им превзойти тебя на сцене. Джон отказал Ричарду, после чего ему пришлось разбираться с Джимом Моррисоном, который требовал того же. Перспектива выйти на сцену после Моррисона приводила Джона в совершеннейший ужас. Так что Брауэру пришлось попросить Джима не настаивать. В конечном итоге Джон и его группа, названная на скорую руку «Плэстик Оно Бэнд», выползла на сцену, «дрожа от страха», если верить Клэптону, которого за минуту до выхода буквально воскресили.
Ведущий распорядился погасить прожектора и закричал, обращаясь к зрителям, чтобы все зажгли спички. Зал затаив дыхание выслушал сбивчивые объяснения героя концерта относительно того, что группа никогда еще не выступала в таком составе, после чего он запел «Blue Suede Shoes» и «Money» Мэки Мессера. Джон доказал, что он не забыл, как надо исполнять старые хиты, – только теперь ему несколько не хватало вокальной мощи. После «Year Blues» и совершенно новой «Cold Turkey»156, чей текст ему пришлось читать по бумажке, которую держала Йоко, Джон с явным облегчением спел «Give Peace a Chance» и откланялся.
Настал звездный час и для Иоко. В начале шоу она залезла с микрофоном в белый мешок и сопровождала выступление группы, издавая разные звуки. Теперь, когда Джон, казалось, вновь погрузился в грустную меланхолию, она, сияя, взяла бразды правления в свои руки. В течение двадцати минут, что продолжалась композиция без слов «Don't Cry Kyoko (Mummy's Only Looking for a Hand in the Snow)»157, Иоко выводила некие трели под аккомпанемент мощнейшего гитарного риффа, перешедшего в пронзительное жужжание фидбэка, когда музыканты поднесли гитары вплотную к усилителям. Скоро самые отчаянные фаны из первых рядов разразились грязными ругательствами по поводу того, что творилось на сцене, и начали уходить. Йоко расстроилась, и Джон увел ее за кулисы и стал успокаивать. «Не волнуйся, малышка, – приговаривал он. – Я все для тебя устрою».
Такое фиаско привело бы в чувство любого другого, но Леннон был взбудоражен тем, что вышел на сцену без «Битлз». На обратном пути – еще в самолете – он заявил Аллену Кляйну, что сразу после приземления собирается объявить о своем уходе из «Битлз» и о создании новой команды с Эриком Клэптоном и Клаусом Фурманом. Кляйну, который только что провел девять тяжелейших месяцев в своей жизни, пытаясь спасти «Битлз», захотелось открыть запасный выход и выпрыгнуть из самолета. Тем не менее ему удалось сохранить хладнокровие и уговорить Джона подождать по крайней мере до тех пор, пока группа не получит крупный аванс от компании «Кэпитол». Единственное, чего Аллену не удалось, это погасить злобу, которая накопилась у Джона против Пола.
В следующий раз, когда все «Битлз» собрались вместе, Пол вновь призвал сохранить группу. Но Джон оставался глух к любым его доводам. В конце концов Пол не выдержал: «И все же, о чем бы мы ни говорили, мы остаемся „Битлз“, не так ли?» – воскликнул он, исчерпав последние аргументы.
«К черту! – презрительно усмехнулся Джон. – Никакой я не Битл!»
«Что ты мелешь, конечно же ты Битл», – возразил Пол тоном обиженного родителя.
«Нет! – закричал Джон. – Неужели ты не понимаешь? Все кончено! Кончено! Я требую развода точно так же, как я развелся с Синтией! Втемяшь это в свою чертову башку!» Затем, немного помолчав, признался: «Я не хотел говорить вам об этом до выхода следующего диска, но я из группы ухожу». Все в изумлении уставились на Джона. «Как же мне стало хорошо! – продолжал Джон, набираясь уверенности от звука собственного голоса. – Это и впрямь похоже на развод. Я чувствую настоящее облегчение, точно камень свалился у меня с души. Я рад, что сказал вам об этом». Затем, не оставляя никому возможности возразить, он резко развернулся и бросился, сопровождаемый Йоко, вон из офиса, крича на ходу: «Все! Это конец!»
9 октября, в день двадцатидевятилетия Джона, Йоко была срочно перевезена в больницу Кингз Колледж, где ей сделали переливание крови. Тем не менее уже через четыре дня пресса сообщила о том, что у нее произошел очередной выкидыш. Для того чтобы развеяться, Джон и Йоко вылетели в Афины, где погрузились на яхту, арендованную для них Мэджик Алексом. В последний раз «Битлз» плавали по Эгейскому морю в «лето Любви», тогда Джон и Джордж устраивались спать на палубе и распевали под звездным небом мантру Харе Кришна, аккомпанируя себе на банджо-укуле-ле. В этот раз Джон и Йоко поклялись очиститься ото всех нечистот. Они решили сочетать полную дезинтоксикацию и пост, перейдя на одну воду. Все это, естественно, привело к непрекращающимся бурным сценам, во время которых Джон в щепки разнес каюту и от души отколошматил Йоко.
Вернувшись в Лондон, парочка выпустила «Wedding Album»158. В конверт были вложены копия брачного свидетельства, пластмассовый кусок свадебного торта, рисунки свадебной церемонии и сцен медового месяца, выполненные Джоном, открытка из амстердамского «Хилгона», серия снимков из фотоавтомата и большой двусторонний постер, составленный из фотографий, сделанных Дэвидом Наттером на свадьбе и во время полета в Париж. Этому альбому, который был отчасти журналом для фанов, отчасти сувенирной программкой, отчасти образцом концептуального искусства, не хватало лишь одного – музыки. На стороне "А" Джон и Йоко по очереди выкрикивали имена друг друга, а на обороте было записано скучнейшее интервью.
Но вскоре имя Леннона опять появилось на первых полосах британских газет. 25 ноября он возвратил королеве полученную им несколько лет назад медаль Британской империи, сопроводив свой жест следующим посланием: «Ваше Величество, я возвращаю Вам Медаль Британской Империи в знак протеста против британской агрессии в Нигерии-Биафре, против нашей поддержки действий американских войск во Вьетнаме и против того, что „Cold Turkey“ пошла вниз в британских хит-парадах. С любовью, Джон Леннон». Столь неуважительный жест в очередной раз оскорбил общественное мнение и стал причиной всеобщего осуждения Леннона, и первой была тетя Мими, долгое время хранившая драгоценную медаль у себя.
Однако к этому моменту Леннону было глубоко наплевать на мнение соотечественников, поскольку он уже перестал считать себя гражданином маленькой и отсталой Британии. Он был всемирно знаменит, и пусть прошли те времена, когда имена рок-героев неизменно пестрели на первых страницах газет, Леннон нашел для себя новое поле деятельности, где мог оставаться на виду: движение в защиту мира. К этому времени политика, религия и шоу-бизнес настолько переплелись, что поп-певец вот-вот должен был превратиться в лидера пацифистского движения. Именно поэтому 16 декабря 1969 года Леннон вновь приехал в Торонто, чтобы объявить об открытии Всемирной конференции Музыки и Мира.
Сегодня цель этого фестиваля может показаться несбыточной, но в те времена, когда контркультура и всемирное молодежное движение уже заявили о мессианском значении своих устремлений в Вудстоке, подобные схемы казались абсолютно реальными. Организаторы конференции в Торонто и Джон Леннон, который собирался отомстить за то, что его и Йоко отказались пригласить в Вудсток вместо «Битлз», поставили себе целью превзойти вудстокский фестиваль. Фестиваль в Торонто, готовившийся принять до двух миллионов зрителей, должен был состояться на стадионе для автогонок «Моспорт» (от «мотоспорт»), который располагался в сорока милях от города. Джон Леннон планировал собрать наиболее престижный состав участников во всей истории рок-н-ролла, возглавив фестиваль вместе с Элвисом Пресли, а вся планета должна была наблюдать за этим событием по космическому телевидению.
Несмотря на то, что фестиваль должен был стать прежде всего зрелищем, цели организаторов этим не ограничивались; напротив, предполагалось, что фестиваль станет кульминацией Года Первого ПМ («После Мира»). В течение первых месяцев наступающего года миллионы бюллетеней, предлагавших участникам голосования сделать выбор между войной и миром, должны были быть разосланы по всему свету. Каждый голос в защиту мира стал бы голосом в пользу Леннона. По завершении выборов Всемирная партия Мира должна была учредить свою, штаб-квартиру в каждой стране, а Джон Леннон перемещался бы из одного центра в другой в качестве лидера этого всемирного движения. Уже в тот момент, когда он объявлял о проведении такой конференции, во всех крупнейших городах земного шара торжественно вывешивались огромные афиши, на которых крупными буквами было написано: «ВОИНА ОКОНЧЕНА! Если вы этого захотите. Джон и Иоко желают всем Счастливого Рождества!». Если бы все получилось так, как было задумано, Джон Леннон одной левой установил бы мир на земле и отношения доброй воли между людьми.
Джон Брауэр, организатор фестиваля, уже в течение нескольких месяцев работал над подготовкой сценического апофеоза Джона Леннона. Как только Джон объявил о проведении этого мероприятия, Брауэр отвез его в имение Ронни Хокинса, которое располагалось неподалеку от торонтского аэропорта. Хокинс, бывший некогда звездой рок-н-ролла (его группа «Хокс» одно время включала в себя всех музыкантов созданной позднее группы «The Band»159), как раз пытался вновь вернуться на сцену на волне возрождения интереса к старому рок-н-роллу. Его представитель по связям с общественностью канадский журналист Ричи Йорк объединился с Джоном Брауэром для продюсирования фестиваля.
Не успели Ленноны подъехать к дому Хокинса, как обнаружили, что за ними на территорию усадьбы проникли фотограф и репортер. Это вывело из себя темпераментного Брауэра, который поклялся оградить своих звезд от репортеров. Выскочив из лимузина, он набросился на журналистов с кулаками и так сильно врезал фотографу, что выбил ему пять зубов и сломал челюсть. «ФЕСТИВАЛЬ МИРА НАЧАЛСЯ С ДРАКИ НА ФЕРМЕ РОННИ ХОКИНСА» -под такими заголовками вышли на следующее утро все местные газеты. Одним ударом Брауэр раскрыл секрет тайного убежища Леннона, так что любой желающий легко мог очутиться у порога этого дома.
Как только Джон и Йоко оказались внутри особняка, выполненного в псевдотьюдорском стиле, они перевернули там все вверх дном. К дому были подведены три дополнительные телефонные линии, одна из которых обеспечивала прямую связь с «Эппл» и была задействована двадцать четыре часа в сутки (в то время международная связь осуществлялась только через телефонисток). На кухне постоянно дежурили два повара-диетолога, готовые в любую минуту приготовить для Леннонов специальную пищу, состоявшую в основном из черного риса и проросшей сои. Журналисты и радиокомментаторы приезжали и уезжали целыми группами, поскольку Джон и Иоко ни на минуту не прекращали работать. Ронни Хокинсу пришлось пережить немало неприятных моментов, начиная с того, что как-то он застал своих детей за созерцанием эротических литографий Леннона, и кончая тем, что в один прекрасный день обнаружилось, что знаменитые гости улеглись спать, не закрыв кран в ванной, так что в результате на кухне обвалился потолок.
Что касается Джона, то он был в ярости от того, что Элвис упорно не отвечал на его телефонные звонки.
За несколько дней до Рождества Джон встретился в торонтском университете с одним из отцов поп-культуры Маршаллом Маклуганом. Их беседа показала, с каким блеском умел отстаивать свое мнение Джон Леннон в спорах с самыми ловкими и утонченными интеллектуалами. «Устная речь есть не что иное, как форма организованного заикания, – с ходу начал Маклуган. – Когда вы говорите, то буквально разрубаете произносимые звуки на части. А когда поете, заикание пропадает, так как пение достигается путем растягивания речи на продолжительные гармоничные схемы и циклы. А каково ваше мнение относительно роли речи в песнях?» После такого начала большинство собеседников потеряли бы дар речи. Но только не Джон Леннон.
«Помимо того, что для меня и речь и песня – не больше, чем чистой воды вибрации, – не моргнув глазом, ответил он, – они являются еще и средством описания мечты. А поскольку мы не обладаем телепатическими способностями, то стараемся описать друг другу свою мечту словами, чтобы подтвердить, что знаем о том, что находится в голове у собеседника. А мысль о заикании совершенно справедлива, так как мы не способны выразить то, что хотим. Что бы мы ни говорили, это никогда не соответствует тому, что мы хотим сказать».
Следующей встречей на высшем уровне была аудиенция у Пьера Трюдо в Оттаве, которой предшествовала целая неделя напряженных переговоров. Брауэр отдавал себе отчет в необходимости тесного сотрудничества с правительством провинции Онтарио по подготовке фестиваля и надеялся, что после встречи с Ленноном премьер-министр даст ему свое благословение. А Трюдо, со своей стороны, позволил убедить себя в том, что он заинтересован во встрече с Ленноном, олицетворявшим в тот момент интересы молодежи всего мира.
Для того чтобы избежать ненужной шумихи, было решено не сообщать о предстоящей встрече вплоть до последней минуты. 22 декабря в десять тридцать утра средства массовой информации были извещены о том, что Пьер Трюдо намерен принять Джона Леннона и Йоко Оно. Около пятидесяти фотографов немедленно собрались перед зданием парламента. По такому торжественному случаю Леннон был одет во все черное: черный костюм от Кардена, широкий черный шелковый галстук и черный плащ нараспашку. В присутствии фотографов Трюдо пожал руку Леннону, обнял Иоко, а затем попросил представителей прессы удалиться и остался наедине со своими гостями.
Если Маршалл Маклуган, теоретик средств массовой информации и человек джойсовского склада ума, оказался для Леннона идеальным собеседником, то с Пьером Трюдо дела обстояли как раз наоборот. Это был человек монашеских нравов, который никогда не смотрел телевизор, не ходил в кино и держался в стороне от той жизни, которой живут простые смертные. Он заметно нервничал, начиная беседу, которая вылилась в разговор о поэзии Джона, о его жизни во времена, когда он был Битлом, о разрыве между поколениями (после скандала, вызванного связью дочери Трюдо Маргарет с «Роллинг Стоунз», эта тема была для семьи премьер-министра открытой раной) и об усилиях Джона и Иоко по защите мира. «Мы говорили обо всем, – поведал Джон журналистам, – абсолютно обо всем. Мы провели вместе около сорока минут – на пять минут дольше, чем обычно уделяет премьер главам других государств!.. Если бы на Земле было побольше таких лидеров, как господин Трюдо, – подытожил Джон Леннон, – люди давно бы уже жили в мире».
Встретившись с канадским премьер-министром, Джон лишний раз удостоверился, что он на правильном пути. "Джон понял, – рассказывал Брауэр, – что с ним начинают считаться на международном уровне. Он решил, что, начиная с этого момента, он может строить планы реализации своих проектов во всех странах мира... Джон был очень политизированным человеком. Политика могла дать ему то, чего не мог дать шоу-бизнес, а именно, предоставить ему реальную возможность распространять свои убеждения. Больше всего на свете Джон желал обладать собственной политической машиной. И пусть он продолжал утверждать, что политика – это дерьмо. Просто, говоря о себе, он не употреблял слово «политика». Он использовал термин «мир».
Глава 39 Космический рок
Когда Ронни Хокинс получил от телефонной компании счет на 5 тысяч долларов за ту неделю, что в его доме гостили Джон и Йоко, он обратил внимание на название незнакомого городка Альборг, расположенного в Ютландии на самом севере Дании. Именно там проживал теперь Тони Кокс со своей новой женой Мелинде. После автомобильной аварии в Шотландии между Коксом и семейством Леннонов пробежала черная кошка, так как Джон и Йоко отказались переслать Тони медицинское заключение и рентгеновские снимки Киоко. Теперь Ленноны захотели уладить возникшие осложнения, для чего решили отправиться в Данию проведать Киоко и обсудить вопросы, связанные с ее опекой. Через два дня после Рождества Джон и Иоко вышли из маленького самолета, доставившего их из Копенгагена.
Тони и Мелинде жили на уединенной ферме, затерянной среди заснеженных полей, обдуваемых ледяными арктическими ветрами. Переступив порог дома, Джон и Йоко почувствовали себя совершенно отрезанными от внешнего мира: здесь не было даже такой малости, как телефон. Киоко не вышла им навстречу. Тони предусмотрительно решил подержать ее взаперти, пока не выяснит, с чем приехали гости.
Какие цели преследовал Тони Кокс? Он хотел убедить гостей, что ему стало известно нечто такое, что может полностью изменить их жизнь. Мелинде, происходившая из богатой хьюстонской семьи, была адептом некоего духовного культа, чей лидер, доктор Дон Хэмрик, был блестящим человеком и автором нескольких удивительных книг. Он проповедовал учение о необходимости установления контактов между человечеством и инопланетянами и утверждал, что однажды общался с пришельцами из космоса. По словам Кокса, этот человек мог связать Джона и Йоко с внеземными цивилизациями. (Тони, естественно, умолчал вначале о том, что Хэмрик считал «Битлз» самым подходящим связующим звеном для установления отношений между людьми и инопланетянами. По мнению Хэмрика, никто не обладал над умами землян такой властью, как «великолепная четверка». Не они ли ввели в обращение новые виды сознания путем использования ряда наркотических средств, таких, например, как ЛСД? Именно поэтому Хэмрик потребовал от Мелинде, которая называла себя колдуньей, сделать все, что было в ее власти, чтобы втянуть «Битлз» в эту авантюру.)
Вероятно, Кокс предложил Леннонам задержаться у него на пару недель и попытаться за это время очистить от скверны свое тело и разум, придерживаясь поста и предаваясь медитации. Затем они могли бы перейти к более интересным вещам, таким, как обмен энергией и телепатия, доктор Хэмрик помог бы им обоим бросить курить. И наконец, Джон и Йоко могли принять участие в новой работе Тони, который оборудовал весь дом видеокамерами и мониторами, решив сделать подробную видеозапись своей повседневной жизни, включая самые интимные ее стороны, происходящие в ванной комнате или спальне. Что касается наркотиков, то они могли не беспокоиться: у Тони еще оставалось немного ЛСД, а Мелинде приготовила какое-то марокканское варево под названием мажун, которое представляло из себя густую пасту черного цвета и обладало тем же эффектом, что и гашишное масло. Тони обожал намазывать эту штуку по утрам себе на хлеб.
Целых три недели провели Ленноны на уединенной ферме. Те из знакомых, кому довелось там побывать, рассказали о том, что Тони и Джон очень привязались друг к другу. Прошел даже слух, будто обе пары решили отныне жить и творить вместе. А Джон якобы поговаривал о том, чтобы сделать своим менеджером Тони Кокса.
Леннон распорядился, чтобы Джон Брауэр доставил в Альборг некоего доктора Дона Хэмрика, проживающего в окрестностях Торонто. Брауэр обнаружил, что Хэмрик обитал в городе Петербурге, расположенном в провинции Онтарио, под именем 3. Шарно.
Примерно в то же самое время Брауэр получил от Леннона еще одно указание: «Собери мне компромат на Аллена». Все это показалось Брауэру очень странным, и чтобы во всем разобраться, он со своим компаньоном Ричи Йорком отправился в Данию. Перед самым отъездом им позвонил Ронни Хокинс и предупредил, что Аллен Кляйн собирается их «похоронить». Ребята восприняли эту угрозу всерьез и потому, когда добрались до «Уайт Хаус-отеля» в Альборге, маленьком заснеженном городишке, расположенном на краю земли, и обнаружили под дверью гостиничного номера записку: «Да пребудет с вами вечный покой и любовь. 3», оба страшно перепугались. Им удалось связаться с Джоном Ленноном, и тот их успокоил: «Доктор 3. просто хотел заверить вас в своих дружеских чувствах». А через некоторое время им позвонил сам «3. Шарно» и пригласил их к себе в номер.
"Я никогда не забуду тот миг, – рассказывал позднее Брауэр, – когда доктор 3. открыл нам дверь своего номера.
Мы с Ричи вдруг начали извиваться и чесаться. Было такое ощущение, что на нас упала огромная паутина. Мы не были пьяны и не торчали. И тем не менее у обоих возникло одно и то же неприятное чувство. Хэмрик представлял из себя то еще зрелище. В нем было примерно шесть футов три дюйма, а с головы свисали длинные и прямые, как струны, седые волосы. Одет он был в одни шорты. Он поприветствовал нас и повернулся спиной. В спине у него была дыра величиной с кулак. Через нее были видны позвоночник и одно легкое. Вся кожа была испещрена шрамами. Мы с Ричи остолбенели. Он объяснил, медленно выговаривая слова с легким немецким акцентом, что месяц назад ему сделали в Лондоне серьезную операцию. Его хотели оставить в больнице до полного выздоровления, но он ушел через неделю, поскольку сам мог о себе позаботиться. Очевидно, что этот человек был не таким, как все остальные.
Он сразу начал рассказывать нам о том, что мы живем в эпоху исключительно важной эволюции человека. О том, что в космосе есть живые существа, которые наблюдают за нами. Они были бы счастливы вступить с нами в общение и считают Джона Леннона очень значительной личностью. Джон уже ездил в Норвегию, где его поднимали на космический корабль. Затем Хэмрик подвел нас к столу, над которым на расстоянии примерно в один фут загадочным образом плавал уменьшенный макет города Бака Роджерса. Он провел под ним рукой и сказал, что пришельцы открыли ему секрет антигравитации. «Мы строим город на облаках над Бразилией, – пояснил он. – Это его модель, и она подтверждает данную мне силу».
Но на этом сюрпризы для Брауэра и Йорка не закончились. Тем же вечером, когда они отправились поужинать в ресторан при гостинице, к ним подошел метрдотель и вручил счет из парикмахерской, пояснив, что счет прислал Джон Леннон. А через несколько минут молодая парикмахерша уже рассказывала им, как ездила на ферму, где проживало семейство Леннона. «Когда я туда приехала, – продолжала она, – господин Кокс попросил меня обрезать длинные волосы Киоко. Затем Джон Леннон дал мне свой паспорт и попросил сделать такую же прическу, какая была на его фотографии (это фото было сделано летом 1967 года накануне поездки Джона в Грецию. – А. Г.). Я принялась за работу, а Иоко заплакала. Потом Джон спросил у Йоко, не хочет ли она тоже постричься. Она в ужасе закричала: „Нет!“... Когда Джон повторил свой вопрос, она ответила: „Да“... На этот раз заплакала Киоко».
Четыре часа ушли на то, чтобы постричь всю компанию так, чтобы длина волос у каждого не превышала четырех дюймов. Но и этого Джону показалось мало. Он потребовал, чтобы ему сделали прическу а ля Миа Фэрроу, у которой были очень короткие волосы.
Слушая этот рассказ о странном поведении Леннона, Джон Брауэр решил, что все, что с ним случилось, начиная с того момента, как он сошел с трапа самолета, тщательно подстроено Ленноном, чтобы окончательно свести его с ума. А раз так, то он решил побить Джона в его же собственной игре и приказал пораженной парикмахерше немедленно укоротить и его волосы.
На следующее утро Брауэр и Йорк добрались до фермы Кокса, где застали Джона, Йоко, Тони и Мелинде сидящими вокруг стола с таким видом, словно они окаменели. Их глаза были устремлены в никуда. Единственным двигавшимся существом была Киоко с коротким пушком на голове, которая взглянула на незнакомцев и произнесла: «Я – настоящая девочка!» Молодые люди обратили внимание, что дом наполнен странным запахом, напоминавшим запах цветов и благовоний. А когда Мелинде передала им соусник с вязкой черной пастой, они поняли, что это за запах. Когда Брауэр попробовал варево, он так заторчал, что почувствовал, как душа отделяется от тела. Леннон тоже был в странном состоянии, ибо начал произносить речь о необходимости разрушения бессмысленных символов, таких, например, как длинные волосы, не обратив внимания на то, что Брауэр этот символ уже разрушил.
Брауэр сразу заметил, что со времени последней встречи с Ленноном тот сильно переменился. Если раньше для него не существовало ничего, кроме мира во всем мире, то теперь он говорил только о космосе и космическом разуме. Новое, галактическое видение предстоящего фестиваля в Торонто значительно отличалось от того, что изначально задумывал скромный землянин. Несмотря на то, что еще 9 декабря он письменно подтвердил, что часть прибыли должна пойти в фонд защиты мира, сейчас он настаивал на том, чтобы фестиваль проводился бесплатно.
Брауэр и Йорк приуныли, размышляя, во что могут вылиться новые требования капризной звезды, и вдруг на кухне появился новый персонаж... Это был тот самый человек, который совсем недавно грозился их похоронить, – Аллен Кляйн!
"Мы, как полные идиоты, добросовестно выполнили приказание Леннона, – рассказал Брауэр, – и опросили всех, кого только было можно. Люди охотно рассказывали нам о Кляйне, надеясь заслужить благодарность от Леннона. В целом их мнения совпадали: Кляйн был блестящим бизнесменом, который никогда не проигрывал начатого дела, но главным для него всегда было «нарубить побольше капусты» – и если кто-нибудь думал иначе, то был просто сумасшедшим! Само собой разумеется, мы были уверены, что Кляйн никогда ничего не узнает! Однако, едва Кляйн появился, Леннон протянул ему приготовленное нами досье и сказал: «Послушай, Аллен, вот что о тебе думают окружающие. Не хочешь взглянуть?» Мы с Ричи поняли: тут-то нас точно похоронят! Кляйн и глазом не моргнул. Он принялся перелистывать страницы, бормоча: «Ну да, этот тип ничего другого сказать и не мог!» Затем он взглянул на нас и произнес: «Вы, наверное, здорово повеселились, собирая эти сплетни, ребята? Никогда бы не подумал, что у вас столько свободного времени. Сразу видно, что не так уж вы и заняты вашим никчемным фестивалем».
Перед отъездом Брауэр и Йорк получили указание разработать план проведения бесплатного фестиваля и представить его на рассмотрение к 1 марта. А когда они вновь очутились в своем обклеенном плакатами офисе в Канаде, им позвонил Тони Кокс и сообщил, что Леннон решил подключить к их работе людей, которые будут следить за тем, чтобы фестиваль получил необходимую космическую ориентацию: Дона Хэмрика и его первого ученика Леонарда Холлахана. Затем он обронил еще одно имя, которое взорвалось в голове у Брауэра, словно бомба: Дэвид Снайдерман. Брауэр предчувствовал, что, если в деле будет замешан Снайдерман, им ни за что не удастся получить разрешение у генерального прокурора провинции Онтарио.
Настоящий скандал разгорелся в конце января 1970 года, когда Брауэр поехал на Западное побережье, чтобы успокоить ребят из группы «Джефферсон Эйрплейн», которые здорово обиделись, что Леннон не пригласил их выступить на фестивале. Брауэр допустил грубую ошибку, взяв с собой «космических сенаторов» Леннона. Когда Холлахан развернул перед музыкантами план «космического судна», работающего на одной только психической энергии, и объявил, что Джон и Йоко собираются прибыть на фестиваль на этом безмоторном чуде. Пол Кантер из «Эйрплейн» явно занервничал. «Все это полная туфта! – закричал он. – Люди из космоса и воздушные машины! Если это то, чего на самом деле хотят Джон и Йоко, – то пошли они куда подальше!» Брауэр чувствовал, что его фестиваль может оказаться на грани срыва.
Два дня спустя, 26 января, ближе к вечеру Джон Леннон, вернувшийся к тому времени в Англию, проснулся со звучащим у него в голове текстом новой песни. Ключевым словосочетанием было выражение Мелинде «Instant karma»160. Это выражение, часто употреблявшееся в среде хиппи и означавшее «мгновенное наказание», затронуло Леннона, так как полностью соответствовало его убеждению в том, что за свои грехи человеку приходится расплачиваться на этом свете. Нацарапав стихи на листе бумаги, которую Леннон всегда держал возле кровати, он спустился на веранду, уселся за пианино и принялся наигрывать излюбленные аккорды песенки «Три слепых мышонка» – кстати, именно эта музыкальная фраза была использована при создании песни «АН You Need Is Love». Точно по волшебству, слова мгновенно легли на музыку. Джон снял трубку и позвонил в «Эппл», запустив таким образом производство самой быстрой и самой блестящей записи за всю свою карьеру.
Джон вызвал в студию Джорджа Харрисона, Клауса Фурмана и барабанщика Алана Уайта, но ему требовалось как можно больше помощников, и поэтому он пригласил еще Фила Спектора, благо что тот был в Лондоне. По дороге в студию Джон остановился возле музыкального магазина и, не вылезая из автомобиля, распорядился, чтобы один из инструментов, которые были выставлены в витрине, был срочно доставлен на Эбби-роуд. К семи вечера музыканты уже записали ритмическую основу песни, но когда дошли до следующего этапа – наложения вокала и инструментальных соло – то скоро зашли в тупик. Леннон уже был готов закричать «Help!», когда в студию вошел Фил Спектор.
Несмотря на то, что Джон никогда раньше не работал со Спектором, он сразу поставил его за пульт, а сам вернулся петь с группой. Когда продюсер позвал ребят в кабину прослушать первый плейбэк, Леннон пришел в восторг. «Это было просто фантастично! – вспоминал он позднее. – Было такое ощущение, будто играли не менее пятидесяти музыкантов». Манипулируя силой звука, Спектор не только сделал звучание более объемным, но и добился более мощного звучания голоса Леннона – а это было именно то, чего Джон всегда требовал от Джорджа Мартина. Каждый раз, когда он слышал собственный голос, он страдальчески восклицал: «Ну сделай же что-нибудь с моим голосом! Добавь кетчупа, чтобы он лучше проскакивал!» Как оказалось, именно по этой части Фил Спектор был большим специалистом, так что Леннон, должно быть, сразу почувствовал, что наконец нашел идеального продюсера. Фил Спектор проработал с музыкантами всю ночь, и к рассвету запись была готова.
Наутро, перед тем как покинуть студию, Джон Леннон приказал Тони Фосетту позвонить Джону Брауэру и прокрутить ему только что сделанную запись. Услышав название песни, молодой промоутер, чья компания называлась «Карма Продакшнз», решил, что Леннон написал песню специально для фестиваля. Однако очень быстро его постигло разочарование, поскольку смысл песни был ошеломляюще ясен. Леннон пел о том, что мы живем на Земле не для того, чтобы становиться суперзвездами (или суперпромоутерами); истинную цель жизни символизируют настоящие звезды, небесные тела, которые безмятежно освещают нашу маленькую безумную планету. Будучи далек от того, чтобы в своем творчестве рекламировать предстоящий фестиваль, Леннон, напротив, подчеркнул свое глубочайшее презрение к такого рода манифестациям.
Вскоре после этого Брауэр перезвонил Леннону и заявил, что организовать такое гигантское мероприятие совершенно невозможно, если не брать за вход хотя бы по двадцать долларов. Леннон подскочил до потолка. Он наорал на Брауэра, а затем поставил точку, направив ему короткий телекс: «Мы больше не хотим иметь с твоим фестивалем ничего общего». Пару месяцев спустя журнал «Роллинг Стоун» опубликовал статью Джона Леннона, пожелавшего объяснить свою роль в подготовке злосчастного фестиваля, который получил огромную рекламу на Западе и доставил Джону немало неприятностей. Вину за провал фестиваля он свалил на Брауэра, воспылав праведным гневом в отношении тех, кто отрекся от веры в успех, которую один Леннон хранил до конца.
К тому времени, когда статья появилась на страницах журнала, Джон успел забыть и о крестовом походе за мир, и о собственных космических устремлениях. В его жизни начинался новый этап, который показал, что Джон был человеком с миром на устах и войной в сердце.
Глава 40 Прострация
В феврале 1970 года Джон Леннон почувствовал себя настолько подавленным, что слег в постель и отказался кого-либо видеть, кроме Иоко. Когда то же самое произошло с ним еще раз, через несколько лет, он очень образно описал свое состояние: «Я целый день лежал в постели, ни с кем не разговаривал, ничего не ел, полностью погрузившись в себя. И тогда начинали происходить странные вещи. Я начинал видеть различные части своего организма. Я ощущал себя заколдованным замком, наполненным множеством духов, которые проносились сквозь меня, задерживаясь во мне на короткое время, а затем уступая свое место другим». Нельзя придумать лучшего описания тому, что называется «разваливаться на части».
Каждый из фрагментов, на которые рассьшался Джон Леннон, представлял одно из его многочисленных "я", необыкновенно отчетливо проявлявшихся в его музыке. Стоит вспомнить о любой из знаменитых записей музыканта, как тут же в голове возникает вполне определенный образ, который использовал Джон для этой конкретной песни: жалобный потусторонний голос в «Nowhere Man», торопливый и задыхающийся – в «Help!», сонный и усталый – в «I'm Only Sleeping»161, злой и издевающийся – в «I Am the Walrus», озорной и задиристый – в «Bungalow Bill» или по-детски невинный – в «Dear Prudence». Эти голосовые маски не просто выражали его настроения, за ними стояли глубина и цельность персонажей. Более того, они как нельзя лучше совпадали с непрерывными изменениями внешнего облика Леннона, которые вдохновляли редакторов печатных изданий публиковать его новые портретные фотографии, так что на каждой из них он выглядел совершенно иначе. С одной стороны, такие изменения наводили на мысль о некоем культурном хамелеоне, убежденном последователе моды; а с другой – подразумевали общеизвестный, но неадекватно воспринимаемый феномен множественного раздвоения личности.
В обычных условиях Джон умел владеть собой, сопротивляясь силе собственных навязчивых идей, наваждений, фокусируя всю свою энергию на одной страстно вожделенной цели, что сводило до минимума непоследовательность его поступков. Но стоило ему поддаться мечтательности и впасть в состояние самогипноза, как он тут же начинал разваливаться на части. «Три дня я сижу в одиночестве и ничего не делаю, – рассказывал он официальному биографу „Битлз“ Хантеру Дэвису. – Я почти полностью покидаю собственное тело... Я смотрю на себя с высоты... Я вижу свои руки и понимаю, что они движутся, но это движения робота... На самом деле это очень страшно».
Когда опасения Леннона об утрате связи с реальностью достигали критической точки, он возвращал себя на землю очень простым способом. «Когда дела становились плохи, – признавался он все тому же Хантеру Дэвису, – мне надо было встретиться с остальными». В такие моменты «Битлз» значили для него очень много: они были «такими же, как я». Иными словами, «Битлз» олицетворяли собой ту самую личность, которую постоянно терял в себе Леннон.
Но и эта личность была сама по себе не проще. Самые искушенные наблюдатели разглядели в «Битлз» одного человека с четырьмя лицами. Эта идея очень нравилась и самим музыкантам, но она вызывала вполне закономерный вопрос: каким был этот человек?
Одно из наилучших описаний «Битлз» как коллективного образа принадлежит перу британского поп-критика Ника Кона. Он писал, что самой замечательной чертой группы была ее полная самодостаточность, явившаяся следствием идеальной взаимодополняемости музыкантов: каждый Битл был одновременно и связан со всеми другими, и являлся для каждого его антиподом. «Леннон был грубиян, – анализировал Кон, – Маккартни – красавчик, Ринго – свой в доску, Харрисон – балансер. Если Леннон оказывался бестактным, Маккартни проявлял качества прирожденного дипломата, а когда Харрисон выглядел бестолковым. Леннон блистал умом. Если Ринго казался клоуном, то Харрисон поражал своей мрачностью. И если Маккартни считался виртуозом, то Старр, скорее, был примитивен. И так далее, по кругу... и все это создавало убаюкивающее ощущение целостности». Вот именно. Но в чем был источник этой диалектической взаимодополняемости?
В том, что создателем «Битлз» был Джон Леннон, который скроил их по собственному образу и подобию. В сущности, каждый из эпитетов, используемых Коном для характеристики разных членов группы, мог относиться к одному Леннону. «Битлз» не только впитали в себя все элементы раздробленной личности Джона Леннона, но и достигли, благодаря им, идеальной гармонии, позволившей музыкантам ощутить самодостаточность. Таким образом, растворившись в свое время в «Битлз», Леннон обрел свое "я", теперь же, «разводясь» с ними, он навсегда себя потерял.
Уход Леннона из «Битлз» – психическое самоубийство. Одним взмахом он отрекся от партнера по творчеству и от группы, иными словами, от своего искусства и от своей семьи. Одновременно он потерял контроль над реальностью и вернулся к тому, с чего начинал: он снова был сиротой, одиноко живущим в большом доме в плену у властной женщины. Неудивительно, что у него случился нервный срыв. По словам Дэна Рихтера, "Джон постоянно спрашивал себя: «Кто же теперь обо мне позаботится?»
Очевидно, Иоко. Но и она уже начала задаваться вопросами относительно собственного брака. Иоко вышла замуж за человека, который должен был стать стартовой площадкой для ее взлета к славе и который вместо этого вел себя как больной ребенок, определивший ее на роль матери. Для женщины, которая всю жизнь стремилась избегать материнской ответственности, это было поистине нестерпимо.
Депрессия Джона усугублялась привязанностью к наркотикам. Теперь, когда медовый месяц с героином закончился, Джон захотел от него освободиться. Считая себя способным завязать путем простого воздержания, он предпринял свою первую героическую попытку освободиться от наркотической зависимости в августе 1969 года, когда переехал в новый дом – Титтенхерст-Парк. Три дня он провел привязанным к стулу, оставив свободной только руку, чтобы можно было держать сигарету. Его бросало то в жар, то в холод, и он периодически бился в агонии, умоляя, чтобы его освободили. Позднее он не побоялся с клинической точностью описать свои мучения в песне «Cold Turkey». Это скорее речитатив, нежели мелодия, положенный на бас, бухающий, точно биение сердца, пропущенное через усилитель, и спетый голосом «белого негра», который придавал гласным блюзовое звучание, под вибрирующие «кислотные» аккорды гитары Эрика Клэптона – каждая строфа – как бы новая глава, посвященная отчаянной борьбе Джона Леннона.
Однако Джон не смог преодолеть наркотическую зависимость, и тогда они с Иоко решили обратиться к доктору Майклу Локстону, которого им настоятельно рекомендовал Дэн Рихтер. Рихтер, который не употреблял ни капли алкоголя, а тем более наркотиков, в прежние времена сильно страдал от дурных привычек. Это он открыл метадон, лекарство, которое применялось для дезинтоксикации наркоманов. Как и любой наркотик, начиная с кокаина, новый препарат приводил к почти столь же серьезным последствиям, как героин, для борьбы с которым его прописывали. Через некоторое время Джон и Иоко уже горько жаловались на зависимость от лекарства, которое должно было освободить их от приверженности к наркотикам. 5 марта Леннон с супругой легли в дорогостоящую частную больницу, в которой богатые наркоманы проходили курс дезинтоксикации. Официально было объявлено, что Иоко нуждается в операции в связи с осложнениями после очередного выкидыша. В прессе не было опубликовано ни одной фотографии, посвященной этому событию, что являлось верным признаком того, что британская публика до отвала насытилась «Балладой о Джоне и Иоко». Когда 29 марта звездная парочка вернулась в Титтенхерст, газеты опубликовали сообщение, что Иоко на втором месяце и ребенок должен появиться в октябре.
Пребывавшего в тяжелой депрессии Джона добил Пол. После нескольких месяцев молчания, проведенных в уединении на ферме в Шотландии, в один прекрасный день Маккартни сообщил, что покидает группу и выпускает свой сольный альбом. Это известие обрушилось на Джона, как гром с ясного неба. Сначала он разозлился, поскольку сам давно уже собирался объявить о своем разрыве с «Битлз», но держал рот на замке в интересах группы. В равной степени удручающим было сознание того, что уход Пола действительно означал, что группе пришел конец. Одно дело если бы о своем уходе заявил двуликий Джон, который в любой момент мог и передумать, – к тому же он только что осознал, насколько сильна его зависимость от «Битлз»; и совсем другое – Пол, который больше всех бился за то, чтобы сохранить группу. Стало очевидно, что на примирение не осталось никакой надежды. И, словно всего этого было недостаточно, выяснилось, что альбом Пола должен был выйти 17 апреля, то есть за три дня до той даты, на которую компания «Юнайтед Артисте» назначила премьеру битловского фильма «Let it be»160, премьера сопровождалась выходом саундтрек-альбома, состоявшего из незавершенных записей «Битлз», продюсером выступил Фил Спектор. В свою очередь и Ринго объявил о выходе сольного альбома «Sentimental Journey»161. В случае, если вся эта продукция одновременно попадала на рынок, «Битлз» оказывались втянутыми в разорительное состязание.
Джон и Джордж послали Ринго, самого нейтрального из всех, на переговоры с Полом. Когда Ринго позвонил в дверь, Пол заставил старого приятеля изложить суть дела, стоя на пороге. Но когда все же допущенный в дом Ринго продолжил свою речь. Пол взорвался. «Он совершенно вышел из себя, – рассказал Ринго. – Он заорал на меня и стал тыкать пальцем мне в лицо. „У меня с вами все кончено!“ – кричал он, и „Вы мне за все заплатите!“ Затем он сказал, чтобы я надел пальто и убирался».
Окончательно добил Джона пресс-релиз, посвященный выходу альбома Пола, который многозначительно назывался «Маккартни» и где Пол один играл на всех инструментах, на которых обычно играли остальные члены группы. Это официальное обращение, появившееся в прессе 10 апреля в форме интервью, произвело мировую сенсацию, поскольку содержало ответы на вопросы, которые были у всех на устах: – Станут ли Пол и Линда Джоном и Йоко? – Нет, они станут Полом и Линдой. – Не скучаете ли вы по другим Битлам и по Джорджу Мартину? Неужели у вас не было такого момента, когда бы вы вдруг подумали: «Жаль, что Ринго не может исполнить вот эту дробь»? – Нет.
– Не думаете ли вы, что авторский дуэт Леннон – Маккартни когда-нибудь снова заработает вместе? – Нет.
– Каково ваше мнение о деятельности Джона по защите мира? О «Плэстик Оно Бэнд»? О Йоко?
– Я люблю Джона и уважаю то, чем он занимается, но это не доставляет мне никакого удовольствия.
«ПОЛ УХОДИТ ИЗ „БИТЛЗ“... БЕЗ ПОЛА „БИТЛЗ“ НЕ СУЩЕСТВУЮТ». Кричащие заголовки газет разнеслись эхом по всему миру, в то время как совершенно неготовая к такому повороту событий публика впала в состояние шока.
Распад «Битлз» драматично символизировал окончание золотой эпохи шестидесятых годов. Теперь ничего больше не оставалось, как попытаться понять причины той катастрофы, которая обрушилась на головы самых любимых в мире музыкантов. По общему мнению, «Битлз» распались потому, что повзрослели, хотя все они давно уже были женаты, у троих были дети, а один успел развестись и снова жениться.
Истинные причины развала «Битлз» были ясно видны в их последнем фильме «Let it be». Хотя Пол смонтировал пленку так, чтобы представить события в приукрашенном виде, в картине явно просматривались скука, усталость и отсутствие взаимопонимания. Здесь не было настоящих диалогов, а пение и игра, за исключением идеально исполненных сольных партий Пола, выглядели просто жалкими. Что касается альбома, то и он был не намного лучше, несмотря на все усилия Фила Спектора. Даже величайший аранжировщик не в состоянии превратить посредственные записи в хиты. Только в одной композиции – «The Long And Winding Road»162 – Спектор не удержался от того, чтобы сделать объемную оркестровку. Пол горько жаловался на то, что работа была выполнена из рук вон плохо, и тем не менее именно этот диск был удостоен единственного в истории «Битлз» «Оскара» – за лучший саундтрек к фильму. За наградой в Лос-Анджелес от имени «Битлз» летал один Пол.
Глава 41 Голливудский целитель
Джон Леннон продолжал кубарем катиться вниз, когда однажды утром спасение само пришло к нему вместе с утренней почтой. Открыв объемистый конверт, обклеенный американскими марками, он вытащил книгу со странным названием «The Primal Scream» («Первобытный крик» (англ.).). «Уже само название заставило мое сердце трепетать, – признавался Джон. – Затем я прочитал свидетельства разных людей, что-то вроде: „Я, Чарли такой-то, занялся этим делом, и вот что со мной приключилось“. И я подумал: „Это я! Это я! Это лучше, чем таблетка ЛСД, да и чувствуешь себя после этого совсем иначе!“ Я сказал себе: „Надо попробовать!“ Но в прошлом я наделал столько глупостей с наркотиками и махариши, поэтому сначала я дал ее почитать Йоко. И она со мной согласилась. Тогда мы взялись за телефон». Всегда готовый купить то, что ему предлагали, Леннон и теперь принял решение, почти не задумываясь. На этот раз ключевым словом для него оказалось слово «крик».
Это слово подействовало, как спусковой крючок, мгновенно высвободив всю силу ассоциативного мышления. Прежде всего он подумал о Йоко, чьим фирменным знаком всегда был крик. Затем ему на память пришли те вопли, которые он исторг из своей глотки за все годы, начиная с «Twist and Shout» – и до последней пластинки «Cold Turkey». Под крики поклонников «Битлз» поднялись на самый пик славы. Так какого черта! Джону даже не надо было читать книгу, чтобы понять, что она предлагает: достаточно было прочесть название. «Я никогда не думал, что когда-нибудь займусь психотерапией, – объяснял он, – если бы не встретил этого обещания освобождающего крика».
Артур Янов, которому собрался довериться Джон, был не психиатром, а сорокашестилетним психологом, который проработал в Лос-Анджелесе целых двадцать лет, прежде чем нашел нужное решение. Он наблюдал за одним молодым пациентом мужского пола, постепенно впадавшим в детство, который катался по полу, крича и всхлипывая, словно маленький ребенок: «Мама! Папа!» Больше всего Янова поразил дикий вопль, который вырвался у пациента в начале приступа, и поведение заново родившегося человека – в конце, когда он заявил: «Я могу чувствовать».
Исходя из этого опыта, Янов основал теорию и разработал практику, которая, по его убеждению, была призвана совершить переворот в деле лечения различных заболеваний. Он утверждал, что первобытным криком можно лечить не только неврозы, но и «гомосексуализм, наркотическую зависимость, алкоголизм, психозы, а также нарушения эндокринной системы, головную боль, язву желудка и астму». Вероятно, тот день, когда Янов услышал в телефонной трубке голос Леннона, который обращался к нему за помощью, был одним из счастливейших в его жизни, поскольку он нуждался в любого рода поддержке, чтобы преодолеть скептицизм своих коллег. С этой целью он уже начал рассылать копии своих публикаций известным личностям, поп-звездам, таким, как Джон Леннон и Мик Джатгер. Янову не понадобилось много времени, чтобы вылететь в Лондон в сопровождении своей очаровательной жены и помощницы Вивиан.
Приезд Янова в Титтенхерст произвел настоящую сенсацию. Вместо очкастого и лысого старика, вроде тех, что практиковали на Харли-стрит, на пороге стоял сорокалетний мужчина, который не только одевался как кинозвезда, но также обладал соответствующей внешностью и обаянием. Самым замечательным было выражение лица, с которым он объявил: «Я, Зигмунд Вильгельм Янов, прилетел за шесть тысяч миль, чтобы вылечить самую великую поп-звезду в мире. Лафайетт, вот и мы!»
Последние сутки Джон и Йоко находились в предвкушении того, чем по прибытии собирался заняться доктор. Они постарались как можно точнее выполнить его инструкции. Во-первых, они не виделись в течение двадцати четырех часов, что явилось для обоих суровым испытанием, равным, вероятно, разделению сиамских близнецов. Во-вторых, они не смотрели телевизор и не говорили по телефону. В-третьих, не курили сигарет (за исключением одной пачки в день для Леннона) и не принимали наркотиков (кроме предписанной дозы метадона). Они были готовы встретиться со своим спасителем. Но Янов с самого начала совершил серьезную ошибку: вместо того чтобы в первую очередь заняться Иоко, он сразу устремился к звезде.
Через два часа Янов поставил диагноз: «Джон просто-напросто вообще не функционировал. Он нуждался в помощи». То же самое касалось и Йоко. Однако в его понятии «помощь» не ограничивалась сладкими речами и поглаживанием рук, вовсе нет! «Я считаю, что единственный способ избавиться от невроза заключается в том, чтобы атаковать его с силой и жестокостью», – заявил доктор. Словно истинный Роммель диванной войны, Янов брал быка за рога с самой первой встречи с противником и, в отличие от остальных терапевтов, растягивавших процесс лечения на годы, старался завершить полный разгром врага в рекордные сроки: интенсивный курс продолжался у него три недели, а долгосрочный – шесть месяцев. В самом крайнем случае лечение могло быть продлено до года.
Для того чтобы добиться столь быстрых результатов, доктору приходилось действовать радикальными методами. Пациента было необходимо вырвать из привычной среды обитания и подвергнуть чувственным, эмоциональным и познавательным лишениям. Янов настоял на том, чтобы Джон и Йоко были разделены, поэтому они сняли номера в соседних гостиницах. Поощряемые к тому, чтобы дать волю собственным желаниям, оба они неожиданно воспылали необычайной страстью к мороженому. Дэн Рихтер вспоминал, что заказывал его ящиками, причем самых разных сортов, но особенно – шоколадное для Джона и ванильное с орехами для Йоко.
Вскоре Янов начал вмешиваться в семейные дела Леннонов. Когда Джон рассказал ему о своем двойственном отношении к Джулиану, которого не видел с прошлого июля, Янов стал настаивать на том, чтобы преступный отец поехал проведать сына. Здесь доктор совершил свою вторую ошибку: визиту резко воспротивилась Иоко. «Будет несправедливо, если ты поедешь повидаться с Джулианом, в то время как я не могу увидеться с Киоко», – заявила она Джону. Вероятно, Йоко опасалась, что в свете проблем, возникших в их семейной жизни, Джону могла прийти в голову мысль вернуться к Синтии. Кто лучше нее знал, насколько внушаем Джон Леннон? Тем не менее опасаться здесь было абсолютно нечего, поскольку теперь, разведясь с Синтией, Джон не мог поверить, что прожил с ней столько лет. Кроме того, Синтия должна была вот-вот выйти замуж за Роберто Бассанини, который недавно открыл в Лондоне свой ресторан.
Джулиан, вероятно, здорово перепугался, когда увидел отца на ступенях нового дома Синтии в Кенсингтоне. Когда Джон, поиграв с сыном, спустился вниз, подошло время чаепития. В этот момент раздался телефонный звонок. Это была Вэл Уайлд, домработница из Титтенхерста: Иоко грозилась покончить с собой, потому что Джона слишком долго не было. Джон бросил телефонную трубку и выскочил на улицу. «Быстрее, поехали! – закричал он Лесу Энтони. – Эта идиотка собралась покончить с собой!»
Доехав до Титтенхерста, Джон и Лес бросились вверх по лестнице в спальню. «Она лежала в постели с таким видом, словно уже была на пороге смерти, – вспоминает Энтони. – Лично я считаю, что она придуривалась, но это был хорошо разыгранный спектакль, после которого Джон больше к Синтии не ездил».
Инцидент не смутил доктора Янова, который продолжил ежедневные сеансы, прервав их только в середине апреля, когда смог, наконец, убедить Джона и Иоко поехать с ним в Лос-Анджелес.
Помимо крика, важное место в методике лечения отводилось плачу. Арт и Вивиан Янов и сами постоянно плакали. Например, во время какого-нибудь важного интервью с корреспондентом крупного журнала Вивиан могла коснуться близкого ее сердцу сюжета, и слезы начинали течь у нее из глаз ручьем. Эти слезы символизировали основную идею Янова: «В самой глубине души вы остаетесь маленьким грустным ребенком. Так почему бы вам не признать это и не открыть свою душу?»
Плач был так же присущ Леннону, как и крик. И если бы Джон решил перевернуть весь белый свет в поисках хорошего психотерапевта, то не смог бы найти для себя более подходящего человека, чем Арт Янов. Этот лекарь был еще и музыкантом – он играл на трубе и боготворил Майлса Дэвиса. Кроме того, Янов занимался политикой и даже баллотировался в местные органы власти в Палм-Спрингз. Он настаивал на том, чтобы Ленноны продолжали заниматься политической деятельностью, и они прислушивались к его советам.
Курс первобытной терапии заключался в следующем. Сначала Янов готовил пациента в ходе индивидуальных сеансов, где использовал традиционную фрейдовскую технику «чистого экрана», только вместо беспорядочного потока мыслей и чувств он ориентировал пациента на разыгрывание тех сцен из детства, которые казались ему наиболее значительными.
Однако наибольшего эффекта Янову удавалось достичь во время групповых занятий. Три раза в неделю в одном из просторных офисов, расположенных в доме 900 по Сансет-драйв, собиралось до тридцати пациентов. Утреннее занятие в субботу проводил сам Янов, и оно считалось кульминационным.
Его пациенты – молодые мужчины и женщины, представители среднего класса – приходили в одежде, удобной для физических занятий, точно собирались в каком-нибудь гимнастическом зале в Беверли-Хиллз. Они принимали разные позы, стоя, сидя или лежа на покрытом ковром полу. Янов, одетый в рубашку и брюки, спрашивал: «Итак, есть желающие?» И кто-нибудь начинал рассказывать беспокоившую его историю из собственного детства. А все остальные принимались плакать и кричать. В одном конце зала двое крепких ребят, бьющихся в истерике, молотили кулаками по каменной стене, в другом – женщина зрелого возраста, одетая в гимнастическое трико, сворачивалась в позе эмбриона и принималась сосать палец. Мужчина в годах и с брюшком внезапно принимался кричать столь пронзительно, что все его полное тело вибрировало в такт. Под звуки все более усиливавшихся криков «Мама! Папа!» Янов переходил от одного пациента к другому, словно врач из отделения «Скорой помощи».
Кому-то он помогал глубже погрузиться в собственную истерию, другому делал знак, означавший, что тот уже достиг предела. Ассистенты ходили по залу, вытирая у пациентов слезы или делая замечания, которые вызывали новую вспышку эмоций. Крики, плач и неистовство продолжались по два часа без перерыва, так что помещение напоминало детский сад, наполненный детьми-переростками, впавшими в истерику.
Бобби Дерет, сын крупного магната по недвижимости с Таймс-сквер, проходил курс лечения летом 1970 года. Он вспоминает, с каким удивлением, впервые переступив порог этого «серпентария», узнал среди странных его обитателей Джона Леннона и Иоко Оно. Джон, скрючившись на полу, резко раскачивался взад и вперед, испуская крики и стоны и громко взывая к матери и отцу. Иоко лежала вытянувшись и дрожала.
В субботу занятие завершалось сеансом традиционной групповой терапии, во время которого такие пациенты, как Дерет, получали возможность открыто расспросить Джона и Йоко об их эмоциональных проблемах. По словам Дерста, Джона мучили две основные темы: мать и религия. Джон был убежден, что мать любила его, а отец явился причиной их разлуки. В частности, он рассказывал один случай, когда Фредди, который всегда относился к религии как к «опиуму для народа», не пустил его с Джулией в церковь. Перечислив все свои обиды против отца, Джон неизменно спрашивал сам себя: «И что же я теперь делаю? Я даю ему деньги!»
Когда около полудня сеанс заканчивался, все пациенты отправлялись в ближайшую забегаловку подкрепиться гамбургерами, которые были любимой пищей Леннона в Америке. И хотя Леннон неизменно поражал окружающих своей скромностью и простотой, в арендованный им дом на Бель-Эр они с Йоко возвращались на собственном лимузине. «Мы посещали сеанс, чтобы хорошенько наораться, а затем возвращались домой и плавали в бассейне, – вспоминал Джон, рассказывая о монотонности четырехмесячного пребывания в Америке. – Мы чувствовали себя так, словно выкурили приличный косяк или приняли хорошую дозу ЛСД, когда расслаблялись в воде, и все было чудесно. А потом снова начинался дефанс – словно заканчивался кайф от косяка или „кислоты“, и требовалась новая доза».
Когда-то в Индии Мэджик Алекс помог Леннону прозреть и убежать из того места, где он был так счастлив и где ему отлично работалось. В Лос-Анджелесе таким человеком стала Йоко. «Янов стал для Джона папой, – рассказывала она много позже. – У меня тоже раньше был папа... но я убедилась в его лицемерии. Поэтому я всегда цинично отношусь ко всему, что преподносится как нечто великое и чудесное, – будь то гуру или первобытный крик». Йоко заявляла, что спасла Джона от незавидной участи, так как Янов хотел использовать его, засняв на видео сеансы с их участием. На самом деле в помещениях Первобытного института еще до появления там Леннонов были установлены видеокамеры, а пациенты, которые не желали быть заснятыми, могли выбрать себе место вне поля обзора камер, что с самого начала делали Джон и Йоко. Так что причина внезапного бурного разрыва Леннонов с Яновым была не в камерах. Истина оказалась намного проще. «Я могу вам сказать, – откровенно признавался Аллен Кляйн, – что Янов советовал Джону оставить Йоко».
«Янов был крепким орешком, – рассказывал Леннон. – Но до Йоко ему было далеко. Она внимательно наблюдала за всеми его действиями и скоро научилась делать то же самое лучше него». Она и сама хвасталась этим: «Я проводила с ним первобытную терапию. Я наблюдала, как он возвращался к детским воспоминаниям. Я была в курсе его самых сокровенных страхов». Кроме того, Йоко повезло. В самом разгаре ее борьбы против Янова она обрела неожиданного союзника в лице иммиграционной службы США, которая отказалась продлить Леннонам визу. В сентябре, за месяц до тридцатилетия Джона, они вернулись в Англию.
Несмотря на то, что Джон Леннон находился на излечении только четыре месяца, он вышел из серьезнейшей нервной депрессии, узнал о себе много такого, чего не забыл уже до самой смерти, и накопил материал для одного из наиболее удачных своих альбомов, так как, по обыкновению, все эмоции и откровения, пришедшие к нему во время терапии, выразил в новых песнях. Даже расставшись с Яновым, он продолжал в течение многих месяцев ежедневно заниматься первобытным криком, говоря: «Это (первобытная терапия. -А. Г.) было самым важным в моей жизни после рождения и встречи с Йоко». Чего бы ни стоили методы доктора Янова, Джон совершил ошибку, резко прервав курс лечения, ставший, как оказалось, его последним шансом решить умственные и эмоциональные проблемы, которым было суждено разрушить его жизнь. Кроме того, Янов предупредил Леннона об опасности резкого отказа от терапии, прежде чем найдена крышка, позволяющая захлопнуть «ящик Пандоры», который распахнулся в ходе лечения. Эта опасность стала очевидной уже в тот момент, когда Джон вновь встретился лицом к лицу со своим отцом.
Глава 42 Гнев Леннона
«Открыть только в случае моего исчезновения или неестественной смерти». Такая надпись была начертана на конверте, переданном Фредди Ленноном адвокату после кошмарной встречи с сыном по случаю его тридцатилетия. В течение долгих месяцев по прошествии этого события Фредди и Полин опасались за собственную жизнь, так как Джон пригрозил, что застрелит Фредди, а тело утопит в море. «Его поведение нагоняло на меня ужас, – написал Фредди в письме. – Он подробно описал, как меня доставят на берег моря и утопят на глубине „двадцати, пятидесяти, а хочешь – ста ярдов“. И все это говорилось так, словно он уже готов приступить к осуществлению своего ужасного замысла». Будучи не в состоянии противостоять безумному гневу сына, Фредди сделал единственное, что было в его силах. Он подробно записал весь разговор и передал этот документ адвокату на случай, если Джон действительно решится осуществить свои отцеубийственные планы.
Поведение Джона можно было бы справедливо назвать «злодейским». Сначала он позвонил отцу, с которым не общался больше года, и ласковым голосом пригласил его в Титтерхерст на семейное торжество по случаю своего тридцатилетия. А когда Фредди прибыл с женой и восемнадцатимесячным сыном, их встретила симпатичная секретарша Джона Дайана Робертсон. Она попросила их подождать у подъезда, а сама якобы отправилась за дальнейшими указаниями. Фредди, который никогда еще здесь не бывал, огляделся по сторонам и почувствовал себя не в своей тарелке. Может быть, на него произвело впечатление зрелище разбитого автомобиля на бетонном пьедестале, а может быть, дело было в том, что старый дом напоминал, скорее, замок с привидениями. Но как бы то ни было, у него возникло впечатление, что дом этот похож на пышную усыпальницу.
Вернувшись, секретарша проводила Фредди и Полин с ребенком на кухню, где им снова пришлось ждать. Они присели за большой стол, а малыш принялся ползать вокруг. Фредди опять охватило то же неприятное ощущение, и он даже заметил, обращаясь к Полин: «Здесь пахнет злом!» В этот момент Джон и Иоко, точно две летучие мыши, неожиданно спустились на кухню по уходившей в потолок винтовой лестнице.
Джон выглядел мрачным, зрачки его покрасневших глаз были расширены. Он опустился на стул, зло уставился на отца и сразу зарычал: «Волнуешься? Давай, давай, тебе как раз пора начинать волноваться! Забирай свои хреновы страховые свидетельства – и убирайся к черту из моей жизни!» Последние слова вырвались из глотки Джона, словно сдерживаемый вопль. Затем, опустошенный, он рухнул на стул и затрясся всем телом.
В то время как Фредди безмолвно смотрел на сына, пораженный его внешним видом не меньше, чем речами: Джон нацепил на лицо огненно-рыжую бороду и выглядел совершенно безумным – Полин разрыдалась и, всхлипывая, попыталась объяснить Джону, насколько несправедлив его гнев против отца. Но это лишь усилило ярость Леннона. «Не лезь не в свое дело, глупая корова!» – процедил он, презрительно поджав губы, и оглушительно хлопнул по столу кулаком, в то время как Иоко с каменным лицом наблюдала за сценой, не произнося ни слова.
Наконец Фредди обрел дар речи и постарался успокоить сына, признав, что, конечно, и он виноват в том, что пришлось перенести Джону в детстве. Но вместо того чтобы успокоить его, это признание лишь раздуло пламя гнева. Теперь Джон пустился в бессвязный рассказ о своем недавнем лечении в Америке, где он, по его словам, истратил целое состояние, чтобы заново пережить кошмары своего детства. Время от времени он прерывал повествование и испускал ужасающий крик, – и тогда его лицо искажалось от переизбытка чувств, которые он пытался выразить. Вскоре стало ясно, что, кроме ярости, Джон находился во власти безумного страха. Он сравнивал себя с Джимми Хендриксом, Джимом Моррисоном и Джэнис Джоплин, которые совсем недавно умерли не своей смертью. Джон настаивал на том, что и его ожидала преждевременная могила, и, наконец, не выдержав, взорвался: «Я сумасшедший! Мое место в дурдоме!»
«Я не мог прийти в себя, – написал Фредди. – Я был не в силах поверить, что передо мной находился все тот же добрый, внимательный, счастливый Битл Джон, который с такой злобой разговаривал с собственным отцом – но худшее было еще впереди. Когда я напомнил ему, что никогда не просил финансовой помощи и всегда был готов обойтись без нее, он разбушевался пуще прежнего и обвинил меня в том, что я использовал прессу, чтобы заставить его помогать мне. Он пригрозил, что, если я снова обращусь к газетам, в особенности если вздумаю рассказать о нынешнем разговоре, он меня „застрелит“. Между тем у меня не возникало и тени сомнения в том, что Джон говорил на полном серьезе».
Фредди и Полин в ужасе покинули Титтенхерст. На следующей неделе они получили извещение из «Эппл» с требованием освободить виллу в Брайтоне, которую Леннон оформил на их имя по налоговым соображениям и которую теперь хотел вернуть. Фредди испытал огромное облегчение, так как это позволяло ему разрубить последний узел, связывавший его с сумасшедшим сыном. В следующий раз он услышит о Джоне, когда будет лежать на своем смертном одре.
Сцена безумия, которую разыграл Леннон в присутствии отца, явилась кульминационным моментом всего курса терапии, который Джон прошел в Лос-Анджелесе. Вырвавшийся наружу гнев, зревший в глубинах его существа с самого детства, обрушился теперь на самых близких людей, причем без малейшего повода с их стороны.
Музой Леннона всегда была муза огня, ревущий дьявол, обитавший в колодце с расплавленной лавой, запрятанном на самом дне его души. Его освобождение сопровождалось шумом и яростью, извержением первобытных образов и идей, которые близко соответствовали тому, что психиатры называют материей «изначального процесса» – смеси кошмаров, психосоматических явлений и отвратительных «кислотных» путешествий. Когда после долгого ожидания демоническая сторона его натуры прорвалась в крике первобытной терапии, одновременно с этим раздался и голос вдохновения.
Альбом, который получил название «Primal Scream Album», стал величайшим творением Леннона за всю его карьеру, так как именно в нем Джон погрузился в самые глубины своей души и вытащил на поверхность свое скрытое доселе эго. Будучи одновременно шокирующе инфантильными и жестокими, песни этого альбома напоминали серию автопортретов в голубых тонах, посвященных отрезанному уху Винсента Ван Гога.
Леннон всегда считал, что причиной всех его страданий была полученная в детстве травма, и эта идея воплотилась в композиционном построении альбома. Диск начинается с песни «Mother», в которой поется о том, как родители бросили маленького Джона, и заканчивается песней «My Mammy's Dead»163 об окончательном уходе Джулии из жизни Джона. Весь альбом прекрасно скомпонован в соответствии с законами симметрии, так что каждая песня на стороне "Б" является словно отголоском песни со стороны "А": «Remember»164 дает ответ на песню «Mother», «Love» – на «Hold On»165 и так далее. Речь идет не о блестяще выстроенных музыкальных номерах, как на «Сержанте», напротив, форма «Primal Scream Album» – следствие эмоциональных полюсов, которые составляют основу и мощь пластинки. Леннон колеблется между страхом и яростью – главными своими страстями, – которые находят выход в первобытном крике, вызванном ужасом, но застрявшем в горле в приступе детского гнева.
Кроме того, в альбоме просматривается еще одна оппозиция – между прошлым и настоящим. Первобытная терапия не ограничилась тем, что подтолкнула Леннона к анализу своего наполненного болью детства, она обратила внимание музыканта на его несчастливую нынешнюю жизнь и на плачевное состояние окружающего мира. Поэтому Джон, не ограничившись нападками на родителей и близких, обрушился также и на своих поклонников, преследовавших его и Иоко, а также на весь британский истеблишмент, совсем недавно подвергший обоих Леннонов жестокому остракизму.
Использованные при записи альбома художественные средства были не менее замечательны, чем сюжеты, передаваемые этими средствами. Стараясь сохранить максимально чистым собственный музыкальный язык, Леннон до предела обнажил поэтический ряд и оставил минимальное число музыкальных инструментов (свое пианино и гитару плюс бас-гитару Фурмана и ударные Ринго), использовав самые примитивные музыкальные блоки, такие, как жужжание, рифф или крик. В целом весь альбом записан в двух контрастирующих ключах. Песни, в которых звучат страх и отчаяние, исполнены в стиле церковного госпела, а ярость передана через примитивный отчаянный рок.
Несмотря на то, что большая часть песен звучит, как голос человека, разговаривающего с самим собой, на каждой из двух сторон есть момент, когда Леннон обращается к слушателям как актер, разыгрывающий сцену из спектакля. Декорацией для «Working Class Него»166 могла бы послужить какая-нибудь ливерпульская пивнушка, где у стойки поздно вечером засиделся человек, который говорит сам с собой, чувствуя, что в любую минуту может взорваться. Исполнение этой песни может считаться одним из высочайших достижений Леннона-певца: вместо того чтобы поддаться соблазну и перейти на крик, он, напротив, сдерживает эмоции и достигает гораздо большего эффекта, понижая голос и позволяя себе лишь секундную вспышку гнева в конце каждого куплета.
Джон Леннон, самый знаменитый герой рабочего класса в Великобритании, видит нынешнего рабочего таким же рабом, какими были его прадеды, только сегодня, для того чтобы держать этого рабочего в узде, используют не религию – «опиум для народа», а такие наркотики, как секс и телевидение. Социальная острота песни заключается не в ее политической направленности, а, скорее, в решимости певца пробиться через политические заслоны и вступить в борьбу за изменение условий человеческого существования.
Если «Working Class Него» можно назвать кабацкой балладой субботнего вечера, то «God» – это, безусловно, утренняя воскресная проповедь пастора Леннона, гораздо более удивительная, чем послание ливерпульского парня Джонни. Вместо того чтобы призывать паству хранить в своих сердцах Ьеру, которая помогла им прожить всем вместе счастливейшие годы, он предлагает своим последователям присутствовать при акте ритуального отречения ото всех символов веры прошедшей эпохи: от Иисуса и Будды, Элвиса и Дилана (которого он называет «Циммерман»), от Библии и Йи Кинг, от волшебства и мантры, от Кеннеди и Гиты («Чудо-человека», к которому в конце 1969 года ездили в Индию Джон и Йоко). И все эти фигуры, словно ступени алтаря, ведут к усыпальнице идолов целого поколения – «Битлз». Нет нужды говорить, что Леннон верит в «Битлз» не больше, чем во все остальные святыни хиппи. Сделав многозначительную паузу и изменив свой рокочущий голос на тоненький дискант обиженного ребенка, он сообщает, что отныне верит только в себя, и, словно после раздумья, добавляет имя своей жены.
Шестидесятые годы символизировали умершую мечту, но вслед за смертью наступает возрождение. Звезда погасла, а возрожденный Джон Леннон вынужден признать, что больше не в силах вести за собой свой народ, так как не знает, куда идет он сам и куда идут все остальные.
Яростное, нигилистское отчаяние альбома «Primal Scream» напомнило о себе в очередной раз в интервью, которое дал Джон Леннон журналу «Роллинг Стоун» (вновь опубликованному позднее под заголовком «Леннон вспоминает»). Эти удивительные откровения, напечатанные в двух номерах журнала (от 21 января и 4 февраля 1971 года) в то время, когда Джон и Йоко находились по трехнедельной визе в Соединенных Штатах, произвели на поклонников «Битлз» эффект разорвавшейся бомбы, поскольку в устах бывшего лидера эти невинные и обожаемые идолы целого поколения неожиданно предстали как «Бистлз»167, «самые большие негодяи на свете».
Джон, преисполненный решимости окончательно развеять миф о «Битлз», рассказал здесь о разврате, наркотиках, об оргиях, которые устраивала «великолепная четверка» во время гастрольных поездок. Он объяснил, что биография «Битлз», опубликованная Хантером Дэвисом в сентябре 1968 года, – полная ерунда, поскольку по настоянию тети Мими из нее очень многое было вымарано. Главным негодяем в пьесе оказался, конечно же, Пол. Он описан как выскочка от шоу-бизнеса, который специально подгадал со своим заявлением об уходе из «Битлз», чтобы «продать альбом». Что касается битловских фанатов, то Джон назвал их «уродливой расой», а пришедших им на смену хиппи – «закомплексованными маньяками, которые расхаживают взад и вперед, выставив напоказ свои хреновы символы мира». Итог своей работе в «Битлз» он подвел одной короткой фразой: «Я негодую по поводу того, что играл для полных кретинов».
Самым шокирующим в этом признании было даже не то, как Леннон обрушился на «Битлз», а то, что выразил свое глубокое презрение к периоду шестидесятых. Признавая, что прошедшая эра была великой эпохой расцвета воображения, он подчеркнул, что она не оказала абсолютно никакого влияния на реальную жизнь. Он считал, что «не случилось ничего особенного, за исключением того, что мы все вырядились в маскарадные костюмы... У власти стоят все те же негодяи... И они продолжают делать абсолютно то же самое, продают оружие в Южную Африку, избивают негров на улицах, тогда как люди продолжают жить в ужасающей бедности, а их жилища кишат крысами... все то же, только мне уже тридцать, и многие сегодня отрастили себе длинные волосы».
Было очевидно, что в борьбе против Пола Маккартни Джон не мог удовлетвориться лишь словами. Пол предоставил прекрасную возможность для мести в начале 1971-го, когда обратился в Высший суд с иском против остальных членов «Битлз». Причиной тому послужило убеждение Пола, что Аллен Кляйн обворовывал их почем зря, хотя, во-первых, Пол самолично подписывал контракты, подготовленные Кляйном, за исключением контракта по менеджменту; во-вторых, Пол получал прямую выгоду от увеличения финансовых поступлений, явившихся плодом усилий Кляйна; и в-третьих, объем дополнительной прибыли был необычайно велик, так что в течение года Аллен Кляйн умудрился заработать для «Битлз» больше денег, чем они получили за всю свою предыдущую карьеру. Несмотря на это. Пол был полон решимости выгнать Кляйна и заменить его Истманами, поэтому избрал единственную доступную ему тактику: затеяв судебную тяжбу, перекрыть Кляйну доступ к доходам «Битлз», по крайней мере в Англии. Помимо конкретных обвинений Пола в адрес «Битлз», вроде того, что они уже давно перестали работать вместе как группа или что продолжающееся партнерство ставило под угрозу его, Пола, артистическую свободу, адвокат Маккартни вылил на Кляйна целое ведро помоев, намекая на нечистоплотные делишки Аллена и его далеко не безупречную репутацию. 12 марта 1971 года суд постановил, что вплоть до разрешения разногласий деньги, поступающие на счета компании «Эппл» в Британии, будут переводиться в ведение специально назначенного судом управляющего, а каждый из «Битлз» будет в течение этого срока получать лишь месячное пособие. В результате этого решения на блокированных счетах группы накопилось более пяти миллионов фунтов, тогда как «Битлз» получали лишь по 5 тысяч фунтов в месяц.
Когда в то утро Джон, Джордж и Ринго покинули здание суда, они пребывали в глубоко подавленном состоянии. Они чувствовали полное бессилие перед тем, что с ними произошло. Кляйн сделал попытку купить Пола, предложив ему наличными сумму, соответствовавшую 25 процентам стоимости «Эппл», но переговоры зашли в тупик, когда встал вопрос о том, кто будет платить огромные налоги, связанные с осуществлением такой операции. Когда Джон с приятелями уже забрались в его новый белый «мерседес-пульман», Леннона внезапно осенило. «Послушай, – повернулся он к Лесу Энтони, – ты не выбросил из багажника кирпичи, которые мы подобрали для сада?» Получив отрицательный ответ, он распорядился подвезти всю компанию к дому 7 по Кэвендиш-авеню, где жил Пол. Когда машина остановилась, Джон перелез через стену, окружавшую сад, и открыл изнутри ворота. Затем он вернулся к автомобилю и взял в каждую руку по кирпичу. Когда Джордж и Ринго вылезли из автомобиля, чтобы посмотреть, что будет дальше, Джон торжественно приблизился к дому и один за другим запустил оба кирпича в застекленные двери террасы Пола, которые разлетелись на мелкие осколки, после чего вся троица вскочила в «мерседес» и с хохотом умчалась прочь.
Следующая авантюра, в которую ввязался Джон, была уже совсем не смешной. По правде говоря, он чуть было не угодил в тюрьму. Причем, казалось бы, именно Джон меньше всего был способен на участие в заговоре с целью похищения ребенка у родителя, который этого ребенка воспитывал, поскольку сам в детстве от этого пострадал и всю жизнь не мог оправиться от полученной травмы. Тем не менее когда Иоко решила похитить Киоко, ибо по-другому ей не удавалось заполучить свою дочь, Джон не только одобрил план операции, но и принял в ней непосредственное участие. Позднее Йоко заявила, что поступила так по совету своего адвоката, который якобы сказал, что, имея Киоко, ей легче будет убедить суд в том, что ребенок должен жить именно с матерью.
К марту 1971 года Леннонам удалось выяснить местонахождение Тони благодаря информации, предоставленной Доном Хэмриком, который жил теперь в Дордони. Хэмрик сообщил, что Тони проехал через всю Испанию и в настоящее время находился вместе с махариши Махеш Йоги на Майорке.
Джон, Иоко и Рихтер полетели в Пальма-де-Майорка. Переговорив с британским консулом и местным адвокатом, которые, по всей видимости, ничего не поняли, они отправились на поиски Тони. Очень скоро они выяснили, что Тони обосновался вместе с махариши и его учениками в недостроенном мотеле на другой стороне острова Манакора. Йоко позвонила Тони, и он согласился ее принять – при условии, что она приедет одна.
На следующее утро Джон и Дэн доставили Йоко к махариши и сделали вид, что удаляются, а сами спрятали автомобиль с другой стороны мотеля и незаметно проскользнули внутрь. Они укрылись в номере, отведенном Йоко, где провели целый день. Иоко сообщила им, что Киоко находится в расположенном неподалеку лагере для детей.
В пятницу, 23 апреля, в три часа они застали Киоко играющей под присмотром воспитательницы-испанки. Похитители сделали попытку увезти девочку, но воспитательница тут же стала звать на помощь. «Я сообразил, что нас сейчас арестуют», – признался позднее Рихтер.
Теперь им ничего не оставалось, как только постараться побыстрее добраться до Пальмы и убраться из страны. Джон и Йоко так перепугались, что улеглись вместе с Киоко на пол автомобиля. Когда девочка поняла, что ее хотят отобрать у отца, она запаниковала. Рихтер, понимая, чем все это может обернуться, позвонил британскому вице-консулу, который согласился встретиться с Леннонами у них в гостинице.
Пытаясь обеспечить себе алиби, Джон и Иоко послали за доктором, заявив, что у Киоко болит горло. Тем временем Дэн отправился на улицу купить для девочки пару туфель. Когда он вернулся, холл отеля кишел полицейскими. Тони обратился в народную гвардию, заявив, что его дочь стала жертвой похищения со стороны мафии. Джона и Йоко забрали в участок для дачи показаний. Покуда Дэн сидел в приемной начальника полиции, он неожиданно увидел Тони. «На этот раз я держу его за яйца! – воскликнул Кокс. – Это дорого будет ему стоить!»
К вечеру известие об аресте просочилось в прессу, и английские журналисты бросились в Пальма-де-Майорка. А Лес Перрин, пресс-атташе «Эппл», позвонил Аллену Кляйну в Нью-Йорк и сообщил, что Ленноны в тюрьме. Кляйн вызвал Питера Ховарда, одного из адвокатов «Эппл», который говорил по-испански, и велел ему срочно отправляться в Пальма в сопровождении группы представителей «Эппл» и «И-Эм-Ай».
В II часов вечера, после четырех часов, проведенных в полицейском участке, Ленноны предстали перед судьей. В ходе допроса Джон опрометчиво признался в попытке похищения Киоко. Это признание было запротоколировано для дальнейшего использования в суде, а Джон и Иоко были помещены под арест и лишены паспортов.
Следом за этим перед судьей встал вопрос, кому доверить ребенка. Он отвел Киоко в отдельную комнату и спросил семилетнюю девочку, чего она хочет. «Я хочу видеть папу», – без колебаний ответила Киоко. В три часа утра судья объявил предварительное слушание по делу закрытым.
Дело было передано для рассмотрения в судебные органы Манакора. До начала процесса обвиняемым было предписано являться в суд первого и пятнадцатого числа каждого месяца. Первыми из зала суда вышли улыбающиеся Мелинде и Тони с Киоко на плечах. Друзья встретили их аплодисментами. Затем появились мрачные Джон и Йоко, которые тут же сели в машину и уехали в отель.
Несколько дней спустя в Пальма прибыл Аллен Кляйн, полный решимости уладить ситуацию. В течение двенадцати дней Кляйн трудился не покладая рук. Он попытался договориться с Тони, но переговоры зашли в тупик, к тому же Тони и Мелинде втихаря уехали из Майорки, прихватив с собой Киоко. Таким образом, Джону и Йоко оставалось лишь ждать суда. Но с судейскими Кляйну повезло. Он умудрился подкупить одного из служащих, который изменил письменные показания Джона Леннона. И это решило все дело.
Когда Джон и Йоко вернулись в Титтенхерст, они погрузились в сказочную утопию «Imagine»168. Этот альбом был с восторгом принят критиками и принес Джону Леннону наибольший коммерческий успех за весь постбитловский период творчества, что свидетельствовало о не слишком притязательных вкусах публики и музыкальных критиков. Сам Леннон заметил, что альбом был «покрыт шоколадом, чтобы его легче было проглотить». Знаменитая заглавная композиция – мечта любого хиппи о лучшем мире – была несказанно далека от полных отчаяния грез альбома «Primal Scream». Единственная вещь, «How Do You Sleep?»169, которая во всем, за исключением, может быть, только богатой мелодии, превосходила «Imagine», действительно была достойной Леннона в его лучшие времена.
Композиция «Imagine» сильно проигрывала от монотонного фортепианного аккомпанемента, похожего на упражнения студента в музыкальном классе, а голосу Леннона явно не хватало силы, и его пение здорово смахивало на квакерские речитативы. Ответ на легкую критику со стороны Маккартни в адрес Джона в песне «Too Many People»170 содержал в своей основе мощный рифф, по стилю напоминавший «Томми», и вызывал ровно нарастающее напряжение, которое достигало своего пика в тот момент, когда Фил Спектор взмахивал дирижерской палочкой. Поддерживаемый ровным размеренным буханьем, точно вырвавшись из тисков гнева, Леннон запевал совершенно беспечным тоном, какой может быть у какого-нибудь парня, сидящего в баре со стаканом и подначивающего разошедшихся драчунов. К сожалению, это великолепное крещендо не достигло кульминации, поскольку уже в который раз Джон позволил убедить себя записать эту песню не так, как было им изначально задумано.
В данном случае, после серии издевательских стишков, адресованных Полу, Джон предполагал нанести ему сокрушительный нокаутирующий удар в самое чувствительное место. Признав в первой строчке куплета, что самым выдающимся достижением Пола была песня «Yesterday», Джон планировал сразу же вслед за этим закричать: «You probably pinched that bitch anyway!»171 Аллен Кляйн, стоявший за пультом рядом с Филом Спектором, пришел в ужас, предвидя возможные последствия, и попросил Джона не доводить до греха и заменить эту строчку на другую – которую сам же Кляйн, не сходя с места, и придумал и которая свела на нет всю остроту песни.
Леннон так и не сумел избавиться от наваждения «Yesterday». Эта песня неизменно доставляла ему неприятности, так как была признана величайшим хитом «Битлз», а сам Леннон отчаялся когда-либо написать песню, которая могла бы сравниться с ней по популярности. Его тоска усугублялась еще и тем, что все вокруг считали, что именно он написал эту песню, ведь под ней было написано «Джон Леннон и Пол Маккартни».
Вслед за альбомом «Imagine» вышел фильм с таким же названием, который стал первым полнометражным рок-видеофильмом. Поскольку большинство песен Леннона рассказывают о его собственной жизни, было принято логичное решение проиллюстрировать их сценами из жизни Джона; Джон и Йоко взяли за основу фильм, который снимала о них одна британская телекомпания, и переделали его по образу сюрреалистических видео, снятых на песни «Penny Lane» и «Strawberry Fields», разбавив шутовским юмором, позаимствованным из «Magical Mystery Tour». Однако очень скоро выяснилось, что Джону и Иоко не удалось из частей видеофильма создать произведение искусства. Если допустить, что вся их жизнь заключалась в искусстве, как было передать ее стиль? Ошарашенный переходом от кадров кинохроники к рекламе дорогих духов, зритель никак не может сориентироваться. За что они боролись? – спрашивает он себя, видя Джона и Иоко на улице в толпе демонстрантов, выступающих в защиту журнала «Оз» (арестованного за непристойности) или против войны во Вьетнаме. Были ли они поп-декадентами, как в тех странных ритуальных сценах, когда они катаются на черной похоронной повозке или едят белые шахматные фигуры, разодетые, словно герои из «Эль Топо»172?
Чаще всего они похожи в фильме на развлекающихся богатых детишек. Теперь, когда метадон и первобытный крик помогли преодолеть кризис и погасили страсти, они обречены на бесцельные блуждания в преддверии ада. Точно так же, как в детстве Джон играл возле стен приюта для девочек, они с Йоко забавлялись у себя дома с дорогими игрушками и нарядами, изображая прославленных взрослых любовников, голливудских поп-звезд, которые между тем постоянно демонстрируют неловкость и неуместность взаимных заигрываний и объятий, выдавая при этом явную неспособность изобразить настоящую любовь и страсть.
Единственной удачей часового фильма можно считать отрывок, иллюстрирующий заглавную песню. Джон и Йоко, одетые в черные плащи, медленно идут, пробиваясь сквозь густой туман, по дороге, обсаженной деревьями. Они входят в Титтерхерст с первыми вступительными нотами песни. Затем мы видим Джона в белом свитере с короткой стрижкой и гладко выбритого, который поет, сидя за белым роялем, в то время как Йоко, одетая, точно Клеопатра, в длинное белое платье с золотым поясом и повязкой на голове, открывает одни за другими ставни на окнах в огромном салоне, устланном белым ковром. Когда Джон, сидя в своем роскошном доме, поет о том, как чудесно ничего не иметь, комната наполняется светом, и грусть уступает место более радужному будущему. Этот клип стал наиболее часто используемым рекламным роликом Леннонов, которые предстали в нем идеалистами, пытающимися сопротивляться гнетущей атмосфере семидесятых годов благодаря своей вере в то, что мир обязательно станет лучше.
Глава 43 Сорвать «Большое Яблоко»
Ни одно из событий, произошедших с Джоном Ленноном после его женитьбы на Йоко Оно, не внесло в его жизнь столь радикальных перемен, как переезд в Нью-Йорк. «Я должен был родиться в Нью-Йорке, в Гринвич-вилледже», – заявил Джон после того, как поселился здесь. Несмотря на сомнительный комплимент, который отпустил Леннон в адрес «Большого яблока», назвав его «Римом наших дней», город явно смущал его. И в этом нет ничего удивительного, если вспомнить, что даже в Лондоне «Битлз» ощущали себя наивными провинциалами. Ни одному человеку в мире не дано завоевать столицу современного мира так, как «великолепная четверка» покорила в свое время столицу Британии. В Нью-Йорке и без того жили столько звезд, что это заставило бы смутиться и более уверенного в себе человека, нежели раздираемый сомнениями Леннон. Если бы дело было только за ним, он никогда не переселился бы в Великий город, довольствуясь тем, что время от времени любовался бы на него через затемненное заднее стекло своего лимузина. Решением, перевернувшим его жизнь, Джон был обязан Иоко.
У молодой женщины было много причин желать вернуться в город, который она считала своим домом. В отличие от Джона, который ненавидел англичан, но любил Англию, Йоко нечего было делать в стране, где она постоянно подвергалась нападкам со стороны прессы и была объектом презрения публики. Даже если бы дела обстояли иначе, она все равно не смогла бы довольствоваться жизнью среди еще одной небольшой островной нации, такой же, как в Японии. Йоко мечтала быть в центре больших событий, она была из тех, кто считал, что за пределами Манхэттена жизнь прекращается.
Кроме того, у нее, вероятно, были серьезные причины для того, чтобы оторвать Леннона от родины: покуда Джон продолжал жить в Англии, окруженный теми, кто был с ним на протяжении всей жизни, Йоко не могла быть уверенной в том, что сумеет и дальше сохранять над ним свою власть, тогда как эта опасность значительно уменьшалась, стоило ей перетащить его в Нью-Йорк.
Впервые Йоко подала Джону мысль о переезде в Великий город еще в декабре 1970 года, когда они жили в имении у Ронни Хокинса.
Журналист Говард Смит очень удивился, когда Йоко, с которой они были едва знакомы, позвонила ему и повела себя так, будто они давние приятели: «О Говард, сколько же нам пришлось вместе пережить!» А дело было всего лишь в том, что Смит как-то написал несколько добрых слов об искусстве Йоко. «Йоко была убеждена, что если критик похвалил произведение, то лишь потому, что ему понравился автор», – вспоминал журналист. "Она хотела убедить Джона переехать в Нью-Йорк, если удастся получить визу, – продолжал он. – Йоко хотела, чтобы Джон полюбил этот город и у него появилось желание поселиться здесь. Джон боялся оказаться маленькой рыбкой в огромном пруду, а Йоко хотела жить в Штатах и быть в самой гуще событий. Она не прекращала названивать мне и все повторяла: «Я столько рассказывала Джону о тебе» или «Джон от тебя просто в восторге». В конце концов она пригласила меня приехать на ферму к Ронни Хокинсу, и я согласился при условии, что смогу взять у Джона интервью для моего радио-шоу.
«Мы беседовали с Джоном два с половиной часа, и я все записал на пленку, – рассказывал Смит дальше. – Он заявил, что люди не должны курить наркотики, а сам не выпускал из рук косяк. Позже он признался, что делал так затем, чтобы получить визу. Его откровенность изумила меня, но потом я понял, что это было вообще присуще Джону. Он очень легко открывал свою душу перед другими, а Йоко – никогда. Чем дольше продолжалось ваше с ней знакомство, тем подозрительнее она к вам относилась. А Джон в любую секунду был готов рассказать, что у него на уме». В следующий раз Говард услышал голос Йоко в ноябре 1970-го, когда она позвонила, чтобы сообщить о том, что вопрос о переселении окончательно решен.
Как только Джон и Йоко поселились в гостинице «Ридженси», Говард Смит стал их чичероне. Он возил их по магазинам, рекомендовал им лучшие рестораны, знакомил с самыми модными ночными заведениями. Как-то он заказал для Леннонов отдельную кабину в одном из самых модных заведений – «Канзас-Сити у Макса». Их посадили так, что, оставаясь невидимыми снаружи, они могли наблюдать за тем, как развлекается высшее общество Нью-Йорка. «Джону очень понравилось, – вспоминал Говард. – Он обожал такие сборища. А Йоко сразу заподозрила что-то неладное и отгородилась ото всех стеной, стараясь защитить себя и свое эстетическое чувство».
Одним из завсегдатаев у Макса был Энди Уорхол, находившийся в то время в зените славы, которой был обязан главным образом покушением на свою жизнь: в июне 1968 года Валери Соланас чуть не убила его и Марио Амайя. Леннон, будучи рок-звездой, принадлежал к его пантеону, так как Уорхол благоговел перед жизненной силой рока, который олицетворял для него сердцебиение поп-арта. К Йоко Уорхол относился с явным презрением, считая ее чем-то вроде карикатуры на отчаянно скучный, чрезмерно серьезный европейский авангард. Он даже наградил ее самым убийственным из своих эпитетов, назвав «банальной». Тем не менее, что бы он о ней ни думал, он не собирался упускать шанс заработать двадцать пять тысяч долларов за один из своих знаменитых портретов. Поэтому он организовал прием в честь новоявленных нью-йоркцев в надежде получить от них заказ. Однако это оказалось не так-то просто. Когда Энди и Йоко стали торговаться по поводу портрета (а также и по поводу некой сделки по недвижимости в Сохо), успеха не добился ни тот, и ни другая. «А вы говорите о художниках-эксплуататорах! – воскликнул один из близких друзей Уорхола. – С самого первого дня Энди пытался навязать Джону и Йоко заказ на их портрет. Они считали себя настолько знаменитыми, что полагали, что он должен написать его бесплатно. За то, что они разрешат его размножить и заработать на этом много денег. Энди разозлился и стал говорить о Йоко всякие гадости, а Йоко, в свою очередь, поделилась с прессой своими соображениями по поводу окружавшей художника гомосексуальной мафии. Так или иначе, Энди уделял больше внимания Мику Джаггеру, чем Леннону, поскольку жена Джаггера Бианка принадлежала к высшему обществу, которое обожал Энди».
Таким образом, именно из-за Йоко человек, который принес поп-музыку в мир авангарда, и человек, который превознес авангард до поп-арта, были разлучены навсегда. И тем не менее Энди Уорхол вызывал у Джона интерес по той же причине, по которой его привлекал Боб Дилан: обоим янки удалось выйти сухими из воды после покушения на убийство. Уорхол был известнейшим художником, однако, по мнению Леннона, то, что приносило ему славу, было не творчеством, а цветным фото или наведением объектива кинокамеры на спящего человека. «У Энди это здорово получается, – с завистью заметил как-то Джон. – Он ничего не делает – и только ставит свою подпись». Леннон мечтал повторить тот же фокус.
Джону понадобилось три поездки по городу, прежде чем он набрался мужества и выбрался из защитной скорлупы лимузина, чтобы сделать несколько неуверенных шагов по нью-йоркским тротуарам. Это историческое событие произошло 3 июня 1971 года, когда его лимузин остановился на красный свет у перекрестка Шестой авеню и 8-й стрит в самом центре Гринвич-вилледж. Глядя на Леннона, который смотрел через стекло автомобиля, словно узник сквозь решетки камеры, Смит воскликнул: «Так можно с ума сойти! Давайте выйдем и пойдем пешком!» Йоко тут же воспротивилась, но Говард наклонился через нее и закричал водителю: «Том, жди нас через час возле арки!» Затем он открыл дверь и выпустил на волю Джона Леннона, который через несколько минут уже разгуливал по Гринвич-вилледж, вероятно, ощущая себя так, как если бы оказался голым на Пиккадилли-серкус.
Первым объектом, на который Джон обратил свой взор, оказалась витрина обувного магазина, в которой были выставлены кроссовки со звездно-полосатым флагом и такой же расцветки носки. «Боже мой! – Джон был в восторге. – Это надо купить для наших друзей в Англии. Им понравится!» Вся компания ввалилась в магазин, в котором по случаю уик-энда толпилось немало народу. Когда первый же из продавцов взглянул на новых клиентов, он вначале оторопел, а потом заорал: «Это Джон Леннон!» В тот же миг служащие магазина побросали свои коробки и, точно сомнамбулы, потянулись к ним.
Никто из покупателей и не думал возражать: все как завороженные уставились на Битла, зашедшего за покупками. Джон и Йоко, привыкшие к такой реакции, небрежно уселись и начали заказывать умопомрачительное количество товара. Они предложили Говарду и его подружке Саре Керночан не стесняться, сказав, что заплатят за все. Стоило компании оказаться на улице, как Йоко повернулась к Говарду и протянула ему свой внушительных размеров пакет с покупками, а Джон протянул свою сумку Саре. Говард вовсе не привык к тому, чтобы с ним обращались, как с прислугой. «Ты чего это на хрен себе позволяешь?!» – повернулся он к Йоко.
«Мы не можем таскать такие тяжести», – жалобно пробормотала маленькая женщина.
«А я, значит, могу?!» – чуть не задохнулся от злости Смит. Затем он внезапно успокоился и, точно добрая мамочка, предложил: «Если хотите, мы можем поделить тяжесть поровну. Я возьму что-нибудь себе, Сара тоже, – твердо добавил он, – но мы не потащим все, что вы здесь накупили!»
«Вот поэтому я и не хотела отпускать лимузин, – захныкала Йоко. – Видишь, как тяжело, когда лимузина нет рядом!»
Говард вновь по-отечески взглянул на нее и наставительным тоном произнес: «Ну посмотри на улицу, Йоко. Посмотри на всех этих людей, каждый из которых что-нибудь несет. Как может такое быть, чтобы они могли нести свои сумки, а ты нет?» Но Йоко все продолжала ныть, пока они наконец не уселись в свою машину на Вашингтон-сквер.
Через несколько дней Говард Смит сообщил Джону, что собирается на интервью с Фрэнком Заппой. «Вот это да! – воскликнул Леннон, к которому словно вернулся мальчишеский задор. – Всегда мечтал с ним познакомиться. Я восхищаюсь этим парнем».
«В каком смысле?» – озадаченно поинтересовался Смит. «Он, по крайней мере, пытается придумать что-то новое в смысле формы, – объяснил Леннон. – Просто невероятно, как ему удается так плотно держать группу, будто это настоящий оркестр. Он привносит в рок дисциплину, на которую никто до него не был способен». «Хочешь поехать со мной?» – предложил Смит. «Я бы очень хотел познакомиться с ним», – повторил Леннон.
Смит тут же постарался вкратце обрисовать Леннонам, каким непростым человеком был знаменитый Заппа.
«Он всегда пассивно-агрессивен, – объяснял он, – и при этом старается сделать так, чтобы собеседник чувствовал себя в его присутствии крайне неловко».
И Джон, Йоко, Говард и его звукооператор направились на Пятую авеню, где располагался полуотель-полуобщежитие для студентов, где на время гастролей остановился тот, кого Смит называл «Бартоком рока».
Когда высокий и мрачный Заппа открыл дверь, Говард поприветствовал его, небрежно сообщив: «Я тут привел кое-кого». Заппа взглянул на Джона и Йоко с деланной невозмутимостью и как можно более небрежно бросил: «О, привет, рад познакомиться». Однако остальные музыканты повели себя иначе. Они повскакали и радостно бросились знакомиться со знаменитостью.
«Леннон отнесся к Фрэнку с огромным уважением, – рассказывал Смит. – Джон будто говорил: „Пусть я и знаменит, зато именно он играет настоящую музыку“. А Йоко вела себя так, словно Фрэнк Заппа украл у нее не только все, что она делала, но даже и то, о чем только мечтала. „Да. Да. Да. – говорила она. – Это я делала еще в 1962 году“. Заппа же игнорировал ее. Ему было плевать на то, что она несла». На самом деле мысли Заппы были заняты вечерним концертом, которому суждено было отметить закрытие величайшего в мире рок-театра «Филлмор Ист». Билл Грэхем был не в состоянии содержать свое заведение и получать прибыль в эпоху, когда гонорары рок-звезд выросли до небес. Когда разговор зашел о предстоящем концерте Говард как бы невзначай заметил, обращаясь к Джону и Йоко: «А почему бы вам не выйти сегодня на сцену вместе с Фрэнком?» Музыканты восторженно зашумели. «Фрэнк смерил меня убийственным взглядом, – признался Смит. – Он никак не мог сообразить, хорошая это была мысль или не очень».
Ответ Джона был вполне прогнозируемым. «Я очень давно не играл, – сказал он. – Я даже не знаю, где вступать! Нам надо порепетировать!»
«Но только не с группой Фрэнка! – резко возразил Говард. – Тебе вообще не надо репетировать!»
Наконец до Фрэнка дошло, что это и в самом деле могло бы быть грандиозно, и он сказал, обращаясь к Леннону: «Я думаю, мы знаем твой репертуар». А ребята из группы закричали: «Ты шутишь! Мы знаем каждую ноту!» – «Я думаю, никаких проблем не будет, – подытожил Фрэнк. – А ты знаешь какие-нибудь из наших вещей?» Затем они с Джоном обсудили некоторые технические детали и окончательно договорились.
Говард чувствовал, что Джон и Йоко ни за что не поднимутся на сцену, если он хотя бы на минуту выпустит их из узды до начала концерта. Заппа предложил им выйти в конце второго отделения, примерно в два часа ночи. Замысел Говарда заключался в том, чтобы привезти их в театр в самую последнюю минуту, чтобы не держать за кулисами. Однако, несмотря на все предосторожности, он видел, что Джон и Йоко стали нервничать уже в тот момент, как покинули студию. "Джон и Йоко жутко переживали. Они напоминали пацанов, которые впервые отправлялись на дело с большими ребятами. Джон был никакой! Ну просто никакой! Да и она была не лучше. Она страшно боялась выйти на сцену с такой по-настоящему художественной группой, как эта. В лимузине, по дороге в гостиницу они только и кричали: «Что же нам надеть? Ты уверен, что у нас есть во что одеться?»
«Какая разница, – отвечал Говард. – Ребята Заппы одеваются во что попало».
Когда звезды подъехали к служебному входу, их провели в ложу, отведенную для звукоинженеров, где они принялись переодеваться. Через какое-то время Джон сказал: «Мы не сможем выйти на сцену, если ты не достанешь нам кокаина!» «И я отправился на поиски торговца, – рассказывал Смит. – На деньги, полученные у Леннона, я купил немного кокаина. Они засадили почти по грамму, и это сработало. Теперь они были готовы к действию. Думаю, без кокаина у них бы вряд ли что-либо получилось».
Случилось так, что местный фотограф из «Филлмор Ист», Эмали Ротшильд, честолюбивая молодая женщина, взяла в тот день напрокат кинокамеру, чтобы во время предстоящего уик-энда сделать фильм о легальных абортах. Когда она поняла, что на сцену собираются выйти Джон и Йоко, то решила втихаря заснять все действо на пленку. Она устроилась недалеко от сцены и, используя широкоугольные линзы, сумела почти полностью запечатлеть на двух одиннадцатиминутных роликах все выступление.
Заппа уже в третий раз выходил на бис под непрерывные крики стоящей на ногах публики, когда неожиданно над сценой погас свет. Публика начала было неохотно покидать места, когда свет так же внезапно зажегся, и в течение какого-то времени никто просто не мог поверить собственным глазам. На сцене, как ни в чем не бывало, стояли Джон и Йоко! На Джоне был светлый замшевый костюм и красно-бело-синие кроссовки, которые он купил два дня назад на 8-й стрит, на Йоко – черная блузка, расстегнутая до середины груди, джинсы и широченный ремень. Как только публика узнала Леннонов, зал будто сошел с ума. Зрители залезали на сиденья, вставали на ручки кресел и орали во всю силу своих легких. Заппа наблюдал за публикой, без сомнения думая про себя: «Ну что за придурки! Как будто они что-то понимают в музыке!»
Джон, с красной гитарой в руках и жвачкой во рту, объявил, что сейчас они исполнят песню, с которой он выступал еще в «Кэверн». Несмотря на то, что он был явно не в своей тарелке и говорил в микрофон, точно в переговорную трубу, стоило ему запеть «Well (Baby Please Don't Go)» своим протяжным, жалобным голосом, накладывавшимся на зловещий стук барабанов, как зал мгновенно покорился его мастерству. В этот момент послышался странный, отвлекающий звук, который становился все громче. Этот звук, наподобие расстроенной электрогитары, повторял и искажал каждую из идеальных музыкальных фраз Леннона. Это была Йоко, которая решила поучаствовать в выступлении Джона. Но, странное дело, если ее назойливый голос звучал чужеродно, то внешне она выглядела в тот вечер как никогда соблазнительно. Она была молода, красива, сексуальна, полна экспрессии, а движения ее тела были чувственно грациозны, в то время как Джон всем своим видом давал понять, что дорого заплатил бы за то, чтобы находиться в этот момент где-нибудь в другом месте.
Следующий номер, который заключался в непрерывных выкриках слова «Scumbag!»173, сопровождавшихся ревом «кислотного» рока, заканчивался длинной кодой, в ходе которой Джон должен был сделать фидбэк, извлекая из гитары ровный понижающийся гул. Попытка выполнить этот простейший прием стоила ему стольких усилий, что он стал похож на бой-скаута, впервые разжигающего костер. Когда, наконец, гитара издала нужные звуки, их перекрыли вопли Йоко, – она никак не могла выбраться из мешка, который накинули ей на голову музыканты. «Ну, все, я вам больше не нужен, так что я отваливаю!» – заявил Джон и проскользнул за кулисы. Йоко долго не могла забыть, как Джон бросил ее одну – совершенно беспомощную – в мешке.
Когда несколько дней спустя Ленноны узнали, что их дебют на нью-йоркской сцене был заснят на пленку, они поспешили прибрать эту пленку к рукам. Эмали Ротшильд была приглашена в «Плазу», где смогла вдоволь налюбоваться суперзнаменитостями. «Я была поражена показным богатством и абсолютным пренебрежением к нему, – вспоминала она. – Всюду была разбросана дорогая одежда, а на телевизоре под пресс-папье лежала стопка стодолларовых купюр высотой в пару дюймов». Когда Ленноны спросили, сколько она хочет за пленку, девушка, осмелев при виде такого безразличия к деньгам, попросила монтажный стол Стейнбек стоимостью примерно двенадцать с половиной тысяч долларов. Джон и Йоко сразу согласились.
Свою нью-йоркскую штаб-квартиру Ленноны устроили на Бродвее, в офисе Аллена Кляйна в «АВКСО», на последнем этаже сорокаодноэтажного здания с бронзовыми стеклами. В это время Джон и Йоко были настолько влюблены в своего менеджера, что пели ему дифирамбы в каждом интервью. «Я люблю его, – говорил обычно Джон. – Благодаря ему я чувствую себя в безопасности... Впервые в жизни у меня действительно появились деньги».
Затем Йоко рассказывала о «творческом начале» и о «гениальности» Кляйна, объясняя, что за внешностью блестящего дельца скрывается «застенчивый и спокойный» человек.
«И такой беззащитный, – подхватывал Джон. – Он вырос сиротой. Представляете, насколько беззащитным может стать человек, у которого в детстве совсем не было опоры?»
Кляйн, со своей стороны, очень гордился собственными успехами в делах «Битлз», которых он ценил гораздо выше хулиганов из «Роллинг Стоунз», кроме того, он все еще не отказался от идеи снова собрать группу, по крайней мере в студии звукозаписи. А пока, вместе с Джоном и Йоко, он составлял счастливейшее трио в мире шоу-бизнеса.
Примерно в это время в офисе Кляйна объявился Джордж Харрисон. У него накопилось много новых песен, которые он хотел показать Джону. Они взяли гитары и уединились в пустой комнате, чтобы спокойно поиграть и попеть. Эл Стеклер, который в тот период был руководителем «Эппл», сидел вместе с ними и наслаждался музыкой, когда неожиданно дверь в комнату распахнулась. «Это была Йоко, – рассказывает Стеклер. – Когда она увидела, что там происходит, то тут же подняла жуткий визг, на что Джон сказал: „А ну катись отсюда к чертовой матери!“ Потом схватил ее, подтащил к двери, опрокинув по дороге стул, вышвырнул в коридор и захлопнул дверь. А затем приятели снова продолжили музицировать».
В июле, после возвращения Леннонов в Англию, произошла целая серия неприятных событий, так что никто не удивился бы, если бы в результате Джон передумал переезжать в Нью-Йорк. Началось с того, что ему отказали в выдаче визы на Сент-Томас, где должен был проходить процесс по предоставлению Йоко права опеки над Киоко. Если бы они были обычной семейной парой, выход из положения был бы прост: Иоко отправилась бы на суд, где требовалось только ее присутствие, а Джон спокойно поджидал бы ее дома. Но Джон не допускал и мысли о разлуке с Йоко. Поэтому Дэн Рихтер придумал хитрость, благодаря которой они сумели обойти иммиграционный запрет. Сначала Ленноны полетели на Антигуа, входивший в состав Британского содружества. Здесь они арендовали маленький самолет до Сент-Томаса. Перед вылетом Рихтер позвонил на радиостанции, расположенные на Виргинских островах, и сообщил, что ожидается прибытие Джона Леннона и что в аэропорту у него могут возникнуть проблемы с иммиграционными властями. И потому Леннон рассчитывает на поддержку своих поклонников. Когда самолет приземлился на Сент-Томасе, его окружила огромная толпа битловских фанатов, так что местные власти предпочли без лишнего шума предоставить Леннону разрешение на въезд в страну.
26 июля адвокат Тони Кокса предстал перед судом вместо своего клиента и потребовал, чтобы разбирательство было перенесено в судебную инстанцию Хьюстона, где проживал Тони. Если бы Тони удосужился приехать собственной персоной, он наверняка выиграл бы процесс, представив доказательства того, что Ленноны, которые до этого имели немало проблем с правосудием: наркомания, хранение наркотиков, попытка похищения ребенка, недостойны опекунства над девочкой. Отказавшись от участия в процессе, он сам подрубил сук, на котором сидел, и суд без колебаний решил вопрос об опеке над Киоко в пользу Йоко.
На этот раз триумфаторами из здания суда вышли Джон, Иоко и Дэн Рихтер, которые даже позволили себе по этому поводу двухдневные каникулы на острове. А так как они находились на американской территории, не было никаких причин, которые могли бы помешать им доехать до Нью-Йорка. Однако проблемы начались уже в Сан-Хуане, где им предстояло пересесть на другой самолет. Таможенники настояли на тщательном досмотре необъятного багажа, который постоянно таскал с собой Джон, а иммиграционная служба настояла на личном досмотре. В результате был обнаружен пузырек с таблетками метадона, и Джону приказали раздеться догола. К тому времени, когда Джону удалось убедить таможенников в том, что он имел при себе метадон на вполне законных основаниях, кто-то украл почти весь багаж Леннонов. Вероятно, это событие не стало бы для таких богатых людей, как они, серьезной драмой, если бы не тот факт, что среди похищенных вещей была шкатулка с семейными драгоценностями Иоко, которые она унаследовала от матери. Так что в Нью-Йорк путешественники прибыли с довольно кислой миной.
Когда Леннон добрался до «Эппл», то, по идее, должен был прежде всего заняться раскруткой «Imagine», альбома, который впервые после ухода из «Битлз» мог вынести его на самый верх хит-парадов. Но вместо того чтобы уделить максимум внимания собственной карьере, он очутился в самой гуще переживаний, связанных с проведением «Концерта для Бангладеш» – крупной благотворительной акции, которую организовывал Джордж Харрисон в помощь голодающим и страдающим от наводнений соотечественникам своего нового музыкального гуру Рави Шанкара. Успех этого долгожданного мероприятия оказался под угрозой в самый последний момент. Мысль о том, чтобы возглавить такое грандиозное шоу, нагоняла на Джорджа немыслимый ужас, а кроме того, главная приглашенная звезда – Боб Дилан никак не давал окончательного согласия. Кризис достиг апогея, когда Эрик Клэптон, на чью помощь очень рассчитывал Джордж, укололся какой-то дрянью, разбавленной тальком, и оказался в коме. Лорд Харлич, отец подружки Эрика, Элис Ормсби Гор, призвал на помощь Аллена Кляйна, тот, в свою очередь, позвонил доктору Уильяму Заму, у которого лечились все сотрудники «АВКСО», и Зам поставил великого гитариста на ноги при помощи метадона. В этот момент Джон и Иоко поняли, кто в Нью-Йорке мог при необходимости оказаться им полезен.
К тому времени на Леннона со всех сторон оказывали давление, уговаривая принять участие в концерте. Кляйн хотел, чтобы Джон присоединился к Джорджу и Ринго, так как это могло повлиять и на Пола, в случае чего Кляйн получал неплохой шанс на осуществление своей высшей цели – съемок фильма «Битлз-111». Этот фильм, для которого он придумал сентиментальное название «Длинный и извилистый путь», он представлял себе как монтаж из отрывков сегодняшнего концерта и реминисценций из эпохи битломании. Джордж тоже хотел, чтобы Джон принял участие в шоу, поскольку сильно нуждался в его поддержке и считал себя вправе требовать ее, ибо сам не раз помогал Леннону все эти годы. Самое сильное давление исходило со стороны Йоко, которая пришла в возбуждение при мысли о возможности подняться на огромную сцену и получить часть той огромной рекламы, которая ожидала это событие. Большой благотворительный концерт с участием поп-знаменитостей мог стать осуществлением самой сокровенной мечты для женщины, которая всегда стремилась выглядеть благодетелем рода человеческого.
Представление Джона Леннона о Бангладеш было негативным. Он всегда терпеть не мог любую благотворительность. Именно этим объясняется то, что из более чем 1400 публичных выступлений «Битлз» только один или два раза играли бесплатно. Джон всю жизнь считал, что благотворительность сродни латанию дыр: если сегодня ты залатал одну, завтра обязательно возникнет другая. Кроме того, в мероприятиях такого рода деньги зарабатывают все, кто хоть каким-то боком с ними связан, за исключением самих исполнителей. Но больше всего самолюбие Леннона в тот момент было уязвлено тем, что Аллен Кляйн работал двадцать четыре часа в сутки на одного Джорджа Харрисона.
После оглушительного успеха песни «My Sweet Lord» и тройного альбома Джорджа «All Things Must Pass»174, вышедшего в ноябре 1970 года, как раз за месяц до «Primal Scream Album», который собрал прекрасную критику, но не радовал объемом продаж, Джона Леннона снедала зависть. Куда бы он ни пошел, всюду его навязчиво преследовали мелодии Харрисона. И вот теперь, когда Джон собирался выпустить собственный диск, способный вновь принести ему мировую славу, застенчивый Джордж, которого они с Полом никогда не принимали всерьез, вновь привлек к себе всеобщее внимание. Но и это было еще не все. Допустим, Джон проявит великодушие и выйдет на сцену вместе с Джорджем и Ринго, но что, если там вдруг появится и Пол? Одним махом будет стерто все, что Джон говорил в течение двух последних лет. Миф возродится из пепла! Поэтому его ответом могло быть только твердое «Нет!».
Но был ли Леннон способен противостоять Йоко? Не более двух или трех раз за все эти годы Джону удалось отстоять свое мнение по серьезному вопросу, при этом каждый раз он приходил в состояние ярости – именно это он и проделал на рассвете 31 июля 1971 года, за день до концерта. В то утро Дэна Рихтера разбудил телефонный звонок – это был Джон, который сообщил, что немедленно отправляется в аэропорт. Рихтер наскоро оделся и ринулся в апартаменты Леннонов, расположенные на том же этаже. Еще с порога он понял, что произошло.
Джон разнес номер в пух и прах. Он расколотил о стену все, что попалось ему под руку, и перевернул мебель вверх дном. Кроме того, он прилично отколошматил Йоко, которая, по всей видимости, отчаянно сопротивлялась: под глазом у Джона красовалась глубокая ссадина, очевидно, полученная в тот момент, когда с него сорвали очки, которые позже были найдены на полу, перекрученные, как крендель. Убедившись в том, что Йоко не ранена, Дэн довез Леннона на такси до аэропорта Кеннеди где Джон, мечтавший как можно скорее убраться из Нью-Йорка, сел на первый же самолет, отправлявшийся в Европу, и улетел в Париж.
Когда Рихтер вернулся в отель, Йоко сообщила ему, что собирается принять участие в концерте без Джона. Дэн приложил все усилия, чтобы отговорить ее, но вскоре, осознав свое бессилие, призвал на помощь Аллена Кляйна, который не только сумел объяснить молодой женщине, насколько губительным мог быть эффект от подобного поступка, но и уговорил ее как можно скорее вернуться к мужу. «С какой стати? – спросила она. – Мне и здесь хорошо!» В этот момент Аллен Кляйн осознал, в чем заключалась суть этого брака: «Он нуждался в ней гораздо больше, чем она в нем». В конце концов Йоко дала убедить себя в том, что улететь тем же вечером домой было прежде всего в ее интересах. Оказавшись на месте, она быстро сумеет утихомирить Джона и заставить его снова вернуться в Нью-Йорк.
В Париже Джон поселился в гостинице «Георг V» и, по собственному признанию, подумывал выйти на улицу, чтобы подцепить проститутку. Его, безусловно, распирало от злости, но в действительности дело здесь было не только в стремлении отомстить. Джон чувствовал себя сексуально неудовлетворенным. Еще за несколько месяцев до этих событий, на Майорке, Джон признавался Аллену Кляйну, что очень разочарован в Йоко как в женщине. «Мне даже не хочется с ней спать! – вздохнул он. – Когда я на ней женился, я был уверен, что в койке ей нет равных. А на самом деле Йоко оказалась пуританкой!» Но тут, в Париже, он чувствовал, что не может просто так выйти на улицу и переспать с первой встречной. Он знал, что после этого чувство собственной вины не даст ему покоя. Так что он отказался от этой идеи, а на следующее утро вылетел в Лондон. Когда вечером в тот же самый день Иоко добралась до Титтенхерста, она увидела, что дом завален розами, – Джон предлагал перемирие.
Глава 44 Боевая рубка
«Сент-Реджис Отель», в котором поселилось Джон и Йоко после того, как вновь вернулись в Нью-Йорк 13 августа 1971 года, был довольно странным выбором для приверженца радикальных идей, причислявшего себя к наиболее обездоленным слоям населения и певшего о счастье ничем не владеть. Этот дворец из мрамора, бронзы и хрусталя, построенный Джоном Джейкобом Астором на Пятой авеню, является памятником великой американской мечте о богатстве и власти. Само собой разумеется, что в этом роскошном отеле, чье убранство больше напоминало королевские дворцы средневековой Европы, мистер и миссис Джон Леннон заняли самые лучшие апартаменты. В середине просторной гостиной, расположенной на верхнем этаже здания, чьи доходящие до пола двустворчатые окна предлагали великолепный вид на Центральный парк, возвышался побитый временем камин из коричневого мрамора, доставленный сюда прямо из итальянского палаццо. И даже отделанную мрамором ванную комнату украшал коллекционный экспонат: изумительный в своей строгости французский туалетный столик начала века. Однако Джон и Иоко быстро превратили свое дорогостоящее жилище в привычный для себя убогий притон для наркоманов.
В этот раз Ленноны вернулись в Нью-Йорк, имея перед собой вполне определенную цель: они твердо решили стать новыми лидерами нью-йоркского авангарда. Было очевидно, что эта честолюбивая идея возникла в результате рассказов Йоко о годах юности, проведенных на сцене в нижней части города. Она рисовала Джону волшебные образы блестящего общества, состоявшего из артистов андеграунда, которые жили в промышленных ателье, где рождались гениальные идеи, превращавшиеся впоследствии в модные течения, затем в школы и, наконец, в целые состояния, которые делались на нью-йоркском художественном рынке. В этом мире, по собственному признанию Иоко, она ограничилась ролью блестящего, но не признанного новатора. По ее словам, именно она придумала «концептуальное искусство», «хэппенинг», «минималистское кино». Flower Power175 и, наконец, Флаксус – самое нетрадиционное художественное движение со времен Дада. Если верить Йоко, она стала жертвой интриг художников-гомосексуалистов и владельцев галерей, которые не могли смириться с тем, что самым блестящим умом среди всех обладала женщина-азиатка. Теперь же с помощью Джона Леннона она рассчитывала занять именно то место, которое принадлежало ей по заслугам.
Работая день и ночь, пользуясь услугами исключительно целеустремленных сотрудников и идя на любые уловки, вплоть до манипуляции средствами массовой информации, Джон и Иоко в одночасье умудрились утвердиться в качестве самых дорогих и самых продаваемых авангардистов Нью-Йорка.
Для того чтобы обеспечить успех своей операции, Ленноны приняли на службу новую рабыню, Мэй Нэн, китаянку американского происхождения, которая до этого работала у Аллена Кляйна. Ее поселили в номере, который примыкал к апартаментам новых хозяев, после того как ее предшественница Линдсей Марикотта, милая девушка, недавно закончившая колледж, была уволена Иоко за то, что осмелилась сесть рядом с Джоном в «Гротта Адзура». Таким образом, Мэй могла находиться в распоряжении Леннонов круглосуточно.
Рабочий день для Мэй начинался в десять утра, когда она стучала в дверь номера Джона и Йоко, а затем заказывала для них завтрак: тосты с корицей, кофе и чай. Но хозяева не могли вылезти из постели, не приняв обычную порцию метадона, который им незаконно выписывал доктор Зам: он попросту добавлял их дозы к рецепту какого-нибудь другого служащего компании «АВКСО». (Добрый доктор обеспечивал своих знаменитых клиентов и витамином В 12, который без ограничений раздавал сотрудникам Леннонов, благодаря чему они сохраняли работоспособность в течение двадцати четырех часов в сутки.) Взбодрившись, Джон и Йоко отправлялись инспектировать свое новое предприятие, которое состояло из нескольких роскошных гостиничных номеров, переделанных во временные офисы, лаборатории и выставочные залы. В этих помещениях без устали трудились специалисты, которым выпала великая миссия воплощения замыслов Джона и Иоко. В номере, отведенном «Джоко Продакшнз» – новой кинокомпании Леннонов, режиссер Стив Гебхардт, переквалифицировавшийся в кинематографисты из архитекторов, целые дни, не разгибаясь, проводил у монтажного стола. В работе ему помогали партнер и звукоинженер Боб Фрайсс и монтажер Лора Лессер. В задачу этой команды, в соответствии с договором, подписанным между Гебхардтом и Леннонами во время их первого приезда в Нью-Йорк, входило производство одного фильма в неделю. К тому моменту в течение двух недель они закончили съемки картины «Up Your Legs Forever»176 (тот же урок анатомии, что и «Bottoms», только применительно к другим частям тела) и «Fly»177, демонстрировавшего прогулку крылатого насекомого по промежности обнаженной лежащей женщины.
Еще в Англии Леннон снял целую серию фильмов в стиле Энди Уорхола, первым из которых был «Smile»(«Улыбка» (англ.). ), где Джон, сидя в саду, в течение пятидесяти двух минут показывал язык, поднимал брови и улыбался на фоне птичьего щебета в качестве звукового сопровождения. Затем появился фильм «Two Virgins», восславивший единосущность четы Леннонов путем медленного превращения лица Джона в лицо Йоко. Следом была снята «Erection»(«Эрекция» (англ.)), восемнадцатимесячная съемка возведения высотного здания и умелый монтаж позволили насладиться процессом в течение нескольких минут. В картине «Self-Portrait»( «Автопортрет» (англ.).) Джон снова вернулся к излюбленной теме. «На экране вы видели только мой член... – рассказывал он об этом фильме. – А то, что в самом конце он выплюнул несколько капель, вовсе не было предусмотрено. Вся идея заключалась в том, чтобы показать, как он медленно поднимается, а затем опускается – но у него ничего не получилось». А для съемок фильма «Apotheosis»(«Апофеоз» (англ.).) он привязал камеру к шару, наполненному гелием, и запустил его прямо в облако, получив в результате пять долгих минут абсолютно белых кадров.
В мае 1971 года Ленноны отправились в Канны, чтобы продемонстрировать свои работы перед специалистами в области кинематографии. Однако восемнадцать безмолвных минут «Апофеоза» привели этих искушенных зрителей в такое негодование, что Леннон в отчаянии убежал из кинотеатра. «Муха» встретила несколько больше понимания, так как, по выражению одного из зрителей, «когда муха подпрыгивает и потирает одну о другую свои лапки, то демонстрирует такую экспансивность, которая кажется удивительной для столь малого живого существа». Когда у Леннона спросили о его любимом фильме, он ответил в своей простецкой манере: «Вообще-то я больше люблю смотреть телевизор». Однако Иоко, которая уже почувствовала вкус славы после выхода «Bottoms», была полна решимости сделать себе имя на поприще киноискусства. Теперь, когда Энди Уорхол перестал снимать кино, Ленноны были уверены, что вполне могут стать мировыми лидерами андеграундного кинематографа, и это станет достаточным основанием для осуществления их планов по покупке одной из голливудских киностудий.
Еще один номер на семнадцатом этаже отеля «Сент-Реджис» был переделан под фотостудию Йейна Макмиллана, бледного молодого человека с глазами навыкате, который в свое время сделал снимки для обложки «Abbey Road». Йейн специально прилетел из Англии, для того чтобы помочь Иоко подготовить сольную выставку в Музее современного искусства. По замыслу автора, эта выставка должна была стать шоу концептуального искусства – но Йоко никак не удавалось найти собственно концепцию. И вот как-то раз, сидя в кровати с Джоном и отгоняя назойливых мух, она ухватила идею буквально из воздуха. Иоко решила поместить в скульптурном саду музея специально изготовленную бутыль размером с ее собственное тело, наполненную мухами. Когда бутыль откроют и мухи начнут разлетаться в разные стороны, Макмиллан должен был следовать за ними и фотографировать их в разных уголках города. Когда он поинтересовался, как ему отличить мух, выпущенных Иоко, от всех остальных, молодая женщина ответила, что ее мухи будут пахнуть ее любимыми духами «Ма Грифф».
После того как стала очевидна неосуществимость этого замысла, бедняге Макмиллану поручили еще более трудное задание. Как вспоминает он сам, ему приходилось по нескольку часов подряд сидеть в полиэтиленовой палатке, внутрь которой выпускали тысячи мух. После того как он наснимал бесчисленное количество крупных планов этих насекомых, ему предстояло наложить их портреты на всем знакомые сцены и виды Нью-Йорка, в результате чего получился 116-страничный каталог воображаемой выставки. Однако настоящее веселье началось тогда, когда Йоко объявила об открытии выставки на страницах «Вилледж войс» и отправила своего помощника – маленького бородатого английского хиппи Питера Бендри, переодетого в человека-сэндвича, с рекламой несуществующего шоу к входу в Музей современного искусства. Когда толпа посетителей с каталогом выставки, полученным из рук человека-сэндвича, повалила в музей, местным служителям стало не до смеха178.
«Fly» – под таким названием вышел и следующий альбом Иоко, ставший в некотором роде дополнением к «Imagine» Джона: здесь ей аккомпанировали в основном те же музыканты, кроме которых она использовала целую группу механических инструментов – автоматических барабанов и скрипок, прикрепленных к пюпитрам; они были выполнены флаксус-художником Джо Джонсом. Для раскрутки альбома Джон и Йоко приняли участие в телепередаче Говарда Смита. По экстравагантности заявлений Джон в этот день превзошел самого себя, когда сравнил музыку Йоко с Литтл Ричардом. Так как Леннон был одним из самых разборчивых слушателей за всю историю рок-музыки, трудно определить, был ли он в этот миг серьезен или просто издевался над зрителями.
Отчасти ответ заключается в том, что Джон Леннон верил, что любой человек может стать знаменитым – причем, не обязательно на четверть часа. В зависимости от настроения он то называл себя гением, то демонстрировал к своему таланту полное равнодушие. Он отдавал себе отчет в том, что не обладал ни внешностью, ни голосом, ни сценическим обаянием Элвиса, не был выдающимся композитором, а тем более хорошим гитаристом. А что касалось текстов, то они явно хромали в смысле высокой поэзии. Поэтому, подобно многочисленным поп-кумирам, Джон жил, сознавая огромное несоответствие между тем, что он представлял из себя на самом деле, и силой своего влияния на людей. Очевидно, что он не лукавил, заявляя о том, что Иоко должна прославиться, поскольку для него понятие славы основывалось на полной иррациональности этого атрибута. Больше того, Джон свято верил в абсолютную власть рекламы. Он был убежден, что стоит приложить достаточное усилие – и он сможет заставить кого угодно проглотить Иоко со всей ее музыкой. Кроме того, он не мог смириться с мыслью О том, что Йоко в творческом плане стояла значительно ниже его, ибо основой их взаимоотношений была идея о том, что они составляют единую душу, живущую в двух разных телах. Неотъемлемым условием такого симбиоза было равенство. Поэтому в конечном итоге Джону было наплевать на объективные критерии: Йоко могла быть только тем, кем считал ее Джон – его гениальным альтер эго.
Целью кампании, предпринятой Леннонами в Нью-Йорке, было убедить публику в том, что, как сказал Джон Мэй Пэн, «такие артисты, как Йоко, а никак не „Битлз“, были настоящими мечтателями». Для того чтобы это послание дошло до прессы в неискаженном виде, Джон и Иоко разработали особый метод связей с общественностью. Сначала журналист встречался с Мэй Пэн, затем избраннику предоставлялась возможность пообщаться наедине с Ленноном, который жаловался на то, как обошлась с его женой британская пресса, вызывая тем самым у американского журналиста желание восстановить справедливость и защитить незаслуженно обиженную женщину. И наконец, его допускали к самой Йоко.
Когда Джону и Йоко действительно хотелось снискать доверие какого-нибудь журналиста, они были способны и на большее. Джилл Джонстон из «Вилледж войс» вспоминает, как получила от Джона и Йоко дюжину роз, а затем приглашение в гости к полуночи у них в номере. Они дошли до того, что пригласили ее проехаться по магазинам и настояли на том, чтобы купить ей пару туфель.
Между тем Йоко не была удовлетворена тем, что ее имя эпизодически мелькало на страницах разных печатных изданий, ей хотелось, чтобы какой-нибудь солидный журнал посвятил ей целый специальный выпуск, как это сделал для Джона год назад «Роллинг Стоун». Некое рок-издание под названием «Кроудэдди», находившееся в связи со сменой владельца в отчаянной ситуации, согласилось не только на выпуск специального номера, но и позволило Иоко самой выбрать себе интервьюера, а также предоставило ей право одобрить набранный материал. Иоко остановила свой выбор на Генри Эдвардсе (по иронии судьбы, именно он впоследствии стал автором мемуаров Мэй Пэн). Почему? Да потому что ему как-то довелось заявить, что в мире существуют три выдающихся художника-минималиста: Тони Смит, Роберт Моррис и – Иоко Оно. Напрочь лишенная чувства юмора Иоко не уловила, что Эдварде назвал ее имя не в качестве комплимента, а в шутку.
Готовя свои интервью, Эдварде провел с Иоко целый месяц, что позволило ему получить ясное представление о взаимоотношениях внутри этой семьи. Когда у Иоко возникало желание побеседовать с журналистом, она говорила: «Сейчас я придумаю, чем занять Джона, а потом мы сможем поговорить». Чаще всего его ничем не требовалось занимать, поскольку после ужина Джон обычно начинал клевать носом и мог проспать целый вечер. «Публика создала миф о Джоне и Иоко, чтобы заполнить пустоту собственной жизни, – к такому заключению пришел Эдварде. – Ленноны являются мифической семейной парой, и они от этого в восторге. Они любят, когда их фотографируют, любят рекламу, любят успех». Позднее, когда он будет писать книгу о Мэй Пэн, он признает, что «перед прессой или перед любым другим слушателем Джон и Иоко убежденно рассуждали, как любят друг друга, как друг друга поддерживают и как прекрасна их взаимная преданность. Они так говорили не лукавя, они верили в то, что говорили, – но только на публике».
Стоило выключить камеры и магнитофоны, как звезды вновь становились самими собой, выражая по отношению друг к другу полнейшее равнодушие. Мэй Пэн рассказывала, что «они проводили очень много времени в постели, но редко прикасались друг к другу или целовались. Насколько я могла заметить, их взаимоотношения были напрочь лишены чувственности». В целом Эдварде находил Иоко симпатичной женщиной, видел в ней «милую, чувствительную, артистическую натуру, которая была замужем за довольно скучной рок-звездой». Именно такой и хотела выглядеть Иоко в трехчасовой телевизионной передаче, на которую она согласилась в 1985 году. Не было никаких сомнений в том что именно так она воспринимала свои отношения с Джоном, которого чаще всего именовала «олухом».
Интервью, которое появилось в результате продолжительного торга Эдвардса с Иоко, получилось именно таким, какое она заказывала. Несмотря на все старания с ее стороны выглядеть как можно лучше, оно продемонстрировало неприкрытый эгоизм молодой женщины. В какой-то момент она ударилась в рассуждения о том, как доктор Янов объяснял физические недостатки своих пациентов. Говоря о своем маленьком росте, она раздраженно бросила: «Я выросла такой маленькой женщиной, потому что в молодости подвергалась сильному давлению со стороны окружающих. Мои кости прекратили свой рост под влиянием этого давления. Вы когда-нибудь обращали внимание на то, что величайшие агрессоры в истории, такие, как Наполеон или Гитлер, были людьми маленького роста, которые прежде натерпелись от окружающих?»
Глава 45 Наводнение разума
Кампания, предпринятая Леннонами в борьбе за лидерство в среде нью-йоркского авангарда, достигла высшей точки в октябре 1971 года, когда Иоко Оно организовала свою персональную выставку в Музее изящных искусств Эверсона в Сиракузах. Коллекция Эверсона, расположенная внутри бетонной крепости, состояла в основном из изделий американской керамики и полотен известных современных художников. Учитывая слабую посещаемость музея, возглавить его поручили энергичному молодому человеку, перед которым была поставлена задача возрождения общественного интереса к этому заведению.
Джим Харистис обладал всеми необходимыми качествами для достижения успеха. Этот техасец с глубоким голосом показал, на что он способен, едва его представили Джону и Иоко. Устроившись в кафе на Мэдисон-авеню и набив рот чизбургером, он предложил Леннонам шестую часть своего годового бюджета плюс все ресурсы имевшегося в его распоряжении музея в обмен на организацию полномасштабной персональной выставки Иоко Оно при участии Джона Леннона. Это было предложение, от которого они не могли отказаться, но и выполнить такой заказ было непросто.
В обычных условиях только очень крупный художник, имевший за своими плечами тридцати– или сорокалетнюю плодотворную карьеру, мог согласиться на организацию выставки такого масштаба. Даже очень плодовитому мастеру пришлось бы обращаться в другие музеи и к частным коллекционерам с просьбой предоставить для выставки приобретенные ими работы, а затем дополнять экспозицию нераспроданными произведениями, включая последние работы, фотографии и проекты. У Иоко Оно, чье творчество состояло из замыслов, перформансов и сценариев, не было выставочных экспонатов, за исключением, быть может, нескольких странных предметов, таких, как улыбающиеся коробочки – которые улыбались в ответ каждому, кто на них смотрел, – или колченогая мебель из «Половины ветра», сваленная в одной из комнат в Титгенхерсте. Поэтому история выставки Иоко в музее Эверсона вылилась в демонстрацию того, как художник, чьих работ недостаточно, чтобы заполнить даже одну самую обычную спальню, умудрился использовать для своего шоу пятьдесят тысяч квадратных футов выставочного пространства. Неудивительно, что шоу получило название «Это не здесь».
Для Иоко единственным выходом было попытаться придать своим замыслам трехмерное изображение, что было очень сложновыполнимой задачей, учитывая крайнюю расплывчатость ее идей. Кроме того, на все про все ей отводилось только шесть недель! Такие требования могли отпугнуть любого другого, но только не Иоко. Она была уверена в успехе.
Она начала с того, что призвала на помощь Джорджа Макуинаса, одного из основателей флаксуса, который, как и было положено классику андеграунда, обретался в подвальном помещении дома 80 по Вустер-стрит, служившем одновременно столярной мастерской и вместилищем всякого хлама. Повсюду валялись коробки со стеклянными глазами, противогазы времен Второй Мировой войны, ящики с консервами и даже заячий помет. Макуинас страдал от астмы и поэтому каждый день делал себе уколы кортизона, а затем распевал грегорианские псалмы, чтобы успокоить нервы. Кроме того, он установил у себя в туалете такой механизм, который каждый раз заливался истерическим смехом, когда в унитазе сливали воду.
Самым необычным устройством в жилище Макуинаса была система безопасности. Дверь, которая вела в его подвал, была утыкана острыми, как бритва, лезвиями, торчавшими наподобие самурайских мечей. Задняя стена спальни была оборудована спасательным люком от подводной лодки. Эксцентричный художник частенько вылезал из этой дыры переодетым, например, в женщину или даже в невесту – кстати, именно эту роль он исполнил на собственной умопомрачительной флакс-свадьбе. К подобным уловкам его вынудила прибегнуть работа: Макуинас был одним из первых, кто начал переделывать в мастерские и ателье для художников фабричные помещения, которые обходились ему почти задаром. Будучи по образованию архитектором, он трансформировал таким образом огромное количество недвижимости, пользовавшейся спросом и стоившей уже миллионы долларов, и за это подвергался постоянным преследованиям со стороны государственных и местных строительных служб. Кроме того, как-то раз его здорово избил некий разгневанный заказчик, в результате чего Макуинас лишился одного глаза.
Макуинас идеально подходил Иоко прежде всего потому, что он был ее старым поклонником, который однажды, еще во время одной из первых выставок Иоко в 1961 году, заявил своей матери, что хочет на ней жениться. Кроме того, в его распоряжении находилась целая бригада плотников, механиков и поставщиков стройматериалов, при этом бывший архитектор обладал умением заставить этих людей работать быстро, качественно и за очень скромное вознаграждение. Он был способен не только материализовать идеи Иоко, но и помочь ей в разработке любых печатных материалов: плакатов, афиш, выставочных каталогов и так далее. Как выяснилось позднее, наиболее запоминающимся экспонатом выставки стала типографская композиция, выполненная на листе бумаги размером с газетную полосу, на которой были собраны все посвященные Иоко статьи и заметки, когда-либо публиковавшиеся в английской и американской прессе. Этот удивительный набор старых фотографий, иллюстраций, газетных заголовков и статей как нельзя лучше подчеркивал общий дух уважения по отношению к авангарду, которым была окутана вся экспозиция.
Макуинас оказался не единственным, кто попался на удочку Иоко и, бросив все свои дела, занялся изготовлением предметов, которых не должно было существовать в природе. В конце сентября тысяча художников получила по почте пластиковый конверт, в котором находился влажный лист бумаги с посланием, которое гласило: «Иоко Оно счастлива пригласить Вас принять участие в водном действе, в ходе которого Вы, совместно с ней, должны будете создать водную скульптуру путем представления оригинального резервуара для воды или идеи такого резервуара, который составит половину скульптуры. Иоко Оно берет на себя поставку второй половины – воды. Данное произведение будет считаться водной скульптурой, созданной Иоко Оно в соавторстве с Вами». На это послание откликнулись примерно десять процентов адресатов, что по меркам системы директ-мэйл является выдающимся результатом. И вскоре в музей Эверсона стали регулярно поступать удивительные предметы самых причудливых форм, предназначенные для заполнения водой от Иоко Оно.
Тем временем на 17-м этаже «Сент-Реджис Отеля» продолжалась лихорадочная деятельность. День и ночь десятки людей работали с энтузиазмом фанатиков – или наркоманов, наглотавшихся стимуляторов. Стив Гебхардт, все еще занятый монтажом «Imagine», для которого сто тысяч футов отснятой пленки требовалось сократить до пятидесяти восьми минут, получил задание подготовить целую серию новых фильмов для показа в музее. Иейн Макмиллан готовил серию фотографий для этикетки на пластинке, на которой лицо Джона должно было постепенно превратиться в лицо Иоко. В отеле была даже специальная комната, где сидела портниха и, не разгибаясь, целый день шила для Леннонов замшевые костюмы.
Одновременно эта выставка явилась для Иоко возможностью продемонстрировать свои таланты в области коммерции. Она решила заполнить сувенирную музейную лавку полотенцами и майками черного цвета, на которых белыми буквами были сделаны надписи: ИОКО, ДЖОН, МИССИС ЛЕННОН, ЭТО НЕ ЗДЕСЬ, ТЫ – ЗДЕСЬ, МУХА, РУКИ ВВЕРХ НАВСЕГДА. Кроме того, за 100 долларов здесь можно было приобрести коробочку в форме буквы "Е", в которой находились копии «Грейпфрута», стеклянные ключи, игрушечные деньги из «Монополии», вырезки из газет и другие авангардистские прибамбасы.
Пока Джон и Иоко нежились в постели в поисках новых идей, Джордж Макуинас работал с такой эффективностью, что умудрился изготовить и установить в галерее все выставочные экспонаты точно в срок. За три дня до вернисажа Джон и Иоко прибыли в Сиракузы для того, чтобы предъявить свои права на результаты чужого труда. Это был напряженный момент даже для такого лишенного всяческого эгоизма человека, как Макуинас, о котором его друг литовец Ионас Мекас сказал: «Для любого человека он готов был снять с себя последнюю рубашку. Но он был чрезвычайно упрям, и Иоко была так же упряма. Поэтому им было не суждено прийти к соглашению». Помимо упрямства оба обладали одинаково взрывными характерами.
За день до открытия между Иоко и Макуинасом вспыхнула бурная сцена. Несмотря на то, что он работал по оптовым ценам, ему не удалось удержаться в рамках выделенного бюджета, и он значительно превысил свои предполагаемые расходы на стройматериалы, рабочую силу, транспортировку и так далее. Когда он сообразил, что Иоко не собирается компенсировать его затраты, то пришел в дикую ярость и пригрозил наполнить Эверсон осветительным газом и взорвать все здание до небес. Через несколько секунд он выбежал из музея, заскочил к первому же попавшемуся парикмахеру и побрился наголо. После этого он вернулся в музей, потребовал вызвать ему такси и приказал отвезти его в аэропорт. Однако по дороге, когда машина подъехала к перекрестку с основной скоростной трассой, он выскочил почти на ходу и по счастливой случайности ухитрился удержаться на ногах. Впоследствии они обменялись с Иоко язвительными письмами, но в течение нескольких лет не сказали друг другу ни слова.
День открытия выставки «Это не здесь» – 9 октября 1971 года – был выбран, естественно, неслучайно. Накануне в актовом зале музея состоялась большая пресс-конференция. Когда на сцене появились Джон и Иоко, они были встречены яркими фотовспышками, нацеленными на них кинокамерами и тянувшимися со всех сторон микрофонами. Иоко была одета в тот же самый костюм, в котором фотографировалась в течение трех последних дней: черная водолазка и узкие брюки с черными сапогами, берет и клетчатая коричневая куртка, из-под которой виднелась золотая цепочка с золотым медальоном. Когда она взяла слово, то сразу перешла к самой сути. «Этим шоу, – начала она, – я хотела бы доказать, что талант вовсе не является необходимым условием для того, чтобы стать художником. Художник – это тот человек, который .обладает вполне определенным складом ума. Любой человек может быть художником. Любой человек способен на общение, при условии, что он достиг достаточного уровня отчаяния. Не существует такого понятия, как воображение художника. Воображение рождается по необходимости как раз у тех, кто находится в отчаянии... Эта выставка является плодом очень неталантливого художника, который отчаянно стремится к общению».
После этого сотни гостей и журналистов стали разбредаться по выставочным залам. Их взорам предстали самые изысканные и дорогостоящие инсталляции, которые когда-либо возводились за пределами стен крупнейших художественных центров Америки. К ста тысячам долларов, выделенных Эверсоном, Джон был вынужден добавить еще 70 тысяч долларов из своего кармана.
Когда посетитель входил в скульптурный дворик, над которым располагался высокий стеклянный потолок, он сразу наталкивался на диалог между Джоном и Иоко, выполненный на серии составленных попарно панно. Диалог был построен на противопоставлений высказываний обоих его участников. Так, например, в ответ на фразу Иоко: «Это окно шириной в две тысячи футов» Джон возражал: «Это окно шириной 5 футов», а на предложение Йоко: «Оставайтесь здесь до тех пор, пока комната не станет синей» Джон отвечал: «Убирайтесь, как только комната посинеет». И так далее, до тех пор, пока Йоко не объявила название выставки: «Это Не Здесь», которому Джон тотчас противопоставил название своего последнего шоу: «Ты – здесь».
А посетители продолжали блуждать по царству причудливых предметов. «Портрет Джона Леннона в образе молодого облака» представлял из себя кровать, на которую должен был лечь любой желающий, чтобы через маленькое окошко полюбоваться дождливым небом. «Галерея торговых автоматов», расположенная по соседству, состояла из ряда ненастоящих машин, которые, по идее, должны были продавать желуди, воздух, слезы и металлические слитки. Целый зал был посвящен так называемым «Частичным картинам» «облака, ледника, луны, Ку-клукс-клана, смога, альбиноса, дыма, бриллианта из „Дела о бриллиантовом ожерелье“, полнолуния, звезды, снега, белого кровяного тельца, Белого дома, газировки, натрия, радия, родинки Моны Лизы, Человека в железной маске, детской мозаики».
Одна из галерей второго этажа была полностью посвящена предыдущим работам Йоко, таким, как «Вечные Часы» (циферблат без стрелок), шахматная доска, на которой с обеих сторон были выстроены фигуры только белого цвета, куски чистого холста, на которых посетители могли сами нарисовать что угодно, а также некоторым новинкам, среди которых можно было выделить «Ящик с опасностями» (сунь в него руку на свбй страх и риск), который оказался наполненным резиновыми колючками. Соседняя галерея, которая называлась «Шестое измерение», содержала хэппенинг. Каждый посетитель должен был натянуть противогаз с очками, закрашенными черной краской, затем у него спрашивали, какую пищу он предпочитал – минерального, растительного или животного происхождения, после чего ему давали что-то съесть и запускали на полосу с препятствиями.
Но самым интересным экспонатом выставки было «Водное действо». Эта удивительная коллекция действительно была достойна знаменитого музея Барнума. Несмотря на то, что средний уровень был не выше уровня воды в каждом предмете, невероятная смесь элементов водной конструкции приводила зрителей в восторг. Один из лучших экспонатов был предложен Джоном Ленноном. Названный «Мочевым пузырем Наполеона», он представлял собой странную розовую массу, заключенную в пластиковый пакет. Джордж прислал Йоко молочную бутылку, а Ринго – зеленый пластиковый пакет для мусора, наполненный водой и снабженный пояснительной надписью, которая гласила: «Эта губка была выловлена в открытом море у берегов Ливии, перевезена на остров Калимое и препарирована. Ее наполнили британской водой. Когда она высохнет, то станет губкой, выловленной в открытом море у берегов Ливии, перевезенной на остров Калимое и препарированной, а затем наполненной водой из другой страны». Неплохая пародия на Концептуальное Искусство.
Дилан прислал Йоко номер «Нэшвилл Скайлайн», плавающий в аквариуме, точно какой-то деревенщина из Атлантиды. Тим Лири прислал капсулу. Одним из экспонатов, вызвавших наибольшее восхищение, стал открытый «фольксваген-жук», который художник Боб Уоттс наполнил водой, превратив его в «Водного Жука». А вкладом романиста Джона Барта стал лист бумаги, на котором было написано: «Объем воды выделяемой равен объему воды потребляемой».
Музей Эверсона, построенный по образу линии Мажино, был одним из немногих музеев, способных выдержать осаду ленноновских фанов. В день открытия восемь тысяч подростков выстроились в очередь под дождем у входа в галерею, которую обычно и за целый год не посещает такое количество народа. Но это были уже далеко не те миролюбивые хиппи из шестидесятых годов. Им было глубоко наплевать на Концептуальное Искусство или на Йоко Оно. Они пришли, чтобы увидеть Джона Леннона. Как только эта джинсовая орда устремилась внутрь галереи, сотрудники музея сразу почувствовали приближение катастрофы. Словно отвечая на заявление Йоко о том, что любой человек может стать художником, эти детишки, поняв такую философию по-своему, перебили, изорвали на куски, изуродовали и разграбили всю выставку.
«Главной темой шоу была вода, – рассказывал Генри Эдварде, – и вскоре она текла буквально отовсюду – из разбитых предметов „Водного действа“, из кранов, из засоренных туалетов». По мере того как водяной хаос приобретал все больший размах, Мэй Пэн наблюдала за мрачными Джоном и Йоко, оставаясь вместе с ними в библиотеке. "Они провели на ногах несколько дней подряд, – вспоминает она, – и были жутко измотаны. То и дело прибегали сотрудники музея с докладами о новых разрушениях. «Они только что разбили стеклянные молотки», – сообщил кто-то. «А ты знаешь, во сколько обошлись эти сраные молотки? – нахмурился Джон. – В несколько штук за каждый». «Если они их разбили, значит, так и должно было случиться», – грустно, но спокойно ответила Йоко. «Я же говорил тебе, что их надо поместить под стекло, – возразил Джон. – Я говорил, что всю эту хренову выставку надо было поместить под стекло. Я говорил, что нельзя разрешать ни к чему прикасаться, что они разобьют все, на что смогут наложить свои чертовы лапы!» Но Иоко оставалась невозмутимой. «Чему быть, того не миновать», – снова повторила она. В этот момент в библиотеку ворвался очередной служащий: «Еще один туалет засорился». «Смею предположить, что и этого тоже было не миновать», – ехидно заметил Джон. «Да, – ответила Йоко. – Да».
Для того чтобы обеспечить успех своей выставки, Иоко пустила слух о воссоединении «Битлз». К концу дня всех облетела весть о том, что в полночь в музее «великолепная четверка» собиралась устроить джем-выступление. Задолго до объявленного часа перед зданием собралась еще большая толпа подростков, которые вопили и требовали впустить их внутрь. В конце концов, не видя ответной реакции, молодежь решила перейти к активным действиям: они сломали стальные двери и наводнили здание. Их удалось успокоить только после нескольких часов вандализма, когда Аллен Гинсберг, который сидел на дне рождения у Леннона в отеле «Сиракузы», расположенном как раз через дорогу от музея, покинул торжественный прием и сумел увлечь разгулявшихся ребят хоровым пением. После того как восстание утихло само по себе, от экспозиции почти ничего не осталось. Йоко была вынуждена кое-как собрать по частям остатки своей выставки и разместить ее на гораздо меньших по размерам, но лучше охраняемых площадях.
Йоко была в восторге от рекламы, которую она получила благодаря своей выставке, но одновременно и в отчаянии от того, насколько испортились ее взаимоотношения с другими художниками. Многие из них были недовольны тем, что их экспонаты были неправильно собраны или оказались уничтожены. Кроме того, никто не понял смысла демаркационных линий, начертанных Иоко по всему музею и размечавших зоны, куда допускались только определенные категории посетителей. Если такой подход считался вполне нормальным для традиционного японского общества, то нью-йоркские художники и журналисты восприняли его не иначе, как откровенную провокацию. Йоко вызывала у окружающих такое сильное возмущение, что Джон не выдержал и посоветовал ей позвонить кому-нибудь из честных и наиболее благожелательно настроенных людей, таких, например, как Говард Смит, и поинтересоваться его откровенным мнением по этой проблеме.
Говард прекрасно запомнил тот вечер, когда у него дома раздался удивительный телефонный звонок. «Джон сказал, что ты – единственный человек, который всегда был со мной честен, – начала Йоко. – Я знаю, что не очень хорошо обошлась с тобой в последний раз. Но я хочу спросить тебя вот о чем. Почему люди не любят меня?» Затем она крикнула Джону, сидевшему в другом конце комнаты: «Все правильно, Джон? Я спросила именно так, как надо?» Затем, снова вернувшись к Говарду, она повторила, заговорив уже от третьего лица: «Почему люди не любят Иоко? Мы с Джоном поспорили на эту тему. И он уверен, что ты сможешь сказать мне правду. Ведь ты знал меня еще до того, как я стала Иоко Джона».
«Ты и правда хочешь это услышать?» – Говард не верил своим ушам.
«Да, да, да! – с придыханием ответила она и добавила: – Особенно насчет выставки! Почему все так ненавидят меня, в то время как я была со всеми так любезна и пригласила их всех участвовать в моем чудесном мероприятии?» Говард набрал в легкие побольше воздуха и нырнул.
«Йоко, – произнес он, – люди не любят, когда их хватают за горло. Когда люди начинают разговаривать с тобой об искусстве, о музыке, о чем угодно, ты всегда считаешь, что знаешь об этом больше, чем любое другое живое существо на Земле. Допустим, что это действительно так! Допустим, ты такой же великий художник, как Микеланджело. Но никто не согласится с тем, чтобы этот Микеланджело схватил его за глотку и душил до тех пор, пока он не согласится с тем, что ты – Микеланджело! Но именно такое ощущение создается у любого, кто заговаривает с тобой об искусстве. Даже у меня, человека с сильным самообладанием, возникает желание немедленно убраться подальше от того места, где находишься ты. Ты меня душишь! Переводишь меня в болевой захват! Ждешь, чтобы мои глаза вылезли из орбит, пока я не признаю, что ты – гениальнейшая из художников...»
«Я фантастический художник! – завизжала в этот момент Йоко, обрывая его на полуслове. – Ты что, хочешь сказать, что я – плохой художник?»
Неожиданно Говард понял, что угодил в ту самую ловушку со стальными зубами, которую сам только что анализировал. «Джон! Джон! – услышал он голос Йоко, взывавший к Леннону. – Говард сказал, что я паршивая мегера! Это неправда! Скажи, Джон, ведь я совсем не стерва, которая душит людей?»
Джон понятия не имел, чем был вызван такой взрыв с ее стороны, но на всякий случай закричал: «Нет, ты послушай Говарда! Он говорит тебе правду!»
В ответ на что Иоко завопила: «А-а-а! И ты тоже против меня, Джон!»
Глава 46 Рок-революция
Несколько недель спустя Джон и Йоко ужинали с Джерри Рубином в «Серендипити». Сидя в модном ресторане, напоминавшем одновременно кафе-мороженое прошлых лет и лавку старьевщика, они делились с лидером «новых левых» своими планами на ближайшее будущее. «Йоко говорила, что ей очень хочется жить в Нью-Йорке и делать что-нибудь полезное, – рассказал Рубин. – Джон сказал, что хочет собрать новую группу. Он хотел играть, а затем возвращать все заработанные деньги народу. Я пришел в такой восторг, что расцеловал их обоих».
Ликование Рубина объяснялось не только радостью приобретения новых сторонников. В конце 1971 года рейтинг вдохновителя «нового левого» движения значительно снизился. И дело было не только в том, что средства массовой информации начали уставать от его клоунады, ситуация усугублялась еще и тем, что внутри его собственной партии Ииппиз179 назревал раскол, во главе которого стоял очень сильный соперник – Томас Кинг Форсэйд, блестящий молодой человек, но с явно выраженной склонностью к насилию. Рубин, попавший под действие собственного правила – «Никогда не доверяй тому, кто старше тридцати!», стал свидетелем формирования раскольнической группировки, члены которой называли себя Зиппиз (От американского «zippy» – живой, энергичный.). Эти ребята очень скоро придут поздравить его с тридцатичетырехлетием и принесут в подарок большой белый торт, которым тут же залепят ему в физиономию!
Джон и Иоко, которые стремились стать лидерами авангарда уже после того, как он сделался неотъемлемой частью художественного истеблишмента, в очередной раз продемонстрировали свою наивность и неосведомленность, когда захотели вскочить на подножку радикалистского движения как раз тогда, когда все остальные старались побыстрее с нее соскочить. На самом деле, для того чтобы увлечь Леннонов, Джерри хватило одного телефонного звонка. Еще в июне, когда Рубин увидел их фотографию на страницах нью-йоркского номера «Дэйли ньюс», он позвонил в АВКСО. Йоко перезвонила ему уже через два часа. В следующую субботу во второй половине дня – в тот самый уик-энд, когда Джон и Йоко выступали с Фрэнком Заппой, – Рубину, Эби и Эни Хоффманам была назначена встреча на Вашингтон-сквер. Когда к ним подъехал лимузин Джона и Иоко, вся компания забралась в автомобиль и поехала в направлении площади Святого Марка к дому Хоффманов, где каждая комната была напичкана микрофонами федеральных служб. "Джон забавлялся, как мог, – вспоминает Рубин. – Когда мы проезжали мимо полицейских, он ложился на пол лимузина, размахивал из окна своими красно-бело-синими кроссовками и кричал: «Смотрите! Я патриот!»
В течение пяти часов, которые продолжалось это первое собрание, каждый из его участников силился убедить остальных в том, что они разговаривают на одном языке. Рубин говорил о том, как «Ииппиз использовали в политике тактику „Битлз“, стараясь добиться слияния музыки и жизни в единое целое. Кроме того, мы сравнили их постельные интервью с акциями Ииппиз. Как оказалось, в течение многих лет мы все пятеро занимались одним и тем же». Рубин сделал вывод о том, что все политические идеи Джона умещались в двух лозунгах: «Это мы против них» и «Для нас нет ничего невозможного».
В течение последующих месяцев Джон и Йоко были слишком заняты реализацией других проектов и решением личных проблем, чтобы принимать сколь-нибудь серьезное участие в политической жизни Америки. Но после выставки в музее Эверсона неутомимая парочка решила резко изменить направление главного удара. Вместо предполагавшегося блицкрига на художественный мир Нью-Йорка они задумали сконцентрировать усилия на политическом радикальном движении. И чтобы подчеркнуть серьезность своих новых намерений, 1 ноября они покинули верхний этаж самого аристократического отеля в Нью-Йорке и переехали в задрипанную квартирку на первом этаже в одном из домов Вест-вилледж.
Новое жилище Леннонов располагалось в обветшалом старом доме со слепым серым фасадом за номером 1551/2 по Бэнк-стрит. Пройдя через темные и узкие служебные помещения и отодвинув в сторону американский флаг, вы попадали в двухэтажный аппендикс, уходивший вглубь двора, который сильно напоминал мастерскую художника, явно причислявшего себя к представителям богемы. От потолочного застекленного люка вниз спускалась спиральная лестница грязно-зеленого цвета. В самом углу комнаты стояла гигантская деревянная кровать, рядом с которой возвышался огромный цветной телевизор.
Стоило Джону Леннону расположиться в этих более чем скромных условиях, как он начал мечтать о том, чтобы ничего не иметь. Корреспонденту «Нью-йоркера» он заявил так: «Мне не нужен этот огромный дом, который мы построили себе в Англии. Мне вовсе не хочется быть владельцем всех этих больших домов, больших автомобилей, даже если за них платит наша компания „Эппл“. Я собираюсь расстаться со всем своим имуществом, обналичить фишки и постараться использовать наилучшим образом все то, что останется. Йоко, будучи сама родом из большой семьи, помогла мне избавиться от комплекса накопительства, который часто возникает у людей, которые раньше жили в бедности, как я». Что касается самой Йоко, то она добавила, что, несмотря на детство, проведенное в достатке, она мечтала только об одном – вернуться к жизни нищего, но счастливого художника, которую она вела в молодые годы в Гринвич-вилледж. Проникнувшись духом альтруизма. Ленноны взялись за дело освобождения рабочего класса и пробуждения молодежи от спячки, в которую ее ввергло капиталистическое общество.
В то время как Джон поклялся пожертвовать «библиотекам и тюрьмам» все свое имущество, за исключением самого необходимого, его неожиданно освободили от обязанности расстаться даже с самыми дорогими для него вещами. Однажды ночью раздался звонок в дверь, и Леннон, пренебрегая первым правилом выживания в городе Нью-Йорке, открыл дверь, не удосужившись определить, кто же за ней стоит. В квартиру ввалилась парочка оборванных наркоманов, которые пробормотали что-то насчет того, что пришли «получить должок». Джон в ужасе застыл на месте, а проходимцы принялись методично обчищать помещение. Несмотря на просьбы Леннона, они уволокли телевизор, сняли со стены литографию Дали и вытащили маленький антикварный столик, видимо, только потому, что он легко проходил в дверь. Не успели негодяи скрыться за дверью, как Джон с ужасом сообразил, что в ящике столика осталась лежать его записная книжка, в которой были адреса и телефоны всех лидеров радикального движения, находившихся в подполье, включая Тима Лири, скрывавшегося в Швейцарии после побега из калифорнийской тюрьмы, и Дэйна Била, изобретателя так называемой смоук-ин180, разыскиваемого ФБР. Джон набрал номер Тома Басалари, ветерана из отдела по борьбе с наркотиками, и рассказал ему свою кошмарную историю. Басалари распространил эту информацию через сеть осведомителей, и через шесть часов Джон получил назад свою книжку, а вместе с ней и объяснение причин подобного наезда. Дело было в том, что предыдущий жилец этой квартиры, Джо Батлер из группы «Лавин Спунфул», задолжал своему букмекеру, который, придя в бешенство, послал парочку нуждавшихся ребят получить с должника по счету.
В ту зиму Джон и Йоко принимали своих придворных, лежа обнаженными в постели. Король и королева контркультуры показывали свою наготу, не испытывая ни тени стыда. (Джо Батлер был поражен, когда увидел, какое у Леннона было тело: «Джон был удивительно дряблый. У него не было не только жира, но и ни грамма мускулов».) Джерри Рубин, выступавший в роли мажордома, представлял царственной чете своих друзей-радикалов. Эти бородатые и небрежно одетые герои проходили через тронный зал, словно напоминание о революционных шестидесятых: Хыо Ньютон, который в Алжире обменивался с Элдриджем Кливером угрозами по радио; Бобби Сил, который сидел связанный и с заткнутым ртом в зале суда в Чикаго; Ренни Дэвис, самый крупный из организаторов движения, в чью сеть недавно проник стукач, работавший на ФБР.
Политические джем-сейшны на Бэнк-стрит, продолжавшиеся порой по десять часов подряд, вылились в один прекрасный день в смелое решение: Джон и Йоко должны были возглавить «революционное турне», которое задумывалось как симбиоз рок-музыки, авангардистских хэппенингов, радикалистской риторики и демонстраций протеста. Турне должно было стартовать в начале лета на восточном побережье, пройти со множеством остановок по всей стране и завершиться в августе в Сан-Диего, где в это время должна была проходить конвенция республиканской партии в преддверии президентских выборов. Здесь революционеры, получившие заряд бодрости после триумфального марша и осознавшие себя в роли зачинщиков великого молодежного крестового похода, намеревались окончательно выяснить отношения с администрацией Никсона. Когда слухи о готовящейся акции дошли до правительства США, оно усмотрело в этом очередной заговор «чикагской семерки», которая использовала Джона Леннона в качестве наживки.
Но вашингтонские руководители явно заблуждались. Любой из тех, кто присутствовал на собраниях, мог бы засвидетельствовать, что истинным автором этого плана был не кто иной, как Джон Леннон, единственный, кому проекты такого грандиозного размаха были не в диковинку.
По большому счету, идея этого революционного турне возникла у Леннона под впечатлением «Концерта для Бангладеш». В сентябре 1971 года он даже написал Эрику Клэптону письмо с предложением зафрахтовать корабль (за счет «И-Эм-Ай»), погрузить на него музыкантов, инженеров звукозаписи, кинооператоров и – самое главное! – судового врача. Его план состоял в том, чтобы отплыть из Лос-Анджелеса на Таити, ведя на борту судна одновременно профессиональную – репетиции, запись, съемки – и семейную жизнь, так как предполагалось, что все музыканты смогут взять с собой жен и детей. После двухнедельного отдыха под пальмами путешествие должно было продолжиться с целью дать хотя бы по одному концерту во всех странах, находившихся за «железным занавесом». Джон и Иоко получили бы возможность выразить свои политические взгляды, не принуждая при этом никого последовать их примеру.
Однако регулярные собрания, проходившие на Бэнк-стрит, внесли изменения в соотношения ценностей. Теперь политика явно превалировала над музыкой. Генеральная репетиция «революционного турне» состоялась 10 декабря 1971 года в ходе крупной манифестации, проходившей в Энн-Арбор в знак протеста против ареста Джона Синклера, лидера местных хиппи, одновременно возглавлявшего партию, Белых Пантер, чьим программным лозунгом был «Рок-н-ролл, наркотики и секс на улицах!». Синклер получил десять лет тюрьмы за то, что продал два косяка переодетому агенту бюро по борьбе с наркотиками. Отсюда происходило и название выступления «Ten for Two»181. Когда Джерри Рубин уговорил Джона Леннона принять участие в этой акции, Джон решил воспользоваться случаем и проверить на деле бригады кинооператоров и звукоинженеров, которые должны были отправиться следующим летом вместе с ним через всю страну. Он обратился в компанию «Джоко Продакшнз» с просьбой заснять и записать весь концерт на Крайслер Стадиум в Энн-Арбор. Кроме того, Джон и Йоко записали радиорекламу, которая обеспечила полный аншлаг: организаторы концерта распродали 15 тысяч билетов.
Выступление во главе афиши в защи,ту самого знаменитого экстремиста из Энн-Арбор было в действительности гораздо более провокационным поступком, чем это признавал Джон Леннон. Дело было не только в том, что община Синклера стала к этому времени самым сильным ядром экстремизма в Америке, но еще и в том, что в этом городе наркоманы были у власти, которую получили вполне законным путем. В ходе совершенно невероятной предвыборной кампании хиппи получили большинство в городском Совете и в качестве первого, наиболее символичного решения постановили снизить меру наказания за хранение марихуаны до штрафа размером в пять долларов. С этого момента город находился под самым пристальным наблюдением разнообразных спецслужб. Появиться здесь в качестве глашатая революции было все равно, что торжественно объявить: «Считайте меня одним из них!»
Концерт «Теп for two» стал прощальным салютом контркультуры. В течение семи часов подряд Крайслер Стадиум сотрясали взрывы света и звука, перемежавшиеся долгими паузами, в течение которых целые бригады техников готовили аппаратуру для выступления следующего участника. А тем временем вдоль по проходам непрерывно патрулировали продавцы наркотиков, предлагавшие на выбор всю гамму своего товара, в особенности травку, которую просто отламывали кусками от килограммовых брикетов. Когда на сцену вышли полуголые и потрясающе длинноволосые ребята из группы «Ал», главные представители так называемого Метедринового Бита, их задорная музыка то и дело прерывалась эгоцентричными лидерами движения, которые вылезали на сцену и обращались к толпе с напыщенными речами.
Самым эмоциональным моментом шоу стала трансляция телефонного разговора Джона Синклера из тюрьмы. Когда Синклер обратился к своей жене Лени, а затем к четырехлетней дочери, его голос, жалобно разносившийся по стадиону через огромные громкоговорители, неожиданно сломался, словно говоривший не в силах был сдерживать дольше рвущиеся наружу рыдания. И тогда, в течение нескольких удивительных мгновений, боль посаженного за решетку человека пронзила всю эту толпу обкурившихся и счастливых наркуш.
Джон и Йоко появились на сцене только к трем часам утра, после того как уже выступили Фил Оке, Боб Сигер, Арчи Шепп, Коммандер Коуди, Стиви Уандер, а также Дэвид Пил и Лоуэр Ист-Сайд. Когда Джон и Йоко присоединились к Пилу и Джерри Рубину, они повели себя вовсе не так, как ожидалось. Они были скованы и чувствовали себя явно неуверенно, точно парочка, поднявшаяся к соседям сверху, чтобы попросить: «Вы не могли бы сделать немного потише?» Голос Джона разительно отличался от пафоса всех, кто выступал в этот вечер до него. «Мы пришли сюда сегодня, – спокойно произнес он, – чтобы сказать, что нам надоело быть пассивными. И что мы все можем добиться очень многого. Флауэр Пауэр провалилась, ну и что из этого? Давайте начнем все сначала».
Вслед за этим Джон, аккомпанируя себе на акустической гитаре, исполнил песню «Аттика Стейт», а затем сразу «Luck of the Irish»182, чьи суровые слова резко контрастировали с меланхолической мелодией, словно взятой из мюзик-холла, после чего Йоко спела бодренькую феминистскую песенку «Sisters, О Sisters».
Единственной интересной вещью из всего агитпроповского набора стал призыв Леннона к освобождению Джона Синклера. Простая мелодия этой песни, поразившая простонародной искренностью интонации, достигла высшей эмоциональной точки, когда Джон стал повторять свое требование, причем сделал это не менее пятнадцати раз подряд.
Несмотря на то что на стадионе собрались все местные экстремисты, зрители в большинстве своем все же пришли посмотреть на выступление легендарного Джона Леннона. Поэтому когда рок-звезда, исполнив четыре незнакомых вещи, покинула сцену, вся зрительская аудитория протестующе повскакала на ноги. Люди почувствовали себя обманутыми. Но Ленноны появились здесь только для того, чтобы засвидетельствовать свою причастность. Нравиться публике было заботой эстрадных артистов, а вовсе не короля и королевы контркультуры.
В следующий понедельник, после рассмотрения апелляции Джон Синклер был освобожден. Высший суд штата Мичиган обосновал свое решение принятым за три дня до этого законом, согласно которому максимальный срок тюремного заключения, предусмотренный за хранение марихуаны, был определен в один год.
Обрадованные тем, что они посчитали своим первым политическим успехом, Ленноны еще больше активизировались. В те дни их можно было видеть и на политической акции в театре «Аполло», и на процессе по делу «гарлемской шестерки», и на уличной демонстрации в поддержку ИРА. Даже Джерри Рубин был вынужден признать: «Джон был в этот период даже большим радикалом, чем я. Он то и дело подшучивал над своими прошлыми проектами, говоря: „Это она у меня сторонник мира и любви“. Его сердце было переполнено гневом. Он ненавидел полицию и постоянно кипел по этому поводу».
Увлеченность Леннона революционной жестокостью проявилась в его дружбе с А. Дж. Вебберманом, известным «дилановедом» и одним из лидеров Фронта за освобождение рока, чьей целью было спасение рока от коммерциализации. Леннон начал с того, что обрушился на него в «Вилледж войс» за преследования, которым Вебберман подвергал Боба Дилана, но когда Вебберман заявился со своими головорезами в офис Аллена Кляйна, чтобы оспорить программу распределения средств, полученных от концерта для Бангладеш, Джон был поражен и очарован упрямой силой этого человека, которому было нечего терять. И он пригласил его на очередное заседание на Бэнк-стрит.
Как и Дэвид Пил, чей альбом «The Pope Smokes Dope»183 продюсировал в то время Леннон, Вебберман настаивал на том, чтобы общаться на равных. Он не только поучал Леннона в том, что касалось его политической деятельности, но и давал советы Джону, как усовершенствовать тексты песен. Отношения между Ленноном и Вебберманом очень скоро стали напоминать те, что нередко существуют между социальным агитатором и сочувствующим его идеям толстосумом. Несмотря на то, что Леннон продолжал публично выступать против насилия, он не испытывал ни малейших угрызений совести, финансируя ИРА. Когда один из представителей ИРА, занимавшийся контрабандой гашиша в Соединенные Штаты для последующей покупки бомб и винтовок, в поисках покупателя связался с Ленноном, Джон вывел его на Веббермана, который в свою очередь свел Леннона с людьми из «Нозерн Айриш Эйд» (НИА), нью-йоркского отделения ИРА. Представители этой организации позднее сказали Вебберману: «Вы оказали нам величайшую услугу: помогли получить в качестве пожертвования несколько тысяч долларов». (Кроме всего прочего, Джон передал НИА права на доходы от песни «Luck of the Irish».) Когда летом 1972 года в Майами проводились конференции политических блоков, Вебберман арендовал два автобуса, набил их своими сторонниками и поехал в соседний штат сеять панику среди политических деятелей, то есть делать именно то, за что была осуждена «чикагская семерка». Поездку финансировал Леннон, который к тому же оплатил рекламу диска «The Pope Smokes Dope» на целой полосе газеты «Ииппи тайме».
«Леннон верил в насилие, – утверждал Вебберман. – Иначе он никогда бы не познакомил меня с такими людьми, как тот парень из ИРА. Он предчувствовал, что в Майами должна была случиться заварушка. И все-таки дал нам денег. Правда состоит в том, что он действительно финансировал волнения в Майами».
Скорее всего, Леннон пошел бы значительно дальше, если бы его не остановили иммиграционная и натурализационная службы, которые в марте 1972 года потребовали его депортации. Леннон пользовался в Соединенных Штатах статусом исключительного гостя. Не имея возможности получить визу обычным путем, поскольку в свое время он был осужден в Англии за хранение наркотиков, Джон пользовался временным разрешением Госдепартамента, полученным для него Алленом Кляйном, который смог уговорить конгрессмена Джонатана Бингема походатайствовать за Леннона. Едва получив на руки шестидесятидневную визу, Джон Леннон включился в подготовку революции в Америке. Правительство не считало его сколько-нибудь опасным, но вместе с тем отдавало себе отчет в том, какую выгоду могут извлечь из дружбы с Ленноном политические противники существующего режима. Поэтому встала необходимость убрать его из страны. Когда Джон и Йоко почувствовали, что запахло жареным, они бросились на поиски хорошего адвоката по вопросам иммиграции и вскоре нашли одного из лучших – Леона Уайлдса.
Будучи ортодоксальным и консервативным евреем, Леон Уайлдс не имел ни малейшего понятия о том, кто такой Джон Леннон. Поэтому он отнесся к нему как к любому другому клиенту. Джон и Иоко, со своей стороны, никогда не были с ним достаточно откровенны и сообщали Уайлдсу только ту информацию, которая, по их мнению, могла «мотивировать» его действия. Они избегали говорить о том, что хотели бы постоянно проживать в Соединенных Штатах, а придерживались той версии, что им якобы необходимо здесь находиться, чтобы решить вопрос об опеке ребенка. Они отрицали то, что принимали наркотики или что собирались принять участие в знаменитом революционном турне. Естественно, они не проронили ни слова о том, что давали деньги людям из ИРА или погромщикам в Майами. Вероятно, самой большой их ошибкой явилось то, что они утаили личность тех длинноволосых молодых людей, которые, точно апостолы, сидели вокруг их кровати, в то время как Уайлдс совещался со своими клиентами, поскольку один из этих апостолов оказался Иудой.
С другой стороны, когда у адвоката спросили, не пытался ли он выяснить у своих клиентов правду по всем этим щекотливым вопросам, он признался: «Я никогда не касался в беседах с Джоном этих вопросов, наверное, потому, что сам не желал слышать на них ответы или считал, что он не скажет мне правду и я потеряю мотивацию. Я действительно хотел помочь этим людям. И у меня возникли бы серьезные проблемы, если бы я почувствовал, что они стремятся свергнуть наше правительство. Это совсем не то, что представлять чьи-то интересы на уголовном процессе, где вы обязаны сделать для своего клиента все, что только возможно. В нашем случае я мог отказаться в любой момент». Умение Йоко манипулировать людьми в собственных интересах не подвело ее, когда она принялась за Леона Уайлдса. Он поверил, что Ленноны стали жертвами слишком усердных борцов с наркотиками и объектом несправедливого преследования со стороны правительства США.
Стратегия, избранная адвокатом, была проста. Он потребовал для Леннонов разрешения на постоянное жительство, упирая на то, что в данном случае речь шла о воссоединении семей, что являлось одним из основных принципов закона об иммиграции. Иоко, будучи матерью ребенка-американца, имела право на статус резидента. Если этот статус будет присвоен ей, но в нем будет отказано Джону, правительство окажется виновным в разделении семьи. Уайлдс проинструктировал Йоко о том, какое заявление она должна была сделать для прессы: «Меня вынуждают сделать выбор между дочерью и мужем». Что же касалось обвинения, связанного с наркотиками, то Уайлдс, который понятия не имел о том, что такое «травка», прекрасно знал, что гашиш нигде и никогда официально не причислялся к группе наркотиков. То, что не было запрещено законом, не могло являться основанием для отказа.
Несмотря на это, очень скоро Уайлдс убедился в том, что стандартная процедура наталкивалась на стену. Когда он обратился к своему старому приятелю Солу Марксу, директору местного отделения иммиграционной службы, то ему был оказан более чем холодный прием. Много лет спустя Уайлдс узнал о том, что Маркс получал указания прямо из Вашингтона. Причиной, по которой правительство так ополчилось на Джона Леннона, стал доклад Юридического подкомитета Сенатского комитета по внутренней безопасности. В этом документе, который 4 февраля 1972 года лег на стол Генерального Прокурора Джона Н. Митчелла, отмечалось присутствие Леннонов на концерте в поддержку Джона Синклера, но особый упор делался на планы проведения общенационального турне во главе с Ленноном, «в результате которого сейфы „новой левой“ оппозиции должны были пополниться весьма значительными средствами, что автоматически привело бы к столкновениям между этой группой и представителями закона в Сан-Диего». Было очевидно, что Генеральный Прокурор связался с иммиграционной службой, которая отдала распоряжение как можно скорее убрать Джона Леннона из Соединенных Штатов.
Вся информация, представленная в этом докладе, приписывалась анонимному источнику, который, очевидно, был прекрасно осведомлен обо всем, что происходило на Бэнк-стрит. Несмотря на то, что Леннон понятия не имел об этом докладе, информация о котором всплыла только через несколько лет, к тому времени он уже старался проявлять максимум осторожности. Он предупреждал всех знакомых о том, что его дом находится под наблюдением, а все телефонные разговоры прослушиваются. Однако, как выяснилось позже из обнародованной части досье на Леннонов, заведенного в ФБР, никакого специального наблюдения за ними не велось. Агенты получили инструкцию приглядывать за Леннонами, но их отчеты демонстрировали откровенное незнание объекта наблюдения даже в таких деталях, как домашний адрес. В действительности единственным уязвимым местом Джона и Иоко было их пристрастие к наркотикам. Леннон опять принялся за героин и собирался этим летом пройти очередной курс лечения. Механизм депортации Леннонов, запущенный в действие, растянулся на несколько лет, периодически приводя к кризисным моментам и обрекая Леннонов на тягостное ожидание.
Каким бы ни было истинное положение вещей, разочарование Леннона в своем политическом гуру в точности повторило ту же схему, которая сложилась в его взаимоотношениях с теми людьми, с которыми он связывал большие надежды, -с гуру от религии, от психиатрии и всеми остальными спасителями, которые в конечном итоге принесли ему одно только разочарование. В данном случае, как, впрочем, и всегда, он не только отрекся от своих политических убеждений, но и высмеял саму идею о Джоне Ленноне как политическом деятеле. В 1980 году он подвел итог радикалистскому этапу своей жизни, выразившись следующим образом: «В конце шестидесятых – начале семидесятых я окунулся в так называемую политику, скорее из чувства вины, чем по какой-либо другой причине. Вины за то, что был богатым и считал, что мира и любви было недостаточно и требовалось пойти под пули или получить по морде, чтобы доказать свою принадлежность к народу. Я делал это наперекор собственным инстинктам». И тем не менее стоило его политической деятельности пойти вразрез с личными интересами, как он тут же эту деятельность прекратил. Весной 1972 года Джон Леннон окончательно отвернулся от политики.
Глава 47 Общественные благодетели, охотники за людьми
В первых числах июня 1972 года, когда, по идее, Джон и Йоко должны были заниматься раскруткой своего нового, только что вышедшего альбома «Some Time in New York City»184, они внезапно исчезли. В течение целой недели никто не получал от них никаких известий. Когда они вновь выплыли на поверхность, то оказались на другом конце страны, в Калифорнии. Они позвонили в Нью-Йорк из дома, расположенного в Оджей, который им предоставили знакомые и в котором в течение многих лет жил Кришнамурти. Однако Ленноны вовсе не собирались возвращаться к религии. Официально они заявили, что отправились в туристическую поездку по стране, но на самом деле Джон и Иоко опять решили поиграть в Бонни и Клайда.
Когда прошлым летом суд, состоявшийся на Виргинских островах, присудил Йоко право опеки над дочерью, судебные инстанции в Хьюстоне приняли решение временно передать Киоко под опеку Тони Кокса. В обоих случаях второй родитель получал право посещения ребенка. Но в том, что касалось Йоко, это право предоставлялось ей на очень жестких условиях. Во-первых, она должна была внести залог в размере 20 тысяч долларов в качестве гарантии того, что не увезет ребенка из трафства без особого на то разрешения. Кроме того, во время первой встречи Йоко с дочерью Киоко должна была вернуться на ночь домой. И только после выполнения этих условий Иоко получала право забирать дочь и увозить ее куда угодно на выходные через раз, а также на десять дней во время рождественских каникул.
Когда 19 декабря Ленноны приехали на первое свидание с Киоко, они сразу поняли, что Тони Кокс вовсе не собирался предоставлять им еще одну возможность похитить девочку. Зная, что залог в 20 тысяч долларов не смог бы остановить Джона и Йоко, он потребовал, чтобы прежде они встретились с ним в присутствии пастора Остина Уилкерсона. Во время этого свидания Джон и Иоко вели себя как нельзя более любезно, а Йоко даже заявила, что не имеет ничего против того, чтобы повидаться с дочерью в присутствии других людей. Мистер и миссис Уилкерсон, со своей стороны, сообщили, что Киоко находилась в это время у них дома в Тимбергроув. Они пригласили Леннонов к себе на следующий день, однако, вместо того чтобы встретиться с Киоко, Джон и Йоко спешно вернулись в Нью-Йорк и заявили прессе, что подают на Тони в суд.
На следующей неделе Уилкерсоны заметили, что их дом находится под наблюдением странных людей, расположившихся по обоим концам квартала. Однажды после обеда к дому подъехали два больших черных лимузина, из которых вывалилась целая армия нью-йоркских адвокатов в черных костюмах. Они потребовали, чтобы их впустили. Пастор с женой встали на пороге своего дома, и после резкой перебранки пришельцы были вынуждены уехать.
Обнаружение, наблюдение и проникновение – такую тактику использовали против Тони Джон и Йоко после провала первой попытки похищения ребенка. Когда они узнали, что он вернулся в Штаты и живет недалеко от дома своего отца в Беллморе, они вытащили старика Джорджа Кокса в суд в тщетной попытке заставить его сообщить, где скрываются его сын и внучка. После новой неудачи они принялись за брата Тони – Ларри, который жил с женой в районе Бруклин Хайте.
Однажды у него дома раздался телефонный звонок от Аллена Кляйна, который велел ему бросить все дела и срочно прибыть на Бродвей в офис АВКСО. Не успел Ларри уехать, как в квартиру позвонил частный детектив. «Я знаю, что ты знаешь, где они прячутся!» – закричал он с порога открывшей ему жене Ларри, затем оттолкнул женщину плечом, ворвался в дом и принялся обыскивать помещения. Чтобы избежать преследований со стороны полиции, Иоко пришлось принести Ларри Коксу свои извинения, объяснив, что она понятия не имела, какими методами работал этот частный детектив.
Когда в июле Тони Кокс переехал в Хьюстон, шпионы Леннонов мгновенно засекли его новый адрес. Пол Мозиан, директор АВКСО по связям с художниками, рассказывал, что три раза лично ездил в Хьюстон вместе с частными детективами. Не миновала эта участь и Тома Басалари. «Мы просидели там пару дней, пытаясь углядеть ребенка, – вспоминает он, – но так и не смогли приблизиться к дому». Однако о том, что бы они сделали, если бы им удалось подобраться поближе, рассказчик умалчивает.
После того как Иоко подала на Тони заявление, прокуратура в Хьюстоне обязала его предстать перед судом вместе с Киоко. Тони попытался увильнуть от выполнения такого решения, и судья приговорил его к пятидневному заключению в тюрьме, как раз на Рождество. Тони заявился в тюрьму с Библией и молитвенником под мышкой. На следующее утро он проснулся с криком, требуя вернуть ему дочь. Через двадцать четыре часа, благодаря усилиям своего адвоката, Тони удалось выйти на свободу. Судья повторил свое требование к Коксу предстать перед ним вместе с дочерью. В то же самое время он сообщил Йоко, что если она хочет увидеть своего ребенка, ей придется приехать в Хьюстон.
Джон и Йоко прибыли за день до Рождества и привезли с собой экземпляр своего последнего сингла «Happy Xmas (War Is Over)»185, на котором можно было услышать, как кто-то из них, предвосхищая радостную встречу с ребенком, прошептал: «Счастливого Рождества, Киоко!» Но они явно недооценили решимость Тони. Когда 27 декабря началось разбирательство, ни Кокс, ни его адвокат так и не появились в зале суда. На следующий день судья отдал шерифу распоряжение арестовать Кокса. Но было уже слишком поздно. В самый канун Рождества великий мастер побегов сумел ускользнуть из города вместе с женой и дочерью.
Джон и Иоко немедленно подняли небывалую шумиху, и на Тони была объявлена общенациональная охота. Бросить вызов Леннонам было очень серьезным делом, поскольку на их стороне была не только сила закона и собственного богатства, но и огромная популярность, которой пользовался
Джон в Соединенных Штатах. Имея неограниченный доступ к средствам массовой информации, они создали образ доведенной до отчаяния семейной пары; Йоко играла роль страдающей матери, потерявшей единственного ребенка, а Джон – растерянного мужа, глубоко переживающего за свою жену. Простой американец тотчас бросился на помощь Джону и Йоко. Хьюстонский шериф стал получать многочисленные сообщения от граждан о передвижениях Тони по стране.
Понимая, что в одиночку ему долго не продержаться, Тони решил доверить свою судьбу религиозной общине, которая бы согласилась за него заступиться. Не так давно он узнал о существовании сильного культа, который назывался Церковью Живого Слова. Это была секта, члены которой полностью отказались от всякой самостоятельности и отдали себя в руки лидера, бывшего пастора и «доктора теологии» по имени Роберт Стивене. Штаб-квартира этой Церкви располагалась в Гранада-Хиллз в долине Сан-Фернандо. Здесь нашел свое первое убежище Тони, и Ленноны рассчитывали загнать его в ловушку, поскольку их дом в Оджей находился всего в получасе езды.
Проведя целый месяц в бесплодных попытках застать врасплох неуловимую добычу, в течение которого они превратили свой чудесный домик в помойку, после чего были изгнаны разгневанным владельцем, Джон и Йоко получили сообщение о том, что Тони обретается в Саусалито. Они тотчас арендовали дом в Милл-Бэлли и выписали Стива Гебхардта, который прибыл со своей женой и привез 10 тысяч долларов наличными, а также две гитары Джона. Было очевидно, что Ленноны приготовились к долгой осаде.
Однако не с Гебхардтом, а с Крэгом Пайзом продолжили захватывающую охоту на человека Джон и Йоко. Пайз и его партнер Кен Келли были двумя хиппи-журналистами, только что учредившими новый ежемесячный журнал «Сандэнс», который, как предполагалось, должен был составить конкуренцию «Роллинг Стоун». Леннон возненавидел Янна Веннера, редактора знаменитого журнала, за то, что тот опубликовал без его разрешения книгу, озаглавленную «Леннон вспоминает», основанную на интервью Джона, данных им в период курса первобытного крика, а затем имел нахальство послать один экземпляр Леннону с надписью «Без тебя эта книга никогда не увидела бы свет». Когда Джон услышал о выходе «Сандэнса», он предложил его создателям себя в качестве автора ежемесячной колонки. Заручившись именем Леннона, Пайз и Келли сумели найти достаточно средств чтобы развернуть свой бизнес в Сан-Франциско. Поэтому когда Йоко позвонила и пригласила его приехать в Милл-Бэлли, Крэг решил, что Ленноны просто хотели услышать от него, как движутся дела с журналом. Вместо этого они попросили его провести с ними всю следующую неделю и покатать их по Заливу на своем стареньком «фольксвагене». Но в один прекрасный день до Пайза наконец дошло, чем они в действительности занимались.
«Тони!» – внезапно выдохнула Йоко, и Джон чуть не свернул себе шею, пытаясь что-нибудь разглядеть. Несмотря на то, что никто больше не заметил Кокса, они вылезли из машины и кинулись в подъезд здания, на которое указала Йоко. Увидев, что в холле никого нет, Йоко приказала Пайзу стучать в квартиры. Но осмотрев одну из квартир, куда их впустила ошарашенная хозяйка, они снова погрузились в «консервную банку» Пайза и попросили отвезти их к ближайшей детской игровой площадке.
Как-то Йоко спросила Пайза, нет ли у него знакомого иглоукалывателя, живущего по соседству. (Законы Калифорнии запрещали акупунктуру, но местные китайцы все равно продолжали ею заниматься.) Пайз познакомил Йоко с доктором Хоном, который жил в графстве Сан-Матео, к югу от аэропорта Сан-Франциско. Доктор был крепок, разговаривал как хвастливый солдат и постоянно держал рядом бутылку виски, чтобы унимать дрожь в руках, когда он принимался втыкать свои иголки. Ленноны рассказали доктору Хону о том, что отчаянно хотят соскочить с метадона, который, к их глубокому разочарованию, оказался сильнее любого наркотика. («Мы отошли от героиновой ломки за три дня, – рассказал Джон Пайзу, – а теперь вот уже пять месяцев не можем избавиться от метадона!») Хон, который никогда раньше не слышал о «Битлз», заверил новых клиентов, что не только сумеет быстро избавить их от этого недуга, но и поможет справиться с сексуальными проблемами. Но для этого они должны были переехать к нему и полностью ему довериться.
Ленноны прожили целую неделю в маленьком розовом домике доктора Хона, где Джон спал на диване в гостиной, что напомнило ему о последних годах его жизни в Мендипсе. Хон резко запретил пациентам принимать метадон, смягчая их мучения при помощи игл и гигантских доз витаминов. Для усиления сексуальной потенции он давал им настои на травах и маленькие кубики двухсотлетнего корня женьшеня. В промежутках между процедурами он заставлял Джона играть на гитаре и даже преподал ему несколько уроков по основам восточных единоборств.
Через три дня после начала лечения в гости к Леннонам приехали ребята из «Сандэнс». Кен Келли был поражен тем, как изменились Джон и Йоко за те полгода, что прошли со времени их последней встречи. «Джон весь как-то усох, он казался на фут ниже своего роста и сильно похудел, – вспоминает Келли, – а Йоко, напротив, словно подросла. В прошлый раз у нее была короткая стрижка, а теперь волосы отросли и спускались до самой груди». «Джон был счастлив, что освободился от наркотиков, – отметил Келли. – Ему не терпелось вернуться к жизни и заняться делом». Когда Пайз и Келли приехали в следующий раз, им сообщили, что курс лечения завершен.
Покинув маленький гостеприимный домик, Ленноны переехали в элегантный квартал Стэнфорд Корт в Ноб-Хилл, где их посетил нью-йоркский телерепортер Джеральде Ривера, только что закончивший съемку передачи о больнице для детей-инвалидов в Нью-Йорк-Сити. Для того чтобы оказать больнице финансовую помощь, Ривера придумал сначала отвезти детей на прогулку в Центральный парк, а потом – в Медисон-сквер-гарден, где для них пройдут два поп-концерта. Эти концерты, главными героями которых стали Джон и Йоко, были записаны на пленку телекомпанией Эй-би-си, которая заплатила Леннонам 300 тысяч долларов; эту сумму они, в свою очередь, должны были передать в качестве дара детской больнице. Стив Гебхардт говорит, что Джон и Йоко не хотели предоставлять Ривере возможность нажиться на них, но из-за проблем с иммиграционными властями все же решили его предложение принять.
Глава 48 Прощальные искры
30 августа 1972 года на концерте в Медисон-сквер-гарден Джон Леннон выглядел исхудалым, губы его были плотно сжаты, и он был накачан кокаином по самые уши. На нем были очки с голубыми линзами, какие обычно носят слепые, старая армейская рубашка, вылезавшая из брюк, и шарф, повязанный на талии. Несмотря на явное напряжение человека, взявшегося за осуществление непосильной задачи, он был полновластным хозяином сцены. Йоко, отодвинутая на второй план, ограничилась тем, что аккомпанировала на электрооргане и исполнила пару сольных номеров. Остальная часть шоу была посвящена великому музыканту Джону Леннону.
Концерт «One to One»186 наглядно показал, что Джон Леннон обрел естественный для него сценический стиль – стиль надрывной и неистовой психодрамы. «Mother» и «Cold Turkey» стали кульминацией утреннего и вечернего выступлений, при этом песня, рассказывающая о преодолении наркотической зависимости, вызвала у Джона взрыв первобытной энергии: он в отчаянной мольбе воздел руки, а на его лице явно угадывалось выражение впавшего в истерику ребенка. Этой неистовой душе понадобилась целая жизнь, чтобы сбросить маску Битла Джона и выплеснуть на публику все, что в ней накопилось.
Если бы Леннон тогда просто позволил себе быть самим собой, очень скоро он смог бы возглавить следующий этап развития поп-музыки: речь идет о той самой эпохе декаданса, из которой впоследствии произошли панк, новая волна, рэп – жестокие, почти психопатические стили, зеркало разбитой души Джона Леннона. Однако Леннон и на этот раз не обратил внимания на зов собственной гениальности. Вместо этого он навсегда покинул сцену и с тех пор появлялся перед публикой лишь в качестве гостя. И вышло так, что, дав в Медисон-сквер-гарден выход своим эмоциям, он словно устроил прощальный фейерверк187.
Атмосфера, царившая на вечеринке, устроенной после концерта в ресторане, была напряженной. Аллен Кляйн, которому пришлось раздать 5 тысяч бесплатных билетов, чтобы создать видимость аншлага, был на ножах с Йоко, поскольку концерт лишний раз утвердил его во мнении, что публика не желает видеть ее рядом с Джоном. Поведение Кляйна привело Иоко в ярость, и с этого момента отношения четы Леннонов с менеджером стали портиться. Когда в марте срок его контракта истек, Кляйну указали на дверь. Для того чтобы объяснить причины столь самоубийственного решения, Джон и Йоко обрушились на Кляйна с обвинениями в том, что он якобы сам захотел стать такой же звездой, как те, чьи интересы призван был защищать. Они подчеркивали, что он уже не работал на них в качестве продюсера, и высказывали убеждение, что он нарочно затянул конфликт с Полом и Истманами.
Ленноны выбрали самый неудачный момент для того, чтобы расстаться со своим менеджером, так как именно в тот момент остро нуждались в его услугах. Той весной должно было вступить в силу условие об увеличении авторских отчислений участникам «Битлз», и оно оказалось под угрозой срыва, поскольку бывшие участники группы не выполнили оговоренной квоты (каждый из двух последних альбомов, вышедших до условленной даты – 31 августа 1972 года, должен был разойтись тиражом в полмиллиона экземпляров). И если тираж «Wild Life»188, первого альбома Пола, записанного им с новой группой «Уингз», почти достиг указанной цифры, то ленноновский «Some Time in New York City» (который был выпущен до 31 августа по настоянию Джона) провалился, разойдясь тиражом 272 041 экземпляр. Правда, Кляйн договорился о двухмесячной отсрочке, но его уволили до того, как дополнения к контрактам были подписаны. Вместо того чтобы заменить его новым общим менеджером, Джон, Джордж и Ринго решили каждый нанять своего. Так что когда президент «Кэпитол» Баскар Михон столкнулся с тремя маленькими Кляйнами, которые требовали, чтобы его компания увеличила отчисления в пользу «Битлз» без каких-либо уступок со стороны бывших членов группы, он отказал им с полным на то основанием.
Проблема с авторскими отчислениями была далеко не единственной. Уволив Кляйна, Джон и Иоко растерялись, так как в течение нескольких лет они полностью зависели от своего менеджера не только в делах, но и в том, что касалось решения личных вопросов, которые требовали определенных навыков и трезвого подхода. Кляйн нянчился со своими знаменитыми клиентами, и теперь им непросто было найти ему замену. Ленноны остановили свой выбор на человеке, бывшем в свое время правой рукой Кляйна, – Гарольде Сайдере, которого они приняли на службу в День дураков, 1 апреля 1973 года. Маленький, подвижный, блестящий адвокат, отличавшийся исключительной прямотой в разговоре и поведении, Сайдер по своему темпераменту являл полную противоположность Кляйну, что, по всей видимости, и послужило причиной его ухода из АВКСО в 1971 году. Сайдер не имел ни малейшего желания разыгрывать из себя Санта-Клауса. Более того, он вообще отказался от должности менеджера, сухо заметив: «Я не собирался взваливать на себя их грязное белье». Вместо этого он согласился стать финансовым советником Леннонов. Он нанял им лучших бухгалтеров и адвокатов и принялся обучать своих подопечных правильно распоряжаться денежными средствами.
Сайдер считал Леннона настоящим «паразитом», которому наплевать, сколько он тратит, если для этого ему не приходится лезть в карман. Именно так, отправляя все счета Кляйну, за несколько последних лет Леннон растратил миллионы. Сайдер потребовал от своего клиента личной ответственности за каждую трату, заставляя Джона самого ежемесячно подписывать чеки. Столь отрезвляющий подход быстро заставил Леннона забыть о своей расточительности и превратиться в скрягу, с трудом соглашавшегося даже на самые необходимые расходы. Сайдер терпеливо объяснил, что, с одной стороны, Джон должен обеспечить себе постоянный приток доходов, которые позволили бы ему жить в достатке, не испытывая при этом чрезмерной необходимости выпускать новую «продукцию», а с другой – снизить расходы до разумных пределов, например до 300 тысяч долларов в год. Для достижения этой цели было прежде всего необходимо избавиться от нерентабельных предприятий, начиная с «Джоко Продакшнз». Следующим шагом должен был стать раздел «Эппл», с чем были согласны все участники «Битлз». При этом Сайдер отводил себе роль консультанта. Он был готов собирать информацию, советовать, анализировать, но вся ответственность за принятие решений ложилась на плечи Джона.
Помимо всего прочего, Сайдеру было необходимо позаботиться и о том, чтобы не испортить собственную карьеру, поскольку положение бывшего адвоката Кляйна, пост вице-президента компании «Юнайтед Артисте Рекорд Менеджмент» и статус советника Джона Леннона делали его потенциальным участником конфликта взаимных интересов. Не было никаких сомнений в том, что Ленноны наняли Савдера только за то, что он был в курсе всей подноготной Аллена Кляйна. А так как Ленноны готовились объявить Кляйну войну, советник становился их секретным оружием.
Сайдеру приходилось внимательно смотреть себе под ноги еще и потому, что Леннонов, похоже, ничуть не заботило соблюдение принципов морали при ведении дел. В 1971 году некто Д. А. Пеннбейкер захотел выпустить документальный фильм о концерте под названием «Sweet Toronto»189. Ленноны разрешили Пеннбейкеру использовать в своем фильме съемки их выступления; в обмен на это он передал им права на выпуск саундтрека своего фильма в виде пластинки под названием «Live in Toronto»190. Этот альбом принес им большие деньги, неожиданно разойдясь тиражом 750 тысяч экземпляров, но когда Пеннбейкер собрался воспользоваться своим правом на выпуск фильма, Ленноны внезапно отказались от прежней договоренности и потребовали приличную сумму за свое разрешение. Будучи слишком бедным для того, чтобы заплатить, равно как и для того, чтобы судиться, Пеннбейкер был вынужден снять фильм с проката. В конечном итоге фильм вышел через два года, но уже без Леннонов, под названием «Keep On Rocking»191.
Еще менее оправданным было поведение Джона и Йоко в отношении фильма, посвященного музыкальному марафону «Десять за Два» в пользу Джона Синклера. Когда Леон Уайлдс отсмотрел смонтированный Стивом Гебхардтом материал, он сказал Джону и Йоко, что у них могут появиться новые проблемы с иммиграционными службами. Вместо того чтобы просто сказать об этом Синклеру, который безусловно понял бы их, Йоко выдумала совершенно дурацкую историю, чтобы вытащить себя и Джона из игры. Пригласив сидевшего без денег Синклера с женой в Нью-Йорк, она промариновала их до тех пор, пока до обратного вылета в Детройт оставалось всего два часа. Затем их пригласили в спальню, где вместо приветствия Йоко обратилась к Синклерам с пространной речью об угнетенном положении женщин. «Мы никак не могли понять, куда она клонит, – вспоминает Синклер. – А Джон за всю встречу вообще не сказал и двух слов. Потом она вдруг заявила, что мы должны согласиться с тем, что деньги от фильма должны пойти в пользу феминистских организаций. Мы остолбенели. А Йоко стала настаивать, что должна заняться распределением средств по своему усмотрению, ни перед кем не отчитываясь».
Это условие было совершенно неприемлемым, так как множество людей, включая и других музыкантов, бесплатно участвовали в марафоне, а вырученные деньги должны были быть разделены поровну между благотворительными организациями, подготовившими концерт. Но больше всего Синклера возмутила нарочито снисходительная манера, с которой Ленноны сообщили ему о своем решении. «Видели бы вы, как они восседали в своей чертовой кровати! – рассказывает он. – Точно король с королевой, снизошедшие до общения с дворней. Это было унизительно. Меня в свое время и избивали, и обыскивали – вплоть до самых интимных мест, но настоящее унижение я испытал именно здесь!» Джон Синклер не мог понять, что Ленноны были готовы на все, лишь бы Джона не депортировали из Соединенных Штатов.
7 ноября 1972 года, в день выборов, друзья Джерри Рубина собрались у него дома, чтобы следить за развитием событий. Джон и Йоко пообещали прийти после того, как закончат работу на студии «Рекорд Плант», где Йоко записывала двойной сольный альбом «Approximately Infinite Universe»192. Когда начали поступать сообщения о вероятной победе Никсона, Джон напился текилы, поскольку считал, что повторное избрание Никсона означает для него автоматическое выдворение из страны. Кроме того, он уже начинал испытывать постоянно растущее чувство раздражения, которое вызывала у него Йоко. К этому вечеру отношения между мужем и женой настолько испортились, что окружающие были убеждены в их скором разрыве.
К четырем утра, когда работа закончилась, Джон был в стельку пьян и, по воспоминаниям домашнего фотографа Леннонов Боба Груена, «ругался так виртуозно, что ему мог позавидовать любой матрос из Ливерпуля». Когда вся группа направилась в сторону дома на Принс-стрит, где жил Рубин, Джон «яростно поливал весь белый свет».
У гостей, которые еще не разъехались по домам и продолжали мрачно взирать на экран телевизора, наблюдая триумф Никсона, волосы зашевелились на голове, когда за две рью раздался душераздирающий вопль: всем показалось, что это предсмертный крик. В тот же самый момент в комнату ввалился Джон Леннон, небритый и с выпученными глазами, ревущий то ли от боли, то ли от прилива битловскои ностальгии: «Йе-йе-йе!» Следом за ним шествовала Иоко, одетая в шляпу с мягкими широкими полями и коричневое кожаное пальто с золотым значком шерифа на груди. И хотя Леннон, не переставая ругаться, обрушился на собравшихся «лже-пророков», указавших ему неверный путь, и даже обозвал присутствующих сборищем «мелкобуржуазных евреев», Йоко хранила невозмутимость. Она развернула пакетик с кокаином и принялась угощать тех, кто еще не надрался водки и текилы.
Один за другим гости Джерри стали предпринимать попытки успокоить Леннона. Рубин предложил ему пойти отдохнуть на кровати с водяным матрасом, но Джон, которому не понравилось, что с ним обращаются, как с больным, послал его куда подальше. Он продолжал отчаянно выплескивать свою боль и разочарование в неудавшейся революции, в самой вере в возможность революции.
В конце концов Леннон уселся напротив худенькой актрисы Джудит Малина и, точно безумный, прорычал, глядя ей в глаза: «Я хочу разрезать тебя на куски!» Видя, что женщина и глазом не моргнула, он повторил свою угрозу еще более зловещим голосом, добавив, что хочет видеть, как прольется ее кровь. Но и эти слова не вызвали у жертвы ожидаемой реакции. Тогда Джон встал и, пошатываясь, направился к выходу. «Я хочу быть как Везерманы! Хочу застрелить полисмена!» – провозгласил он и хлопнул дверью.
После этой ночи, по словам Стива Гебхардта, «Джон Леннон заперся у себя в спальне и не выходил оттуда полгода».
Глава 49 Из огня да в полымя
«Привет! Я [стук] хочу [стук} предложить [стук] вам [стук] работу. Меня зовут Йоко. И [стук] О [стук] К [стук] О [стук]». Именно так запомнил Дэвид Спиноза, лучший студийный гитарист Нью-Йорка того времени, начало знакомства, которому было суждено свести его с ума. Когда однажды июльским днем 1973 года он вошел в свою квартиру, расположенную на Восточной части 70-й стрит, и нажал кнопку автоответчика, он сперва подумал, что кто-то решил его разыграть. Представьте себе его удивление, когда, набрав оставленный номер телефона, на другом конце провода он услышал голос, который принадлежал супруге Джона Леннона.
Она собиралась самостоятельно записать альбом и хотела, чтобы Спиноза собрал и возглавил аккомпанирующую группу. У нее уже был наготове небольшой список. В него входили лучшие и самые занятые музыканты Нью-Йорка, что вполне устраивало Дэвида. И тем не менее, записывая имена, он не мог удержаться от гримасы при воспоминании о своем последнем общении с одним из Битлов. История эта произошла весной 1971 года, когда ему позвонила женщина, которую он называет «Королевой групи», – Линда Маккартни.
«Королева» была настолько уверена в том, что любой музыкант мгновенно уделит ей максимум внимания при одном звуке ее голоса, что едва удосужилась представиться. «Так в чем дело?» – спросил Спиноза, не уловив ее имени.
«Мой муж слышал о вас, – выговорила Линда, подчеркивая свой британский акцент. – Он хочет с вами встретиться, поиграть и посмотреть, на что вы способны, потому что мы собираемся записывать новый альбом».
Дэвид все еще не мог врубиться. «Я студийный музыкант, – рявкнул он в ответ, – и нам незачем встречаться. Свяжитесь с моими агентами и зарезервируйте мои услуги. Позвоните на „Радио Реджистри“ и скажите, что вам нужен Дэвид Спиноза с двух до пяти, с семи до десяти, какие нужны гитары – и я приду!»
«Нет! Вы не понимаете! – закричала Линда. – Мой муж...»
Однако прежде чем ей удалось произнести еще хотя бы слово, Спинозу прорвало. «Да что там стряслось с вашим мужем?!» – заорал он. И только тут Линда сообщила, что звонит от имени Пола Маккартни. Это известие лишь усугубило ситуацию, потому что теперь Спиноза догадался о причине звонка. «Так это значит, – прорычал он, – вы хотите устроить мне прослушивание?»
Пол допустил ошибку, когда попросил подобрать ему пятерых лучших музыкантов для каждого из основных ритм-инструментов – пианино, бас-гитары, гитары и ударных. Нью-йоркские студийные музыканты не участвуют в прослушиваниях. Они считают себя, причем вполне оправданно, самыми совершенными и всесторонними музыкантами в мире. Спиноза в этом смысле не был исключением, но он испытывал некоторое любопытство по отношению к знаменитому Битлу и поэтому притащился в грязную мастерскую, расположенную в районе Десятой авеню, где застал Пола с трехдневной щетиной на щеках, Линду и детей. Билли Лавойна, барабанщика с солидным стажем, только что попросили что-нибудь сыграть. «Знаешь, Пол, – саркастическим тоном ответил Лавойна, – я слышал, что ты и сам иногда играешь на ударных, так что, может быть, лучше ты сыграешь мне?»
Сцена произвела на Дэвида отвратительное впечатление. «Передо мной сидел сам Пол Маккартни, – вспоминает Спиноза, – и играл какие-то примитивные рок-н-ролльные вещицы – чин, чин, чин. Было очень неловко! Ему приходилось петь каждую ноту или брать ее на своей гитаре, например три ноты доминант-септаккорда. Он даже не знал, как это называется, а просто говорил „клевый аккорд“!» Дэвид отработал несколько недель на записи диска «Ram», но когда ангажемент закончился, опубликовал на страницах журнала «Мелоди мейкер» довольно язвительный комментарий, в частности, рассказав о том, как Пол заставлял своих детей сидеть в студии до четырех утра.
Вот какие смешанные чувства владели Дэвидом Спинозой, когда в тот же день он отправился на встречу с Иоко Оно.
Прежде всего Дэвид попросил показать музыку. Иоко протянула ему несколько аккуратно отпечатанных страниц с текстами песен, состоявших из куплетов и припевов; там не было ни одной ноты. Кое-где над текстом стояли обозначения аккордов «соль-минор, ре, соль», по которым невозможно было составить даже малейшее представление о том, что имел в виду автор. Иоко повторяла манеру записи, которую использовал Джон, но Джон принес бы с собой гитару и исполнил бы песню. Спиноза попросил Иоко спеть; у нее вышел какой-то японский вариант ковбойской песни, и первой реакцией Спинозы было: «Ты что, издеваешься?»
Однако для студийного музыканта работа есть работа. Деньги предлагались хорошие. День за днем Спиноза приходил к Иоко с магнитофоном и нотной бумагой. Делать за ней записи было ужасно сложно: ей не удавалось даже держать размер. Но вскоре Спиноза понял, что его работа вообще не имеет смысла, поскольку Иоко все равно была неспособна дважды воспроизвести одну и ту же мелодию. Поэтому Дэвид ограничился тем, что записывал последовательность аккордов, оставляя придумывание собственно мелодии на потом.
Настоящее веселье началось тогда, когда они собрались в студии. О таких музыкантах можно было только мечтать: Рик Маротта – один из лучших гастрольных барабанщиков, Эндрю Смит и Боб Рэббит – до недавнего времени основная ритм-секция на студии «Мотаун», Майкл Брекер, который вскоре стал самым модным тенор-саксофонистом в Штатах, Артур Дженкинс – виброфон, фортепьяно Кении Эшер, сочинявший также и музыку (что оказалось очень кстати), и бас-гитара Гордон Эдварде, всеобщий любимец, работавший в фьюжн-команде под названием «Стафф». Если еще добавить Дэвида Спинозу, игравшего на лидер-гитаре, то получалось, что вокруг Иоко собралась команда, общий талант которой оценивался не менее чем в миллион долларов. Вот только музыки не было!
Выход из положения был один: раздать музыкантам записи, сделанные Спинозой, и предложить самим придумывать мелодии к имевшимся в наличии текстам. Несмотря на множество проблем, связанных с отсутствием у Иоко элементарных музыкальных способностей, супергруппе удалось записать вполне приличную инструментальную музыку в стиле утонченной соул, близкой к неярко выраженному фанку.
Чем дольше Иоко работала с Дэвидом Спинозой, тем более привлекательным находила этого похожего на молодого турка невысокого темноволосого парня со строгими усами, бруклинца из итальянской рабочей семьи. За ним давно ходила слава «жеребца», ибо он был не прочь похвастать своими сексуальными подвигами. Иоко всегда нравились мужественные мужчины маленького роста. К слову сказать, близкие друзья обычно легко определяли, что Иоко кем-то увлеклась, если она начинала подтрунивать над его ростом. Так что по прошествии нескольких недель, проведенных с Дэвидов в студии, Иоко явно начала задумываться о том, что с этим маленьким «мачо» она могла бы не только музицировать. Кстати, именно об этом была ее последняя и лучшая песня в «Feeling the Space»193 – «Men, Men, Men»194, где она вдоволь поиздевалась над мужчинами-"жеребцами", которые ищут в женщинах одну лишь животную страсть. В этой песне Иоко сама обращается с мужчинами как с сексуальными игрушками, сетуя на то, что джинсы на них сидят не в обтяжку, сапоги коротковаты, а лица уже далеко не молоды. Песня заканчивается классической шуткой, когда Иоко, обратившись к своему мужчине, говорит, что ему пора вылезать из своей домашней клетки. В ответ раздается голос Джона Леннона.
И хотя Джон согласился поучаствовать в этой музыкальной шутке, о возобновлении творческого сотрудничества с женой не могло быть и речи. Шесть последних месяцев он провел у себя в постели на Бэнк-стрит, накачиваясь героином и поглощая ящик за ящиком пиво. Когда Гарольд Сайдер пришел к нему, чтобы обсудить кое-какие дела, он застал своего клиента осунувшимся, бледным, с запавшими глазами, небритым, выглядевшим как человек, «только что вышедший из концлагеря». Сайдер объяснил состояние Леннона переутомлением и признал, что Джону необходимо на какое-то время погрузиться в «зимнюю спячку». Это затянувшееся пребывание в берлоге Джон использовал для того, чтобы проанализировать обе свои ипостаси – артиста и мужа. Что касается первой, то, как он признавался Мэй Пэн: «В течение нескольких последних лет я очень старался раскрутить Иоко, но, кажется, из этого ничего не выходит. А я что-то притомился. Думаю, сейчас для Иоко больше всего подошел бы Тони». Эти слова обозначали конец сотрудничества Джона и Иоко по крайней мере на семь ближайших лет. Кроме того, они ознаменовали возрождение Джона Леннона. В июле Джон побрился наголо, желая, видимо, дать понять, что решил навсегда завязать с героином.
Когда Иоко поняла, что не может больше рассчитывать на поддержку Джона, ей пришлось заняться поисками другого мужчины, поскольку ей был необходим партнер, который постоянно поднимал бы ее на руки, крутил и показывал публике в самом привлекательном свете. Когда Иоко узнала, что Дэвид Спиноза на грани разрыва с женой, она стала писать ему письма, выражая поддержку и давая полезные советы. Каждый день после работы в студии они уединялись на несколько минут, чтобы поболтать и пофлиртовать, не привлекая к себе внимания. Одна только Мэй Пэн сразу поняла, в чем дело, но на нее вполне можно было положиться.
Проблема Иоко заключалась в том, чтобы решить, как быть с Джоном. Не так давно Джон унизил Иоко в гостях у Джерри Рубина, когда схватил девчонку по имени Джерри и затащил ее в постель прямо в соседней комнате. Вероятно, это оскорбление вдохновило Иоко на принятие сурового решения. Когда она жила с родителями, то нередко наблюдала, как отец ускальзывал из дома, чтобы поразвлечься с гейшей. Что могло быть лучше: ей следовало подыскать для мужа гейшу, симпатичную молодую азиатку, которая была бы полностью под ее контролем. Ей пришло в голову, что рядом уже есть женщина, как нельзя лучше подходящая для этой роли, – Мэй Пэн.
В течение трех лет, проведенных в рабстве у Леннонов, Мэй Пэн показала, что была образцом послушания и преданности. Мэй так стремилась угодить им, что позволяла вертеть собой как угодно, безо всякой надежды на вознаграждение. Она принесла в жертву хозяевам свою жизнь, работая целый день в студии вместе с Иоко, а по ночам – с Джоном, который готовил новый сольный альбом «Mind Games»195. Она ела как птичка, спала совсем мало, заходила к себе только для того, чтобы переодеться, и выполняла такой объем работы, что после ее ухода пришлось нанимать сразу четверых. Мэй получила католическое воспитание и была исключительно нравственной девушкой, которая относилась к Иоко как к матери и никогда не проявляла по отношению к Джону ни малейшего романтического интереса.
Однажды августовским утром, когда Мэй в одиночестве сидела за своим рабочим столом – дело было уже в Дакоте196, в квартире 72, и напевала «Mind Games», она подняла глаза и неожиданно увидела Иоко, стоявшую перед ней босиком, с растрепанными волосами, в одной ночной рубашке и с сигаретой в руке.
«Послушай, Мэй, – начала Иоко, – наши отношения с Джоном разладились. Мы часто ругаемся. Наверное, скоро нам придется расстаться». Мэй была удивлена откровенностью Иоко, но вовсе не смыслом ее слов. Уже в течение нескольких недель было очевидно, что супруги переживают не самый лучший период своей совместной жизни. Несмотря на это, Мэй была совершенно не готова к тому, что услышала дальше. «Вероятно, Джон будет встречаться с другими. Но я знаю, что ему нравишься ты, Мэй», – добавила Иоко, глядя девушке прямо в глаза.
Мэй попыталась возразить, но Иоко невозмутимо продолжала: «Все о'кей, Мэй. Я знаю, ты ему нравишься. Если он попросит тебя составить ему компанию, тебе не следует отказываться». Мэй была ошеломлена. Она была наивной и неопытной, ибо прежде у нее и была-то всего одна-единственная интрижка – с барабанщиком из группы «Бэфингер». Одной мысли о том, что Йоко, которая стала для нее второй матерью, предлагает ей своего мужа – величайшего человека в мире, Джона Леннона! – было достаточно для того, чтобы ее бабушкины очки запотели. И она принялась перечислять причины, по которым, по ее мнению, спать с Джоном Ленноном нехорошо. Во-первых, Джон женат на Йоко, во-вторых, он ее босс, в-третьих... Поскольку возражений было неожиданно много, Иоко решила раскрыть перед ней все карты.
Теперь Йоко говорила как старшая, более мудрая женщина, которая хочет только одного – помочь девушке стать счастливой. «Жизнь состоит не только из работы, – увещевала она Мэй. – Ты тоже имеешь право поразвлечься. Тебе нужно завести приятеля. Неужели ты не хочешь, чтобы рядом с Джоном была ты, неужели тебя устроит, если какая-нибудь другая девушка будет третировать его?» На этот раз Иоко попала в точку, и девушка вынуждена была согласиться с некоторыми из ее доводов. Но переупрямить ее все же не удалось.
Видя, что Мэй не желает прислушиваться к ее доводам, Иоко решила повести себя так, словно девушка уже дала свое согласие, и остается только решить, как осуществить задуманное. «Я думаю, ты можешь начать прямо сегодня, когда отправишься в студию, – спокойно заметила Иоко. – Ни о чем не беспокойся, я сама обо всем позабочусь». На этой загадочной фразе, повисшей в воздухе, Йоко развернулась и вышла из комнаты.
Ровно в полдень Йоко опять появилась у Мэй и объявила, что ей следует приступать к своим новым обязанностям той же ночью. Однако Джон, к огромному облегчению Мэй, отменил в этот вечер работу в студии и не проявил к девушке никакого интереса, встретившись с ней дома. Но уже на следующий день он повел себя совершенно иначе. Не успели они оказаться вдвоем в лифте, как Джон обнял Мэй и страстно ее поцеловал. «Я целый день ждал этого момента», – задыхаясь, проговорил он, когда Мэй отшатнулась. Иоко выпустила своего мужчину из клетки и указала ему, куда следует лететь. В течение трех следующих вечеров Мэй отбивалась от настойчивых предложений Джона проводить ее до дома. На третий день он отпустил лимузин и повез Мэй домой на такси. Он сумел уговорить девушку впустить его. Когда, оказавшись в квартире, Джон продолжил атаку, Мэй расплакалась. И Джон признался беззащитной девушке, что и сам боится того, что должно произойти; тогда Мэй позволила ему залезть к ней в спальный мешок, и Леннон неожиданно оказался потрясающе нежным любовником.
Стоило лишь однажды перейти черту, как Мэй Пэн была вынуждена признать, что ничего в жизни не желает больше, чем Джона Леннона. Она решила не отказываться от того, что ей так настойчиво предлагали. В течение двух недель они каждую ночь занимались любовью, ощущая постоянно растущее удовольствие и страсть. Джон изголодался по сексу. Уже в течение многих лет они с Йоко сжигали себя тяжелыми наркотиками, чрезмерной работой, постоянными эмоциональными срывами, лечением, странными диетами, не говоря уже о непрерывном общении с журналистами. Нельзя назвать совпадением то, что Джон именно в этот момент воспылал такой страстью к двадцатитрехлетней, полной энергии девушке из простой семьи. Мэй Пэн идеально ему подходила. С ней он мог вспоминать молодость, не ставя под угрозу собственный брачный союз.
В начале сентября Иоко собралась на съезд феминисток в Чикаго, и Джон решил воспользоваться моментом, чтобы улизнуть. Он настоял на том, чтобы поехать в Лос-Анджелес к Гарольду Сайдеру, прихватив с собой Мэй Пэн.
Иоко даже не пыталась этому препятствовать, но по прибытии в Лос-Анджелес у Джона и Мэй начались неприятности. Сайдер объяснил Джону, что у него совсем не осталось денег. В последнее время он продолжал жить на деньги, взятые в долг у Аллена Кляйна, к которым добавлялись еще 5 тысяч фунтов ежемесячно, получаемые от «Эппл». Существовали и некоторые другие незначительные источники доходов, но это не могло удовлетворить запросы Йоко, которая требовала «гарантии безопасности» в размере 300 тысяч долларов ежегодно в течение всего периода разлуки с мужем. Джон Леннон обрел, наконец, свободу, но жить ему было не на что.
Сайдер добился того, что «Кэпитол» предоставила Джону аванс в размере 10 тысяч долларов, заставив его пообещать, что он постарается прожить на эти Деньги как можно дольше. Джон отнесся к этому с пониманием и блестяще продемонстрировал свое умение жить на полную халяву. Он останавливался в шикарных домах, употреблял самые дорогие наркотики и питался в лучших ресторанах, при этом ни разу не опустив руку в карман. Джон Леннон обожал, когда другие платили по его счетам.
Как часто в своей жизни Леннон пытался все начать сначала? Всякий раз, когда у него появлялось новое увлечение, будь то ЛСД, трансцендентальная медитация или лечение первобытным криком, он доверчиво надеялся на возрождение. И вот сейчас он вновь ощутил себя на старте. Джон вообразил, как будет жить в Лос-Анджелесе – молодой музыкант без гроша, с гитарой и подружкой по рок-н-роллу. Чудесная перспектива для человека, который всю свою жизнь прожил в другом качестве – женатого человека, повязанного еще и путами славы! Он захотел вернуться к истокам, забыть о герое молодежной культуры и сосредоточиться на самом себе.
Решив изменить свою жизнь, Леннон начал с того, что поменял имя. В эпоху страстной любви к Иоко он заменил прежнее имя – Джон Уинстон Леннон на Джон Оно Леннон. Теперь он вернул себе ненавистное прежде английское имя, добавив к нему свинговый эпитет, и в результате получилось: Доктор Уинстон О'Буги.
Леннону бы наслаждаться жизнью в Лос-Анджелесе, но он и дня не мог прожить, чтобы не сунуть голову в петлю. Неделю спустя по приезде он уже отправился к Филу Спектору, чтобы рассказать о своей новой идее записать альбом, на котором он собирался исполнить старые рок-н-роллы 50-х годов. Первой реакцией Фила было спросить: «Кто будет главным на записи?» «Ты», – ответил Джон.
Не удовлетворившись ответом, Спектор переспросил: «И я получу полный контроль?»
«Да, да, получишь, – подтвердил Джон. – Все, чего я хочу, – это быть вокалистом. Можешь обращаться со мной так же, как в свое время ты обращался с Ронни»197.
Сделав такое судьбоносное заявление, Джон Леннон отдал себя в руки первого из трех «злых гениев», чье присутствие станет определяющим в тот период жизни Джона, который он назвал «неудавшимся уик-эндом».
Едва Фил получил контроль над выпуском пластинки, он тотчас отправил Джона и Мэй отдохнуть. Прошел целый месяц, прежде чем их пригласили в студию. Тем временем Лу Адлер, знаменитый продюсер в области грамзаписи, предложил Леннону пожить в его доме в Бель-Эр. Затем любовники обзавелись колесами, Джон подарил Мэй на двадцатитрехлетие «плимут-барракуду» 1968 года, который обошелся ему в 800 долларов. А вскоре у них появилась помощница: подружка Мэй Арлин Рексон, работавшая в Нью-Йорке дизайнером, согласилась помогать им в обмен на жилье и питание. Несмотря на то, что многие местные знаменитости искали с ним встречи, Джон держался от них в стороне, общаясь исключительно с Филом Спектором, который нередко заезжал к Леннону, прихватив с собой гитару и дозу амил-нитрита, чтобы поиграть старые рок-н-роллы.
Иллюзия свободы, которой наслаждались Джон и Мэй, когда приехали в Лос-Анджелес, быстро рассеялась: Иоко без конца названивала по телефону. Не ограничиваясь этим, она подсылала к ним шпионов, таких, как интервьюер местных знаменитостей Эллиот Минц. Но самое главное, она сыпала наставлениями по поводу того, как им следует вести себя на людях.
Иоко заботилась главным образом о том, чтобы сохранить свое лицо. Она потребовала, чтобы Джон рассказал журналистам, что Иоко выставила его за дверь за плохое поведение, запретив даже намекать на то, что между ним и Мэй что-то есть. Иоко требовала, чтобы Джон и Мэй путешествовали в разных вагонах, и заставляла Мэй вести себя даже с самыми близкими друзьями так, будто она продолжала оставаться всего лишь секретарем Джона. Больше всего Мэй была поражена тем, что Джон безропотно выполнял эти требования. Оказалось, что он мог пойти наперекор жене лишь действуя у нее за спиной. Он объяснил Мэй, что для них лучше всего продолжать делать вид, что они подчиняются «мамочке», а на самом деле вести себя как заблагорассудится – но так, чтобы никто об этом не знал.
Тем временем до Джона и Мэй стали доходить слухи о том, что Фил Спектор собирает музыкантов для записи альбома; требования Леннона ограничились тем, чтобы пригласить его любимого звукоинженера Роя Чикала (который привел ассистента Джимми Айовайна) и барабанщика Джима Келтнера, а также еще одного местного музыканта, Джесси Эда Дэвиса, с которым Джон давно мечтал поработать.
Леннон познакомился с Дэвисом (чистокровным индейцем-кайова, получившим ученую степень по английской литературе после окончания Оклахомского университета) еще в декабре 1968 года во время съемок неудачного телешоу «Рок-н-ролльный цирк», который продюсер Аллен Кляйн не решился пустить в эфир, убедившись в том, что приглашенные звезды – «The Who», «Джетро Талл», «Тадж Махал», «Плэстик Оно Бэнд» – выглядели намного лучше, чем главные участники шоу, «Роллинг Стоунз». Однажды в гримерке Джон от нечего делать стал напевать старые хиты Элвиса, и Джесси Эд (гитарист из «Тадж Махал») подыграл ему, поразив Джона идеальным исполнением оригинальных соло Скотти Мура. Джон перешел на репертуар Карла Перкинса, и Джесси без малейшей заминки продолжал аккомпанировать. Такое глубокое знание рок-н-ролла не могло не покорить Джона Леннона.
Главная проблема нового проекта заключалась не в его участниках, а в том, как Джон собирался интерпретировать старый рок-н-ролл. Сама по себе идея вернуться к истокам – в 50-е годы – была замечательной, но что дальше? Если в середине 60-х ему прекрасно удавалось исполнять старые горячие хиты, оставляя на них свой холодный и резкий отпечаток, то сейчас он пребывал в совершенно ином настроении. Ему захотелось вспомнить свои крики, прыжки по сцене и все те номера, которые он откалывал в добрые старые времена в «Кэверн». Но это означало, что, вместо того чтобы стильно превзойти оригинальных исполнителей, Джон собирался соревноваться с ними, используя их же оружие, а такой подход был заранее обречен на неудачу как в музыкальном плане, так и у критиков, которые всегда ревностно относились к «золотому наследию» прошлых лет.
Альбом рок-н-роллов не столько отражал настроения Джона Леннона, сколько свидетельствовал о настроениях всего рок-н-ролльного мира. Не было на свете такого рокера, которого бы не преследовала навязчивая мысль о том, что никто не в состоянии превзойти оригинальных исполнителей рок-н-ролла. Главная причина такой ностальгии заключалась в том, что рок, в отличие от джазовой музыки, не получил органического развития, слой за слоем обрастая более сложной музыкальной оболочкой, которая накладывалась на первоначальную основу. И сейчас, по мнению Леннона, настало время вернуться к истокам, для того чтобы оживить и подтвердить свою верность фундаментальным основам рока. Оставалось лишь придумать, как это сделать.
В первых числах ноября, в течение нескольких напряженных часов, перед тем как музыканты впервые собрались в стадии, Джона буквально одолевала телефонными звонками Иоко. Сначала она заявила, что собирается записать еще один двойной альбом. Затем сообщила, что арендовала на неделю «Кенниз Кастауэйз» – клуб, расположенный в верхней части Ист-Сайда, где она собиралась выступать со студийной группой под руководством Дэвида Спинозы. Рассказывая о своих дорогостоящих проекта – только двойной альбом мог обойтись Леннону в 150 тысяч долларов – она не переставая критиковала его рок-н-ролльный альбом и ругала Фила Спектора. К концу дня Джон уже спрашивал у Мэй Пэн: «А ты уверена, что я поступаю правильно?»
Когда Джон и Мэй подъехали к «Студии А и М», располагавшейся на том самом месте, где раньше стояла киностудия «Чарли Чаплин / Юнайтед Артисте», они не имели ни малейшего представления о том, что их ожидало, поскольку Фил Спектор с упорством маньяка скрывал все детали подготовки к записи. Джон был уверен, что Фил соберет человек восемь музыкантов, и пришел в крайнее изумление, когда обнаружил, что их двадцать семь и что они выстроились в очередь возле двери в студию. Каждый из них был сам по себе выдающимся солистом, а некоторые, например Хозе Феличиано, Леон Рассели или Стив Кроппер, гитарист из «Мемфис Саунд», уже стали знаменитостями. Идея собрать музыкантов такого калибра в одну группу объяснялась манией величия Фила Спектора.
Продюсер прибыл с обычным для него опозданием, слегка пошатываясь и не скрывая выпирающего из-под пиджака револьвера в наплечной кобуре. Следом за ним прошествовал бородатый мужчина средних лет – это был Джордж, единственный телохранитель на свете, которому вменялось в обязанность защищать окружающих от своего работодателя. Музыканты, которым было обещано денег втрое больше обычного, шумно приветствовали Фила. Поздоровавшись с каждым, Фил рявкнул: «За работу!»
Несмотря на то, что Спектор потратил целый месяц на организацию записи, в студии не были готовы даже самые элементарные вещи. Время уже пошло, а служащие все еще искали стулья, пюпитры и партитуры для музыкантов. Наконец Фил взял гитару и заиграл первую мелодию – «Бона Морони», настояв на том, чтобы музыканты отрепетировали эту простейшую вещь. Когда оказалось, что лучшие исполнители Западного побережья знакомы с азами рок-н-ролла, Фил поднялся к себе в аппаратную и приступил к обычному ритуалу, которому посвятил следующие шесть часов. Сначала в течение трех часов подряд он заставлял ритм-секцию играть свою партию. Затем настала очередь духовых и, наконец, гитар. К трем часам утра он объявил, что готов приступить к записи вокала.
Джон Леннон выдержал эту пытку только потому, что ему было любопытно посмотреть, как Спектор выстраивает свою легендарную «звуковую стену». Теперь пришел его черед продемонстрировать свой стиль работы. «Эту песню я посвящаю Мэй!» – объявил Джон, усаживаясь перед микрофоном. И попросил, чтобы она села рядом. Через полчаса запись была готова.
«Плэйбэк!» – объявил Фил, и впервые за все время работы музыканты услышали, как они сыграли.
Из колонок, установленных в студии, послышалась старательная, тяжелая и невеселая мелодия, расчетливо наполненная различными звуковыми эффектами, сквозь которые местами прорывались пронзительные звуки гитарной «квакушки», словно мяуканье голодной кошки. Голос Леннона, звучавший грубо и резко, захватывал с первых же нот, но быстро становился невыносимым. Песня, которая должна была раскачиваться наподобие балансира от весов, тащилась, точно бурлаки на Волге, пока наконец не затихла в долгожданной дали. Великий Фил Спектор родил мышь.
Появление Спектора на следующий день было еще более впечатляющим. В этот раз он предстал перед изумленными музыкантами одетым в белый врачебный халат со стетоскопом, висящим вокруг шеи. Размахивая пистолетом, зажатым в одной руке, и бутылкой «Моген Дэвид» в другой, он, шатаясь, обошел студию, обращаясь к музыкантам с безумными речами. Стоило ему скрыться в аппаратной, как те музыканты, которые были в данный момент не заняты, разбрелись по коридорам. Любители выпить притащили из соседнего супермаркета вина, кое-кто запалил косяки, которые пошли по кругу, и вскоре вся команда, за исключением тех немногих, кто в данный момент работал, вовсю развлекалась, все больше напиваясь или погружаясь в блаженную одурь.
На первом сеансе звукозаписи Леннон пил очень мало, хотя и прихватил с собой фляжку с водкой. Теперь же вдвоем с Джесси Эдом Дэвисом он всерьез принялся за огромную бутылку «Смирновки», дав тем самым сигнал к началу всеобщей пьянки. Вскоре Джон себя не контролировал: он накинулся на Мэй и стал залихватски целовать ее, стараясь засунуть руку ей под кофточку. Затем пробрался в аппаратную и заорал на Спектора, который продолжал сводить всех с ума своими бесконечными манипуляциями. Увидев, что Спектор не реагирует, Джон схватил пару наушников и шарахнул ими о пульт. Тут же случилась и драка, которую затеял один из музыкантов. «Я сижу здесь уже битых пять часов, а работал только двадцать минут!» – в ярости вопил он.
Джон оказался перед микрофоном между двумя и тремя утра, а затем, после полдюжины быстрых дублей, записал вокальную партию композиции «Angel Baby»198.
Стоило Джону Леннону выйти из студии, как злость, накопившаяся за ночь, вырвалась наружу. Это произошло так неожиданно, что поразило Мэй Пэн. Она вспоминает, как Джон шел нетвердой походкой к стоянке автомашин, когда вдруг его нетрезвый взгляд, брошенный через плечо, упал на Джесси Эда Дэвиса. Подбежав к нему, Джон внезапно страстно поцеловал Эда в губы. Тот не остался в долгу и, схватив Джона в охапку, поцеловал его в ответ. «Ах ты, педри-ла!» – завопил Леннон и с такой силой врезал Джесси, что тот приземлился задницей на мостовую.
В этот момент с ними поравнялся старый «роллс-ройс» Фила Спектора, за которым подъехал и автомобиль Роя Чикала. Фил выскочил из машины и впихнул туда Мэй. Затем затолкал Джона на заднее сиденье машины Чикала, приказав Келтнеру и Дэвису сесть рядом с Джоном, после чего обе машины помчались в направлении дома Лу Адлера. Все время, пока они неслись по притихшим улицам, Мэй слышала крики Джона: «Мэй! Йоко! Мэй! Йоко!»
Джон, взбешенный тем, что его разлучили с Мэй, вцепился в волосы сидевшей впереди него Арлин. Затем попытался выбить окно. Дэвис и Келтнер делали все возможное, чтобы его успокоить, но он проявил удивительную силу, вырвав у Келтнера из головы целый клок волос. Когда обе машины остановились возле дома, Арлин выскочила на мостовую и бросилась к Мэй, крича: «Джон сошел с ума!»
Мэй хотела уложить Джона спать, но Фил посоветовал ей сначала напоить его кофе, предупредив, что в таком состоянии Джон опасен. Не успели эти слова вылететь у Фила изо рта, как Джон бросился на маленького продюсера, стараясь вцепиться ему в глотку. В дело мгновенно вмешался Джордж, который схватил Леннона сзади и силой заставил его подняться в спальню. Мэй услышала, как оглушительно хлопнула дверь, а затем Джон закричал: «Отдай мне очки, ты, еврейская сволочь!» Джордж привязал руки Леннона к стойкам кровати, использовав для этого взятые в шкафу хозяйские галстуки, причем сделал это профессионально, позаботившись о том, чтобы Джон оказался лицом вниз. Иначе, если бы вдруг Джону стало плохо, его могла постигнуть участь некоторых других знаменитых пьяниц – Малколма Лаури, Томми Дорси, Джимми Хендрикса, которые умерли, захлебнувшись собственной рвотой.
Джон все еще продолжал кричать, а Спектор, убедившись, что буян нейтрализован, подал сигнал к отъезду. На пороге он повернул грустное лицо к перепуганным девушкам и произнес: «Обалденный выдался вечерок!»
«Развяжи меня, Мэй! Развяжи, не то...» – продолжал бушевать наверху Джон. Мэй и Арлин не знали, что делать. Внезапно они услышали страшный шум, затем послышался звон разбитого стекла. Джону удалось отвязаться, и он швырнул чем-то в окно. В следующий момент он появился на верхней ступени лестницы. Ничего не видя без очков, он начал на ощупь спускаться, на его запястьях все еще болтались куски галстуков, которыми он был привязан. «Йоко, ты, косоглазая сука! Ты захотела избавиться от меня! Все это произошло потому, что ты захотела от меня избавиться! Ну все, Иоко, тебе конец!» – с этими словами Джон, спотыкаясь, спустился вниз и кинулся на Мэй.
Девушка завопила от ужаса и, выскочив босиком на улицу, помчалась вниз по Стоун-Кэнион-роуд к отелю «Бель-Эр». Арлин бросилась за ней, когда откуда-то выскочил джип с двумя парнями и чуть не сбил Мэй. «Что случилось?» – закричал водитель, едва успев затормозить. «Кислоты перебрала!» – нашлась Арлин. Тем временем Мэй добежала до гостиницы и заскочила в телефонную будку. Но даже в этот отчаянный момент она не рискнула позвонить в полицию. Вместо этого она позвала на помощь звукоинженеров. Затем они с Арлин уселись на автостоянке, куда доносились вопли Джона, обращенные неизвестно к кому: «Ну почему меня никто не любит? Почему?»
Помощь подоспела в лице Тони Кинга, которому Мэй позвонила, пока Спектор утихомиривал Джона. «В чем дело, Джон?» – поинтересовался он, подойдя к приятелю. Простые слова, произнесенные дружелюбным тоном с английским акцентом, возымели действие. Джон начал судорожно всхлипывать. Тони обнял его, точно перепуганного ребенка, и стал успокаивать, мягко покачиваясь из стороны в сторону.
Все кончилось тем, что Джон разрыдался. «Никто меня не любит, – повторял он. – Никто меня не любит!»
Глава 50 Пинг-Понг Пэн
На первое выступление Йоко Оно и «Плэстик Супер Оно Бэнд» в маленький зал клуба «Кенниз Кастауэйз», косившего под модный портовый бар и потому обтянутого пыльными сетями и украшенного сухими пробковыми спасательными кругами, набилось около сотни зрителей, которые устроились на недавно установленных здесь в несколько рядов старых церковных скамьях. В зале стоял такой шум, что едва можно было расслышать, как музыканты Дэвида Спинозы заиграли спокойную, но свинговую обработку вещи «Killing Me Softly»199, а когда в зале появилась Иоко – гвоздь программы, – шум усилился, и раздались аплодисменты.
Она вошла через дальнюю дверь и медленно двинулась в сторону сцены, переходя от столика к столику и задерживаясь возле каждой скамьи. Наряд Йоко был неприкрыто провоцирующим: проповедница мира на этот раз вырядилась, точно шлюха с Седьмой авеню. На ней были черные кожаные брюки в обтяжку, высокие, до колен, черные кожаные сапоги на шпильках, откровенно расстегнутая до самого пояса черная атласная блузка, тяжелые цепи вокруг бедер, сверкающие камни в ушах и вызывающий макияж. Поднявшись на сцену, она схватила со стойки микрофон, поймала ритм теперь уже откровенного негритянского фанка, откинулась назад и издала леденящий душу вопль, напомнивший боевые крики Брюса Ли в фильме «Выход Дракона». Затем, резко наклонившись вперед, словно пораженная внезапной коликой, она, придыхая, запела быструю, но лишенную какого-либо смысла песенку «What I Do?»200.
Овладев вниманием публики, Иоко перешла к основной теме выступления, которую подчеркивал имидж героини радикального крыла феминистского движения за освобождение женщин. Когда она исполнила такие композиции, как «Angry Young Woman»201 и «Men, Men, Men», до зрителей стал доходить смысл необычного наряда певицы. Следом за ними зазвучала неожиданно пророческая мелодия песни «Coffin Car»202, посвященная Джеки Кеннеди, в которой говорилось о вдове, едущей в траурном кортеже и приветствуемой толпой, которая только в этот момент наконец понимает, какая замечательная женщина перед ней. Ненависть к мужчинам и мечты о благородном вдовстве – такими были главные сюжеты странного выступления Йоко в ночном клубе.
Весь предыдущий день Йоко провела, повиснув на телефонной трубке и разговаривая с Джоном. Полная уверенности в том, что выступление на Ист-Сайде привлечет к ней внимание средств массовой информации, Йоко опасалась, что Джон испортит ее триумф, если вздумает рассказать об истинных причинах их разлуки. Она еще и еще раз внушала ему, как он должен себя вести. Следовало везде повторять одно и то же: Йоко выставила его за дверь, потому что он наделал глупостей. И хотя Джон и на этот раз не возмутился, что Йоко заставляет его делать столь унизительные признания, телефонные беседы, безусловно, подействовали на него и стали отчасти причиной его странного поведения в тот вечер.
Эллиот Минц уговорил Леннона изменить своим привычкам и пообедать вместе с Дэвидом Кэссиди, который после исполнения главной роли в сериале «Семья Партридж» находился на самом пике славы. После обеда вся компания отправилась в гости к Минцу в Лорел Кэньон. Мэй и Дэвид Кэссиди стояли у окна, тихо беседовали и любовались впечатляющим видом, когда Джон неожиданно встал и вышел из дома. В мгновение ока Мэй оказалась рядом и спросила: «Что случилось?»
Было ясно, что Джон чем-то обеспокоен, но он ограничился тем, что ответил: «Я хочу домой».
Вернувшись к Гарольду Сайдеру, у которого они теперь жили, Джон словно не замечал свою подружку вплоть до самого вечера. А когда Джон вернулся домой со студии, он был пьян. Мэй попыталась объясниться и протянула руки, чтобы его обнять, но он злобно оттолкнул девушку, схватил ее за волосы и, словно она была тряпичной куклой, запрокинул ей голову. «Ты хоть понимаешь, что ты наделала?» – спросил он. «Нет! Нет!» – простонала Мэй.
Сделав большой глоток водки, Джон выплеснул наконец то, что носил в себе с самого обеда. «Ты заигрывала с Дэвидом Кэссиди. Я всегда знал, что ты будешь мне изменять, а теперь у меня есть тому доказательство! – кричал он, распаляясь все больше и больше. – Ты что, не знаешь, кто я такой? Я – Джон Леннон!»
Сорвав с лица Мэй очки, он швырнул их на пол и принялся яростно топтать ногами. Затем схватил подаренный им же фотоаппарат, разбил его о стену и принялся носиться по дому, круша все, что попадалось на пути. Вскоре сквозь звон разбиваемых ваз и грохот сокрушаемой мебели послышался настойчивый звонок в дверь. «С тобой все в порядке?» – кричала с улицы Арлин.
Джон, раздосадованный этим неожиданным вмешательством, приказал, чтобы Арлин убиралась куда подальше. Когда Мэй возразила, сказав, что Арлин тоже здесь живет, Леннон схватил ее сумочку и вытряс оттуда ключи от машины. «Скажи Арлин, – сказал он, – чтобы она немедленно уезжала отсюда на машине, а не то я ее размажу!» И девушке пришлось уехать.
«Я звоню Йоко! – крикнул Джон, когда Мэй вернулась в дом. – Я сейчас ей все расскажу!» Йоко в это время была в гримуборной в «Кенниз» и как раз готовилась к выходу. «Ты была права!» – сразу закричал Джон, а затем, показав Мэй, чтобы она взяла трубку параллельного аппарата, принялся жаловаться «мамочке» на плохое поведение любовницы.
Но «мамочка» была занята. «Мне пора на сцену, – резко прервала она Джона. – Я перезвоню позже». И в трубке раздались короткие гудки.
Лишившись возможности излить душу, Джон вновь накинулся на Мэй, обвиняя ее в том, что она оставалась с ним только из-за денег. Но, осыпая девушку упреками, он нечаянно проговорился, как они с Йоко эксплуатировали Мэй. Она узнала, что выплата ее зарплаты была приостановлена с того дня, как они с Джоном улетели в Лос-Анджелес. Более того, оказалось, что Йоко разрешила Джону потратить на Мэй не больше тысячи долларов. Чем дальше, тем лучше она понимала, что стала жертвой заговора. Когда Йоко перезвонила, Мэй, которой Джон опять велел поднять трубку, услышала: «Я хочу, чтобы ты рассказала ей, как предупреждала меня о том, что она всего лишь охотится за моими деньгами».
Йоко попала в собственную ловушку. «Не обращай внимания, Мэй, – ответила она, нервно усмехаясь, – ты ведь знаешь, что может ляпнуть человек, когда выпил!» Джон понял, что Йоко не собирается приходить ему на помощь, и теперь обрушился с руганью уже на нее, а затем с грохотом опустил трубку на рычаг. Когда Йоко еще раз набрала его номер, он отказался разговаривать. Джон швырнул телефонный аппарат через всю комнату и рухнул на кровать. Мэй провела ночь в слезах, так и не сомкнув глаз. Когда Леннон проснулся на следующее утро, он был все еще зол. "Мы возвращаемся в Нью-Йорк! – прорычал он. -
Позаботься обо всем необходимом!" Через два часа они уже ехали в аэропорт в сопровождении Арлин и Джимми Айовайна. Джимми старался разрядить обстановку и всю дорогу шутил, но Джон так ни разу и не улыбнулся, то и дело повторяя: «Ну вот и все! Все кончено! Все кончено!»
Но на самом деле все еще только начиналось. Через, двадцать четыре часа после прибытия в Нью-Йорк Джон и Мэй вновь сидели в самолете, который летел обратно в Лос-Анджелес. Что же случилось? А ничего! Джон приехал в Дакоту, рассказал Йоко о своих несчастьях и заснул. А в одиннадцать вечера Иоко позвонила Мэй и заверила ее, что все в порядке. «Ты уверена?» – не поверила Мэй.
«Тебе не о чем беспокоиться, – ответила Йоко. – Я вовсе не собираюсь его соблазнять».
И точно: на следующее утро Джон позвонил Мэй с извинениями, говоря, что сам не понимает, что на него нашло. Единственное, чего он теперь хотел, это вернуться обратно в Калифорнию вместе с Мэй. Однако когда девушка вновь оказалась в Лос-Анджелесе, она убедилась в том, что все осталось по-прежнему, за исключением одного: Филу Спектору надоели еженощные оргии, и он сократил работу в студии. Сначала вместо ежедневных сеансов музыканты стали собираться через день, потом – вообще раз в неделю. Такой график предоставлял Джону еще больше свободы напиваться и буянить.
В ноябре студийная работа со Спектором закончилась, причем ни Джон, ни Фил никак не могли решить, что делать дальше. Мэй испытала облегчение, но длилось это недолго. Поведение Джона вновь сделалось странным. Однажды, когда они собирались съездить в Сан-Франциско, Мэй удалось настоять на том, чтобы он объяснил, что его беспокоит. «Все кончено!» – твердо объявил Джон, но ничего объяснить не смог. Вместо этого он предложил Арлин отправиться вместе с Мэй в Европу, сказав, что оплатит им путешествие. Молодые женщины отказались и поехали, как и планировали, в Сан-Франциско, а оттуда вернулись в Нью-Йорк, оставшись без гроша. А Леннон окончательно слетел с катушек.
Джек Дуглас, работавший звукоинженером и бывший с Джоном и Йоко в дружеских отношениях, стал свидетелем сцены, которая напомнила ему о кошмарном финале фильма «День саранчи».
Однажды вечером Леннон пьянствовал в одном новомодном заведении, расположенном прямо над дискотекой «Рэйнбоу». На стоянке перед баром собралась толпа фанов, ожидавших появления Леннона. Возбужденный их криками, Джон распахнул ударом ноги окно и закричал: «Вы хотите меня, сборище придурков! Хотите меня!» И собрался прыгнуть вниз, но его вовремя схватили Джек Дуглас и Джим Келтнер. Вырвавшись, Джон кубарем скатился по лестнице, кинулся в толпу и начал дубасить своих поклонников направо и налево. Фаны стали отвечать ему тем же. К тому моменту, когда Джек и Джим выбежали на улицу, людская масса уже поглотила Леннона. Нырнув в самую кучу-малу, они уцепились за Джона, который все еще размахивал руками и ругался на чем свет стоит, и умудрились втащить его на заднее сиденье «кадиллака». Когда Джек нажал на газ, Леннон попытался открыть дверь, а когда попытка не удалась, он неожиданно извернулся и вышиб ногами заднее стекло автомобиля.
Через пару недель, проведенных в Нью-Йорке, рассказывает в своей книге Мэй, она позволила Иоко уговорить себя снова вернуться в Лос-Анджелес, чтобы на этот раз стать свидетелем бурной встречи Джона с бывшей женой и сыном. Незадолго до этого Синтия позвонила Джону и осведомилась, не забыл ли он случайно о том, что у него есть сын. Джон не видел Джулиана с тех пор, как чета Леннонов уехала из Англии. Переживая редкие для него угрызения совести, Джон попросил Синтию привезти к нему мальчика.
В тот день, когда приехал его сын, Джон был нем как рыба. Вместе с Мэй он встретил Синтию и Джулиана в аэропорту и довез их до «Беверли Уилшир», после чего исчез. На следующий день он провел с ними два часа. А тем временем Йоко, испугавшись возможного сближения с Синтией, все названивала Джону: в течение одного дня она позвонила двадцать три раза!
Третий день стал настоящим испытанием: Джон собрался отвезти Джулиана в Диснейленд. Узнав о том, что ему предстоит отправиться туда без мамы, мальчик запаниковал и спрятался за диваном, откуда вышел только после того, как Синтия пообещала поехать с ними. В парке атмосфера быстро разрядилась. Джулиан перебегал от одного аттракциона к другому, за ним степенно следовали Джон и Джесси Эд, то и дело прикладываясь к кокаину, а Синтия и Мэй мирно беседовали, поняв, что не представляют друг для друга никакой угрозы.
Через пару дней все та же компания собралась на ужин в доме у подружки Мэла Эванса, Фрэнсис Хыоз. Джон и Синтия предавались приятным воспоминаниям, во время которых она походя заметила, что всегда хотела родить от Джона еще одного ребенка. Насторожившийся Джон брякнул: «Я не могу больше иметь детей... У меня очень плохая сперма, из-за наркотиков». По дороге домой Джон все вспоминал слова Синтии, которые он воспринял как попытку посягнуть на него, о чем ему постоянно талдычила Иоко. Со своей стороны, Йоко почувствовала немалое облегчение, когда узнала об этом происшествии. Она рассказала работавшей теперь на нее Арлин Рексон, что жила в постоянном страхе, ожидая, что Джон разведется с ней, обойдясь так же подло, как в свое время он поступил с Синтией. «Только представь, – воскликнула Йоко, – ведь она была матерью его ребенка!»
Настоящий кризис разразился на следующий день. Джесси Эд Дэвис хорошо запомнил все, что тогда произошло.
"Я жил тогда на пляже с Патти и ее маленьким сыном Билли. Они были одного возраста с Джулианом. Джон и Мэй должны были заехать к Синтии за Джулианом и привезти его нам, чтобы мальчишки могли поиграть у океана. Джон и Мэй заявились с двухчасовым опозданием и без Джулиана. Они поцапались с Синтией, которая не хотела отпускать мальчика, и Джон был в дурном настроении. Ему требовалось чего-нибудь принять – все равно чего! У меня были какие-то колеса типа «бенниз». Он проглотил целую пригоршню и сразу завелся. Потом отправился в магазин и купил большую бутылку водки. Мы вернулись домой и прилично надрались.
Джим Келтнер позвонил и пригласил присоединиться к нему в ресторане. Мы сели в машину Мэй и поехали. Когда добрались до места, уже едва держались на ногах. А все остальные были в порядке и заказали поесть. Мы с Джоном могли лишь смотреть на пищу, а сами продолжали напиваться. Затем мы спустились в туалет.
Там висел аппарат, который выдавал бумажные полотенца. Джон вытащил полотенце, увидел на его конце маленькую этикетку и приклеил ее себе на лоб. Когда мы вернулись наверх, все закричали: «Боже, Джон! Сейчас же сними эту гадость!»
«Нет, теперь она моя, – ответил Джон. – Она моя, и я ее не сниму!»
Энни Пиблз выступала в тот вечер в «Трубадуре». У нее в репертуаре была одна шикарная вещь, которая очень нравилась Джону, «I Can't Stand the Rain»203. Мы решили отправиться в «Трубадур», куда и ввалился Джон с этикеткой Котекса на лбу. Когда официантка увидела, что мы уже на рогах, она отказалась нас обслуживать. «Как это ты не будешь нас обслуживать? – возмутился Джон. – Ты хоть знаешь, кто я такой?» «Обыкновенный придурок с Котексом на лбу», – ответила официантка, с отвращением посмотрев на него. Так что пришлось попросить других посетителей заказать нам выпивку. Думаю, мы не смогли бы держаться на ногах, если бы я не притащил с собой немного «коки».
Когда на сцену вышла завлекательная Энни Пиблз, Джон принялся скандировать: «Энни! Энни!» Он подумал, что она его узнаёт, но прожектора так слепили ее, что она приняла Джона за обычного пьянчугу. Не дождавшись ответа, Джон продолжил: «Энни! Я хочу лизнуть твою киску!» Следующее, что я запомнил, были две огромные ручищи, которые схватили меня сзади за плечи. Затем меня подняли вверх, вынесли за дверь – и я очутился на мостовой рядом с Джоном. Видимо, еще один здоровый парень одновременно вышвырнул и его. Патти и Мэй остались и оплатили счет. Перепуганные, они вышли на улицу и рассказали, что, когда нас выносили из зала, все посетители встали и зааплодировали. И тогда Джон сказал: «Может, нам стоит отправиться домой и выпить там на посошок?»
По дороге Мэй предложила: «Я думаю, будет лучше, если мы довезем Патти и Джесси до их машины».
«Нет, – пробормотал Джон, – я хочу, чтобы они поехали с нами выпить!» Мэй настаивала на своем, и тогда Джон схватил ее за горло и стал душить. А потом попытался выйти из машины. Джим Каталдо, сидевший за рулем, схватил Джона и втащил обратно. Тогда Джон снова принялся за Мэй. Но Джим оторвал его руку от ее шеи. В квартиру Гарольда Сайдера мы вошли через кухню. Здесь с потолка свисал светильник. «Мне не нравится, что он тут маячит!» – заявил Джон, схватил сковородку на длинной ручке и шарахнул по плафону. Осколки разлетелись во все стороны.
Мэй начала кричать: «Нет! О, нет! Не делай этого!» А нам было смешно. Нам это показалось очень забавным, и мы решили поиграть в квартире у Гарольда Сайдера в Кейта Муна. (В мире шоу-бизнеса Мун был знаменит тем, что разносил в пух и прах жилища, в которых ему доводилось останавливаться.) Так что мы не оставили там камня на камне.
Мы даже поднялись в спальню, и здесь Джон решил, что матрас – это Роман Полански. Он вспорол его сверху донизу и принялся вытряхивать набивку. Потом мы разбили все, что можно было разбить, и опять спустились вниз. А здесь уже нечего было бить, кроме большой мраморной пепельницы. Мы попытались расколошматить и ее, но ничего не вышло. Все это время мы продолжали пить и занюхивать кокаином. Когда в квартире не осталось ничего, что еще можно было сокрушить, мы решили побороться, а поскольку мы были пьяны, наша борьба быстро превратилась в нешуточную драку. Джон был невероятно силен! Он сделал мне какой-то хитрый захват сзади, так что я не мог пошевелиться. А затем стал целовать меня в губы! Я старался вырваться, но у меня ничего не получалось. А он засунул мне в рот язык. И я его укусил. Это его так взбесило, что он схватил ту самую мраморную пепельницу, которую мы не смогли разбить, и шарахнул мне по голове. Я отрубился.
О том, что было дальше, мне потом рассказали. «Ты убил его! – закричала Патти. – Боже мой! Он мертв!» А соседям недоставало только это еще услышать после всего того, что мы там устроили. И какая-то телка завопила: «Он мертв!» И они вызвали полицию.
«Вовсе он не мертв, – сказал Джон. – Надо просто побрызгать на него водой».
Затем он пошел на кухню, чтобы найти, во что налить воду, но все было разбито.
В холодильнике Джон обнаружил большой пакет с апельсиновым соком. Он вернулся в комнату и вылил все это дело мне на лицо. Я сразу пришел в себя. Сок залил мне и глаза, и нос, и рот, так что я приподнялся, пытаясь откашляться. «Нам надо перевязать ему голову», – продолжил Джон, потом достал из сумочки Мэй фотоаппарат «Никон», вытащил из него пленку и намотал ее мне на голову так, что желтая коробочка повисла у меня на одном ухе. И в этот момент ворвались чертовы копы!
Они держали свои пушки наготове и явно намеревались схватить очередного Чарльза Мэнсона. Мы мгновенно протрезвели. Я все еще продолжал лежать на полу, залитый соком и обмотанный фотопленкой. Один из копов оказался индейцем. Он приблизился ко мне и спросил: «А ты, случайно, не Джесси Эд Дэвис?» Ему было плевать, что я выглядел смешно. Он был горд тем, что застал соплеменника в обществе таких знаменитых людей. Настоящий фан!"
Мэй Пэн вспоминает, что, когда появились люди шерифа, Джон умчался наверх и спрятался в спальне. Один из полицейских спросил, кто там наверху, и Мэй поднялась к Джону. «Тебе лучше спуститься самому, – потребовала она. – Если они поднимутся и сцапают тебя, будет хуже».
Один из копов все-таки последовал за Мэй с револьвером в руке, но, увидев Джона Леннона, он просто остолбенел. Когда Джон спустился, полицейские направили на него свои фонари и револьверы и тоже замерли на месте. Наконец слово взял самый молодой и самый наивный из копов. «А как вы думаете, – робко спросил он, – соберутся ли „Битлз“ когда-нибудь снова вместе?» «Кто знает, – нервно ответил Джон. – Кто знает». Выяснив, что все живы, полицейские ушли, а следом откланялись и Джесси Эд с друзьями. Мэй прощалась с ними, стоя на пороге, когда услышала голос Джона, снова поднявшегося в спальню: «Это все из-за Романа Полански!» Кинувшись обратно в дом, она застала Джона за выламыванием одной из ножек кровати. Затем он схватил телевизор и швырнул его о стену, потом ему под руку попалась настольная лампа, которой он запустил в зеркало. Выдернув из комода один из ящиков и вывалив все содержимое на пол, он принялся рвать и топтать одежду, точно взбесившийся зверь. А когда Мэй попыталась его успокоить, он вцепился в янтарное ожерелье, доставшееся девушке в память от матери, и, дернув за него, рассыпал бусины по полу.
В панике Мэй бросилась звонить Иоко. Пока девушка рассказывала, что случилось, Иоко слышала в трубке шум погрома. «Позвони Эллиоту Минцу», – коротко посоветовала она и повесила трубку.
«Эллиоту?» – переспросила Мэй, и в затуманенном мозгу Джона это имя прозвучало, как щелчок.
«Я не желаю видеть у себя дома этого поганого еврея! – закричал Леннон. – Пусть только посмеет переступить через порог, и я оторву ему голову!»
На следующее утро, проснувшись среди обломков, Джон заявил, что абсолютно ничего не помнит. Его ничуть не смутило то, что он разгромил квартиру Гарольда Сайдера. Единственное, что действительно огорчило его, так это вид разбитой гитары «Мартин». «Впервые за все эти годы я разбил что-то, что принадлежало мне самому!» – воскликнул он.
К декабрю 1973 года рок-н-ролльные оргии Джона Леннона и Фила Спектора были уже на устах у всего Голливуда. Пьянство и наркотики, сцены жестокости и травмы достигли такого размаха, что руководство «А и М» выставило за дверь и звезду, и его продюсера. Тогда еженощное веселье переместилось на «Рекорд Плант Вест», но уже ничто не в силах было изменить характер сеансов звукозаписи, которым было суждено завершиться оглушительным финальным взрывом. Одно из лучших свидетельств завершающей стадии этого с самого начала незадавшегося сотрудничества представил Мак Ребеннак, больше известный как Доктор Джон, – единственный белый, овладевший секретами негритянского ритм-энд-блюза из Нового Орлеана. Героя улиц было трудно шокировать чрезмерным буйством, но даже он был поражен тем, с какой беспечностью остальные музыканты позволили Леннону сделать и их участниками забав, граничивших с саморазрушением.
«Вместо того чтобы сказать: „Послушай, парень, ты же гробишь собственное дело“, – рассказывает Доктор Джон, – они позволяли ему делать абсолютно все! Тогда я впервые в своей жизни пожалел продюсера. Спектор ничего не мог поделать. Когда он пытался помешать Джону напиваться, тот делал это тайком и вообще отказывался начинать работу, пока не набирал своей дозы. А когда он набирал дозу, то терял способность работать! Он усаживался на пол и начинал всех доставать. Однажды он разбил чей-то саксофон. Но так же нельзя себя вести! Это все равно что трахнуть чужую женщину! Он укусил Дэнни Корчмара за нос. Выбил зуб Джесси Эду Дэвису. С моим лицом он обошелся по-божески, но каждый раз, когда я ходил отлить, он заявлял, что я отправляюсь ширнуться. Могу вас заверить, что в то время я был абсолютно чист. Я только что был досрочно освобожден с испытательным сроком, и вовсе не собирался возвращаться обратно за решетку. Джон постоянно подвергал нас риску. Однажды он выписал из Голливуда каких-то шлюх, которые доставили ему наркотики, а ведь за ними вполне могли увязаться и копы. Джона просто тянуло на неприятности. Он мечтал стать героем улиц, но не отдавал себе отчета в том, что улицы таят в себе немало опасностей».
Студийная работа завершилась на высокой ноте. Однажды вечером, когда Фил Спектор, Джон Леннон и Мэл Эванс болтали в холле студии, Мэл сказал, что где-то поранил нос. Фил тут же подскочил и врезал гиганту по носу. «Вы видели!» – воскликнул Мэл и схватился за нос рукой.
«Что видели? – завопил Фил. – Это ты еще ничего не видел!» С этими словами Спектор выхватил пистолет и выстрелил в потолок. От грохота у всех заложило уши. В этот момент Леннон, который уже в течение многих месяцев находил оправдания безумному поведению Спектора, наконец признал, что имеет дело с опасным человеком. Но спасти альбом было уже невозможно.
В конце рождественских каникул, когда Джон был готов вернуться к работе, ему позвонил Спектор и объявил, что студия сгорела дотла. Леннон испугался, но поверил Спектору, пока сам не позвонил на студию и не убедился, что с ней все в порядке. В следующее воскресенье Спектор позвонил опять. «Эй, Джонни», – начал было он, но Леннон прервал его на полуслове.
– Надо же, вот и ты. Фил! Что случилось? Я думал, нам пора записываться.
Спектор перешел на заговорщический шепот. – У меня пленки Джона Дина204, – сообщил он. – Ты о чем? – не понял Леннон.
– Мой дом окружен вертолетами! – неожиданно закричал Фил. – Они пытаются их у меня отобрать!
– И что же ты с ними делаешь? – решил подыграть ему Джон. Но Фил знал, как ответить:
– Я единственный, кто может определить, фальшивые они или нет!
Теперь до Джона, наконец, дошло. «Это он так своеобразно пытался мне объяснить, что мои записи... спрятаны у него в погребе за колючей проволокой под охраной афганских догов и пулеметов. Так что мне было до них не добраться». И все же Джон сделал все возможное, чтобы заполучить свои записи назад. Он поднял «Кэпитол» по боевой тревоге, но никто не смог выкурить Спектора из его берлоги.
Стало ясно, что Спектор использовал Джона Леннона в качестве наживки для того, чтобы обманом заставить «Уорнер Бразерс» подписать с ним полновесный контракт. Теперь же, когда у него со всех сторон требовали объяснений, Фил придумал историю о том, что он якобы разбился на мотоцикле и отлеживается в больнице. Фил и раньше нередко прибегал к этой хитрости, доходя даже до того, что заставлял одного из голливудских гримеров накладывать себе гипс и делать перевязки.
Предательство Фила Спектора привело Джона Леннона в полную растерянность. Он покинул Нью-Йорк, чтобы оживить свое прошлое и стать простым вокалистом в новой, набирающей силу группе. Но вместо того чтобы вновь испытать трепет ушедших дней, Леннон попал в еще большую беду, чем та, от которой хотел убежать. Оказавшись без какой бы то ни было опоры, потеряв ориентиры, он чувствовал себя совершенно растерянным и беззащитным и потому попал в лапы второго злого гения.
Глава 51 Энергичный Гарри
Если вам довелось побывать в ультрасовременном гнезде Гарри Нильссона, расположенном в районе Бель-Эр, вас не придется убеждать в том, что хозяин дома богат. Но когда вы узнаете, что помимо сказочного имения, оборудованного к тому же великолепной студией звукозаписи, ему принадлежат еще и почти все окрестные участки земли, у вас вполне закономерно возникнет вопрос: «А откуда же этот парень взял столько денег?»
Ответ отнюдь не очевиден. В отличие от большинства знаменитых исполнителей, Гарри Нильссон никогда не выступал на сцене. Вся его карьера ограничивалась стенами студии звукозаписи. На его счету было не так уж много хитов. Ранние, изысканные альбомы, один из которых был посвящен памяти «Битлз», не имели коммерческого успеха. Последние альбомы были бомбами. Один из них, «Нильссон Шмальссон», все еще находился в верхней части хит-парадов. Гарри написал несколько хитов для других исполнителей, кое-что делал и на ниве кинематографа. Но даже сложенные вместе все эти успехи не могли обеспечить ему столь внушительного состояния. И только узнав, что Гарри всегда сам вел все свои дела, можно было начать догадываться о том, в чем разгадка его финансового успеха. Гарри всегда был очень удачливым бизнесменом, и самой большой его удачей стал Джон Леннон.
При чтении ряда книг, написанных о «Битлз», может сложиться впечатление, что Нильссон близко сошелся с Ленноном сразу после того, как в 1967 году вышел его первый альбом «Pandemonium Shadow Box»205. На самом деле, единственным Битлом, с которым дружил Нильссон в те давние времена, был Ринго. Они нередко гудели в Лондоне втроем, когда к ним присоединялся еще и Кейт Мун. Гарри не был близко знаком с Ленноном до тех пор, пока Джон не появился на Западном побережье. С этого момента ситуация изменилась.
К слову сказать, большая удача пришла к Гарри только после того, как в феврале 1974 года в нижней части апартаментов, которые занимали в «Беверли-Уилшир» Джон и Мэй, поселился Ринго Старр. То были времена, когда шумным успехом пользовался коньячный коктейль «бренди-Александер». Первым этот напиток открыл Ринго, а потом стал рекомендовать его всем друзьям. «Ты уже попробовал „бренди-Александер“? – спрашивал он, глядя на собеседника своими грустными глазами гончей собаки. – Это действительно вкусно. Только тут есть одна хитрость. Когда будешь его заказывать, сразу проси двойной „бренди“. Тебе надо будет сказать: „И еще один бренди“, потому что они никогда не доливают его столько, сколько надо. Затем отхлебываешь немного коктейля и выливаешь туда дополнительную порцию бренди. Вот тогда получится именно то, что надо».
Вскоре Ринго, Гарри и Джон – и все, кто еще оказывался в городе, например Терри Саузерн, Кейт Мун, Роджер Делтри или Мик Джаггер, – взяли за правило собираться вместе за центральным столиком в «Эль Падрино» и накачиваться тройными «бренди-Александерами» с такой скоростью, словно это были молочные коктейли.
Джон Леннон всегда испытывал тягу к сильным личностям, а Гарри Нильссон был человеком необыкновенно сильным. Несмотря на то, что он никогда не выходил на сцену, он превратил свою жизнь в одно сплошное шоу. Даже находясь на пике славы, Гарри вел себя так, словно отчаянно старался забыть обо всех своих проблемах. Ему быстро удалось завоевать внимание впечатлительного Леннона и приобщить его к собственному саморазрушительному стилю жизни, заключавшемуся в основном в круглосуточном пьянстве. По правде говоря, все звезды, собиравшиеся в те времена в баре отеля «Беверли-Уилшир», плыли в одной лодке: это были идолы молодежной культуры, которые уже начали ощущать тяжесть лет, женатые мужчины, у которых были проблемы с женами, или холостяки, которые вели беспорядочную интимную жизнь.
Джон Леннон издавна был подвержен постоянным приступам чувства вины. После того как рок-н-ролльный альбом сгинул в недрах погреба Фила Спектора, Джону было необходимо найти себе новое занятие. Однако его творческая сила, казалось, исчерпала себя. Последний оригинальный альбом «Mind Games» потерпел неудачу; да и все, что Джон записал после «Imagine», он сам называл «дерьмом собачьим».
Удрученный перспективой ежевечерне напиваться и тренькать на гитаре, Джон разродился новым проектом. Он предложил Нильссону сотрудничество в работе над новым альбомом, где Гарри должен был стать исполнителем, а Джон – продюсером.
Не теряя времени, собутыльники превратились в деловых партнеров, а остальные ребята тут же захотели вскочить на подножку того же поезда. Ринго должен был играть на ударных. Мун – тоже. Таким образом, включая Джима Келтнера, группа с самого начала насчитывала уже трех барабанщиков. Альбом явно должен был стать довольно шумным. Но это было лучше, чем ничего, – теперь они могли оплачивать свои счета из баров за счет бюджета по производству пластинки.
Как раз в это время Джон и Гарри устроили знаменитый скандал во время первого выступления «Смотерс Бразерс». Примерно за три недели до концерта Йоко позвонила Джону и сообщила, что после своего дня рождения провела королевскую ночь в объятиях Дэвида Спинозы. Джон сделал вид, что это известие не произвело на него впечатления, и даже сказал, обращаясь к Мэй Пэн: «А я уже начал волноваться, что ей так и не обломится». Однако сообщение Йоко включило в безумно ревнивом мозгу Джона часовой механизм бомбы замедленного действия.
Появившись около полуночи 13 марта в «Трубадуре» в обществе Мэй и Гарри, Джон был уже наполовину пьян и очень зол. Троицу проводили в ложу VIP, где уже собралось немало знаменитостей: Питер Лоуфорд, Пэм Гриер, Джек Хэйли Джуниор и известный продюсер Алан Сакс, и они начали с того, что заказали себе по тройному «молочному коктейлю». Когда напитки были доставлены, Джон залпом опрокинул бокал и предложил тут же принять еще по одному. Затем он принялся напевать мелодию «I Can't Stand the Rain», что само по себе не предвещало ничего хорошего. Вскоре к Джону присоединился Гарри, и друзья запели громче, стуча ложками и ножами по бокалам и солонкам. «Классно у вас получается, – пробормотал Питер Лоуфорд. – Вам бы выступить у „Смотерс Бразерс“ на разогреве!» В ответ на эту шутку Джон схватил стоявший перед Питером «молочный коктейль» и залпом выпил. Шумное поведение Леннона и Нильссона привлекло внимание репортеров, и Джон решил отправить Йоко небольшое послание в ответ на сообщение о полученном ею на свой день рождения подарке. Он схватил Мэй Пэн за шею, притянул к себе и смачно поцеловал в губы. Сцена озарилась сполохами фотовспышек, и журналисты закричали: «Кто она?!»
Джон улыбнулся Мэй и ликующе объявил: «С тайнами покончено!» После чего заказал еще пару коктейлей.
Когда на сцену вышли «Смотерс Бразерс», зрительный зал разразился овацией. Но когда приветственные крики и аплодисменты улеглись, все услышали, что Джон и Гарри все еще поют, причем все громче и громче, явно не собираясь останавливаться. «Они обожают тебя!» – крикнул Гарри, обращаясь к Джону.
Стало ясно, что Леннон решил оттянуться на полную катушку. Он стал перемежать свое пение непристойностями в адрес исполнителей, время от времени возглашая: «Я – Джон Леннон!» Его пытались урезонить, но он посылал куда подальше всех, кто к нему обращался.
Теперь уже со всех концов переполненного клуба слышались крики, обращенные к Джону: «Им и так уже досталось! А теперь и ты решил их обделать!.. Как же ты сам будешь спать сегодня ночью?»206
В конце концов к столику, за которым сидел Джон Леннон, подошел менеджер «Смотерс Бразерс» Кен Фриц. Он был вне себя от злости. «Послушай, ты! – закричал он. – Мы долго работали, чтобы подготовиться к этому концерту, и я не позволю тебе сорвать его!» С этими словами он схватил Джона за плечо.
Джон вскочил, опрокинув со страшным грохотом стол. Резко развернувшись, Леннон достал Фрица хуком в подбородок, Фриц ударил в ответ, и зал заревел. Однако прежде чем бойцы успели обменяться повторными ударами, на них налетела толпа барменов и официантов. Джона и Гарри вышвырнули на улицу, словно кучу грязного белья, но и здесь драка продолжалась. Джон схватился с охранником автостоянки, и повалил его на землю. Раздались женские крики.
Когда Джон, Гарри и Мэй, которой удалось незаметно выскользнуть на улицу, очутились, наконец, в своей машине, Гарри потребовал, чтобы водитель отвез их на вечеринку к одному из приятелей. «Я не поеду!» – процедил Джон, потерявший в свалке очки. «Тогда я поеду с Мэй!» – закричал Гарри и попытался ее обнять.
«Убери от меня свои грязные руки!» – завопила девушка. Гарри удивленно отшатнулся. И все же они поехали на вечеринку, где продолжали распевать перед изумленными гостями свои серенады. Когда вечер подошел к концу, Мэй Пэн не могла больше слышать этот дуэт, поэтому она отвезла обоих на квартиру Гарри и оставила их там вдвоем.
Следующее утро началось с того, что Иоко буквально оборвала все телефоны. Сообщения о последних приключениях Джона докатились до Дакоты. Иоко обрушилась с обвинениями на Мэй, которая была слишком измученной, чтобы оправдываться. Одна из утренних лос-анджелесских газет поместила фотографию с изображением Джона, целующего Мэй. Статья начиналась так: «Джон Леннон расстался со своей женой Иоко Оно и чудесно проводит время в Лос-Анджелесе».
А Джон с самого утра безучастно наблюдал за тем, как Гарри Нильссон – который в эту ночь не сомкнул глаз – всеми силами старался подлатать заметно испорченный образ Леннона. Гарри отправил «Смотерс Бразерс» букет чудесных цветов с запиской, которая гласила: «От Джона, с Любовью и Слезами». Затем он настоял на том, чтобы они лично отправились к хозяину «Трубадура» и принесли ему свои извинения.
О том, что произошло, когда два знаменитых вокалиста вновь собрались вместе после скандала, учиненного ими в «Трубадуре», рассказала Лил, одна из подружек Гарри, участница самого дикого эпизода «неудавшегося уик-энда».
"Джон и Гарри собрали всех этих ребят, чтобы они играли на записи альбома Гарри. Идея принадлежала Джону, но он не хотел брать на себя ответственность и рассчитывал на то, что Гарри все организует сам. А Гарри был слишком занят тем, что гробил собственный голос. (Нильссон страдал от ларингита, но, вместо того чтобы беречься, пил пуще прежнего и орал во всю силу легких.) В один прекрасный момент до них дошло, что они сами все портят, и тогда они решили поехать в Палм-Спрингз и привести себя в порядок. Мы остановились в гостинице, которая оказалась настоящим спортивным клубом. Просто кошмар! Нас привез туда Мэл Эванс, захвативший с собой подругу и ее малыша – и в первую же ночь они вдрызг разодрались.
Джон и Гарри не привезли с собой ни кокаина, ни кислоты, вообще ничего. Но оставался алкоголь. Стоило им начать прикладываться – и через два часа они уже нарывались на неприятности. Я не помню, чем мы занимались в первый вечер, по-моему просто надрались и отправились спать. Помню только, 4то они ни разу не выходили на свет. У них от света болели глаза. Обычно ребята спали до четырех дня, а потом надевали темные очки. Мы думали, чем бы заняться, когда кто-то посоветовал подняться на гору.
Мы приняли пивка и сели в фуникулер. Вообще-то мы собирались подняться и сразу же спуститься вниз, но в фуникулере мне стало плохо. Меня затошнило, колени затряслись, так что о том, чтобы сразу отправиться вниз, не могло быть и речи. Мы уселись в баре и пробыли там с семи и до закрытия. Публика в баре состояла не только из туристов с детьми. Было немало одиночек или тех, кто приехал сюда ради тайного свидания, так что в воздухе витали особые флюиды.
Джон всегда опасался того, что его могут узнать, но вместе с тем и он, и Гарри очень бы огорчились, если бы на самом деле остались неузнанными. Поэтому Джон подошел к музыкальному автомату, отыскал несколько пластинок «Битлз» и стал без конца гонять их одну за другой. Нас, конечно же, сразу узнали, и посетители то и дело подходили к нашему столику. Настало время уходить, но фуникулер еще не был готов к отправлению. На нас с Мэй были такие коротенькие шорты, что они почти полностью открывали ягодицы. Джон и Гарри на глазах у всех стали заигрывать с нами, то и дело шутя передавая нас друг другу.
В последний фуникулер набились все, кто еще оставался в баре. Было так тесно, что никто не мог пошевелиться. А Гарри и Джон все продолжали забавляться с нами. И мы довольно быстро поняли, что нас касаются уже не четыре руки, а значительно больше. Ситуация выходила из-под контроля. Фуникулер уже ходил ходуном, и все вели себя очень агрессивно, стараясь дотронуться до нас с Мэй. Внизу нас уже ждал лимузин с распахнутыми дверцами, и как только кабина остановилась, мы выскочили наружу и со всех ног помчались к машине – а все остальные бросились вслед за нами! Это было, как в той сцене из «A Hard Day's Night». Когда мы добрались до гостиницы, было уже слишком поздно, чтобы заказывать ужин в номер, и Мэй с Гарри отправились в магазин.
Мы с Джоном забрались в маленькую джакузи, расположенную на газоне перед отелем. Я уж и не помню, что там произошло, так как почти сразу отключилась, но когда наши друзья вернулись, Гарри был на меня очень зол, а Мэй осыпала Джона упреками. Тем не менее они залезли к нам в джакузи. Не помню, что Мэй сказала Джону, но она все время ныла и портила ему веселье. Внезапно он схватил ее обеими руками за горло и стал душить изо всех сил. Я просто не могла в это поверить! Прошло несколько секунд, прежде чем Гарри решил, что с Мэй довольно, и оторвал от нее Джона. В этот момент к нам подошел охранник и велел вылезать из джакузи.
Позднее, поднявшись в номер, Джон опять схватил Мэй и швырнул ее о стену! Причем он злился вовсе не на нее, он просто имел зуб на всех женщин. Я уверена, что раньше он проделывал то же самое и с Йоко. В каком-то смысле и Синтия, и Мэй раздражали его, поскольку ни у той, ни у другой совершенно не было характера.
Следующее, что мне запомнилось, это то, что Джон, Гарри и я оказались в одной кровати. Мэй в слезах убежала, потому что была избита в кровь. Но я этого ничего не помню. А на следующее утро Джон сказал: «Я не хочу быть влюбленным. От этого бывает больно!»
Мэл отвез всю компанию в Лос-Анджелес, где Гарри тотчас проводил Лил в аэропорт, а часом позже встретил свою вторую подругу – Уну, приехавшую к нему на пасхальные каникулы. Тем временем Джон получил от администрации отеля счет за март: 10 тысяч долларов! Несмотря на то, что эти расходы могли быть отнесены на счет новой пластинки, ему не доставляло особой радости платить за своих друзей. «Наверняка где-нибудь здесь неподалеку есть пансион для старых рокеров, – предложил он, – где каждого можно было бы запереть в отдельную обитую камеру – как раз то, что надо! Почему бы нам не арендовать целый дом и не поселиться всем вместе? Мы могли бы следить за Гарри, экономить деньги и быть уверенными в том, что никто из музыкантов не будет опаздывать в студию».
Гарри подхватил идею на лету и тут же арендовал ставший впоследствии знаменитым дом, в котором Мерилин Монро встречалась с Джеком и Бобби Кеннеди. Дому 625 по Пасифик-Коуст-Хайвэй, представлявшему из себя просторную виллу, построенную прямо на пляже к северу от Санта-Моники, суждено было стать рок-н-ролльным пансионом Доктора Уинстона О'Буги. Кроме Джона и Мэй, здесь поселились Гарри и Уна (розовощекая студентка колледжа из Ирландии, которая носит сейчас имя миссис Нильссон), Клаус Фурман и его чернокожая подруга Синтия Уэбб, Кейт Мун и Ринго Стар? со своим менеджером Хиллари Джерардом.
Как только Джон всерьез взялся за роль продюсера, ритм «неудавшегося уик-энда» резко изменился, поскольку Джон взял себя в руки и стал отказываться от ночных гулянок. По окончании сеансов звукозаписи на «Бербэнк Студио» (которые по-прежнему сопровождались обильными возлияниями) – около полуночи, когда Гарри и Кейт, Ринго и Хиллари обычно отправлялись в «Рэйнбоу» или в «Он зе Роке», Мэй отвозила Джона и Клауса домой. Поутру самые здоровые обитатели просыпались в положенное время и шли на завтрак, который им готовили муж и жена мексиканцы, нанятые присматривать за домом; затем, когда время уже переваливало за полдень, медленно, точно ходячие больные, начинали выползать жертвы предыдущей ночи. Наиболее забавным неизменно бывал выход Кейта Муна – он спускался по лестнице, вырядившись наподобие германского генерала в длинный коричневый кожаный плащ с белым шарфом, какие прежде носили авиаторы, и повесив на шею защитные очки. А когда он вдруг поворачивался спиной, открывался вид на его голую задницу.
По мере того как продолжалась запись альбома, Гарри Нильссон начал терять свой прежде прекрасный и неисчерпаемый голос. Поскольку традиционная медицина оказалась бессильна в борьбе со стилем жизни больного, Джон посоветовал ему обратиться к доктору Хону. Для того чтобы быть уверенным, что Нильссон не опоздает к началу записи, Кейту Муну было поручено сопроводить его в Сан-Франциско. Кейт был далеко не самой лучшей кандидатурой на роль ангела-хранителя. Когда вечером оба рокера с большим опозданием появились в студии, они были смертельно пьяны. Джон заорал на Кейта: «Ну ему хоть стало лучше?!»
«Нет, зато теперь он весь в дырках!» – ответствовал Мун. Когда все партии были записаны, Джон и Гарри занялись сведением альбома. Но всякий раз, когда они заканчивали работу над очередной вещью, Гарри оставался недоволен и требовал все переделать. И его не в чем было винить: голос звучал отвратительно, а музыка была никакой. В общем, «Pussy Cats»207, таково было название альбома, обернулся катастрофой. А Джон был не таков, чтобы месяцами сидеть в студии и «делать что-то из ничего». Так что в конце концов он собрал пленки и повез их в Нью-Йорк, где рассчитывал быстро разделаться с этим проектом и навсегда избавиться от Гарри.
Как только Гарри увидел, что птичка упорхнула, он моментально протрезвел. Он тоже сел в самолет и отправился вдогонку за Джоном. Добравшись до офиса «Эппл», он схватил Джона в охапку и после нескольких тостов «за встречу» уговорил его помочь ему в одном деле.
О том триумфе, которого добился Гарри в день своего прибытия в Нью-Йорк, вспоминает Лил, та, кому обо всем поведал сам триумфатор: "Я встретилась с Гарри и Джоном около одиннадцати утра, сразу после того, как они вышли от Кена Глэнси, президента компании «Ар-Си-Эй». Они появились там примерно в девять часов – тогда же Гарри и позвонил мне, предложив встретиться у «Пьера». В «Ар-Си-Эй» он притащил с собой Джона, предварительно напоив его. Чтобы разобраться во всей этой истории, необходимо уяснить, что Рокко Лагинестра, бывший президент «Ар-Си-Эй», был для Гарри кем-то вроде дядюшки. Он его просто обожал. Незадолго до увольнения Рокко добился для Гарри контракта на пять миллионов долларов. Речь шла о пяти альбомах, и после каждого альбома компания должна была выплачивать ему порядка восьмисот тысяч долларов наличными! Но затем в руководстве начались перестановки. Сначала пришел Джил Белтрон, за ним был назначен Кен Глэнси. Контракт Гарри лег в долгий ящик и так и остался неподписанным. Так что тем утром Гарри безо всякого предупреждения ввалился в кабинет Кена Глэнси в сопровождении Джона. Кен никогда прежде с Гарри не встречался, да и вообще он только что вступил в должность, поэтому осмелюсь предположить, что, увидев эту парочку у себя перед носом, радости он не испытал.
«Мы тут записали три основные вещи, – начал Гарри. – Это будет альбом века». Затем он поставил пленку и врубил громкость до предела. У них было три барабанщика – стена грохота! У Кена отвисла челюсть. И тогда Гарри продолжил: «Этот альбом мог бы стать вашим успехом, но я ухожу из вашей компании! А знаете, почему? Потому что вы уже почти год покоите задницу на моем контракте и никак не можете его подписать! А теперь мне надоело! Надоело, понимаете? Если бы я остался с вашей компанией, то привел бы сюда и Джона. Его контракт с „Кэпитол“ скоро заканчивается». Гарри посмотрел на Джона, и тот, будучи совершенно пьяным, механически кивнул. «А еще я бы мог привести и Ринго! Но не буду, потому что вы не подписали контракт со мной». С этими словами Гарри развернулся и вышел, уводя с собой легендарного Джона Леннона.
Когда они приехали к «Пьеру», Джон бросился ко мне, упал на колени и зарылся лицом в мою юбку. Прямо в холле! Он был рад увидеть знакомое лицо, и ему было стыдно за то, что заставил его делать Гарри. Когда мы поднялись наверх, Джон рухнул на кровать. А Гарри принялся названивать своему адвокату Брюсу Грэкалу в Лос-Анджелес. Каким бы пьяным он ни был, когда дело доходило до бизнеса, Гарри всегда бывал как стеклышко. Он подробно рассказал Грэкалу обо всем, что произошло. «Дело за тобой, – сказал он в заключение, – потому что я уверен, что в этот самый момент они уже перечитывают мой контракт». Ну ясное дело! Контракт был подписан через два дня". Вот так Энергичный Гарри сделал себе состояние.
Глава 52 Свободное падение
В Нью-Йорк Джон Леннон вернулся без Мэй Пэн. Он отчаянно жаждал помириться с Йоко и хотел иметь для этого свободу действий. Домой к «мамочке» Джона тянула отнюдь не любовь, а страх. Джон был в панике, поскольку понимал, что, если не прекратит загул с Гарри Нильссоном, Ринго Старром, Джесси Эдом Дэвисом и Кейтом Муном, он очень скоро может опять потерять над собой контроль – и на этот раз совершить что-нибудь действительно ужасное. «Я не хочу окончательно сойти с ума!» – в отчаянии крикнул он, обращаясь к Мэй Пэн перед самым отъездом из Лос-Анджелеса.
Однако очень скоро Джон убедился, что Йоко не собиралась пускать его обратно в свою заповедную Дакоту. Она вообще отказывалась встречаться с ним наедине. Поэтому Джон обратился к Гарри и Лил с просьбой сопровождать его на встречу с собственной женой, но предупредил, чтобы они были готовы откланяться по первому сигналу.
Встреча началась в ледяной атмосфере. Йоко укрылась за маской невозмутимости. Гарри был, по обыкновению, пьян. Когда он понял, что Йоко замкнулась в себе, он окинул ее умоляющим взглядом и проворчал: «Ну чё ты хочешь, чтобы я те сделал, Йоко? Взял..?» И Великое Каменное Лицо не смогло удержаться от улыбки. А Джон и Лил скрючились от хохота, причем не столько от выходки Гарри, сколько от облегчения.
И тем не менее, когда смех утих, в доме вновь воцарилось Царство Льда. Джон сидел как на иголках, ожидая момента, чтобы подать условленный сигнал. Наконец время пришло, и Гарри с Лил извинились и откланялись. Но не успели они дождаться лифта, как услышали голос Джона, донесшийся до них через застекленную дверь: «Подождите! Я тоже ухожу!» Выйдя в холл, он состроил гримасу и признался, что Йоко его прогнала.
Отвергнув Джона, Йоко предоставила Гарри великолепную возможность вернуть его к распутному образу жизни, из которого Леннон пытался вырваться. Единственное отличие от Лос-Анджелеса заключалось в отсутствии Мэй Пэн, без которой Леннон вообще не знал удержу, так что в мае 1974 года «неудавшийся уик-энд» превратился в свободное падение.
Джон и Гарри обосновались в «Отеле Пьер» на Пятой авеню, как раз напротив гостиницы «Плаза», ставшей в свое время первым местом пребывания только что прилетевших в Америку «Битлз». Друзья-гуляки продирали глаза к часу дня, когда Гарри скатывался с кровати и заказывал в номер завтрак: два тройных «Александера» и блюдо с закусками. Часов до пяти ребята развлекались венскими сосисками, насаженными на пластмассовые шпажки, жареными креветками под соусом «беарнез» и постоянно пополняемым запасом «молочных коктейлей». Любому, кто стучался в номер, разрешалось зайти, и вскоре помещение превратилось в настоящий проходной двор.
Правда, некоторые из посетителей были знаменитостями, искавшими общения со знаменитостями.
По вечерам Джон и Гарри отправлялись на студию «Рекорд Плант Ист», находившуюся в доме 321 по 44-й Западной стрит, и продолжали работать над записью альбома Нильссона. Однажды здесь объявились Пол Саймон и Арт Гарфункел, пришедшие подпеть Гарри. Четыре года прошло с тех пор, как они перестали петь вместе, и в студию их привело желание поработать с Джоном Ленноном. Когда началась запись, у знаменитого в прошлом дуэта начались проблемы: они никак не могли попасть в тональность и начали портить дубль за дублем. Леннон повел себя очень вежливо и проявил ангельское терпение. Гарри Нильссон наконец не выдержал. «Да что же с вами происходит?! Вы изгадили нам всю работу!» – ворчал он. Саймон повернулся к Гарфункелу и стал во всем обвинять его. Гарфункел, в свою очередь, заявил, что во всем виноват Саймон. Поскольку творческая деятельность сопровождалась возлияниями, то очень скоро все музыканты дико переругались. В конце концов работа была закончена, но оказалась настолько плохой по качеству, что использовать ее не было никакой возможности.
Когда вечерело, Гарри неизменно тянуло за город. Из-за пристрастия к «молочным коктейлям» его нос приобрел красный оттенок, а живот оброс жировыми складками. Вечно небритый, одевавшийся незнамо во что, он смахивал на бродягу. Тем не менее он все еще обладал способностью бодрствовать по нескольку дней подряд, которую с годами начал утрачивать Джон Леннон.
Однажды вечером приятели забрели в гостиницу «Алгонкин», где остановились Дерек Тейлор и английский джазовый певец и поп-писатель Джордж Мелли. Войдя в номер, Джон с ходу чуть не опрокинул канделябры, затем у него с Мелли, такого же ливерпульского еврея, каким был и Брайен Эпстайн, чуть не дошло до драки. Незваных гостей убедили отправиться восвояси, тем не менее в два часа утра в номере пресс-секретаря Мелли раздался телефонный звонок. Это был Леннон. "Он потребовал, чтобы моя секретарь занялась с ним сексом, – вспоминает Мелли. – А она ответила: «Я сплю! Иди домой!»
Как-то утром, в час, когда люди обычно сидят за ланчем, Джон и Гарри очутились в Гринвич-вилледж. Они направлялись в старомодный салун под названием «Джимми Дэйз», где можно было перекусить. На улице Леннона узнал парень из Бруклина по имени Тони Монеро, и Джон пригласил его выпить. Тони был вне себя от радости. Описывая Джона, он называл его «жеребцом», однако фотографии, которые он сделал в баре, дают совершенно иное представление о том, как выглядел тогда Леннон: небритый, расхристанный, в темных очках, скрывающих глаза, и с кепкой на голове. В руке он держал скипетр уличного короля – бутылку спиртного в бумажном пакете. Тони запомнилось, что Джон подходил к каждой встречной девушке и говорил: «Я Джон Леннон. Не хочешь..?» С таким же предложением обратился он и к Тони. Джону все было безразлично. Это поняла Лил, когда очутилась с ним в одной постели, сначала в Палм-Бич, а затем в Нью-Йорке.
Однажды она поднялась к нему в апартаменты и обнаружила, что они пусты,
«Я все ждала и ждала, – рассказывает она. – Затем появился Джон, он был один. Он поведал: „Гарри отвел меня в какой-то бордель, а мне вовсе не хотелось этим заниматься“. Затем он упросил меня, чтобы я легла с ним в постель. Ему явно не хотелось чем-то при этом заниматься, тем не менее мы это сделали. Ему было нужно, чтобы я просто обняла его. Он был слабым человеком, испуганным и отчаявшимся. Он больше нуждался в близости, нежели в самом акте...»
Когда в гостиницу вернулся Гарри, Лил выбралась из постели Джона, но ничего ему не рассказала, так как считала, что не обязана отчитываться перед тем, кто провел ночь со шлюхами. На следующий день она уехала в деревню.
В более поздние годы, когда Джон и Йоко станут переписывать эту главу из своей жизни, чтобы сделать ее более похожей на остальные куплеты «Баллады о Джоне и Иоко», они расскажут, что всякий раз, когда Джон хотел вернуться, Йоко говорила: «Нет, ты еще неготов». На самом деле все было как раз наоборот: именно Йоко была не готова к возвращению Джона. В то время как он дрожал от страха при мысли, что сойдет с ума, убьет себя или кого-нибудь другого, она, казалось, пыталась прикинуть, удастся ли ей и дальше оставаться звездой – без Джона. В конце концов, несмотря ни на что, она не сумела полностью подчинить себе Дэвида Спинозу.
Она перепробовала все ухищрения: косметику, соблазнительное нижнее белье, дорогие подарки. Один раз это был гоночный мотоцикл, в другой – произведение искусства. А однажды Йоко и Арлин обошли весь город, фотографируя предметы и вывески, содержавшие волшебное слово «Дэвид».
И в то же время она постоянно нападала на музыканта, стараясь ударить именно в то место, где побольнее. Высокомерная японская аристократка временами обращалась с бруклинским парнем как с «мещанином-недоучкой», а как художница-авангардистка она обвиняла музыканта в том, что он продал свой талант за жалкую зарплату и пенсию на старости лет. «За всю жизнь ты ни разу не написал ничего, что шло бы прямо от сердца!» – резала правду-матку Иоко.
Но если тактика кнута и пряника давала прекрасные результаты с Джоном Ленноном, то с Дэвидом Спинозой дела обстояли совсем иначе. Обычно он отвечал ударом на удар. Спиноза обратил внимание на странное отношение Иоко к окружающим людям вообще. Она постоянно стремилась завоевать всеобщее признание и любовь и работала ради этого не покладая рук; и тем неменее ее отношение к людям можно было бы выразить одной короткой фразой: «Все они – просто козявки!» О Джоне Ленноне она говорила так, будто он был не более чем новичком в том самом мире искусства, в котором она уже давно была признанным авторитетом. В таких случаях Спиноза не упускал возможности сказать: «Зачем же ты подписываешь его именем все, что делаешь сама, и упоминаешь о нем всюду, о чем бы ты ни говорила? Почему бы тебе не пойти своим путем, если ты так уверена в том, что он тебе не нужен?»
Возможно, все эти мелкие ссоры не имели бы для Спинозы никакого значения, если бы он был ею увлечен. Однако эта женщина была явно не в его вкусе. Он даже отрицал тот факт, что имел с ней близость, противореча тому, о чем Иоко сама рассказала сначала Джону, а позднее и своей близкой подруге Сэм Грин. Иоко утверждала, что трижды переспала со Спинозой, причем это произошло прямо на матрасе, разложенном на полу в «белой комнате».
Явным свидетельством неудачи Йоко стала связь Дэвида с хорошенькой Барбарой, которая мечтала о том, чтобы стать актрисой. Но даже такое развитие событий не смутило Иоко. Она подружилась с Барбарой и постаралась найти выход из положения. И эта тактика, равно как и все другие ухищрения, не принесла ей успеха.
В мае, когда Джон снова вернулся в Нью-Йорк, желая примирения, Иоко пребывала в явной хандре. Гарольд Сайдер вспоминает, как отправился проведать ее в Дакоту. Он сидел у нее в спальне, а она лежала поперек кровати, разглядывая себя в зеркало и горько сетуя на собственную жизнь. «Я, Иоко Оно, – жаловалась она, – не могу просто выйти на улицу и подцепить мужика. Я не могу завести интрижку даже с водителем грузовика без того, чтобы он тут же не заорал, что переспал с Йоко Оно». Чувствуя, что теряет власть над собственной жизнью, Йоко отправилась на поиски нового источника силы. И на этот раз она нашла его в оккультизме.
Глава 53 «Мамочкины» помощники
С самым известным ясновидящим в Нью-Йорке Йоко познакомилась благодаря подруге Гарри Нильссона Лил. Когда Лил рассказала Иоко, что этот человек может предсказывать будущее, та бросилась к телефону. А на следующий день длинный лимузин уже вез ее в направлении Литтл Итали.
Фрэнк Эндрюс жил в ничем не примечательном доме на Маллберри-стрит, напротив кладбища, через стену которого перепрыгивает Роберт де Ниро в фильме «Злые улицы». Это был невысокий, пухлый, темноволосый мужчина с мальчишеским лицом, одевавшийся в джинсы и майку и прятавший глаза за большими темными очками.
Когда Иоко впервые появилась в этом доме, она вела себя как внимательная школьница, записывая буквально каждое слово Эндрюса в маленький черно-белый блокнот. Когда она уже встала, чтобы попрощаться, он вдруг задержал ее. «Ваш муж спит на крови», – прошептал он, словно находясь в полутрансе. «Что вы имеете в виду?» – опешила она.
«Я предчувствую, что его ждет трагический конец, – попытался объясниться он. – Я вижу его в крови».
Получив такое предостережение, Иоко настояла на том, чтобы Джон обратился к Эндрюсу за консультацией. Идея не очень понравилась Джону, но в конце концов он согласился, при условии, что парапсихолог сам придет к нему домой. Эндрюс провел с Ленноном два часа, сидя на кухне в Дакоте. На протяжении всего сеанса обстановка была не из приятных. Всякий раз, когда Эндрюс попадал в точку, Леннон хмыкал: «Это вы где-то прочитали!» Несмотря на враждебность и недоверие, Леннон все же задал Эндрюсу несколько очень трудных вопросов. «Соберутся ли „Битлз“ снова вместе?» – спросил он.
«Нет, но я вижу их на Бродвее», – ответил Эндрюс, объяснивший впоследствии осуществление своего предсказания постановкой шоу «Битломания».
«Получу ли я „грин кард“? – поинтересовался Джон. А когда Эндрюс ответил утвердительно, иронично добавил: – Ну конечно, после того как я отстегнул адвокатам столько денег!»
Вслед за этим Джон опросил, доживет ли он до сорока. Эндрюс улыбнулся и произнес: «Как минимум до сорока четырех».
Когда они перешли к интимной сфере, Эндрюс предположил, что Леннон испытывает большие неприятности из-за своей гомосексуальности. «Почему вы одеваете Иоко под мальчика?» – с вызовом спросил он. Джон возмутился и вообще отказался обсуждать эту проблему. Но когда Эндрюс заметил: «Я вижу, как рождается ребенок», Джон подумал, что речь, скорее всего, шла о Мэй Пэн, которая, кажется, забеременела.
Перед уходом Эндрюс решил почитать у Леннона по руке. Он увидел признаки конфликтов, безумия и пришел к выводу, что по натуре Джон меланхолик, склонный к садо-мазохизму. Когда гость находился уже на пороге, Джон осмелился, наконец, задать тот вопрос, который волновал его больше всего: «Как по-вашему, будем ли мы с Иоко снова жить вместе?»
«Мне кажется, это не самая удачная мысль», – осторожно ответил Эндрюс.
«Только не вздумайте говорить об этом ей!» – резко выкрикнул Джон.
Стоило Иоко окунуться в океан оккультных наук, как она проявила поистине ненасытную страсть к всякого рода предсказаниям. Любому человеку было достаточно сказать ей, что он умеет видеть будущее в стакане воды или в горстке цветных камней, чтобы Иоко обратила на него внимание. Встречи с бесчисленными предсказателями закончились тем, что Иоко познакомилась с одним человеком, который, независимо от наличия парапсихических способностей, умел безошибочно и в мельчайших деталях разбираться в характере собеседника. Забавным было то, что изначально его представили Иоко как экзорсиста.
После нескольких приступов беспокойства, случившихся с ней в течение первой зимы, проведенной в одиночестве, Иоко пришла к выводу, что в доме обитает злой дух – призрак миссис Роберт Райан, жены предыдущего владельца, скончавшейся в этой квартире. Иоко решила прибегнуть к помощи экзорсиста, о котором как-то упомянула одна хиппи, работавшая у нее ассистенткой. Когда 14 мая 1974 года Иоко впервые встретилась с Джоном Грином, он сразу произвел на нее сильное впечатление. Казалось, для этого двухметрового гиганта весом в сто тридцать килограммов не было ничего невозможного, на самом же деле Грин был очень осторожным человеком.
Дар ясновидца обнаружился, когда он еще учился в университете. Как-то раз, сидя без денег, он предложил одной из сокурсниц погадать ей по руке за чашку кофе. Стоило ему взглянуть на ладонь девушки, как у него перед глазами стали возникать образы. Позже девушка подтвердила, что его предсказания оказались удивительно точны.
Женившись на однокласснице и проработав год школьным учителем, Грин перебрался в Нью-Йорк и устроился на работу в редакцию журнала «Файненшл уорлд». В 1971 году он прошел курс обучения у мастера черной магии Джозефа Лукаша, но вскоре отдалился на почтительное расстояние от этой слишком опасной, по его мнению, среды и переключился на белую магию: гадание на картах таро, изготовление амулетов, снятие сглаза, психическое исцеление и обряды деспохос, или сеансы очищения души.
В тот день, когда он впервые перешагнул порог Дакоты, Грин был одет во все белое. Первым делом он превратил в алтарь большой стол, стоявший в «белой комнате», установив в середине три зажженные свечи. Затем в четырех точках, соответствовавших четырем сторонам света, расположил символы четырех элементов: на востоке – огонь, представленный в виде дешевого одеколона, на западе – воздух, который символизировал флакон летучей эссенции, чашу со святой водой на юге, а на севере – банку с освященной солью – символом земли.
Затем он поднял чашу с танцующими в ней языками пламени, воззвал к архангелу Рафаилу с просьбой отогнать дьявола и пошел из комнаты в комнату, открывая дверцы шкафов, ящики, подставляя все скрытые пространства влиянию огня, изгоняющего злых духов. Повторив аналогичный ритуал со всеми четырьмя элементами, он заверил Иоко, что избавил ее дом от призрака. Однако Йоко все еще продолжала чувствовать в доме странное присутствие злого духа. Она пожелала встретиться с учителем Джона Грина, человеком, о котором он сам отзывался с большим уважением.
Любой другой колдун не преминул бы воспользоваться случаем и увести у своего ученика знаменитую даму, но Джо Лукаш повел себя честно. Он проверил работу, выполненную Грином, и заверил ее в том, что квартира «чиста». Грину показалось, что Иоко все еще сомневается в этом, явно озабоченная тем, что никто из колдунов не обнаружил в доме призрака миссис Роберт Райан. На самом деле Иоко нашла возможность пообщаться с привидением. Она встретилась с дочерью миссис Райан Анитой и сказала ей: «Я разговаривала с духом вашей матери. С ней все в порядке».
Несмотря на неудачное завершение обряда деспохо, Иоко продолжала встречаться с Грином, которого часто просила погадать на картах таро. И хотя он снискал репутацию выдающегося гадателя, причина, по которой Иоко все больше нуждалась в нем, заключалась в способности Грина решать ее проблемы. Будучи наделенным особой формой мышления, благодаря которой из таких людей получаются идеальные деловые консультанты, адвокаты и психотерапевты, Грин умел проникнуть взглядом сквозь умственный туман, возникающий при любой форме кризиса, и вычленить основные проблемы, к которым нередко находил правильный подход. Он использовал гадание на картах для более глубокого анализа человеческой натуры. В данном же случае основным преимуществом Грина явилось то, что он просто-напросто знал, как следует обращаться с новой клиенткой.
Грину не потребовалось подвергать Йоко продолжительному наблюдению. Он быстро сообразил, что перед ним зажатая, испуганная, двойственная натура, пытающаяся спрятаться от внешнего мира. Он обратил внимание на ее привычку до крови обкусывать ногти, на манеру забиваться в самый угол дивана или кресла (скрестив руки и ноги, словно стараясь сделаться еще меньше), на то, что она постоянно говорила полушепотом и не снимала больших солнечных очков. Речь Йоко была насыщена причудливыми кодами, которые смущали Грина до такой степени, что он порой вообще не понимал, что она имеет в виду. Даже когда молодая женщина, казалось, говорила совершенно открыто, в действительности оказывалось, что она думает совсем не то, что говорит. Встречаясь с Йоко, Грин избрал бесстрастную и беспристрастную манеру психоаналитика. Он разговаривал с ней спокойно и внимательно, и Йоко, поняв, что ей не удастся поколебать его невозмутимость, быстро прониклась абсолютным доверием к человеку, являвшему в ее глазах символ стабильности.
В то время как Джон Грин устраивался на месте пилота рядом с капитаном космического корабля под названием «Леннон», еще один странный персонаж протиснулся в штурманское кресло по другую сторону от в высшей степени неуверенной в себе Йоко. С Такаси Ёсикава, владельцем маленького ресторана в Западной части 13-й стрит и мастером древней японской науки кату-тугаи, Йоко была знакома уже в течение нескольких лет. Каждый читатель японской классической литературы знает, что жители Востока издавна верили в геомантию: благоприятные и неблагоприятные веяния для строительства дома или путешествия, исходившие от земли. Есикава был автором целой системы, сочетавшей элементы гадания по земле, астрологии и нуме-рологии. Используя в своей работе карты и компасы, он просил сообщить ему даты и адреса, а затем, применяя формулы собственной системы, делал заключение о благополучном или неудачном исходе задуманной операции и предлагал альтернативные решения по тем вопросам, которые считались неразрешимыми. Есикава до сих пор утверждает, что именно ему Джон и Иоко обязаны своим примирением. Как бы то ни было, но именно тогда, когда Йоко жила отдельно от мужа, она попала в такую зависимость от Такаси, что не могла сделать и шага, не проконсультировавшись с «человеком, указывавшим правильное направление». Сформировав таким образом целую оккультную сеть, Йоко стала представлять на рассмотрение советников идеи, приходившие ей в голову. Она засыпала их телефонными звонками в любое время дня и ночи. Поскольку эти люди не были знакомы между собой и жили на разных волнах, зачастую их советы оказывались безнадежно противоречивыми. Так продолжалось до тех пор, пока Йоко Оно не сообразила, как ей следует использовать своих оракулов.
Если бы Иоко сумела убедить всех тех, с кем общалась, начиная с собственного мужа, в том, что оккультные науки заслуживают доверия, она могла бы получить над ними настоящую власть. И тогда, вместо того чтобы навязывать людям свою волю, она навязывала бы им то, что диктуют звезды, карты, числа или любая другая потусторонняя сила, которую она могла выбрать в качестве очередного авторитета. Стоило этой идее озарить Йоко Оно, как все эти ясновидящие, гадатели и предсказатели перестали быть помехой в ее начинаниях и превратились в «мамочкиных» маленьких помощников.
Глава 54 Счастливчик
В июне 1974 года, когда Джон и Гарри закончили работу над пропитанным виски альбомом «Pussy Cats», Мэй Пэн вновь очутилась возле Джона, а Гарри Нильссон исчез навсегда. Так случилось в результате очередной резкой перемены в поведении, что составляло одну из основных закономерностей жизни Джона Леннона. В одночасье Леннон – блудный котяра превратился в Леннона – домашнего кота.
Отказавшись от предложения Йоко снять для них квартиру в Дакоте, Джон и Мэй нашли себе жилище, которое смело можно назвать мечтой любого жителя Нью-Йорка: очаровательный маленький пентхаус располагался в самом шикарном квартале города на Саттон-плейс в доме 434 в Восточной части 2-й стрит, прямо над Ист Ривер. Самой знаменитой соседкой Леннона по кварталу была женщина, всегда вызывавшая его восхищение, – Грета Гарбо.
Занявшись меблировкой квартиры, Джон и Мэй прежде всего думали о комфорте. В гостиной, где находились камин и дверь на балкон с видом на реку, они установили большую двуспальную кровать и телевизор «Сони Тринитрон» с экраном в девятнадцать дюймов по диагонали и пультом управления, позволявшим Джону постоянно переключаться с одного канала на другой. Еще одна комната была подготовлена для Джулиана, поскольку Мэй убедила Джона встречаться с сыном почаще. Остальная часть квартиры не была особенно обставлена. Единственным предметом роскоши стал большой белый ковер из Титтенхерста, на котором играли два непоседливых котенка, Мэйджор (белый) и Майнор (черный).
Мэй Пэн старалась вернуть Джону давно утраченный аппетит, разжигая его острыми блюдами из ресторана «Джейд Тэнг» или специальными яствами, приготовленными ее матерью, с которой Джон упорно отказывался встречаться, объясняя это своей «проблемой с матерями». Вскоре Джон набрал нормальный вес и пополнил запас энергии, утраченной за долгие годы недостаточного питания. Он просыпался в десять утра и съедал на завтрак яичницу с беконом. По воскресеньям Мэй готовила ему специальный «английский завтрак»: тосты с пастой из бобов и пуддинг с кровью, блюдо, доставлявшее особое наслаждение бывшему вегетарианцу. Джон с жадностью прочитывал британские газеты, курил «Голуаз», выпивал бесчисленное количество чашек кофе и смотрел телевизор.
После завтрака Леннон прослушивал пленки, над которыми работал накануне. Склонив голову и полностью сконцентрировав свое внимание, он отмечал радостными вскриками особенно удачные места. Если же запись его не удовлетворяла, он оборачивался к Мэй и говорил: «Позвони на студию и выясни, можем ли мы подъехать сегодня вечером, чтобы переписать этот трек».
Наверное, самым удивительным в поведении Джона в этот период стало то, что он начал постепенно возвращаться к прежним связям, которые были прерваны его женитьбой на Йоко. Он не только возобновил отношения с Джулианом, но и начал переписываться с Мими, лелея надежду на то, что когда-нибудь она приедет к нему погостить. Мими попросила Джона помочь ей повлиять на его младшую сестру, которая переименовала себя в «Джэки» и жила с каким-то хиппи, который не был на ней женат, но от которого у нее был сынишка по имени Джон. «Я всегда хотел иметь семью, – сказал как-то по телефону Джон своей сестре Джулии, работавшей школьной учительницей, – и вдруг оказалось, что у меня уже была семья».
Настоящей семьей для Джона были «Битлз». Так что вовсе неудивительно, что однажды он прикрыл ладонью телефонную трубку и спросил у Мэй: «Как ты относишься к тому, чтобы принять сегодня вечером Пола?» Ни о чем другом Мэй не мечтала так, как о том, чтобы Джон помирился с Полом, хотя во время их первой встречи в Калифорнии семейство Маккартни отнеслось к ней с нескрываемым пренебрежением. К тому же стоило Мэй отвернуться, Пол сообщил Джону, что недавно беседовал с Йоко, выразив уверенность в том, что брак Джона может быть спасен при условии, что Джон покается перед супругой. Джон окинул Пола ледяным взглядом и ответил, что не понимает, что тот имеет в виду.
Кроме того, Джон снова сблизился с Миком Джаггером. Мику, оказавшемуся одним из самых незыблемых столпов рок-н-ролла, удавалось чудесным образом сочетать в себе удивительную работоспособность и неуемную страсть к разгульному образу жизни. Несмотря на то, что Мик записывал не меньше, чем Пол Маккартни, он успевал еще перепрыгивать из одного самолета в другой и непременно участвовать во всех мероприятиях «сливок общества». Будучи женатым на бывшей манекенщице по имени Бьянка Перез Морена де Масиас и являясь счастливым отцом очаровательной дочери по имени Джейд, Мик продолжал вести полную веселья жизнь холостяка. Когда он приезжал к Леннону, то неизменно оказывался в обществе очаровательной спутницы и держал под мышкой бутылку «божоле». Он рассказывал Джону последние сплетни, включая приключения Джорджа Харрисона, которого Ринго застукал в койке с Морин, в то время как Патти жила с лучшим другом Джорджа Эриком Клэптоном. «Ну где же был я все это время?!» – каждый раз восклицал в ответ Леннон.
Джон Леннон всегда относился с некоторой долей снисхождения к «Роллинг Стоунз», которые на протяжении многих лет подражали «Битлз». Кроме того, Джон был в дружеских отношениях с ненавистным соперником Мика Брайеном Джонсом – вплоть до его загадочной гибели в бассейне в 1969 году – гибели, к которой, по мнению Джона, Мик не имел никакого отношения. Возможно, наиболее красноречивым моментом взаимоотношений Джона с Джаггером было их совместное появление в телешоу «Рок-н-ролл Серкус», когда сильно смурной Джон изображал телеведущего, который брал шутливое интервью у Мика, исполнявшего роль поп-звезды.
В известном смысле Джаггер и Леннон завидовали друг другу: Мику нравился ум Джона, Джону – образ Мика. Однако когда приятели оказывались вместе, их взаимоотношения были лишены малейших признаков соперничества. Они неизменно оставались попутчиками по путешествию через Альпы суперславы, всегда готовыми тряхнуть стариной и наблюдавшими окружающую жизнь удивленным взглядом людей поживших.
Как справедливо заметил один из членов команды «Стоунз», «Мик Джаггер питал к Джону Леннону глубокое уважение, но не осмеливался демонстрировать его открыто из опасения, что это может повредить его собственному имиджу». Характеры обоих музыкантов замечательно дополняли друг друга. Само присутствие Мика в жизни Леннона той поры уже указывает на то, что Джон готовился к возвращению на рок-сцену, еще одним подтверждением чему явилось участие Джона в студийных записях с двумя соперничавшими друг с другом звездами глиттер-рока – Элтоном Джоном и Дэвидом Боуи.
В 1974 году постоянно меняющийся Джон Леннон – Человек, Который Мог Бы Стать Кем Угодно, – вел жизнь настоящего рок-патриарха. Каждый вечер у него собиралась разношерстная толпа знаменитостей и поклонников, продюсеров и инженеров, праздношатающихся и журналистов – всех тех, кто составлял основу рок-сообщества. Некоторые мужчины приводили с собой женщин, большинство ограничивались привычным кругом общения. Вино лилось рекой, порошок передавался от одного к другому, Джон смеялся, предавался воспоминаниям, рассуждал о положении в мире вообще и в музыке в частности, мечтал о будущем. И пока гостей потчевали китайскими блюдами, а музыкальный автомат радовал публику старыми хитами или кто-нибудь ставил для всеобщего прослушивания свои последние записи, Джон в первый и последний раз в своей жизни оказался втянутым в жизнь вокруг него. Несмотря на неоднократные жалобы на то, что вся эта компания сводит его с ума, такая жизнь ничуть не вредила работе, которая стала получаться у него даже лучше, чем прежде. Джон Леннон находился в отличной форме. Именно это и было причиной того, почему все эти суперзвезды стремились заручиться его присутствием в собственных шоу или уговорить его принять участие в записи последнего альбома.
Джон Леннон снова становился самим собой; главным доказательством тому явилось его вновь обретенное чувство юмора. Как заметил однажды Говард Смит, «Джон Леннон обладал юмором, полным самоиронии, который постаралась заглушить в нем Йоко Оно, поскольку она считала такой юмор несоответствующим образу великого художника». Теперь же, когда Иоко была далеко, Джон вновь мог смеяться над собой и над всеми остальными. Последняя блистательная демонстрация этого дара состоялась в сентябре 1974 года, когда Джон Леннон принял участие в радиопередаче диск-жокея Денниса Элзаса на радио WNEW-FM.
Джон, который всегда чувствовал себя не в своей тарелке перед телекамерами, был как рыба в воде, когда оказывался в радиостудии, где не смущаясь, в одиночестве, окруженный звуконепроницаемыми стенами и держа в руках родной микрофон, мог вволю предаваться излюбленной игре в слова. Здесь он не просто объявлял названия музыкальных сокровищ прошлых лет, выдававшихся в эфир, но и анализировал, сравнивал передаваемую музыку, нередко сводя радиослушателей с ума собственными откровениями по поводу повсеместного плагиата. Он убедительно показал, насколько проиграли «Роллинг Стоунз» по сравнению с «Битлз», поставив одну за другой принадлежащие обеим группам версии композиции «I Wanna Be Your Man»208, которую в свое время Джон и Пол сочинили на скорую руку для находившихся тогда в самом начале своей карьеры «Роллинг Стоунз».
А вот как звучал в его исполнении прогноз погоды: «На барометре шестьдесят девять дюймов и полный нестояк. Погода на завтра обещает быть грустной, угрюмой и дряблой. Завтра будет так же, как и сегодня, только по-другому...»
Если собрать воедино все свидетельства, связанные с жизнью Джона Леннона во второй половине 1974 года, можно сделать вывод о том, что именно тогда он был по-настоящему счастлив. Несмотря на то, что за всю свою удивительную карьеру поп-звезды, а также в ранние годы совместной жизни с Йоко у него было немало моментов радости и триумфа, ему неизменно приходилось платить за них слишком дорогую цену. Теперь, в лице Мэй Пэн, он, казалось бы, нашел то, к чему всегда стремился: любовь и преданность, сексуальное подчинение и гармонию, неустанную помощь в работе, а самое главное – человека, который не требовал ничего для себя лично, а жил лишь для того, чтобы сделать Джона счастливым.
Глава 55 «You Can't Catch Me» («Тебе меня не поймать»)
За два дня до того, как в июне 1974 года Джон Леннон приступил к записи альбома «Walls and Bridges», Эл Кури, коммерческий директор компании «Кэпитол» в Калифорнии, вихрем налетел на Джона и Мэй с криком: «Они у меня! Они у меня!» После пяти месяцев неустанных сражений ему удалось-таки заполучить пленки Фила Спектора.
Эл отправился за пленками после того, как Джон Леннон сказал ему: «Тебе их ни за что не вернуть. До Фила никто не сможет добраться. Считай, что этих хреновых пленок просто нет!» Начать с того, что Кури вообще не был уверен, что ему удастся найти самого Спектора, поскольку поговаривали, что лицо его обезображено после автомобильной аварии. Однако Кури не отчаивался. Он связался с адвокатом и доверенным лицом Спектора Марти Мачете, который по-прежнему твердил, что ничего не может поделать с Филом. Тем временем «Кэпитол» взял на себя расходы, связанные с записью сольного диска Джона Леннона, у которого был эксклюзивный контракт с «И-Эм-Ай». И компания «Уорнер» потребовала от Спектора возмещения понесенных затрат. А Кури пообещал Мачете, что выпишет ему чек на всю сумму, как только тот достанет пленки. Через неделю на стоянку компании «Кэпитол» въехал огромный грузовик и выгрузил целую гору двадцатичетырехдюймовых мастер-пленок. Кури провел целую ночь, переписывая материал, а затем помчался в аэропорт и лично проследил, чтобы все до одной бобины были погружены в багажный отсек самолета, на котором сам Кури отправлялся в Нью-Йорк.
Несмотря на все свои странности, Фил Спектор в очередной раз продемонстрировал свое умение делать деньги. Он получил 90 тысяч долларов за пленки плюс три процента авторских за каждый трек, а также право на использование в собственных целях двух треков из всех записанных.
Джон Леннон долго отказывался слушать те записи. Но однажды вечером он собрал свою волю в кулак, отобрал девять песен из одиннадцати, на которых звучал его вокал, и, прослушав лучшие и вторые по качеству дубли, обернулся к Мэй и сказал: «Какой ужас!» Голос его напоминал вой пьянчуги, а вся группа играла вразнобой или вообще не могла попасть в ритм. При этом не было никакой возможности улучшить сделанные записи, поскольку Спектор работал, открыв все двадцать четыре канала, а это означало, что при записи происходили значительные утечки с одного канала на другой, вследствие чего невозможно было полностью вырезать какую-то часть материала. Леннон хотел добиться звучания «пятидесятых» – он его получил.
Джону следовало выпустить рок-альбом именно теперь, когда он взял на себя обязательство перед музыкальным издателем Моррисом Леви включить три классических рок-н-ролла из его каталога в свой следующий альбом. Поскольку эти композиции не вписывались в формат «Walls and Bridges», Джон не мог выпустить диск, не нарушив договора. Волей случая Джон оказался в тупике как раз после того, как написал одну из лучших своих вещей.
В 1969 году Тимоти Лири, метивший на пост губернатора от штата Калифорния, попросил Леннона сочинить песню для его предвыборной кампании. Лозунгом Лири были слова «Come together, Join the party» («Пошли вместе, присоединяйтесь» Выражение «come together» может быть переведено с английского языка и как «кончайте вместе».). Очевидный каламбур, объединивший секс, забаву и политику, произошел от одной из китайских гексаграмм и кин, «идти вместе». Джон не смог написать песню, но ему так понравилось название, что он использовал его в качестве припева в другой, совершенно отличной по духу: это была уже пародия на фанки, бути и соул – огромную черную священную корову поп-музыки. Леннон взял за основу хит Чака Берри «You Can't Catch Me», нейтрализовал мелодию, превратив в монотонный рифф а ля Битл Джонни, и наложил исполненную через рупор вокальную партию на отрывистое голосовое шипение, акцентированное гипнотическим перестуком барабанов, который напоминал звуки джунглей. Чем глубже вникал слушатель в смысл текста, тем отчетливее вырисовывалась перед ним карикатура на негритянского исполнителя, такого, например, как сам Чак Берри, с выпученными, наподобие бильярдных шаров круглыми глазами и длинными волосами до колен, выплескивающего на публику потоки претенциозного и бессмысленного бормотания.
«Come Together» стала самой лихой и хипповой песней десятилетия, однако очевидное сходство как текста, так и мелодии новой композиции Леннона и старого классического хита Чака Берри вполне могло быть расценено как нарушение авторских прав их владельца, коим являлся Моррис Леви. В октябре 1973 года Леви пригрозил Леннону судебным преследованием, и Гарольд Сайдер приготовился к отражению иска, однако Йоко попросила Сайдера уладить дело без суда, так как не хотела, чтобы Леннон возвращался для этого в Нью-Йорк. В результате стороны подписали договор, согласно которому Леннон обязался включить в свой следующий альбом три песни, принадлежавшие издательской компании Леви «Биг Севен», включая «You Can't Catch Me». Когда же 16 сентября 1974 года на прилавках магазинов появился «Walls and Bridges», не содержавший ни одной из намеченных композиций, издатель срочно потребовал встречи с человеком, который осмелился его надуть. Вот тогда-то и состоялось знакомство Джона Леннона со своим третьим злым гением.
Вполне логичным завершением жестокой сказки, которой обернулась эпопея с записью рок-н-ролльного альбома, стало то, что Джон Леннон очутился в щупальцах у человека, которого журнал «Вэрайети» назвал «осьминогом музыкальной индустрии». Этот искушенный бизнесмен был воплощением суровой реальности, скрытой от глаз рядового слушателя за веселым мифом о «разудалой эпохе рок-н-ролла», которую обычно относили к пятидесятым годам нашего столетия. Леви был одним из первых, кто превратил рок-н-ролл в прибыльный бизнес.
Историческим вечером 8 октября 1974 года Джон Леннон, Человек, Который Любил Рок-н-Ролл, вошел в «Клуб Каваллеро», частный бар-ресторан, расположенный на 58-й стрит между Пятой и Медисон авеню и принадлежавший Моррису Леви. Все шло к тому, чтобы суперзвезде среднего возраста, каковой был к этому времени Джон Леннон, испытать на собственной шкуре то, что ощущали молодые, талантливые, но бедные и никому не известные ребята во времена Фрэнки Лаймона, кстати, также находившегося в собственности у Морриса Леви. Всю компанию – Джона, Мэй и Гарольда Сайдера – еще в дверях встретил метрдотель и усадил на диванчик, выполненный в форме подковы. Первым к ним подошел Фил Кал, бывший звукоинженер, занимавший ныне пост вице-президента компании «Биг Севен Мыозик», а вскоре появился и сам Моррис Леви.
Привыкший к стереотипам Джон Леннон, вероятно, ожидал увидеть седовласого старого еврея с сигарой, зажатой между пухлыми красными губами. Вместо этого перед ним сидел сурового вида мужчина лет около пятидесяти с внешностью боксера. После коротких представлений Леви наклонился к Леннону и прорычал: «Так в чем дело?»
К этому моменту Леннон уже столько раз пересказал историю своих злоключений с Филом Спектором, что она успела принять масштабы комической эпопеи. Леннон знал, что на этот раз ему надо выступить как нельзя лучше. Поэтому в течение почти целого часа он рассказывал сказку про Фила Ужасного, в то время как Леви покачивал головой с видом человека, который где-то уже слышал нечто подобное. Когда наконец история была поведана и смех утих, Леннон почувствовал, что обстановка ничуть не разрядилась.
«Да, вы, действительно, попали, – пробормотал Леви. – Ну и что же мы теперь будем делать?»
«А как по-вашему, не помогут ли нам двести тысяч долларов закрыть этот вопрос?» – дурашливо поинтересовался Сайдер.
На лице Леви не отразилось ни тени улыбки. Вместо этого он повернулся к Калу и произнес: «Объясни ему, почему двести тысяч не помогут».
Кал пустился в пространные рассуждения о том, сколько сотен тысяч долларов могла бы заработать «Биг Севен», если бы Джон Леннон выполнил свое обязательство. Подобный выпад не произвел бы никакого впечатления на выпускника Гарварда, но в данном случае достиг цели: Леннон цонял, что задешево Леви от него не отстанет.
И стороны перешли к обсуждению вопроса о том, что можно сделать с пленками, которые удалось заполучить назад. Леннон объяснил, что в таком виде их нельзя запускать в производство, помимо прочего, из-за чисто технических проблем. Три вещи можно было выпустить, но для целого альбома этого было маловато!
Леннон признался, как ему неприятно то, что он спустил 90 тысяч долларов коту под хвост, но теперь он утратил всякий интерес к этому проекту. Момент был упущен. Волна ностальгии по рок-н-роллу достигла своего пика год назад, с выходом на экраны фильма «American Graffiti» («Американские зарисовки»). Выпустить альбом старых хитов теперь значило попасть на спад этой волны. Учитывая тот шум, которым сопровождалась работа в лос-анджелесской студии звукозаписи, все не преминут наброситься на пластинку и будут разбирать ее по косточкам, поэтому, считал Джон, он не мог позволить себе ни малейшей слабины. И это особенно обидно, продолжал Леннон, поскольку у него созрело немало замечательных идей по рекламе и маркетингу нового диска. По телевидению недавно прошла реклама «Севен-Ап», в которой появлялся парень с набриолиненным под пятидесятые годы коком на голове и говорил: «Привет! Помните меня?» Леннон решил, что и ему можно было бы натянуть кожаную куртку, набриолинить чуб, как он делал прежде, когда одевался под тедди-боя, и исполнить тот же номер. Он уставился бы в камеру и произнес: «Жаль, что вас там не было!»
«Над этим можно было бы классно поработать, Джон! – неожиданно воскликнул Моррис Леви, добавив: – Вы когда-нибудь слышали об Адаме VIII?» Так называлась одна из компаний, которые рекламировали по телевидению «20 бессмертных хитов Чабби Чекера за 4 доллара и 98 центов»; она тоже являлась частью бизнеса Морриса Леви.
В ответ старые акулы шоу-бизнеса стали излагать знаменитому рок-музыканту, как происходит продажа пластинок по почте: «охват» одного региона, затем другого, интенсивная реклама, в ходе которой постоянно корректируется цена товара. Для тех, кто не пользуется услугами почты, организуются рекламно-торговые акции в супермаркетах, где желающие имеют возможность приобрести пластинку на специально оборудованных стендах. И так сбываются тонны пластинок!
Два года назад Леви потратил много усилий на подготовку совместного с Алленом Кляйном проекта по продаже двойного альбома «Битлз». И в ходе работы выяснилось, что в контракте «Битлз» с компанией «Кэпитол» имелась оговорка, согласно которой «Эппл» могла самостоятельно, без специального разрешения компании грамзаписи, выпускать пластинки для рассылки по почте. Так что Леннон имел законное право заключить с Леви подобную сделку.
Чем дальше продолжалась беседа, тем больше нравилась Джону эта идея. Что бы там ни говорили, Джон всегда был настоящим теленаркоманом. Кто, как не он, мог оценить волшебную силу средств массовой информации? Он понимал, что, согласившись продавать свой альбом со старыми хитами с помощью телерекламы, сможет решить уйму проблем. Выйдя за рамки привычных каналов реализации, он, в обход критиков, донесет свой товар прямо до покупателя. Он освоит новый рынок, так как до него ни один выдающийся музыкант не продавал по почте ничего, кроме компиляций или переизданий того, что уже выходило. И наконец, он получит возможность показать язык «И-Эм-Ай», которая всегда наживалась за его счет. Чем больше Леннон размышлял, тем больше этот проект приходился ему по вкусу.
И Гарольд Сайдер отправился на переговоры с патроном «И-Эм-Ай Рекордз» Леном Вудом, с которым у Леннона был подписан контракт до января 1976 года, а Джон принялся за работу. В следующий понедельник он сообщил Леви, что дела движутся полным ходом. Несколько основных музыкантов должны были вот-вот прилететь с Западного побережья, остальных набрали в Нью-Йорке. Джон зарезервировал студию и активно занимался поисками записей и партитур. Оставалось собрать вместе всех музыкантов и тщательно отрепетировать материал, чтобы с началом .работы в студии им не пришлось тратить время попусту.– И лишь одна проблема не давала ему покоя: как обеспечить условия, при которых все музыканты работали бы по строго намеченному графику. Рокеры мало чем отличались от детей: стойло хоть самую малость ослабить контроль, как .они могли разбежаться кто куда и остановить рабочий процесс.
Решение нашел Леви. Почему бы не перевезти музыкантов к нему на ферму? Здесь они могли спокойно порепетировать в течение нескольких дней, а затем перебраться в город и сразу засесть в студии.
На ферме все было готово к приезду музыкантов. Фил Кал правильно расположил фортепьяно, расставил пюпитры так, как это будет сделано позже в студии, и даже разложил в алфавитном порядке партитуры для каждого члена группы.
Уик-энд прошел спокойно. Компания обильно завтракала в девять утра, затем до обеда репетировали, после обеда – гуляли по лесу, а затем опять репетировали до самого ужина. Когда наступал вечер, ребята играли в триктрак или кидали кости на кофейном столике. Джон умудрился проиграть полторы тысячи, даже не прикоснувшись к костям – Моррис показывал ему, как надо играть. Как-то во второй половине дня, во время отдыха, Джесси Эд вытащил из оружейного шкафа три ружья и, набрав патронов, предложил пойти пострелять по мишеням. Они расположились на специально отведенной для стрельбы позиции сзади дома, напротив пруда. Когда очередь дошла до Джона, он опустошил магазин, ни разу не попав по мишени. Расстроившись, он направился вместе с остальными обратно в дом, когда внезапно со стороны пруда послышалось громкое бульканье. Обернувшись на звук, музыканты увидели, что гребная шлюпка Морриса пошла ко дну.
В понедельник вся бригада собралась в студии и начала записывать песню за песней с пунктуальностью швейцарских часов. К концу недели работа была завершена. Еще неделя ушла на сведение и редактирование. Леннон по обыкновению не щадил партнеров, стараясь закончить запись как можно скорее. И вот наступил великий момент. Вечером 1 ноября 1974 года Джон и Мэй снова появились в «Клубе Каваллеро».
«Я закончил, – объявил Джон Моррису Леви. – Получилось кл-л-лассно! И я больше не хочу об этом слышать». Леви спросил, можно ли ему получить копию записи. Джон ответам, что она уже в пути, и через какое-то время посыльный с «Рекорд Плант» доставил в клуб две бобины, на которых был записан целиком весь будущий альбом. Не хватало только названия. Джон колебался между «Old Hat» и «Gold Hat»208, но хотел еще подумать. Как бы то ни было, после мощного толчка, полученного от Морриса Леви, Леннон сделал всю работу меньше чем за три недели.
Пластинку надо было срочно запускать в производство, с тем чтобы выпустить ее к Рождеству. Именно так и собирался поступить Леви, о чем он сообщил во время встречи с Гарольдом Сайдером и адвокатом Майклом Грэхэмом, представлявшим интересы Джона Леннона на процессе по делу о разделении имущества «Битлз». «Так что же конкретно вы предлагаете?» – спросил Гарольд Сайдер.
И тогда Моррис Леви впервые представил полную выкладку по стоимости производства и распределению прибыли от реализации. Когда Сайдер увидел расчеты, он понял, что все вовсе не так хорошо, как казалось Джону: для того чтобы выложить пластинку стоимостью 4,98 доллара на полки «Кей Март», «Вулворта» или любого другого супермаркета, надо было отдать магазину 1,50 доллара. Если к этому добавить 1,25 доллара за телерекламу, 40 центов – за производство, 15-за обложку и 3 процента транспортных расходов при доставке дисков в магазины плюс 2 цента с пластинки авторских отчислений издателю и полпроцента – Американской федерации музыкантов, да вычесть долю прибыли Леви – 1 доллар с каждого альбома – то Джону Леннону и компании «Кэпитол» (которая инвестировала проект на сумму 90 тысяч долларов) оставалось ровно 23 цента с пластинки. Обычные авторские отчисления Леннона составляли не менее 60 центов, не говоря о том, какие деньги обычно получала компания грамзаписи.
Сайдер был готов сразу объявить, что сделка не состоялась, но без разрешения Леннона он не мог это сделать, и ему оставалось одно: получить отсрочку. Он заявил Леви, что момент для наступления на «И-Эм-Ай» выбран не слишком удачно, поскольку «Битлз» вот-вот должны подписать соглашение о роспуске группы, на подготовку которого ушло несколько лет. Леви принял объяснения Сайдера, но продолжал действовать так, будто сделка уже заключена, и при этом никто не удосужился поставить в известность третью заинтересованную сторону – компанию «Кэпитол».
Поведение Гарольда Сайдера легко объясняется той ролью, которую он сам выбрал для себя во взаимоотношениях с Джоном Ленноном, а именно, ролью всего лишь советника. Но Джон привык к тому, что фго менеджер всегда рекомендовал ему, как решать любые вопросы, касавшиеся бизнеса. Дело осложнялось еще и тем, что Джон привык избегать острых ситуаций, к тому же он часто менял свою позицию. «Если я подпишу какой-нибудь документ, который мне потом не понравится, – предупредил Сайдера Леннон, – я заявлю, что был не в себе, и дезавуирую его». Никакой советник был не в состоянии решить проблемы Леннона, ему требовался менеджер, такой, какими, каждый по-своему, были Брайен Эпстайн, Аллен Кляйн и Йоко Оно.
Все меньше времени оставалось до рождественских каникул 1974 года, все ближе было долгожданное расторжение партнерства «Битлз». Специальное соглашение, изложенное более чем на двухстах страницах, подготовленное внушительной армией юристов, включало в себя тщательно сформулированные решения всех финансовых и юридических проблем участников группы. Основная трудность заключалась в том, чтобы найти решение конфликта интересов бывших партнеров. К примеру, Пол желал получить гарантию собственной неприкосновенности в случае любого иска, который мог предъявить группе Аллен Кляйн, так как Пол с самого начала был против Кляйна и в конце концов не подписал договор менеджмента. Озабоченность Ринго проистекала из того, что он – единственный из всей группы – не стал успешным композитором или сольным исполнителем. Джордж прикарманил из кассы «Эппл» 320 тысяч фунтов, которые пошли на приобретение причудливого поместья Фрайар Парк, построенного в готическом стиле, в котором он разместил оборудованную по последнему слову техники студию звукозаписи; Джорджу явно не улыбалось платить за эту покупку 90 процентов налога. Леннон, выкачавший из «Эппл» гораздо больше денег, чем любой другой из бывших партнеров, спустил миллионы на производство фильмов и реализацию других художественных проектов, не говоря уже о 300-400 тысячах долларов, которые пошли на благоустройство Титтенхерста. Если ему придется платить налоги за все эти безумства, он попросту разорится. С другой стороны, было бы нечестным ожидать, чтобы расходы Джона, Джорджа и Ринго были прощены, в то время как Пол не вешал на компанию трат, связанных с реализацией его проектов. Одной из основных задач соглашения было достижение паритета между партнерами как в отношении прошлых расходов, так и на будущее.
"В результате продолжительных и сложных переговоров Пол получал 300 тысяч фунтов наличными, а Истманы – 170 тысяч фунтов за участие в судебном процессе «Эппл» – Маклен. Издательской компании Джорджа «Харрисонгз» был гарантирован заем в размере 250 тысяч фунтов под залог Фрайар Парка, что позволяло ему выплатить большую часть своей задолженности компании. Титтенхерст отошел в собственность Ринго, а Джон должен был передать «Эппл» половину прав на все свои фильмы, а также на ряд самостоятельно спродюсированных песен, таких, например, как «Instant Karma», и некоторое другое имущество. В порядке компенсации он получил право вето на любое использование своих произведений в коммерческих целях.
Самым важным итогом этого соглашения явилось то, что, во-первых, всем участникам «Битлз» были выплачены замороженные ранее авторские отчисления, а во-вторых, каждый экс-Битл мог отныне самостоятельно получать деньги, заработанные благодаря собственным индивидуальным проектам, реализованным после октября 1974 года. В результате несложных подсчетов оказалось, что после стольких лет, проведенных вместе с «Битлз», личное состояние Джона Леннона не превышало семи с половиной миллионов долларов.
Срок подписания соглашения был приурочен к дате проведения концерта Джорджа Харрисона в Медисон-сквер-гарден 19 декабря 1974 года. В отеле «Плаза» были заказаны просторные апартаменты, бар и фуршет. На длинном столе, затянутом зеленым сукном, были разложены документы. К назначенному часу – в полночь – помещение заполнилось мужчинами в деловых костюмах, которые принялись беседовать, выпивать и закусывать, выражая всем своим видом чувство глубокого облегчения. Пол и Линда прихватили камеру, чтобы запечатлеть знаменательное событие. Отсутствовал лишь Ринго, которому пришлось задержаться в Англии, где он был обязан выступить в суде по иску Аллена Кляйна, но он находился на другом конце провода и таким образом участвовал в церемонии на расстоянии.
Когда стрелка часов приблизилась к двум ночи, Гарольд Сайдер ощутил некоторую неловкость. Все знали, что Джон всегда опаздывал, поэтому вначале никто не комментировал его отсутствие. Выйдя в соседнюю комнату, Сайдер набрал номер Саттон-плейс. Джон снял трубку. Сайдер спросил: «Ты где?» «Я спал», – ответил Джон.
«Ты ведь должен быть на подписании соглашения», – выдавил изумленный адвокат. «Я не буду подписывать», – сообщил Джон. «Почему?» – задохнулся Сайдер.
«Звезды сегодня неблагоприятны», – выдал Джон и повесил трубку.
Сайдер, который к этому моменту уже хорошо знал Джона, вернулся к собравшимся и объявил: «Джон сказал, что не будет подписывать, потому что звезды неблагоприятны».
К Сайдеру мгновенно подскочил Джордж и, приблизив к нему лицо и агрессивно выставив палец, рявкнул: «Это ты занимаешься астрологией, Гарольд! Ты просто не согласен с условиями контракта!»
Так же решили и остальные, за исключением Пола, который повернулся к адвокатам Джона и насмешливо произнес: «Джон уже давно перестал быть руководителем этой группы! Он ведет себя, как ребенок!»
Больше всех в эту ночь разозлился Джордж Харрисон, которому только что досталось в Медисон-сквер-гарден от рассерженных поклонников, которые, намучившись во время выступления Рави Шанкара, выступавшего на разогреве, в итоге получили еще одну дозу религиозного пойла, которое влил им в глотки доктор Махаррисон. Кроме того, Джордж никак не мог прийти в себя от сделанного недавно собственного открытия: в течение четырех прошедших лет Харрисон неизменно отзывался на просьбы Леннона, в то время как сам Леннон несколько раз серьезно подвел старого друга. «Я делал все, о чем ты просил, – горько посетовал ему при встрече Джордж, – но тебя никогда не было рядом!»
Джон всегда был требователен к другим, никогда не чувствуя себя кому-либо обязанным. Вместо того чтобы постараться успокоить Джорджа, Джон не нашел ничего лучшего, как возразить: «Но ты же всегда знал, где меня найти». И тогда Джордж приблизил лицо к лицу Джона и прошипел: «Я хочу посмотреть тебе в глаза. Я не вижу твоих глаз». Джон послушно снял темные очки и надел вместо них прозрачные. «Я все равно не вижу твоих глаз!» – закричал Джордж, сорвав с Леннона очки и швырнув их на пол. Прежде такого поступка было бы достаточно для того, чтобы Джон набросился на обидчика, словно дикое животное. Но он как завороженный стоял на месте, не в силах пошевелиться.
И вот сейчас, когда должно было состояться подписание, Джордж понял, что Джон опять бросил его, тогда как еще совсем недавно сам предложил выйти вместе на сцену. Джордж в ярости схватил телефон и набрал номер Джона. Трубку сняла Мэй Пэн, и он рявкнул: «Ты просто передай ему, что я начал это турне без него, без него и закончу!» – и скромный Битл с грохотом швырнул трубку. Следующим вечером Джон и Джордж публично помирились, но их личной дружбе с этого дня пришел конец.
Почему же Джон в самый последний момент передумал? Мэй Пэн рассказала, что уже в самом начале, когда Джону объяснили условия сделки, он состроил недовольную гримасу. «Насколько я могла понять, – объяснила она, – Джон решил уйти из „Битлз“ только под давлением Йоко. А в ее отсутствие его отношение к официальному роспуску „Битлз“ было двойственным».
Когда в день подписания ему позвонили, чтобы сообщить время и место назначенной церемонии, Джон заперся в спальне и отказался выходить. «В чем дело, Джон?» – крикнула Мэй. «Я не собираюсь подписывать», – ответил он из-за двери.
«Что?» – удивленно переспросила она. «Это нечестно. Мне придется платить налогов больше, чем всем остальным, вдвое больше».
Мэй было известно, что Йоко послала Джону записку от своего астролога, советовавшего не подписывать договор.
Лучше всех истинные причины беспокойства Леннона объяснил Гарольд Сайдер: «Джон знал, что потратил очень много денег, принадлежавших „Эппл“, но не хотел возвращать ни цента и стремился при этом снизить до минимума налоги. Он спустил около миллиона долларов из кассы американского отделения „Эппл“. Сюда относились и расходы на звукозапись – в основном это касалось Йоко, производства фильмов, адвокатов, а также личных расходов, таких, как покупка квартир, мебели, телевизоров, гитар... Если бы „Эппл“ сказала: „Слушай, Джон, все те деньги, что ты потратил, твои, а не компании“, ему пришлось бы платить налоги с миллиона долларов. А в те времена они доходили до 72 процентов. Мы выработали соглашение, по которому „Эппл“ был готов „проглотить“ большую часть этих расходов. Но мы предупредили Джона, что не можем гарантировать того, что американское правительство согласится с тем, что эти расходы будут отнесены за счет компании „Битлз“. В принципе он мог залететь на миллион долларов. А сейчас ему предстояло заплатить по минимуму».
После краткого пребывания во Флориде Джон вернулся в Нью-Йорк и 29 декабря подписал все необходимые документы. А 31 декабря 1974 года Высший суд вынес решение о роспуске «Битлз» и компании, прекратив одновременно дело, возбужденное в 1970 году по иску Пола Маккартни. Эта дата ознаменовала официальное прекращение существования группы «Битлз».
С наступлением нового года снова всплыл вопрос о выпуске альбома рок-н-роллов. И пока адвокаты Леннона и Морриса Леви препирались о правах на записанный материал, «Кэпитол» решила выпустить альбом по обычным каналам.
Главный продюсер «Кэпитол» Эл Кури встретился с Ленноном, чтобы напомнить звезде о суровой правде жизни. Он предупредил, что задуманная Ленноном стратегия телемаркетинга может создать серьезные проблемы, поскольку она подрывает работу многих звеньев сети розничной торговли, а кроме того, может навредить имиджу самого музыканта, превратив его в продукт, который сбывают, как кукурузные хлопья. И наконец, у Леннона могли возникнуть серьезные юридические неприятности. Джона не убедили эти аргументы, тем не менее он решил уступить. Год спустя в беседе с судьей Томасом П. Гриза он упомянул: «Они („Кэпитол“) отговорили меня. Но я еще не отказался от этой идеи. Я все еще не убежден в том, что она плоха».
Когда Моррис понял, что Леннон опять обманул его, он пришел в ярость. На этот раз у Джона не было оправданий. Он не только сделал все наоборот, но даже не потрудился снять трубку и объяснить, что на самом деле произошло. У Леви был выбор: окончательно отказаться от проекта или броситься грудью на амбразуру. И он выбрал второе.
Это было равносильно объявлению войны. Стороны немедленно бросились в бой. 8 февраля, через десять дней после решающей встречи Леви с Сайдером нью-йоркские телеканалы начали показывать рекламу нового альбома Джона Леннона, который назывался «Roots»209. Ролик представлял собой обычную рекламу для товаров, продаваемых по почте: старая фотография Леннона на обложке и перечень других альбомов, предлагаемых к продаже компанией «Адам VIII», на обороте. Увидев рекламу по телевизору, Джон удостоверился, что она не имеет ничего общего с тем, что он себе представлял.
«Кэпитол» потребовала, чтобы Гарольд Сайдер предпринял усилия для того, чтобы воспрепятствовать Леви распространять пластинку. Сайдер, в свою очередь, понимая, сколь малы его шансы на успех, потребовал, чтобы «Кэпитол» нанесла Леви ответный удар на рынке. В ответ «Кэпитол» перенесла выпуск пластинки с марта на февраль и разослала предупреждение всем, кто работал над проектом Леви, что если они будут продолжать поддерживать его, то рискуют подвергнуться судебному преследованию. Угрозы принесли плоды. Кампания Леви захлебнулась. В общей сложности Леви удалось продать около 1500 альбомов и пригоршню кассет. Оказалось, что «осьминога музыкальной индустрии» легко подцепить на крючок.
Альбом «Rock 'N 'Roll» был выпущен компанией «Кэпитол» 23 февраля. Несмотря на невысокую цену – 5,98 доллара, на целый доллар ниже стандартной цены, – он разошелся тиражом всего около 350 тысяч экземпляров, это было ненамного больше тиража пластинок «Mind Games» или «Some Time in New-York». Оказалось, что в Соединенных Штатах проживало всего 350 тысяч человек, готовых купить любой альбом, на котором значилось имя Джона Леннона.
Потребовалось два судебных разбирательства – в 1975-м и в январе 1976 года – чтобы разобраться с тем, во что Джон Леннон превратил свой рок-н-ролльный альбом. В результате оба – Леннон и Леви – были признаны виновными в нарушении действующего законодательства, при этом Джона осудили на уплату незначительного штрафа, а Леви пришлось раскошелиться на 400 тысяч долларов.
Глава 56 Резкий поворот
Вскоре после того как Джон и Мэй переехали на Саттон-плейс, Иоко отправилась в турне по Японии. Если верить Гарольду Сайдеру, который принимал участие в подготовке гастролей, «она устроила это турне, чтобы добить Спинозу. Ей казалось, что если он останется с ней один на один, ей будет легче подцепить его».
Очевидно, Спиноза почуял опасность. Несмотря на немалые дивиденды, которые приносила работа на Иоко, он вовремя сообразил, что пришло время сматывать удочки. Заверив всех приглашенных им же музыкантов в том, что он будет участвовать в турне, Дэвид решил улизнуть в самый последний момент. К тому времени Иоко уже не могла отказаться от гастролей, и ей пришлось ехать несмотря на то, что мысленно она оставалась привязанной к Дэвиду, которому все пыталась дозвониться по телефону.
Первое выступление Иоко состоялось в августе на фестивале хиппи, проходившем в маленьком городке Корияма. Движению хиппи потребовались годы, чтобы докатиться до Японии, но даже и сейчас местное население Кориямы было настроено против самой идеи проведения фестиваля, сравнивая 40 тысяч подростков, приехавших на фестиваль, с тучей прожорливой саранчи. Город не был готов к размещению такого количества гостей, и хиппи оккупировали железнодорожную станцию, где воцарились грязь и несусветная вонь.
Когда Иоко вышла из поезда, у нее от ужаса глаза полезли на лоб, так как в этот момент, точно по команде, к ней кинулись сотни поклонников, репортеров и фотокорреспондентов. В последний момент в дело вмешался специальный отряд полиции, пригрозивший отдубасить любого, кто попытается подойти слишком близко. Пресса была в шоке, как от состояния города, так и от дикости местной полиции. Фестиваль, проходивший под лозунгом «Объединимся во имя мира и любви!», стартовал в обстановке злобы и жестокости.
Этим вечером концерт начался с двухчасовым опозданием. Призрачный свет прожектора устремился в небо. Двадцать установленных на сцене колонок транслировали оглушающую музыку. Когда в свете огней появилась Йоко, она так растерялась, что первыми словами, пришедшими ей в голову, были: «Добрый вечер!»
Расписывая выступление Йоко, журналисты превзошли себя. «Она кричала: „Не волнуйся, Киоко!“ – писал один из них, – расхаживая по сцене, растрепав уже изрядно седые волосы и демонстрируя тело пожилой женщины». Критики были беспощадны. Характеризуя пение Йоко, они употребляли такие выражения, как «пьяница, блюющий в сточную канаву» или «промывание желудка после попытки самоубийства». В какой-то момент выступление было прервано молодым человеком, выскочившим голым на сцену с криком: «Нет, я больше не выдержу! Я хочу Йоко Чан!»
Пресса не ограничилась тем, что не оставила камня на камне от художественной стороны выступления Иоко, она была возмущена заоблачными ценами, которые певица требовала за интервью. «У Иоко была четкая система, – писал один из журналистов. – С каждого последующего интервьюера она запрашивала на 100 тысяч йен больше, чем с предыдущего. Несмотря на то, что во всех других областях она неизменно игнорировала общепринятые правила, когда дело доходило до денег, становилось очевидно, что она не забыла уроков Дзендзиро Ясуды (так звали ее деда-миллионера. – А. Г.)».
Психотерапевт Фрэнк Эндрюс, приехавший к Йоко в середине турне, нашел, что она стала более уверенной в себе и более отчетливо понимающей, к чему стремится. По словам Эндрюса, первое, что она собиралась сделать по возвращении в Штаты, – развестись с Джоном.
Такое же впечатление осталось и Масако Тогава, которая опубликовала серию интервью с Иоко Оно. Обе женщины были созданы для того, чтобы найти общий язык. Побыв какое-то время хозяйкой гейша-хауса, Масако сделала карьеру поп-певицы, а затем стала автором очень популярных порнороманов. Так же, как и Иоко, мисс Тогава была женщиной свободных взглядов и находилась за рамками традиционного японского общества. Почувствовав в Иоко родственную душу, она не стеснялась в вопросах.
Говоря о женской гомосексуальности, о принадлежности к которой заявляло как раз то крыло японского Движения за освобождение женщин, которое восторженно приветствовало Йоко, Тогава спросила у своей гостьи, имела ли она когда-либо сексуальные отношения с женщинами. Иоко ответила отрицательно, заметив при этом, что никогда не испытывала недостатка в предложениях. Затем, обратившись к последнему увлечению Иоко магией, журналистка спросила: «Как вы себя ощущаете, когда вас называют „Колдуньей Йоко“?»
«Мне это доставляет удовольствие, – ответила ее собеседница. – Это слово заключает в себе власть, не правда ли?» Затем беседа коснулась отношений с Киоко. «Если бы я встретилась с ней сейчас, то почувствовала бы себя испуганной, – призналась Йоко. – Это было бы похоже на встречу с мужчиной, вместе с которым когда-то жила... Раньше я воспринимала ее как часть самой себя, но после стольких лет, что мы не виделись, я чувствую себя иначе. Стоит однажды преодолеть родительское чувство по отношению к детям, как любовь перерастает в отчуждение... В конечном счете Киоко не была для меня так уж важна. Я до сих пор чувствую некоторую привязанность к дочери, но, видимо, это связано с той болью, которую я испытала во время родов».
Когда Тогава поинтересовалась, как Йоко удается сочетать семейную жизнь и собственный эгоцентризм, гостья объяснила, по какой схеме развивался ее брак. Она заявила, что всегда была очень восприимчива к любви, но не в физическом смысле слова: для нее любовь была самопожертвованием. Более того, по ее словам, она всегда стремилась исполнять обычные женские обязанности: готовку, стирку, уборку. Иоко призналась, что очень ревнива по натуре, но старается не проявлять это качество, а таить его в себе. Инициатором разрывов с мужьями всегда была она. «Сначала мне становилось скучно... По прошествии примерно четырех лет пылкая страсть проходила, даже если еще целый год я проводила в раздумьях. Год – это так долго, а затем наступало расставание».
Это замечание неизбежно подвело журналистку к тому вопросу, который интересовал ее больше всего: «Является ли работа единственной причиной, по которой вы сейчас живете отдельно от мужа?»
ИОКО: Это официальная версия. Но я думаю, что мои чувства к нему изменились.
ТОГАВА: Что вы имеете в виду?
ИОКО: Во взаимоотношениях мужчины и женщины бывает период, когда они ощущают себя очень близкими друг к другу, когда стремятся узнать друг друга как можно лучше. Мне кажется, что у нас этот период уже позади.
ТОГАВА: Хотите ли вы сказать, что теперь ваши отношения держатся на привычке?
ИОКО: Привычка не дает мне ощущения, что я живу.
ТОГАВА: Значит, Леннон относится к расставанию так же, как и вы?
ИОКО: Может быть, ему будет непросто согласиться с моей точкой зрения, но если все кончено, то все кончено!
Тем не менее к тому времени, когда в сентябре Иоко вернулась в Штаты, ее уверенность в том, что пришло время положить конец замужеству, начала ослабевать. «Турне по Японии словно разорвало защитную оболочку, – заметил Гарольд Сайдер. – Как только до Иоко дошло, что Джон начал вновь становиться на ноги, в то время как она быстро превращается в ничто, она сообразила, что единственное для нее спасение – вернуться к Джону... Она знала, что развод не даст ей ничего, кроме денег, но при этом она исчезнет со сцены». Так что Иоко решила вернуться к своим играм с Джоном, только теперь ее ожидало потрясение, ибо стало очевидным, что она проигрывает практически каждую партию. Если верить Мэй, Иоко неоднократно пыталась дозвониться до Джона в студию, но он отказывался брать трубку. Когда она попыталась пригрозить ему разводом, Джон, вместо того чтобы пасть на колени и молить о прощении, коротко рявкнул: «Поторопись, и давай поскорее с этим покончим!» Дело дошло до того, что Джон публично оскорбил Иоко, заставив ее прилюдно потерять свое лицо.
Вечером 14 ноября 1974 года Джон и Мэй были приглашены на премьеру спектакля «Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band on the Road»210. Леннон попросил послать приглашение и Иоко, но та от него отказалась. Когда на сцене вот-вот должен был подняться занавес, к Джону неожиданно подошел Гарольд Сайдер и сообщил, что Иоко пришла вдвоем с Арлйн и осталась недовольна доставшимися им местами в задних рядах. Мэй тут же предложила поменяться с Иоко, но Джон повернулся к Сайдеру и отрезал: «Пусть посидит сзади!» После спектакля Джон схватил Мэй за руку и так быстро выскочил из здания театра, что Иоко не успела его перехватить. «Джон! Джон!» – закричала она, стоя на тротуаре и провожая глазами удаляющийся лимузин.
Стоило Джону появиться в «Гиппопотамусе», диско-клубе, где проходила вечеринка в честь состоявшейся премьеры, как он тут же принялся за спиртное. Вскоре он уже открыто и довольно нахально, как в доброе старое время, флиртовал со всеми девушками, которые попадались ему на глаза. Мэй злилась и одновременно была напугана тем, что могло произойти, когда алкоголь заставит Джона потерять над собой контроль. Она уехала домой и позвонила Иоко. (Тем временем Джон удалился в обществе двух темнокожих девчонок.) «Он напился?» – спросила Иоко. «Да», – услышала она в ответ. «Кокаин?» Oтвет снова был утвердительным.
Дальше на какое-то время воцарилось молчание, после чего Иоко произнесла: «Знаешь что, Мэй, я подумываю о том, чтобы разрешить ему вернуться».
Однако вернуть Джона теперь было совсем не так просто, как несколько месяцев тому назад. Он принял новый старт, и вновь обретенная карьера каждый день радовала его приятными сюрпризами. Впервые после ухода из «Битлз» Джон оказался на верхней строчке хит-парада. Обе последние пластинки – и альбом «Walls and Bridges», и сингл «Whatever Gets You Through the Night» («Что бы ни заставило тебя пробираться сквозь ночь») – поднялись до первой ступеньки. Притом нельзя сказать, что это были самые лучшие работы Леннона; дело было в 1974 году, когда рок-музыка в целом переживала упадок после всплеска конца шестидесятых, а эта работа Джона была выполнена на совесть. Тексты были написаны на близкие сердцу автора сюжеты, доступные широкой публике: утраченная любовь, обретенная любовь, страх в преддверии старости и смерти, грусть по поводу безумств прошлых лет. К сожалению, чудесным текстам откровенно не хватало мелодий.
Две лучшие композиции были написаны в разных, но хорошо знакомых Леннону жанрах. Честно говоря, «Steel and Glass»211 была не чем иным, как римейком песни «How Do You Sleep». Символичным было то, что на этот раз ядовитые стрелы Джона были нацелены на Аллена Кляйна, того самого человека, который был рядом с Ленноном, когда тот начал знаменитое наступление на Пола Маккартни.
Еще в те времена, когда официальный доход Леннона ограничивался пятью тысячами фунтов в месяц, Аллен Кляйн устроил так, что Джон и Иоко могли пользоваться деньгами компании «Эппл» для поддержания прежнего стиля и уровня жизни. Стараясь обеспечить «Битлз» всем необходимым, Кляйн перенес на более поздний срок получение причитавшихся ему комиссионных в размере 5 миллионов долларов, более того, он одолжил Джону, Джорджу и Ринго миллион долларов из собственного кармана. Когда же он был уволен и сообразил, что «Битлз» не собираются возвращать долги, Кляйн обратился в суд с иском о взыскании причитавшихся ему денег. Тем не менее Леннон и Кляйн продолжали сохранять дружеские отношения настолько, что за месяц до написания песни «Steel and Glass»212 Джон провел уик-энд на даче у Кляйна в Уэстхемптоне. Очевидно, личные взаимоотношения не имели в глазах Джона никакого значения, и он написал издевательскую вещь, в которой нанес своему бывшему менеджеру удары по самому больному: Леннон цинично намекал на смерть его матери (которая умерла от рака, когда Аллен был еще совсем ребенком), на стремление менеджера постоянно быть необходимым своим клиентам, он дошел даже до того, что упрекнул Кляйна в том, что от него дурно пахнет.
«9 Dream»213 была написана в лучших традициях Леннона. Песня об изменениях состояния души явилась одновременно попыткой искупить вину перед Джорджем Харрисоном. Космический саунд этой композиции очень напоминает музыку Джорджа, а исполнение Джесси Эда Дэвиса несет на себе отчетливый отпечаток фирменного стиля экс-гитариста «Битлз». Прислушавшись повнимательнее, можно разобрать и голос Мэй Пэн, шепчущий: «Харе Кришна, Джордж». Говоря о друге, к которому всегда чувствовал сильную привязанность, Джон как-то отметил: «Он (Джордж. – А. Г.) испытывает к себе гораздо меньше уважения, чем я». Однако основная сила этой композиции не в посвящении Харрисону, а в атмосфере погружения в сон, в каком-то особом колдовстве, которое возникает при виде неясных, размытых форм, сопровождаемых непонятными словами.
Создается впечатление, что в тот период Джон действительно стремился сблизиться с остальными Битлами. Несмотря на то, что после концерта «One to One» он ни разу не выходил на сцену, Джон согласился принять участие в большом концерте в Медисон-сквер-гарден, который давал в День благодарения его старый приятель Элтон Джон. Как обычно, перед выходом на сцену его обуял ужас, и он провел несколько часов за кулисами, накачиваясь кокаином. Тем не менее, когда пришло время, Джон вышел к публике, имея в запасе пару свежих хитов, и был встречен овацией. И тогда, желая сделать приятное Полу, Джон неожиданно объявил: «Сейчас мы исполним для вас одну вещь, которую в свое время написал мой прежний, но избравший свой собственный путь жених по имени Пол». Затем, не давая зрителям опомниться, он сразу запел «I Saw Her Standing There», одну из классических и ничем не примечательных композиций «Битлз», которую явно никто не ожидал услышать теперь, после всего того, что в течение последних лет наговорил о Поле и о «Битлз» Джон Леннон. Было ясно, что Джон искал пути для примирения.
Три недели спустя Аллен Кляйн позвонил Йоко. Это был день его рождения, и именинник расчувствовался. Ему явно недоставало «Битлз», которые стали вершиной его профессиональной карьеры. Не имея возможности обратиться к Джону, он вспомнил о Йоко, которая так же, как и он, была, что называется, не у дел. «Что же ты мне не звонишь?» – поинтересовался он игриво. Йоко ответила с явной заинтересованностью, и Кляйн понял, что она в очередной раз решила использовать его для того, чтобы попытаться вызвать у Джона чувство ревности. Кляйн так и сказал потом: «Она постоянно и во всем искала себе сообщников».
«Ты никогда не приглашаешь меня пообедать», – промурлыкала Иоко.
Кляйн ответил, что это доставило бы ему огромное удовольствие.
«Надеюсь, на этот раз ты будешь один?» – в ее голосе звучала явная провокация. (Кляйн всюду таскал свою подружку Айрис.)
Встретившись в итальянском ресторане в районе Таймс-сквер, они обменялись подарками. Аллен вручил ей шоколадный пирог, а Йоко преподнесла Кляйну пару бокалов, на дне которых были изображены девушки, раздевавшиеся по мере того, как в бокале убавлялась жидкость.
Покончив с любезностями, старые знакомые перешли к серьезной беседе. Йоко призналась, что обеспокоена поведением Джона, который, по ее словам, собирался последовать совету Гарольда Сайдера, переехать в Калифорнию и оставить ее без гроша. «Ты поможешь мне?» – взмолилась Йоко.
Кляйн улыбнулся и постарался ее успокоить: «Послушай, Йоко, я не думаю, что Джон попытается тебя кинуть, но если такая мысль придет ему в голову, я тебе помогу».
К этому времени Джон снова начал зарабатывать много денег. Чистый доход Леннонов за один только 1974 год составил 951 тысячу долларов. А в 1975 году доходы Джона должны были еще возрасти в соответствии с условиями договора о разделе «Битлз».
Для того чтобы вновь завоевать расположение постоянно отдаляющегося от нее мужа, Йоко полагалась не только на адвокатов, она постоянно искала совета у медиумов. Все, кто составлял тогда окружение Джона Грина, прекрасно помнят несмолкающие трели телефонных звонков. «В то время, когда Йоко поставила себе задачу вернуть мужа, она звонила не переставая, – рассказывает Габе Грюмер, один из учеников Грина. – Если Грин оказывался за столом, ему приходилось откладывать вилку в сторону и в течение десяти минут гадать на картах. Но и после этого она перезванивала каждые четверть часа».
Если все началось с того, что Йоко попросила Грина защитить ее от злых духов, то теперь она потребовала, чтобы он перешел в наступление. Цель операции? Вернуть Джона. На Рождество Йоко буквально прижала Грина к стенке и велела использовать свои способности, с тем чтобы обнаружить местонахождение Джона, с которым ей никак не удавалось связаться.
Джон, Мэй и Джулиан отправились отдохнуть в имение Леви, располагавшееся в Вест Палм-Бич. Когда Джон посетовал на то, что не знает, чем развлечь сына на рождественские каникулы, Леви, считавший себя примерным отцом, пригласил Джона, Мэй и Джулиана во Флориду, где он как раз собирался показать своему одиннадцатилетнему сыну Марку чудеса Дисней-Уорлда.
Когда вся компания во главе с Леви и Джоном Ленноном отправилась в Орландо, никто не удосужился сообщить об этом Йоко, поскольку предполагалось, что они пробудут в Дисней-Уорлде не больше двух дней. И стоило Йоко обнаружить, что Джон вне досягаемости, как она обратилась за помощью к Джону Грину.
Грин понимал, что, если подведет Йоко в такой момент, он рискует потерять самую ценную из клиенток. Естественно, он не собирался читать по разложенным на столе картам название отеля, в котором остановился Джон. У него было направление поиска: он знал о намерении Джона посетить Дисней-Уорлд. Он выяснил, что на территории парка находится один-единственный мотель – «Тики Полинезиан». Грин заявил Йоко, что она найдет Джона именно здесь. Естественно, Леннон запишется не под своим именем, но служащие гостиницы узнают его и передадут ему сообщение.
Йоко немедленно схватила трубку и набрала номер мотеля. Дежурный портье ответил, что в гостинице не зарегистрировано постояльца по имени Джон Леннон. Тогда Йоко объяснила, что Джон – один из гостей Морриса Леви. Мэй Пэн вспоминает, что когда в этот день к вечеру они вернулись в гостиницу, то обнаружили у себя под дверью послание от Йоко Оно.
Первым вопросом Джона, когда он позвонил в Дакоту, был: «Как тебе удалось нас найти?» Йоко захихикала и объяснила, что у нее есть один замечательный приятель, которого зовут Джон Грин и который может разыскать кого угодно. «Лучше держись от него подальше, – прорычал Джон. – Я не люблю, чтобы кто-то сидел у меня на хвосте!»
Глава 57 Тяжелый кашель
Никогда прежде Джон и Йоко не были так далеки друг от друга, как в декабре 1974 года. Зная, что для Йоко телефон всегда являлся чем-то вроде спасательного троса, Джон или отказывался отвечать на ее звонки или бросал трубку в середине разговора. Но гораздо больше, чем эти откровенные оскорбления, Йоко беспокоила стабильность в лагере противника, в частности известие о том, что Джон и Мэй собираются купить себе дом в Монтауке. Это означало, что дело приняло серьезный оборот. Наступил момент, когда Йоко должна была перейти в широкомасштабное наступление.
Словно умудренный опытом генерал, она предпочла для начала отступить. Иоко перестала названивать Джону и уехала в Калифорнию, где у нее практически не было знакомых. Вернувшись в Нью-Йорк 10 января 1975 года, она позвонила Джону и объявила, что открыла новый радикальный метод, избавляющий от курения. То же самое обещал в свое время Джону Тони Кокс, когда хотел познакомить его с Доном Хэмриком; мало того, на этот раз Иоко предлагала тот же самый метод – гипноз. Если это не удалось Хэмрику, то почему кто-то другой должен добиться успеха?
Но Леннон не стал поднимать этот вопрос. Он был готов попробовать все, что угодно, лишь бы избавиться от ужасного кашля, который появился у него как следствие двух пачек «Голуаз» в день. Для того чтобы еще больше разжечь интерес Джона, Иоко принялась играть с ним в кошки-мышки: она звонила ему и сообщала, что договорилась о встрече со специалистом по борьбе с табакокурением, а затем перезванивала через пару дней, чтобы сообщить, что встреча перенесена. Так продолжалось в течение двух недель, после чего Мэй Пэн не выдержала и заявила Джону, что Иоко просто его дразнит. Джон не возражал. Ему нравилось, когда его дразнили.
К концу месяца, когда Джону была назначена очередная встреча, у Мэй Пэн возникли опасения насчет этого курса лечения. Она так давно жила в непосредственной близости от Джона и Иоко, что научилась чувствовать малейшие вибрации, возникавшие между двумя сильными личностями. На этот раз она почувствовала, что Иоко исполнена решимости пойти на крайние меры. Когда наступила пятница, 31 января – на этот день была назначена очередная встреча с врачом, а звонка от Иоко, возвещавшего об отмене консультации, не последовало, – Мэй сделалось не по себе. Она попыталась отговорить Джона ехать в Дакоту. Она, которая никогда ни о чем его не просила, сегодня не просто просила – умоляла его остаться дома!
Джон не принял этих увещеваний всерьез и заверил Мэй, что вернется домой к ужину. Назавтра они должны были ехать в Монтаук и еще раз хорошенько осмотреть дом, который собирались купить. А еще через две недели им предстояло отправиться в Новый Орлеан, где Пол уже работал над записью нового альбома, который впоследствии вышел под названием «Venus and Mars». Чтобы добиться этого, Мэй приложила столько усилий! Она была уверена, что стоит Джону оказаться в одной студии с Полом, как свершится то, чего все ожидали с таким нетерпением. Еще в сентябре прошлого года Джон публично признался, что был бы рад снова записываться с «Битлз». Все было готово для этого долгожданного события.
Когда в 10 часов вечера Мэй позвонила в Дакоту и попросила подозвать Джона, она сразу сообразила, что предчувствие ее не обмануло. В доме творилось что-то странное. «Я сейчас не могу с тобой разговаривать! – отрывисто бросила Иоко. – Перезвоню попозже!» И тут же повесила трубку. Мэй прождала Джона всю ночь, но он так и не объявился. В десять утра в субботу она снова набрала номер Иоко и с первых же слов поняла, что Иоко в постели рядом со спящим Джоном. «Нет, я не могу передать ему трубку, – прошептала она. – Джон очень устал. Лечение оказалось чрезвычайно утомительным». Она заверила Мэй, что с Джоном все в порядке, и пообещала, что он перезвонит ей. Ни на этот, ни на следующий день Мэй так и не дождалась его звонка.
И только в понедельник во второй половине дня Мэй неожиданно столкнулась с Джоном, когда вошла в приемную к дантисту, чей кабинет располагался в нескольких кварталах от их квартиры. Мэй хватило одного взгляда, чтобы понять, что с Джоном что-то неладно. «У него были красные, опухшие глаза, – рассказала Мэй. – Он бросил на меня короткий взгляд, и на его лице промелькнуло удивление. Я обратила внимание на расширенные зрачки и на то, что он держал себя как-то странно». (Это описание полностью подтвердил Пит Хэмилл, который отправился на следующий день в Дакоту, чтобы взять у Джона интервью по поводу недавно вышедшего альбома рок-н-роллов. Перед Хэмиллом Леннон предстал «человеком, который только что поднялся с постели после тяжелой болезни». Когда Джон заговорил, его речь была похожа на бормотание пациента после анестезии. «Сейчас ведь 75-й год, так? – с трудом выговорил он, хотя дело было уже в феврале. – И ты пришел сюда именно сегодня, – едва слышно продолжил Джон. – Кажется, я снова переехал сюда. До тех пор, пока все это не закончится – в общем, не знаю». Хэмиллу почудилось, что Джон хотел сказать: «Что же я делаю?» На самом деле он попросил журналиста зайти через несколько дней.)
Мэй дождалась, когда Джон вышел от врача, и спросила, собирается ли он вернуться. Он нахмурил брови и пробормотал: «М-м-м... Хорошо... О'кей». Мэй внимательно смотрела на него, пытаясь понять, что могло случиться. Он напоминал ей одного из зомбиподобных персонажей из фильма «Нашествие похитителей тел». Когда оба, наконец, оказались в квартире, Джон объявил: «Наверное, лучше будет, если я скажу тебе об этом прямо сейчас. Иоко разрешила мне вернуться домой». «Что?!» – воскликнула Мэй.
«Йоко разрешила мне вернуться домой», – еще раз повторил Джон и пошел собирать какие-то личные вещи.
Мэй разрыдалась. Случилось именно то, чего она со страхом ожидала всю прошедшую неделю. Она почувствовала себя совершенно обессиленной. Тем не менее через какое-то время Мэй заставила себя встать и набрать личный номер Йоко. Когда на другом конце провода сняли трубку, Мэй ледяным голосом произнесла: «Поздравляю, Йоко, ты заполучила Джона обратно, и я уверена, что ты будешь счастлива».
Ответ Йоко прозвучал обескураживающе: «Счастлива? Вот уж не знаю, буду ли я теперь вообще когда-нибудь счастлива».
«Ведь именно этого ты добивалась», – возразила Мэй, но Йоко повесила трубку.
Мэй хотела выяснить, что же случилось в Дакоте, но ей удалось вытянуть из Джона лишь то, что новый курс лечения был похож на первобытную терапию. Теперь у Мэй не оставалось сомнений, что Джон подвергся мощному промыванию мозгов, и она понятия не имела, как снять роковые чары. «А когда она сказала тебе, что ты можешь вернуться?» – спросила Мэй.
«Не знаю... просто так получилось, – промямлил Леннон, точно проказник, застигнутый врасплох. – Никто этого не хотел. Просто так вышло само по себе».
«А как же наша любовь? – Мэй задала, наконец, главный вопрос. – Ответь, когда же она кончилась?»
Ответ Джона поразил Мэй не меньше, чем слова Иоко, сказанные несколько мгновений тому назад. «Иоко знает, что я все еще люблю тебя, – сказал Джон. – Она разрешила мне продолжать встречаться с тобой. Она сказала, что согласна быть женой, а ты можешь продолжать быть любовницей». С этими словами он вытащил из кармана пальто два маленьких флакона с какой-то жидкостью. «Иоко прислала тебе подарок, – объяснил он. – Один флакон для тебя, другой – для меня. Она сказала, чтобы я вылил на тебя эту жидкость». Вслед за этим он открыл пузырек и брызнул на Мэй несколько капель отвратительно пахнущего маслянистого вещества. Затем он открыл другой пузырек: масло, предназначенное для Джона, пахло розами. Умащенные благовониями, они улеглись в постель и занялись любовью.
Через какое-то время Джон откинулся и закурил сигарету. «Мне пора», – неожиданно объявил он. Накинув на себя одежду, он подошел к двери и, открыв ее, сказал: «Ни о чем не волнуйся. Завтра я тебе позвоню».
Мэй отнесла свой флакон в лавку, торговавшую волшебными фигурками и амулетами. Владелец магазина понюхал содержимое и объяснил, что это была смесь серы, арроурута и молотого перца чили. «Тот, кто дал вам эту штуку, – предупредил он, – должен здорово вас ненавидеть».
Мэй Пэн так и не узнала подлинной причины столь резкой перемены в поведении Джона Леннона. Еще вчера он казался полностью довольным своей жизнью с Мэй и собирался связать себя с ней еще более крепкими узами, купив для обоих дорогой дом. И вдруг, ни с того ни с сего, он перечеркнул все, чего добился за последние полтора года, и вернулся в исходную точку, где его ждала Иоко. Даже если допустить, что рано или поздно ему было суждено вернуться к Иоко, этому должны были бы предшествовать какие-то события: глубокая депрессия или внезапный приступ неконтролируемого беспокойства, как следствие очевидной и явной опасности. Ввиду отсутствия таковых логично предположить наличие иной причины.
Возможно, ключ к разгадке того, что произошло, заключен в описании самого Леннона. «Меня все время выворачивало, – рассказал он Мэй. – Я постоянно засыпал, а когда просыпался, они снова делали со мной то же самое». Кем были «они» и что «то же самое» они делали?
Эссенциальные масла, содержавшиеся во флаконах, указывают на то, что в этом деле были замешаны Джон Грин и его учитель Джоуи Лукаш. Джоуи считался большим специалистом по волшебным зельям и гипнозу. Еще в 1973 году он хвастал одной из своих учениц, Дороти Декристофер, что вхож в дом Йоко. Кроме того, он поддерживал приятельские отношения с владельцем одной лавочки, схожей с той, куда Мэй обратилась по поводу содержимого своего флакона.
Что касается Джона Грина, то он письменно засвидетельствовал, что познакомился с Джоном Ленноном именно в тот уик-энд. По его словам, ему позвонила Йоко и срывающимся голосом сообщила: «Джон дома! Кажется, он чем-то отравлен!»
Когда полчаса спустя Джон Грин приехал в Дакоту, он был представлен Джону Леннону, у которого не обнаружилось никаких признаков отравления. По словам Грина, Джон жаловался на некие прошлые проблемы, например, на то, что у него украли деньги или что он «утратил вдохновение».
В конечном счете неважно, кто сыграл роль специалиста по борьбе с табакокурением – Джон Грин, Джоуи Лукаш или Джон Доу. Главное было заставить Джона уяснить между двумя приступами рвоты, что пришло время сменить адрес и сказать самому себе: «Йоко разрешила мне вернуться домой».
Глава 58 Роды
«Мы беременны!» – проворковала Иоко, проскользнув однажды мартовским днем в «черную комнату», где Джон в это время обсуждал запись своего будущего альбома с Бобом Мерсером из компании «И-Эм-Ай». Иоко только что вернулась от гинеколога и не могла не сообщить Джону важную новость. Лицо Леннона озарилось. Приняв поздравления Мерсера, он огорошил его следующим заявлением: «Значит так, Боб, сам видишь, работа на какое-то время откладывается. Следующие девять месяцев я должен посвятить тому, чтобы Иоко смогла родить этого ребенка».
Если разобраться, его решение не было неожиданным. Джон прекрасно понимал, насколько опасной была эта беременность. В прошлом у Иоко было много выкидышей, и Джон вовсе не был уверен, что, после того как уляжется первый всплеск энтузиазма, она согласится пожертвовать девятью месяцами своей жизни и провести их в больничной палате. "Когда я была беременна Шоном, я хотела сделать аборт, – призналась она много лет спустя. – Но Джон сказал: «Мы не будем этого делать». И тогда я ответила: «Хорошо, я рожу ребенка, но после этого всю ответственность за него возьмешь на себя ты». Джон знал также, что она ни за что не позволила бы ему купаться в славе, будучи сама отягченной ролью матери. Таким образом, его решение было вполне разумным: отложить на время мысли об успехе и сосредоточиться на ребенке.
Может быть, Леннон и не отказался бы с такой легкостью от музыкальной деятельности, если бы в тот момент не переживал период спада творческой активности. Полтора месяца назад, когда он оставил Мэй Пэн, он ощущал себя на гребне рок-н-ролла, как в молодые годы: буквально за неделю до того, как покинуть Саттон-плейс, он сочинил две новые песни – «Попкорн» и «Теннесси» (эта вещь была посвящена не американскому штату, а знаменитому драматургу; названия его произведений были умело вплетены в текст песни). Однако стоило Джону перебраться в Дакоту, как он потерял способность сочинять. По многу раз в день он подскакивал к пианино и начинал перебирать аккорды, но муза явно покинула его. К апрелю музицирование свелось к тому, что он целыми днями сидел на кухне у окна и наигрывал на акустической гитаре старые песни «Битлз». Иоко находила это занятие «жалким» и беспокоилась о том, что подумают соседи. Так что эта беременность была очень кстати: она обозначила новую цель в жизни Джона именно в тот момент, когда профессиональные цели казались недостижимыми.
В отличие от Джулиана, которого Джон всегда считал результатом субботней ночи, проведенной в компании с бутылкой виски, второй ребенок был для отца плодом любви, зачатым в момент примирения, которому богатые, мудрые и многоопытные родители прочили великое будущее. Иоко назвала сына Таро – в японских семьях такое имя обычно давали перворожденному ребенку. Шон означает по-ирландски Джон. Было ясно, что в Шоне Оно Таро Джон Леннон усматривал последнюю возможность исполнить свою заветную мечту – все начать сначала. Он собирался предоставить сыну все то, чего так не хватало в детстве ему самому, – удобства, удовольствия, защиту и те возможности, в которых было когда-то отказано ему самому.
Первым делом Джон решил вдохнуть новую жизнь в собственный брак, женившись на Иоко во второй раз. Глядя на жену, которая постоянно хвастала тем, что принадлежит к древнему роду, существовавшему на земле более девятисот лет, Джон захотел построить собственное генеалогическое древо, которое уходило бы корнями в старину. Поэтому он пожелал устроить брачную церемонию друидов, которая символизировала бы его древнекельтское происхождение. Джон Грин, который нередко посещал с компанией своих учеников разные экзотические фестивали, устраиваемые по поводу религиозных праздников самых разных культов, немедленно взялся организовать настоящую друидскую свадьбу.
Он возвел в «белой комнате» алтарь и послал Джона в бакалейную лавку купить свечей, чашу и статую святой Маргарет. В торжественный день Джон и Иоко обменялись кольцами из зеленого нефрита, которые предстояло позже освятить, погрузив в морскую воду. Но очень скоро Джон стал жаловаться на то, что кольцо ему мало.
Во время церемонии Джон и Йоко снова стали похожи на детей, играющих во взрослых, которые создали фильм «Imagine», полный торжественно-скучных ритуалов. Однако радость Джона отнюдь не ограничивалась возвращением любимой подружки по играм. Он испытывал огромное облегчение от того, что мог наконец спрятаться за стенами Дакоты. Мэй Пэн, радовавшаяся шумным компаниям знаменитых рокеров, не подозревала, каким тяжелым испытанием оказывались эти вечера для Джона, который воспринимал гостей не только как вторжение в свою частную жизнь, но и как искушение, побуждающее скатиться к саморазрушительному образу жизни, от которого ему только что удалось спастись путем бегства из Калифорнии. Сопротивление этому искушению давалось Джону с таким трудом, что ему было необходимо, чтобы кто-нибудь встал между ним и этим миром, кто-нибудь сказал за него «нет» и взял на себя вину за то, что послал к чертям всех этих милых приятелей. Мэй Пэн в каком-то смысле была таким экраном, но рядом с гранитной монолитностью Йоко Оно она, пожалуй, напоминала лист рисовой бумаги.
Основная причина того, что Джон Леннон покинул рок-сцену, заключалась в его страхе перед жизнью вообще. Он любил работать и развлекаться, умел любить и получал удовольствие от секса, но главным для него всегда была безопасность. Он никогда не оставался в одиночестве и не стремился к тому, чтобы быть себе хозяином. Он постоянно искал защиту за спинами других людей – Мими или Йоко, Эпстайна или Кляйна, кого-нибудь, кто мог бы подсказать ему, что делать. Он мог взбунтоваться против своих ангелов-хранителей и даже бросить их, но та дверь, через которую он уходил, неизменно вела его к аналогичным отношениям с другими людьми. И только один-единственный раз Джон Леннон попытался ступить на пугающую terra incognita ( Незнакомая земля (лат.).), где рядом с ним не оказалось никого, кто мог бы сыграть роль матери-защитницы, – это случилось во время «неудавшегося уик-энда». И именно ужас, который испытывал Джон Леннон перед свободой и независимостью – качествами, столь безрассудно воспетыми в рок-песнях, – вернул его обратно к Йоко, если, конечно, можно сказать, что он вообще ее когда-либо покидал. Позволив Джону вернуться домой, Иоко поставила ряд условий. Вместо того чтобы сразу проскользнуть в супружескую постель, он был отправлен на испытательный срок в «черную комнату». Здесь он проводил большую часть времени, валяясь на матрасе, брошенном на пол, читая книги по магии, сочиняя «Skywriting by Word of Mouth» («Воздушная реклама на словах») (которая оказалась слабее предыдущих юмористических книг Джона, поскольку здесь за гладкими каламбурами не было серьезных тем), смотря телевизор и слушая пластинки. Время от времени он присаживался к своему отделанному черным деревом пианино, предпринимая тщетные попытки сочинить новую песню. Несмотря на то, что Джон давно стремился к покою и тишине монашеской жизни, зрелый мужчина не мог мириться с полным отсутствием сексуальных отношений, на которое добровольно обрекают себя монахи. В этой связи не вызывает удивления тот факт, что уже в мае, спустя всего три месяца после возвращения домой, Джон принял приглашение провести уик-энд в Филадельфии, где ему предложили выступить по радио. «Здорово! Нам с Иоко как раз необходимо побыть врозь!» – воскликнул он, поскольку к этому моменту Йоко отказалась от своего обещания разрешить Джону встречаться с Мэй Пэн.
Вскоре после возвращения в Дакоту Джон вернулся на Сатгон-плейс с одним из ассистентов Иоко – Ионом Хендриксом – и вывез оттуда все вещи, за исключением кровати (на которой спала Мэй), дивана (на котором спал Джулиан) и зеркал, которые Джону просто не удалось снять со стены. Он дошел до того, что утащил все наряды Мэй, которые мог носить сам, оставив ей лишь несколько маек. Тем временем он продолжал ежедневно работать с Мэй в студии, а по вечерам возвращался в пустую квартиру и занимался с ней любовью. Однако как только утехи заканчивались, Джона обуревал страх быть застигнутым врасплох Иоко. Он выпрыгивал из кровати, принимал душ, чтобы смыть с себя постылый запах «другой женщины», и умащивал свое тело ароматическим маслом, которое заказала для него Йоко. Мэй, вспоминая об этом периоде жизни, говорила о «двух Джонах» рядом с ней. На самом деле это был один и тот же человек, разрывавшийся между чувством физического желания и чувством вины.
Когда Леннон объявил Мэй, что она должна освободить квартиру, она пришла в бешенство, поскольку именно из-за него она оставила прежнюю квартиру, за которую была в состоянии платить. Где было ей взять денег теперь, чтобы позволить себе снять квартиру в Нью-Йорке? Когда она пожаловалась, что уже полтора года не получала зарплату, Леннон пообещал посмотреть, что можно сделать, но и пальцем не пошевелил до тех пор, пока Гарольд Сайдер, видя затруднительное положение Мэй, не встал на ее защиту перед Леннонами. Едва с его языка слетело слово «компенсация», Иоко высказалась так: «Я считаю, что она должна быть счастлива от того, что ей предоставилась возможность провести столько времени с Джоном. Это и будет ее компенсация!» Джон спросил у Сайдера, что надо сделать, чтобы все было по-честному. Адвокат объяснил, что по меньшей мере надо выплать Мэй задолженность по зарплате, потому что она никогда не переставала работать на Джона и, кроме того, все это время заботилась о нем. Джону явно не хотелось расставаться с деньгами, но он согласился положить ей зарплату на будущий год в размере 15 тысяч долларов. Естественно, за это ей предстояло ежедневно являться на работу и вести себя по-прежнему, как это было до того, как она стала любовницей Джона.
В апреле Мэй была отправлена в Лондон, поработать в офисе компании «Эппл». Месяц спустя, по возвращении в Нью-Йорк, она была уволена, хотя и продолжала получать зарплату в течение оговоренного периода. Она очень нуждалась, поскольку, когда эта высококвалифицированная специалистка, проработавшая много лет на Леннонов, стала искать работу в отрасли музыкальной грамзаписи, выяснилось, что она попала в черный список. Дело было в том, что контракт Леннона с «И-Эм-Ай» истекал 26 января 1976 года, и конкурирующие компании не теряли надежды заполучить его к себе. Все понимали, что Леннон вряд ли подпишет контракт с той компанией, в которой будет работать Мэй Пэн.
Едва Джон потерял Мэй, его отношение к Йоко стало меняться. Вместо чувства любви, которое он должен был испытывать к женщине, которая защищает его от всех опасностей, Джон почувствовал ненависть, свойственную детям, обманутым в самых сокровенных желаниях. Отныне его жизнь в Дакоте стала напоминать детство, проведенное в доме у тети Мими. По мере того как проходили месяцы, связь Джона с внешним миром становилась все тоньше, он вновь возвращался к одиноким мечтаниям, к самонаблюдению, самоанализу, которые неизбежно пробуждали в его душе прежний протест и жестокость.
Иногда Джон приглашал Йоко поужинать в ресторане, но стоило им устроиться за столиком, как он заказывал бренди «Александер». Дома выпивка была запрещена, но на людях Йоко была не в силах помешать Джону накачиваться спиртным. Чем больше он пил, тем более становился агрессивным. Стараясь избегать публичных сцен, Йоко молча сносила выходки Джона. Иногда он обрушивался на ее аристократическое происхождение, подвергая его вульгарным насмешкам. В другой раз он мог завести волынку о сексуальной неудовлетворенности, объясняя Йоко, что если она не хочет спать с ним сама, то должна по крайней мере позаботиться о том, чтобы подыскать себе подходящую замену в лице каких-нибудь симпатичных девчонок – или мальчишек! Иоко теряла терпение, выскакивала из-за стола и пулей вылетала из ресторана. А Джон был волен отправляться на поиски развлечений.
Обычно он садился в такси и ехала «Эшли», модную дискотеку, где в то время собирались все, кто имел отношение к шоу-бизнесу. Когда Джон появлялся в дверях, перед ним раскатывали красную дорожку. Здесь с него не требовали денег за выпивку, со всех сторон угощали наркотой, здесь он мог танцевать в свое удовольствие с самыми красивыми девушками Нью-Йорка, а когда наступала глубокая ночь и на Джона находил кураж, он позволял себе отправиться в фойе и залезть под юбку к девчонке-гардеробщице. Однажды он позвонил Йоко в семь утра и сообщил: «Я наблюдаю, как три лесбиянки занимаются любовью. Надеюсь, что следующим они примут к себе меня!» А был случай, когда он заявился домой с двумя официантками, рассчитывая устроить оргию.
Иоко, конечно, сообразила, сколько опасностей таило в себе такое поведение мужа. Подобно тому, как когда-то она решила проблему удовлетворения похоти Джона, подыскав для него скромную и вызывающую доверие любовницу, так и сейчас она договорилась с надежными людьми – с Эллиотом Минцем и Тони Кингом, чтобы они отвели ее мужа в бордель (отправлять туда его одного было опасно, к тому же Йоко хотела получить подробный отчет о его поведении). Одно из таких заведений, корейский бордель на 23-й стрит, с гордостью демонстрирует посетителям фотографию Леннона с его личным автографом. Здесь Джон мог рассчитывать на осуществление всех тайных желаний, не рискуя при этом, что какая-нибудь неграмотная заморская проститутка «настрочит» воспоминания, как говорила Йоко.
Когда наступило лето и асфальт стал плавиться под ногами, Йоко отправила Джона с одним из своих слуг в Монтаук, где договорилась об аренде того самого дома, который Джон планировал купить для себя и Мэй Пэн. Йоко мечтала отослать Джона подальше из города, так как он сводил ее с ума стремлением всячески защитить еще не родившегося ребенка. Он настаивал на том, чтобы контролировать ее диету, возил ее по дому в кресле, а вскоре оказалось, что она даже в ванную не могла отправиться без него.
Эффект от такого контроля оказался прямо противоположным тому, которого ожидал Джон. В то время как Джон в интересах ребенка впервые в жизни бросил курить, Йоко сделалась настолько нервной, что, напротив, увеличила потребление сигарет до четырех пачек в день. Если Джон серьезно перешел на диету и вскоре стал похожим на тень, .то у Йоко прорезался зверский аппетит. Тайком от Джона она поедала тонны шоколада. Очень скоро Йоко растолстела, и Джон, не избавившийся от фобии «толстого Элвиса», буквально не давал ей прохода. В доме постоянно вспыхивали ссоры, одна из которых однажды переросла в грандиозный скандал, так что Джон сильно ударил Йоко в живот. С уверенностью можно сказать, что Йоко испытала явное облегчение, когда муж отбыл наконец на побережье.
Джон называл беременность Йоко «чудом», и если принять во внимание предшествовавшую зачатию историю, то это слово отнюдь не кажется преувеличением. После трех выкидышей, случившихся в ноябре 1968, октябре 1969 и августе 1970-го, супруги неоднократно, но тщетно пытались зачать ребенка. В 1972 году Джон прошел специальное медицинское обследование, в ходе которого выяснилось, что он не мог оплодотворить супругу в связи с чрезвычайно низким уровнем активности сперматозоидов. И вот теперь, в начале 1975 года, без какого-либо специального лечения, не прибегая к искусственному оплодотворению, Йоко забеременела. Еще большим чудом может показаться то, что зачатие произошло после единственного полового акта, имевшего место между супругами в день, когда Джон вернулся в Дакоту для прохождения курса лечения. Оба – и муж, и жена утверждали, что знают в точности, когда был зачат Шон.
В июне журнал «Роллинг Стоун» опубликовал интервью, над которым Пит Хэмилл начал работать через три дня после возвращения Джона в Дакоту, но которое закончил лишь спустя полтора месяца. Этого времени было достаточно для Леннонов, чтобы, усевшись рядком, написать последний куплет «Баллады о Джоне и Йоко».
Новая сказка была построена вокруг якобы случившегося на концерте Элтона Джона безмолвного обмена взглядами. Джон утверждал, что не знал о присутствии Йоко на концерте, а также что если бы он это знал, то не смог бы выйти на сцену. (На самом деле Йоко в течение всей предыдущей недели обрывала телефон, бранясь, что ей досталось очень неудобное место.) Затем он рассказал Хэмиллу о том, что когда их глаза встретились, «это было как в кино, знаешь, в такие моменты время словно останавливается». Позднее Джон добавил, что кто-то, увидев их с Йоко за кулисами, понял, что «если и есть на свете двое истинно влюбленных друг в друга людей, ими могли быть только мы». Эти слова были впоследствии растиражированы многочисленными поклонниками Джона и Йоко.
Заявив в интервью журналу «Ныосуик»: «Наш разрыв стал причиной неудач», Джон с мазохистским удовольствием рассказал о своем отвратительном поведении во время «неудавшегося уик-энда», заявив, что причиной тому было безумие. Он не признал, что они были в это время на грани разрыва, ни разу не упомянул о присутствии рядом Мэй Пэн, словно напрочь позабыв о том, как за девять месяцев до возвращения к Йоко он наслаждался жизнью счастливого человека. "Он чувствовал себя обязанным увековечить миф, – заметил Гарольд Сайдер. – Учитывая то влияние, которое оказывала на него Йоко, он был не в состоянии признаться: «Ей хотелось погулять, мне хотелось погулять, да и вообще она хотела со мной развестись». Джон всю свою жизнь старался выставить ее жертвой. И он не мог сказать правду, поскольку не был готов порвать с Йоко. Он следовал правилам дипломатии, согласно которым ему приходилось признавать: «Я повел себя плохо, и она прогнала меня».
Сайдер так объяснил поведение Джона в отношении средств массовой информации: «Лгать не составляло для него никакого труда: Джон презирал журналистов, потому что видел, как они глотают все, что он им подбрасывает... Он обожал манипулировать ими. Его это забавляло... По этой части он стал профессионалом. Мы не можем отрицать наличие у него этого качества, так же как не можем отрицать этого и у нее. Они использовали средства массовой информации в своих целях. Нельзя сказать, что они верили в это, но они хотели убедить в этом других».
Тем не менее Джон признавался: «Я не хочу становиться взрослым, но вместе с тем я устал от того, что никак не могу повзрослеть. Я найду другой путь, чтобы не взрослеть, лучший путь... Я очень боюсь стать нормальным... пойти по тому пути, который ведет к компромиссу! Именно этого я стараюсь избежать. Но я устал делать это при помощи насилия».
Через месяц после того, как Джон публично объявил, как он был счастлив, вернувшись к Йоко Оно, его связь с Мэй Пэн возобновилась. Однако на этот раз им приходилось держать свои отношения в тайне. Поскольку теперь девушка делила квартиру с подругой, которая целый день работала дома, основной заботой любовников было найти место для встреч. Если они выбирали отель, Джону, который никогда не носил с собой наличных денег, приходилось платить карточкой «Америкэн Экспресс», а это означало, что квитанция неизменно попадала в руки Йоко, которая не только вскрывала почту, но и прослушивала все входящие и исходящие телефонные звонки. В такой ситуации Джон не придумал ничего лучше, как назначить встречу с адвокатом Майклом Грэхэмом, который брал по 200 долларов в час, только затем, чтобы попросить изумленного юриста отвезти его и Мэй в Коннектикут для осмотра какого-то имения. Когда автомобиль припарковался в уединенном месте, Джон сказал Грэхэму: «Ладно, Майкл, теперь пойди погуляй!»
Позднее, тем же летом, Ричард Росс, владелец заведения под названием «Хоум»214, излюбленного места встреч рок-музыкантов, располагавшегося на пересечении Второй авеню и 91-й стрит, попал в больницу. Будучи поклонником Джона и старым приятелем Мэй, Ричард решил помочь бездомным любовникам. Поболтав немного с посетителями, он сообразил: «Сдается мне, что вам, ребята, хочется побыть вдвоем». Вслед за этим он вылез из больничной койки и отправился в коридор, в то время как Джон и Мэй немедленно заняли его место. Выйдя из больницы, Ричард продолжал исполнять роль посредника. Два или три раза в неделю он звонил Мэй и сообщал, что ее желает видеть некий «друг». Это был условный сигнал, по которому Мэй мчалась к Россу, где ее поджидал Джон. Они продолжали встречаться до тех пор, пока рождение ребенка не прервало на какое-то время их отношения.
В начале октября, на тридцать пятой неделе беременности (по подсчетам Джона) Йоко была помещена в больницу. В этот момент все планы, которые строили будущие родители относительно ребенка, неожиданно рухнули. В то время как они планировали провести естественные роды у себя дома по методике модного в то время Ламэйза, врачи заявили, что придется делать кесарево сечение. Это означало, что если Йоко продержится до 9 октября, Шон появится на свет в день рождения отца.
8 октября Джону позвонил Леон Уайлдс и сообщил, что судьи только что вынесли решение в его пользу в деле против правительства США, которое настаивало на его депортации. «Это значит, что я смогу остаться? – воскликнул Джон, все еще не в силах поверить в такую удачу. – Я бегу в больницу, – добавил он. – Сегодня ночью Йоко будут готовить к родам, ведь завтра – мой день рождения! Пожалуйста, будь у телефона, я позвоню тебе, и ты сам все ей объяснишь!»
Вечером в тот же день Уайлдс с женой приехали навестить Йоко. Они застали ее в комфортабельной палате с видом на Ист Ривер, той самой, где лежала Джеки Кеннеди, когда у нее родилась дочь Каролина.
После полуночи Йоко перевезли в родильное отделение. Ребенок появился на свет в два часа ночи.
В шесть утра Леон Уайлдс был разбужен телефонным звонком. Плохо соображая, он снял трубку и услышал, как чей-то голос объявил: «Это Джон!»
«Какой Джон?» – переспросил адвокат, пытаясь сосредоточиться.
«Мальчик!» – гордо сообщил Леннон, не вдаваясь в объяснения. Однако радость родителей была преждевременной. Подробно о том, что их ожидало, Йоко рассказала профессору Иону Винеру, который включил ее рассказ в свою книгу о политических и социальных убеждениях Джона Леннона.
Вот как эта история звучит в изложении Йоко: "Все почему-то считают, что мы запланировали кесарево сечение, чтобы рождение ребенка совпало с днем рождения Джона. Все было не так. Мы готовились к естественным родам по методу Ламэйза. Схватки начались рано утром 9 октября. Мы поехали в больницу. И тогда врач решил перестраховаться и сделать кесарево.
Они сделали мне укол снотворного, а после этого выяснили, что в больнице не было крови моей группы. Тогда они стали обзванивать другие больницы. Когда кровь была доставлена, анестезия уже прошла, и им пришлось сделать еще один укол. После этого мне сделали кесарево. Это очень болезненная операция, после которой обычно делают еще один укол обезболивающего. Я умоляла их: «Сделайте хоть что-нибудь!» Но они сказали, что ничего не могут сделать, потому что я и так получила две сильные дозы.
Ребенка перевезли в реанимационное отделение. Джон сказал мне: «Не волнуйся, с ним все в порядке». На самом деле у ребенка были судороги, но Джон не хотел меня волновать.
Врачи решили сделать анализ моей мочи, а затем сказали мне и Джону, что обнаружили в моче следы наркотиков и что у ребенка от этого могут быть осложнения. Джон закричал: «Мы не принимали никаких наркотиков! Мы сидели на специальной диете из здоровой пищи!» Затем он сказал: «Давай заберем ребенка и уберемся отсюда к чертовой матери!» Но доктор ответил: «Если вы заберете ребенка, мы потребуем проведения обыска в вашей квартире и добьемся того, чтобы вас лишили родительских прав». Мы были жутко напуганы. Но мы знали, что не принимали наркотиков...
Увидеть ребенка мне разрешили только через три дня. Когда я спустилась в реанимационное отделение и увидела несчастного малыша, утыканного трубками и обмотанного проводами, я заплакала. Тогда же мне сообщили, что я не смогу сама кормить его, поскольку он уже три дня был на искусственном питании, и теперь было слишком поздно...
Джон сказал: «Я не хотел тебе говорить: они делали анализы ребенку и для этого брали жидкость из его спинного мозга». Это была очень сложная операция, и если бы игла хоть чуть-чуть съехала в сторону, малыш мог остаться парализованным. А они сделали это, как выяснилось, без особых причин. Но врач был в восторге и очень гордился тем, что ему удалось избежать нежелательных последствий.
В конце концов они пришли к заключению, что у Шона нет аномалий, признав при этом, что в моче, возможно, проявились следы того препарата, который мне вводили в качестве анестезии. После этого мы с Джоном убежали из больницы и унесли ребенка. За мной погналась было медсестра со словами: «Нам нужно сделать еще один анализ, сделать надрез на пятке ребенка и взять у него кровь». «Никаких анализов! – заорал Джон. – Бедный малыш! Да есть ли у вас хоть капля жалости?!»
Когда мы вернулись домой, у ребенка все еще продолжались судороги. Мы с Джоном по очереди дежурили по ночам и каждые два часа втирали ему в тело китайские мази на лечебных травах. Мы молились. Судороги прекратились через несколько месяцев. С тех пор Шон всегда отличался отменным здоровьем. Джон всю жизнь опасался рассказывать эту историю про больницу... Он боялся, что у нас могут отобрать сына".
К сожалению, этот рассказ не соответствует действительности. Во-первых, Иоко поступила в больницу не 9 октября и не в родах. Перед тем как родить, она провела там несколько дней, а буквально за два часа до родов спокойно отдыхала у себя в палате. Во-вторых, когда на следующее утро после родов у ребенка начались судороги, сама Йоко забилась в «конвульсиях». Вот рассказ Джона, опубликованный в журнале «Плейбой» в ноябре 1980 года:
"Когда Йоко делали переливание крови, ей влили кровь не той группы. Вот тогда-то все и началось. Она вытянулась в струну и началась трястись от боли. Я закричал медсестре: «Бегите за доктором!» Потом в палату вошел этот парень. Он прошел мимо Йоко, едва обратив на нее внимание, и направился прямо ко мне, стал улыбаться, жать мне руку и говорить: «Я всегда мечтал с вами познакомиться, мистер Леннон, я большой поклонник вашей музыки». И тогда я заорал: «Моя жена умирает, а вы болтаете о какой-то музыке!»
Судороги и конвульсии – характерные симптомы ломки у наркоманов. Увидев Йоко в таком состоянии, врачи, вероятно, пришли к выводу, что она продолжала принимать наркотики. Тем не менее в интервью, которое 1 октября 1981 года Йоко дала журналу «Роллинг Стоун», она заявила:
«Просто невероятно, сколько неприятностей свалилось на нашу голову из-за того, что нас считали наркоманами. Например, к тому времени, когда у нас родился Шон, мы уже давно перестали принимать наркотики, потому что действительно хотели ребенка. Когда в больнице решили делать кесарево сечение, мне сделали укол обезболивающего, и поэтому после рождения Шон немного дрожал. Все это, то сильнее, то тише, продолжалось около месяца. Но вместо того чтобы выяснить причины происшедшего, врачи в больнице обвинили Джона и меня в том, что во время моей беременности мы принимали наркотики. Больше того, они пригрозили, что оставят Шона в больнице, так как мы якобы не в состоянии за ним ухаживать. Это был самый ужасный момент в нашей жизни. Они были готовы лишить нас родительских прав!»
Буквально спустя четыре месяца после рождения Шона Йоко столкнулась с Джесси Эдом Дэвисом, который был вызван в Нью-Йорк для дачи свидетельских показаний по делу Морриса Леви. Он вспоминает, как Йоко закатала рукав своей блузки, внимательно посмотрела на руку, а затем поинтересовалась: «Не знаешь, где бы мы могли достать немного?..»
Как-то вечером, несколько лет спустя, Джон рассказал историю рождения Шона в присутствии Марии Хеа. Когда он дошел до того момента, когда врачи обвинили Джона и Иоко в употреблении наркотиков, он повысил голос и тоном оскорбленной невинности воскликнул: «Я был абсолютно чист!» Затем, выдержав эффектную паузу, неожиданно повернулся к жене и спросил: «Ты ведь тоже ничего не принимала, правда, Йоко?» Хотел ли он тем самым подчеркнуть, что не был в этом уверен?
В 1979 году, на День благодарения Йоко отправила четырехлетнего Шона в детский санаторий, пребывание в котором стоило 10 тысяч долларов и который специализировался на лечении детей, рожденных от матерей-наркоманок.
Глава 59 Послеродовая депрессия
Когда Йоко вернулась из больницы домой, Джон окружил ее юношеской заботой. Он сложил довольно высокую стопку из поздравительных писем и открыток, пришедших «мамочке» от поклонников, увенчав ее драгоценностями, приготовленными в подарок по случаю рождения сына. Однако Иоко не склонна была предаваться сантиментам; она бросила взгляд на подарки Джона, подхватила украшения, не обратив внимания на поздравления, и прошествовала в спальню, где улеглась в постель и принялась названивать по телефону.
В качестве няни Иоко выбрала среднего возраста японку по имени Масако, крепкую как камень и очень преданную. Оказавшись в обществе двух женщин, которые вели хозяйство и разговаривали между собой на непонятном ему языке, Джон почувствовал себя бесполезным и брошенным. Вместо того чтобы испытывать подъем после рождения сына, Джон снова погрузился в глубокую депрессию.
Когда раздражение доходило до точки кипения, он отыгрывался на Йоко, стараясь публично ее унизить. Однажды вечером в «Эшли», во время ужина с Тони Кингом, Эллиотом Минцем и Ричардом Россом Джон повернулся к Йоко и начал кричать: «Я хочу Мэй! Я хочу Мэй! Я хочу Мэй! Я не хочу тебя!» Друзья попытались его утихомирить, но он распалялся все сильнее: «Приведите Мэй! Приведите Мэй!» Затем он ткнул пальцем в Йоко и закричал, обращаясь к остальным: «Отвезите ее домой! Я не желаю ее видеть! Отвезите ее домой!» Тони повез Йоко, а Ричард Росс и Эллиот Минц отправились вместе с Джоном на поиски Мэй, которая, как оказалось, уехала на каникулы во Флориду. К январю 1976-го, когда ситуация накалилась до опасного предела, Джон неожиданно нашел лекарство от своего недуга.
Однажды вечером, когда Леннон и Джесси Эд Дэвис околачивались в просторных апартаментах отеля «Плаза», которые занимали музыканты из группы «Лед Зеппелин», Джон внезапно услышал, как в ванной комнате кого-то рвало. Мгновенно сделав стойку, он воскликнул: «А вдруг у него что-нибудь осталось!» Секунду спустя приятели были уже в туалете, где их взору предстал коленопреклоненный цеппелиновский барабанщик Джон Бонэм.
Когда Леннон поинтересовался, не осталось ли у него, чем отравиться, Бонэм достал из кармана пакетик кокаина и простонал: «Держи! Забирай все! Видеть больше не хочу эту гадость!»
Джон и Джесси отсыпали себе по дорожке чистейшего «китайского снега». Не успел Джон хорошенько набить нос, как его скрутило пополам, и он, засунув голову в унитаз рядом с Бонэмом, принялся блевать с ним в унисон. Джесси Эд оказался покрепче, он присел на край ванны и с изумлением уставился на странный спектакль в исполнении двух знаменитых музыкантов. (В 1980 году, дома у лидера «Лед Зеппелин» Джимми Пэйджа, Джон Бонэм захлебнулся собственной рвотой.)
Той же ночью Джесси Эд представил Леннону некоего Джеймса By по прозвищу Чайнамэн, который снабжал наркотиками всех знаменитых рок-музыкантов. Джесси Эд познакомился с By в Новом Орлеане, когда гастролировал с Родом Стюартом и его группой «Фэйсиз», в которой также хватало любителей оттянуться. «Наступил момент, когда наши запасы иссякли и требовалось свежее вливание, – вспоминает Джесси Эд. – Один из ребят уже торчал, как шпала. Он сказал: „Ладно, я сейчас позвоню Чайнамэну“. Джеймс By вылетел к нам ближайшим рейсом. Мы послали за ним лимузин. Никогда в жизни я не видел такого количества наркотиков и наличных!.. На следующий день нам надо было выступать в Супердоуме вместе с»Логгинз", «Мессиной» и «Флитвуд Мак». Примерно в десять утра ко мне постучали. Это был Джеймс By. Выглядел он хреново. «Послушай, – выдавил он осипшим голосом, – ты не мог бы продать мне немного порошка?» Вот придурок! Он продал нам все, что у него было. Я ответил: «Ты чего, мужик, не стоит тебе тратиться. Я и так тебе дам». Он набрал в машинку приличную дозу и вкатил ее себе прямо у меня на глазах! Тогда я впервые увидел, как кто-то вкалывает героин, до этого мы его только нюхали. Ну а после этого все покатилось, сами понимаете куда".
Джон Леннон и Джеймс By были созданы друг для друга. У By было «ширево», у Джона – «капуста». По оценке Джесси Эда, очень скоро Джон начал спускать на это дело по 600-700 долларов в день. By оставался поставщиком Джона в течение нескольких лет. В ноябре 1978 года он жил буквально в двух кварталах от Дакоты, совершая ежедневные поездки в Чайнатаун, чтобы пополнить свои запасы для двух лучших клиентов – парня, который переправлял наркотики за границу и жил вместе с By, и Джона Леннона.
В январе 1976-го Джон возобновил связь с Мэй Пэн, но теперь они встречались гораздо реже, чем прежде – не более одного раза каждые два-три месяца. Иоко ужесточила контроль, а Ричард Росс был явно не в восторге от роли посредника. Однако скорее всего главной причиной был героин. И хотя Мэй так и не сумела понять, что случилось с ее возлюбленным, в течение нескольких последующих лет она с удивлением наблюдала за переменами, происходившими с человеком, которого так хорошо знала.
«Тот Джон, с которым я встречалась в последние годы, был напрочь лишен честолюбия, – рассказывала она. – Он мог сосредоточиться только очень ненадолго. Иногда он просто сидел и смотрел на меня подернутыми пеленой глазами. Он растерял свои чувство юмора, мудрость, волю, казалось, что у него совсем не осталось сил».
Когда Джон не занимался с Мэй любовью, он с удовольствием вспоминал о чудесном времени, когда они были вместе. Он редко что-либо рассказывал о жизни с Йоко и Шоном, но всегда говорил Мэй, как по ней скучает. То, что бедная девушка уже в течение многих месяцев не могла найти себе работу в шоу-бизнесе именно из-за связи с Джоном, ничуть его не смущало. Он гнал из головы мысли, которые могли нарушить его душевное спокойствие. Тем не менее скоро произошли события, которые даже он не мог проигнорировать. В течение первых шести месяцев 1976 года на его многочисленных родственников и друзей обрушились удары судьбы. Первый шок случился, когда Джон узнал о том, что в ночь на 4 января в Лос-Анджелесе был застрелен полицейскими Мэл Эванс. Охваченный внезапным безумием, он схватил карабин и выгнал свою подружку Фрэнсис Хьюз из дома, в котором они жили вместе с четырехлетней дочерью. Перепуганная Фрэнсис вызвала полицию. Вместо того чтобы сдаться, Мэл навел на полицейских карабин, и тогда они открыли огонь. Вскрытие показало, что он не был пьян и не перебрал наркотиков; вероятно, на то, чтобы спровоцировать офицеров полиции, его подтолкнул приступ самоубийственного отчаяния.
В конце марта Джон узнал, что его отец умирает в доме для престарелых в Брайтоне. Он позвонил старику и поговорил с ним полчаса. Фредди было трудно говорить из-за сильнейших болей (он страдал от рака желудка), но ему было приятно в последний раз услышать голос сына. А двумя неделями раньше скончался отец Пола. Затем – уже в мае – Джон узнал, что умерла его любимая тетя Матер. Все эти печальные события подействовали угнетающе на человека, для которого смерть всегда была навязчивой идеей.
Он и так потерял почти всех, кто был ему дорог в этой жизни: мать, отца, дядю Джорджа, отчима Джона Дайкинса, ближайшего друга Стью Сатклиффа, менеджера и любовника Брайена Эпстайна. Из «Книги Мертвых» Джон знал, что душа человека должна быть готова к смерти; если ее отрывают от тела внезапно, вместо того чтобы спокойно отправиться к лучшей карме, она будет обречена на вечные и бесцельные скитания. Гибель Мэла Эванса всколыхнула прежние страхи Джона, связанные с его уверенностью в том, что и его ожидает внезапная и жестокая смерть от руки убийцы. Именно поэтому, услышав рассказ о том, что прах Мэла исчез по дороге в Англию, Леннон истерически расхохотался. Ему почудилось, что «душа Мэла обрела пристанище в бюро находок». Где-то окажется его собственная душа? Чтобы успокоиться, Джон решил устроить сорокадневный пост, перейдя исключительно на фруктовые соки.
В течение всего 1976 года Джону пришлось сталкиваться с серьезными юридическими проблемами. Устные заявления, показания под присягой и выступления в суде давили на него тяжелым ярмом. Бесконечно тянулся процесс Морриса Леви, стоивший ему уйму денег, но это не шло ни в какое сравнение с той битвой, которая разразилась между «Битлз» и Алленом Кляйном.
Когда «великолепная четверка» уволила Кляйна, «Битлз» оставались ему должны 5 миллионов долларов гонорара и комиссионных и еще 1 миллион, который Кляйн одолжил Джону, Джорджу и Ринго из собственного кармана. Поняв, что «Битлз» и не думают ему ничего отдавать, Аллен бросился в массированное юридическое наступление, направленное как против группы в целом, так и против каждого должника в отдельности, включая все принадлежавшие им компании в Великобритании и Соединенных Штатах. В течение четырех лет, с 1973 по 1977 год, в общей сложности сорок юристов работали над этими делами по обе стороны Атлантического океана, расходы на которые только для «Битлз» составили порядка восьмимиллионов долларов! Правда, эти деньги так или иначе были бы истребованы у них британским правительством в качестве налогов.
Иск Кляйна против Леннона основывался на устном контракте, заключенном с Джоном и Иоко 27 января 1969 года. Теперь Кляйн добивался, чтобы ему уплатили более 900 тысяч долларов (20 процентов от доли Леннона в компании «АТВ»). В мае 1976-го иск был вынесен на обсуждение нью-йоркского суда, и сразу стало ясно, что стратегия «Битлз», затягивавших процессы, не сработала. Приближалось время платить по счетам.
27 июля 1976 года, когда иммиграционная и натурализационная службы объявили о присвоении Джону Леннону статуса постоянного резидента в Соединенных Штатах Америки, он впервые после рождения Шона предстал перед камерами фоторепортеров, чтобы заявить, насколько счастлив от своей долгожданной победы. Теперь он мог спокойно покидать страну, не опасаясь, что ему сложно будет в нее вернуться. Иоко немедленно взялась за организацию путешествия.
По теории Такаси Есикавы, путешественник, совершая кругосветный вояж в западном направлении, способен обрести гармонию со вселенной, обеспечивая тем самым успех всем своим последующим начинаниям. Иоко использовала этот принцип всякий раз, когда собиралась поручить кому-то из своих близких важное дело. Самое быстрое из таких кругосветных путешествий вьшало на долю Джона Грина – он облетел земной шар за пятьдесят пять часов. Что же до Джона Леннона, то он не строил конкретных планов, и если в конце концов он, человек, который терпеть не мог путешествовать в одиночку, поддался уговорам Иоко, то лишь потому, что она разрешила ему сделать остановку в Бангкоке и отведать невообразимых удовольствий, предлагавшихся в знаменитом квартале красных фонарей.
По прибытии в Гонконг Леннон первым делом поднялся в свой номер в отеле «Мандарин», включил телевизор и принялся накачиваться коктейлями «бренди Александер».
"В Гонконге я играл сам с собой в какую-то странную игру, – рассказал Леннон Джону Грину по окончании путешествия. – Я вообразил, что весь состою из многочисленных слоев, наложенных один на другой, и принялся по очереди снимать их с себя, словно одежду, и раскладывать по комнате. Я представлял себе разные части собственной личности в виде призрачных форм, а сам продолжал лежать на кровати и слушать радио, ожидая, пока одна из них полностью материализуется. И тогда я видел, как моя частица устраивалась в кресле или оставалась стоять у двери и говорила со мной. У этой игры были свои правила. Например, призрак должен был оставаться именно в том месте, куда я его помещал – висеть на крючке в платяном шкафу, лежать на комоде, где угодно. Я заставлял их находиться там по нескольку дней. Это было все равно, что строить собственный дом с привидениями.
Всякий раз, когда мне удавалось отделить очередной слой, я шел принять ванну. После ванны я наливал себе выпивки. Ванна помогала мне расслабиться, но она также была чем-то вроде испытания. Если я чувствовал, что не могу чисто эмоционально заставить себя оставаться погруженным в воду, то это означало, что на мне оставался еще один, последний слой.
Я пережил жуткие моменты. Малейший звук отдавался в моей голове подобно удару грома, а тени принимали гигантские размеры. Я боялся, что в комнату ворвется кто-то невидимый, знакомый или незнакомый, может быть, давно ушедший отец, схватит меня, и я умру от страха.
Я предавался этой игре в течение трех дней. Иногда я проваливался в полудрему. А когда просыпался, то первым делом проверял, на своих ли местах находились мои альтер-эго, и они неизменно были там. Я хотел отделаться от них, оставить их в комнате и больше туда не возвращаться. Я думал, что смогу таким образом от них освободиться, но это, конечно же, не срабатывало. Они умеют проходить сквозь запертые двери. Когда я наконец вышел из отеля, уже вставало солнце. Я шел по улице, успев прихватить с собой только паспорт и кредитные карточки, и воображал, что я свободен".
Выйдя из гостиницы, Леннон был подхвачен толпой, которая принесла его в порт. Здесь он поднялся на борт «Стар Ферри», на котором можно было добраться через залив в Каулун. Когда паром отчалил, он оглянулся назад и увидел пик Виктория, возвышающийся над островом. Мгновенно он перенесся в такое же солнечное утро на двадцать лет назад, когда гостил у тети Матер в Шотландии. Он гулял по вересковым полям, глядя на отдаленные горы, и ощущал необыкновенный прилив вдохновения.
Сойдя на берег в Каулуне, Джон почувствовал радостное возбуждение. Освободившись от призраков, он вдруг ощутил себя самим собой – настоящим Джоном Ленноном! Но за первым же поворотом фантомы вновь поджидали его, выстроившись в ряд. Поняв, что ему от них не отделаться, Джон перестал сопротивляться. «Я вернулся за чемоданом, – закончил он, – и сказал всем остальным призракам: „Поехали!“, и мы все вместе поехали в Бангкок».
В отличие от посещения Гонконга, о котором Джон много рассказывал, пребывание в Бангкоке для всех, за исключением Иоко, осталось покрыто тайной. Однако зная о том, какие развлечения предлагаются вниманию туристов в этом городе, а также имея представление о пристрастиях Джона, легко вообразить, как он проводил здесь время.
Вернувшись в конце октября в Нью-Йорк, Джон в последний раз встретился с Питом Шоттойом. Он объяснил Питу, что на смену старому Леннону пришел новый, который намеревался отделаться от вредных привычек и стать образцовым родителем. Джон заявил приятелю, что завязал с выпивкой и курением, сел на макробиотическую диету и занялся изучением японского языка в преддверии поездки в Японию в гости к родственникам Иоко.
Вскоре после встречи с Питом Джон опять закурил и вернулся к наркотикам. Он закончил шестинедельный курс ускоренного изучения японского в школе Берлица, но так и не научился изъясняться на этом языке. Единственное, что ему удалось, так это научиться питаться из расчета не более 750 макробиотических калорий в день. Через какое-то время он похудел до шестидесяти килограммов и стал проводить большую часть времени в постели – богатый человек, страдающий от недостаточного питания. Тем не менее добровольное голодание помогло Джону доказать, что он все еще оставался хозяином в собственном доме.
Глава 60 Ленноны покупают Ренуара
«Не хочу я туда идти и не пойду!» – воскликнул Леннон после того, как Джон Грин предложил ему отправиться на ежегодное собрание корпорации «Эппл», которое должно было состояться в ноябре 1976 года. Меряя кухню шагами, Джон ронял слова, с помощью которых он обозначал свое презрение к обществу деловых людей. «Мне надоело ходить на собрания и делать вид, что я что-то понимаю, встречать сочувственные улыбки и ощущать дружеское похлопывание по спине людей, которые втихаря раздевают меня до нитки. Нет, спасибо. Сам иди!» Когда Грин возразил, что Джон не может послать вместо себя гадателя на картах, тот коротко рявкнул: «Ну хорошо, пусть тогда отправляется Иоко!.. Я приколю ей на блузку записку: „Папа дал добро“. Пойдет?» «Бизнес есть бизнес, Джон, – опять вернулся к прежней теме Грин. – Дела не делаются сами по себе». Но поколебать Джона было невозможно. «Все дела всегда делались у меня за спиной, – горько возразил он. – Дела и деловые люди обошлись мне в 90 процентов от всего, что я заработал. Я уже пробовал заниматься ими сам, доверял их другим людям, но результат всегда был один и тот же. Я терял деньги. Если Иоко хочет взять это дело на себя, это ее право, или твое – это тоже возможно. Хуже не будет, так что чем я рискую?»
По правде говоря, Леннону не было необходимости присутствовать на собраниях «Эппл». После роспуска «Битлз» всеми делами занялись адвокаты и бухгалтеры. Тем не менее этот разговор имел определенное значение в том смысле, что он показал полное безразличие Леннона к вопросу о том, кто представлял его интересы в бизнесе. Это была новая и потенциально опасная позиция. В апреле 1976 года Ленноны расстались с Гарольдом Сайдером, посчитав его виновным в провале дела Морриса Леви. Правда, в частных беседах Сайдер выразил мнение, что его увольнение было плодом инсинуаций Иоко Оно.
По мнению Сайдера, Иоко не развелась с Джоном потому, что он был для нее курицей, несущей золотые яйца. Адвокат считал, что Иоко была настолько озабочена деньгами, что вполне могла покончить с собой, если бы вдруг разорилась. И вот теперь, когда они с Джоном договорились не заниматься больше искусством, ее главной целью стало добиться полного контроля над его «золотыми яйцами». Именно в этой точке пересеклись интересы Иоко и Сайдера, который видел одну из своих задач как раз в том, чтобы никого не подпускать к деньгам своего клиента. Сайдер был обречен, ведь Йоко «никому не могла позволить иметь на Джона хоть какое-то влияние».
Сайдер был уволен в марте 1976 года без объяснений, если не считать записки, которая гласила: «Мы собираемся произвести перемены. Надеюсь, ты поймешь. Позвони». Но Сайдер не смог дозвониться до Леннона. Он узнал, что не только с ним так поступили. Среди адвокатов и бухгалтеров была проведена основательная чистка: Иоко не доверяла никому из тех, кто был принят на работу по рекомендации Гарольда Сайдера.
В отличие от Джона Леннона, который всегда нервничал перед тем, как оказаться в одном зале с огромным количеством людей, одетых в деловые костюмы и говоривших на непонятном ему языке, Иоко Оно не испытывала никаких опасений, бросаясь с головой в ту сферу, в которой ничего не смыслила. Тем более что теперь она заручилась поддержкой Джона Грина, джинна из «волшебной лампы», которого искала всю жизнь и который был призван осуществить ее мечты.
Когда накануне своего дебюта Йоко запаниковала, Грин посоветовал ей потребовать, чтобы очередное совещание было проведено в Нью-Йорке, где она чувствует себя на своем поле. В течение всего заседания административного совета Грин оставался возле телефона, и всякий раз, когда Йоко должна была принять решение, она шла в ближайшую телефонную будку и узнавала, что по этому поводу говорили карты. Когда она пожаловалась на то, что Ли Истман отнесся к ней слишком покровительственно, Грин успокоил ее, объяснив, что каждый из акционеров «Эппл» стремится сделать ее своей союзницей в борьбе против остальных. Одно только понимание этого уже было неким элементом власти. Когда совещание, как обычно, закончилось тем, что на нем не было принято никаких важных решений, у Йоко осталось впечатление, что она вышла с него триумфатором.
Ее впечатление неожиданно подтвердил 10 января 1977 года Аллен Кляйн, который получил наконец деньги от «Битлз» и решил возобновить прерванные было отношения с Леннонами. Обращаясь к прессе, он заявил, что Иоко проявила «удивительное умение вести переговоры, достойное Генри Киссинджера». Тогда он не мог и предположить, что его слова будут подхвачены средствами массовой информации и обратятся в миф о дочери японского банкира по имени Йоко-Миллионы, гениально разбирающейся в вопросах бизнеса.
Когда Джон Грин сделался тайным деловым советником Леннонов, у него в руках оказалось состояние, за управление которым он продолжал получать те же 150 долларов в неделю, положенных ему за составление диет для Иоко. Было очевидным, что для восстановления справедливости Грину надо что-то придумать, так как он прекрасно знал свою клиентку, которая любую услугу воспринимала как должное и не имела привычки воздавать своим пажам по заслугам. Однажды, во время обычного гадания на картах новому клиенту, Грин увидел решение своих проблем. По странному стечению обстоятельств, этого клиента тоже звали Грин – Сэм Грин, знаменитый торговец предметами искусства из высшего общества.
Во время беседы Сэм Грин посетовал на то, что, несмотря на многократные попытки, ему никак не удавалось связаться с Йоко Оно. Выдержав паузу, Джон Грин сообщил собеседнику, что регулярно гадает на картах для Йоко. Сэм Грин тут же сделал ему деловое предложение. Совсем недавно он узнал, что одна из картин Ренуара – «Девушки на морском берегу» – была выставлена на продажу за 200 тысяч долларов. Если Джон Грин сумеет представить Йоко Сэма, тот постарается продать ей картину, добавив к этой цене еще 300 тысяч долларов, которые партнеры разделят пополам. Это предложение выглядело соблазнительным, но одновременно и смущало Джона Грина. Он обратился за советом к своему ближайшему ученику Гэйбу Грумеру. Тот ответил, что сам по себе такой поступок выглядит в высшей степени неэтично, но если бы такой соблазн представился ему, он бы от денег не отказался. В конце концов запросы Иоко никогда не соответствовали получаемому от нее вознаграждению. Она не оставила Грину другого выбора, как позаботиться о себе самому.
После того как Сэм Грин показал новой знакомой диапозитивы с изображением картины и объяснил, что недавно скончавшаяся знаменитая оперная певица Лили Понс оставила ее в наследство племяннице Ренуара и что пока она стоит полмиллиона долларов, хотя цена должна подскочить как минимум вдвое в течение ближайших десяти лет (что оказалось абсолютной правдой), Йоко обратилась к Джону Грину с просьбой погадать на картину. Карты, естественно, подтвердили, что ей представлялась возможность очень удачно вложить деньги. Единственная загвоздка заключалась в том, что деньги Леннонов находились в Англии и не могли быть оттуда вывезены. Сэм Грин легко решил эту проблему. Он объяснил, что картину не составляет труда перевезти в Лондон, где может состояться сделка. Затем, дав картине повисеть какое-то время в музее, можно легко найти способ тайно переправить ее обратно в Штаты. Таким образом, Ленноны сделали не только потенциально выгодное капиталовложение, но и переводили часть своих капиталов, не подлежащих вывозу из Великобритании, на американский рынок.
Иоко пришла в восторг, но она хотела заручиться мнением незаинтересованных экспертов. Она начала звонить по телефонам, большую часть которых назвал ей Сэм Грин. Один из экспертов вспоминает, как ему позвонил Сэм и начал объяснять, что пытается продать Иоко за полмиллиона долларов картину Ренуара стоимостью всего двести тысяч. Сэм попросил эксперта подтвердить названную цену, но тот отказался. Вскоре ему перезвонила Йоко. «Я решила вложить деньги в картину, – объявила она, – и хотела бы узнать ваше мнение по этому поводу. Это Лембрандт».
«Миссис Леннон, – ответил искусствовед, – наверное, вы имеете в виду Ленуара?» Когда речь зашла о стоимости картины, эксперт обошел этот вопрос, ответив: «Вы знаете, миссис Леннон, искусство трудно поддается оценке!»
В то время как Иоко не отходила от телефона, желая убедиться в том, что ее не обманывают, Сэм развил бурную деятельность. Ему приходилось бесконечно беседовать с адвокатами Лили Понс и бухгалтерами Леннонов, а также с самой покупательницей. Ежедневно они тратили по нескольку часов на телефонные разговоры, благодаря которым их отношения становились все более дружескими.
9 декабря 1976 года Сэм Грин вылетел в Лондон и оформил сделку по продаже Ренуара. Ленноны были в восторге от того, что сумели превратить бесполезные фунты в дорогостоящее произведение искусства, переходившее в их собственность через год, в течение которого картина должна была экспонироваться в галерее Уокера в Ливерпуле. Оба Грина поняли, что не просто здорово заработали, но и заложили фундамент своему будущему благосостоянию.
Сэм не мог поверить своим ушам. Дело происходило в воскресенье. Празднества по случаю вступления в должность нового президента начинались в среду. Было уже слишком поздно! «Иоко, – взмолился он. – Я сам был в Вашингтоне всего два раза в жизни! Среди моих знакомых нет ни одного политика! Я даже не знаю, с чего начать!» Но Иоко и слышать ничего не хотела. «У тебя получится!» – торжественно заявила она и повесила трубку.
В понедельник утром Сэм выяснил, что все лимузины уже зарезервированы, в гостиницах не осталось свободных мест, а авиакомпании принимают заявки только на лист ожидания.
Во вторник, отправившись пообедать в «Джинджер Мэн» со своей приятельницей Джени Лар (дочерью знаменитого актера Берта Лара), Сэм буквально кипел от ярости. «Эти проклятые Ленноны сведут меня с ума! – провозгласил он. – Представь себе, теперь они хотят во что бы то ни стало присутствовать на завтрашней церемонии инаугурации президента Картера. Такие вещи не делаются в последнюю минуту!»
Дав Сэму выпустить пар, Джени Лар предложила ему помощь. Она была знакома с Робертом Липтоном, продюсером Си-би-эс, который отвечал за телетрансляцию церемонии. «Отправляйся домой и сиди у телефона, – сказала она на прощанье. – Если мне удастся что-нибудь сделать, я позвоню сегодня во второй половине дня».
Несколько часов спустя Сэму позвонила сотрудница Роберта Липтона и сообщила, что в Вашингтоне все готово для приема Сэма и Леннонов: им заказаны билеты на самолет, зарезервированы номера в отеле «Уотергейт» и места на завтрашнее шоу. В аэропорту их встретит лимузин, который останется в их распоряжении вплоть до самого отъезда в пятницу утром.
«Это волшебство! Я сотворил для них чудо!» – воскликнул Сэм, положив трубку. Затем ему в голову пришло единственно возможное объяснение такой небывалой удачи: "Должно быть, они держали все это про запас для Хайле Селассие!215"
Глава 61 Волшба
16 января 1977 года в квартире Сэма Грина зазвонил телефон. Это была Иоко: «Я знаю, ты можешь все! Чарли Свон сказал, что ты можешь все! Ты – наш добрый гений! Тебе надо бросить все и сконцентрироваться только на этом! Это очень важно для Джона. Теперь, когда он получил свою „грин кард“, он хочет попасть на инаугурацию!» Прибыв в Вашингтон, Сэм Грин и Ленноны облачились в официальные вечерние костюмы и отправились на инаугурацию, которая проходила в Центре Джона Ф. Кеннеди. На Йоко было белое платье без бретелек от Билла Бласса, на шее сверкали толстые золотые цепи и драгоценности, волосы, по настоянию Сэма Грина, были собраны в пучок. Джон набросил на костюм черный плащ на белой атласной подкладке и убрал со лба длинные волосы, собрав их сзади наподобие поэтов эпохи романтизма. После концерта, вместе с другими почетными гостями, они отправились за кулисы поздравить вновь избранного президента Картера. Сэму доставил большое удовольствие тот факт, что его тепло приветствовали многие знменитости, в то время как почти никто не поздоровался с Джоном и Иоко.
Лорин Бэколл, соседка Леннонов по Дакоте, даже приветливо расцеловалась с ним, при этом холодно бросив Леннонам: «Привет, Джон и Йоко!» «Вы, может быть, помните меня, – произнес Джон, когда его представили президенту Картеру. – Я бывший Битл». Президент помнил – но не более того. По странной иронии судьбы, где бы ни появлялись в эти дни Джон и Йоко, им всюду предлагали кокаин.
Но Ленноны не собирались ставить под угрозу вновь обретенную респектабельность и категорически отказывались принимать наркотики прилюдно. Джон вернулся в Нью-Йорк усталым, но счастливым и гордым от того, что новая администрация приняла его столь же охотно, сколь отчаянно предавало анафеме предыдущее правительство. Джон делился впечатлениями о своей поездке в столицу, точно ребенок, побывавший в цирке, и гордо демонстрировал приглашение из Белого дома с выгравированной на нем золотой печатью. Он даже позвал соседей, Кэй и Уорнера Леруа, чтобы показать им видеозапись церемонии, на которой пару раз промелькнули и их лица.
Глава 62 Йоко теряет лицо
В 1977 году Йоко Оно, которая прежде слыла в Японии паршивой овцой, захотела реабилитировать себя в глазах соотечественников. Она поставила себе целью вернуться на родную землю и занять в высшем обществе место, достойное женщины, сумевшей спасти распадавшийся брак, родить сына и успешно заняться бизнесом. Она объяснила Джону, что было бы большой ошибкой не дать Шону возможности заявить свое право на наследство. В конце концов, у мальчика столько же японской крови, сколько и английской. (При этом не следует забывать, что воспитывали его как чистокровного американца.) Если мальчика в раннем возрасте не свозить на родину матери, ему в дальнейшем будет трудно приобщиться к культуре этой страны. Еще важнее для Иоко было то, что Шона могли не признать полноправным членом клана, и это бы означало, что он не сможет в будущем претендовать на свою долю фамильных драгоценностей и недвижимости. В силу всех этих причин Леннонам было необходимо отправиться в Японию и пробыть там по меньшей мере пять месяцев, живя по высшему разряду, что предполагало немалые расходы. К счастью, они могли оформить свое пребывание в Японии как деловую поездку.
Джон не имел ни малейшего желания туда ехать, а тем более так надолго. Ускоренных курсов было, конечно, недостаточно для того, чтобы научиться говорить по-японски, а кроме того, поездка лишала его возможности отдохнуть на море. Тем не менее он привычно уступил настойчивости и решительности своей жены.
Всю весну Иоко провела, готовясь к летней кампании. Она стремилась устроить так, чтобы каждое появление Джона в обществе сопровождалось толпой журналистов и фоторепортеров, как несколько лет назад это было в Англии и в Америке. Для этого им было необходимо постоянно держать на самом высоком уровне планку своего звездного статуса. В этой связи элементом первостепенной важности становилось ежедневное появление на людях в новом наряде. Необходимость всем троим пять месяцев ежедневно переодеваться порождала потребность в целой Фудзияме шмоток. При этом одежду необходимо было купить в Нью-Йорке. К счастью, рядом оказался Джон Грин, которому и поручили завершить закупку одежды и быть готовым по первому требованию отправить в Японию пополнение ленноновского гардероба.
Вторым важным моментом было размещение. Йоко настаивала на том, чтобы они остановились в императорских или президентских апартаментах лучшего токийского отеля «Окура». Но вся проблема заключалась в том, что эти дорогие номера, стоившие около тысячи долларов в сутки, пользовались большим спросом у богатых людей и компаний, которые зачастую заказывали их за год вперед. Йоко поставила себе задачу так организовать пребывание в Японии, чтобы каждый раз, когда им придется освобождать занимаемый номер, это выглядело так, будто у них на это время другие планы. Иоко мало заботило, чем будет заниматься семья в Японии в течение пяти месяцев. Но она твердо знала, чем будет занята сама.
Не стоит и говорить о том, что за всеми этими приготовлениями внимательно следили медиумы миссис Леннон. На кухне в квартире была установлена горячая линия таро, и Джон Грин ночевал здесь в течение всего лета, чтобы, не дай Бог, не пропустить послеполуденного звонка Иоко, который раздавался примерно в три утра по нью-йоркскому времени. Ёсикава вычислил, что наиболее благоприятным моментом для отправления Джона, Шона, Масако и Ниси Фумия Саимару, слуги Джона, был конец первой недели мая, в то время как Йоко предстояло выехать только пять дней спустя. К месту назначения все должны были прибыть с юга, то есть пролететь через всю Японию, совершить посадку в Гонконге, а затем снова – уже всем вместе – вылететь в Токио.
Джон довольно легко перенес утомительное путешествие. На фотографиях, которые Ниси сделал в Гонконге, он выглядел помолодевшим и счастливым. Однако, когда вся семья добралась до Токио, в отеле «Окура» произошла накладка, и первые дни Леннонам пришлось провести в не слишком престижной обстановке. Но вскоре Йоко поняла, что впереди ее ожидает нечто похуже.
Дело в том, что, не удосужившись предупредить об этом Джона, она договорилась о пресс-конференции. Когда же пришло время проинформировать мужа, он наотрез отказался встречаться с журналистами. Йоко пообещала японским журналистам настоящую сенсацию. На самом деле речь шла о туманном проекте сочинения мюзикла для постановки на Бродвее, о котором Джон ничего не знал. После многочасовых дискуссий, постоянно прерываемых звонками Джону Грину, Леннон согласился объявить журналистам, что когда-нибудь в будущем, возможно, он сочинит что-то в этом роде. Журналисты были разочарованы и оказали Леннонам подчеркнуто холодный прием.
Но это уже не имело значения. Следующую партию Йоко разыгрывала со своей матерью. Она ожидала от нее звонка, не желая делать первый шаг. Но проходили дни, а телефон безмолвствовал. Иоко обратилась за советом к Грину, который порекомендовал ей действовать самой. Мать по характеру ни в чем не уступала дочери, и когда Иоко поинтересовалась, почему та не позвонила, пожилая женщина ответила, что, не дождавшись известий от дочери, решила, что ее приезд перенесен. А поскольку лето было в самом разгаре, она приняла приглашение друзей погостить за городом. И, как назло, уезжала именно теперь, так что с Джоном и Йоко могла повидаться лишь в августе.
Йоко стала настаивать, что они приехали в Японию исключительно для того, чтобы повидаться с госпожой Оно и что такому занятому человеку, как Джон, нелегко провести в ожидании целых два месяца. Мать ответила, что Джон, кажется, достаточно богат, чтобы не работать, а Йоко вполне может себе позволить столько раз летать из Америки в Японию и обратно, сколько ее душе угодно. И предложила прислать в Токио трех маленьких дочерей Кейсуке, брата Йоко, которые могли бы поиграть с Шоном и составить компанию Джону в ожидании того момента, когда вся семья соберется вместе.
Одним ударом пожилая леди разрушила планы, которые строила Иоко: у нее на руках оказались три девочки восьми, десяти и двенадцати лет, которые были слишком велики, чтобы играть с Шоном, но зато размещение которых в «Окуре» стоило огромных денег.
Очень скоро Джон помрачнел и стал отказываться ходить на светские мероприятия. День за днем он сидел в огромном номере, тупо уставясь в телевизор.
Как-то вечером они с Йоко ужинали в одном из шикарнейших токийских ресторанов. Едва усевшись, Джон, окинул презрительным взглядом сидящих в зале богатых и элегантных хозяев жизни и громко провозгласил: «А ты знаешь, то, что говорят о японцах, правда! Они и впрямь все на одно лицо!»
Иоко была в ужасе. Она отдавала себе отчет в том, что все находящиеся в зале легко могли понять, что сказал Джон. Отчаянно шепча, она взмолилась, чтобы он говорил потише и вообще попридержал язык. В ответ Джон продолжил свою издевательскую речь на той же громкой и провокационной ноте: «Как им больше нравится, чтобы их называли – „желтолицыми“ или „косоглазыми“?» Это было уже слишком. Иоко выскочила из-за стола и потащила Джона к выходу.
Когда Иоко рассказала о случившемся Джону Грину, тот предположил, что Джон страдает от того, что не чувствует себя свободным. Может быть, стоит предоставить ему побольше свободы? «Купи ему мотоцикл», – посоветовал ясновидец.
Через пару дней Грину позвонил Джон. «Ты чего это там еще выдумал? – рявкнул он. – Теперь мы все катаемся по улицам на мотоциклах, как на хреновом параде! Я, Йоко, три ее племянницы и служащий отеля на мотоцикле с коляской, в которой сидит Шон!»
Когда подошло время освобождать заказанные кем-то прежде них роскошные апартаменты, Джон отказался, заявив, что если администрация гостиницы желает их отъезда, пусть попытается выселить их силой. И тогда Йоко, по совету матери, арендовала по безумно высокой цене временно пустующий роскошный дом своего брата Кейсуке, расположенный в живописном горном районе.
Если Джон предполагал, что, переселившись в горы, покинет современную Японию, созданную по западному образцу, и переместится в древнюю страну, то его ожидало жестокое разочарование. Несмотря на то, что окрестности Каруидзавы изобиловали хорошо сохранившейся горной растительностью, сам город, основанный американскими миссионерами, больше походил на дурную имитацию Бар Харбора и кишел туристами, рыскавшими в поисках блинов с кленовым сиропом. Каждый вечер Йоко вытаскивала Джона из дома, и они направлялись в гости к какой-нибудь бывшей однокласснице Иоко. Во время этих светских визитов Джон вел себя очень любезно – особенно если ему удавалось найти кого-нибудь, с кем можно было поболтать по-английски. Йоко трещала по-японски, как из пулемета, что не мешало окружающим смотреть на них обоих, как на диковинку.
К началу августа напряжение, возникшее из-за продолжительного пребывания в абсолютно чуждой среде, раздражение, вызванное тем, что Йоко обращалась с ним, как с неразумным ребенком (она взяла Б привычку делать что-то «для его же блага», например, прятать сигареты), и чувство тревоги, возникшее при виде сотен тысяч долларов, выбрасываемых на всякую ерунду, привели Джона к тому, что он впал в глубокую депрессию. Однажды ночью Джон Грин проснулся от сигнала «SOS».
«По-моему, Джон сходит с ума! – задыхалась Иоко. – Он ни с кем не разговаривает и, кажется, вообще ничего не слышит. Иногда он просто стоит в углу и стонет. Это ужасно. Я знала, что ему здесь не нравится. Но мне казалось, что стоит немного подождать, и он привыкнет. Кажется, испытание оказалось для него слишком сильным. У него и без того довольно хрупкое сознание, ты же знаешь. Похоже, на этот раз он сломался!»
А через несколько дней Грину позвонил Леннон. На вопрос, что с ним, Джон ответил: «Я был мертв! Иоко убила меня; это место убило меня; эти проклятые японские племянницы убили меня».
Позднее Леннон так рассказывал Грину о том, что случилось: «Я мог валяться на кровати весь день, ни с кем не разговаривал, ничего не ел, просто отключался. Я снова начал ощущать, что распадаюсь на части. Я чувствовал себя волшебным замком, заполненным привидениями, проходившими через меня, ненадолго задерживаясь, а затем уступая место другим. И тогда я понял, с какой задачей мне необходимо справиться: я должен был быть всеми этими людьми одновременно. Но я не мог все время оставаться таким. Когда я становлюсь кем-то одним, я забываю о других и не знаю, как остановиться. Мне не хватает умения, магии, чтобы поддерживать это постоянное перетекание из одного состояния в другое. А мне это так необходимо, потому что вся хитрость и заключается именно в том, чтобы меняться».
Вероятно, многие жены отказались бы от своих планов, если бы увидели, что доводят мужа до состояния психического срыва. Но только не Йоко Оно. Она решила, что Джону нужно отвлечься. Сначала она вызвала на подмогу Джона Грина, а затем Эллиота Минца, которому предложила 30 тысяч долларов с тем условием, что он бросит все свои дела и вылетит в Японию первым же самолетом.
Вечером 24 августа, приготовив традиционные подарки, разложенные в номере, заказанном для Минца в отеле «Мампеи», Джон Леннон сел за печатную машинку и принялся за письмо, адресованное самому себе и написанное в виде дневника.
Стоит прочесть первые несколько строк письма, которое Джон отправил по почте в Нью-Йорк, как начинаешь ощущать спокойную, интимную атмосферу, царившую в душе человека, замкнутого в самом себе. Ты словно оказываешься по другую сторону зеркала, отражающего обычного Джона Леннона, направляясь в мысленное пространство, откуда он черпал материал для своих песен. Он переходит от одной мысли к другой, опираясь на все, что видит и слышит вокруг, чтобы глубже проникнуть в самого себя. Он размышляет об одиночестве, которое всегда сопровождало его. Рассуждая о том, что одиночество вообще-то нравится ему, он с иронией замечает, что тем не менее всегда стремился «к чему-нибудь примкнуть», даже если «в глубине души... не любил людей». Он ощущает себя «виноватым и чужим», но понимает, что это всего лишь симптомы нервного расстройства, потому что «у толпы никогда не получалось ничего, заслуживающего внимания». Так что нет ничего дурного в том, чтобы находиться в Японии, поскольку для приверженца солипсизма любое новое место похоже на предыдущее, а жизнь – сплошное «дежа вю» с единственной разницей, что чем старше ты становишься, тем более медленным делается ритм твоей жизни.
Прежде чем покинуть Японию, Ленноны устроили еще одну пресс-конференцию, которая состоялась в отеле «Окуpa» 11 октября. На ней присутствовал лишь один представитель западной прессы – корреспондент журнала «Мелоди Мейкер», который отметил, что на большую часть вопросов отвечала Йоко. Джон выглядел очень торжественно: черный костюм, белая рубашка, серый перламутровый галстук и классическая стрижка. Единственным заявлением, прозвучавшим из его уст за всю встречу, было следующее: «Мы решили посвятить себя главным образом нашему ребенку до тех пор, пока не почувствуем, что имеем право заниматься другими вещами, выходящими за рамки семейных обязанностей». Когда репортер из «Мелоди Мейкер» подошел к Леннону после окончания пресс-конференции, Джон откровенно признался: «На самом деле нам нечего сказать».
Подобно тому, как Джон вылетел на Восток на пять дней раньше, чем Йоко, теперь она улетела в Нью-Йорк первой, причем избрав кратчайший путь. Леннон остался в «Окуре» вместе с Шоном, Минцем и Ниси и стал ждать сигнала к отправлению, который мог поступить только после того, как Йоко проконсультируется с Есикавой. Дни шли за днями, и на Джона опять накатила депрессия, как случалось всякий раз, когда он оказывался вдали от «мамочки».
А тем временем в Нью-Йорке Йоко изливала свои обиды Марии Хеа. Своим поведением Джон свел на нет все усилия Йоко. Джон заставил ее потерять лицо, причем сделал это самым болезненным образом. Йоко пребывала в восторге, получив приглашение на прием, который давали представители высшего японского сословия в честь Леннонов. Особенно ценным было то, что приглашение получила и Йоко, а на подобные мероприятия женщин обычно не приглашали, так как обслуживанием гостей по традиции занимались гейши. Но когда Йоко сообщила о великой удаче Джону, он, вместо того чтобы оценить результат усилий жены, отказался от приглашения, заявив, что его познания в японском не соответствуют уровню мероприятия. Йоко обиделась и до отъезда в Америку переехала к матери. Добравшись до Нью-Йорка, она несколько дней вообще не выходила из дому. «Он мне за это заплатит! – кричала она, рассказывая о своих несчастьях Марни Хеа. – Он мне за все заплатит!»
Когда Йоко уточнила для Джона маршрут его обратного путешествия, оказалось, что он обречен на двадцатипятичасовое путешествие через Гонконг, Сингапур, Дубаи и Франкфурт, где вдобавок надо было еще и переночевать. Ужаснувшись подобной перспективе, Джон все же не осмелился пойти против магических указаний жены. В глубине души он ей необыкновенно доверял. «Верь ей! Просто верь ей!» – внушал он Минцу, когда тот прилетел к ним в Японию.
Глава 63 Ферма старого Макленнона
Примерно через полтора месяца после возвращения в Нью-Йорк в один из "ноябрьских вечеров в квартире Леннонов раздался телефонный звонок. Трубку сняла Йоко. Мужской голос с пуэрториканским акцентом спросил Йоко Оно. Прикинувшись служанкой, она ответила, что никого нет дома.
«Я знаю, что это ты! – рявкнул голос. – А теперь заткнись и слушай! Нам нужно сто тысяч долларов, или мы похитим вашего сына! Ему не будет больно, понимаешь? Мы просто его украдем!»
Обретя наконец способность говорить, Йоко воскликнула: «Кто это? Кто говорит?»
«Мы – группа профессиональных террористов, – объяснил незнакомец. – Не вздумай звонить в полицию или ФБР. Мы об этом узнаем! Наша группа уже связывалась со многими знаменитостями, и все платили. Полицейские могут охранять вас день, неделю, месяц, рано или поздно они все равно уйдут. Мы подождем. Мы можем ждать год или два. Но потом мы вернемся!»
Когда говоривший повесил трубку, предупредив, что перезвонит на следующий день, Йоко превратилась в камень. В течение какого-то времени она не могла раскрыть рта. Наконец она рассказала о том, что произошло, Масако, потому что с ней можно было говорить по-японски (Йоко была убеждена, что в квартире понатыканы жучки и что за ними постоянно ведется наблюдение). Потом она взяла себя в руки и рассказала о звонке Джону. Его тоже охватил страх. Вместо того чтобы сразу позвонить в полицию, он принялся шепотом обсуждать с Йоко создавшуюся ситуацию. Они пребывали в таком паническом состоянии, что если бы у них на руках были 100 тысяч долларов, они не задумываясь отдали бы их. Но дело было как раз в том, что у них не было таких денег. И тогда, несмотря на возражения Йоко, Джон позвонил Джону Грину.
Грин отреагировал так, как это сделал бы любой нормальный человек. «Звоните в полицию!» – заорал он. Но Джон настоял на том, чтобы прежде Грин посмотрел, что скажут карты о грозящей опасности. Получив от карт предуведомление, что им грозит беда, Джон наконец набрал номер полиции, которая, в свою очередь, немедленно поставила в известность ФБР.
За дело принялись коротко остриженные молодые люди в темных костюмах. Телефон Леннона был поставлен на прослушивание, а за домом и квартирой установлено вооруженное наблюдение. Когда шантажист перезвонил, Ленноны сказали ему, что в определенный день на стойке у портье будет оставлен сверток с требуемой суммой. Полиция попыталась проследить за каким-то мужчиной подозрительного вида, но потеряла его. Вскоре стало ясно, что вымогатели что-то почуяли и не клюнули на приманку.
Отныне Шон выходил из дома только в сопровождении вооруженного охранника. Через какое-то время Ленноны получили еще несколько звонков с угрозами, но Джон теперь склонялся к выводу, что звонил не представитель «пуэрториканской революционной организации», а просто какой-то «шизанутый латинос».
Однажды вечером, все в том же ноябре, Иоко, сняв трубку, услышала голос Киоко. Дочь, которую она не видела почти пять лет и которой уже исполнилось четырнадцать, отказалась сообщить, где живет, но дала понять, что собирается нанести матери визит. Затем к трубке подошел Тони и уточнил, что Леннонам придется подписать документ, в котором будут оговорены условия встречи с Киоко. Ради того, чтобы повидаться с дочерью, Йоко согласилась со всеми требованиями Кокса и следующий месяц провела в ожидании встречи. Она без конца говорила о Киоко, подготовила к ее приезду комнату и потратила немало денег, чтобы как следует принять ее. Когда подошел долгожданный вечер – как раз накануне Рождества, – нервы у Иоко и Джона были на пределе. Но проходили часы, а Киоко не появлялась. Они ждали, ждали, пока не стало ясно, что Тони их просто надул. Джон пришел в бешенство, а Йоко зарыдала.
В декабре 1977-го Ленноны пережили серьезнейший финансовый кризис, который выбил их из колеи на несколько лет. Когда бухгалтеры сложили все счета, выяснилось, что прогулка по Японии обошлась им в 700 тысяч долларов. Несмотря на требование Иоко представить эти затраты в виде командировочных расходов, ей объяснили, что налоговые органы не примут иной формулировки, кроме как личные расходы, а стало быть, такие расходы будут облагаться налогом по высшей ставке, равной 72 процентам, и уплатить его необходимо до 15 апреля 1978 года. Выплатив всю сумму, Ленноны вынуждены будут сильно сократить расходы; в случае неуплаты налога им грозили крупные штрафы, которые значительно увеличили бы их задолженность перед налоговыми органами.
Сэм Грин посоветовал Иоко передать в качестве дара национальным музеям несколько недавно приобретенных произведений искусства в обмен на значительное снижение налогового бремени, однако Иоко осталась глуха к его разумному предложению. Она ни за что не хотела расставаться со своими сокровищами.
В конце концов кому-то в голову пришла мысль о знаменитом «Флауэр Пауэр», «роллс-ройсе» Джона, который уже несколько лет, всеми забытый, пылился в манхэттенском гараже. Несмотря на это, он оставался «знаменитым символом славной эпохи, а потому был бесценным историческим артефактом», как представил его Сэм Грин ошалевшим представителям музея Купер-Хьюитт с Пятой авеню. Этот музей был открыт совсем недавно, и его экспозиция включала в себя предметы декоративного искусства. После продолжительной торговли Леннон получил за старый автомобиль, чья рыночная стоимость не превышала в то время 100 тысяч долларов, зачет по налогам в размере 225 тысяч. В 1985 году музей продал этот автомобиль на аукционе Сотбис всего-навсего за 2 миллиона 299 тысяч долларов.
Благодаря продаже старого «роллса» Ленноны получили временную отсрочку для решения своих хронических проблем. На самом деле им нужно было спешно получить долгосрочные налоговые льготы. Сэм Грин в очередной раз подтвердил свою незаменимость, познакомив Йоко с адвокатом Джорджем Тайшнером, который предложил инвестировать деньги в сельскохозяйственную ферму, расположенную в графстве Делавер, штат Нью-Йорк, в зоне, которая снабжала метрополию молочными продуктами. Каждый доллар, вложенный в развитие сельскохозяйственного предприятия, приносил инвестору освобождение от налогов на четыре доллара. Несмотря на то, что бухгалтерская контора, ведавшая делами Леннонов, предупредила Йоко о том, что налоговые службы относятся к подобным схемам с известной долей подозрительности, Джон Грин склонил ее к согласию, и скоро документы были готовы к подписанию, чтобы завершить сделку до истечения срока уплаты налогов. В последний момент Леннон швырнул на рельсы такой булыжник, который чуть было не снес с пути весь вагон.
«Фермы! – вскричал он. – Какого хрена я знаю о фермах? Чего в них хорошего? Молоко и сыр! Все, что они производят, это вонь!»
Чтобы убедить Леннона, Йоко призвала на помощь Джона Грина, который объяснил бывшему апостолу мира, что каждый цент, который он платит государству, идет на приобретение бомб, пушек и других смертоносных приспособлений. Эта мысль заставила Джона задуматься. Грин уговорил Леннона хотя бы съездить посмотреть ферму, о которой шла речь. Нехотя Джон согласился.
Как только огромный лимузин Джона выехал на пустынное загородное шоссе, его дурное настроение улетучилось само собой. Он невольно залюбовался проплывавшим мимо пейзажем. Вскоре ему захотелось выйти из машины и прогуляться пешком. Сэм остановился возле небольшого холма, с которого, по его мнению, открывался живописный вид. Йоко сидела в машине, глотая сигаретный дым, а мужчины пошли вверх по склону. Оказавшись на гребне холма, Джон окинул взглядом окрестности, напомнившие ему родной Ланкашир, присел на землю и стал воображать, как вот здесь построит дом: в этом углу будет камин, а в том – музыкальный центр. «Джон был очень домашним человеком, – заметил Сэм. – Он ничего так не любил, как возводить дома. В глубине души он мечтал о том, чтобы построить замок на холме, где никто не мог бы до него добраться...»
Когда к вечеру компания вернулась в Нью-Йорк, Джон только и говорил, что о «ферме старого Макленнона». В общей сложности было решено купить сельскохозяйственных угодий, недействующих и действующих ферм, скота и подержанного оборудования на 2,7 миллиона долларов, из которых реально было уплачено только 375 тысяч, а на остальную сумму Леннон выдал расписки. На следующий год они собирались объявить о больших убытках, показать значительное снижение стоимости скота и оборудования, а также подать заявку на списание налогов на 195 тысяч долларов в счет сделанных инвестиций. К их глубокому разочарованию, налоговые органы отказали в большей части этих требований, доказав, что фермы и скот были приобретены не для развития доходных предприятий, а для ухода от налогов, что не влекло за собой подлинных рисков.
3 мая 1978 года, когда Ленноны вот-вот должны были вступить во владение своей недвижимостью, на одной из ферм, принадлежавших им во Франклине, случился пожар, во время которого были разрушены сарай, гараж и значительная часть основной постройки. Полицейское расследование определило, что пожар явился следствием умышленного поджога, который оказался первым из целой череды аналогичных происшествий, затронувших собственность и других инвесторов этого региона. Ферма старого Макленнона так и не была возведена.
Серьезный финансовый кризис, которым завершился 1977 год, еще более отчетливо обозначил отличия в характерах Джона и Йоко. В то время как жена с головой ушла в работу в поисках выхода из сложившейся ситуации, муж отказывался брать на себя хоть какую-то ответственность. Не желая ничего слышать о деньгах, Джон выдал Йоко генеральную доверенность и уполномочил ее полностью контролировать все его состояние. С этого момента именно она выписывала чеки, подписывала контракты и вела себя в вопросах бизнеса так, словно была Джоном Ленноном.
Глава 64 Каменная задница
В 1978 году Джон Леннон перестал походить на самого себя. Истощенный диетами, голоданием, странным образом жизни, он стал весить не более 60 килограммов. Потеряв интерес к окружающему, Джон редко вылезал из постели и постоянно находился под кайфом – будь то таиландские палочки, галлюциногенные грибы или героин. Когда он не спал, то казался погруженным в некое подобие транса. Несмотря на то, что он продолжал считать себя ответственным за ведение домашнего хозяйства и уход за Шоном, мало кто замечал его присутствие в доме. Прислуга, работавшая на Леннонов, только диву давалась: «Неужели это и есть настоящий Джон Леннон?»
Леннона постигла судьба Говарда Хьюза и многих других подобных ему состоятельных отшельников. Найдя в лице Йоко человека, готового взвалить на свои плечи ответственность за его существование, он совершенно оторвался от действительности. Джон поселился в фантастическом мире «Imagine», в котором все сущее не имеет значения, а любая фантазия безо всяких усилий может воплотиться в жизнь силой волшебства.
Но вместо того чтобы обрести покой, Леннон был постоянно чем-то недоволен: плохо работал телевизор, не принесли утреннюю газету, что-то не так на кухне. Здоровье Джона оставляло желать лучшего: он жаловался на простуду и высокую температуру, расстройство желудка и запоры, мигрени и зубную боль, озноб и тахикардию. Леннон никогда не обращался за профессиональной помощью к врачам, так как понимал, что любой доктор первым делом потребует, чтобы он прекратил принимать наркотики. Эмоциональное состояние Джона было ничем не лучше физического, только теперь его раздражительность проявлялась иначе: он отыгрывался на детях и домашних животных.
Помимо всего прочего, Леннон постоянно жаловался на то, что был лишен удовольствия позагорать на море. Поэтому весной 1978 года Иоко повезла всю семью в «Кариббиан Клаб», расположенный на Большом Каймановом острове, причем выбор ее был довольно странным, так как в то время Кайманы не считались местом отдыха, а рассматривались исключительно как крупнейшая оффшорная зона в Западном полушарии. Прибыв частным реактивным самолетом из Майами, Ленноны разместились в отдельном коттедже, стоявшем прямо на берегу, и принялись наслаждаться солнечными каникулами. Так продолжалось до тех пор, пока не пришло время отправляться в Японию.
После прошлогодней поездки на родину Йоко понимала, что с Джоном надо обходиться осторожно. Продолжительность пребывания в Японии была сокращена, а жизнь в «Окуре» стала для Леннона чем-то вроде отдыха в санатории. Ежедневно, часто вместе с Шоном, Джон плавал в роскошном гостиничном бассейне, после обеда ему делали массаж шиатсу, а в остальное время он наслаждался дневным сном и здоровой пищей, которую чередовал с посещением изысканных ресторанов и дегустацией диковинных яств. Джон всегда был большим любителем ходить по магазинам. Он отправлялся в токийскую «Электроник вилледж» и затоваривался последними электронными новинками, как, например, цветной телевизор с экраном в 30 дюймов по диагонали. Он покупал много одежды: кимоно, японские сандалии и другие предметы восточного облачения.
Несмотря на здоровый образ жизни, существование Джона было напрочь лишено интеллектуального и креативного начала. Как и в Нью-Йорке, он совершенно не соприкасался с окружающей жизнью и не обращал внимания на культурные ценности, до которых можно было дотянуться рукой.
Из Японии Ленноны вернулись в сентябре 1978 года. Няня Шона Масако решила остаться на родине, устроившись на службу к матери Йоко, которая вскоре отпустила ее на пенсию. Ее бегство было вызвано непрерывными ссорами с Иоко, к которой она потеряла всякое уважение. Как и большинство соотечественников, Масако не могла мириться с поведением Йоко. Как-то она даже шепнула Марии Хеа, что Иоко ненастоящая японка, потому что у нее волнистые волосы, которые якобы достались ей в наследство от бабушки, имевшей в свое время роман со скрипачом из России.
Для Иоко было не в новинку лишиться прислуги, однако «Нана», как называл ее Шон, была совсем другое дело, поскольку с самого рождения она заменила ему мать. Но еще хуже было то, что Шону была уготована судьба Джона, который в детстве постоянно терял близких: все последующие няни не выдерживали общения с Йоко и быстро исчезали, что не могло не сказаться на психологическом состоянии ребенка.
Что же касается Джона, то как он ни старался соответствовать взятой на себя обязанности хранителя домашнего очага, у него ровным счетом ничего не получалось. С одной стороны, он старался всячески защитить маленького сына, осыпал его подарками, менял подгузники, а с другой – проводил с ним очень мало времени и при этом отказывался заниматься его систематическим воспитанием. Джон поклялся, что его сын никогда не пойдет в школу и что Шону не придется страдать так, как страдал в свое время его отец. Тем не менее едва мальчику исполнилось три года, как его отправили в детский сад. Джон объяснил это тем, что дома Шон получал так мало внимания от матери и так много нездоровых вибраций от отца, что лучше ему было держаться подальше от Дакоты. Но и этого убеждения Джон придерживался совсем недолго. Стоило Шону пожаловаться на воспитателей, как его немедленно из сада забрали.
Когда Йоко оставляла Джона без присмотра или отправляла куда-нибудь проветриться, он возвращался к своим прежним привычкам. Именно так и случилось в конце сентября 1978-го, когда Иоко купила ему билет на Гавайские острова.
Не успел Джон распаковать чемоданы в номере отеля «Шератон», как тут же принялся накачиваться алкоголем и наркотиками, которые очень быстро сделали его похожим на бродягу. Однажды, шатаясь вдоль канала Алаваи, небритый и опухший Джон услышал, как его окликнул Джесси Эд Дэвис. Старый приятель только что вернулся с Восточного побережья, где провел лето в имении Энди Уорхолла, снимаясь в фильме «Кокаиновые ковбои» с участием восходящей рок-звезды Тома Салливана и Джека Пэланса. Сцены, связанные с контрабандой наркотиков, были настолько реалистичны, что во время съемок прямо на площадке появились агенты ФБР и местные копы. Обыск не дал никаких результатов, но Том решил бежать от греха подальше и оказался на Гавайях вместе с Джесси Эдом, который уже несколько лет здесь жил. Парочка околачивалась возле отделения «Вестерн Юнион» в ожидании денежного перевода из Нью-Йорка и неожиданно заметила Леннона, вышагивавшего по улице.
«Ну и дела! – воскликнул Джесси Эд. – А ты-то что здесь делаешь?»
Джон быстро посмотрел на них сквозь темные стекла очков и, пошатываясь, потащил приятелей в бар. Здесь, в безопасности, он признался, что «сбежал от Иоко». «Да не может быть!» – не поверил Джесси Эд. «Я не хочу об этом говорить, – выдохнул Джон, скосив глаза на Салливана. – Лучше скажи, где бы нам достать немного..?»
Вернувшись в гостиницу, Леннон, финансировавший операцию, получил право первым отведать только что приобретенной отравы.
«Джон прекрасно знал, что делать, – вспоминает Джесси. – Ему даже не понадобилась резинка». Джесси и Том последовали примеру Джона, затем они заказали бутылку «смирновки», пару пакетов апельсинового сока и уселись перед телевизором, по которому показывали очередную серию «Стар Трек».
Когда алкоголь вступил в реакцию с героином, Джон поинтересовался, нельзя ли куда-нибудь пойти поиграть на гитарах. Прихватив инструменты, они по совету Джесси отправились в заведение под названием «Джон Барликорн», расположенное в Перл Сити. Хозяин не стал возражать против импровизированного выступления знаменитого гостя. Вся троица отыграла несколько старых рок-н-роллов, таких, как «Roll Over Beethoven» и «Peggy Sue», и по кругу была пущена шапка. Подсчитав пожертвования, музыканты обнаружили двадцать баксов, пришли в полный восторг от своего успеха, после чего помчались в порт, где закончили вечер на яхте двух французских плейбоев, младших отпрысков семейств Куэнтро и Перно, которые гуляли в компании целого выводка хорошеньких девчонок. На следующий день Леннон вылетел в Нью-Йорк.
В Дакоте все уже было готово к празднованию двойного дня рождения – его и Шона, которое прошло в ресторане, принадлежавшем соседу Леннонов Уорнеру Леруа.
После дня рождения Джон удалился в спальню и вообще перестал показываться оттуда. Не видя Джона в течение нескольких недель, Марии заметила: «Если он так и будет там сидеть, то скоро покроется плесенью».
«Да он и есть плесень, – не выдержала Йоко, – так что пусть уж сидит в темноте и питается своим дерьмом!»
Джон Леннон мог получать неограниченное количество героина самого высшего качества, но ни одна наркосеть не может дать стопроцентной гарантии бесперебойных поставок. Бывали дни, когда курьер возвращался из Чайнатауна с пустыми руками. В такие моменты о Джоне должен был позаботиться кто-то еще.
Однажды Иоко позвонила Марни и попросила немедленно спуститься вниз и подождать ее возле подъезда. Однако вместо того чтобы подъехать, как обычно, на лимузине, Иоко появилась пешком и попросила Марни пройти чуть дальше по улице и поймать такси. В машине Йоко болтала обо всем на свете, и Марни поняла, что не время задавать вопросы. После довольно продолжительной поездки они добрались до одного из самых дальних районов, расположенных в нижней части Ист-Сайда. Они ехали мимо пустырей, полуразрушенных домов, заколоченных досками магазинов, пока такси не остановилось перед каким-то домом с обшарпанными стенами, окна и двери которого были закрыты листами оцинкованного железа. Иоко попросила водителя подождать, а сама поднялась на крыльцо, заваленное грудой бутылочных осколков и смятых банок из-под пива. Когда она оказалась перед дверью, из-за железных листов высунулась чья-то рука, раздвинула их, и Йоко проскользнула внутрь.
Марни была встревожена. Войти в такое здание было опасным делом для любого человека, тем более для Йоко, чья сумочка была вечно набита стодолларовыми купюрами! Минута проходила за минутой, и тревога Марни все возрастала. Она уже собралась отправиться за подмогой, когда подруга наконец появилась у подъезда, проскользнув, точно кошка, в приоткрытую дверь. Сев в такси, Йоко назвала адрес чайного салона на перекрестке 57-й стрит и Шестой авеню, затем откинулась на сиденье и улыбнулась Марни.
В начале декабря Йоко вылетела в Лондон на заседание совета директоров «Эппл». Несмотря на свое разобранное состояние, Джон сразу же позвонил Мэй Пэн. Когда она ответила в первый раз, он так разволновался, что повесил трубку. Перезвонив, он завел путаный разговор, и они договорились о встрече. Когда через час Джон подъехал к дому Мэй, он выглядел, как мертвец. На улице шел дождь, и ему с большим трудом удалось поймать такси. Он задыхался и весь дрожал. Когда он обнял Мэй, она почувствовала, как бешено колотилось его сердце. Мало-помалу ей удалось его успокоить. Когда Мэй спросила, собирается ли он снова работать в студии, Джон ответил: «Ну конечно собираюсь! Я всегда хотел заниматься музыкой». При этом он тут же добавил, что Йоко очень устраивает его в роли менеджера, сославшись на то, что и у Билли Джоэла менеджером тоже была его жена. Мэй возразила, что Билли Джоэл при этом очень много работал, как в студии, так и на сцене, и Джон сразу сменил тему разговора.
После обеда Джон и Мэй улеглись в постель и не вылезали оттуда до вечера, то и дело ставя на проигрыватель сентиментальную песенку «Воспоминания» в исполнении «Литтл Ривер Бэнд», которая напоминала им о том времени, когда они были вместе. Но через какое-то время Джон занервничал. Он сказал, что никто не знает, что он ушел из дома, и что ему надо вернуться прежде, чем обнаружится его отсутствие. Несмотря на внезапно охватившую ее грусть, девушке удалось улыбнуться и сказать Джону, что она все еще любит его. «Я тоже люблю тебя», – ответил он. Мэй послала ему воздушный поцелуй. Эта встреча была для них последней.
Наступило Рождество. В это время Леннон бывал особенно мрачен, и в Дакоте царила тяжелая атмосфера. Джон Грин настаивал на том, чтобы Йоко показала мужа врачам, но и она переживала депрессию, так что Грин начал опасаться, как бы ей не проиграть сражение против остальных совладельцев компании «Эппл». Йоко срочно требовалось сделать что-нибудь лично для себя, и в Сочельник она приняла массированную дозу любимого лекарства – прошлась по магазинам. Джек Коэн, старший продавец мехового отдела из «Бергдорф Гудманс», рассказывает об этом так:
«Однажды в снежный и морозный Сочельник нам позвонила Йоко Оно и сказала, что они с Джоном хотели бы что-нибудь купить, и попросила привезти товар к ним в Дакоту. Через мгновение мы с охранником уже сидели в машине и везли на показ тридцать семь изделий, уложенных в три сундука. Мы подняли сундуки в кухню – так захотели Джон и Йоко, и оставили их одних (это было единственное во всей квартире помещение с нормальным освещением и зеркалом в полный рост. -А. Г.), а сами отправились ждать в гостиную. Прошла целая вечность, прежде чем появился Джон, поблагодарил нас за визит и предложил выпить вина. Я был уверен, что таким образом он пытался вежливо извиниться за то, что они передумали что-либо покупать. Но когда мы оказались на кухне, Джон сказал: „Мы берем“. „Что именно?“ – спросил я, надеясь, что выбранная вещь по крайней мере будет недешевой. „А все, – ответил Джон. – Всю коллекцию“. В тот вечер я продал товара почти на 300 тысяч долларов».
В марте 1979 года Ленноны арендовали огромный дом в Палм-Бич, стоявший прямо на берегу океана. Когда на весенние каникулы к ним приехал Джулиан, Джон захотел установить с сыном более тесные отношения. Он стал учить Джулиана играть на гитаре. Чувствуя свою вину за то, что в течение стольких лет пренебрегал отцовскими обязанностями и пытался заменить истинную любовь дорогими подарками, Джон предложил диаметрально изменить схему взаимоотношений, но взялся за объяснения столь неумело, что испугал Джулиана. Ощущая крайнюю неловкость, юноша попытался объяснить отцу, как трудно быть сыном знаменитого рок-музыканта. Одноклассники убеждены, что дом его матери усеян десятифунтовыми банкнотами, и чтобы поддерживать с ними дружеские отношения, Джулиан вынужден делиться тем, что достается от отца. Так что если Джон перестанет делать дорогие подарки, у юноши могут возникнуть серьезные неприятности. Тем более что Джулиан сам приготовил отцу подарок.
Джон воспринял робкие слова Джулиана так, словно его ударили. Вместо того чтобы попытаться вникнуть в проблемы сына, Леннон поднял руки и заявил, что допустил ужасную ошибку. Пусть все будет как прежде. Джулиан будет получать свои подарки – и пусть катится ко всем чертям!
Тем временем Йоко пыталась выпутаться из тяжелого финансового положения, в которое попала по собственной вине. Рассчитывая получить в конце года крупные дивиденды от «Эппл», она потратила много денег, которых у нее не было. А Ли Истман убедил остальных акционеров компании не объявлять о начислении дивидендов. Таким образом он намеревался ослабить положение Йоко и заставить ее пойти на уступки, благоприятные для остальных совладельцев «Эппл». Йоко запаниковала и попросила своих бухгалтеров срочно приехать во Флориду. Но все, что они могли ей рекомендовать, – попросить у банков продлить сроки погашения кредитов, под любой процент. Иоко испугалась. Она решила, что если Джон узнает о том, в какую ситуацию они из-за нее попали, он отберет доверенность на управление капиталами.
Однако ее волнения были напрасны. Муж и не собирался оспаривать у Йоко ее права распоряжаться его деньгами. Джон создал миф о чудесных деловых качествах Иоко, и этот миф был ему очень удобен. И пока Иоко в отчаянии прилагала все усилия для того, чтобы избежать конфронтации, Джон сидел, запершись в комнате, воскурял благовония, пил вино и нюхал кокаин с героином.
Неделю за неделей всю зиму Джон провел, не вылезая из постели. Большую часть времени он спал, иногда просто мечтал с открытыми глазами. Иногда наступали моменты просветления, и тогда Джон погружался в чтение. Больше всего он интересовался книгами о магии и сверхъестественных явлениях, а также о древних цивилизациях – Древнем Египте, кельтах, викингах, всех тех, кто, по его мнению, обладал бесценными знаниями, не дошедшими до современного человека.
Неизгладимое впечатление произвела на него книга Джин Лидлофф «Навязчивая идея». В книге рассказывалось о том, что венесуэльские женщины повсюду таскают своих детей, привязанных к телу матери специальными лямками. Писательница пришла к выводу, что постоянный физический контакт ребенка с матерью позволяет ему лучше приспособиться к внешнему миру. Особенно поразила Джона одна из последних глав книги, где автор неожиданно обращается к проблеме наркомании. Исследуя этимологию термина «fix», используемого наркоманами в качестве синонима «укола», необходимого для того, чтобы «поправиться» после того, как «стало плохо», Лидлофф обратила внимание на другое его значение: в определенном контексте слово «fixity» – синоним «стабильности». «Fix», объясняет она, дает наркоману ощущение, близкое к тому, что он испытывал сначала в утробе матери, а затем – у нее на руках. В заключение она обращала внимание на то, что те наркоманы, которые смогли дожить до определенного возраста и не умереть, могут сами отказаться от наркотиков: они утолили отчаянную потребность в материнских объятиях. Эта мысль прочно засела у Джона в голове.
Глава 65 Золотая леди
В январе 1979 года Сэм Грин отправился в Египет. Он должен был обнаружить местонахождение банды, занимавшейся разграблением древних захоронений, и их тайника, устроенного в пустыне.
После сделки по продаже Ренуара Сэм и Джон Грин были вынуждены признать, что торговать европейскими шедеврами, подробно описанными в многочисленных справочниках, по завышенным ценам опасно. Рано или поздно покупатель мог сообразить, что его обобрали. А потому стоило заняться поисками иного пути обогащения.
Сэм сходил с ума по Древнему Египту еще с 1969 года, после того как прочитал книгу Питера Томкина «Секрет Великой пирамиды». Он неоднократно посещал эту страну и понял, что цены на древности из этих мест, обозначенные в печатных изданиях, сильно устарели, поскольку этот экзотический товар редко попадал на рынок. Поэтому торговец предметами древнеегипетского искусства получал возможность назначать за них практически любую цену.
К тому же можно было сказать Иоко, что реликвии, выкопанные из древних могил и храмов, обладают волшебной силой. Мумии, саркофаги, статуи древних богов – весь этот хлам был связан с потусторонними силами. Иоко должна была ухватиться за них мертвой хваткой.
С самого начала египетский гамбит был разыгран довольно осторожно и начался с приобретения Леннонами женского портрета из алебастра за смехотворно низкую цену в 12 тысяч долларов. Его поместили на камин в «белой комнате». Затем появились еще два предмета из свежих раскопок, а следом Сэм предложил базальтовый бюст книжника с начертанными на спине иероглифами. После этих предварительных маневров новоиспеченные коллекционеры были готовы к решительному шагу, а именно – к приобретению большого музейного экспоната.
Это была Секмет, статуя сидящей на троне богини с лицом льва, больше двух метров в высоту, которая весила две тонны. В течение последних восьмидесяти лет она пылилась на складе в Швейцарии. Ленноны заплатили требуемые Грином 300 тысяч долларов, затем переправили статую в Соединенные Штаты и, не распаковывая, оставили на манхэттенском складе Моргана, где она пролежала до 1986 года, после чего была продана на аукционе Сотбис в Нью-Йорке за 742 500 долларов. Иоко даже не захотела увидеть Секмет. Она удовольствовалась сознанием того, что статуя принадлежит именно ей.
Совсем другое дело была история «золотой леди». В саркофаге, покрытом золотой фольгой, украшенном полудрагоценными камнями и относившемся к XXVI династии, правившей примерно три тысячи лет назад, лежала совершенно нетронутая мумия молодой женщины. Благодаря начертанным на саркофаге иероглифам было известно, что ее называли «Женщиной с Востока». Едва услышав эту таинственную фразу, Йоко вообразила, что этой женщиной была она сама в предыдущей инкарнации.
Она попросила Джона Грина погадать на мумию, и карты оказались благосклонны к приобретению этого экспоната, за который запросили ни много ни мало 750 тысяч долларов. Однако гадатель не смог подтвердить, что «Женщиной с Востока» была именно Йоко Оно во времена своего царствования в Египте. Тем не менее переговоры по приобретению «золотой леди» шли полным ходом, поскольку Йоко сказала Сэму Грину, что придает огромное значение этой покупке.
29 января 1978 года драгоценный груз был доставлен в Дакоту. С величайшими предосторожностями ящик с саркофагом водрузили на специально подготовленные деревянные козлы. Пока рабочие снимали крышку и разматывали внутреннюю упаковку, Йоко пританцовывала от нетерпения, но едва ее взору предстала инкрустированная крышка саркофага, у нее вырвался стон разочарования: загадочная «Женщина с Востока» оказалась маленьким уродцем, не имевшим ни малейшего сходства с Иоко Оно.
Необходимость разработки египетской темы привела Сэма Грина к знакомству с другими, гораздо более опасными акулами, чем был он сам. Один из бостонских торговцев антиквариатом поведал ему в личной беседе, что свои лучшие экспонаты он получал от некоего египтянина, который обнаружил остатки храма, о существовании которого еще никто не знал. Сэм попросил познакомить его с этим человеком и с интересом выслушал его историю. Для продолжения раскопок египтянину требовались 46 тысяч долларов, и, кроме того, было необходимо найти способ скрыть проводимые работы от властей, которые регулярно высылали самолеты для наблюдения за районами раскопок.
Когда Сэм Грин рассказал обо всем Джону Грину, у того возникло несколько вариантов решения этой проблемы. Например, можно было построить на месте раскопок фабрику по производству ваты и замаскировать территорию развешанными якобы для просушки длинными полосками белой ткани.
Сэм Грин представил эту схему на рассмотрение Йоко, которая не задумываясь выложила наличные. Египтянин взял деньги, не оставив взамен ничего, кроме обещаний. Когда Сэм узнал, что тот открыл в другом городе магазин по продаже антиквариата, он понял, что их просто кинули. Однако Сэм не терял надежды. Он решил лично отправиться в Египет и разыскать местонахождение раскопок. Йоко он сказал, что поехал проверить, как идут работы.
19 января 1979 года Сэм вылетел в Лондон, где собирался провести несколько дней. Там его разыскала Йоко. Джон Грин нагадал, что для успешного решения египетских проблем ей тоже следовало отправиться на раскопки. Вдобавок ко всему она решила прихватить с собой Джона!
Когда Ленноны добрались до каирского отеля «Хилгон Нил» Сэм понял, что у него начались большие неприятности. Иоко сообщила, что едет на раскопки вместе с Сэмом. Он попытался возразить, что ее присутствие привлекает слишком много внимания, что это опасно и что он сам собирается отправиться туда переодетым в бедуина. «Если ты можешь переодеться, то же самое могу сделать и я!» – отрезала Йоко, трепеща от радости в предвкушении маскарада. Она уже вообразила себя в костюме восточной принцессы, передвигающейся в сопровождении Джона, переодетого в телохранителя.
Окончательно запутавшись в собственной лжи, Сэм пришел к выводу, что его единственным спасением мог быть только Джон Грин. Если ему удастся хотя бы на время унять Йоко, Сэм сможет что-нибудь придумать. Но поскольку связь с Нью-Йорком оказалась нарушенной, Сэм решил тем временем свозить Леннонов к знаменитым пирамидам Саккара. Приехав на место уже после захода солнца, они уговорили гида показать достопримечательности даже после закрытия. «Это волшебное место! Волшебное время! – то и дело восклицал Джон. – Я когда-то уже бывал здесь!» На групповой фотографии, сделанной внутри пирамиды, отчетливо видна таинственная аура, исходящая от лица каждого, кто на ней изображен.
Но никакие экскурсии не могли заставить Йоко забыть о своих планах. Каждый вечер, когда Джон засыпал, она приходила в номер к Сэму, и они продолжали шептаться о своих замыслах. «Она могла рассуждать всю ночь напролет, – восхищался Сэм. – Совершенно неутомимая женщина!» Напрасно пытался он запугать Йоко трудностями, которые ожидали их впереди. Она заявила, что получает инструкции телепатическим путем от дальних медиумов. «Сэм! – кричала она. – Это говорю не я, а сверхъестественная сила! А она всегда права. Именно так мы и добьемся успеха!»
Тем временем Сэм договорился о встрече с шефом секретной полиции, который, по его предположению, знал о местонахождении загадочных раскопок. Кроме того, он не прекращал попыток дозвониться до Нью-Йорка и часто сталкивался в телефонном узле с Иоко, которая, кажется, пыталась дозвониться тому же абоненту. Проходили дни, а Сэму никак не удавалось найти выход из положения.
Одной из основных проблем Йоко было держать Джона в норме, и поэтому она нередко возлагала роль няньки на Сэма, заставляя его часами просиживать с апатичным Джоном в ресторане отеля. «Эта маленькая женщина уже все спланировала, – уверял Джон кипящего от злости Сэма. – Не стоит с ней спорить. Я пробовал, но из этого ничего не вышло – поверь мне! При этом она чаще всего бывает права. Так что я просто сижу и жду, чего еще напоет ей оракул». Таким был лейтмотив монологов Леннона, независимо от того, говорил ли он о данной конкретной ситуации или о своей жизни в целом. «Основная идея Иоко заключается в том, что я ничего не должен делать в течение четырех лет, – сказал Джон Сэму однажды вечером. – По ее словам, все, что я делаю, обречено на провал, и так будет продолжаться до 1982 года. Магические цифры легли таким образом, что в 82-м я снова завоюю мир. А если я попытаюсь хоть что-нибудь сделать раньше этого срока, все обернется против меня».
В конце концов спасение пришло к Сэму Грину в лице объявившегося в Каире Тома Хоувинга, бывшего директора Метрополитен-музея, который встречался с Иоко, когда она покупала Ренуара. Он был единственным, кто сказал ей, что цена явно завышена. Но Йоко его не послушала. Увидев Хоувинга в Каире, Ленноны встревожились, так как считали, что участвуют в тайной и опасной операции. Сэм мгновенно сообразил, как можно использовать эту случайную встречу себе на пользу. Ему удалось наконец связаться с Джоном Грином, который перезвонил Йоко и рассказал ей, что карты поведали ему о чьем-то опасном присутствии рядом с ней.
«Том Хоувинг!» – догадалась Иоко. Грин принялся гадать на Хоувинга. Да, было очевидно, что он работает на египетское правительство. Он непременно раскроет их планы и выдаст полиции. Джон и Иоко в опасности. Надо срочно спасаться бегством.
Когда после трехчасового ожидания в Риме компания устроилась в удобных креслах салона первого класса реактивного лайнера авиакомпании «Пан-Америкен», вылетавшего в Нью-Йорк, выяснилось, что во время путешествия будет демонстрироваться фильм «Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band». Для Джона и Иоко это было тяжелое испытание. После просмотра многие пассажиры стали просить у Джона автограф. На подлете к Нью-Йорку самолет попал в жуткую грозу и был вынужден кружить в течение нескольких часов. За это время на борту кончились запасы продуктов и напитков, и чтобы отвлечь пассажиров, фильм запустили по второму разу. Наконец самолет произвел посадку – в Бостоне! Здесь путешественникам пришлось провести в ожидании еще несколько часов. До Нью-Йорка они добрались с восемнадцатичасовым опозданием.
Глава 66 Сила привычки
Когда в августе 1979 года Джон и Йоко вернулись после третьих летних каникул, проведенных в Японии, они твердо решили завязать с героином. Иоко поделилась своими проблемами с Джоном Грином. Вместо того чтобы предложить ей какое-нибудь волшебное снадобье, он заявил, что героином правят злые духи. Придворный колдун настаивал на том, что единственный выход – вообще забыть о существовании этого зелья. Сила его убеждения была такова, что несколько раз ему удавалось заставить Иоко спустить порошок в унитаз, но после она неизменно жаловалась на то, что эти жертвы обходятся ей недешево и доставляют физический дискомфорт. Дело кончилось тем, что она отвернулась от Джона Грина и обратилась за помощью к Сэму Грину, который отнесся к ней с большим пониманием.
Сэм считал, что если Иоко не может отказаться от наркотиков, ей надо с этим смириться и ждать момента, когда она сама почувствует, что готова обратиться за помощью к врачу.
Тем временем Кит Картер каждое утро доставлял в Дакоту свой товар. Иногда он сталкивался с Джоном. Кит был предупрежден, что в этом случае он должен пройти в ванную комнату и положить пакет в коробку для прокладок, стоявшую под раковиной. Что он и делал. Через несколько месяцев, когда Кита наконец представили Джону Леннону, Иоко сказала: «Джон, ты помнишь, это Кит».
«Да, я прекрасно помню Кита», – многозначительно ответил Джон.
Киту было ясно, что Джон полностью отдавал себе отчет в том, что творилось у него дома. Да и как ему было не знать правды, если к декабрю Иоко превратилась в клинический образчик наркомана, сидящего на героине. И тем не менее каждый раз, получая свою дозу, она предупреждала: «Джон не должен знать об этом».
В отличие от Иоко Джон настолько сильно возненавидел самого себя, что, по словам Джона Грина, призвал на помощь всю свою решимость для того, чтобы сбросить проклятье – и ему это удалось. Для этого Джону было необходимо ограничить свое чувственное восприятие. На чердаке дома, недавно купленного им на Лонг-Айленде, был резервуар, обшитый кедровыми досками и похожий на гроб. Туда-то и забирался Леннон и закрывал крышку. В течение получаса он лежала соленом растворе при полной темноте, испытывая ощущения, напоминавшие ему наркотический кайф.
Пока Джон витал в облаках, Иоко, как обычно, была полна новых идей. Решение заняться недвижимостью она приняла в результате неоднократных попыток Сэма Грина заставить ее сделать крупное капиталовложение, чтобы значительно снизить налоговое бремя. Стоило прозвучать магическому слову «недвижимость», как Иоко сделала стойку.
«Недвижимость! – эхом повторила она. – Я в этом кое-что понимаю!» И она рассказала Грину историю приобретения в 1973 году за 105 тысяч долларов квартиры, которая по последним оценкам стоила уже 400 тысяч. (Правда, она забыла упомянуть, что решение о покупке квартиры принял Гарольд Сайдер.)
Первым делом Иоко занялась изучением рынка недвижимости Восточного побережья. Вскоре «Студия Один» была завалена ворохом проспектов, журналов и риэлторских прайс-листов. Джон Грин гадал на каждый объект недвижимости, на котором останавливался взгляд Иоко. Несмотря на то, что он умолял ее сосредоточиться на самых обычных зданиях, которые после небольшого косметического ремонта могли принести приличный доход, Иоко интересовалась старинными особняками и имениями, обладание которыми льстило ее самолюбию. Кроме того, начав торговаться, она пренебрегала услугами посредников, что помогло бы скрыть, от чьего лица ведутся переговоры, и гордо объявляла риэлтерам, кто она. В ответ они поднимали цены. Но самым худшим было то, что она не удосуживалась выйти из дома, чтобы осмотреть недвижимость, которую приобретала. Иоко Оно покупала особняки и фермы, точно провинциальная матрона, выбиравшая себе одежду по каталогу.
Кампания по приобретению недвижимости началась 18 декабря 1979 года и ознаменовалась стремительной покупкой Эль Салано, одной из огромных средиземноморских вилл, расположенных в Палм-Бич вдоль бульвара Саут-Оушн. За это двадцатидвухкомнатное сооружение, построенное по проекту архитектора Эддисона Мизнера, Иоко заплатила 750 тысяч долларов. Следующее приобретение было сделано под влиянием пророчества Эдгара Кайса, предсказавшего, что когда наступит всемирный потоп, в результате которого будет затоплен Манхэттен, уцелеют лишь несколько регионов, и среди них Вирджиния. Иоко решила купить здесь две фермы, расположенные вдоль побережья реки Потомак, площадью 22 и 128 акров216. Хозяйственные постройки на обеих фермах были известны отцу Сэма Грина, специалисту по истории американской архитектуры, который рассказал, что один из фруктовых садов посажен еще Томасом Джефферсоном двести лет назад. Получив от Сэма заверения, что это «два прекраснейших имения на свете», Иоко выложила 400 тысяч долларов – в общем-то невысокую цену за послепотопное выживание.
Помимо многочисленных владений, разбросанных по всей стране, Леннонам принадлежали пять квартир в Дакоте, но только две из них были предназначены для проживания – квартиры?! и 72. Другими тремя были «Студия Один», квартира 4 (помещение над воротами, в котором жили Симаны) и квартира 911, расположенная в мансарде и использовавшаяся под склад.
Единственным домом, который Ленноны регулярно посещали, был Кэннон Хилл – трехэтажное сооружение, обшитое дубовыми досками, стоявшее у подножия холма на северном побережье Лонг-Айленда. Этот старый дом, купленный весной 1979 года за 400 тысяч долларов, был построен с размахом, который никак не соответствовал потребностям семьи. В нем было четырнадцать спален, целый этаж общих помещений, а над кухонным крылом располагались семь комнат для служанок и горничных и лишь одна ванная комната. Зато из окон открывался потрясающий вид на лесистое побережье Коннектикута.
Человек, которому была доверена высокооплачиваемая работа по ремонту Кэннон Хилла, был всего лишь маленьким клерком из магазина, недавно переквалифицировавшимся в декораторы. Звали его Сэмюэл Дж. Хавадтой, а познакомились с ним Ленноны совершенно случайно осенью 1978 года, зайдя в антикварную лавку на Лексингтон авеню. Ему быстро удалось завоевать расположение Йоко, и она предложила ему представить свой план по оформлению «Студии Один», работы в которой все еще не были завершены, несмотря на то, что квартира была приобретена в 1976 году.
Сэмюэл Хавадтой родился в Трансильвании в 1951 году, а потом был перевезен в Будапешт. Мать, еврейка, пережившая ужасы войны, поняв, что сына, блестящего мальчика, удостоенного даже какого-то приза местной комсомольской организации, не ждет в Венгрии ничего хорошего, тайком переправила его в Париж, откуда он переехал в Англию и поселился в деревенском доме вместе с какой-то богатой престарелой матроной. Однажды Сэм познакомился с огромным, толстым и рыжим англичанином, занимавшимся антикварным бизнесом, по имени Стюарт Грит.
Прошло немного времени, и Сэмюэл Хавадтой переехал в Нью-Йорк в качестве близкого друга Стюарта Грита. В течение семи лет Сэмюэл жил с Гритом и работал в его галерее. В ноябре 1978 года он открыл свое дело. Галерея Сэмюэла Хавадтоя очень напоминала галерею Грита, и так же, как Грит жил с Сэмом и использовал его в качестве помощника в своем салоне, Хавадтой поселился со своим новым любовником и помощником Лучиано Спарачино. В этой галерее в 1979 году Хавадтой и Лучиано начали работать на Иоко, приобретая предметы обстановки для ее домов, а также занимаясь ремонтом в квартире 72 и в доме в Колд Спринг Харбор.
Весной 1980 года, когда Йоко все еще была увлечена операциями с недвижимостью, Джон начал проявлять признаки выхода из спячки. Вообще-то движение в берлоге началось еще предыдущей весной, когда он купил себе «Сардоникс», так называемую «космическую гитару», которую подключают к синтезатору, и она звучит на все голоса симфонического оркестра. А после того как он обзавелся «Компьюритмом-88», заменявшим ударную установку, он получил возможность в одиночку играть за целую группу, не вылезая из постели. Джон даже задумал концертное турне, во время которого собирался использовать последние технические достижения, нашедшие применение в шоу-бизнесе в семидесятые годы. Все это доказывало, что в течение последнего года Джон мечтал вернуться к активной деятельности – к сочинению музыки и работе в студии.
Из письма, которое Джон написал самому себе в 1977 году, вытекало, что он принял твердое решение не заниматься творчеством до конца десятилетия, так как его возрождение должно было начаться только в 1980 году. Весной 1977-го Джон сказал одному юному поклоннику по имени Марио Кассиано, что они с Йоко решили «разрезать пуповину, связывавшую их с прошлым», и закрыть офис представительства «Леннон Мьюзик», располагавшийся в здании компании «Кэпитол». Джон добавил, что решил повесить на стену гитару, поскольку «музыка тоже была частью прошлого».
Но самое главное, о чем написал Джон самому себе из Японии, было то, что его покинуло вдохновение, что ему нечего сказать – и в этом нет ничего удивительного, если принять во внимание его образ жизни. В основе песен Джона Леннона всегда лежали живые впечатления, серьезные потрясения или глубокие эмоциональные переживания. Единственное, что мог написать тогда Леннон, так это «Watching the Wheels Go Round»217.
Джон никогда не терял желания заниматься музыкой. Напротив, он постоянно мучился оттого, что не мог ею заниматься. Поэтому он взял в привычку слушать только попсу или радиостанции, передававшие классическую музыку. В одном из последних интервью он объяснил это так: «Если я слышал что-нибудь неудачное (на рок-радиостанции. – А. Г.), мне сразу хотелось это исправить, а если попадалась хорошая музыка, я страдал, что это придумал не я».
Когда Джон оторвался от героина, к нему начали возвращаться силы и стремление снова взяться за работу. Но Йоко все не снимала с него запрета на занятия музыкой, она продолжала утверждать, что, если он осмелится пойти наперекор звездам, его ждет унизительное поражение.
Когда утром 15 января 1980 года Фред Симан пришел на работу, он сгорал от нетерпения расспросить Джона о телефонном разговоре с Полом Маккартни, который позвонил к ним в офис накануне. Пол звонил из отеля «Стенхоуп», где остановился с Линдой и детьми накануне вылета в турне по Японии со своей группой «Уингз». Трубку взяла Иоко, и Пол сказал ей, что разжился «совершенно динамитной травкой» и предложил принести попробовать. Когда Иоко отказалась, он обиделся и в отместку сообщил, что в Токио они с Линдой будут жить в президентском номере отеля «Окура», в котором всегда останавливались Ленноны.
Стрела попала точно в цель. Йоко стало казаться, что Пол и Линда пытаются вторгнуться к ним в дом. Она рассказала обо всем Джону, который тоже не пришел от этой истории в восторг. «Он собирается испортить нашу гостиничную карму, – пожаловался он Фреду Симану. – До сих пор у нас была великолепная карма в этом отеле, и мне очень неприятно сознавать, что они принесут туда свою заразу. Если Пол и Линда проведут там хотя бы одну ночь, мы больше не сможем вернуться в этот номер». К счастью, не все еще было потеряно. «Я уже поговорил с „мамочкой“, – добавил Джон. – Она и Джон Грин взяли это дело на себя». В этом он не ошибся.
Йоко и Джон Грин провели целый день, запершись в «Студии Один». Их нельзя было беспокоить ни под каким предлогом.
А на следующее утро из выпуска новостей Фред с изумлением узнал, что Пол Маккартни арестован по прибытии в Токио. В его багаже обнаружены наркотики. Примчавшись в Дакоту, Фред столкнулся там с Ричи Депалма, который, поприветствовав его, сказал: «Забавно, что Пола арестовали сегодня в Токио, ты не находишь? Особенно после того, как вчера он позвонил сюда и предложил принести немного травки».
По сообщениям журналистов, когда Пол и Линда с детьми проходили через таможню в токийском аэропорту Нарита, их попросили предъявить багаж для досмотра. В косметичке у Линды были обнаружены двадцать косяков с марихуаной. («Когда у Линды оставались три последние унции травки, она впадала в панику. Поэтому она и взяла в Японию такой запас, – объяснила Джо-Джо Лейн, жена гитариста „Уингз“ Денни Лейна. – Вечно она считала, что стоит над законом».) Пол сразу взял вину на себя, и его увели в наручниках под конвоем.
В полицейском участке Пол был подвергнут пятичасовому допросу, после чего оказался в камере, где не мог ни помыться, ни переодеться, ни играть на гитаре, ни использовать письменные принадлежности. Когда в полиции появился британский вице-консул, вместо того чтобы приветствовать Пола, он мрачно произнес: «Знаете, в принципе это дело может стоить вам восьми лет тюрьмы». Через десять дней Пола в наручниках доставили в аэропорт и посадили на борт самолета, вылетавшего в Англию. Турне из одиннадцати концертов пришлось отменить и возместить стоимость распроданных 100 тысяч билетов.
На следующий день после ареста Фред повез Джона и Иоко осматривать очередной дом в Сафферне. Сидя в машине, Джон набил трубку марихуаной и радостно провозгласил: «Ну чистый динамит!» Затем, глубоко затянувшись и удовлетворенно откинувшись на сиденье, он пробормотал: «Знаешь, Пол влип в эту историю только потому, что презирал японцев. Уж я-то знаю!» «Это точно!» – подтвердила Йоко.
Год спустя Джон Грин рассказал Джеффри Хантеру: «Она сказала, что сама устроила все это. Она сообщила каким-то шишкам из японского правительства, что Маккартни очень высокомерно отзывался о японцах».
Сэм Грин подтвердил этот рассказ, добавив: «Кто-то из ее кузенов работал начальником таможни. Один звонок – и с Полом было покончено».
Глава 67 Влюбленная Йоко
В то самое время, когда Иоко занималась организацией ареста Пола за провоз наркотиков в Японию, сама она дошла уже до последней стадии героиновой зависимости. Кожа ее приняла зеленоватый оттенок, щеки запали, речь стала невнятной, а руки и ноги пестрели синяками оттого, что она натыкалась на все подряд. Она могла по нескольку дней носить одну и ту же одежду и вообще перестала мыться. «Мама! От тебя воняет!» – восклицал Шон, когда подходил к матери, чтобы чмокнуть ее в щеку. «Когда это кончится?» – не переставал повторять Сэм Грин, которого все больше тревожило состояние Иоко. Стало ясно, что дальше так продолжаться не может. И тем не менее все оставалось по-прежнему вплоть до первой недели апреля, когда Йоко набралась смелости и посмотрела на себя трезвым взглядом.
Несмотря на уверенность Йоко в том, что Джон ничего не знал о ее зависимости, она сообразила, что пройти курс дезинтоксикации, не открывая своей тайны, невозможно. Поэтому первым делом ей надо было удалить Джона из дома. Когда Джон Грин отказался ей в этом помочь, Иоко сама заявила Джону, что он должен немедленно уехать в Колд Спринг Харбор, поскольку она якобы собирается принять посвящение в некое тайное сообщество, а этот ритуал требует, чтобы она осталась на какое-то время одна. 9 апреля Джон выехал из дома вместе с Фредом, Шоном, Хелен Симан и горничной по имени Уда-Сан.
На следующее утро Йоко, как обычно, встречалась с Китом Картером. Однако на этот раз вместо привычной церемонии с завариванием чая она перешла к делу. Иоко объяснила, что Кит должен этим же вечером вылететь в Лондон и раздобыть там морфина. «Раньше мы с Джоном поступали именно так», – объяснила она, открыв сумочку и начав вытаскивать оттуда стодолларовые банкноты. Она вывалила на стол целую кучу денег, велела Киту собрать их и дала ему несколько имен и адресов людей в Лондоне, которые могли помочь в этом деле.
Кит подумал над этим неожиданным и опасным заданием и задал вполне разумный вопрос: «Разве мы не можем купить морфин в Нью-Йорке?» Но Иоко не желала отвечать на подобные вопросы. Она вся была во власти своей навязчивой идеи, согласно которой именно эта покупка, сделанная в Лондоне, отделяла ее от полного освобождения. Так что она цыкнула на Кита, и он пулей выкатился из офиса.
Сэм Грин воспользовался отсутствием Кита, чтобы убедить Йоко проконсультироваться с врачом. 22 апреля он привел ее к доктору Роберту Фрейманну. Многие нью-йоркские музыканты пользовались услугами доктора Фрейманна. По утрам перед его кабинетом, располагавшимся сразу за Пятой авеню, собиралась толпа довольно грязных, болезненного вида молодых людей. Ровно в семь часов доктор подъезжал на своем сверкающем «мерседесе», вылезал из машины и приветствовал посетителей следующими словами: «Доброе утро, наркуши! Все за мной!»
Однако доктору Фрейманну не суждено было вылечить Иоко Оно. Не успели они с Сэмом занять свои места в приемном покое, как из кабинета врача выскочила медсестра и закричала: «У доктора сердечный приступ! По-моему, он умер!» Все пациенты мигом потянулись к двери. Сэм схватил Иоко за руку и выскользнул на улицу. Через неделю Грин привез в Дакоту молодого доктора по имени Родни Б. Райан, который согласился заняться Йоко у нее дома.
Молодая японка оказалась очень трудным пациентом. Она страшно боялась боли, наступавшей при ломке, не поддавалась дисциплине и искала всяческие предлоги, чтобы избежать лечения. В скором времени у нее начались обычные симптомы, от дрожи и судорог до ощущения того, что под кожей ползает стая пауков. Когда Иоко стала угрожать, что покончит с собой, Сэм перебраться в Дакоту и не покидал ее ни днем, ни ночью в течение следующих двух недель.
Курс дезинтоксикации оказывал на Йоко парадоксальное действие. Вместо того чтобы валяться в постели, она металась по Дакоте, произнося какие-то нечленораздельные звуки, в которых одна из служанок разобрала древнеяпонские слова. Ее требования становились все более странными. Однажды в одиннадцать часов вечера она отправила бедного Сэма в корейскую бакалейную лавку купить пять коробок петрушки – Иоко захотелось принять ванну с петрушкой по рецепту Джона Грина. Вообще-то Сэм ложился спать в ногах у кровати Иоко, как это делала верная Масако, но в последние дни спать ему вообще практически не приходилось, и он в конце концов не выдержал. В отчаянии он призвал на помощь доктора Райана, который провел с пациенткой пять часов подряд. «Будьте осторожнее, Сэм, – сказал доктор на прощанье. – Не забывайте, что на смену одной зависимости всегда приходит другая».
Поведение Джона Грина во время этого кризиса разительно отличалось от поведения его партнера. Главный советник Иоко отказаться с ней встречаться. Он объяснил это тем, что участие в личной жизни клиента может навредить деловым отношениям. На самом деле ничто не могло так навредить его отношениям с Иоко, как отказ прийти ей на помощь в трудную минуту. Что же касается Сэма Грина, то в знак благодарности он получил от Иоко чек на 100 тысяч долларов.
Как-то раз, когда самый тяжелый этап лечения был уже позади, Сэм Грин пригласил Иоко пообедать в один из самых шикарных ресторанов Ист-Сайда «Мортимерс», в котором после удачного шопинга на Медисон авеню собирались обычно сливки общества. Когда Иоко, опираясь на руку Сэма, нетвердым шагом вошла в ресторан, ее темные очки, вызывающий костюм и безошибочно узнаваемая грива черных волос произвели сенсацию.
Сэм пользовался в этой толпе определенной известностью, поэтому вдоль столиков сразу пронесся шумок о том, что между «этими двумя» явно что-то есть. Однако об этом происшествии скорее всего сразу бы и позабыли, если бы Иоко не устроила сцену. Углядев за соседним столиком Бьянку Джаггер, Иоко поднялась со своего места и, пошатываясь, приблизилась к смуглой красотке. «Между нами, женщинами, говоря, – выдала Иоко, – я прекрасно понимаю, что тебе приходится сейчас переживать». (Бьянка только что развелась с Миком.) Не успела Иоко вымолвить эти слова, как по переполненному залу ресторана прокатился вздох. Семейная пара рок-звезд!_ Развод! У нее другой мужчина! В мгновение ока Сэм и Иоко превратились в «интересный материал», опубликованный уже на следующий день в газете «Ньюс оф зе уорлд», которую ежедневно от корки до корки прочитывал Джон Леннон.
Как только Иоко освободилась от наркотиков, ее охватила депрессия. «Ты считаешь, что испортила себе жизнь, что брак обернулся неудачей, – взмолился Сэм, превратившийся в няньку. – Но есть кое-что, чем ты могла бы заняться. Ты же талантливая артистка – займись своим искусством!»
И Иоко бросилась писать песни. Одной из первых была композиция «Walking on Thin Ice»218, в которой содержался намек на самурайский меч, подаренный ею Сэму в знак благодарности за спасение. Затем, практически за одну неделю, Иоко написала большую часть песен, вошедших позднее в альбомы «Double Fantasy»219 и «Milk and Honey»220. Она могла позвонить Сэму в четыре утра и прочитать только что сочиненный текст, а затем потребовать, чтобы он пришел назавтра и помог ей его доработать. Сэм все еще не сознавал, сколько опасности таит в себе это сотрудничество.
В то время, когда с Иоко происходили все эти памятные события, которые завершились тем, что она заявила Джону Грину: «С делами покончено – я снова стала артисткой!», Джон Леннон и Фред Симан отдыхали на берегу моря.
В течение целого года, что Фред находился на службе у Джона, они очень мало общались. Несмотря на то, что когда он впервые пришел на службу в феврале 1979 года, ему дали понять, что от него требуется помогать Джону «готовить коричневый рис», он быстро убедился в ином: основная работа Фреда заключалась в том, чтобы раскатывать по городу в зеленом «мерседесе» с набитыми деньгами карманами и закупать множество разных игрушек и деликатесов, которые заказывал Джон.
Когда Джон и Фред поехали на Лонг-Айленд, Иоко предупредила «мальчиков», чтобы они не уезжали далеко от дома. Но стоило Леннону оказаться на свободе, как у него зачесались руки. Усевшись в огромный «дизель-универсал» с Фредом за рулем и голосом Фэтса Уллера, рвущегося из динамиков, он отправлялся на прогулку в один из соседних городков – Колд Спринг Харбор или Хантингтон. Машина медленно катилась вдоль по улицам, а он высматривал красивых девушек, подобно тому, как летчик-истребитель выискивает самолеты противника. Если они проезжали мимо витрины магазина одежды, где было выставлено что-нибудь необычное, он посылал Фреда купить ему понравившуюся вещь. Но сам никогда никому не показывался на глаза. Леннон так боялся того, что его присутствие на Лонг-Айленде будет раскрыто, что даже отказывался получать почту. Письма, которые ему пересылали из Дакоты, приходили на адрес полицейского участка, откуда звонили в Кэннон Хилл, после чего за ними отправлялся Фред.
Джон категорически запретил Фреду заигрывать с местными девчонками. Он выдвинул твердое условие, чтобы молодой человек нашел себе одну постоянную подружку и потребовал от нее поклясться в том, что она сохранит тайну их пребывания здесь.
Сексуальные потребности самого Джона удовлетворялись иначе. В своем интервью лондонской «Сан» Джон Грин рассказал, что Иоко имела обыкновение сообщать ему о том, что Джон «потерял покой», поскольку ему понравилась какая-то женщина. Она хотела знать, каких неприятностей можно от нее ожидать и сколько денег предложить... Когда Леннон жил на Лонг-Айленде, к нему отправили массажистку, которая работала и на Иоко. «Через какое-то время Джон неосторожно упомянул о том, что находит ее привлекательной и что у него появился к ней интерес, – рассказывал Грин, – и Иоко тотчас ее уволила».
Однажды в мае, когда Марни Хеа поехала с детьми на лимузине в Колд Спринг Харбор, она заметила, что от самой Дакоты за ними следует еще один автомобиль. Когда они добрались до места, из второй машины вышла миниатюрная и очень привлекательная женщина восточного типа. Как оказалось, это была массажистка из Манхэттена. Она поселилась в комнате, примыкавшей к спальне Леннона, и всю неделю заботилась о нем, готовила пищу, сама подавала ее и заходила к Джону по первому его зову.
Близость моря неизменно вызывала у Джона желание отправиться в плавание. В начале мая он купил у хозяина местного курортного комплекса, молодого парня по имени Тайлер Кониз, маленький парусник. Кониз преподал Джону и Фреду несколько уроков по основам морской навигации. Стоило Джону почувствовать ветер в парусах, как он стал мечтать о настоящем путешествии. Как было бы чудесно, поделился он с Фредом, пересечь Атлантический океан и подняться по Темзе до самого Лондона! Вскоре эта идея полностью овладела Джоном, и он решил поделиться ею с Иоко, которая – к его огромному удивлению – отнеслась к ней более чем благосклонно.
В принципе в этом не было ничего удивительного. Иоко мечтала о том, чтобы удалить Джона подальше от Нью-Йорка и в одиночестве наслаждаться своей новой жизнью. После продолжительных махинаций, якобы по настоянию Есикавы, Иоко отправила Джона в Кейптаун – набраться моральных и физических сил, которые потребуются ему для совершения рискованного путешествия. Проведя несколько дней в салоне автомобиля в компании чернокожего водителя, катавшего Джона по окрестностям, Леннон решил возвращаться. Но сначала позвонил Мэй Пэн и пригласил приехать к нему в Колд Спринг Харбор. Этот телефонный разговор был для них последним.
Когда Джон вернулся в Нью-Йорк в начале июня, Иоко объявила, что, согласно предсказателям, он может отправляться в плавание, но при условии, что будет держать курс на юго-восток, то есть в направлении Бермудских островов. Вместо того чтобы, по своему обыкновению, контролировать ситуацию, она поручила подготовку к путешествию Тайлеру Конизу, человеку, с которым практически не была знакома.
Утром 4 июня 1980 года Джон Леннон покинул Кэннон Хилл и вместе с Тайлером Конизом и его двоюродными сестрой Эллен и братом Кейвином вылетел в Ньюпорт. Здесь Кониз арендовал двенадцатиметровую шхуну «Миган Джейн», на борту которой их дожидался уже готовый выйти в открытое море мускулистый бородач по прозвищу капитан Хэнк. Предполагалось, что, достигнув Бермудских островов, Джон пошлет за Фредом, который собирался присоединиться к мореплавателям вместе с Шоном и Уда-Сан.
Ни разу, с тех самых пор, когда он впервые залез в переполненный грузовичок Аллана Уильямса и отправился в Гамбург, Джон не совершал столь захватывающего дух прыжка в неизвестность. Оказавшись один на один с незнакомыми людьми, да еще в открытом море, он подвергал себя одной из тех опасностей, которых старался избежать всю свою сознательную жизнь. Но он осуществил мечту своего детства – отправился в плавание, как это делали его дед и отец. Учитывая тот факт, что Джон ничего не понимал в управлении шхуной, ему было определено место корабельного кока, но какое это имело значение теперь, когда он вышел в открытое море!
В один из дней шхуна попала в шторм, который вывел из строя всех членов экипажа, одного за другим. Пришел момент, когда капитану пришлось поставить к штурвалу кока. Джон оказался на качающейся под ногами палубе привязанным к перекладине и сжимающим в руках штурвал. В первый момент он испугался огромных волн, разбивающихся о нос корабля, но, по мере того как проходили минуты и часы, Леннон чувствовал, как отвага начала заполнять его сердце. Это было похоже на выход на сцену. Вначале тебя охватывает паника, к горлу подступает тошнота, но вот ты выходишь к зрителям, начинаешь свой номер – и страх улетучивается, ты уже наслаждаешься собственной игрой. И Джон начал кричать в ответ на оглушительный шум моря. Он даже запел! Морские песни, старые баллады, которые еще мальчиком он слышал в Ливерпуле, сами собой полились у него из глотки. Он представлял себя древним викингом, устремившимся к берегам Гренландии или Лабрадора. В течение пяти часов подряд матрос Леннон стоял на вахте и удерживал курс. Когда в конце концов его сменили, в трюм спустился совершенно другой человек.
В тот вечер, когда Джон вышел в море на борту «Миган Джейн», Иоко и Сэм ужинали в обществе Джона Кейджа и Мерси Каннингэм. Сэм был поражен, когда Иоко заговорила о нем и о себе как о семейной паре. В конце вечера она попросила Сэма заехать на следующий день в Кэннон Хилл, чтобы посоветоваться относительно предполагавшегося ремонта. Он ответил, что собирался съездить домой на Файер-Айленд, но заскочит к ней по дороге, чтобы успеть на последний паром. Когда на следующий день к вечеру он подъехал к дому на своем лимузине с шофером, Йоко прислала человека сказать шоферу, чтобы тот возвращался в Нью-Йорк.
Тут только Сэм начал соображать, что к чему. Неприятное чувство усилилось, когда подошло время укладываться спать, и Иоко предприняла решительное наступление. Сэм до последнего пытался оттянуть неловкий момент. «Она просто заговорила меня», -вспоминает Сэм.
«Ну почему нет? – настаивала Йоко. – Ведь мы же друзья».
«Все это слишком сложно, – пытался объяснить Сэм. – Я не хочу этого делать. Я люблю тебя – но совсем не так! И я не хочу связывать с тобой свою жизнь».
Но что бы он ни говорил, у нее на все был готов ответ. «Так продолжалось до четырех утра, – рассказывал Сэм. – И к этому моменту мое сопротивление было сломлено».
Когда они очутились в постели, дело ограничилось поцелуями и взаимными ласками. Сэм почувствовал, что Йоко не стремится к физической близости. «Выяснилось, что она боится мужского проникновения», – объяснил он.
На следующее утро, позавтракав вместе с Йоко и Шоном, Сэм улизнул из дома и укрылся в своем убежище на Файер-Айленд, где в течение всего уик-энда предавался размышлениям относительно последних событий. Он оказался втянутым в любовную историю, зная о том, что в минуты ярости муж Иоко способен на что угодно. Ситуация была опасной, и если бы Сэм был мудрее, он бы поспешил спрятаться куда подальше. Вместо этого в понедельник утром он вернулся в Нью-Йорк и пригласил Йоко пообедать в «Таверн он зе Грин», где она настояла на том, чтобы прилюдно держать его за руку. После обеда они вылетели в Тампу, на встречу с известным медиумом по имени Леонард Земке. Иоко заявила Земке, что им с Сэмом предначертано судьбой провести остаток жизни вместе. Вернувшись в Нью-Йорк, они отправились в Кэннон Хилл, где Фред Симан стал свидетелем их игрищ. «Сначала они скрылись наверху,– рассказывает Фред, – а через некоторое время Сэм Грин, задыхаясь, спустился вниз по лестнице, бормоча что-то непонятное насчет якобы охотящейся на него Черной Вдовы».
Сэм провел в Кэннон Хилл три дня, а затем отправился в Оукливилл.
Через неделю к нему приехал погостить молодой актер по имени Боб Херман. Как-то раз Боб проснулся очень рано и вышел в сад. В заливе он увидел небольшую лодку, бросившую якорь метрах в двадцати от берега. В лодке сидел мужчина и курил. Боб понаблюдал за действиями этого человека и решил, что тот следит за домом. Когда Боб рассказал обо всем Сэму, Сэм сопоставил его рассказ с целой серией необычных происшествий, случившихся за последнюю неделю в этом уединенном уголке, и у него возникли опасения, что это слежка, которую установил за ним Джон Леннон.
С тех пор как Сэм и Йоко стали любовниками, характер их взаимоотношений резко изменился. Иоко решительно взялась за дело – она хотела превратить Сэма в идеального принца-консорта. «Я буду помогать тебе, – объявила она, – до тех пор, пока ты сам не сделаешь карьеру, благодаря которой станешь самым богатым человеком в мире». Хотя она и не содержала Сэма полностью, но взяла на себя расходы по ремонту его роскошной квартиры на Ист-Сайде. А в конце июня организовала ему встречу с Джозефом Лукашем, медиумом, который должен был помочь ему сделать первый шаг к возвышению. Лукаш погадал ему на картах и по руке. «Вас тянет к сильным женщинам, – объявил медиум, – и вы дарите им любовь».
Джозеф составил относительно Сэма отчет, уместившийся на двенадцати страницах, который был немедленно отправлен Йоко. Наутро Сэм получил три флакона с прозрачной жидкостью. Эти снадобья должны были освободить его от предыдущей кармы и обеспечить успех в будущих начинаниях. А кроме того, Лукаш вручил ему две бутыли с любовным напитком, который Сэму полагалось пить вместе с Иоко.
Глава 68 Тропический жар
Истощенное лицо и длинные волосы, босые, необычайно худые ноги: индийский отшельник, сидящий в позе лотоса на современном диване датского производства с гитарой в руках – так выглядит Джон Леннон на фотографии, которую сделал Фред Симан в первый вечер после прибытия на Бермуды. В этот день Джону захотелось помузицировать. Близоруко склонившись над грифом инструмента, он принялся нащупывать аккорды. Внезапно ударив по струнам, Джон вновь обрел тот жесткий, нервный ритм, который был так характерен для его игры в течение долгих лет, когда он был ритм-гитаристом в составе группы «Битлз». Затем он поднял голову и грубым голосом ливерпульского матроса запел злую импровизированную пародию на одну из последних песен вернувшегося в строй Боба Дилана «You Gotta Serve Somebody» («Ты должен кому-нибудь служить»), которую Джон переименовал в «Serve Yourself!» («Служи самому себе!»).
Обращаясь к тому же молодому наркоману, которому был адресован сарказм песни «Revolution», Джон поздравил его с озарением, позволившим открыть Иисуса, Будду, Магомета и Кришну. Но, пропел он, в его снастях не хватало одного очень важного паруса. Какого же именно? Матери Ты чертовски прав! Тот, кто не признает своих долгов перед женщиной, выносившей его, является полным идиотом! Ей он обязан больше, чем всем мудрецам на Земле вместе взятым. Затем, после пары музыкальных пощечин расставшись со своим учеником, Леннон резко оборвал пение, встреченное смехом и аплодисментами здоровых и красивых матросов, расположившихся у его ног. Эти новые товарищи Джона, вероятно, считали, что знаменитый музыкант всегда ведет себя именно так. Один Фред Симан не мог опомниться от удивления. Две недели, проведенные в море, изменили Джона Леннона.
Как только они остались вдвоем, Джон объяснил Фреду, что приключение, которое он пережил на борту «Миган Джейн», помогло ему вновь обрести вдохновение. Во время круиза он написал две песни и теперь сгорал от нетерпения сочинять и дальше. Но для работы ему нужны были одиночество и комфорт. От Фреда требовалось как можно быстрее отделаться от попутчиков и снять для Джона виллу где-нибудь поближе к морю. Деньги значения не имели. Когда Фред заметил, что Тайлер Кониз может обидеться, поскольку теперь он числит себя в друзьях Джона, Леннон резко возразил: «У меня нет друзей. Дружба – это романтическое заблуждение».
Андерклифф, желтая вилла на Гамильтон Террас, в которой поселились Леннон, Фред, Шон, Уда-Сан, а позже и Хелен Симан, располагалась ниже прибрежного шоссе, прямо у воды. Однажды вечером, вскоре после прибытия на виллу, Джон сидел во внутреннем дворике и слушал альбом Боба Марли «Bumin» («В огне»), когда внезапно его осенило вдохновение. Он возбужденно принялся объяснять Фреду, что в течение вот уже нескольких лет у него не выходила из головы песня Марли «Hallelujah Time»221, и только сейчас он понял, почему: в песне была строчка о том, что жить осталось совсем недолго. Именно такое чувство испытывал сейчас Джон – так пусть же первая песня будет об этом! Он сразу начал импровизировать на эту строчку из альбома Марли, в результате чего получилась композиция, озаглавленная «Living on Borrowed Time» («Жизнь у времени взаймы»). Под аккомпанемент Фреда, выстукивавшего ритм на футляре от гитары, Джон довольно долго играл и пел, пока не записал на магнитофон именно то, что звучало у него в голове. Затем он запалил косяк, откинулся в кресле и принялся мечтать вслух о том альбоме, который должен был ознаменовать его возвращение.
Этот альбом будет от начала до конца пропитан мягкими, чувственными звуками Карибского моря. Ведь Бермуды находятся в Карибском море? Нет? Ну и хрен с ними! Все равно, это будет остров в океане, тропический и полный эротики, движения и звуков ритм-энд-блюза. Вообще-то, чтобы добиться нужного саунда, надо было ехать на Ямайку! В ту же студию, где записывался Боб Марли. Он будет играть с растаманами и курить с ними ганжу.
Слушая, как Джон говорит, Фред Симан думал, что на его глазах свершается чудо. Больной человек, за которым он наблюдал в течение целого года, чудесным образом исцелялся: Джон Леннон становился самим собой – величайшим автором-песенником нашей эпохи.
Но стремительный полет ленноновского воображения был прерван на следующее же утро, когда он взялся за телефон и стал рассказывать о своих планах Иоко. Встревоженная тем, что дело приняло непредвиденный оборот, она сосредоточилась на том, чтобы вернуть его под свой контроль и направить по пути, который наилучшим образом соответствовал ее собственным планам.
После того как Иоко разродилась целой серией новых песен, ей надо было придумать, каким образом можно сделать из них альбом. Богатый опыт подсказывал ей, что от идеи сольного альбома следует отказаться. Более того, если она будет настаивать на сольном альбоме, Джон тоже захочет записать альбом, который будет раскуплен фанами, в то время как ее пластинка станет пылиться на полках магазинов. Поэтому ее успех зависел от того, сумеет ли она предложить поклонникам песни кумира, заставив их одновременно слушать вещи, написанные Иоко Оно.
Первой задачей Иоко было отговорить Джона от идеи записи сольного альбома. В качестве решения проблемы она придумала записать альбом как «игру сердец», диалог между женатыми друг на друге любовниками. Изложив свою идею Леннону, она сделала упор на то, что если он откажется, то именно на него ляжет вина за разрушение мифа о Джоне и Иоко, на создание которого они положили всю жизнь. Начиная с этого дня, телефонные звонки не прекращались: Иоко часами убеждала мужа отказаться от идеи записать альбом в стиле регги. В конце концов Джон склонился к мысли о создании пластинки, на которой два исполнителя, используя диссонирующие музыкальные идиомы, попеременно, но не вместе, должны петь песни, написанные на пересекающиеся сюжеты.
Парадокс пластинки «Double Fantasy»222 заключается в том, Иоко звучит на ней лучше, чем Джон. В то время как он, будучи лишенным изначального вдохновения, застенчиво скатился к клише прежних работ, ей хватило ума вскочить на подножку проходящего поезда и использовать стиль конца семидесятых. Верхом иронии явился также и тот факт, что именно Джон помог ей взобраться на гребень «новой волны».
В одном из диско-баров Гамильтона он как-то услышал песню группы «Б-52» «Рок Лобстер». Он сразу подметил, что их саунд явно найден под влиянием пронзительных криков Иоко. На следующий день он сказал ей, что ее стиль вошел в моду. А когда Иоко передала эти слова Джону Грину, он еще больше развил эту идею.
Он порекомендовал Иоко записать пластинку в техно-кукольном стиле. "Знаешь, – сказал он, – что-нибудь вроде «Kiss, kiss, kiss– Take, take, take me... Hold, hold, hold me... in your arms». Иоко рассмеялась, но сразу принялась за работу. В результате песня «Kiss, Kiss, Kiss» вышла на оборотной стороне сингла Джона с альбома «Double Fantasy» – «Starting Over» – и стала первой композицией Иоко, когда-либо звучавшей на дискотеках.
Взяв на вооружение стиль технотронной риторики «новой волны», Иоко поставила перед Джоном еще одну проблему: необходимо было найти гармонию между ее и его саундом. Он хотел наполнить свою музыку чувственной меланхолией тропических морей, но теперь, вместо того чтобы отправиться в Кингстон в поисках звука из плоти и крови, ему предстояло записываться в Нью-Йорке и использовать ультрасовременные технологии.
Когда Джон оказывался во власти мук творчества, он всегда сильно нуждался в моральной поддержке. В прежние времена в Кенвуде Пит Шоттон часами просиживал в нескольких шагах от Леннона, пока тот работал над песнями. Именно такой помощи Джон ожидал теперь от «мамочки». Но вместо этого она часами разговаривала с ним по телефону. «Все эти песни были написаны по телефону между Нью-Йорком и Бермудами, – вспоминает Сэм Грин. – Он постоянно звонил ей. Он буквально преследовал ее... О чем они могли говорить по пять часов подряд?! Она побуждала его сочинять любовные песни, адресованные ей, чтобы можно было включить их в альбом. Ей приходилось подталкивать его и постоянно смотреть, чтобы песни соответствовали тому, что ей было нужно».
Этим летом большую часть времени Иоко проводила у Сэма Грина. Причиной тому была полная страсти любовная интрига, которая разворачивалась между ними. К середине июня Иоко втянула Сэма в симбиоз типа «ты-это-я-а-я-это-ты-и-мы-ни-минуты-не-можем-жить-друг-без-друга», который всегда был для нее единственно возможной формой любви. И напрасно Сэм Грин пытался улизнуть при первой же возможности – она без устали преследовала его. Она установила у него телефонный номер на свое имя, чтобы лишить его возможности ссылаться на то, что линия была занята. Однажды Сэм насчитал сорок один телефонный звонок от Иоко за утро. В чем была такая срочность? Она почувствовала приближающуюся простуду и хотела во что бы то ни стало вколоть себе витамин С, прежде чем инфекция доберется до горла и испортит голос.
И хотя Иоко была слишком требовательной по отношению к своему любовнику, она была с ним и щедра. Как прежде Дэвида Спинозу, она осыпала Сэма дорогими подарками, а если по какой-либо причине не могла к нему приехать, отправляла ему целый гидросамолет, загруженный килограммами черной икры, шотландского лосося и горами французских сыров. Тем не менее однажды телефонное напряжение достигло такой точки, что Сэм бросил трубку. Иоко сообразила, что переборщила. На следующий день помощник Сэма доставил ему посылку. В знак примирения она подарила ему желтый бриллиант весом в четыре с половиной карата и стоимостью около четырех тысяч долларов.
Вечером 26 июня Иоко пригласила Сэма на студию «Хит Фэктори», где устроила демонстрационное прослушивание семи записанных песен. Она требовала его присутствия, поскольку именно он вдохновил ее на сочинение любовных песен, и она хотела спеть их ему, как Джон в Лос-Анджелесе пел свои композиции Мэи Пэн. «I Am Your Angel»223 идеально передает отношение Иоко к Сэму, а поздравление с днем рождения, прозвучавшее в последнем куплете, появилось после дня рождения Сэма, которое отмечалось 20 мая – композиция была написана примерно в этих числах.
На следующий день Иоко все же вылетела на Бермуды, куда ее самолет должен был приземлиться в половине десятого вечера. Джон и Фред заранее отправились в аэропорт, поэтому они отослали водителя, а сами уселись в таверне не близко и не далеко от летного поля, чтобы выпить пивка. В ожидании встречи с «мамочкой» Джон пребывал в возбуждении. Он долго рассуждал о том, что до знакомства с Иоко все его связи с девушками больше напоминали изнасилования. Разговор затянулся бы, если бы Фред не взглянул на часы: они показывали половину десятого! Выскочив из бара, они запрыгнули в такси и помчались в аэропорт, но было поздно. Один из сотрудников аэропорта сообщил им, что с последним рейсом действительно прибыла какая-то японка. В течение нескольких минут она оглядывалась по сторонам, а затем разрыдалась. Вскочив обратно в такси, Джон сказал Фреду, что по приезде домой ему придется свалить вину за опоздание на него.
Этим вечером Джон вел себя с Иоко, как прежде. Он отвел ее в солярий и пел ей серенады. Затем он поставил кассету с первыми за последние пять лет новыми песнями. Иоко молчала, не проявляя никаких эмоций. Когда Джон стал приставать к ней с просьбой хоть на день съездить на Ямайку, чтобы посмотреть студию, Иоко отказалась, заявив, что в воскресенье ей надо быть в Нью-Йорке. Это так разозлило Джона, что он обрушился на нее с упреками, что она совершенно перестала заботиться о нем и Шоне. Особенно о Шоне! А все ее объяснения, вроде того, что у нее якобы отсутствует материнский инстинкт, придуманы только для того, чтобы увильнуть от своих обязанностей.
Сцена не произвела на Иоко никакого впечатления. Она заявила, что когда альбом будет закончен, купит ему дом на Бермудах, и тогда все члены семьи смогут хорошенько отдохнуть. Несмотря на обиду и разочарование, Джон нашел утешение в этом пустом обещании.
После отъезда Иоко у Джона возникли подозрения относительно ее образа жизни в Нью-Йорке. Он пожаловался Фреду, что «мамочка» проводит слишком много времени в обществе Сэма Грина и Сэма Хавадтоя. Он даже намекнул о наличии наркотиков в Дакоте. Однажды в начале июля, после неоднократных и бесплодных попыток дозвониться до Иоко, Джон ушел к себе и за пару часов написал лучшую композицию, вошедшую в «Double Fantasy», – «I'm Losing You»224. Песня подействовала на него, как истинный катарсис. С той минуты, как он ее закончил, Джон успокоился и перестал названивать Иоко. Вместо этого он решил выяснить, что же происходит у него дома, и послал в Нью-Йорк Фреда Симана.
Когда 4 июля Фред добрался до Дакоты, Иоко уже четыре дня как находилась у Сэма Грина на Файер-Айленде. Но ей и не требовалось быть дома. Состояние, в котором Фред застал «Студию Один», было красноречивее любых слов. «Ее офис, – вспоминает он, – был завален газетами, грязной одеждой, разбросанной по полу, и остатками полуразложившейся пищи». Поднявшись в квартиру, он обнаружил множество бутылок виски и водки – любимых напитков Сэма Грина. Слегка надавив на Миоко, он узнал, что Сэм Хавадтой и Лучиано приносили Иоко «конверты». (Сам Лучиано признался, что иногда они с Сэмом притаскивали ей упаковки кокаина размером с толстую книгу карманного издания.) Но больше всего Фреда сразил слух о том, что Иоко собирается развестись с Джоном и перетащить его личные вещи в квартиру 71. Фред узнал, что она хочет выйти замуж за Сэма, и предположил, что речь шла о Сэме Хавадтое. Само собой, он ни словом не обмолвился обо всем этом в разговоре с Джоном. Фред не собирался развязывать войну.
Конец июля ознаменовался одним из самых забавных эпизодов «Баллады о Сэме и Иоко». Сэм был сыт по горло постоянными прогулками на лимузинах и самолетах. Однажды он предложил Иоко взять напрокат открытую легковую машину и поехать по шоссе куда глаза глядят. Через какое-то время они уже неслись по живописной скоростной дороге в направлении Коннектикута. «А почему бы нам не заехать в гости к твоим старикам?» – неожиданно предложила Иоко. Предприняв несколько безуспешных попыток отговорить Иоко от этой идеи, Сэм махнул рукой и набрал номер телефона своих родителей.
«Привет, мам, – выдавил Сэм. – Мы как раз проезжаем мимо. Сейчас уже восемь часов, и я не один. А вы чем занимаетесь?»
В ответ миссис Грин скороговоркой прошептала: «Сегодня особый вечер для твоей сестры. Этот парень, с которым они вот уже год как живут – по-моему, они организовали для нас торжественный ужин, потому что собираются объявить о свадьбе. У нас тут везде горят свечи, и даже в саду зажгли специальные факелы. Папа жарит барбекю, а сестра очень волнуется. Я надеюсь, ты не испортишь ей этот вечер. Но мы, конечно же, будем рады тебя видеть».
«Хорошо, – ответил Сэм, – только я приеду не один. Со мной будет Иоко Оно. Ты знаешь, о ком я говорю?»
О том, что случилось дальше, лучше всего поведал сам Грин:
«Ужин был чудесным, и Иоко решила, что все организовано в ее честь. Она вела себя так, будто находилась в кругу своей семьи, и говорила вещи типа: „Могу себе представить, как мы с Сэмом будем сидеть вот здесь, когда наши волосы будут совсем седыми“. Единственное, чего она не понимала, так это того, что моя сестра сидела рядом, сжимая от злости кулаки и думая про себя: „Какого хрена эта косоглазая уродина приперлась сюда, чтобы испортить самый важный момент в моей жизни!“ И знаете что? Они так и не объявили о свадьбе, больше того, они вообще не поженились! Зато у всех – у матери, у сестры и даже у отца – сложилось впечатление, что Иоко приехала, потому что собралась стать членом нашей семьи. Я постарался сохранить приличия и попросил устроить ее в комнате для гостей. Но она даже не прилегла на приготовленную для нее постель. На глазах у всех она прошла в мою спальню, которая находилась в противоположном крыле дома. Она выставляла наши отношения напоказ!»
Вернувшись из Коннектикута, любовники стали выяснять, на какую долю состояния Джона могла рассчитывать Иоко в случае развода. Проблема была непростой, учитывая тот факт, что финансы Джона тесно переплетались с делами компании «Эппл». Не так давно Джон был вынужден переделать завещание, так как выяснилось, что в случае его смерти «Эппл» может оттяпать часть будущих доходов. Кроме того, 19 июня 1980 года в Нью-Йорке вступил в силу закон о разделе совместно нажитого имущества разводящихся супругов в соотношении пятьдесят на пятьдесят.
Сэм Грин не был в восторге от перспективы женитьбы, но тем не менее был готов стать мужем Иоко и воспользоваться ее богатством.
Но одной подготовки к разводу было мало. Иоко хотела действовать так, будто Джон уже вычеркнут из ее жизни. Она приказала Лучиано перетащить вещи Джона – одежду, гитары, хай-фай аппаратуру, книги и тому подобное – в квартиру 71. Когда известие об этом дошло до Сэма Грина, он был поражен. «Ты не можешь так поступить! – воспротивился он. – Ты просто не имеешь на это права!» После жаркого спора вещи Джона были возвращены на прежние места.
Этот инцидент поднял деликатный вопрос: что будет с Джоном Ленноном после того, как Иоко с ним разведется? После стольких лет полной зависимости Джон мало чем отличался от ребенка. Бросить его было равносильно тому, чтобы бросить маленького мальчика. В сорок лет ему предстояло вновь испытать то же страдание, которое выпало на его долю в пять.
Глава 69 Добро пожаловать домой!
Йоко ожидала возвращения Джона с тревогой и была на грани истерики. Его не было почти пять месяцев, в течение которых Иоко пользовалась неограниченной свободой. Теперь же приближалась развязка.
Чтобы подготовиться к приезду мужа, Иоко воспользовалась услугами Лучиано, который помог ей сделать прическу и проконсультировал относительно макияжа и выбора наряда. А на вечер у Иоко было припасено для него еще одно важное задание. Когда Джон и Иоко сидели за столиком, накрытым для них в саду ресторана «Барбетта», из-за фонтана неожиданно выскочил Лучиано с фотоаппаратом в руках и принялся «расстреливать» их при помощи фотовспышки. После этого он выбежал на улицу и сел в поджидавшую его машину.
Смысл этой выходки дошел до Лучиано только на следующее утро, когда в колонке светской хроники он прочитал заметку о том, как некий фотограф, работающий «в стиле мафии», нарушил покой мирно ужинавших в ресторане Джона Леннона и Йоко Оно. «Это был мой первый урок, – восторгался Лучиано, – по искусству создания происшествий в личной жизни в интересах бизнеса».
Вскоре, уже в качестве личного парикмахера Йоко, Лучиано наслаждался интимными признаниями своей клиентки. Йоко жаловалась, что Джон слаб и апатичен, что рядом с ним она не чувствует себя удовлетворенной. Однажды, когда Лучиано завел разговор о том, что Сэм Хавадтой никогда не доводит до конца своих начинаний, Йоко заявила, что он должен радоваться: во-первых, тому, что у него активная половая жизнь, а во-вторых, тому, что его любовник незнаменит. Этим она хотела подчеркнуть, что ее сексуальная жизнь с Джоном давно закончилась. «Надо смотреть правде в глаза, – заметила она. – После одиннадцати лет брака пламя неизбежно угасает». Помимо этого Йоко рассказала Лучиано, что Джон не раз заводил разговор о втором ребенке. Он хотел дочку, а Йоко была категорически против. В конце концов врач-гинеколог выдал ей письменное заключение о том, что в ее возрасте медицина не рекомендует заводить детей. Но больше всего Лучиано заинтересовал тот факт, что Йоко приняла решение развестись с Джоном сразу после завершения работы над новым альбомом. Она сказала ему, что «ей было необходимо освободиться от имени Леннона».
Проведя в студии неделю, Джон почувствовал себя не в своей тарелке: записанный материал его разочаровал. Именно в этот момент Йоко подступилась к нему с требованием отдать ей пятьдесят процентов альбома. Джона прорвало. «Если ты ставишь так вопрос, – закричал он, – никакого альбома вообще не будет!» И он вышел из комнаты, прошествовал к себе и заперся на ключ. До конца недели Джон не покидал спальни, общаясь с внешним миром посредством записок, подсунутых под дверь.
Одной из характерных черт Леннона было то, что на людях он никогда не выказывал даже малейших признаков внутреннего кризиса, напротив, в такие моменты он держал себя очень уверенно. С первого же дня в студии «Хит Фэктори» он взял рычаги управления в свои руки. Продюсер Джек Дуглас был прекрасным техником и бывшим рок-музыкантом. Он работал со всеми альбомами Джона, начиная с «Imagine», сначала как помощник Роя Чикала, а затем как старший инженер звукозаписи. Однако в отличие от Чикала, который всякий раз, когда Йоко отдавала какое-либо указание, поворачивался к Джону и спрашивал: «Ты не против?», Джек был гораздо более восприимчив к требованиям Йоко. Когда в июне его впервые пригласили в Колд Спринг Харбор для обсуждения долгожданного нового альбома Джона Леннона, Йоко заявила, что хочет включить в альбом несколько своих песен, и вручила Джеку целую кипу пленок, некоторые из которых были записаны аж тринадцать лет назад. «Сколько песен ты хочешь включить?» – спросил Джек. «Столько, сколько получится», – ответила Йоко и предупредила, чтобы он ничего пока не говорил Джону, если будет звонить ему на Бермуды.
Леннон поручил Дугласу набрать совершенно новую группу, объяснив это следующим образом: «Вместе с приятелями я проводил в студии дни, недели, месяцы, даже годы. Запись служила нам всего лишь предлогом для того, чтобы заниматься бог знает чем. Иногда над одной и той же песней мы работали по восемь часов подряд, не всегда достигая нужного результата... Я был слишком близок с Джимом (Келтнером. – А. Г.) и со всеми остальными, чтобы строить из себя командира и говорить: „Нет, мне это не нравится“... Теперь я хочу прийти в студию и с самого начала быть боссом».
Именно так повел себя Леннон в первый же день, когда зашел в аппаратную, чтобы прослушать музыкантов. «Значит так, барабанщик, – обратился он к Энди Ньюману, – давай-ка послушаем твои барабаны. А все остальные заткнулись! Давай басовый барабан. Теперь рабочий...» После того как звук был отрегулирован, Джон прослушал запись и признался: «Мне это не нравится. Я хочу, чтобы ты сыграл вот так...» Не прошло и пяти минут, как Джон отработал партию ударных именно так, как он себе это представлял.
Не менее впечатляющей была скорость, с какой он работал. «Обычно он говорил, – рассказывал Ньюман. – „Вот перед вами песня. Ничего сложного. Вы все прекрасно умеете играть на своих инструментах. Забудьте о всяких завитушках и просто аккомпанируйте“. Мы знали, что через двадцать минут он начнет записывать, а через час все должно быть закончено. Это совершенно меняло прежний подход к работе, потому что мы знали, что у нас нет трех часов на раскачку... Мы работали с полной отдачей. Если приходилось исполнять одну и ту же вещь больше пяти-шести раз, он бросал ее и переходил к другой».
Пять лет, проведенных вне студии, не прошли бесследно. Леннон вовсе не был таким уверенным, каким старался выглядеть. Это стало особенно заметным, когда он попытался максимально спрятать свой голос. «Чем неувереннее я себя чувствую, – признался он Фреду, – тем больше инструментов стараюсь использовать во время записи». При записи «Double Fantasy» на звуковые дорожки пришлось накладывать так много дополнительных звуков, что в конце концов Джеку Дугласу стало не хватать места. В этот момент пришлось на пару дней приостановить работу и подождать, пока продюсер и инженер призовут на помощь всю свою изобретательность и умудрятся присоединить к двадцатичетырехдорожечному пульту еще один дополнительный двадцатичетырехдорожечный модуль.
Когда стали записывать Йоко, работа еще больше усложнилась. С самого начала Джон предупредил Дугласа о том, что альбом должен сделать Иоко звездой. От музыкантов требовалось максимально использовать все творческие ресурсы, а от инженеров – технические возможности для того, чтобы вытянуть ее песни на нужный уровень. Дуглас знал, что проблема Йоко заключалась в том, что у нее не было голоса и что пела она фальшиво. Поэтому он решил выставить уровень записи на максимум и зарезервировать для вокальной партии десять из двадцати четырех дорожек, надеясь, что она «не будет каждый раз лажать на одном и том же месте». Когда все расходились по домам, Джек оставался в студии до зари, выбирая лучшие куски из сделанных дублей и вручную, слог за слогом, собирал окончательный вариант каждой вокальной фразы.
Джеку не всегда удавалось отговорить Иоко от совершения безумных поступков. Когда она показала музыкантам «I'm Your Angel», все в один голос заявили, что это явный плагиат со старого хита Эдди Кантора «Makin' Whoppee»225. «Хорошо еще, что ты поешь ее на три четверти, – заметил Джек, – потому что если бы она была на четыре четверти, то неприятностей у тебя было бы хоть отбавляй». Когда подошло время делать запись, Иоко принялась настаивать на том, чтобы записывать песню в размере как раз четыре четверти. На все протесты Джека она заявила, что действует так по совету медиума, а кроме того, она вообще никогда не слышала этой песни Эдди Кантора. После выхода пластинки «Double Fantasy» владельцы авторских прав на «Makin' Whoppee» подали против Йоко иск на миллион долларов. Дело было закрыто только в 1984 году после выплаты суммы, размер которой не был обнародован.
Когда Иоко не была занята на записи, она продолжала работать над рекламой будущего альбома у себя в «Студия Один». «Double Fantasy» должен был стать не просто новым альбомом давно сошедших со сцены музыкантов, а крупным событием в мире музыки. Самые легендарные поп-герои новейших времен снова брали слово. Такой альбом был золотой мечтой любого пресс-агента. Вопрос заключался в том, кому поручить эту работу.
Знание Йоко техники проведения рекламных кампаний произвело впечатление на ее нового агента Чарлза Коэна. Она точно могла сказать, что ей нужно и как этого добиться. «Double Fantasy» должен был стать ее билетом не к славе – славы ей было уже не занимать, – а к почестям и уважению. Необходимо было проводить идею о том, что новый альбом – «музыкальное событие мирового масштаба» – не имеет коммерческого значения и посвящен тому, чтобы создать о Йоко Оно представление как о «настоящей артистке и хорошем человеке, который заботится о своих взаимоотношениях с сыном, Джоном и<) покое во всей вселенной».
Коэн должен был организовать утечку информации, согласно которой Йоко продала на аукционе одну из своих коров за рекордную цену в 265 тысяч долларов (в действительности корова была продана компанией «Дримстрит Холштайн», которой было поручено управление фермами, принадлежащими Леннонам). Это позволило Коэну представить Йоко как женщину, «которая любит животных и разводит их для производства молока, а не для бойни». История была немедленно подхвачена сотнями газет по всему миру.
Затем Йоко пришла идея обыграть тот факт, что Джон и Шон родились в один день. В небе над Центральным парком появился самолет, выписывающий надпись «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ДЖОН И ШОН. С ЛЮБОВЬЮ. ЙОКО». «Мы получили очень много откликов в прессе», – с восторгом вспоминал Коэн. (Джон Леннон отказался подняться на крышу Дакоты, чтобы полюбоваться самолетом, а на счете, пришедшем ему за этот аттракцион, написал: «Чтобы это было в последний раз».)
Основной задачей Коэна стала организация многочисленных интервью в газетах, на радио и телевидении. Несмотря на то, что Джон относился к этому без особого энтузиазма, поскольку основная нагрузка выпадала на его долю, Йоко знала, что стоит ему предстать перед прессой, он неизменно будет на высоте. Интервью, организованные в поддержку «Double Fantasy», оказались гораздо важнее, чем сам альбом, для развития его основной темы – взаимной игры между воображаемыми "я" Джона и Йоко. Помимо того они в очередной раз продемонстрировали неподражаемый талант Джона выдавать за чистую монету самые абсурдные идеи.
Одурачивание публики началось 9 сентября, в день, когда журналист из «Плейбоя» устроился вместе с Джоном и Иоко на кухне в квартире 72. «Джон откинулся назад, крепко обхватив пальцами чашку, – писал Дэвид Шефф. – Он сидел и смотрел на пар, поднимающийся от горячего чая». «Я пек хлеб», – внезапно выдал Леннон. «Хлеб!» – изумленно воскликнул репортер. «А еще я занимался ребенком», – невозмутимо продолжил Джон, и начал рассказывать о жизни «домохозяина», пуская в ход все свое воображение, доходя порой до смешного, но чаще иронизируя над самим собой. Он заявил, к примеру, что каждый вечер, когда Йоко возвращается с «работы», он встречает ее у порога вопросом: «Ну что, сильно устала? Хочешь, я приготовлю тебе коктейль?» Было очевидным, что Леннон забавляется, но Джон всегда считал, что чем больше ложь, тем легче заставить читателя ее проглотить.
Каждый раз, когда Джон останавливался, чтобы перевести дыхание, эстафету подхватывала Йоко. Если Джон изображал карикатуру на самого себя в роли горничной, поглощенной ежедневной рутиной, то Иоко выстраивала образ «самого крутого из крутых». Она рассказывала, что почувствовала себя личностью только после того, как взвалила на свои плечи чисто мужскую заботу о семейном бизнесе, но эта деятельность сильно осложнялась тем, что ей постоянно приходилось сталкиваться с мужским шовинизмом. Они с Джоном подвергли жестокой критике бизнесменов и адвокатов, участвующих в совещаниях в «Эппл», назвав их «толстыми и жирными, насквозь пропитанными водкой, орущими мужланами, похожими на натасканных псов, готовых к атаке».
Но когда Шефф уточнил, не осуществляет ли, следовательно, Иоко контроль за действиями Джона, это привело его в бешенство. «Если ты считаешь, – рявкнул он, – что меня как собаку водят на поводке только потому, что я делаю некоторые вещи вместе с ней, то пошел ты куда подальше!»
Но монолог Леннона продолжался в течение последующих девятнадцати дней, превращаясь в книгу из 193 страниц. И получалось, что несмотря на десять лет, прошедших с тех пор, как Джон в последний раз открывал душу на обозрение широкой публики, за все эти годы с ним ровным счетом ничего не произошло. В своих рассказах Джон по большей части возвращался к эпизодам из далекого прошлого, неоднократно пересказанным в прессе. Так или иначе, давая интервью, он вовсе не ставил целью рассказать о себе что-нибудь новое; все усилия были посвящены рекламе Йоко. «Она – учительница, а я – ученик, – неоднократно повторял Джон. – Она научила меня всему, что я умею... она была здесь... когда я был Человеком Ниоткуда»226.
В то же самое время, когда Йоко всячески развивала идею о том, что деньги совершенно перестали волновать и ее, и Джона, она продолжала бороться с фирмой, производящей грампластинки, за новый контракт, который должен был принести миллионы долларов. Когда Брюс Лундволл, президент «Коламбия рекордз», позвонил как-то раз на студию, Джон заметил: «Я не соглашусь получать ни пенни меньше, чем получил Пол – или этот, сукин сын (Мик Джаггер. – А. Г.)».
Иоко энергично поддержала Джона, воскликнув: «Я уничтожу Пола! Я получу больше, чем он». (По сообщениям, появившимся в прессе, Пол получил 22,5 миллиона долларов.) Когда Иоко объяснила Лундволлу, что половина песен на альбоме будут Джона, а половина – ее, тот ответил, что такую сумму они не заработают. Он был готов выплатить Леннону большой аванс, но при условии, что это будет альбом Леннона, а не попурри Джона и Иоко.
Проходили недели, а контракт все еще не был подписан. «Мы уже почти закончили запись, но все еще не знаем, кто будет выпускать нашу пластинку», – жаловался Джон Джеку Дугласу. Джек посоветовал Йоко поговорить со своим менеджером Стэном Винсентом, который бесплатно разработал для них схему, при которой они получали от пяти до семи миллионов долларов только при подписании контракта, но Йоко с Винсентом поругалась, и проект рухнул. Несколько дней спустя, когда Ахмед Эртеган, знаменитый патрон компании «Атлантик/Уорнер», лично поднялся на шестой этаж «Хит Фэктори», Иоко обвинила его в том, что он явился без предупреждения, и проводила до лифта. Казалось, она намеренно не хочет договариваться с крупными фирмами. Наконец, вечером 19 сентября в студии появился Дэвид Геффен.
В течение нескольких лет Геффен не занимался производством пластинок. Теперь же он основал собственную компанию, которая пока имела контракт только с одной певицей – Донной Саммер. Он предложил Леннону более чем скромный аванс в один миллион долларов и выторговал себе 50 процентов доходов от издания новых песен Леннона. В результате этой сделки Геффен прекрасно заработал на «Double Fantasy». Почему Йоко согласилась на эти условия, в то время как предложения крупных компаний были гораздо выгоднее? По словам самого Геффена, когда Йоко рассказала ему о том, как «Коламбии» не понравилась идея поделить альбом пополам между ней и Джоном, Геффен улыбнулся и ответил: «А я иного не мог и предположить».
Если на первом месте у Йоко всегда стояла реклама, то на последнем – вопросы безопасности. Однако еще в феврале 1980 года она взяла к себе на службу бывшего сотрудника ФБР по имени Дуглас Макдугалл, который консультировал ее по вопросам охраны Шона и обеспечения безопасности покупаемых ею домов. Макдугалл довольно часто появлялся с докладами в Дакоте, и ему бросился в глаза тот факт, что основная резиденция его клиентов практически не охранялась. Когда портье звонил снизу и сообщал, что к ним направляется посыльный, Йоко обычно сама открывала дверь, и были случаи, когда в квартиру проникали поклонники Джона, двое из которых добрались однажды до его спальни. Начав грандиозную рекламную кампанию в прессе, Ленноны подвергали себя дополнительному риску.
Однажды Макдугалл прочитал в «Дэйли ньюс» интервью с Йоко, в котором она сообщала название студии, где они работали, а также приблизительное время, когда выходили из дома и возвращались. Он немедленно схватил телефонную трубку. «Послушай, Йоко, – начал он, – мне в общем-то все равно, если ты хочешь, чтобы тебя убили, но я не хочу, чтобм тебя убивали. Кроме того, если тебя убьют, пострадает моя репутация. Потому что все знают, что если я и не обеспечиваю непосредственно твою безопасность, то все же имею к ней какое-то отношение. Поэтому я увольняюсь».
«Я знаю, что ты прав, – ответила Йоко, – но мне надо продавать пластинки!»
25 сентября Макдугалла пригласили в «Студию Один», чтобы выслушать его предложения по обеспечению безопасности Леннонов. Речь шла о вооруженном телохранителе, который сопровождал бы их во всех поездках. Йоко пообещала поговорить с Джоном. При следующей встрече она сообщила Макдугаллу, что Джон не принял его предложения. По словам Джона Грина, они с Йоко не желали, чтобы какой-нибудь, хотя бы даже и бывший, полицейский видел, как они принимают наркотики. Но Макдугалл не сдавался. Если они не хотят ездить с телохранителем, почему бы им не нанять пару вооруженных охранников, один из которых стоял бы перед входом в Дакоту, а другой – у дверей студии? Но и это предложение Йоко категорически отвергла.
В тот вечер Джон Леннон разговаривал по телефону с Джесси Эдом Дэвисом. «Я только что уволил своего телохранителя», – сообщил Леннон. «Почему?»
«Я думаю, – ответил Джон, – если меня захотят убрать, то все равно уберут. Только сначала убьют телохранителя».
Глава 70 Обрубая концы
Сразу после того как начался процесс звукозаписи, Йоко стала эмоционально отдаляться от Сэма Грина. Вместо того чтобы продолжать относиться к нему как к менеджеру, продюсеру, принцу-консорту, она стала обращаться с ним как с лакеем. Для того чтобы создать какое-то подобие комфорта на то продолжительное время, что она проводила в студии, Йоко потребовала, чтобы ей для личных целей выделили отдельную комнату. Сэму было поручено за один вечер доставить сюда все необходимое: пианино, диван, картины и так далее. Кроме того, Йоко взяла в привычку назначать Сэму свидания в номерах отеля, расположенного по соседству со студией, и предупреждать его об этом в самый последний момент. Она обычно говорила Джону, что отправляется на обед в «Плазу» с представителями «Эппл», а сама мчалась к югу от Центрального парка – в «Парк Лэйн» или «Эссекс Хаус». Здесь она встречалась со своим любовником, а затем убегала на студию.
Сэм возвращался домой полный отвращения к самому себе. «Я понимал, что она использует меня как жиголо, – признавался он. – И в качестве приманки она размахивала у меня перед носом деньгами, потому что совершенно не испытывала ко мне никакой любви. Все ее чувства испарились». Но Сэм Грин нуждался в деньгах Йоко, так как тратил их на отделку своей роскошной квартиры. Так что волей-неволей ему приходилось мириться с требованиями хозяйки.
Джон Леннон любил работать быстро, но в августе 1980 года он побил все рекорды. В течение двух недель практически круглосуточной работы он записал двадцать два трека – такого количества материала хватило бы почти на два альбома. Джек Дуглас не уставал генерировать хорошие идеи, большая часть которых была загублена на корню усилиями Иоко. Так, например, Джек захотел слетать на недельку с Джоном в Японию, чтобы поработать с гением-синтезаторщиком, который записал альбом, восхитивший Леннона, – «Sonic Seasonings» («Звуковая приправа»). Но Йоко наложила вето на этот план, боясь, что японский музыкант попытается примазаться к их проекту. А однажды Джек привел в студию двух основных музыкантов из очень популярной группы, работавшей в стиле «Битлз», – «Чип Трик». Гитарист Рик Нильсен и барабанщик Бан И. Карлос устроили потрясающий джем с Тони Левином на басу и Джорджем Смоллом на клавишных и раскрыли такие потенциальные возможности последней по-настоящему сильной вещи Леннона «I'm Losing You», что это выходило за границы того, что мог вообразить даже сам автор. Но когда на следующий день музыканты вернулись в студию, Иоко не пустила их на порог, заявив, что они эксплуатировали ее мужа. Правда, студийные музыканты в конце концов записали этот трек.
Примерно к середине работы Йоко стала замечать, что Джон находит с партнерами общий язык. Несмотря на то, что она твердо стояла на страже, сон иногда брал верх, и она укладывалась на диване, положив голову на белую атласную подушку и укрывшись белым стеганым атласным одеялом. (Джон сфотографировал ее в таком виде и прикрепил фотографию к микшерскому пульту как символ вклада Йоко в этот альбом.) Стоило кошке закрыть глаза, как мышка начинала резвиться. Джон доставал из тайника бутылку «Джек Дэниеле». После пары хороших глотков он отправлялся в аппаратную и закусывал куском пиццы или большим гамбургером. Иногда Иоко уходила домой, и тогда Джон посылал кого-нибудь за кокаином, и вся компания расслаблялась.
Большая часть работы над «Double Fantasy» была закончена к 13 октября – на этот день был назначен торжественный прием по случаю дня рождения Джона и Шона, а кроме того, на следующий день выходил первый сингл с этого альбома – «Starting Over». В то утро Джек выкатил на середину студии столик, на котором стопками лежало более двухсот кассет с записями каждого слова, произнесенного Ленноном, начиная со второго дня работы. Джонсам попросил сделать так, чтобы в студии постоянно работал записывающий магнитофон, но когда в конце первого сеанса записи он откинулся на спинку кресла в аппаратной и выдал двухчасовой монолог из истории Джона Леннона – музыканта, Джек решил установить еще четыре микрофона с этой стороны стеклянной перегородки, чтобы не упустить ни крупицы бесценных воспоминаний. Его прозорливость была вознаграждена: после стольких лет, проведенных в молчании и одиночестве, Леннон говорил не переставая, словно пересматривал всю свою жизнь. Это была импровизированная автобиография, дополненная дневником, который по разрешению Джона с начала весны вел Фред Симан. Джек Дуглас вообще считал, что дневник был основной обязанностью Фреда. Глубоко убежденный в том, что конец его жизни не за горами, Джон словно решил предпринять последнее усилие и раз и навсегда обозначить вехи собственной биографии.
Запись пластинки пошла ему на пользу гораздо больше, чем любой курс лечения. Чем дальше продвигалась работа, тем больше он набирался сил. Если в начале работы в студии его излюбленной фразой был вопрос «Кто-нибудь видел мою жену?», то по прошествии времени он вновь начал обращать внимание на других женщин. «Как ты думаешь, женщины все еще находят меня привлекательным?»– мог он спросить у подружки Дугласа Кристин Дезотель. Особенно нравилась ему шведская киноактриса Мод Адаме. Кристин, которая знала, что Адаме дружна с экс-невестой Ринго Старра Нэнси Эндрюс, позвонила ей и узнала, что у Мод в это время не было бойфренда. «Можешь ей передать, – сообщила Кристин, – что с ней хочет познакомиться Джон Леннон». И вскоре Мод Адаме уже летела в Нью-Йорк – однако она опоздала.
Как только запись «Double Fantasy» была завершена, Йоко провела серию внезапных атак на своих ближайших партнеров. Первой жертвой стал Сэм Грин. 23 октября ему предстояло погасить банковский кредит в размере 100 тысяч долларов. Йоко обещала, что уплатит за него. «Это будет подарок, – сказала она, – и Джон ничего не должен об этом знать». Но теперь все вдруг переменилось. Утром 3 октября у Сэма появился адвокат Иоко Дэвид Уормфлэш и стал засыпать его вопросами о кредите и о его – Сэма – финансовом положении. За день до истечения срока Сэм позвонил Иоко и напомнил ей о данном обещании. Йоко подтвердила, что заплатит, но потребовала, чтобы Сэм сначала съездил к Есикаве.
Есикава произвел необходимые расчеты, позвонил Йоко и в течение двадцати минут говорил с ней по-японски. Затем протянул трубку Сэму.
«Твоя квартира плохо расположена, – начала Йоко. – Предсказатель считает, что тебе надо жить дальше к востоку. Подбери себе другую квартиру в районе 50-х улиц, поближе к реке, и я за нее заплачу. А пока забрось-ка ключи от своей квартиры в Дакоту». Потом она велела Сэму уволить своего ассистента Барта Горинга и ежедневно приходить в «Студию Один», где отныне он будет работать у нее в секретариате. Короче, она отобрала у него все, что он имел, и понизила до уровня мелкого служащего.
Когда Сэм услышал этот приговор, он не мог поверить своим ушам. «Что это взбрело тебе в голову? – взорвался он. – И ты полагаешь, что я это сделаю?!» «Я тебя уничтожу», – презрительно бросила Йоко. «Да неужели! Это мы еще посмотрим!» – рявкнул в ответ Сэм и бросил трубку.
На следующий день, когда Барт Горинг пришел на работу, Сэм пригласил его позавтракать – поступок был сам по себе беспрецедентным. «Мы не знакомы с женщиной по имени Иоко», – отчеканил Сэм, когда они устроились за столиком в местной забегаловке. Барт не мог поверить, что столь продолжительные и интенсивные отношения могут закончиться после одного телефонного разговора. Сэм мрачно заверил Барта, что все кончено. И оказался чертовски прав. Сэм Грин и Иоко Оно больше ни разу не сказали друг другу ни слова.
В чем же была причина этого разрыва? Йоко давно догадывалась о том, что Сэм вместе с Джоном Грином обманывали ее. Барт Горинг был уверен, что она докопалась до истины. Лучиано приписывал падение Сэма Грина проискам Сэма Хавадтоя, показавшего Йоко каталог, где доколумбовский кубок, который Сэм продал Йоко за 30 тысяч долларов, оценивался всего в 8 тысяч.
Самым простым было объяснение самого Сэма: «Она просто захотела избавиться от свидетеля».
Вторым основным свидетелем частной жизни Йоко был Джон Грин. С ним она избрала тактику замораживания отношений. В августе она перестала отвечать на его телефонные звонки. В течение двух последующих месяцев она постоянно отказывалась от регулярных – в течение уже нескольких лет – встреч в Дакоте по пятницам. Сначала Грин не придал этому значения, такое случалось с Иоко и прежде. Но к октябрю он почувствовал, что между ним и Иоко случилось что-то очень серьезное.
Йоко дала о себе знать только в январе 1981 года. Грину позвонил Ричи Депалма и сообщил, что через сорок пять минут приедут грузчики – надо было освобождать дом, в котором он жил. А в следующую пятницу Грину была назначена встреча, во время которой Йоко объявила ему, что он уволен. Грин потребовал денег, но Иоко ответила отказом, заметив, что уже давно не пользовалась его услугами. Грин получал деньги поквартально (его зарплата составляла две с половиной тысячи долларов в неделю), и прежде между ними было оговорено, что гонорар будет выплачиваться независимо от того, пользовались его услугами или нет. После этого Йоко послала на Брум-стрит человека с заданием выселить Грина и запереть дом, но тот по ошибке запер Грина внутри. Грин подал на Иоко в суд и получил 70 тысяч долларов компенсации.
Но больше всего Иоко хотелось поставить на место своего мужа. Сочетание постоянно возраставшей уверенности в себе и постоянно увеличивавшегося количества потребляемой пищи, выпивки и наркотиков делало его неуправляемым. Марии Хеа вспоминает об истерике, которую закатила Йоко, когда однажды они сидели вдвоем в «Студии Один» и лакомились шоколадом: «Она осыпала его бранью. Кричала, что сотворит с ним что-то ужасное. Покажет, кто в доме хозяин. Их любовь вылилась в такую ненависть! Ни для кого не было секретом, что рано или поздно их ожидал развод».
День или два спустя после дня рождения Джона Иоко сообщила Джеку Дугласу, что Джон отправляется в Палм-Бич и пробудет там по меньшей мере ближайшие полгода. На самом деле Иоко решила отправить его на Бермуды. Она вручила Фреду Симану 5 тысяч долларов наличными, наказав арендовать ту же виллу и оборудовать ее телевизорами в каждой комнате, как это любил Джон. В течение всей второй половины октября Фред получал из Дакоты инструкции, при этом каждый звонок заканчивался заверениями в том, что «Джон и Йоко приедут на остров буквально через пару дней». Они так и не приехали. В конце концов Фреду приказали запереть дом и возвращаться в Нью-Йорк: Дома он оказался как раз в День Всех Святых.
Глава 71 Убийца-неумеха
В середине октября 1980 года Марк Дэвид Чепмэн, толстый очкастый молодой человек с детским лицом, работавший охранником в летнем кондоминиуме на Вайкики-Бич, прочел в журнале «Эсквайр» статью, озаглавленную «Джон Леннон. Где ты?». Подзаголовок гласил: «В поисках Битла, который провел два десятилетия, желая найти Любовь и Просветление, а нашел лишь коров, круглосуточное телевидение и недвижимость в Палм-Бич». Журналист-иконоборец Лоренс Шеймс, получивший невыполнимое задание вытащить на свет Божий самого великого отшельника со времен Греты Гарбо, не смог пробиться сквозь «линию Мажино», воздвигнутую Леннонами. Не имея возможности писать о человеке, с которым ни разу не встречался, Шеймс повел речь об имуществе Джона: о его акциях, фермах, коровах, роскошных имениях. Тот, кого миллионы людей считали «совестью поколения», на самом деле был «сорокалетним бизнесменом, владельцем состояния в 150 миллионов долларов... хороших адвокатов, помогающих спрятать деньги от налогов... короче, парнем, который перестал делать ошибки и сочинять музыку».
Шеймс описывал скорее Йоко Оно, нежели Джона Леннона. Но, оставаясь в тени собственной жены, Джон сам провоцировал такого рода нападки. И ему предстояло заплатить за эту путаницу, поскольку Марк Дэвид Чепмэн подыскивал для себя «знаменитую жертву». И теперь, прочитав статью в «Эсквайре», он знал, кого убить.
Будучи классическим примером «убийцы-неумехи», жалкой личностью, готовой заплатить любую цену, лишь бы добиться славы, Чепмэн, едва его поместили в камеру для убийц тюрьмы Аттика, начал вести переговоры об издании книг, съемках фильмов, написании статей. Он хотел, чтобы на экране его образ воплощал Тимоти Хаттон, а его издателем был Руперт Мердок.
Чепмэну легко удавалось скрывать свою подлинную сущность. И хотя стандартные психологические тесты выявили у него наличие высокого уровня агрессивности, никто, вплоть до убийства Джона Леннона, не заподозрил ни малейших признаков бешенства, разъедавшего его изнутри с раннего детства.
«Марк никогда не знал, что такое ненависть, – вспоминает один из его прежних начальников из летнего молодежного лагеря. – Марк был истовым христианином, который отказался от прежней жизни среди хиппи (сопровождавшейся приемом амфетаминов, барбитуратов, марихуаны и ЛСД) в возрасте .семнадцати лет, когда перед ним предстал сам Иисус, который вошел в комнату, где сидел Марк, и встал на его левое колено. В одночасье Марк превратился в образцового молодого христианина, который стал одеваться в черные брюки, белые рубашки и галстук, носить короткую аккуратную прическу и большой деревянный крест на шее». В течение целого года он не выпускал из рук Библию и старался обратить каждого встречного в свою веру. Вскоре он начал мечтать о том, чтобы отправиться в дальние края в качестве миссионера. Он даже поехал с группой других молодых людей в Бейрут, но был вынужден срочно вернуться, когда там началась война. Неудивительно, как были огорошены друзья Чепмэна, его коллеги и родные, получив сообщение о совершенном им преступлении. Как мог он пойти на такой тяжкий грех, каким является убийство?
Чепмэна обследовали девять психиатров и психологов. По общему заключению, он был подвержен патологическому комплексу нарциссизма, характеризующемуся «чрезмерным чувством собственной значимости, фантазиями успеха, власти и идеальной любви, безразличием к чувствам окружающих, потребностью в постоянном внимании и восхищении, чувствами злобы, стыда, унижения и неполноценности, постоянным требованием особого к себе отношения», а также «тенденцией к суицидальным жестам, имеющим целью манипулирование окружающими».
Если на первый взгляд убийство было совершено ради того, чтобы мгновенно прославиться, то изучение личности Чепмэна выявило гораздо более глубокие причины совершенного преступления. С тех самых пор, как в восемнадцать лет он прочитал роман Джерома Дэйвида Сэлинджера «Над пропастью во ржи», Марк Чепмэн отождествлял себя с главным героем этого произведения Холденом Кофилдом. Сразу после того, как Чепмэн застрелил Леннона, он опустил пистолет и вытащил эту книгу. Стоя спокойно у ворот Дакоты и глядя в книгу, Чепмэн был похож на молодого миссионера, погруженного в чтение Библии в ожидании принятия священных мук в котле у каннибалов. Холден и Марк имели один и тот же критический полюс любви (к детям и к самому понятию детства) и ненависти (направленной против всего мира взрослых, особенно против больших «шишек», вылезающих на авансцену, которых Марк считал не больше чем лицемерами). Именно выполняя «задачу первостепенной важности», Чепмэн, считавший себя,"Холденом Кофилдом своего поколения", принял решение убить Джона Леннона – символа всех «лицемеров» современного мира.
Марку Дэвиду Чепмэну было присуще манихейское видение вселенной – он представлял ее как поле боя между силами света и тьмы. Но у него это видение принимало ужасающие размеры: он ощущал, что его мозг работает как радиоприемник, по которому постоянно слышатся голоса Бога и дьявола, отдающие ему указания. Именно эти голоса сначала подтолкнули его на убийство, а затем на то, чтобы в суде признать себя виновным. Тем же путем Чепмэн узнал, что ему было не справиться со своей миссией в одиночку, поэтому накануне убийства он вознес молитву сатане, который направил его руку и придал ему силы убить антихриста.
Жизнь Чепмэна можно разделить на две части – до и после нервного срыва, который случился с ним в возрасте двадцати одного года. Молодому человеку светило блестящее будущее, руководители YMCA227 не чаяли в нем души, у него была подружка – очаровательная девушка по имени Джессика Блэкеншип. Вместе с Джессикой он отправился в Конвент Колледж, штат Теннесси, с целью пройти специальную подготовку, чтобы занять постоянную должность в YMCA, что позволило бы ему работать за рубежом. Но Чепмэн не смог осилить учебу. После первого же семестра он бросил колледж, обозвав его гнездом лицемеров, а вместе с ним и свою подружку.
Не найдя понимания в собственной семье, он сблизился с одним приятелем по имени Дэйна Ривз, который поступил на службу в полицию и посоветовал Марку устроиться на работу сотрудником службы безопасности, для чего требовалось пройти лишь краткий курс обучения и несколько тренировок по стрельбе из пистолета. Но ограничиться ношением пистолета было недостаточно для человека, который мнил себя защитником всех детей на Земле, поэтому Чепмэн решил предпринять еще одну – последнюю – попытку и вернулся в колледж. Однако его снова ждала неудача. И на этот раз он был настолько унижен, что находил утешение лишь в мыслях о самоубийстве. Но перед смертью он захотел осуществить свою давнюю мечту – съездить на Гавайские острова.
Через полгода, проведенных на Гавайях, в июне 1977-го, Чепмэн прикрутил шланг к выхлопной трубе автомобиля и попытался покончить с собой. Пройдя курс лечения в больнице, он пристроился на работу в ее хозяйственном управлении, а также подрядился на добровольных началах помогать в отделении психиатрии. Затем он внезапно решил совершить кругосветное путешествие.
Заручившись поддержкой японской девушки Глории Абе, работавшей в туристическом агентстве, Марк потратил четыре месяца на подготовку своего вояжа. 6 июля 1978 года он вылетел в западном направлении с первой остановкой в Токио. Когда он вернулся 20 августа – примерно за месяц до прибытия Леннона в Гонолулу, – все, кто знал его, были поражены произошедшей с ним переменой: молодой человек был полон энергии, раскрепощен и планировал сделать карьеру в социальной сфере. Женившись на Глории Абе в июне 1979 года, Чепмэн начал проявлять совершенно новые черты характера: обычный мелкий служащий превратился в неуживчивого и воинственного тирана, часто огорчавшего жену абсурдными требованиями и запретами, не прекращая в то же время легко тратить ее деньги на свое новое увлечение – коллекцию предметов искусства.
В декабре, не получив ожидаемого повышения, он покинул больницу и вернулся к работе охранником. Этот явный шаг назад сопровождался всплеском несвойственного ему поведения. «Отвратительный, холодный, уродливый человек», – так описал Чепмэна один из тех, кто общался в ним в этот период. Служащий сайентологической церкви, находившейся через дорогу от кондоминиума, в котором работал Чепмэн, охарактеризовал молодого охранника как «классический случай скрытой враждебности. Он прохаживался взад и вперед перед нашим зданием, подбивая ногой камни и бормоча угрозы. В течение трех месяцев мы ежедневно получали до сорока телефонных звонков с угрозами в наш адрес. „Бах! Бах! Ты убит!“ – нашептывал чей-то голос. Позднее Чепмэн признался, что звонил именно он».
17 октября 1980 года, прочитав статью в «Эсквайр», посвященную Леннону, Чепмэн взял в библиотеке книгу Энтони Фосетта «Джон Леннон: день за днем». Начав читать, он разозлился: Джон Леннон оказался лицемером, который призывал к миру и любви, а сам жил как миллионер. Марк стал записывать на магнитофон пластинки «Битлз», а затем искажать их звучание, изменяя скорость прослушивания. Когда он ставил эти пленки Глории, ей казалось, что голоса звучали так, словно это пели эльфы. Больше всего Марк любил слушать такую музыку в темной комнате, сидя в позе лотоса и напевая: «Джон Леннон, я убью тебя, ты – грязный лицемер!»
23 октября, уходя с работы, Чемпэн в последний раз расписался в журнале. Вместо своего имени он нацарапал «Джон Леннон», а затем перечеркнул это имя несколькими короткими штрихами. А еще раньше, в августе, он написал письмо приятелю в Италию, указав в качестве обратного адреса Дакоту. В письме говорилось, что Чепмэн собирается в Нью-Йорк по одному делу. Поэтому есть вероятность, что замысел убить Леннона появился у Чепмэна еще до того, как он прочел статью в «Эсквайре».
Через четыре дня после того, как Марк уволился с работы, он отправился в оружейный магазин, расположенный в нижней части Гонолулу, и купил короткоствольный пятизарядный револьвер марки «чартер армз» 38-го калибра, которым часто пользовались детективы, поскольку его легко спрятать. Когда ему позвонили из агентства по трудоустройству и поинтересовались, не желает ли он устроиться на новую работу, Чепмэн ответил: «Нет, у меня уже есть работа, которую надо сделать».
27 октября он купил билет до Ньюарка, в одну сторону. 29-го попрощался с Глорией, сказав ей: «Я еду в Нью-Йорк, чтобы все изменить».
Вскоре выяснилось, что Чепмэн не мог купить патронов без разрешения на ношение оружия, которое в Нью-Йорке очень непросто получить. Тогда он вылетел в Атланту и снова разыскал своего старого приятеля Дэйна Ривса, который уже работал заместителем шерифа в маленьком городке Декатур. Страж порядка помог Марку получить именно то, что он хотел: пять разрывных пуль.
9 ноября Чепмэн вернулся в Нью-Йорк, будучи полностью готовым к боевым действиям. Но в этот момент ангелы Господни внезапно вновь обрели голос и загнали чертей обратно в ад. II ноября Марк позвонил Глории и сказал ей, что поездка в Нью-Йорк была ошибкой. Тогда же он впервые признался, что намеревался убить Джона Леннона, добавив, что только любовь к жене остановила его. «Я одержал великую победу, – заявил он. – Я возвращаюсь домой».
10 ноября Джон Леннон позвонил Джеку Дугласу. Продюсер, не имевший от него известий в течение трех недель, был приятно удивлен. Оказалось, что Джон не только не уехал в Палм-Бич, но что он сгорает от нетерпения снова вернуться в студию. «У нас гора работы! – воскликнул он. – Я только начал разгоняться, и теперь меня не остановить!»
Дуглас уже подписался на другую работу, но, передвинув расписание, освободил для Леннона время с часу до семи.
Больше всего Дугласа радовало, что Джон вновь становился самим собой. «Джон был полностью доволен своим моральным и физическим состоянием, – в этом Дуглас был категоричен. – Казалось, он начинал все сначала. Вероятно, это было связано с его сорокалетием. Он сказал мне: „Я счастлив, что мне исполнилось сорок. Я чувствую себя в лучшей форме, чем когда-либо за всю мою жизнь“. Он очень стремился к независимости и искал выхода из этой ситуации (своего брака. -А. Г.)».
Еще одним верным признаком выздоровления был неиссякаемый поток новых проектов, возникавших в голове у Джона. Сразу после Нового года он собирался вылететь вместе с Джеком на Западное побережье, чтобы поработать над записью альбома Ринго. Он отобрал для старого приятеля три песни из тех, что написал на Бермудах, пометив на пленке с «Nobody Told Me There 'd Be Days Like This» («Никто не говорил мне, что будут такие дни»). «Эта песня для Ричарда Старки, игравшего раньше в группе „Битлз“». (Позже Иоко выпустила эту вещь на первом сингле своего альбома «Milk and Honey».) Джон собирался также создать коммерческую студию звукозаписи на Риверсайд Драйв, в доме, где музыканты могли бы жить и одновременно работать. «Ты только представь себе, – говорил Джон, – сколько музыкантов захотят работать в этой студии, если на ней будет стоять мое имя! Единственное, что нам надо будет сделать, это оборудовать отдельную комнату, которая в любой момент была бы в нашем распоряжении». А еще он собирался записать свои старые хиты, начиная с «Help!» и заканчивая «I Am the Walrus», не забывая о «Strawberry Fields». Джон был уверен, что эти вещи можно усовершенствовать как композиционно, так и акустически. Он ругал старые аранжировки, особенно знаменитый монтаж Джорджа Мартина, который назвал «глупой ошибкой».
Как-то днем, когда Джон и Джек застряли в пробке на 57-й стрит, Джон прямо в машине сочинил песню «Street of Dream» («Улица мечты» (англ.).) (которая впоследствии пропала), придумав припев и добавив музыкальную фразу, которая сидела у него в голове еще со времен «Битлз». В течение долгих лет Джон искал, куда бы ее пристроить. Как только они добрались до студии, Леннон сел за пианино и крикнул: «Слушай!» И он забренчал по клавишам, напевая песню на свой «Сони Уокман», который теперь повсюду таскал с собой вместо записной книжки. Закончив, он вытащил кассету из аппарата и спрятал в карман со словами: «Это для моего альбома!»
Пластинка, которую он имел в виду, должна была выйти следом за «Double Fantasy». В течение последних недель своей жизни, когда они оставались с Джеком вдвоем после работы, Джон частенько говорил: «Вот мы возьмем – ты, я и Ли (Декарло, ассистент Дугласа. – А. Г.)– запремся в студии и запишем настоящий альбом Джона Леннона, который не будет дерьмом. Всем женщинам вход будет запрещен – даже Крис! (подруге Джека. – А. Г.)»
Когда «Starting Over», первый сингл с «Double Fantasy», оказался в середине октября на прилавках магазинов, он быстро добрался до самого верха хит-парадов. Не будучи шедевром, песня волновала уже тем, что была новой записью Джона Леннона. Но когда в середине ноября вышел сам альбом, реакция на него была совершенно иная. Несмотря на усиленную раскрутку по радио, его популярность была не слишком высокой. При жизни Леннона он ни разу не поднялся выше одиннадцатого места. Джон был сильно разочарован невысоким объемом продаж и критикой в прессе, особенно британской – по этой стране уже триумфально катилась волна панк-музыки. Ошеломляющее впечатление произвел на Джона и альбом Брюса Спрингстина «The River» (в особенности композиция «Hungry Heart»), который заставил его пожалеть о том, что он не включил в свою пластинку некоторые из более тяжелых песен, таких, как «Serve Yourself!».
Тогда же Джон снова начал злоупотреблять кокаином. Многие из тех, кто общался с ним в последние дни, обратили внимание на его болезненный вид – синяки под глазами и вытянувшееся исхудавшее лицо. Он прожег себе носовую перегородку и вынужден был согласиться на операцию, которую ему сделать уже не успели.
Настроение Джона усугублялось еще и тем, что Иоко стала требовать, чтобы к Рождеству он помог ей выпустить сольный сингл. В один из дней, когда сражение за этот диск достигло высшей точки, в кабинет вошел Фред Симан и услышал, как Джон заявил ей буквально следующее: «Когда я хотел записать сольный альбом, ты была против, потому что, по-твоему, речь должна всегда была идти только о „Джоне и Иоко“! Теперь ты хочешь отправиться в одиночное плавание. Если ты выпустишь сольный диск, после этого настанет моя очередь!»
У Иоко уже был готов ответ на этот детский аргумент. «О'кей, – сказала она, – своим ты займешься потом. А пока я хочу выпустить эту пластинку». Так появилась на свет пластинка «Walking on Thin Ice», шестиминутная диско-микс-композиция, записанная ранее, но отложенная до лучших времен. Последние две недели своей жизни Джон Леннон посвятил тому, чтобы превратить этот трек в один из лучших хитов Иоко.
26 ноября Иоко приготовила Джону сюрприз: она объявила ему, что им предстоит сняться на видео для «Double Fantasy». (Вообще-то работа шла уже на протяжении трех последних недель, но Иоко настаивала на том, чтобы Джона до поры держали в неведении.) Фильм начинался с прогулки семейной пары по Центральному парку. Затем действие перемещалось в галерею Спероне, располагавшуюся в доме 142 по Грин-стрит в Сохо, куда Фред Симан добрался к шести вечера, к началу съемок. Когда британский фотограф Итан Расселл, руководивший съемкой, подал сигнал, Джон и Иоко, одетые в японские кимоно, он – в черное, она – в бледно-голубое, приблизились к установленной на подиуме кровати и стали обходить вокруг нее. Внезапно Иоко сбросила кимоно и осталась перед камерами обнаженной. Джон в изумлении уставился на нее. «О, сиськи!» – насмешливо бросил он, ткнув пальцев в сторону ее больших отвислых грудей.
«Ну давай же, дорогой, ты тоже!» – нетерпеливо позвала Иоко. Джон, неловко и нехотя освободился от своей одежды. Сцена раздевания была повторена четыре раза, прежде чем Расселл удовлетворенно кивнул. После этого подошло время снимать сцену, в которой Джон и Иоко занимались любовью.
Джон угрюмо улегся на кровать, обняв Иоко, лежавшую на боку. Расселлу это не понравилось, и он заставил Джона лечь сверху – такое положение ему пришлось сохранять в течение получаса, пока режиссер советовался с Иоко относительно выбора угла съемки. А тем временем еще один фотограф, Аллен Танненбаум, кружил вокруг, без устали щелкая затвором своего фотоаппарата. Из транзисторного радиоприемника, стоявшего возле кровати, помимо других песен, раздавались до боли знакомые «Woman»229 и «Starting Over».
После ужина – в девять часов вечера – из громкоговорителей полились громкие звуки «Kiss, Kiss, Kiss», под которые Джон в течение получаса изображал половой акт с Йоко. Во время перерывов Джерри Гэрон, слуга Сэма Хавадтоя, подносил к лицу Йоко зеркало, а Тоси вытирал у нее со лба пот, используя для этого смоченные в ледяной воде салфетки. Еще один член съемочной группы стоял неподалеку и держал в руках сосуд с курящимися благовониями. Наконец пришло время, когда оставалось отснять лишь несколько крупных планов Йоко, имитировавшей оргазм, синхронизируя губами слова из песни, завершавшиеся эротическим криком на японском языке: «Моте! Моте! Моте! (Еще! Еще! Еще! – А. Г.)».
Глава 72 Ты убит!
Вернувшись на Гавайи, Марк Чепмэн показал Глории револьвер и даже настоял на том, чтобы она взвела курок. Тем самым он хотел показать ей, что вполне мог лишить Джона Леннона жизни. Он настаивал на том, что вся эта история была дурным сном и что он никогда не решился бы на убийство, даже если бы ему представилась такая возможность. Три последующие недели он провел перед экраном телевизора. За это время у него было два видения, которые он принял за божественные послания. Проходя мимо таблички с Десятью заповедями, висевшей у него на стене, он неожиданно увидел словно бросившуюся ему в глаза заповедь: «Не убий!» А в другой раз, когда он смотрел по телевизору мультики, та же фраза внезапно появилась на экране.
В конце ноября Марк заявил Глории, что ему пришло время повзрослеть. Он был женатым мужчиной, и ему следовало содержать семью. Но для этого ему требовалось какое-то время побыть одному и все хорошенько обдумать. Поэтому он решил вернуться в Нью-Йорк. Ей не следовало волноваться. Револьвер вместе с патронами он выбросил в океан.
Одновременно с этим он договорился о встрече с психологом из клиники Вайкики Каунсилинг, где лежал после попытки самоубийства. Но на прием он не пошел, а вместо этого в пятницу 5 декабря покинул Гавайи и во второй половине дня в субботу уже был в Нью-Йорке. Сняв комнату в общежитии YMCA на 63-й стрит, между Бродвеем и Центральным парком, он прошелся возле расположенной неподалеку Дакоты, а затем уехал из города. Водитель такси по имени Марк Снайдер подобрал Чепмэна тем йечером на перекрестке Восьмой авеню и 55-й стрит.
Снайдер вспомнил, что у Чепмэна была тяжелая сумка и что сам он казался «сильно возбужденным». Чепмэн предложил водителю пять долларов и немного кокаина, если тот согласится сделать пару коротких остановок. Сначала он попросил отвезти его к Сенчури, многоквартирному дому в стиле «арт деко», расположенному возле Центрального парка, чья боковая дверь выходит как раз на общежитие YMCA на 63-й стрит. Пять минут спустя он вернулся к машине и поехал на другой конец города, к пересечению 65-й стрит и Второй авеню.
На этот раз Чепмэн отсутствовал не больше двух минут, а когда вернулся, не мог сдержать эмоций: «Я должен тебе об этом рассказать. Я только что привез пленки с записью альбома Джона Леннона и Пола Маккартни, который был записан сегодня. Я работаю звукоинженером и своими ушами слышал, как они играли вместе три часа подряд». Водитель запомнил, что Чепмэн начал «трясти головой, точно безумный, улыбаясь, словно думал о чем-то таком, что заставляло его летать в открытом космосе». К этому времени они подъехали к месту последней остановки – перекрестку Бликер-стрит и Шестой авеню, где располагалось большое число известных магазинов, торговавших пластинками. И в этот момент на Чепмэна накатил «приступ завистливой злобы против тех, кто добился успеха, как, к примеру, рок-звезды».
В то время как Чепмэн бушевал гневом против рок-музыкантов, предмет его ненависти тоже был охвачен приступом ярости. Марии Хеа, присутствовавшая при этой сцене, заявила, что никогда в жизни не видела Джона в таком состоянии. А из себя его вывели дети. «Шон и моя дочка никак не могли решить, где им ложиться спать, – объяснила Марти. -И он в конце концов не выдержал. Он схватил Шона и швырнул его в кровать! Затем подхватил мою дочь – и бросил ее мне на руки! Он кричал, вопил и ругался. И тогда я сказала: „Да пошел ты! Я ухожу!“ Да, дети устали, они хныкали, плохо себя вели, но это были дети! Маленькие дети! А Джон не мог этого вынести. Он пробыл с ними один в течение часа, ну, может быть, полутора часов. Больше вынести он был не в силах. А Иоко была в студии, она и слышать об этом ничего не желала. Поэтому она послала Хелен, которая застала Шона в слезах – в таком состоянии Джон был способен напугать кого угодно! Хелен потом рассказала, что дела были так плохи, что ей пришлось забрать Шона и увезти его к своей дочери».
В тот вечер Джон и Йоко давали длинное и скучное интервью журналисту из Би-би-си Энди Пебблсу. Отвечая на бесконечные вопросы, Джону пришлось подробно рассказывать о своей карьере, связанной со звукозаписью, но после того, как шпаргалки Пебблса были отложены в сторону, Леннон откровенно заговорил о той жизни, которую вел сейчас. И тогда Пебблс задал ему последний вопрос: «А как вы... относитесь к вопросу обеспечения собственной безопасности?»
В ответ Джон объяснил, почему убить его легко: «(Иоко) сказала мне: „Да, ты можешь выйти на улицу“... Но я был очень напряжен, будто все время ждал, что кто-то или что-то набросится на меня. Мне понадобилось два года, чтобы расслабиться. А теперь я могу выйти из этой двери и зайти в ресторан. Если бы ты только знал, как это здорово!»
На следующий день, в воскресенье 7 декабря, примерно в половине одиннадцатого утра Марк Дэвид Чепмэн стоял на улице перед Дакотой, ожидая, когда Джон Леннон выйдет из дверей. Чепмэн не находил себе места. Поэтому, угостив портье чашкой кофе, он отправился обедать и больше не вернулся. Во второй половине дня он покинул общежитие YMCA и снял на семь дней номер в отеле «Шератон-центр» на Седьмой авеню. Здесь он разложил одежду по ящикам, достал Библию, паспорт и кассеты с записями «Битлз» и Тодда Рундгрина. Он поужинал в ресторане отеля, а затем, как герой романа «Над пропастью во ржи», пригласил к себе в номер проститутку.
По отношению к женщине Чепмэн вел себя так же, как это делал Холден Кофилд. Он завел с ней беседу, сделал ей массаж и попросил сделать массаж себе, а затем в три часа утра проводил до лифта, так и не вступив в половой контакт. В понедельник утром Чепмэн проснулся примерно в одиннадцать и оделся потеплее. Перед тем как выйти из номера, он разложил на столе свои «сокровища»: фотографию Дороти из «Волшебника из страны Оз», пленку Тодда Рундгрина, Новый Завет (на первой странице он сделал надпись «Холден Кофилд», а к заголовку «Gospel According to John»230 приписал фамилию «Леннон»), просроченный паспорт, рекомендательное письмо от одного из руководителей YMCA и собственные фотографии, сделанные, когда он работал в молодежном лагере в Форт Чаффи. После этого он спустился вниз и купил экземпляр книги «Над пропастью во ржи», на титульном листе которой нацарапал фразу: «Это мое заявление». (Сначала он задумал, что после убийства будет молчать и заставит выступать от своего имени роман Сэлинджера.) Затем он отправился к Дакоте, держа в руках книгу в красной мягкой обложке и купленную накануне пластинку «Double Fantasy». Подойдя к подъезду, он поинтересовался у портье, не появлялся ли Джон Леннон. Потом пригласил пообедать Джуд Стайн и еще одну женщину – фанаток Леннона, которые постоянно торчали у ворот. Зайдя в «Дакота Коффи Шоп», он заказал себе гамбургер и два пива и принялся рассказывать о перелете в Токио и о кругосветном путешествии.
Вернувшись на свой пост, Марк разговорился с Полом Горешем, фотографом-любителем из Нью-Джерси, который сразу сообразил, что Чепмэн не слишком хорошо подкован для фаната «Битлз», потому что когда в здание, прикрывая лицо рукой, вошел Аллен Кляйн, Чепмэн не узнал знаменитого продюсера231. Гореш, напротив, продемонстрировал свое близкое знакомство с семейством Леннонов, поприветствовав Хелен Симан и Шона, вылезших из синего «шевроле». Он даже представил им Чепмэна как поклонника, «приехавшего аж с Гавайских островов». Чепмэн пришел в восторг и назвал Шона «самым симпатичным маленьким мальчиком из всех, кого я видел».
А за стенами Дакоты для Джона Леннона продолжался обычный день. Перед тем как предстать перед объективом знаменитого рок-фотографа Энни Лейбовиц, которой поручили сделать снимки для обложки журнала «Роллинг Стоун», он заскочил в парикмахерский салон в западной части 72-й стрит и сделал стрижку, оставив длинными волосы сзади и сильно укоротив их спереди. Энни Лейбовиц, которая слышала о том, что на съемках видео Джон и Иоко имитировали половой акт, предложила им сняться обнаженными. «Нет проблем», – сразу согласился Джон и тут же разделся. Йоко отказалась снимать с себя что-либо, за исключением черного топика. Тогда Лейбовиц попросила ее вообще не раздеваться, решив сохранить контраст между совершенно раздетой и полностью одетой фигурой. Иоко легла на спину, заложив руки за голову и устремив взгляд в пространство, в то время как Джон лег сверху, скрючившись в позе эмбриона, закрыв глаза и приложившись в поцелуе к женской щеке. Сделав несколько снимков, фотограф показала Джону полароидный пробник, и он пришел в восторг: «Великолепно! Как точно переданы наши взаимоотношения! Пообещай мне, что именно этот снимок будет на обложке». Когда на следующей неделе журнал появился на полках магазинов, у всех буквально поехала крыша: брак самых прославленных любовников из мира рок-музыки был низведен до образа флегматичной суки и слепого присосавшегося к ней щенка.
В час дня Джон дал свое последнее в жизни интервью. Одетый в красную майку, синий свитер и черный кожаный пиджак, он принимал в «Студии Один» ди-джея из Сан-Франциско Дэйва Шолина. В пять часов ему пришлось прервать встречу, поскольку его уже ждали в студии. Когда выяснилось, что ленноновский автомобиль задерживается, Шолин предложил подвезти его и Йоко на своем лимузине. Стоило им выйти из подъезда, как к ним навстречу бросились Пол Гореш и Марк Чепмэн.
Толстый фан в роговых очках молча протянул великому музыканту для автографа свой альбом. Джон любезно склонился и написал: «Джон Леннон 1980 год». Пока Джон ставил свой автограф, Гореш направил объектив фотоаппарата на знаменитый профиль, захватывая в кадр и луноподобное, тупо улыбающееся лицо Чепмэна на заднем плане.
«Ну что, так подойдет?» – спросил Леннон, возвращая альбом.
Чепмэн, остолбеневший от присутствия Леннона, повернулся к звукооператору и спросил: «А вы что, брали у Леннона интервью?»
Когда машина тронулась с места, Чепмэн подошел к Горешу. «Скажи-ка, – поинтересовался он, -а ты не помнишь, на фотографии я был в шляпе или без? Я бы хотел, чтобы без». Затем, секунду помолчав, он воскликнул: «Они ни за что не поверят, там, на Гавайях!»
Когда стемнело, остальные фаны разошлись, и перед зданием остались только разговорившиеся Чепмэн и Гореш. Из подъезда быстрым шагом вышел Фред Симан, неся в руках пленки с записями Иоко, которые она делала еще с Дэвидом Спинозой в 1974 году. Гореш остановил Фреда и сказал: «Это Марк Чепмэн. Ему сегодня здорово повезло!» Чепмэн, улыбаясь, протянул свой альбом.
«Поздравляю, мужик!» – Фред улыбнулся в ответ и поспешил прочь.
Тем вечером Иоко пригласила в студию Дэвида Геффена. «Она – трудная клиентка, – пожаловался Дэвид Фреду, который встретился ему у лифта. – Никогда не знаешь, что у нее на уме». То, что было у нее на уме, стало ясно Геффену, едва он переступил порог студии. Леннон подал сигнал Дугласу, и из динамиков понеслась «Walking on Thin Ice» – лихое диско, рев гитары Джона, чередующийся с писком Иоко, напоминавшим звуки, издаваемые летучими мышами. Продавец Леннон принялся обрабатывать покупателя Геффена. "Фантастика! Хит сезона! – с энтузиазмом выкрикивал Джон. – Это лучше, чем любая из вещей «Double Fantasy». Секунду помолчав, он выдал: «Ее надо выпустить до Рождества!»
Геффен улыбнулся и ответил: «Давай лучше выпустим ее после Рождества и сделаем все как следует. Дадим нормальную рекламу».
«Рекламу!» – с наигранным изумлением повторил Леннон. – Ты только послушай его, «мамочка», тебе будут делать рекламу!"
Геффен намеренно переменил тему разговора, объявив, что «Double Fantasy», поднявшаяся до двенадцатого места, только что стала в Англии золотой. В ответ Йоко бросила на него красноречивый взгляд, который он понял так: «Уж лучше бы ей поскорее подняться до первого, потому что для Джона это чертовски важно!» (Йоко как раз собиралась отправить в Лондон Сэма Хавадтоя, поручив ему накупить пластинок на 100 тысяч долларов, чтобы обеспечить верхнюю строчку в чартах. Когда-то именно так поступил в свое время с пластинкой «Love Me Do» Брайен Эпстайн. Похоже, теперь Леннон действительно «все начинал сначала».)
Прежде чем сеанс записи подошел к концу, Джон, выбрав момент, когда Йоко отлучилась из студии, наклонился к Джеку: «Только не повторяй Иоко то, что я тебе сейчас скажу». После чего он выдал Дугласу тот же текст, который пришлось выслушать Фреду в тот вечер, когда Джону пришла в голову мысль о записи альбома на Бермудах. Джон сказал, что его дни сочтены и что он и так уже живет взаймы. Он не говорил об убийстве, но производил впечатление человека, готового к скорой смерти. Он даже порассуждал о том, что станет с его легендой после смерти, похваставшись, что будет покрыт гораздо большей славой, чем Элвис. Джек слышал рассуждения Джона о смерти и раньше – но никогда они не были полны такой уверенности в неизбежном, как в тот вечер.
Затем вернулась Йоко, и настроение Джона опять пришло в норму. Перед отъездом он заверил Джека, что будет в студии назавтра в девять утра, с тем чтобы заняться сведением нового сингла. Обычно Джек отправлялся домой вместе с Леннонами, но в тот вечер ему надо было поработать еще над одной записью. Он проводил Джона до лифта и пожелал ему спокойной ночи. Его последнее воспоминание о Ленноне – это улыбка, дружеский взмах руки и дружелюбное «Увидимся завтра с утра пораньше!» Лимузин доставил Леннонов прямо к подъезду Дакоты. Марк Дэвид Чепмэн все еще стоял перед домом, прислонившись к будке часового. До половины девятого он наслаждался обществом Пола Гореша, затем фотограф объявил, что ему пора домой, а Чепмэн уговаривал его остаться. «Кто знает, – словно предупреждал он, – мало ли что может случиться. А вдруг он сегодня возьмет и уедет в Испанию, и ты больше никогда его не увидишь!»
После ухода Гореша Чепмэн разговорился с портье – кубинцем Хозе Пердомо. Они болтали о Кубе, о Бухте Свиней, об убийстве Кеннеди. В какой-то момент к ним подошел бродяга в поисках денег, и Чепмэн дал ему десять долларов. Чуть позже он сунул еще пятьдесят долларов в руку портье. У Пердомо сложилось впечатление, что Чепмэн был спокоен и пребывал в полном рассудке. «Чемпэн не был сумасшедшим», – сказал он Фреду Симану после всего, что случилось.
Когда лимузин остановился перед зданием, часы показывали 10:50. Первой из машины выскочила Йоко, за ней последовал Джон, держа в руках магнитофон и несколько кассет. Когда мимо Чепмэна прошла Иоко, он бросил ей: «Привет!» Затем к нему приблизился Джон и посмотрел на
Марка тяжелым взглядом. «Он запечатлел меня в своей памяти», – скажет Чепмэн позже.
Всю предыдущую ночь Чепмэн попеременно молился то Богу, то черту – первого он молил о том, чтобы тот отвел от него искушение, а второго – чтобы дал ему силы выполнить задуманное. Теперь, в самый критический момент, он услышал, как внутренний голос твердил: «Сделай это... сделай это... сделай это!»
Сделав два шага вперед, он вытащил тупорылый револьвер и принял боевую стойку, слегка согнув ноги в коленях и целясь одной рукой, оперев для большей устойчивости стреляющую руку на ладонь другой. Он не вымолвил ни слова. За него все сказал револьвер.
Два первых выстрела попали Леннону в спину и развернули его к убийце лицом. Две из трех следующих пуль застряли в плече, а одна ушла в молоко. Звуки размеренной стрельбы смешались со звоном разбитого стекла, после того как пули, пронзив Леннона, врезались в стеклянный козырек подъезда. Опустошив барабан револьвера, Чепмэн посмотрел на аллею, ожидая увидеть лежащего Джона Леннона. Но ничего не увидел.
Действуя как в тумане, Чепмэн даже не обратил внимания на то, что подстреленный им человек открыл дверь подъезда и сумел подняться на пять ступенек, которые вели к ложе портье, перед которой он и рухнул лицом вперед. Звуки разбитого стекла, а затем шагов застали Джея Хейстингса, молодого длинноволосого ночного сторожа, за чтением журнала. «В дверях, шатаясь, показался Джон с лицом, искаженным ужасной гримасой», – вспоминает Хейстингс. Затем вбежала Иоко с криком: «Джона застрелили!» На какую-то долю секунды Хейстингсу показалось, что все это шутка. Затем он увидел, как Джон рухнул на пол, магнитофон и кассеты выпали у него из рук и застучали по каменному полу.
Хейстингс нажал на кнопку вызова полиции и бросился к Джону. Он снял с него разбитые очки, которые расцарапали ему нос, и укрыл его своим форменным кителем. Затем сорвал с себя галстук, собираясь использовать его в качестве жгута, и тут обратил внимание, сколь безнадежны раны Джона. Кровь струей била у него изо рта и из груди. «Глаза были открыты, но смотрели в пустоту, – рассказал Хейстингс. – Его начало тошнить сгустками крови и частичками живой ткани». Теперь Иоко кричала, требуя вызвать доктора. Хейстингс вскочил на ноги и набрал 911. Вернувшись к Леннону, .он прошептал: ."Все в порядке, Джон, с тобой все будет в порядке".
Сцена, свидетелем которой стал Хозе Пердомо, повергла его в полное оцепенение. Не в силах сдержать катившиеся по щекам слезы, он крикнул Чепмэну: «Как же ты мог убить такого человека?!»
«Не бойся, Хозе», – ответил Марк, точно нашкодивший подросток.
Внезапно портье пришла в голову мысль, что Чепмэн сумасшедший. «Ты хоть знаешь, что наделал?» – спросил он.
«Не бойся», – повторил Чепмэн и так же, как Холден Кофилд, бросил на землю разряженный револьвер.
Хозе проворно отбросил оружие ногой и взмолился: «Пожалуйста! Уходи!»
«Прости меня, Хозе, – тихо произнес Чепмэн, посмотрев на портье потерянным взглядом. – Но куда же мне идти?»
В этот момент он повернулся и заметил девушку, стоящую на дорожке. Нина Розен прошла мимо Джона и Иоко, когда они вылезали из лимузина, и теперь, услышав стрельбу, вернулась посмотреть, что случилось. Она задала этот вопрос Чемпэну, на что он ответил: «На вашем месте я бы ушел отсюда!» Она удалилась только после того, как он повторил свое предупреждение еще пару раз. Двое других свидетелей преступления – пассажиры припарковавшегося сзади такси, начавшие было высаживаться, залезли обратно в машину, которая резко взяла с места, сделала разворот и помчалась прочь вдоль ограды Центрального парка. К этому моменту Хозе Пердомо уже поднялся в служебное помещение и сообщил, что преступник бросил оружие. Джей Хейстингс поспешил на улицу, чтобы присмотреть за убийцей, но увидел лишь толстого молодого человека с непокрытой головой и без пальто, стоявшего под фонарем и погруженного в чтение книги.
72-я стрит огласилась воем сирен. К дому подлетели две бело-голубые патрульные машины с красно-белыми мигалками на крышах. Чепмэн прежде снял с себя пальто и шляпу, чтобы показать, что безоружен. Он поднял руки за голову, прикрыв локтями глаза.
Первыми на место происшествия прибыли Тони Палма со своим напарником Хербом Фрауенбергером и Стив Спайро с Питом Калленом. Выскочив из автомобилей, они направили револьверы на бросившегося к ним Джея Хейстингса. «Встать к стене!» – крикнули ему полицейские.
«Это не он! – закричал Хозе. – Он здесь работает. Это вон тот парень». И он указал на Чепмэна, стоявшего в тени у ворот.
Спайро вытащил револьвер и закричал: «Не двигаться! Руки на стену!» Он еще несколько раз повторил приказание, пока не схватил стокилограммового Чепмэна за ворот, после чего развернул его, используя как живой щит, на случай, если поблизости прятался еще один вооруженный преступник.
«Пожалуйста, не бейте меня! Прошу вас!» – взмолился Чепмэн, как только его схватили. Оглянувшись через правое плечо и посмотрев на дверь дома, Спайро увидел следы трех пуль, проделавших отверстия в стеклянном козырьке. В этот момент портье прокричал, что Чепмэн был один. Патрульный снова толкнул Чепмэна к стене. Убийца начал всхлипывать: «Я все сделал один! Пожалуйста, не бейте меня!»
«Кто-нибудь ранен?» – крикнул Тони Палма выглянувшему из подъезда Джею Хейстингсу. Через секунду двое патрульных были уже внутри. Обнаружив мужчину, лежащего лицом вниз и стоящую рядом с ним плачущую женщину, Палма, который понятия не имел о личности пострадавшего, перевернул раненого и увидел, что ранение очень тяжелое. «Все было красным от крови», – вспоминает Палма. Он поднял голову к напарнику и сказал: «Хватай за ноги, давай вытащим его отсюда!» Они взвалили Джона Леннона на плечи и стали выбираться на улицу.
Здесь Леннона погрузили на заднее сиденье только что подъехавшей третьей патрульной машины. «Быстро в больницу!» – приказал Палма сидевшему в машине Джеймсу Морану. Когда машина тронулась с места, Моран повернулся назад и спросил: «Ты знаешь, кто ты такой?» Джон был не в силах говорить. Он застонал и кивнул головой, как бы говоря «да». Водитель, включив сирену, помчался по Девятой авеню в сторону больницы имени Рузвельта, где раненого уже ждала бригада «Скорой помощи», получившая сообщение по радио.
А Стив Спайро затолкал закованного в наручники Марка Чепмэна на заднее сиденье автомобиля. Сев за руль, он не смог скрыть отчаяния и закричал, обращаясь к арестованному: «Ты хоть знаешь, что ты наделал? Знаешь?!»
«Простите меня. Я не знал, что он был вашим другом», – изображая простодушие, ответил Чепмэн.
«Ненормальный!» – осенило Спайро. Но ему пришлось изменить свое мнение, когда он доставил Чепмэна в 20-й полицейский участок. Особенно поразил патрульного офицера деловой тон Марка, когда тот позвонил в Гонолулу жене. Разговор (записанный на пленку) напоминал обычный разговор мужа с женой, при этом муж хотел во что бы то ни стало оградить жену от неприятных последствий происшествия, которое не представляло для него самого никакой опасности. МАРК: Привет!
ГЛОРИЯ: Привет, Марк, я тебя люблю.
МАРК: Я знаю, я тоже люблю тебя. Скажи, к тебе уже пришла полиция?
ГЛОРИЯ: Нет, первым мне позвонил репортер.
МАРК: Только не это! Ты дома?
ГЛОРИЯ: Да. Твои мама и папа тоже здесь.
МАРК: Хорошо. Ладно, я не хочу больше ни с кем разговаривать.
ГЛОРИЯ: Я знаю.
МАРК: Только не плачь, я хочу, чтобы ты меня выслушала.
Несколько минут он настойчиво втолковывал ей о необходимости вызвать полицию, которая должна защитить ее от журналистов. Затем его речь неожиданно прервал робкий голос Глории, которой удалось наконец задать ему вопрос: «Скажи, до тебя хоть дошло, что ты наделал?» «Мне пора идти», – быстро ответил Марк. Когда Леннон был доставлен в отделение интенсивной терапии, у него уже не было пульса. Две пули, попавшие в спину, пробили легкое и вышли из груди. (Одну из них обнаружили застрявшей в черном кожаном пиджаке.) Третья пуля раздробила ему левое плечо и тоже вышла наружу. Четвертая попала тоже в плечо, но срикошетила в грудь, где рассекла аорту и перерезала дыхательное горло.
Бригада из семи медиков делала все возможное, чтобы спасти Джона Леннона. «Ни при каком раскладе его невозможно было вернуть к жизни, – сообщил доктор Стивен Линн, руководитель службы „Скорой помощи“. – У него было три отверстия в груди, два в спине и еще два в левом плече. От пулевых ранений он потерял примерно 80 процентов общего объема крови».
Официальной причиной смерти был указан шок, вызванный сильной потерей крови. Неофициально некоторые представители медицинского персонала сказали, что, может быть, было бы лучше, если бы Леннона оставили лежать на месте и дождались прибытия «скорой помощи». Кроме того, все медики были поражены его крайне слабым физическим состоянием.
Йоко привез в больницу Тони Палма, который узнал, наконец, что обнаруженный им раненый мужчина был Джоном Ленноном. Палма припоминает, что отвел Иоко в маленькую комнату, откуда она могла воспользоваться телефоном. Первым делом она позвонила Дэвиду Геффену, который немедленно приехал. Увидев Иоко, он подхватил ее, как ребенка.
«Кто-то застрелил Джона! – бормотала она. – Ты можешь в это поверить? Кто-то застрелил его!» В этот момент в помещение вошел доктор Линн. «Где мой муж? – бросилась к нему Йоко. – Я хочу быть рядом с мужем. Он бы хотел, чтобы я была с ним. Где он?»
Линн взял себя в руки и объявил: «У нас очень плохие новости. Несмотря на все наши усилия, ваш муж умер. Он скончался без мучений».
Офицеры Палма и Фрауенбергер отвезли Йоко в Дакоту, заехав по пути в «Отель Пьер», где остановился Геффен. Подъехав к Дакоте, они прошли внутрь через черный ход. Очутившись в своей квартире, Иоко схватилась за телефон. Позже она заявила, что позвонила «трем людям, которых, по мнению Джона, надо было известить в первую очередь: Джулиану, тете Мими и Полу Маккартни».
Глава 73 Счастливая вдова
В тот вечер, когда был застрелен Джон Леннон, Сэм Хавадтой и Лучиано Спарачино отдыхали у себя в спальне. Сэм дремал, а Лучиано смотрел очередную серию «Доктора Куинси». Раздался телефонный звонок, и Лучиано с трудом разобрал голос Дэнни, одного из рабочих из Дакоты, который кричал: «Ты слышал?! Джона застрелили! Переключай на пятый канал!» Лучиано растолкал Сэма.
Официальное сообщение прозвучало в четверть двенадцатого: Джон Леннон был мертв. На мгновение все оцепенели. «Бедная Йоко! Бедная Йоко!» – запричитал Хавадтой, хватаясь за телефон.
Но все линии были заняты. «Поезжай туда! Тебя пропустят!» – заторопил его Лучиано. После этого домой Сэм больше не вернулся.
На выходе из Театра Святого Марка Фред Симан обратил внимание на хиппи, державшего в руках номер «Сохо ньюс» с фотографией Иоко на первой странице и заголовком «ЙОКО ОСТАЛАСЬ ОДНА». По лицу у парня катились слезы. «В чем дело?» – поинтересовался Фред.
«Ну не издевательство ли это? – произнес хиппи, указывая на обложку. – Я имею в виду, после того, как Джона застрелили».
«Застрелили! – повторил Фред. – Что значит – „застрелили“?»
Услышав ответ, он кинулся к телефону. Не сумев пробиться в Дакоту, он набрал домашний номер Ричи Депалмы, и его жена подтвердила, что Джон мертв. Поймав такси, Фред помчался в Дакоту.
Перед воротами возле дома он увидел толпу людей, пришедших почтить память Джона. Они слушали записи и пели «Give Peace a Chance». В «Студии Один» Ричи отвечал на телефонные звонки, а Хавадтой нервно расхаживал взад и вперед, жалуясь на то, что Иоко отказалась его принять.
Прошло немного времени, и Фреда вызвали в квартиру 72. Войдя на кухню, он застал Йоко в розовой шелковой ночной рубашке, сидящей на диване, уронив голову на руки. Рядом с ней находились Дэвид Геффен и инспектор Ричард Дж. Никастро, пытавшийся допросить хозяйку дома, которая в ответ только стонала: «Это такое потрясение! Я не могу, я не могу прямо сейчас!» В конце концов она обратила внимание на Фреда и попросила его послать кого-нибудь за Хавадтоем.
После ухода инспектора Иоко ушла с Геффеном и Хавадтоем в спальню, чтобы обсудить самые насущные проблемы. Прежде всего надо было позаботиться о похоронах. В первой части своего завещания Леннон пожелал, чтобы у него были обычные похороны, однако не прошло и нескольких часов после его смерти, как Йоко через Геффена объявила, что похорон как таковых не будет – у гроба состоится только траурное молчание, о времени которого будет объявлено позже.
Проведя ночь на телефоне, к семи утра Иоко была готова принять своих адвокатов и финансовых советников. Во второй половине дня состоящий из четырех страниц документ, подписанный Ленноном примерно за год до смерти – 12 ноября 1979 года, – был отправлен в судебные органы для утверждения. Джон завещал свое имущество Иоко и детям, пополам.
Условия завещания, ставшие достоянием общественности, ни у кого не вызвали удивления, но все были буквально шокированы тем, как распорядилась вдова телом Джона Леннона. Йоко решила, что тело ее мужа будет кремировано, несмотря на то, что Джона ужасала практика кремации, а однажды он даже хотел написать по этому поводу песню протеста. Она поручила распорядиться этим Дугласу Макдугаллу, который появился на службе буквально через несколько часов после убийства. Бывший сотрудник ФБР использовал хитрость, к которой в свое время прибегали «Битлз», когда хотели скрыться после концертов от поклонников. Он перевез тело Леннона в погребальную часовню Фрэнка Дж. Кэмпбелла, где ему выдали поддельный сертификат о кремации. В катафалк была помещена пустая урна, и все журналисты, околачивавшиеся неподалеку, бросились вслед за катафалком. После этого Макдугалл погрузил тело в другой катафалк, который направился в сторону похоронной конторы Фернклиффа в Харсдэйле, к северу от Нью-Йорка.
В это время, во второй половине дня в среду, 10 декабря, Хелен Симан рассказала, наконец, Шону о смерти его отца, так как сама Иоко не нашла в себе сил. Пятилетний мальчик пришел от этого почти непонятного сообщения в сильное волнение. Он захотел попрощаться с отцом. Хелен передала эту просьбу Иоко, и та срочно велела Фреду связаться с крематорием и задержать церемонию до приезда Шона. Но было уже поздно.
Тем вечером Макдугалл появился в «Студии Один», держа в руках небольшой пакет, перевязанный яркой лентой, чтобы не вызвать подозрений у зевак, собравшихся возле дома. «Что это?» – удивился Фред Симан.
«Это, – ответил офицер безопасности, – то, что осталось от величайшего рок-музыканта в мире».
Фред почувствовал, как на него накатила тошнота, но ничего не сказал. В следующий момент он уже звонил Йоко.
«Неси прах наверх», – приказала она. Но Симан не мог прикоснуться к урне и попросил сделать это кого-нибудь другого. Затем Фреда вызвали в спальню, и он застал Йоко у телефона. Когда она знаком показала ему убрать урну под кровать, он прервал ее разговор и заявил: «Я хочу уйти в отпуск».
«Хорошо, – ответила Иоко, зажав трубку подбородком. – Я вижу, тебе это далось нелегко. Можешь немного отдохнуть, только смотри, не наделай глупостей».
Пока весь мир пребывал в трауре, в Дакоте бурлила жизнь. Иоко поручила Шона заботам друзей и сотрудников, а сама занялась своей карьерой. Испустив свой последний вздох, Джон предоставил жене возможность, о какой она мечтала всю жизнь: подняться на самый верх хит-парадов. И она не собиралась упускать этот шанс.
Во вторник вечером, когда после убийства Джона не прошло еще и двадцати четырех часов, Иоко потихоньку выскользнула из Дакоты и отправилась на ужин с Дэвидом Геффеном, который привел с собой Келвина Кляйна и Стива Рубелла, бывшего менеджера «Студио 54», недавно выпущенного из тюрьмы, где он отбывал срок за неуплату налогов. В этот вечер Геффен пребывал в великолепном riacTpo-ении, особенно это проявилось после того, как позже, уже в Дакоте он открыто начал хвастать, сколько денег он зарабатывал для Йоко. У него, безусловно, были причины радоваться, поскольку убийство превратило альбом, который розничные торговцы начали было сдавать обратно оптовикам, в сенсационный суперхит, разошедшийся в одночасье тиражом более шести миллионов экземпляров. В довершение ко всему при подписании контракта Геффен застраховал жизнь Джона Леннона на кругленькую сумму.
Но у Йоко уже родилась смелая идея относительно нового сингла. В среду она позвонила Джеку Дугласу и сообщила, что заказала на этот вечер студию. Когда Джек приехал, Йоко вручила ему две бобины с записью разговора Леннона и еще одну пленку, на которой звучала классическая гитара в исполнении Дэвида Спинозы. Она велела Джеку обработать речь Леннона и вставить некоторые фразы в музыкальную ткань. Десять часов подряд Джек провел за этой работой, в то время как Йоко, не вынимая сигареты изо рта, сидела рядом. Он был так взволнован, что порой не мог сдержать слез, катившихся по щекам. Иоко казалась невозмутимой. По мере того как работа продвигалась, она давала указания: «Добавь немного вот этого!» или «Вот это подойдет!» Дуглас предположил, что пленка будет использована во время погребения. На самом деле Йоко задумала поместить запись на оборотной стороне своего сингла «Walking on Thin Ice», решив, что тогда он будет значительно лучше раскупаться.
В этот же день ближе к вечеру она впервые за много лет позвонила Спинозе. Первое, что он услышал, взяв в руки трубку, были слова Йоко: «Нет, ты можешь в это поверить! Ты можешь поверить в это дерьмо!»
«Йоко! – с трудом оправившись от шока, выдохнул Спиноза. – С тобой все в порядке?»
«Да, в порядке! В порядке!» – отрезала она. А через несколько дней, во время деловой встречи, Йоко предложила ему 100 тысяч долларов за использование трека с его игрой на гитаре. Не исключено, что это был самый высокий гонорар, когда-либо выплаченный студийному музыканту.
Несмотря на то, что продюсер группы «Пинк Флойд» Боб Эзрин предупредил Джека Дугласа о том, что продолжать работать на Иоко в высшей степени опасное занятие – «Она причинит тебе зло, сделает больно... Она пользуется тобой напропалую», – Джек настоял на том, чтобы закончить начатую работу, так как считал, что этим он оказывал услугу Леннону.
Эзрин как в воду глядел. Когда наступила весна, Дуглас понял, что Иоко не собирается выплачивать ему проценты, как копродюсеру «Double Fantasy» (они с Иоко как продюсеры получили за нее «Грэмми»), а также за большую часть треков вышедшего следом альбома «Milk and Honey». Дуглас подал на нее в суд, который обязал Йоко выплатить причитавшиеся продюсеру три с половиной миллиона долларов. Иоко пригрозила затянуть и без того длившееся целую вечность разбирательство подачей апелляции, и Дугласу пришлось полмиллиона уступить
В то время как Йоко всю энергию употребляла на благо собственной карьеры, полиция вела следствие по делу об убийстве Джона Леннона. В течение долгого времени существовало подозрение, что Чепмэн был лишь исполнителем злой воли какой-нибудь тайной организации или личного врага Леннона. Материалы дела скапливались в сейфах департамента нью-йоркской полиции, но до окончательных выводов было еще далеко. «Мы знали, что когда дойдет до суда, что бы ни случилось, нас все равно будут в течение долгих лет облыжно критиковать грядущие поколения, – заявил детектив Рон Хоффман, работавший над этим делом в течение шести месяцев. – Мы сделали все, что могли. Проверили все до мельчайшей детали. Буквально все!»
22 июня 1981 года, вопреки рекомендации назначенного ему судом адвоката, Чепмэн неожиданно признал себя виновным в убийстве Джона Леннона. В результате суд ограничился одним заседанием. 24 августа убийце был вынесен приговор – двадцать лет тюремного заключения в Аттике. Само дело, похороненное в архивах полицейского управления, недоступно постороннему взгляду и по сей день.
В воскресенье 14 декабря 1980 года мир воздавал последние почести Джону Уинстону Оно Леннону. Траурное молчание было объявлено на десять минут в два часа дня по нью-йоркскому времени. В Центральном парке собралось не менее 100 тысяч человек. Радиостанции и телеканалы прервали вещание, и миллионы людей во всем мире могли наблюдать за тем, как огромная толпа замерла, подняв вверх два растопыренных пальца под звуки «Give Peace a Chance», разносившиеся из громкоговорителей. Молчание нарушалось лишь зловещим жужжанием вертолетов, висевших в небе и набитых журналистами и полицейскими с биноклями в руках.
Огромную помощь в течение недель, последовавших вслед за убийством Джона, оказывал Йоко Сэм Хавадтой. Он буквально поселился в Дакоте и без устали выполнял все ее распоряжения. Например, когда на похороны приехал Джулиан, она поручила Хавадтою позаботиться о мальчике, который впоследствии сетовал на то, что у Йоко не нашлось для него времени. Но когда 1 января Фред Симан вышел после отпуска на работу, имя Хавадтоя уже значилось одним из первых в списке «главных врагов» Йоко.
Причиной тому послужил счет на 100 тысяч долларов, который он представил Йоко за свои услуги: в течение последних месяцев Хавадтой не только занимался ремонтом и оформлением Кэннон Хилл и Айрон Гейт, но контролировал ремонтные и оформительские работы, которые проводились в квартирах 72 и 71. Как бы то ни было, Йоко подвергла сомнению ряд позиций этого счета, а когда Сэм пригрозил подать на нее в суд, попросту выгнала его вон.
Поведение Йоко привело Хавадтоя в уныние, однако он продолжал настаивать на том, чтобы она еще раз выслушала его. В конце концов 2 февраля ему была назначена аудиенция. Появившись в «Студии Один», он признался Фреду Симану и Ричи Депалма, что разочарован и расстроен и что больше не собирается работать на Йоко. Тем не менее во время беседы с Йоко ему каким-то образом удалось заставить ее изменить свою позицию, а в конце встречи она позвонила Ричи Депалма и объявила о том, что Сэм прощен. Все сотрудники, находившиеся в Дакоте, собрались, чтобы отметить шампанским реабилитацию" Сэма.
Вернув Хавадтоя, Йоко поступила вполне разумно, так как, уволив своих ближайших помощников, осталась в полном одиночестве. Ей просто не на кого было опереться. Кстати, в тот же самый день утром она собрала сотрудников и обратилась к ним с пространной речью, в которой проводила параллели между гибелью Джона Леннона и Джона Ф. Кеннеди. «У Джеки, по крайней мере, оставалась семья Кеннеди, которая оказала ей поддержку, – пожаловалась она, – а позже появился Онассис. Я же осталась совсем одна... Я и так держусь с большим трудом... Шок был слишком жестоким, и я чувствую себя очень слабой».
Весной положение Хавадтоя упрочилось еще больше после того, как Йоко разругалась с Дэвидом Геффеном, человеком, от которого во многом зависел ее успех. «Walking on Thin Ice» стала лучшей из всех сольных пластинок Йоко; после нее она запустила в производство альбом, получивший название «Season of Glass»232, на обложке которого был помещен снимок разбитых, окровавленных очков Джона Леннона. Йоко заклинала Геффена сделать альбому максимальную раскрутку, а когда он не внял ее требованиям, обвинила продюсера в том, что он заработал миллионы на «крови», а теперь отказывался платить добром за добрые чувства, которые она к нему питала.
Как только Геффен был вычеркнут из списка друзей, главным пажом у Йоко стал Хавадтой. Очень скоро она начала обращаться с ним так же, как в свое время с Тони Коксом и Сэмом Грином. Взаимоотношения развивались с характерной стремительностью, и, если верить Лучиано, в апреле Йоко и Сэм стали любовниками. 16 июня они незаметно покинули Нью-Йорк и отправились в Будапешт. Согласно официальной версии, цель этой поездки заключалась в том, чтобы навестить мать Сэма, однако, по некоторым сведениям, в Венгрии Йоко и Сэм поженились. Как бы то ни было, вернувшись в Нью-Йорк, Сэм Хавадтой переехал в квартиру 72 и проживает в ней и по сей день.
В день своего возвращения из Венгрии Хавадтой отправился на квартиру на 55-й стрит, которую они с Йоко арендовали для Лучиано еще в мае, и, глядя бывшему любовнику в глаза, заявил: «Лучиано, ты понимаешь, что я стал мужчиной?»
Сэм настаивал на том, что лишь вернулся к своему естеству, в то время как Лучиано подозревал, что связь Хавадтоя с Йоко объяснялась простой материальной выгодой. «Можно ли было придумать что-нибудь лучше, чтобы помочь очень, очень богатой вдове, которой к тому же он прилично задолжал?» – с горечью сетовал Лучиано.
В течение долгого времени Йоко скрывала от прессы тот факт, что жила с Хавадтоем. Несмотря на то, что в печатных изданиях все чаще стали встречаться фотографии, на которых они были изображены вдвоем, Йоко и Сэм всячески опровергали слухи о своей женитьбе. Как-то Сэм даже заявил, что располагает официальным документом от венгерского правительства, подтверждающим, что они с Йоко не сочетались браком в этой стране. Было очевидно, что эта тема была для них болезненной. Верно подметила ведущая колонки светских сплетен одного из журналов Лиз Смит, что, окажись этот слух правдой, «он обернулся бы катастрофой для имиджа» Иоко Оно.
Тем не менее не было недостатка в доказательствах сильного увлечения Йоко новым приятелем. Она демонстрировала Марни детские фотографии Сэма, полученные от его матери, собиралась изучать венгерский язык и кухню. А Шон заявил однажды Марни Хеа: «У меня теперь новый папа». В ответ Марни попыталась объяснить мальчику, что он ошибается, что его папа умер. «Нет, Марни, – настаивал Шон. – Сэм спит с моей мамой. Так что теперь у меня новый папа».
Что касается Сэма Хавадтоя, то он полностью изменил свой имидж. Йоко заставила его носить одежду Джона, сделала ему прическу, как у Леннона, что немало шокировало соседей по Дакоте, таких, например, как Рудольф Нуреев. Превращая Сэма в клона Джона Леннона, Йоко отводила ему роль верного помощника, которую в свое время играл Тони Кокс.
Несмотря на то, что после «Walking on Thin Ice», которая даже получила номинацию на «Грэмми» (запоздалое признание продюсерского таланта Леннона), Йоко не добилась серьезных результатов на поприще грамзаписи, она успешно справлялась с новой задачей пропаганды своего нового имиджа вдовы. Каждый месяц в течение многих лет после смерти Джона в прессе, на телевидении и радио появлялась информация о состоянии Иоко: безутешная скорбь, замкнутый, одинокий образ жизни, близкие и нежные отношения с сыном. Снискавшая в свое время славу великого мастера по связям с общественностью, Иоко на этот раз многим была обязана своему пресс-секретарю Эллиоту Минцу, который примчался из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк на следующий же день после убийства Джона.
Теперь, ссылаясь на свое долгое и близкое знакомство с Леннонами, Минц радовал прессу сказочками о глубокой и нежной любви, которую питали друг к другу Джон и Иоко, о том, как безмятежно они жили все эти годы и какого прекрасного состояния духа и тела достиг Леннон за время своего отшельничества. Когда темы печали и тяжелой утраты себя исчерпали, Йоко и Минц переключились на грустную историю предательства и мошенничества, жертвой которых стала Йоко со стороны самых доверенных сотрудников и близких друзей. И наконец, изобретательный Минц был призван на помощь, когда срочно понадобилось придумать опровержение откровениям Мэй Пэн и Джона Грина.
Прошло время, и Йоко вошла в тот самый образ, о котором всегда мечтала, – образ благодетеля. Она стала жертвовать значительные суммы на благотворительные акции или общественные учреждения, взяла на себя расходы по перепланировке одного из участков Центрального парка, примыкающего к Дакоте, получив в обмен на миллион долларов право дать этому участку парка название «Земляничные поляны». Торжественная церемония по этому случаю состоялась 9 октября 1985 года, и на ней Иоко стояла рядом с мэром Нью-Йорка Эдвардом И. Кохом и другими представителями городской администрации.
Несмотря на то, что такое общественное признание, безусловно, радовало женщину, на которую часто обрушивалась со всяческими обвинениями пресса, оно не было единственным мерилом ее успеха. Не менее важным был тот факт, что женщина, которая уже не надеялась когда-либо обрести счастье, вдруг оказалась счастливой. Сэм Хавадтой был неизменно внимателен к Иоко, выполнял ее малейшие желания, прекрасно относился к Шону, довольствуясь тем, что всегда оставался на заднем плане: например, он намеренно задерживался в самолете, предоставляя Иоко возможность одной спуститься по трапу, чтобы не попасть вместе с ней в объективы фоторепортеров.
Одной из первых заметила это Марни Хеа. Через год после смерти Джона Иоко и Сэм пригласили ее в качестве единственного гостя на рождественский ужин, и Марни обнаружила, что ее подруга стала другим человеком. Йоко источала любезность и очарование женщины, принадлежащей к высшему сословию. Она сама приготовила ужин и, подавая его на стол, предложила гостям воспользоваться палочками для еды. Сэм подарил Йоко восхитительные бусы доколумбовской эпохи, которые Иоко даже сняла с себя и дала померить Марни. «Они напоминали котят, – восторгалась Марни. – Они постоянно ластились друг к другу. Я никогда не видела Иоко такой счастливой. Она была на самом деле счастлива. Она была веселой, молодой и совершенно раскрепощенной. Кстати, бросалось в глаза, что она давно не принимала наркотиков. Она выглядела просто чудесно!»
Источники
В течение почти двадцати лет Джон Леннон был предметом пристального внимания со стороны средств массовой информации, которые стали основным источником сведений о его характере и истории его жизни. Среди его бесчисленных заявлений и интервью необходимо выделить четыре основных: длинное интервью, взятое автором этих строк в декабре 1970 года и опубликованное в журнале «Чарли» в июне и июле 1971 года; декабрьское интервью 1970 года, которое он дал Янну Веннеру для журнала «Роллинг Стоун» и которое вышло впоследствии в виде книги под названием «Леннон вспоминает» (Нью-Йорк, изд. Фосетт, 1972); августовское интервью 1971 года, взятое Питером Маккейбом и Робертом Шонфелдом и опубликованное в виде книги под названием «Джон Леннон: для памяти» (Нью-Йорк, изд. Бэнтам, 1984); и серия интервью, подготовленных осенью 1980 года Дэвидом Шеффом и опубликованных под названием "Интервью, данные Джоном Ленноном и Иоко Оно журналу «Плейбой» издателем Г. Барри Голсоном (Нью-Йорк, изд. Плейбой, 1982).
Настоящая биография – плод напряженной исследовательской работы, проводившейся в течение шести лет по всему миру, – охватывает три основные темы: Джон Леннон, «Битлз» и Иоко Оно. Ассистенты автора провели тщательный анализ британской, американской и японской прессы, сделали множество фотографий мест и лиц, имевших отношение к данной теме, и взяли в общей сложности около 1200 интервью, причем к некоторым лицам в течение ряда лет обращались с вопросами по тридцать – сорок раз.
Кроме того, автор использовал материалы, опубликованные в прежних биографиях, в частности, таких, как «Авторизованная биография „Битлз“» Хантера Дэвиса (Нью-Йорк, Макгроу-Хилл, 1968). Эту книгу редактировали не только сами «Битлз» и их менеджер, но также и многочисленные родственники, из-за чего из окончательного варианта текста пришлось изъять много интересной и важной информации. Несколько меньший интерес представляет двухтомник Рэя Коулмэна «Джон Уинстон Леннон и Джон Оно Леннон» (Лондон, Сиджвик энд Джексон, 1984), который можно рассматривать как полуофициальную биографию, так как она написана в сотрудничестве с обеими вдовами Леннона и отражает личную точку зрения обеих женщин на касавшиеся их события и факты. Множество важных событий, обойденных вниманием в официальных биографиях, освещены Питером Брауном и его соавтором, писателем Стивеном Гейнсом в книге «Твоя любовь» (Нью-Йорк, Макгроу-Хилл, 1983), которая содержит полный и захватывающий рассказ о жизни Брайена Эпстайна.
Наиболее живые и достоверные сведения о личности Леннона можно почерпнуть в мемуарах Пита Шоттона «Джон Леннон в моей жизни», написанных Николасом Шаффнером (Нью-Йорк, Штайн энд Дэй, 1983), и Мэй Пэн «Любить Джона», написанных совместно с Генри Эдвардсом (Нью-Йорк, Уорнер Букс, 1983). Эти произведения можно упрекнуть в некоторой субъективности, помешавшей авторам раскрыть недостатки человека, к которому они испытывали чувство искренней любви, однако обилие деталей интимного характера с лихвой это компенсирует. Что касается истории ранних «Битлз», особая роль отводится двум произведениям: книге Аллана Уильямса «Человек, который выдал „Битлз“, написанной в соавторстве с Уильямом Маршаллом (Лондон, Хэмиш Гамильтон, 1975), и книге Пита Беста „Битл!“, написанной совместно с Патриком Донкастером (Лондон, Плексус, 1985) – откровенному и прямому повествованию, не стесняющемуся в деталях. Наибольший интерес среди написанного о творчестве „Битлз“, связанном с записью пластинок, представляет книга Джорджа Мартина и Джерми Хорнсби „Все, что тебе нужно – это уши“ (Нью-Йорк, Св. Мартинз Пресс, 1980). Наиболее подробным и осмысленным исследованием музыки „Битлз“ представляется книга „Сумерки богов“ Уилфрида Меллера (Нью-Йорк, Шраймер Букс, 1973). История карьеры группы полнее всего отражена в исследовании Марка Льюисона „Битлз“ живьем!» (Лондон, Майкл Джозеф, 1986). Книга Джона Грина «Дни Дакоты» (Нью-Йорк, Св. Мартинз Пресс, 1983) проливает свет на покрытые тайной последние годы жизни Леннона.
Приведенные ниже сведения содержат перечень основных источников, использованных автором при написании данной биографии. Если рядом с указанным именем отсутствует иная информация, это свидетельствует о наличии записанного на магнитофон интервью. Многие из перечисленных людей предоставили информацию для нескольких разделов данной книги, но они указаны лишь единожды, чтобы избежать ненужных повторов.
ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ
Интервью были взяты у всех ныне здравствующих членов семьи Стенли, к которым относятся: тети Леннона – миссис Мими Смит и миссис Энн Кэдуолладер; сводные сестры – миссис Джулия Берд и Джеки Дайкинс; двоюродные братья и сестры – Стенли Парке, Лейла Харви, Майкл Кэдуолладер и Дэвид Берч, а также его сводный дядя Норман Берч (который был женат на Хэрриет Стенли). Остальные детали были записаны со слов друзей и соседей, однокашников и учителей. Миссис Полин Стоун, в прошлом миссис Альфред Леннон, предоставила обширную информацию о жизни покойного супруга в виде выдержек из неопубликованной биографии Фредди, которая, в свою очередь, основывалась на автобиографической рукописи самого Фредди. В свою очередь, ее информация была дополнена рассказами Чарльза Леннона, брата Фредди. Среди других источников необходимо назвать брата и невестку Джона Дайкинса – Леонарда и Ивлин Дайкинс; его вторую жену,миссис Веронику (Рону) Парри; Мег Догерти, Барбару Бэйкер и Уильяма Побджоя. Ряд участников первого состава «Куорри мен»– Род Дэвис, Колин Хантон, Лен Гарри и Найджел Уэлли, а также Чарльз Роберте предоставили сведения о самом раннем периоде существования группы. Художественный колледж был темой интервью с Энн Мэйсон, Хелен Андерсон, Яном Шарпом, Джун Ферлонг, Артуром Бэллардом, Родом Мюрреем, Телмой Пиклз, Вероникой Мерф, Адрианов Хенри, Майком Кении, Сэмом Уолшем и Майком Эвансом. Синтия Леннон от интервью отказалась, но в печати трижды выходили ее воспоминания о взаимоотношениях с Ленноном – в книге «Леннон-коктейль» (Лондон, У. X. Аллен, 1978), а также в книгах Питера Брауна и Рэя Коулмэна.
РАННИЕ ГОДЫ «БИТЛЗ» И «БИТЛОМАНИЯ»
Мерси-рок: интервью с Тедом «Кингсайз» Тейлором, Дэвидом Мэем, Грэхэмом Нэшем, Моррисом Голдбергом, Джонни Джентлом, Томом Кейсом, Питом Бестом, Барри Уормсли, Алеком Пэйтоном, Роном Эллисом и Спенсером Ли. «Горячий квартал Гамбурга» подробно опиcан в книге Ф. X. Миллера «Санкт-Паули и Рипербан» (Гамбург, 1960), а о повседневной жизни города лучше всего рассказывается на страницах «Гамбургер Абендблатт». Среди других источников: Юрген Фоллмер, Дирк Велленга, Тони Уэйн, Пэдди Дилэни, Джон Моррис, Джим Гретти, Роузмэри Эванс, Брайен О'Хара, Айда Холли, Реке Мэйкин, Дик Роув, Рон Уайт, Дик Джеймс, Алан Дэвидсон, Джо Флэннери, Рики Брукс, Максин Брукс, Рон Кинг, Уолтер Хоуфер, Кейт Хауэлл, Джоффри Эллис, Брайен Соммервилл, Дезо Хоффманн, Венди Хэнсон, Ники Бирнс, Вивьен Мойнихэн, Вик Льюис, Алун Оуэн, Уолтер Шенсон, Юнити Холл, Томми Хенли, Сид Бернстайн, Эд Леффлер, Норан Вайсе, Рой Гербер, Брайан Моррис, Лес Энтони, Дот Ярлетт, Кен Партридж, Джеральдин Смит, Дженни Ки, Виктор Лаунс, Тимоти Лири. Более подробный рассказ о встрече «Битлз» с Элвисом Пресли читайте в книге «Элвис» Альберта Голдмана (Нью-Йорк, Макгроу-Хилл, 1982). О взаимоотношениях Леннона и Боба Дилана читайте в книге «Дилан» Роберта Спитца (Нью-Йорк, Макгроу-Хилл, 1988).
ЙОКО ОНО
Так же, как и в отношении Джона Леннона, основным источником информации о жизни Иоко явились интервью, данные ею прессе и электронным средствам массовой информации в Соединенных Штатах, Европе и Японии в течение почти тридцати лет – с конца пятидесятых и по сегодняшний день. Вместе с тем наиболее полный рассказ о ее детстве был получен от матери Иоко – Исоко Оно, которая в 1981 году дала серию интервью Доналду Кирку и его ассистент Эмико Хаяси; они опубликовали этот материал под названием «Баллада о Джоне и Иоко» (Гарден-сити, Нью-Йорк, Даблдэй, 1982). Другим важным источником стала книга «Бабочка» Майкла Румэйкера (Нью-Йорк, Чарлз Скрибнер, 1962). По колледжу Сары Лоуренс: Бетти Роллин, Джоанна Саймон, Ричард Рабкин, Майер Купперман. По нью-йоркскому авангарду и периоду конца 50-х: Джон Кейдж, Мерси Каннингхэм, Ла Монте Янг, Дайен Вакоски, Дэвид Тьюдор, Джексон Мак Лоу, Ивонн Райнер, Симона Форти, Рэй Джонсон, Генри Флинт, Кароли Шниман, Шарлотта Мурман, Хильда Морли Вольпе, Эрика Абил, Мартин Гарбус и Сусаку Аракава. Рассказ Иоко о ее возвращении в Японию в 1962-м опубликован на японском языке в 1974 году в токийской газете «Бунгеи Шиндзу», рассказы Тони Кокса опубликованы в «Радиксе» (Беркли, март-апрель 1981) и дополнены в его интервью, данном автору этой книги в 1984 году. Другие источники по-Тони Коксу: его брат Ларри Кокс, тетка миссис Бланш Гринберг, двоюродная сестра миссис Френсис Вест8рман-Коллинз, ближайший друг ЭлВундерлих, подруга Тони до Иоко Линда Вивона, его наставник Ла Монте Янг; а также Джон Кейдж, Сэм Уэгстафф и Рассел Смит. Наиболее полный рассказ о раннем периоде существования нью-йоркского психоделического андеграунда содержится в неопубликованном сборнике интервью со всеми «первопроходцами ЛСД», составленном Питером (дТаффордом под названием «Психоделики 101». Майкл Холлингсхед рассказал о собственной карьере в книге «Человек, который завел весь мир» (Лондон, Блонд энд Бриггс, 1973). Прочие источники по Тони и Иоко: миссис Рутгер Смит, Кейт Миллетт, Джефф Перкинс, Танака Крдзо, Нэм Джун Паик, Дэн Рихтер, Айвэн Карп, Пол Морисси, Эл Кармайнс, Беннетт Симе, Энн Макмиллан, Марио Амая, Уайти Кэйза, Яиёи Кудзама, Ион Хендрикс, Дэвид Бердон, Джилл Джонстон, Адриан Моррис, Питер Блейк, Мэгги Постелуэйт, Майкл Уайт и КикиКоллекек.
ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ «БИТЛЗ», ПЕРВЫЕ ГОДЫ ДЖОНА И ЙОКО
«Сержант Пеппер» и «лето Любви»: Барри Майзл, Джон Данбар, Роберт Фрэйзер, Питер Блейк. Оценка медицинской информации в связи со смертью Брайена Эпстайна: доктор Джей Мелцер и доктор Марк Тафф, а также доктор Джесси Бидансет, профессор судебной токсикологии медицинского факультета Сент-Джонского университета. Завершающая стадия семейной жизни Коксов: Билл Джеклин, Джоди Фридиани, Николас Логсдейл, Виктор Херберт, Орнетт Коулман, миссис Полин Стоун, урожденная Джоунс, Линда Мур, Джефф Бак. Рассказ о встрече Леннона с Брижит Бардо взят из книги Питера Эванса «Бардо: вечная секс-богиня» (Дрейк Паблишерз, 1972). Дополнительные детали почерпнуты из книги «Пятьдесят лет на плаву в костюме с расстегнутым воротом» Дерека Тейлора и Джорджа Харрисона (Суррей, Великобритания, Дженесис Пабликейшнз, 1985). Финансовые сражения «Битлз»: интервью с Алленом Кляйном и Гарольдом Сайдером; история компании «Норзерн Сонгз» была подробно описана в изложении финансового репортера Стеллы Шамун в книге Питера Маккейба и Роберта Д. Шонфелда «Эппл» до самой сердцевины" (Лондон, Мартин Брайен энд О'Киф, 1977).
ДЖОН И ЙОКО В АМЕРИКЕ, РАННИЕ ГОДЫ
Джон Брауэр, Говард Смит, Сара Керночан, Стив Гебхарот, Том Басалари. История Артура Янова, его личность и терапевтические методики описаны доктором Джорджем Делеоном, который готовил к публикации книгу «Первобытный крик», дополнительная информация предоставлена Сьюзен Брауди из журнала «Ньюсуик»-, Бобби Дерет дал информацию с точки зрения пациента, а Аллен Кляйни Гарольд Сайдер добавили ряд деталей. Первый период жизни в Нью-Йорке: Дэвид Пил, Эмали Ротшильд, Йонас Микас, Линдсей Марикотта, Генри Эдварде, Сол Свиммер, Эл Стеклер, Джилл Джонстон, Мэй Пэн, Йейн Макмиллан, Розалин и Шерман Дрекслер, Ноа Слатски, Алан Дуглас, Росс Файрстоун. Выставка в музее Эверсона: Джим Харистис, Дэвид Росс, Ричард Беллами, Алекс Холстейн, Филипп Корнер. По Джорджу Макуинасу: Ниджоле Ваилитис, Элмус и Питер Сальциус, Кейвин Харрисон. Период политико-радикалистской деятельности: Джерри Рубин (интервью с которым дополнено информацией, взятой из книги «Повзрослев к тридцати семи» (Нью-Йорк, М. Эванс, 1976), А. Дж. Уебберман, Стью Элберт, Джон Синклер, Крэг Пайс, Кен Келли, Лион Уайлдс, Адам Ипполито
НЕУДАВШИЙСЯ УИК-ЭНД
Дэвид Спиноза, Кэрол Реалини, Арлин Рексон, Джесси Эд Дэвис, Ронни Беннетт, Ларри Слоуман, Джудит Малина, Мак Реббенек, Фрэнк Эндрюс и «Лил», одна из двоих, кто, согласившись на интервью, попросил не сообщать своего настоящего имени (вторым был «Кит Картер»). Интервью взяты у многих людей из окружения Джона Грина, таких, как Венди Волософф, Гэйб Грумер, Кейвин Салливан, Джо Аттардо, Феличе Натане, Манде Дал и Джеффри Хантер. Дороти Декристофер предоставила информацию о Джоуи Лукаше, Такаси Ёсикава отказался дать интервью, однако распространил рукопись книги «Как научиться контролировать свою жизнь путем изучения киологии», в которой приводятся объяснения разработанной им системы. Другие источники по этому периоду: Моррис Леви, Алекса Грейс, Синтия Росс Десфуджеридо.
ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ
Марии Хеа, Сэм Грин, Джон Грин, Боб Херман, Фред Симан, Этелин Стейли, Том Салливан, Джеймс By, Лучиано Спарачино, Джек Дуглас, Кристин Дезотель, Барт Горин, Энтони Гроновикс, Донна Стилвелл, Эллиот Постел, Чарльз Коэн, Дуглас Макдугалл, Пол Гореш. Тони Палма, Рон Хоффман. Грегг Ангер, редактор журнала «Нью-Йорк», и Джим Гейнс из «Пипл» опубликовали статьи, посвященные Марку Дэвиду Чепмэну во время проходившего над ним суда, затем брали у него интервью в тюрьме, а также провели расследование о его жизни, женитьбе, окружении и т. п. Ангер отказался от планов снять фильм на основе собранных материалов и поделился ими с автором этой книги; Гейнс опубликовал результаты своих исследований в «Пипл» в 1987 году. Кроме того, автор этих строк имел доступ к большей части информации, находящейся в распоряжении Окружного прокурора Нью-Йорка.
В течение ряда лет после убийства Джона Леннона многие друзья и служащие Йоко Оно подали на нее в суд или явились предметом судебных разбирательств, затеянных против них самой Иоко Оно. В 1982 году Марни Хеа подала в суд на Иоко в связи с преступной небрежностью, проявленной в отношении ее дочери Кейтлин: играя с другими детьми в имении Леннонов в Колд Спринг Харбор, девочка сломала руку. Вместо того чтобы быть немедленно поставленной в известность относительно этого происшествия, Марни узнала обо всем лишь через три дня, когда дочь вернулась домой. В имении Леннонов Кейтлин вообще не было оказано медицинской помощи. Марни попыталась связаться с Йоко, но та на ее звонки не отвечала. И тогда Марни обратилась в суд с иском против Иоко; когда страховая компания, в которой застраховано имение, предложила ей компенсацию в 18 тысяч долларов, Марни забрала заявление и не стала устраивать публичной ссоры с бывшей подругой. В 1983 году Фред Симан был обвинен в краже дневников Леннона за 1975-1979 годы. Он признал себя виновным по обвинению в краже дневника за 1975 год и получил пять лет условно.
Основные даты жизни Джона Леннона
1940, 9 октября – Во время бомбежки Ливерпуля у Джулии Стенли и Альфреда Леннона в роддоме на Оксфорд-стрит родился сын Джон Уинстон Леннон.
1945 – Расставшись с Альфредом, Джулия передает сына на воспитание своей сестре Мэри Элизабет Стенли Смит, и Джон переезжает к «тете Мими» и ее мужу Джорджу в дом на Менлав авеню.
1952, сентябрь – Незадолго до своего двенадцатилетия Джон поступает в среднюю школу Куорри Бэнк Грэмма Скул.
1955, 5 июня – От кровоизлияния в мозг скоропостижно умирает муж тети Мими Джордж Смит.
1956 – Джулия дает Джону деньги на первую в его жизни – подержанную – испанскую гитару и дает уроки игры на ней, настроив инструмент под банджо. Через некоторое время тетя Мими покупает Джону новую гитару.
1957, март – Джон собирает первую группу, которую сначала называет «Блэк Джеке», но вскоре переименовывает в «Куорри Мен» – по названию школы, в которой учился. В состав первой группы входят Пит Шоттон, Эрик Гриффитс и Род Дэвис.
1957, 6 июля – Джон знакомится с Полом Маккартни. Через две недели Пит Шоттон от имени Джона приглашает Пола присоединиться к «Куорри Мен» в качестве лидер-гитариста.
1957, сентябрь – Джон поступает в Ливерпульский художественный колледж, где вскоре знакомится с Синтией Пауэлл.
1958, февраль – Пол приводит в группу своего приятеля по Ливерпульскому институту Джорджа Харрисона.
1958, 15 июля – Джулия Леннон погибает под колесами автомобиля.
1960, июль – Джон бросает учебу в колледже. Август – Дебют «Битлз» в Гамбурге с участием Стью Сатклиффа на бас-гитаре и Пита Беста на ударных.
1961, январь – Первые выступления «Битлз» в клубе «Кэверн». Весна – «Битлз» записывают первую пластинку, на которой аккомпанируют Тони Шеридану. Пластинка выходит под названием «Тони Шеридан и Братья Бит».
Лето/осень – Джон пишет первую краткую биографию «Битлз» для местной музыкальной газеты «Мерси бит». Ноябрь – В клубе «Кэверн» «Битлз» знакомятся с Брайеном Эпстайном. Через месяц Брайен становится менеджером группы.
1962, весна – Брайен меняет имидж «Битлз», переодев затянутых в кожу рокеров в серые с иголочки костюмы с бархатными воротниками и узкими лацканами.
10 апреля – Стью Сатклифф умирает от кровоизлияния в мозг за день до приезда в Гамбург «Битлз», которые получили ангажемент на выступления в «Стар-клубе». Их имена обозначены на самом верху афиши.
1962, июнь – «Битлз» попадают на прослушивание к продюсеру грамзаписи компании «Парлофон/И-Эм-Ай» Джорджу Мартину, который предлагает группе заменить игравшего на ударных Пита Беста. Через два месяца его место занимает Ричард «Ринго» Старки, барабанщик из группы «Рори Сторм энд Харрикейнз». 23 августа – В Ливерпуле Джон Леннон женится на беременной от него Синтии Пауэлл.
4 октября – Выходит первый сингл «Битлз» с песней Пола Маккартни «Love Me Do».
Декабрь – На прилавках магазинов появляется новый сингл с песней «Please Please Me». Через неделю выходит первый альбом с таким же названием.
1963, 8 апреля – У Синтии и Джона рождается сын Джон Чарльз Джулиан Леннон.
13 октября – Битлз принимают участие в телевизионном шоу, которое ознаменовало начало «битломании». 4 ноября – Выступление группы в ежегодном «Королевском Варьете», на котором присутствуют королева Елизавета, королева-мать, принцесса Маргарет и лорд Сноуден.
Ноябрь 1963 – январь 1964 – «Битломания» на Британских островах в самом разгаре, о чем сообщает лондонская газета «Дэйли Миррор».
1964, 7 февраля – Начало первого турне по Соединенным Штатам. Март – Начало съемок первого игрового фильма «Битлз» «А Hard Day's Night». Песня «Can't Buy Me Love» возглавляет хит-парады в Великобритании и США.
23 марта – Выходит первая книга Леннона «Его собственным почерком», которая сразу становится бестселлером. 6 июля – Лондонская премьера фильма режиссера Ричарда Лестера «A Hard Day's Night».
18 августа – 15 сентября – Второе турне по США. 28 августа – Знакомство «Битлз» и Боба Дилана в нью-йоркском отеле «Дельмонико». Боб Дилан приобщает их к марихуане.
1965, январь – Джон сочиняет песню «Help!» для второго фильма «Битлз». Позже он признается, что текст песни был криком о помощи, свидетельствовавшим о растерянности, царившей в тот момент у него в душе.
Весна – Джон, Синтия, Джордж Харрисон и Патти Бойд впервые пробуют ЛСД, подмешанный им в кофе зубным врачом – приятелем Джорджа.
24 июня – Выход второй книги Джона Леннона «Испанец как он есть» (в России опубликована под названием «Испанец в колесе»).
29 июля – Премьера фильма «Help!». 15 августа – Выступление «Битлз» перед рекордным в истории количеством зрителей – 60 тысяч фанов на Шистэдиуме в Нью-Йорке. Сборы от концерта также составляют рекордную сумму – 304 тысячи долларов.
27 августа – «Битлз» встречаются с Элвисом Пресли у него дома в Бель Эйр. Не зная музыкантов по именам, Элвис обращается к каждому «Битл».
26 октября – «Битлз» удостаиваются Ордена Британской империи.
1966, июль – Неосторожные высказывания Джона по поводу состояния христианской религии, опубликованные в его интервью лондонской «Ивнинг Стандард» в марте, вызывают бурю протеста в Соединенных Штатах накануне очередного американского турне. Лето – Многочисленные проблемы преследуют «Битлз» во время мирового турне сначала в Токио, затем на Филиппинах, где вспыхивает скандал, связанный с оскорблением, нанесенным супруге президента Имельде Маркое. 8 августа – Выходит альбом «Revolver». 29 августа – После концерта в Сан-Франциско «Битлз» объявляют, что турне будет для группы последним. Сентябрь-октябрь – Джон снимается у Ричарда Лестера в фильме «Как я выиграл войну». Во время съемок он сочиняет песню «Strawberry Fields Forever».
9 ноября – Джон Леннон знакомится с японской художницей-авангардисткой Иоко Оно в лондонской галерее Индика.
1967, 1 июня – Выходит альбом «Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band». 27 августа – Брайен Эпстайн умирает от передозировки наркотиков. В это время «Битлз» с женами находятся на семинаре по трансцендентальной медитации у махариши Махеш Йоги в Индии.
Сентябрь – Джон сочиняет знаменитую песню «I Am the Walrus», которая входит в альбом и телефильм «Magical Mystery Tour», показанный по каналу Би-би-си в декабре и получивший плохую критику.
7 декабря – «Битлз» открывают бутик «Эппл» по адресу 94 Бэйкер-стрит, Лондон.
1968, февраль – «Битлз» отправляются на три месяца к махариши в Ришикеш. Во время пребывания в Индии Джон сочиняет «Year Blues», «I'm So Tired», «Revolution», «Dear Prudence», «Sexy Sadie», вошедшие позднее в «Белый альбом». Он начинает переписываться с Йоко.
Весна – Джон Леннон встречается с богиней своих грез Брижит Бардо.
Май – «Эппл» открывает официальное представительство в Лондоне. В конце месяца Джон приглашает к себе в гости в Вейбридж Иоко Оно.
15 июня – Во время проведения Национальной выставки скульптуры Джон и Иоко устраивают так называемую желудевую акцию, а три дня спустя впервые появляются вместе на премьере спектакля, поставленного по книгам Джона. Лето – Джон уезжает из Вейбриджа и устраивается вместе с Йоко в квартире на Монтегю-сквер, принадлежащей Ринго Старру. 7 июля – открытие первой художественной выставки Леннона в галерее Роберта Фрэзера под названием «Вы здесь – Йоко от Джона с Любовью».
31 июля – Грандиозная бесплатная раздача товаров при закрытии бутика «Эппл».
18 октября – Джон и Иоко арестованы полицией за хранение каннабиса. Они предстают перед судом в Мэрилбоун, и их отпускают под залог.
8 ноября – Синтия получает развод. По официальным сообщениям, Джон Леннон выплатил ей компенсацию в размере 100 тысяч фунтов стерлингов.
Ноябрь – Джон признает себя виновным по обвинению в хранении марихуаны. У Иоко происходит выкидыш. 17 ноября – Выходит первый совместный альбом Джона и Йоко под названием «Unfinished Music № 1: Two Virgins», на обложке которого помещена фотография авторов в обнаженном виде в полный рост. «И-Эм-Ай» отказывается выпустить альбом в таком виде. Генеральным дистрибьютором выступает компания «Эппл». 25 ноября – Выходит двойной «Белый альбом» «Битлз». Декабрь – Джон Леннон принимает участие в телешоу «Роллинг Стоунз», где исполняет свой «Yer Blues» вместе с Эриком Клэптоном, Кейтом Ричардсом и Митчем Митчеллом.
1969, январь – Работа над альбомом «Let It Be», которая завершается 30 января концертом на крыше здания «Эппл». 2 февраля – Иоко оформляет развод с Тони Коксом, который получает от Джона значительно большие отступные, чем Синтия. 3 февраля – «Битлз» тремя голосами против одного решают нанять в качестве менеджера группы Аллена Кляйна. 20 марта – Джон Леннон и Иоко Оно сочетаются браком в Гибралтаре.
25-31 марта – Джон и Иоко организуют первое «постельное интервью» в номере отеля «Хилтон» в Амстердаме. 9 июля – Джон и Иоко выпускают второй альбом «Unfinished Music № 2: Life with the Lions».
26 мая – 2 июня – Серия «постельных интервью» в отеле «Королева Елизавета» в Монреале. За это время супруги дали более шестидесяти интервью прессе, сочинили и записали, не выходя из номера отеля, композицию «Give Peace A Chance» при участии Томми Смозерса, Тимоти Лири, Петьюлой Кларк и других музыкантов, включая канадскую общину кришнаитов. 4 июня – Выходит автобиографическая композиция Джона «Баллада о Джоне и Иоко», авторство которой приписывается Леннону-Маккартни.
Июль-август – «Битлз» работают над записью альбома «Abby Road». Август – Джон и Иоко переезжают в Титтерхерст, грандиозное имение в Аскотте площадью в четыреста акров. Осень – «Битлз» теряют контроль над собственными песнями, когда издательский дом «Норзерн Сонгз», владевший правами на их песни, продает 50 процентов акций компании АТВ. 12 сентября – Джон выступает на концерте в Торонто, посвященном возрождению рок-н-ролла. Ему аккомпанируют Эрик Клэптон, Клаус Фурман и Алан Уайт. Иоко сидит на сцене в брезентовом мешке. Пластинка «Plastic Ono Band – Live Peace in Toronto» выходит в декабре.
Сентябрь – Джон снимает рекламный фильм в поддержку нового сингла «Cold Turkey». Два месяца спустя он возвращает королеве полученный от нее Орден Британской империи. 9 октября – В день двадцатидевятилетия Джона у Иоко, помещенной в лондонскую больницу Кингз Колледж, случился второй выкидыш.
20 октября – Джон и Иоко выпускают «The Wedding Album», каждый конверт которого содержит фотографии, сделанные во время бракосочетания в Гибралтаре и во время «постельных интервью» в Амстердаме.
16 декабря – Леннон вновь приезжает в Торонто, чтобы объявить об открытии Всемирной конференции Музыки и Мира. Одиннадцать городов в разных странах были обклеены в этот день огромными плакатами, гласившими «Война окончена! Если ты этого хочешь» – так звучало рождественское послание миру Джона и Иоко.
22 декабря – Джон и Иоко встречаются с премьер-министром Канады Пьером Трюдо.
29 декабря – Джон и Иоко отправляются в Данию в город Аальборг, чтобы проведать дочь Иоко Киоко, живущую с Тони Коксом и его новой женой Мелинде.
1970, 26 января – Первый опыт сотрудничества Джона Леннона с Филом Спектором, который, находясь в Лондоне, осуществляет в качестве продюсера блестящую запись композиции «Instant Karma».
5– 29 марта – Ленноны проходят курс лечения от наркотической зависимости в Лондонской клинической больнице.
10 апреля – Пол Маккартни созывает пресс-конференцию и сообщает, что оставляет группу по причине «личных, деловых и творческих разногласий». Выход первого сольного альбома Маккартни назначен на 17 апреля, то есть за три дня до премьеры фильма «Битлз» «Let It Be» и сопровождающего фильм саундтрек-альбома, продюсером которого выступил Фил Спектор. 27 апреля – 9 сентября – Джон и Иоко проходят курс лечения первобытным криком в клинике у доктора Янова в Лос-Анджелесе.
12 ноября – Выход альбома «John Lennon/Plastic Ono Band», или «Primal Scream Album», записанного тремя музыкантами: Джоном Ленноном на гитаре и фортепьяно, Клаусом Фурманом на бас-гитаре и Ринго Старром на барабанах. Декабрь – Во время поездки в Нью-Йорк Джон и Иоко знакомятся с андеграундным кинорежиссером Йонасом Мекасом, который снимает для них фильмы «Up Your Legs Forever» и «Fly». 30 декабря – Пол Маккартни подает в Высший суд иск против «Битлз». Судебное разбирательство начинается в январе 1971-го.
1971, конец апреля – Арест Джона и Иоко на Майорке после неудачной попытки похитить Киоко.
6 июня – Джон Леннон и Иоко Оно принимают участие в концерте Фрэнка Заппы и его группы «Мозерс оф Инвеншн» на закрытии нью-йоркского рок-театра «Филлмор Ист». Июль – Джон возвращается в Титтенхерст и работает над записью альбома «Imagine», вышедшего в сентябре. Август – Решением судебных органов Ленноны получают право опеки над дочерью Иоко Киоко. Вскоре после этого они снимают квартиру в Гринвич-вилледж в Нью-Йорке. Октябрь – Выставка Иоко под названием «Это не здесь» в Музее изящных искусств Эверсона в Сиракузах, где Джон принимает участие в качестве приглашенного художника.
Октябрь 1971 – январь 1972 – Сближение Леннона с левыми радикалами и активное участие в политических акциях, самой знаменательной из которых стало выступление 10 декабря в Мичиганском университете в поддержку Джона Синклера, основателя «Белых пантер», осужденного на 10 лет за торговлю марихуаной.
22 декабря – Очередное судебное заседание по вопросу опеки над Киоко. Право опеки получает отец. Тони Кокс, с которым продолжает жить девочка. Иоко разрешается периодически встречаться с дочерью, но Тони отказывается отпускать дочь с Леннонами и вскоре в очередной раз исчезает. После этого Ленноны больше не виделись ни с ним, ни с Киоко.
1972, январь – Сенатский подкомитет США по внутренней безопасности передает сенатору Сторму Турмонду досье о связях Леннона с радикалами Джерри Рубином, Эбби Хоффманом и Ренни Дэвисом.
4 февраля – Сенатор Сторм Турмонд направляет Генеральному прокурору Джону Митчеллу секретное послание, в котором предлагает депортировать из страны Джона Леннона. 12 июня – Выход пластинки «Some Time in New-York City». 30 августа – Участие в дневном и вечернем благотворительных концертах в нью-йоркском Медисон-сквер-гарден в поддержку организации «One to One», занимающейся сбором средств для умственно отсталых детей. Джон, Иоко и сопровождавшая их группа «Элефантс Мемори» заслужили пятиминутную овацию, а благотворительный фонд получил от сборов и продажи телевизионных прав на съемки концерта (который вышел в эфир 15 декабря) 1,5 млн долларов.
23 декабря – По телевидению состоялся показ цветного видеофильма «Imagine» продолжительностью в восемьдесят одну минуту. Приглашенными артистами в нем выступили Джордж Харрисон, Фред Астер, Фил Спектор, Дик Кэветт и Энди Уор-холл.
1973, 2 марта – Судья Айра Филдстил выносит постановление, согласно которому Джон должен покинуть США добровольно в течение шестидесяти дней или подвергнуться депортации. Иоко получает статус резидента. Месяц спустя адвокаты Джона подают апелляцию.
1 апреля – Расставшись с Алленом Кляйном, Джон и Иоко нанимают Гарольда Сайдера, бывшего ранее правой рукой Кляйна. Апрель – Ленноны покупают квартиру с видом на Центральный парк Нью-Йорка.
Июль – Иоко знакомится с Дэвидом Спинозой и начинает работать с ним над сольным альбомом «Feeling the Space». Август – Иоко подталкивает свою секретаршу и помощницу Мэй Пэн к тому, чтобы она стала любовницей Джона, а сама продолжает роман со Спинозой.
Сентябрь – Джон уезжает с Мэй Пэн в Лос-Анджелес и остается там на полтора года, расставшись с Иоко. Позже он сам назвал этот период «неудавшимся уик-эндом». Октябрь – Джон подает в суд на иммиграционную службу США, обвиняя ее сотрудников в предвзятости и использовании недозволенных методов прослушивания. В этот же период он уговаривает Фила Спектора записать альбом старых рок-н-роллов. Ноябрь – Джон, Пол и Джордж подают в суд на Аллена Кляйна. В это же время выходит новый альбом Леннона «Mind Games».
1974, март – Джон пускается в загул в обществе Гарри Нильссона, для которого продюсирует альбом «Pussy Cats», и попадает на страницы газет после скандала, устроенного им в пьяном виде на выступлении группы «Смозерс Бразерс» в клубе «Трубадур», во время которого Джон целует Мэй Пэн перед камерами фоторепортеров.
Июнь – Поскольку Иоко не разрешает ему вернуться домой, Джон поселяется с Мэй Пэн в пентхаузе на Сатгон-плейс. Июнь – август – Работа над альбомом «Walls and Bridges», который выходит в сентябре и к концу года поднимается в американских хит-парадах до 1-го места, так же как и сингл с песней с этого диска «Whatever Gets You Through the Night». 21-25 октября – Джон возвращается в Лос-Анджелес, чтобы завершить работу над альбомом «Рок-н-Ролл»; в этот раз он сам выступает в роли продюсера.
28 ноября – Джон в последний раз появляется на сцене в качестве гостя на концерте Элтона Джона в нью-йоркском Медисон-сквер-гарден. Джон не знает, что в зале находится Иоко, с которой они встречаются позднее за кулисами.
1974, 19 декабря – Подписание соглашения о расторжении партнерства «Битлз», которое Джон Леннон подписал лишь 29 декабря.
1975, 31 января – Иоко удается вернуть Джона домой.
Февраль – Иоко узнает, что беременна. 23 февраля – Выходит альбом «Рок-н-Ролл». 9 октября – В день рождения Джона на свет появляется его сын Шон Таро Оно Леннон. Джон объявляет, что «чувствует себя выше, чем Эмпайр-стейт-билдинг».
24 октября – выходит сборник хитов Джона Леннона 1969-1975 годов под названием «Shaved Fish».
1976, январь – Джон на непродолжительное время возобновляет связь с Мэй Пэн.
Конец марта – В брайтонском доме для престарелых от рака желудка умирает Фредди Леннон.
27 июля – Леннон получает статус постоянного резидента в Соединенных Штатах Америки.
1977, январь – Ленноны присутствуют на инаугурации нового президента США Джимми Картера.
1977-1979– Ленноны покупают еще пять квартир в Дакоте, приобретают несколько домов – в Палм-Бич, в горах штата Нью-Йорк, становятся владельцами четырех молочных ферм. Семья много путешествует, несколько раз посещает Японию. Джон выдает Иоко доверенность на ведение всех своих финансовых дел, а сам становится «домохозяином», уделяя много внимания воспитанию сына и полностью прекратив занятия музыкой.
1980, апрель-май – Иоко проходит курс дезинтоксикации, стараясь избавиться от наркотической зависимости, и у нее начинается роман с Сэмом Грином. Этот же период совпадает у нее с подъемом творческой активности, и она сочиняет большую часть песен, вошедших позднее в альбомы «Double Fantasy» и «Milk and Honey».
Июнь – Джон отправляется в морское плавание на Бермуды. Он впервые оказывается на борту маленького судна, и плавание протяженностью в три тысячи миль, продолжавшееся семь дней, производит на него огромное впечатление. На Бермудах к Джону присоединяется Шон, и Джон возвращается к творчеству. Сентябрь-октябрь – Запись материала для альбома «Double Fantasy».
23 октября – Выходит сингл с новой композицией Джона «(Just Like) Starting Over».
17 ноября – Выход в свет альбома «Double Fantasy». Обсуждаются планы концертного турне.
8 декабря – Марк Дэвид Чепмэн смертельно ранит Леннона четырьмя выстрелами из револьвера. Не приходя в сознание, Джон умирает от потери крови в больнице имени Рузвельта.
Примечания
1
«Сила воли» (англ.)
(обратно)3
Хантер Дэвис – автор «Битлз», вышедшей в 1969 г.
(обратно)4
От английского blue coat – синее пальто
(обратно)5
Старое название алжирского города Аннаба.
(обратно)6
«Земляничная поляна» (англ.)
(обратно)7
Намек на песню «Битлз» «Strawberry Fields Forever» – «Земляничные поляны навсегда»
(обратно)8
«Она только и сделала, что родила тебя!» (англ.)
(обратно)9
«Дождь» (англ.)
(обратно)10
«Отель разбитых сердец» (англ.)
(обратно)11
От английского mockers – насмешники.
(обратно)12
«у Денниса» (англ.)
(обратно)13
«Его собственным почерком» (англ.)
(обратно)15
Балет Мориса Равеля.
(обратно)19
«Зеленые рукава», «Шведская симфония» (англ.)
(обратно)20
«Мулен Руж» – Красная мельница (фр.)
(обратно)21
«Счастливый путешественник» (англ.)
(обратно)22
«Долговязая Сэлли», «Скользящие мимо» (англ.)
(обратно)23
«Очертания Рок Айленда» (англ.)
(обратно)27
«Грузовой поезд» (англ.)
(обратно)31
«Поехали, поехали, поехали со мной прямо в тюрьму» (англ.)
(обратно)32
«Непроходимое ущелье», «Мэгги Мэй» и «Железнодорожный билет» (англ.)
(обратно)33
«Рок двадцатого пролета» (англ.)
(обратно)34
«Я весь трясусь» (англ.)
(обратно)35
Так называется специальный инструмент в виде длинной иглы, предназначенный для выковыривания из раковины мяса моллюска-береговичка.
(обратно)38
«Марк Питер и Силуэты» (англ.)
(обратно)39
«А ну давай, все вместе» (англ.)
(обратно)40
«Жуки» (англ.)
(обратно)41
«Билл Хейли и Кометы» (англ.)
(обратно)42
«Бадди Холли и Сверчки» (англ.)
(обратно)43
«Джонни и Лунные Собаки» (англ.)
(обратно)44
От англ. «soft rock» – «мягкий рок»
(обратно)45
Негритянские песни (амер.)
(обратно)46
«Гончая собака» (англ.)
(обратно)47
Выступление исполнителей негритянских песен, загримированных под негров.
(обратно)49
«Великое трио» (англ.).
(обратно)50
«Кокосовое молоко» (англ.).
(обратно)54
«Я только что влюбился» (англ.).
(обратно)65
От англ. NEMS – Northern England Music and Electric Industries – Музыкальные и Электротовары Северной Англии.
(обратно)68
«И-Эм-Ай» – ЕМ1 – одна из крупнейших британских фирм звукозаписи.
(обратно)72
Так назывались старые игральные автоматы-биллиарды.
(обратно)87
«Книга за освобождение геев» (англ.).
(обратно)89
Бонни Джо Мэйсон – первый сценический псевдоним Шерилин Саркисян, ныне известной как Шер.
(обратно)90
«Я люблю Ринго» (англ.).
(обратно)91
"Рождество с «Битлз» (англ.).
(обратно)92
«Мой дружок подстригся под Битлз» (англ.).
(обратно)93
От английского «drive-in» – кинотеатры под открытым небом, где кино смотрят, не выходя из автомобиля.
(обратно)94
От английского «bunny» – «кролик» – наряд официанток в Плейбой-клубах.
(обратно)97
«Плюшевый мишка» (англ.).
(обратно)102
На самом деле в песне вместо слов «I get high» – «Я торчу» поется «I got to hide» – «Мне надо спрятаться».
(обратно)111
Групи – обобщенный термин, которым называют самых отмороженных фанаток в мире рок– или поп-музыки, повсюду сопровождающих своих кумиров.
(обратно)116
«Хайку» или «хокку» – жанр японской поэзии.
(обратно)117
Индийская конопля (лат.)
(обратно)118
Реалистическое кино (фр.) – на французском языке в тексте.
(обратно)124
От английского Billy Shears – Билли Ножницы.
(обратно)125
«Большой Брат и Холдинговая Компания» или «Джо-Деревенщина и Рыба» (англ.).
(обратно)134
«Волынщик у врат утренней зари» (англ.).
(обратно)135
«Беспредельный разгул наркоманов» (англ.) – намек на более известную аббревиатуру UFO, переводимую как НЛО.
(обратно)138
Радость жизни (фр.).
(обратно)141
«Пир нищих» (англ.).
(обратно)142
«Симпатия к дьяволу» (англ.).
(обратно)143
«Уличный боец» (англ.).
(обратно)151
1 гран = 0,0648 грамма.
(обратно)157
«Не плачь, Киоко (Мама просто ищет помощи в снегу)» (англ.).
(обратно)158
«Свадебный альбом» (англ.).
(обратно)159
«Группа» (англ.).
(обратно)166
«Герой рабочего класса» (англ.).
(обратно)167
От английского слова «beast» – зверь.
(обратно)168
«Представь себе» (англ.).
(обратно)169
«Как тебе спится?» (англ.)
(обратно)170
«Слишком много людей» (англ.).
(обратно)171
«Ты все равно наверняка где-то ее стащил» (англ.).
(обратно)172
«Еl Торо» – знаменитый мексиканский фильм 1971 г. (режиссеры А. Йодоровски и Р. Коркиди). Культовое произведение искусства для знатоков «негативного абсурда». Любопытная, мощная, извращенная сюрреалистическая аллегория на тему жизни Иисуса Христа и человеческой судьбы. Апология предельно антипатичных форм насилия. (Halliwell's Film & Video Guide, Harper Peereimial Publishers, GB, 1998.)
(обратно)173
«Подонок!» (англ.)
(обратно)174
«Все пройдет» (англ.).
(обратно)175
Власть Цветов (англ.) – движение хиппи.
(обратно)176
«Ноги вверх навсегда» (англ.).
(обратно)177
«Муха» (англ.).
(обратно)178
Еще одним из проектов Иейна Макмиллана стала так называемая «фотография на паспорт», воспроизведенная на обложке этой книги. Этот снимок, сделанный по замыслу Леннона для того, чтобы продемонстрировать основу своей сущности, представляет из себя портрет, лишенный как второстепенных черт, таких, как растительность на лице, так и выражения. Он оставляет жуткое впечатление, поскольку кажется, будто глаза пристально смотрят внутрь себя, а все лицо в целом напоминает посмертную маску. (Примеч. авт.)
(обратно)179
От американского «Yippies» (Youth International Party) – Молодежная международная партия, основанная Д. Рубином и Э. Хоффманом в 1967 году.
(обратно)180
От американского «smoke-in» – процедура совместного курения марихуаны.
(обратно)183
«Папа курит травку» (англ.).
(обратно)186
«Один на Один» (англ.).
(обратно)187
Видеоверсия концерта «One to One», вышедшая в 1985 году под названием «Джон Леннон – живой концерт в Нью-Иорк-Сити», представляет собой очень важный документ не только потому, что воспроизводит последнее крупное концертное выступление Леннона, но еще и потому, что ясно показывает, как Йоко Оно распорядилась архивами своего мужа. Несмотря на то, что изначально этот концерт был смонтирован Стивом Гебхардтом при участии самого Джона Леннона и показан по телевидению 15 декабря 1972 года, Йоко отказалась от утвержденного варианта и перемонтировала запись так, что значительно снизила роль Джона, увеличив пропорционально свою собственную роль. Для начала вместо записи мощного вечернего концерта она использовала запись утреннего шоу, которое сам Джон охарактеризовал как «репетиция», заменив таким образом хорошее выступление Леннона плохим. Затем она просто перетянула одеяло на себя, то и дело заменяя крупные планы Джона – даже в самые важные моменты его выступления – на демонстрацию самой себя, стучащей по клавишам электропианино. После того как компания «Сони» выпустила этот видеофильм, Адам Ипполито, клавишник группы «Элефантс Мемори», подал на Йоко в суд, заявив, что, несмотря на то, что происходило на экране, она в действительности не сыграла ни одной ноты, поскольку ее электропианино вообще не было подключено. (Примеч. авт.)
(обратно)188
«Дикая жизнь» (англ.).
(обратно)192
«Приблизительно бесконечное пространство» (англ.).
(обратно)196
Ленноны переехали в Дакоту в июне 1973 года, арендовав квартиру 72 у актера Роберта Райана, который не захотел продолжать жить в этом доме после смерти жены, случившейся годом раньше. Ленноны согласились платить еще 300 $ сверх квартплаты, установленной в размере 1500 $, сохранив за собой опцион на покупку квартиры в течение трех лет. Через год Райан скончался, и его агент по недвижимости спросил у Леннонов, готовы ли они воспользоваться своим правом. Сайдер согласился при условии, что изначальная цена 125 тысяч $ будет снижена. Когда за девятикомнатную квартиру (которая стоит сегодня 2,5 миллиона долларов) у Леннона запросили 105 тысяч $, он обратился к Сайдеру: «А мы это осилим?» «Ты должен это осилить», – ответил адвокат. (Примеч. авт.)
(обратно)197
Речь идет о певице Ронни Беннетт (Веронике Беннетт), раскрученной Филом Спектором и ставшей впоследствии его женой, после чего, на пике славы, Фил попросту убрал ее из шоу-бизнеса. В течение нескольких лет, пока продолжался их брак. Фил совершенно затерроризировал Ронни своей ревностью, превратив ее жизнь в кошмар, из которого ей удалось вырваться ценой огромных усилий.
(обратно)202
«Катафалк» (англ.).
(обратно)203
«Я ненавижу, когда идет дождь» (англ.).
(обратно)204
Джон Уэсли Дин – американский адвокат, старший советник президента Р. Никсона по юридическим вопросам, выступивший свидетелем обвинения на заседании сенатской комиссии по расследованию «Уотергейтского дела» в 1973 году. «Пленки» Дж. Дина – переданные им в сенатскую комиссию магнитофонные записи, незаконно сделанные людьми из предвыборного штаба Р. Никсона.
(обратно)205
«Сумеречная обитель демонов» (англ.).
(обратно)206
Фраза из песни Леннона «How Do You Sleep?» с пластинки «Imagine».
(обратно)207
«Кошечки» (англ.).
(обратно)208
«Старая шляпа» или «Золотая шляпа»
(обратно)209
«Корни» (англ.).
(обратно)212
«Сталь и стекло»
(обратно)216
9 и 59 гектаров соответственно.
(обратно)225
Здесь: «Кутеж» (англ.).
(обратно)226
Так называлась песня Леннона периода «Битлз» – «Nowhere Man».
(обратно)227
Young Men's Christian Association – Христианский союз молодых людей (англ.).
(обратно)230
«Евангелие от Иоанна» (англ.).
(обратно)231
Аллен Кляйн был выпущен под залог в ожидании решения апелляционного суда в связи с его осуждением за неуплату ряда налогов за 1970 год. 9 августа 1979 года он был приговорен к двум годам тюремного заключения условно при условии отбытия двух месяцев в тюрьме или на принудительном излечении. Жалоба на него поступила в связи с расследованием деятельности одного из самых известных промоутеров в отрасли грамзаписи Пита Беннетта. В задачу Пита входило продвижение в хит-парадах новых записей, выпускаемых компанией «Эппл», путем распространения среди оптовиков пяти тысяч копий каждой новой пластинки, на которых не ставилась маркировка, по символической цене в 23 цента. Это был довольно дешевый путь увеличения объема продаж, но он становился преступлением после того, как пластинки расходились, принося прибыль, о которой, в свою очередь, не сообщалось в налоговые органы. Когда апелляционный суд отклонил протест Кляйна, тому пришлось отсидеть два месяца в манхэттенской тюрьме в 1981 году. (Примеч. авт.)
(обратно)232
«Стеклянная пора» (англ.).
(обратно)233
Этот вояж продолжался всего один месяц – с 23 июля по 28 августа. Какую-то часть времени Ленноны провели в Каруидзава, где свидетелями их образа жизни стал Хидео Нагура, сын Ренко, двоюродного брата Иоко, чью дружбу она сохранила на всю жизнь. «Мы никак не могли догадаться, кем был Джон», – рассказывал он, объясняя, что каждый день Леннон появлялся в новом наряде, дополненном новой шляпой, и с новой прической, иногда они видели его даже с бородой. Создавалось впечатление, что он находился в поисках собственного "я". Джон мучился от одиночества и скуки, много читал, но никогда не слушал музыку. Японцы говорили, что ему следовало бы самому позаниматься музыкой, так как для Шона было важно видеть, что его отец работает. Но все его занятия ограничивались покупкой одежды для себя и для сына, который всегда был одет, как кукла. Йоко нравилось бывать в родительском доме, но у нее было мало друзей. Самое странное, вспоминает Хидео, заключалось в том, что она предсказывала преждевременную гибель Джона и всячески стремилась ее отвести. (Примеч. авт.)
(обратно)250
Отсутствует
(обратно)


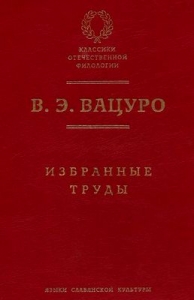
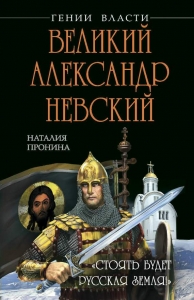
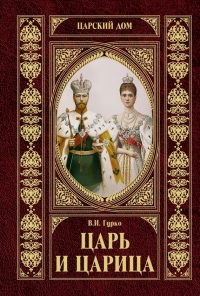
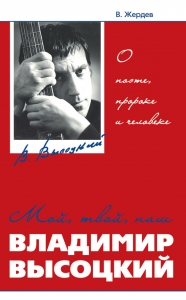

Комментарии к книге «Джон Леннон», Альберт Голдман
Всего 0 комментариев