Семён Резник МЕЧНИКОВ
Знакомство с биографиями великих людей очень поучительно для изучения человеческой природы
И. И. МечниковГЛАВА ПЕРВАЯ Стокгольм — Петербург — Ясная Поляна. Май, 1909 год
1
От двух массивных белых башен, к которым когда-то крепились ворота (чугунные крюки сохранились до сих пор), от тихого пруда с поникшими, зеркально отраженными ветлами полого поднимается аллея, обсаженная молодыми березками. Это «прешпект», тот самый, что по приказу раздраженного князя Николая Болконского был закидан снегом перед приездом другого князя, Василя Курагина, с красавцем сыном Анатолем…
«Утром опять игра света и теней от больших, густо одевшихся берез прешпекта по высокой уж, темно-зеленой траве, и незабудки, и глухая крапивка, и все — главное, маханье берез прешпекта, такое же, как было, когда я, 60 лет тому назад, в первый раз заметил и полюбил красоту эту», — писал Толстой жене весной 1897 года, вернувшись после полугодовой отлучки в свою Ясную Поляну.
Хочется поскорей согласиться: да, все такое же…
Но такое же ли?
…Старые березы погибли, и на их месте Софья Андреевна насадила ели. Ели вымерзли в холодную зиму 1965-го, и Ученый Совет музея после немалых споров и колебаний решил опять насадить здесь березы, дабы приблизить картину к той, что была при Толстом.
Но… Молодое незнакомое племя не вызывает в душе услужливо приготовленных картин былого. Не прошлое представляешь себе, глядя на эти нежные березки, а будущее — то будущее, когда потемневшая, тронутая ржавчиной листва утратит нынешнюю ажурность; когда, навертев годовые кольца, раздадутся стволы, прорвут изнутри девственную гладкость сахарно-белой кожуры заскорузлой неровностью черной подкорки; когда, словом, эти деревца достигнут того могучего позднего возраста, которого мы уж не увидим…
Лишь усилием воли удается вызвать в воображении не будущее этих, а прошлое тех берез, с высокими кронами, с крепкими шершаво-дуплистыми стволами, разметавшими под напором ветра по земле тревожные неслышные тени…
Но тут-то и обнаруживается их почти полное тождество.
Этим березкам ведь суждено стать такими же, какими были те, и все вернется на круги своя… Все станет таким же, каким было 60–70 лет назад, когда здесь мучился сознанием людского несовершенства Толстой; и как 130 лет назад, когда он, ребенком, искал свою зеленую палочку; и как 190 лет назад, когда по тенистым аллеям Ясной Поляны разгуливал гордый князь Николай Сергеевич Волконский, и его дочь еще не встретила своего будущего мужа из не очень знатного, хоть и графского рода…
— Можно всю жизнь прожить возле Толстого и не понять Толстого, — говорит, не спеша поднимаясь по «прешпекту», Николай Павлович Пузин, старейший работник Яснополянского музея.
А позднее, когда мы выйдем с ним из дома на крыльцо, скажет, будто подводя черту:
— Нельзя понять Толстого, не побывав хоть однажды возле Толстого….
И не просто побывав — добавим — пожив. Хоть совсем немного, хоть несколько дней. Или хотя бы только один день, но целый день, чтобы в тишине раннего утра, когда еще не нахлынул поток экскурсантов, или в тишине позднего вечера, когда поток схлынул, побродить по «прешпекту», по тенистой липовой аллее — липы не вымерзали и не гибли от старости, они все те же: «квадрат и звезда»; здесь музыканты настраивали инструменты, чтобы играть старому князю; здесь каждое утро, вооружившись палкой или — в ненастье — зонтом, совершал свою прогулку в полном одиночестве Толстой: даже собаке не позволялось сопровождать его; спуститься к почти пересохшей теперь речке (здесь купался Толстой), обогнуть березовую рощу, которую он сам насадил и с гордостью показывал молодому Горькому (теперь она достигла того могучего возраста, какого по неумолимому закону природы не дано видеть свидетелям ее нежного детства); вслушаться в неутомимый гомон птиц, нередко выпархивающих из-под ног, всмотреться в игру света и теней, постоять в раздумье у холмика, которым отмечено последнее — и вечное — пребывание того, кто умел во сто крат острее нас видеть и любить эту красоту и в тысячу крат острее чувствовать безобразие наших суетных стремлений…
Да, нельзя понять Толстого, не побывав хоть однажды возле Толстого… Это, по-видимому, смутно сознавал и Мечников, когда в мае 1909 года, прочитав в Стокгольме обязательную «нобелевскую» лекцию и приехав в Петербург, первым делом стал искать, через кого бы сговориться с ним о встрече…
2
Взаимоотношения Толстого с современниками-писателями изучены досконально; его непростая дружба-вражда с Тургеневым, например, известна во многих деталях (из чего, конечно, не следует, что на этом пути не встретится никаких неожиданностей). Неплохо изучены и взаимоотношения Мечникова с учеными, например с Александром Ковалевским, Сеченовым, Кохом, Пастером… А Мечников и Толстой, Толстой и Мечников? Этот остров, омываемый двумя океанами — историей литературы и историей науки, — остался в стороне от магистральных путей; он до сих пор необитаем.
Первым на этот остров высадился профессор В. Л. Омелянский, но тотчас покинул его. На далекую землю профессора, по всей видимости, забросил юбилейный шторм (в 1926 году отмечалось десятилетие со дня смерти Мечникова). Омелянский воспользовался воспоминаниями самого Мечникова и книгой его жены Ольги Николаевны, уделившей поездке в Ясную Поляну несколько страничек; больше он к этой теме не возвращался.
Позднее высадиться на остров пытался С. Я. Штрайх, но, должно быть, наткнулся на подводные рифы. Он снял машинописные копии с некоторых страниц известной книги А. Б. Гольденвейзера и… сдал их в архив музея Л. Н. Толстого.
В 1967 году профессор Б. Токин опубликовал в журнале «Наука и жизнь» со своим предисловием письмо О. П. Мечниковой к В. А. Чистович — дочери А. О. Ковалевского и жене одного из ближайших учеников Мечникова. Письмо содержит интереснейшие подробности, которые Ольга Николаевна опустила (вероятно, забыла позднее, когда писала свою книгу.
Это почти все…
Не удивительно, что в работах — и о Мечникове, и о Толстом — встреча их либо вовсе не упоминается, либо упоминается мимоходом, как малозначительный, полуслучайный эпизод. Мечников приехал в Петербург, оттуда — в Москву, а заодно завернул в Ясную Поляну.
Неверно это! Не сходится…
Не сходится хотя бы потому, что от Москвы до Ясной и обратно почти столько же, как до самой Москвы из Петербурга! Да и в Москву зачем он приехал, понять невозможно. Не для того же, чтобы посетить Рублевскую водопроводную станцию, где он проторчал полдня, немало повосхищался, к удовольствию городского головы, образцовым порядком, прекрасной лабораторией, в которой самолично провел бактериологический анализ воды и подтвердил ее отменную чистоту, а потом обронил между прочим, что состояние водопровода его нисколько не интересует, ибо он все равно никогда не станет пить сырую воду.
В Петербург — вроде бы понятно. Он был в Стокгольме, а тут приглашение: зовут друзья, ученики. Как не воспользоваться случаем? Другого, быть может, и не представится (он не знал, что через два года снова приедет в Россию, и этот раз уж действительно будет последним).
Но в Москву — зачем?
Там, правда, тоже друзья: Умов, Анучин. Так ведь дай им знать, сами примчали бы на курьерском!.. Может быть, раз уж выбрался в Россию, захотелось поездить, воздухом родины всей подышать — не одним петербургским? Но тут-то и загвоздка. Что ему Москва — в ней в прежние времена только наездами и бывал. Сердцу дороги другие места… Одесса, где чуть ли не два десятка лет своих положил — и каких бурных, каких запомнившихся лет! Поповка под Киевом, где хозяйствовал, по полям гулял, на тройке катался. А больше всего — Харьков, село Панасовка, где детские годы свои провел; туда, известно, всегда тянет стариков. Но во все эти места он не заглянул, не успел. А в Москву приехал. И дальше — к Толстому.
Ясная Поляна — конечная точка его путешествия: из нее обратно в Москву и сразу — в Париж.
Вот и выходит, что в Москву он вовсе и не приезжал, а просто остановился в ней: по пути оказалось. Стало быть, из Петербурга поехал специально к Толстому, и путь этот подлиннее, чем из Стокгольма до Петербурга… Может быть, и в Петербурге он тоже только остановился?
3
…В столице он окружен невиданным вниманием. Его рвут на части. Он выступает с лекциями, докладами, заседает в санитарной комиссии; ему устраивают чествование, на которое стремится попасть «весь интеллигентный Петербург»; его осаждают корреспонденты. Все столичные газеты пишут о нем ежедневно, и почти все провинциальные газеты ежедневно перепечатывают все о нем из столичных.
…Мечников сказал, что холера может быть побеждена… Мечников сказал, что возвратного тифа нет уже всей Европе и долг русских врачей — покончить с ним в России… Мечников поражен состоянием ночлежных домов — этих распространителей заразы. Мечников… Мечников… Мечников… Сам он многажды обрисован с ног до головы, разобранна составные части; обернут ватой словесной шелухи обвешан ярлыками газетных штампов.
Публике «вкусно» поднесены его «легкий серый костюм», «мягкая черная шляпа», «шагреневые штиблеты с невысокими каблуками», «черные перчатки», «сюртук сидит безукоризненно, и сам И. И. Мечников держится легко, свободно, прямо». Оказывается, он «денди по внешнему виду». Впрочем, под другими, не менее бойкими, перьями его черная шляпа становится «старой», «сюртук» — «старомодным»; вместо перчаток и шагреневых штиблет на первый план выплывают очки «в простой металлической оправе», и из денди он превращается в очень знакомый тип русского, пожалуй, московского профессора, если хотите, «доктора» и просто в «провинциального земца».
Все отмечают, что борода у него седая, а волосы на голове «кажутся совершенно черными, и только вблизи них видна заметная седина». Глаза у него «умные, внимательные, молодые», «без угрюмости и строгости»; и они же «близорукие, голубые», смотрят «добродушно»; иногда же глаза исчезают, и появляется взор: «взор глубокий, нежный». А голос «ясный, круглый, с задушевными нотами…».
Но в чем единодушны «описатели», лучше сказать — инвентаризаторы внешних данных Мечникова, — это в восхищении его моложавостью. Он поразил их своим «совсем свежим лицом без резких морщин», «энергичным, молодым, бодрым видом» и даже играющим на щеках «румянцем».
Ну, таким эффектом Мечников, конечно, доволен! И не потому только, что, как всякий старик, он в глубине души побаивается надвигающейся немощности, но и из соображений принципиальных. Чем, как не самим собой, мог он представить доказательства правильности своих философских воззрений и чудодейственных свойств болгарской простокваши? А доказательства ему были крайне необходимы. Ведь он считал, что нашел конечную истину, нашел цель и смысл человеческого существования; и, как всякий, кто когда-либо находил конечную истину, был преисполнен стремления передать ее другим. Иными словами, он был проповедником.
В Рублеве, например, после осмотра станции, когда на открытой террасе подали завтрак, он, желая, возможно, взять реванш за потерянное время, приступил к излюбленной теме.
— Мне 64 года, и вы видите, насколько я сохранился. Уж много времени я по-человечески не спал. Отсюда еду на Высшие женские курсы и, может быть, прочту лекцию. Сегодня я опять не буду спать, так как еду в Ясную Поляну. А там — за границу. А уж какое спанье в поезде! Я теперь себя лучше чувствую, чем в 35 лет. Тогда я страдал перебоями сердца, часто утомлялся; случались обмороки. Обращался я и к немецким, и к французским врачам. Не помогли. После этого я решил лечить себя сам. Совершенно не ем и не пью ничего сырого. Не курю, не употребляю спиртных напитков. Кофе не пью, а чай совсем жидкий, еле окрашенный. И должен сказать по совести, что я в свои 64 года себя чувствую лучше, чем в 35 лет. Особенно с тех пор, как по три раза в день ем болгарскую простоквашу.
Да, на многократное отражение в газетных листах своего «румянца» Мечников не мог сетовать. Но все остальное было до крайности утомительно.
Москвичи стремились превзойти столицу в оказании почестей знаменитому соотечественнику. Но Мечников пробыл в Москве только четыре дня. Больше времени он терять не хотел. Его ожидал Толстой.
А ему очень надо было к Толстому.
4
«С молодых лет интересующемуся общими вопросами о человеческих делах и особенно вопросом об основе нравственности, о смысле жизни и неизбежности конца ее, мне давно хотелось ближе познакомиться с Толстым и из личного общения узнать его истинное отношение к ним». Так писал Мечников.
Знаменательная деталь: в Петербург он приехал 10 мая, а уже 12-го гостившая в Ясной Поляне Софья Александровна Стахович (она, вероятно, получила телеграмму от мужа) передала Льву Николаевичу его просьбу.
5
В шесть часов утра товарно-пассажирский поезд (газеты отмечали, что Мечников не любит суеты скорых поездов) остановился в Туле. Было пасмурно, моросил дождь. Мечников в своей черной шляпе и сером костюме, подняв воротник безукоризненно старомодного сюртука, вышел из вагона и поспешил в станционный буфет.
В буфете было грязно и шумно. Мечников попросил стакан чая и тут же показал буфетчику, как заваривать свой особый, жидкий, едва окрашенный чай.
Бережно неся в одной руке дымящийся стакан, в другой — плюшку, он не сразу отыскал близорукими глазами свободное место, примостился у краешка заваленного грязной посудой стола; стал пить торопливо, обжигаясь, то и дело посматривая на часы.
Стоянка в Туле бесконечно длинна, но Мечников спешит, нервничает, сам идет к буфетной стойке расплатиться; потом семенит к своему вагону.
Корреспондент «Голоса Москвы», печатавшийся под псевдонимом Wega и бывший свидетелем этой сцены, объясняет торопливость Ильи Ильича «пепривычностью к путешествиям». Но это не так: Мечников был легок на подъем и в своей жизни поездил достаточно.
Были, значит, иные причины для его нервозности… Впрочем, нам еще предстоит убедиться, что он по натуре своей был до крайности нервным человеком.
6
А в эти минуты корреспондент другой московской газеты, «Раннее утро», подписывавшийся инициалами Д. Н., уже шагал под накрапывавшим дождем по «прешпекту» к белому двухэтажному дому, мирно спавшему среди кустов распустившейся недавно сирени. Где-то за одним из этих окон, «за каким только?», спал «или уже, быть может, проснулся он, живущий в умах и сердцах миллионов людей всего земного шара».
Д. Н. подошел к «дереву бедных» — старому ясеню (уже тогда старому, а сейчас совсем высохшему, подпертому массивным бревном), к которому на кожаном ремне был привешен колокольчик: им домочадцев сзывали к обеду (сейчас колокольчик наполовину врос в черную кору дерева).
«Вскоре у объятого утренней тишиной дома появляется садовник в сопровождении 5–6 крестьянских девочек-подростков с носилками и лопатами… Им нужно посыпать песком и убрать площадку перед домом. Может быть, по случаю приезда в этот день И. И. Мечникова».
Да, дорожки в Ясной Поляне посыпали не часто, и то, что их посыпали перед самым приездом Мечникова, не было случайным совпадением. Д. П. Маковицкий запишет недовольно-иронически в тот самый день, 30 мая:
«Ничьего приезда в продолжение 4-х лет не было в Ясной Поляне так ждано, как Мечникова. Наглядный гипноз газет. Все были взволнованы, Софья Андреевна больше всех. Она прямо обозлена, хотя и польщена, и было похоже даже, как если бы предстояла какая-либо неприятность. Ко дню приезда привели в порядок около и внутри дома, дорожки песком посыпали и т. д.».[1]
К «дереву бедных», «пугливо озираясь по сторонам и на дом» (так пишет Д. Н.), подходят двое: один — землекоп с Орловщины, «здоровенный беловолосый детина с тупым лицом», второй — «мастеровой с городским помятым лицом лентяя». Усаживаются прямо на землю. Оба мечтают получить хоть по пятачку; землекоп, правда, надеется получить еще и работу.
Но вот появляется — Он. Толстой.
На свежерассыпанном влажном песке остаются тяжелые следы его сшитых своими руками, едко пахнущих дегтем сапог.
Оба бедняка и не меньше их оробевший корреспондент неловко поднимаются.
Он подходит.
Достает из широкого кармана монету и сует мастеровому.
— Не пей! — отрубает строго.
Белобрысому дает монету без слов.
Потом поднимает брови на корреспондента. Узнав, с кем имеет честь, сурово спрашивает:
— Что мне с вами делать? Сегодня ко мне Мечников приезжает. Я хотел бы с ним наедине говорить.
7
В семь часов товарно-пассажирский поезд останавливается на полустанке «Засека». Мечников с чемоданом в руке соскакивает с высокой подножки, свободную руку протягивает жене, они минуют грязное здание полустанка, садятся в присланный за ними экипаж.
«Было чудное росистое утро после дождя, — пишет в своей книге О. Н. Мечникова. — Уже сама поездка по Юдолям, через леса и луга приводила в повышенное настроение, а предвидение встречи с Львом Николаевичем еще более волновало нас. Вот показалась деревня; в стороне старый сад с открытыми воротами; это была Ясная Поляна. С волнением въехали мы в длинную тенистую аллею, в конце которой скрывалась в зелени усадьба. Весна была в полном разгаре; все вокруг цвело и благоухало. От дома и старого сада веяло поэтической прелестью старинных русских „дворянских гнезд“. У подъезда встретила нас дочь Льва Николаевича, Александра Львовна. Своей дружелюбной простотой она сразу создала „атмосферу спокойной непринужденности“».
В письме к Вере Александровие Чистович Ольга Николаевна описывает поездку от станции до Ясной Поляны в таком же тоне, лишь приводит больше подробностей. Удается заметить только одно разночтение.
В книге Ольга Николаевна свое радостное настроение распространяет и на мужа («волновало нас»), в письме же пишет о своем настроении. Почему? Не потому ли, что книгу она писала о нем, и ее собственные впечатления интересны читателю лишь постольку, поскольку они созвучны с его впечатлениями?
И все же, думается, гамма переполнявших Илью Ильича чувств была более сложной, чем у Ольги Николаевны. Прелесть летнего утра вместе с передавшейся от жены радостной возбужденностью могли подавить таившуюся в глубине души тревогу, могли загнать ее вглубь, но не изгнать.
Ведь к кому мчался он на сытой тройке, лихо перескакивавшей через колдобины и вспарывавшей мутную гладь луж? К кому мчался он, постигший конечную Истину и видевший свою миссию в том, чтобы проповедовать эту Истину другим?
К Толстому!
К тому, кто сам постиг конечную Истину.
Ах, если б они открыли одно и то же! Но у каждого Павла своя правда.
Чего он хотел? На что надеялся? С какой целью ехал? Ведь не думал же он, что убедит Толстого в истинности своей и неистинности его Истины, и не думал, конечно, что Толстой переубедит его…
Они вошли в переднюю и сразу же увидели Его. Он не по-стариковски быстро спускался по лестнице.
«Первый взгляд его обоим нам показался пронизывающим; но тут же он засветился такой добротой и мягкостъю, что сразу отлегло от сердца и почувствовалось, что человек с такими глазами может быть только искренним и добрым».
Это не из книги Ольги Николаевны — из письма. Случаен ли здесь переход на «мы» («нам обоим показался»)? Может быть, это Мечникову таким показался первый взгляд Толстого и он потом рассказал о своем впечатлении супруге?
Через три года в статье «День у Толстого в Ясной Поляне» Мечников напишет: «Он пристально посмотрел на меня (заметьте — на меня. — С. Р.) своими проницательными светлыми глазами». Конечно, пристально — не значит пронизывающе; но в статье для печати, написанной к тому же через три года, естественно смягчить то, что почувствовал и сказал под свежим впечатлением жене.
И почему она пишет — отлегло от сердца? Значит, все-таки что-то лежало на сердце? Тяжелое, тревожное… Но Ольга Николаевна ничего такого не испытывала. Тем больше оснований предположить, что нечто тяжелое и тревожное испытывал Мечников…
8
А Толстой? Что испытывал Толстой?
Цитату из записок Маковицкото мы оборвали на самом важном месте. Теперь пришла пора ее продолжить.
Сперва лишь напомним — это тот самый Душан Петрович Маковицкий, к которому через полтора года, точнее — 28 октября 1910-го, в три часа утра, в халате и туфлях на босу ногу, спустится из своей спальни Толстой; тихо разбудит, попросит помочь собрать вещи, запрячь лошадей; а позже, когда встанет Софья Андреевна и, узнав о случившемся, бросится к пруду топиться; когда, вытащенная из воды, будет колотить себя в грудь тяжелым пресс-папье, колоть ножами, биться в истерике, — не он, Душан Маковицкий, семейный врач Толстых, поднесет ей флакон с нашатырным спиртом; его не будет в Ясной Поляне; он уйдет; уйдет вместе с Толстым; уйдет, не спрашивая, куда и зачем…
Так вот, Душан Петрович, самый близкий в Ясной Поляне Толстому человек, пишет:
«Один Лев Николаевич не волновался, приезду Мечникова не придавал значения…»
Кому же верить, как не Д. П. Маковицкому?
Но почему тогда: «Я хотел бы с ним наедине говорить»?
И ведь Толстой так сказал не только незнакомому корреспонденту «Раннего утра». Сотрудник «Русского слова» С. Спиро — частый гость в Ясной Поляне. Лев Николаевич с ним охотно беседует и явно к нему благоволит. Так вот Спиро, получив еще в Москве согласие Мечникова, запросил телеграммой Толстого. И Лев Николаевич, всегда старавшийся не отказывать по возможности людям в их просьбах, ответил: «Предпочитал бы беседовать один на один».
Но, может быть, Лев Николаевич хотел отгородиться от представителей прессы? Мало ли как повернется разговор, а тут раззвонят на весь мир неосторожное слово… Нет! Когда появится в Ясной Поляне едущий в одном поезде с Мечниковым Wega, его встретит секретарь Толстого Н. Н. Гусев и выразит «категорическое желание Льва Николаевича, чтобы никто, даже его близкие (курсив мой. — С. Р.), не присутствовал, когда он будет вести с И. И. Мечниковым „настоящую беседу“».
Что-то здесь не так! Недопонимал чего-то «самый близкий в Ясной Поляне» Душан Петрович…
Восемнадцатью днями раньше, когда Софья Александровна Стахович передала Толстому просьбу Мечникова и разговор зашел о нем, Софья Александровна развернула газету и прочла вслух данное Мечниковым интервью. Он развивал свои излюбленные мысли о том, что на сокращение жизни влияют гнилостные бактерии, гнездящиеся в толстой кишке, и что эта кишка в организме человека не играет никакой полезной роли; последнее, по его мнению, окончательно доказал английский хирург Лэн, успешно удаливший всю толстую кишку ста двадцати пациентам, которые себя чувствуют превосходно.
Маковицкий присутствовал при беседе и зафиксировал реакцию Толстого:
«Ах, что это такое! Я жалею, что я этого не прочел раньше, чем его пригласил. Он или ребенок, или сумасшедший».
Толстой, следовательно, удивился! Прежде, значит, и понятия не имел о воззрениях Мечникова на роль толстых кишок.
Но вот в дневнике Льва Николаевича под 1 марта 1903 года (за шесть лет до встречи с Мечниковым) записано: «Читал статью Мечникова опять о том же: что если вырезать прямую кишку, то люди не будут более думать о смысле жизни, будут так же глупы, как сам Мечников. Нет, без шуток. Мысль его в том, что наука улучшит организм человека, освободит его от страданий, и тогда можно будет найти смысл — назначение жизни. Наука откроет его. Ну а как же до этого жить всем? Ведь и жили уже миллиарды с прямой кишкой. А что как, по вашей же науке, солнце остынет, мир кончится до полного усовершенствования человеческого организма? К чему же бы[ло] огород городить».
Здесь одна терминологическая неточность: Мечников писал о толстой кишке, а не о прямой. В остальном же смысл его взглядов Толстой излагает правильно (со своим, разумеется, к ним отношением). Знаменательны в этой связи слова «опять о том же»; не первое это знакомство Толстого с работами Мечникова.
Выходит, С. А. Стахович ничего неожиданного для Льва Николаевича в газете не прочитала… Он, видно, над нею просто пошутил, а заодно и над доверчивым Душаном Петровичем.
И в тот же самый день, 12 мая, Лев Николаевич написал письмо В. Г. Черткову. В нем, между прочим: «приезжает <…>интересный для меня Мечников, к посещению к[оторого] готовлюсь, чтобы не оскорбить его неуважением к его деятельнос[ти], на к[оторую] он посвятил жизнь и к[оторую] считает оч[ень] важной».
Какая странная, какая удивительно странная фраза!
Уж не мистифицирует ли он Черткова, как мистифицировал Софью Александровну? Чертков, конечно, не Стахович и даже не Маковицкий. Этот считается близким Толстому не в Ясной Поляне — во всем мире.
Вспоминается, однако, случай, рассказанный Александрой Львовной:
«Обедали на террасе, было жарко, комары не давали покоя. Они носились в воздухе, пронзительно и нудно жужжа, жалили лицо, руки, ноги. Отец разговаривал с Чертковым, остальные слушали. Настроение было веселое, оживленное, острили, смеялись. Вдруг отец взглянул на голову Черткова, быстрым, ловким движением хлопнул его по лысине. От налившегося кровью, раздувшегося комара осталось кровавое пятнышко. Все расхохотались, засмеялся и отец. Но внезапно смех оборвался. Чертков, мрачно сдвинув красивые брови, с укоризной смотрел на отца.
— Что вы наделали? — проговорил он. — Что вы наделали, Лев Николаевич! Вы лишили жизни живое существо! Как вам не стыдно?
Отец смутился, всем стало неловко».
Софья Андреевна называла Черткова «идолом», и такой точный и тонкий наблюдатель, как Иван Алексеевич Бунин — он видел Черткова раз или два, — считал, что лучше о нем не скажешь. «Это был высокий, крупный, породистый человек с небольшой, очень гордой головой, с холодным и надменным лицом, с ястребиным, совсем небольшим и прекрасно сформированным носом и с ястребиными глазами».
И уж кто-кто, а Лев Николаевич отлично видел эту «ястребвость», эту «идолность» своего ближайшего друга.
Чертков был не просто последователь Толстого. Он был последовательный последователь. (Хотя, по свидетельству тех, кто хорошо его знал, больше на словах, чем на деле…) Цельному и прямому, ему вольготно было в клетке толстовской доктрины, тем более что ключик от клетки хранился в кармане его превосходно скроенного жилета, так что в любой момент он мог открыть дверцу и выйти вон, чем и пользовался частенько, не испытывая ни малейших угрызений совести…
А Толстой был скверным толстовцем, и толстовство его — это постоянное преодоление. Он жаждал воли, рвался на простор, бился о железные прутья клетки и нередко взламывал их, истекая кровью.
Ну как он мог объяснить Черткову, что Мечников ему интересен? Интересен, и все! Вопреки доктрине.
Кстати, Маковицкий отмечает, что, если бы не визит Мечникова, Толстой еще неделю назад уехал бы в Кочеты — к дочери Татьяне Львовне Сухотиной. Был, значит, у него отличный повод уклониться от встречи: рад-де, уважаемый Илья Ильич, давно мечтал, но сейчас не могу — к дочери уезжаю; давайте уж в другой раз как-нибудь. И не пришлось бы «готовиться, чтобы не оскорбить», не пришлось бы дурачить милую Софью Александровну…
Выходит, все-таки приезду Мечникова Толстой значение придавал, и не пустячное значение! И, может быть, вовсе не был спокоен, как зафиксировал в своих записках Душан Петрович, а лишь делал вид, что спокоен, в душе же волновался не меньше хлопотливой Софьи Андреевны.
Ведь как-никак к нему, Толстому, постигшему конечную Истину и видевшему свою миссию в том, чтобы открывать эту Истину другим, приезжал не кто-нибудь, а Мечников, который сам постиг конечную Истину… И добро бы они открыли одно и то же… Но у каждого Павла своя правда.
Чего он хотел? На что надеялся? Ведь не думал же он, что переубедит Мечникова. И не думал, конечно, что Мечников переубедит его.
Когда к крыльцу подкатила тройка, Лев Николаевич несколько замешкался у себя в кабинете и теперь быстро спускался по лестнице. Они вошли; он бросил на гостя пронизывающий взгляд, но тут же поспешил расцвести в улыбке. Протянул навстречу обе руки, перевел взгляд с него на нее и, продолжая улыбаться, приветливо сказал:
— Между вами есть сходство; это бывает, когда люди долго и хорошо живут вместе…
ГЛАВА ВТОРАЯ Нервный ребенок
1
У Илюши часто болели глаза; трогать их руками, а тем более плакать ему строго запрещалось. Он рано смекнул, какие может извлечь из этого выгоды, чуть что подносил кулачки к глазам и начинал хныкать.
— А я тиру и плачу, тиру и плачу…
Эмилия Львовна, и без того баловавшая детей, потакала всем его капризам.
Эмилия Львовна выросла в Петербурге, веселилась на великосветских балах; однажды танцевала с Пушкиным.
— Как вас зовут? — спросил поэт.
— Мила.
— Как вам идет ваше имя!
И, может быть, подумал, как подумал князь Андрей, глядя на танцующую Наташу: «Она не протанцует здесь месяца и выйдет замуж».
…Пушкин раскланялся, отошел и тотчас забыл свой незатейливый комплимент, но Эмилия Львовна запомнила его на всю жизнь и в старости любила рассказывать:
— Он сказал: «Que vous portez bien votre nom, mademoiselle».
Она, видно, и впрямь была мила. По крайней мере, нечто подобное ей говорил еще один человек, отпрыск почтенной дворянской фамилии, офицер гвардии его императорского величества Илья Иванович Мечников.
Он женился так рано, что это вызвало пересуды в обществе. Похоже, была у него большая любовь, какая выпадает не каждому…
Образ жизни Илья Иванович вел обычный: шампанское, кутежи, карты. Приданое жены быстро таяло; в один прекрасный день выяснилось, что содержать семейство (подрастали уже два сына и дочь) не на что. Пришлось мальчиков — старшего Ваню и младшего Леву — определить в частный пансионат, а остальным перебраться в Харьковскую губернию, где у Ильи Ивановича отыскалось именьице.
«Каково было ему покинуть привычную, веселую столичную жизнь!» — вздыхает Ольга Николаевна.
Да, нелегко! Но иного выхода не было, и важно не то, что, как пишет Ольга Николаевна, Эмилия Львовна его уговаривала, а что Илья Иванович дал себя уговорить. Воображение рисует последнюю пирушку в ресторации: сизый табачный дым, стреляющие в потолок бутылки, пьяные поцелуи… И вот уже тянется по негладким российским дорогам громоздкий тарантас.
Вынужденный переезд в деревню был для него тяжелым ударом. Не о таком будущем мечтал потомок великого Спотаря Милешту!..
Летописец рассказывает, что Спотарь играл видную роль при нескольких молдавских князьях, особенно возвысился при Стефаните, который просто осыпал его почестями. Спотарь, однако, предал своего патрона: послал в полой трости тайное письмо польскому владыке Константину Себрону — могу-де свергнуть Стефанита, престол отдать тебе. Но у Константина были другие расчеты, и он переслал Стефаниту злополучную трость. Князь решил было казнить изменника, да «во уважение прошлых заслуг» лишать головы не стал, а лишил только носа. Спотарь уехал в Германию, нашел там лекаря, который «отрастил ему новый нос», и вот с новым носом он явился в Россию.
В России была острая нужда в грамотеях, а Спотарь молодые годы провел в Константинополе, изучал теологию, философию, историю, древний и новогреческий, славянский, турецкий языки. Не удивительно, что царь Алексей Михайлович взял его к себе переводчиком (драгоманом), а также приставил учить грамоте маленького Петра — будущего Петра Великого. Много еще приключений выпало на долю Спотаря (тут и многолетняя ссылка в Сибирь, из которой его вызволил воцарившийся на престоле Петр), нам их пересказывать недосуг. Однако Илья Иванович похождения своего великого предка знал хорошо. Спотарь выписал из Молдавии своего племянника Юрия Степановича; Петр сделал его мечником (дворцовый чин; на него возлагались обязанности судьи) и пожаловал ему большие поместья в Малороссии. Сын Юрия Степановича и взял фамилию «Мечников». В роду были видные государственные мужи, один из них стал сенатором. Словом, Илье Ивановичу было чем потешить свое тщеславие… И вот он во цвете лет хоронил честолюбивые мечты в далеком степном захолустье!..
Хозяйством Илья Иванович не занимался, передоверив дела младшему брату Дмитрию — «высокому угрюмому человеку», который почти всегда «молчал, курил трубку и вышивал на пяльцах». Упорный холостяк, Дмитрий Иванович смог бы прожить и в Петербурге, но из преданности семейству брата тоже променял столицу на деревенскую глушь. К Илье Ивановичу он относился с большой почтительностью, обращался к нему на «вы», величал по имени-отчеству, тот же отвечал ему «ты». С Эмилией Львовной отношения у него были иные. «Дмитрий Иванович готов был идти в огонь и в воду за Эмилию Львовну. Она это чувствовала и имела к нему безграничное доверие» — так пишет Ольга Николаевна.
Жизнь в Панасовке вращалась вокруг двух столов — обеденного и карточного. Ну, карты — это так. Не было уж тут былой удали, былого азарта. Хозяин сажал против себя, чаще всего брата, родственников, редко — заглянувшего на огонек соседа; игра шла больше «на интерес», а если делались ставки, то совсем мизерные, опять же для «интереса». Зато обеденный стол — это было самое важное. Эмилия Львовна изо всех сил старалась угодить гастрономическим запросам мужа. Меню разрабатывалось долго, с большой серьезностью, точно план генерального сражения. Так, за картами и за обсуждением достоинств подаваемых кушаний лысел и тучнел в своем уютном халате бывший блестящий гвардеец. В общем, «в деревне счастлив и рогат…». Рогат, впрочем, не был: в верности любящей Эмилии Львовны усомниться невозможно.
А был ли счастлив?
Кто знает, кто знает!..
«Трудно было определить его душевное состояние, — отмечает Ольга Николаевна. — У него не было „настроений“, он никогда ни с кем, даже с Эмилией Львовной, не говорил „по душе“».
Еще Ольга Николаевна кратко характеризует: «Он был очень умен, но с тем оттенком скептицизма, который мешает серьезному отношению к жизни и труду».
Такие счастливыми бывают редко…
Впрочем, может быть, Ольга Николаевна ошибается, может быть, за замкнутостью Ильи Ивановича скрывалась одна пустота…
Во всяком случае, следствием его разорения явилось то немаловажное обстоятельство, что Илья Мечников родился и провел первые годы свои не в столице, а в деревенской глуши. До него в деревне успел родиться еще один мальчик — Николай; в семье он был четвертым ребенком, и после уж детей иметь не хотели. Но через два года, 3 мая 1845-го, взял и возвестил победным криком о своем появлении на свет божий Илья. Это был его первый своевольный поступок.
2
Последний своевольный поступок он совершил за пять минут до смерти, когда настойчиво повторил желание, чтобы тело его было вскрыто, а потом сожжено в крематории…
Русские газеты обсуждали вопрос, позволительны ли панихиды по усопшему. Корреспонденты осаждали иерархов церкви; иерархи говорили разное. Одни утверждали, что, веля похоронить себя по языческому обряду, Мечников сам отлучал себя от церкви; другие, признавая, что погребение совершено по запрещенному святейшим Синодом способу, «не находили препятствий» к совершению панихид; третьи растерянно пожимали плечами, кивали на святейший Синод.
Синод хранил молчание…
Не потому ли, что слишком уж часто рядом с именем Мечникова ставилось имя другого великого грешника — Толстого.[2]
Не изгладился из памяти святейших отцов страшный конфуз. Когда тело писателя доставили в специальном вагоне со станции Остапово на станцию Козлова засека, и оттуда, сопровождаемое многотысячной толпой, оно медленно поплыло в Ясную Поляну (той самой дорогой, по которой за полтора года до того прокатил на тройке Мечников), а потом было тихо погребено, согласно желанию покойного, «на месте зеленой палочки», погребено, опять же согласно его желанию, без торжественных речей и прочих церемоний, — но под искренние рыдания всей России, всего мира, — одна лишь истинная церковь Христова хранила молчание… Панихиду? По отлученному? Помилуйте, как можно! Как можно панихиду по тому, кому шлют анафему со всех церковных амвонов!
…Одного отлучили, другой сам себя отлучил — для нас важна общность их судеб. И не судеб только. Общность чего-то сокровенного, спрятанного в тайниках души… Перед смертью Мечников настоятельно просил: только чтобы не было речей и вообще никаких церемоний; цветы да, цветы можно, только немного; и без этих, как их (поморщился), венков.
— А урну с прахом поставьте в Пастеровском институте.
…Она и сейчас в Пастеровском институте — шкатулка из темно-красного, с прожилками, гранита, с пирамидальной крышкой и покоящейся на дне горсточкой сероватого пепла…
Там, где искал он свою зеленую палочку…
3
Да… Но между первым своевольным поступком и последним пролегли семь десятков лет, еще один год и ровно два месяца…
Жизнь.
Жизнь, наполненная своевольными поступками.
4
Мечниково (бывшая Панасовка) — сельцо небольшое, опрятное: правильными рядами вытянуты вдоль дороги одинаковые, тщательно выбеленные хаты, покрытые волнистой черепицей. Тщетно было бы искать в нем признаки старины.
Столетие назад здесь стояли кособокие мазанки с подслеповатыми оконцами и соломенными крышами. Но от них не осталось следа… Только горькая полынь так же щекочет ноздри, так же горяч степной ветер, таковы же обожженные солнцем холмы под куполом притомленного сизого неба.
На склоне холма стоял помещичий дом, небольшой, полутораэтажный (то есть двухэтажный, но без подвала), с двумя подъездами и полукруглым, подпертым шестью колоннами балконом.
Верхний этаж дома был снесен вскоре после революции (в соседней деревне Павловке решили построить школу, а материала не было; вот и разобрали деревянный этаж пустующего барского дома). А нижний стоял еще несколько лет назад; его видел и сфотографировал Михаил Васильевич Уманский, харьковский краевед, влюбленный в эти места. В доме жила семья Павла Андреевича Сердюка, бригадира одной из животноводческих бригад совхоза. Но Павлу Андреевичу надоело жить за метровыми стенами барского полуподвала. Он снес его и поставил современную хату, сохранив от старой лишь две глухие стены (рисунок добротной кладки явственно проступает сквозь побелку).
Вниз по склону холма спускался обширный фруктовый сад. От него сохранились лишь две убогие яблони и одна груша; остальное пространство засажено молоденькими, еще не дающими тени и не мешающими обзору деревцами; внизу под холмом, чуть слева, узкий и длинный пруд, в нем копошатся утки. Пруд старый. Мечниковский.
Дальше круто поднимается другой холм, пыльный, редко покрытый полынью, крадущий у глаз большой кусок неба…
Вот он, словно на ладони, тот мирок, что питал своими скудными соками первые ростки жадной любознательности юного Мечникова, что будил его страстное воображение…
Мать Павла Андреевича умерла в 1946 году 93 лет от роду. Она служила у Мечниковых кухаркой и нередко рассказывала сыну о добром нраве хозяев. Отец ее бедствовал, ибо с одной тощей коровенкой мудрено было прокормить семь ртов. А когда коровенка околела, стало совсем худо; мужик пошел на поклон к барину.
— Чем же помочь тебе? — спросил его Илья Иванович.
— Чем милость каша соизволит.
— Пойди до управляющего, скажи, что я велел корову дать.
Управляющий недовольно повел плечами, но смолчал, а корову дал самую захудалую. Ну что ж, и на том спасибо.
Но Илья Иванович увидел, какую мужик корову ведет, подозвал к себе.
— С такой скотиной ты долго не протянешь. Пойди назад, выбери, какая на тебя смотрит…
Да, Мечниковы хорошо относились к крестьянам, те к хозяевам; об этом пишет (со слов Ильи Ильича) и Ольга Николаевна.
«Хорошо» — это, конечно, по крепостническим нравам. Бывало, провинившихся девок хлестали по щекам, таскали за косы; даже тихий Дмитрий Иванович, заставая своего лакея пьяным, с размаху «мазал» его по лицу. Да в этом что ж особенного; крестьяне, известно, что дети малые, их учить надо (родных детей своих учили, однако, иначе). Но когда появлялся в доме парубок, подпоясанный ярким поясом, да девка в расшитом сарафане, да разом валились хозяевам в ноги, — тут в руках Ильи Ивановича и Эмилии Львовны появлялись иконы; молодых благословляли, умиленно с ними целовались, даже денег отваливали на свадьбу. А чтобы помешать жениться крепостным, как хотят, — этого никогда не бывало.
Бабушку (тетку Эмилии Львовны) Илюша не любил за то, что она больше любила Колю. Бывало, за столом бабушка нарочно выберет кусок поподжаристее, медленно разрежет ножом и, будто не замечая завидущих Илюшиных глаз, отдаст Коле. Ну что ему этот кусок! Чего-чего, а вкусных кусков за обильным мечниковским столом хватало. Нет, грызла маленькое сердце обида. Перед сном, когда удавалось наконец его угомонить, заставить встать в мягкой кроватке своей на коленки и сложить руки, он смиренно говорил богу:
— Господи, спаси и помилуй папу, маму, бабуш… нет, бабушку не надо, она злая… братьев, сестру, тетей, дядей, всех людей и меня, маладенца Илю…
Роль маладенца его вполне устраивала.
Не в пример флегматичному Коле, прозванному «спокойным папашей», Илюша на все остро реагировал, был вспыльчив, подвижен, и его прозвали «мистер ртуть».
«Все ему надо было знать, везде быть, все видеть, — пишет Ольга Николаевна со слов, конечно, самого Ильи Ильича, который, заметим кстати, успел просмотреть первую часть ее будущей книги. — Когда за картами, после долгой тишины, вдруг раздавались общие, громкие голоса, — он стремглав бросался в зал, думая: „А вдруг подерутся“. Целый день бегал он по всему дому — то вслед за мамой по хозяйству, причем попутно пробовал и осматривал все съестное; то бежал в девичью смотреть, как работают, и сам хотел вышивать; всем мешал, надоедал, пока его не выпроваживали. Тогда он искал другое занятие: бежал смотреть, накрывают ли на стол, что к обеду, или приставал к взрослым, забрасывая их странными вопросами».
С сестрой он вел постоянную войну, и она называла его «убоищем».
Только когда кто-нибудь садился к роялю, он затихал, забирался с ногами в старое кресло и мог часами затаив дыхание слушать музыку.
(Неистребимую любовь к музыке он сохранит на всю жизнь; слух и музыкальная память были у него таковы, что он мог воспроизводить целые оперы и симфонии без единой ошибки. Ольга Николаевна уверяет, что, если бы его в детстве учили музыке, он стал бы выдающимся музыкантом. Вполне возможно. Во всяком случае, музыка с детства стала его постоянным спутником и утешителем.)
Вот в такой обстановке шли дни, складывались в недели, месяцы, годы.
Среди этого однообразного быта большим событием был выезд на купальный сезон в Славянск, особенно приключение в дороге, когда на постоялом дворе пьяные мужики окружили выпряженных лошадей, связали кучера и форейтора и потребовали выкуп… Выручил друг Дмитрия Ивановича: поехал за выкупом к тетушке — соседней помещице, а сам привел взвод гусар; тут-то пошла потеха. (Что ж, и впрямь событие, целое потрясение. «Ну, теперь нас не убьют, теперь им достанется», — мстительно шептал Илюша, наблюдая жестокую расправу. Впервые узнал, что за пределами Панасовки живут злые мужики; о злых помещиках узнает еще не скоро.)
А о переезде в Харьков и говорить нечего! Для мальчика это событие — что для летописца битва с неприятелем. Правда, в городе прожили всего какой-нибудь год: Кате семнадцать исполнилось, пришла пора «вывозить», да быстренько оттанцевала свое Екатерина Ильинична.
Но год в жизни мальчика — ох как немало. Город! Вон сколько большущих домов. И мостовые. И извозчики. А людей-то, людей!.. Открытия на каждом шагу.
В городе, оказывается, нельзя кричать; нельзя гулять без провожатых; нельзя пальцем показывать; нельзя, нельзя, нельзя… Даже дома шуметь не всегда можно.
Они сняли квартиру во втором этаже, и вот раз пришли снизу, попросили детей не шуметь: хозяйка заболела. Но тут Илюшу взорвало, он улегся на пол и стал свистеть в щель… Приведя этот эпизод, Ольга Николаевна делает примечание: «Об этом эпизоде упоминаю согласно желанию Ильи Ильича. Эпизод этот остался для него укором совести. К тому же Илья Ильич всегда говорил, что в биографии не следует умалчивать ни о чем дурном». Нам-то этот эпизод ни к чему, но, раз сам Илья Ильич настаивал, уважить должно.
Более интересно то, что мы узнаем из наброска детских впечатлений, сделанного однажды Мечниковым и впервые опубликованного А. Е. Гайсиновичем. (Набросок занимал страничек шесть, но сохранилась лишь первая, да и у той оторван край; остальные вырваны целиком.)[3] Первый товарищ его детских игр — им был, конечно, брат Коля — командовал оловянными казаками в желтых кафтанах, несшимися вскачь. Сам Илья не отставал: верховодил кавалергардами и уланами. Бои шли жестокие… «Спокойный папаша» Коля был, оказывается, фантазером, придумал целый народ — забалканцев, о которых рассказывал «необыкновенно удачные и заманчивые происшествия». Узнаем еще, что Коля любил стихи, лермонтовского «Хаджи Абрека» знал наизусть, ичто иногда в их играх участвовали какие-то Жорж и Леонид; они неизменно были на стороне Коли, к Илюше, как к маленькому, «относились более или менее презрительно».
Последнее обстоятельство больно задевало малыша.
Жоржу и Леониду за предпочтение, отдаваемое Коле, он в душе своей так же мстил, как и бабушке. Вообще, Коле Илюша ни в чем уступать не хотел, а уступать приходилось…
Примутся мальчики бороться — для Коли пара пустяков брата на лопатки положить: все-таки на два года старше, да и здоровьем покрепче. Но не хочет Иля быть побежденным. Зарок дает — никогда в жизни ни с кем не бороться.
Сводил Дмитрий Иванович (еще в Харькове) мальчиков в театр; они полны впечатлениями, сами начинают представлять. Коля берется сочинять пьесу, ну и Иля отставать не хочет. Только у фантазера Коли пьеса получается, а у Или — нет. Он опять побежден и дает зарок — никогда не сочинять ни пьес, ни стихов, ни рассказов…
Примутся мальчики в карты играть — опять тот же результат: карты, известно, хладнокровие любят; «спокойный папаша» полколоды примет — козыря не выпустит; а «мистер ртуть» нетерпелив, азартен; и вечно сидит в «дурачках». Игра кончается ссорой, слезами. И зароком никогда карт в руки не брать. Ольга Николаевна даже утверждает, что эти неудачи внушили Илье Ильичу «полное отвращение к картам». Иван Михайлович Сеченов говорит несколько иначе. Описывая годы совместной работы в Новороссийском университете, он вспоминал:
«Жили мы тихо — утро за делом в лаборатории, а вечером большей частью в нашем салоне (у Н. А. Умова. — С. Р.), за дружеской беседой и нередко за картами. Грешный человек, карточную игру, но безденежную, ввел я и, как любитель оной, яростно нападал на нашу милую хозяйку (жену Н. А. Умова. — С. Р.), когда она делала ошибки». И дальше примечание: «У Мечникова была наследственная страсть к картам, но он боялся играть даже без денег; садился возле нас, когда мы играли, и даже в качестве зрителя волновался и краснел, следя за перипетиями нашей борьбы».
Как видим, факт Сеченов подтверждает, но дает ему иное объяснение. Да и Ольга Николаевна ведь пишет, что дело не в отвращении к картам, а в нежелании быть побежденным, оказаться на лопатках!
Ольга Николаевна роняет точное слово: самолюбие. Илюша «из самолюбия стал уклоняться от этих удовольствий», то есть от таких игр, в которых брат брал над ним верх. И еще: «В этот период он потерпел целый ряд неудач, сильно повлиявших на его „самоопределение“ <…> Таким образом, путем исключения была расчищена почва для новых влияний».
5
Итак, почва была расчищена; осталось лишь прийти сеятелю. И в это время в Панасовке появился студент-медик Ходунов…
Ходунов. Больше мы о нем ничего не знаем: ни имени-отчества, ни даже инициалов; никакого представления о его внешности.
Что зимой 1851 года в Петербурге заболел Лева, второй сын Мечниковых (у него случился коксит — воспаление тазобедренного сустава), — знаем; что в день, когда пришло это известие, Дмитрий Иванович без лишних слов облачился в извлеченную из сундука едко пахнущую нафталином огромную медвежью шубу и двинулся за мальчиком, — знаем; что вместе с Левой в доме появились костыли и студенты-репетиторы, — знаем; что среди этих репетиторов и был Ходунов, который приехал в Панасовку летом 1853 года, — тоже знаем.
И больше ничего.
Кроме разве того, что Ходунов, обучая Леву ботанике, совершал с ним экскурсии по окрестностям и восьмилетний Иля увязывался за ними сперва просто для прогулки, но вскоре так увлекся составлением гербария, что Ходунов стал заниматься с ним больше, чем с равнодушным к ботанике Левой…
Наконец нашлось поприще, на котором Иля мог взять верх и над Колей, и над Жоржем с Леонидом, и даже… над самим Левой — почти взрослым в его глазах. Он стал писать по ботанике целые трактаты и читать лекции. Да, да, читать лекции — Коле, Леве, Жоржу, Леониду, а чтобы непоседливая аудитория соглашалась его слушать, он… платил каждому по две копейки (об этом сообщает в своих воспоминаниях Яков Юльевич Бардах, ученик Ильи Ильича; он слышал об этом от Николая Ильича, так что свидетельство точное: Коля сам получал от Илюши эти двухкопеечные монетки).
Страсть взыграла в нем, страсть! Искра, оброненная невзначай Ходуновым, дала яркую вспышку. Открывшаяся перед ним дорога казалась гладкой и прямой. Ухабы и выбоины на ней не различались. Может быть, это хорошо: хоть он и не трусливого десятка, а кто знает, не убоялся ли бы, если б заранее знал, сколько раз предстоит оступиться, шагая по ней, разбиться в кровь и даже заглянуть туда, за черту…
Впрочем, в первый раз это случилось еще тогда, в детстве, в одиннадцать лет. Он ловил в пруду гидр, да они, видно, плохо ловились; ему надо было проверить какие-то свои мысли, а сачок оставался пустым. И вот он, снедаемый нетерпением, с излишней резкостью забросил в очередной раз сачок и — бултыхнулся в зеленую тину. Вытащили его уже изрядно нахлебавшегося; плавать он не научился — может быть, потому, что и в этом деле не хотел обнаруживать свое неумение перед Колей. Однако эта холодная ванна не могла уже умерить жар его страсти…
В тот день случилась еще одна беда. Едва отдышавшись после нечаянного купания, он чуть не сгорел: в доме случился пожар. То было 20 июля, в Ильин день, когда по традиции в Панасовке собирались на именины хозяина родственники и знакомые со всей губернии. Огонь сильно напутал мальчика, но он долго бегал по дому, ища маленького Колю — только что родившегося сына Екатерины Ильиничны. Лишь узнав, что мальчик в саду, на руках у матери, он покинул охваченный пламенем дом.
Нет, не всегда он был «убоищем»…
ГЛАВА ТРЕТЬЯ Его университеты
1
Из-под родительского крова Илья Мечников выпорхнул в 1856 году.
В гимназию мальчиков отвез, конечно, молчаливый Дмитрий Иванович. Подождал, пока они сдадут вступительные экзамены — Коля в третий, Илья — во второй класс, определил их в частный пансион «для благовоспитанных детей» Карла Ивановича Шульца и отбыл восвояси…
Карл Иванович кормил благовоспитанных скверно, — во всяком случае, так казалось привыкшим к панасовским разносолам мальчикам, — зато обильно потчевал нравоучениями и уроками танцев.
В гимназии было веселее. Только что отгремела Крымская война, море российской общественной жизни всколыхнулось под напором свежего ветра. Уходили времена, когда из года в год в «Приказные книги» гимназий вносились одни и те же распоряжения высшего начальства: «чтобы ученики, идя в столовую или в церковь, строились попарно, наблюдая при том постепенность по росту, так, чтобы меньшие шли впереди, а большие позади; чтобы составлялись списки по росту, дабы можно было строить учеников в шеренги; чтобы воспитанники, идя в город, были всегда в полной форме, в мундирах, застегнутых на все пуговицы, в форменной фуражке…»
Кончались эти времена; уходили в Лету.
Учителя гимназии — люди по большей части молодые — заботились теперь не о том, чтобы ученики держали ровность строя; учителя, во всяком случае, лучшие, старались разглядеть как раз то, чем ученики из строя выбивались; любили заводить разговоры по душам.
Правда, по данным одного харьковского педагога, из класса в класс успешно переходило около семидесяти процентов учеников; в среднем каждый гимназист раз в три года оставался на второй год, причем причину этого педагог видел не в малом радении учащихся, а в «многосложности гимназического курса, от которой проистекает поверхностность учения и которая развивает умственную апатию и отвращение к науке».
Но у Ильи апатия не развилась. В первый год он прилежно преодолел «многосложный» курс и даже попал на золотую доску. Доказав себе и другим, что может быть первым по всем предметам, он в следующий год добрую половину их забросил, чтобы с тем большим рвением отдаться любимым.
Любимыми были естественные науки.
Лекций товарищам он теперь не читал: карманные деньги тратил на книги. Понимал в них немного, «но и это непонятное, — пишет Ольга Николаевна, — возбуждало его любознательность».
Все более грозные ветры общественных настроений одних горячили, у других вызывали озноб. Больше всех горячились студенты. Они отпускали лохматые бороды, до хрипоты спорили в прогорклых от табачного дыма университетских уборных (специальных курилок, согласно уставу, не полагалось), совали друг другу запрещенные книжки.
Гимназисты по причине нежного возраста бород отпускать не могли, но в остальном от студентов старались не отставать.
В Харьковском университете учились два брата Богомоловы — Михаил и Иван, сыновья фабриканта красок. Отец, дабы иметь знающих помощников, определил их учиться химии.
Под руководством молодого профессора Николая Николаевича Бекетова они овладевали премудростями химического эксперимента, и один из них, Михаил, выполнил даже интересное научное исследование.
Второй Богомолов, Иван, увлекался не столько химией, сколько совсем другими вещами. Посланный отцом за границу для «усовершенствования в науках», он встретился с А. И. Герценом и привез «бездну запрещенной литературы» (что было потом выяснено на следствии по делу о тайном обществе в Харькове).
Все это не имело бы к нашему повествованию никакого касательства, если бы у фабриканта красок не было еще третьего сына, ученика второй харьковской гимназия, и если бы от бородатых Богомоловых запрещенные и незапрещенные книжки не переходили к безбородому, а в гимназии их не прочитывал Илья Мечников.
Правда, герценовский «Колокол» в душе его отзвука не нашел. Освободить крестьян? Да, конечно, но надо ли звонить так громко? Он не помнит, чтобы в Панасовке мужики сильно тяготились крепостной зависимостью…
Иное дело — Фогт, Молешот, Бюхнер. Чтобы читать их, Илья даже взялся основательно штудировать немецкий язык; впрочем, скоро по рукам пошли размноженные на гектографе русские переводы…
Мальчики к тому времени отмаялись два года в пансионе непереносимого Карла Ивановича и уговорили Эмилию Львовну поселить их на частной квартире. Свободного времени стало больше. Использовали они его, правда, по-разному. Коля играл с приятелями в карты, пристрастился к бильярду, а в старших классах не прочь был кутнуть в веселой компании. Илья пытался вразумить брата, но «спокойный папаша» рассудительно возражал, что каждый делает то, что ему хочется. Ты, мол, ученые книжки читаешь, валяй на здоровье, а я удовольствие нахожу в другом.
Коля уходил, а Илья погружался в чтение…
2
Через много лет в своих воспоминаниях об Александре Онуфриевиче Ковалевском Мечников особо остановится на настроениях молодежи конца 50-х — начала 60-х годов и в связи с этим процитирует разговор Базарова с Аркадием. Базаров советует другу предложить отцу почитать «что-нибудь дельное» и на вопрос, «что бы ему дать», отвечает: «Да я думаю, Бюхнерово „Stott und Kraft“ на первый случай».
«Stott und Kraft» (правильно «Kraft und Stott» — «Сила и материя») и было наиболее известным произведением Бюхнера.
«„Наука и опыт“ — вот лозунг времени», — читал Илья.
«Мир есть не осуществление единичной мысли творца, а комплекс вещей и фактов, который мы должны признать таким, каков он на самом деле, а не таким, каким угодно представлять его нашей фантазии».
«Как не может быть мышления без мозга или без телесного аналога его, точно так же нормально развитой и нормально питаемый мозг не может существовать, не мысля; и если бы мы захотели представить себе мыслящий мировой дух, то это было бы невозможно без мирового мозга, питаемого кровью, изобилующей кислородом».
«Душа без тела, дух без организма, мышление без субстанции — такая же немыслимая и несуществующая вещь, как электричество, магнетизм, теплота, сила тяжести и т. д. без тел или веществ, в деятельности которых они могут проявляться».
От этих строк веет грубым вульгарным материализмом. Но сколько убежденности в тех же строках и как подкупающе ясна вырисовывающаяся из них картина! Закон сохранения материи и закон сохранения энергии — вот незыблемый фундамент, на котором стоит мир. В природе нет ничего, кроме вечно движущейся и видоизменяющейся материи; все комбинации ее временны и непрочны. То, что вчера было соловьем, производящим чарующие звуки, завтра обратится в прах… Рассуждения о душе, способной существовать отдельно от тела, о мировом духе — не больше чем пустые, ни на чем не основанные фантазии…
Вот что открыл для себя Илья, и открытие это было громом среди ясного неба, землетрясением, всемирным потопом… Ведь что означало оно для юного поклонника естественных наук? Что бога нет! Нет высшего судии, всевидящего и всепроникающего, у которого с младенческих лет привык ежедневно вымаливать прощение за невесть какие провинности.
А из этого следовало, что можно разогнуть плечи, широко открыть глаза и по-новому посмотреть на окружающий мир — взглядом не приниженного раба, а властного хозяина. Ибо сколько ни твердили ему, что бог милостив и справедлив, однако ведь воспитывали в страхе божием. И вот оказалось, что это бредни, бабушкины сказки…
Как было не воспрянуть? Как было не возликовать душе его, которая, как выяснилось, вовсе не существует без тела?
Правда, вместе с верой в бога приходилось распрощаться и с верой в личное бессмертие…
Приходилось мириться с мыслью, что там, в конце этой жизни, ждет тебя вовсе не переход в иной — и лучший — мир, а полное уничтожение… Приходилось мириться с тем, что твои мысли и чувства, страдания и надежды, мечты и стремления — это всего лишь капризное сочетание первоэлементов материи, столь же зыбкое и непрочное, как и всякое другое их сочетание, и оно непременно рассыплется в прах, исчезнет без следа…
Совсем недавно, каких-то полтора десятка лет назад, тебя еще не было; пройдет пусть пять, пусть шесть десятилетий, и тебя опять не будет. Так что же тогда твое единственное и неповторимое «я», как не едва различимая кочка на унылой, уходящей в бесконечность равнине несуществования?..
Но подобные мысли — если нечто подобное проносилось в голове юного философа — не вызывали в нем уныния. Может быть, потому, что те пять или шесть десятков лет, на которые он имел основание рассчитывать, почти все лежали перед ним впереди и казались не маленькой кочкой, а огромной горой, вполне соизмеримой с вечностью.
Едва дождавшись переменки, он теснил в угол первого попавшегося товарища, жарко дышал ему в лицо:
— Ты знаешь, у Бюхнера как дважды два доказывается, и Молешот то же самое утверждает… Бога нет!
Чему он радуется, товарищи не понимали. Они прозвали его Боганет, а в общем-то им, как и рассудительному Коле, плевать было на Бюхнера вкупе с Молешотом.
Но вот чаще других ему стал подворачиваться Володя Заленский — рослый худощавый мальчик. Как выяснилось, в свободное время он тоже почитывает естественнонаучные книжки.
Своей невозмутимостью Володя напоминал «спокойного папашу» Колю, однако несходство характеров и заметная для подростков разница в возрасте — Володя был на два года младше и учился на два класса ниже — сближению их не помешали. Друзья сколотили в гимназии кружок, участники его поделили между собою разные отрасли знаний и со свойственным юности максимализмом решили общими силами создать нечто вроде новой энциклопедии. На меньшее они не соглашались!
3
Второе открытие Илье принесло чтение Бокля, сочинение которого, впрочем, запрещено никогда не было.
…С фотографии на нас смотрит расплывшееся, отечное лицо с большим выпуклым лбом, незаметно переходящим в обширную лысину, со стянутыми в узелок кукольными губами. Оно казалось бы неживым, если бы не какая-то лихость в разлете бровей, подвижность и ясность широко открытых, хоть и с припухлыми веками, глаз.
Бокль был сыном богатого лондонского купца. В четырнадцать лет он упросил отца взять его из школы и занялся самообразованием. В восемнадцать он замыслил грандиозный труд — ах, этот юношеский максимализм! — историю мировой цивилизации. Вскоре он убедился в неисполнимости своей затеи и решил ограничиться лишь историей цивилизации в Англии…
Позднее Мечников уверял, что книга Бокля сыграла особо важную роль в формировании взглядов его поколения, но Заленский с этим не согласился. Кто тут более прав — решать не будем. Очевидно, на Заленского Бокль особого влияния не оказал, а на Мечникова оказал — только и всего.
Но в чем же заключалось это влияние? Ведь Бокль пишет не о губках, асцидиях или планариях; он говорит о торговле, войнах, развитии промышленности. Что до всего этого будущему зоологу или, возьмем шире, естествоиспытателю Мечникову?
Следовало бы привести несколько выписок из Бокля, как мы это сделали с Бюхнером. Но Бюхнера цитировать нетрудно: он писал ярко, афористично, да и книга его при всей своей смелости все-таки полудетская; не случайно Базаров рекомендовал ее только на первый случай. А Бокль как-то не дробится на цитаты. Перечитывая его труд, не знаешь, на чем остановиться. Бокль основателен, глубок; силен не высказываниями — аргументацией. Биографы Бокля уверяют, что еще до того, как его книга вышла в свет и за ним укрепилась слава великого историка, в Лондоне его знали как человека, прочитавшего 22 тысячи книг. Даже если эти данные преувеличены, все же нет сомнений, что эрудиция Бокля была колоссальной: ею дышит каждая строчка его книги. И вот все свои знания, весь багаж фактов Бокль употребил на то, чтобы доказать один простой тезие: человеческое общество движется вперед благодаря накоплению положительного знания.
Такэто же как раз то, чего, выражаясь высоким стилем, алкала душа юного Мечникова!
Не императоры и министры, не дипломаты и полководцы, а скромные труженики науки — вот подлинные творцы истории!
Возможно, Заленскому было вполне достаточно прочитать в «Зоологических очерках» Фогта полемически заостренное утверждение: ученые занимаются своими исследованиями только потому, что им это нравится. Мечникову этого было мало. Ему требовалось обоснование, которого он не мог, понятно, найти в самих естественных науках, своего права на занятие любимым делом. Бокль же такое право обосновывал.
И первое, в чем убедился Илья, — это что поступил дальновидно, когда забросил половину гимназического курса, дабы штудировать научные труды по естествознанию…
Он читал их прямо на уроках, почти в открытую, и однажды его «засек» законоучитель.
Батюшка готов был разразиться тирадой о каре божьей, которая падет на голову негодника, развращающего себя пошлым романом вместо того, чтобы зубрить деяния апостолов… Нетрудно представить себе, как вытянулось лицо батюшки, когда на обложке книги он прочитал: «Людвиг Радлькофер. О телах, содержащих кристаллы протеина».
Поучительная тирада застряла в батюшкином горле. Он повертел книгу, молча вернул ее и старался больше не смотреть в сторону странного гимназиста — словом, взял грех на душу.
Будем надеяться, что, отправившись, когда пришел его срок, к праотцам, батюшка сумел вымолить прощение за этот свой грех, ибо доказал, что того, что творил, — не ведал. Ведь он действительно не ведал, что кристаллы протеина вместе с «Классами и порядками животного царства» Бронна, «Единством физических сил» Граве (последнее сочинение Мечников вместе с Заленским переводил на русский язык) и невесть какими еще книгами развратят отрока пуще самых пошлых романов, так что, когда придет и его час, он прикажет сжечь свое бренное тело, словно какой-нибудь язычник…
А будущий язычник, дождавшись с нетерпением конца занятий, бежал на свою «частную квартиру», которую снимал неподалеку, на Благовещенской улице, торопливо сбрасывал гимназический мундир, надевал белую крахмальную рубашку со стоячим воротничком, тщательно прикреплял перед зеркалом «бабочку», натягивал черный сюртук, приглаживал длинные волосы на косой пробор, ниспадавшие с двух сторон пологими волнами, проводил ладонью по худощавому своему лицу с явно обозначенными скулами в тщетной надежде ощутить колкость пробивающейся растительности (пока таковая украшала нежным пушком лишь ею верхнюю губу) и несколько минут всматривался в свои запавшие под сдвинутыми бровями глаза, дабы придать им выражение солидности и степенства.
Такую же процедуру проделывал и Коля; он, понятное дело, спешил на пирушку.
А Илья?
О, у него было не меньше оснований торопиться!
Выскочив из дому, он стремительно спускался по Благовещенской улице, проходил мимо недавно отстроенной и невозможно расфранченной Благовещенской церкви, перебегал мостик через зловонную речушку и подымался на обсаженную тенистыми липами университетскую горку. Прямо перед ним возвышалась стройная и легкая, устремленная ввысь, точно выпущенная из лука стрела, колокольня Успенского собора, возведенная в память о 12-м годе; не доходя до нее, Илья круто сворачивал вправо и здесь, замедляя шаг, с независимым видом скрывался за тяжелой дверью университетского подъезда.
Примостившись где-нибудь в заднем ряду аудитории, чтобы не мозолить глаза предательской оголенностью своего подбородка, он жадно слушал то профессора сравнительной анатомии А. Ф. Масловского, то профессора геологии И. Ф. Леваковского, то молодого профессора физиологии И. П Щелкова…
А однажды, набравшись храбрости, он подошел к Масловскому и попросил разрешения позаниматься в лаборатории.
Профессор метнул оценивающий взгляд и, нимало не обманувшись сюртуком и «бабочкой», посоветовал… сперва закончить гимназию.
Затаив обиду, Илья не без душевного трепета обратился к Щелкову. Щелков неторопливо повернул в сторону юноши небольшую голову на длинной кадыкастой шее, посмотрел на него сверху вниз и, не выразив взглядом ни удивления, ни недоумения, холодно ответил, что коллега может пользоваться лабораторией в любое удобное для него время.
…Две тесные полутемные комнатушки, оборудованные под лабораторию из бывших умывальных, Иван Петрович Щелков отвоевал у университетского начальства после того, как вернулся из-за границы, где прошел выучку у Людвига, Гоппе-Зейлера, Дюбуа-Реймона, то есть крупнейших физиологов того времени. В одной из комнатушек, сдвинув приборы и склянки с препаратами, он расчистил краешек стола для гимназиста.
Профессор Щелков даже на лекциях своих, которые читал, по отзывам его слушавших, глубоко и содержательно, но суховато, без всяких внешних эффектов, — был немногословен; в лаборатории же его царила тишина.
Профессор работал молча, учеников точно не замечал, предоставляя им полную свободу. Когда его о чем-нибудь спрашивали, — отвечал… Спрашивать, однако, не всегда хватало духу, если ученик обнаруживал незнание того, что, по мнению Щелкова, обязан был знать, объяснение его наполнялось желчной иронией. Не очень-то подходящая атмосфера для самолюбивого и вспыльчивого юноши!
Впрочем, никаких эксцессов между ним и профессором не происходило — то ли Илья был хорошо подкован, то ли ему, как гимназисту, позволялось не знать многое.
4
Странное дело. Ему было пятнадцать, потом шестнадцать, потом семнадцать лет; те пять или шесть десятков, на которые он имел основание рассчитывать, все лежали перед ним впереди. А он рвался бежать, точно не на своих двоих путешествовал по жизни, а спешил на поезд, который вот-вот должен отойти…
В последний гимназический год он опять навалился на «нелюбимые» предметы, так что, кажется, даже реже стал посещать лабораторию И. П. Щелкова. Он решил закончить гимназию непременно с золотой медалью, и желание это было бы пустым тщеславием, если бы не созрел у него тайный план.
Потеревшись среди студентов, побегав на университетские лекции, Илья пришел к заключению, что многому в Харьковском университете не научится.
Ну что ж, не Харьковский университет, так Московский, Петербургский… Но нет, Илья свое суждение о Харьковском университете распространил на все российские университеты. Правда, ему как естествоиспытателю (а он имел претензию считать себя естествоиспытателем) следовало бы знать, что вывод его недостаточно строг, так как лишен основательной фактической проработки. Но он решил не рисковать.
Его тайный план заключался в том, чтобы поехать учиться в Германию. И дабы уговорить родителей, которые о его успехах могли судить лишь по аттестату, он и решил привлечь в качестве союзника золотую медаль.
И хотя в самый разгар экзаменов в Харьков приехала итальянская опера и он, полюбивший с младенчества музыку, не в состоянии был пропустить ни одного спектакля, все же тяжелый поблескивающий кругляк лег на его ладонь.
В Панасовке медаль произвела нужный эффект, и пока радостное возбуждение не успело улечься, Илья не замедлил раскрыть свой план. У Эмилии Львовны упало сердце: шутка ли отпустить мальчика (и впрямь мальчика: ему едва в то лето минуло семнадцать) на чужбину! Но согласилась она, против ожиданий, быстро; она верила в его звезду. Она же взялась уговорить отца.
…Итак, он один, совсем один, впервые один, переполненный тревожным возбуждением, пустился в путь. В Берлине он остановился всего на день и поехал в Лейпциг, славившийся своими ярмарками, в том числе книжными, чтобы раздобыть нужную литературу. Сняв комнату у молодого немца, который «поймал» его прямо на вокзале, Илья на следующее утро помчался туда, где сосредоточивалась книжная торговля. Обойдя два десятка магазинов, вдоволь порывшись в книжных россыпях и нагрузившись двумя увесистыми связками, он вышел на улицу и вдруг обнаружил, что не помнит ни дороги «домой», ни названия «своей» улицы. В полной растерянности бродил юноша по незнакомому городу. Сворачивал наудачу в узенькие кривые улочки старого Лейпцига, выходил на новые прямые проспекты и с отчаянием обнаруживал, что кружит на одном месте. Вот опять Ратуша, увенчанная башней с часами; вот здание музея; театр; университет с множеством скульптур по фронтону; вот памятник Баху… Связки книг становились все тяжелее, бечевка глубоко врезалась в посиневшие пальцы. Мимо шли люди, разговаривали, смеялись. Он несколько раз хотел обратиться к прохожим, но в последний момент спохватывался: никто не в состоянии был ему помочь. И чем оживленнее становилось на улицах, тем острее он ощущал полную свою беспомощность и одинокость…
В конце концов ему повезло: он узнал «свою» улицу. Но нервы были так напряжены, что он даже не почувствовал облегчения; и поспешил уехать в Вюрцбург.
Вюрцбург и был целью его путешествия. Здесь в университете занимал кафедру знаменитый Кёлликер, под руководством которого Илья намеревался изучать протоплазму.
Сняв комнату у каких-то сердитых стариков и забросив в нее чемоданы, юноша помчался в университет. Наконец-то он вступит туда, где ключом бьет мысль, где кипит жизнь, где делаются великие открытия!
Но… раскинувшееся на целый квартал здание университета встретило его мертвой тишиной. В замкнутом квадратном дворе, куда вели арочные проходы, было пусто. На дверях парадного входа висел тяжелый замок… С трудом разыскав полусонного сторожа, Илья узнал, что в университете каникулы и закончатся они еще не скоро. Спросив, где живут русские студенты, Илья бросился к ним. Но студенты не выказали большой радости от встречи с соотечественником; во всяком случае, так ему показалось. Растерявшийся, взвинченный до предела, пришел он к своим хозяевам и, не зная, за что взяться, начал распаковывать чемоданы. Но вдруг на него навалилась жуткая тоска, к горлу подкатил горький комок, и он, глотая слезы, стал лихорадочно укладываться и заявил, что уезжает. Старики напустились на него с бранью, и он бросился бежать, бежать без оглядки, без остановки — от своих сердитых хозяев, из ставшего ненавистным Вюрцбурга, из чужой и холодной Германии.
5
Не зная, куда девать глаза от стыда, явился он в Панасовку. Но родные вмиг сообразили, что творится у него на душе, — встретили радостно; не попрекнули зря потраченными деньгами, не укололи неосторожной шуткой… Понемногу он отошел, успокоился… Но что-то надо было делать… И Илья поступил в Харьковский университет, хотя продолжал считать, что учиться ему там нечему…
И слава богу, что поступил! Ведь если поразмыслить, то будущему естествоиспытателю вовсе не вредно прослушать полный университетский курс, пусть без должного лабораторного практикума, пусть без учета новейших открытий, однако же курс систематический.
Да и так ли отстали харьковские профессора!.. Был ведь все-таки среди них Щелков, о котором Мечников вспомнит впоследствии с благодарностью, что, впрочем, не помешает ему с некоторым пренебрежением отозваться о научных заслугах своего учителя. «Хотя Щелков не оставил по себе заметного имени в науке, но деятельность его как первого научного преподавателя физиологии в провинциальном университете не осталась бесследной, так как из его лаборатории вышло несколько серьезных ученых, между которыми особенно выдался В. Я. Данилевский» — таковы слова Мечникова. А особо выдавшийся профессор В. Я. Данилевский, — как физиолог, он с большим основанием мог судить о трудах своего учителя, — отмечает работы Щелкова по дыханию мускулов, «справедливо считающиеся классическими и доставившими ему почетную известность в науке».
А тот же Масловский. На поклон к нему Илья теперь не пойдет. И зря! В лаборатории Масловского с успехом занимались студенты и выполняли самостоятельные исследования. Среди них Митрофан Галин, оставленный Масловским при своей кафедре и ставший видным зоологом. Позднее, когда Мечников из-за границы пришлет свою работу на степень кандидата, А. Ф. Масловский станет ходатайствовать об освобождении его от защиты (смысл защиты сводился к тому, чтобы удостовериться, что работа выполнена самим соискателем, а не другим лицом) и тем самым избавит от необходимости приезжать в Харьков; факт, хотя и ничего не говорящий о Масловском-ученом, но много говорящий о Масловском-человеке, — это ведь тоже немаловажно.
А профессор зоологии А. В. Чернай. При нем из стен Харьковского университета в короткое время вышла целая плеяда талантливых зоологов: будущий профессор П. Т. Степанов, упоминавшийся нами М. С. Ганин, Мечников, наконец, идущий по его следам В. В. Заленский. Столь богатый урожай зоологов — факт по тем временам выдающийся; на него обратил внимание сам академик Бэр. Неужели мы поверим Мечникову, что профессор зоологии не имел к этому никакого касательства? Правда, когда Бэр обратился с соответствующим вопросом к Чернаю, тот остроумно ответил, что тут имеет место «самопроизвольное зарождение». Мечников подхватывает этот ответ: «В самом деле, не он возбудил у своих слушателей любовь к науке».
Дальше Илья Ильич красочно описывает, как профессор «аккуратно являлся на лекции с учебником Каруса и Герштеккера в русском переводе, читал из него выдержки, приводя от себя лишь несколько общих замечаний на тему об „удивительном разнообразии“ животного мира. Зоологической лаборатории в то время не существовало, и все занятия ограничивались беглым осмотром коллекций в витринах и закупоренных склянках».
Ну хорошо, лаборатории не было. Но неужели осмотр коллекций был только беглым? И неужели А. В. Чернай, автор, между прочим, двухтомной «Фауны Харьковской губернии», не мог добавить к стандартному учебнику ничего, кроме «удивительного разнообразия»? Вот ведь П. Т. Степанов, прослушавший у Черная полный курс, находил его весьма содержательным. А много ли лекций профессора зоологии удостоил посещением столь строго о нем судивший Мечников?
Какие там лекции! Ему хочется во что бы то ни стало сейчас же, немедленно, заявить о себе ученому миру. Он наскоро доводит до конца начатое еще в гимназическую пору исследование над инфузориями и посылает статью в научный журнал. Однако что-то тревожит его, беспокоит… Он повторяет опыты и вдруг, к ужасу своему, убеждается, что допустил ошибку. В редакцию летит просьба ни в коем случае статью не публиковать…[4]
Он набрасывается на книги, привезенные из Лейпцига, в первую очередь на «Происхождение видов» Дарвина. В России эта величайшая книга века еще не вышла (первый перевод, сделанный профессором С. А. Рачинским, появится лишь в 1864 году), и юный Мечников решает познакомить с ней публику…
По силам ли ему реферат столь серьезного труда? Но это наш вопрос. У самого Ильи нет и тени сомнений. Больше того, он не ограничивается пересказом прочитанной книги, а считает, видите ли, «небесполезным изложить свой взгляд на теорию Дарвина», Мысль о том, что его взгляд, взгляд семнадцатилетнего юнца, немного значит в глазах почтенной публики, ему в голову не приходит! И хотя автор с наивной откровенностью сообщает, что дать «подробную критику» он не может, так как для этого «должен бы был перечитать целую кучу сочинений, написанных по поводу теории Дарвина, из которых мне до сих пор еще ни одно не известно» (курсив здесь и далее мой. — С. Р.), он тем не менее делает «общее замечание о составе сочинения, прежде всего резко бросающееся в глаза».
Замечание это следующее:
«Я хочу сказать о бездоказательстве очень многих весьма важных положений Дарвина, для пояснения которых он приводит иногда некоторые примеры; фактов у него почти нет или же он их сообщает в таких случаях, когда вовсе не требуется никаких доказательств. Эта бедность в фактах, составляющая главный недостаток изложения, служит источником и других ошибок. Кроме того, этот же недостаток <…> заставляет его во многих случаях говорить ужасные несообразности, противоречить самому себе».
Перед величественным храмом науки он не испытывал священного трепета. Тихо войти, аккуратно притворить дверь и незаметно стать у стены? Нет! Ему надо было ворваться, опрокинуть дюжину стульев и перебить побольше посуды.
Существа теории Дарвина он не понял. И напрасно некоторые комментаторы, отмечая «юношескую смелость», пытаются найти в статье Мечникова «блестящую критику мальтузианского „промаха“ Дарвина», которая якобы «перекликается с критикой мальтузианства в сочинении Дарвина, данной Марксом и Энгельсом».
Основной недостаток книги Дарвина Маркс и Энгельс видели в его некритическом отношении к теории Мальтуса, объявившего борьбу за существование, борьбу всех против всех основным законом человеческого общества. В приложимости теории борьбы за существование к миру живой природы они нисколько не сомневались. Энгельс подчеркивал, что «не требуется мальтусовских очков, чтобы увидеть в природе борьбу за существование, увидеть противоречие между бесчисленным множеством зародышей, которые расточительно производит природа, и незначительным количеством тех из них, которые вообще могут достичь зрелости, — противоречие, которое действительно разрешается большей частью в борьбе за существование, подчас крайне жестокой».[5]
А юный Мечников Мальтуса вовсе не критикует. Он пишет:
«Не решаясь доказывать верность или неверность Мальтусова закона, мы займемся только сравнением его с только что изложенным учением Дарвина».
«Сравнение» сводится в основном к следующему: «Мальтус полагает, что возрастание земледельческого продукта, который, разумеется, состоит из организмов, возрастает по арифметической прогрессии; Дарвин же, напротив, полагая во всех организованных существах одинаковое стремление к быстрому размножению, тем самым считает и продовольствие стремящимся возрастать по той же геометрической прогрессии…»
Один из исследователей, имея в виду известное высказывание Маркса («Дарвин в своем превосходном сочинении не видел, что он опрокинул теорию Мальтуса, открыв „геометрическую“ прогрессию в царстве животных и растений»[6] и т. д.), пишет: «И. И. Мечников, не знавший Маркса, пришел по этому вопросу к той же мысли, что и Маркс, и сформулировал эту мысль почти в тех же выражениях».
Однако Маркс считает, что Дарвин опрокинул теорию Мальтуса, и ошибку его видит только в том, что он сам этого не заметил. Мечников же лишь ловит Дарвина на противоречии и полагает, вопреки Марксу и Энгельсу, что «эта ошибка имеет то важное значение, что она решительно не приводит к тем положениям, которые принимает Дарвин».
Обнаружив у Дарвина еще кучу «ошибок» и «несообразностей», юный критик делает окончательный вывод:
«Итак, рассмотревши сочинение Дарвина даже самым поверхностным образом (!), мы все же должны признать несостоятельность его теории в самых главных, существенных ее положениях…»
Приговор, как видим, суров и окончателен; обжалованию не подлежит. Правда, в самом конце своей рецензии строгий критик неожиданно заявляет: «Но, отвергая теорию Дарвина, мы этим еще не хотим бросить камнем в самую идею изменяемости видов; напротив, мы готовы предсказать этой теории великую будущность и, хотя мы не имеем убедительных фактов в пользу ее абсолютной истинности, однако же, с глубокой верой в нее, мы можем смело и непреклонно стать в ряд самых ревностных ее приверженцев…»
Удивительный сумбур царил в его голове! Доказательства Дарвина его не устраивали, зато без всяких доказательств, с одной лишь глубокой верой, он готов был стать в ряд, да к тому же смело и непреклонно!
Последнее обстоятельство делает честь интуиции юного Мечникова и ясно показывает, что он входил в науку убежденным эволюционистом. Однако сторонники эволюции были и в додарвиновы времена. Весь вопрос состоял в том, чтобы отыскать естественный механизм эволюционного процесса и тем самым существование этого процесса в природе доказать. Эпохальное значение Дарвинова труда в том и состояло, что он приводил доказательства, и именно на них пылкий критик ополчился в своей рецензии.
Да, очень уж хотелось ему что-нибудь расколотить в храме науки, и что за беда, если подвернулся под руку хрустальный сосуд Дарвиновой теории!
…«Прилагая при сем свою статью о современной теории видов, я тем самым изъявляю полнейшее желание видеть ее напечатанной на страницах журнала „Время“, если она будет признана достойной этого. Кроме того, покорнейше прошу редакцию уведомить меня о судьбе моей статьи.
Ил. Мечников.
Адрес мой в г. Харькове, Илье Ильичу Мечникову, на Благовещенской улице, в доме Гвоздикова (наверху).
Харьков. 3/II-1863».
Нетрудно представить себе, о каким нетерпением безбородый Илья Ильич, едва дождавшись окончания лекций, мчался вниз с университетской горки, пробегал по мосту через сперва замерзшую, а потом и бурную от весеннего полноводия речку, мимо громоздкой Благовещенской церкви, к себе, в дом Гвоздикова, и, прежде чем подняться наверх, с волнением в сердце и небрежением в голосе осведомлялся у дворника, не приходило ли на его имя письмо; и как дворник, солидно высморкавшись в передник и оправив рукавицей бороду, переспрашивал, понимающе подмигивая (знаем, мол, оно такое дело молодое):
— Из Петербурха? Пишуть!..
Дни шли за днями; дворник уже перестал подмигивать и, видя тщетно скрываемые страдания самолюбивого «скубента», спешил по добросердечию своему опережать его вопросы молчаливым вздохом и покачиванием головы. Поднявшись к себе наверх, Илья мстительно сжимал кулаки и стискивал зубы. Ну, он им покажет! Кому и что покажет, он не знал.
«Время» издавали братья Достоевские, а активнейшим сотрудником журнала был Николай Николаевич Страхов, критик и публицист, между прочим, магистр зоологии, уже вкратце касавшийся в одной из статей книги Дарвина; рукопись Мечникова могла попасть только к нему. Пробежав глазами приложенное к рукописи неведомого харьковчанина письмо и отметив про себя юный возраст автора, выдаваемый наивностью некоторых оборотов, Страхов не стал спешить с выполнением его «полнейшего желания» и даже «покорнейшей просьбы». Николая Николаевича занимали дела поважнее.
В январе в Польше началось восстание с целью отторгнуть ее от России, возродить Речь Посполитую; Страхов трудился над статьей, в которой хотел осветить «Роковой вопрос». Статья разрослась; Страхов разделил ее на две части, чтобы печатать в двух номерах — с продолжением. Однако уже первая часть статьи — она появилась в апрельском номере — вызвала «неудовольствие», да такое, что журнал закрыли.
6
Не повезло Илье, не повезло… Или, может быть, повезло?!
Может быть, очень даже повезло!.. Разбей он тогда этот сосуд, каково бы ему потом, ползая, собирать осколки, да и каким клеем склеивать их! Да еще при его характере…
Известие о закрытии «Времени» (само по себе печальное) должно было приободрить безбородого критика: дело, значит, не в том, что редакция статью «не признала достойной». А раз так, то пара пустяков заново ее перебелить и отправить в другой журнал: черновик-то у него сохранился.[7] Но странно, Илья этого не делает.
Неужели поостыл, поосторожнее стал за какую-то пару месяцев? Или нашел другой способ ворваться в храм и изрядно в нем надебоширить?
Да, ему под руку подвернулся другой сосуд, не такой, конечно, величественный, как Дарвинова теория, но все же достаточно звонкий, чтобы вызвать переполох в храме. Он, Мечников, взялся за проверку исследований берлинского физиолога доктора Кюне и получил противоположные результаты. Ну что ж, бывает! В науке на случай подобных расхождений и особый этикет выработан: побольше говори о том, что сам увидел, да поменьше о том, что другой недоглядел! Кто этим вопросом занимается, сообразит, что к чему, а кто не занимается, тому и знать не обязательно…
Куда там! Пылкому ли Илье Ильичу — представителю поколения нигилистов — считаться с каким-то этикетом? Мечников всю свою статью строит на расхождениях! И электрический ток не так действует на инфузорий, как это описал почтенный берлинский доктор, и роданистый калий, и вератрин, и соляная кислота, и хлористый натрий, и желчь, и прочее, и прочее — словом, всю программу опытов берлинского ученого повторил Мечников и ни разу не увидел того же!
Сообщение его было зачитано на заседании физико-математического отделения Академии наук 5 июня 1863 года, по-видимому, академиком В. Ф. Овсянниковым и затем помещено в «Записках Академии наук в С.-Петербурге». Одновременно Илья послал, как это было принято, перевод статьи в немецкий «Архив анатомии, физиологии и опытной медицины», где она тоже была напечатана.
Доктора Кюне статья взорвала. Как! Он — известный ученый, автор одного из лучших учебников физиологии; он — добросовестный экспериментатор, чья репутация ничем не запятнана… И на него нападает какой-то никому не известный русский! Нападки эти не стоят выеденного яйца. Возражать на них нет никакого смысла, и если он, Кюне, все же возражает, то только из уважения к напечатавшему их почтенному журналу…
Но если герр доктор сердится, то тем больше оснований полагать, что он не прав. Илья повторяет свои наблюдения и посылает новую статью в Академию наук. В. Ф. Овсянников докладывает физико-математическому отделению, что «Мечников, повторив свои прежние исследования строго научными способами, отдает, где следует, должную справедливость д-ру Кюне, но вместе с тем указывает и на те из его результатов, с которыми его собственные новые наблюдения не согласны и которые он принужден считать ошибочными».
Академик В. Ф. Овсянников, видимо, немало наслышан о талантливом юноше (К. А. Тимирязев вспоминал, что в начале 60-х годов в ученых кругах Петербурга циркулировали слухи о появившемся в Харькове вундеркинде) и крайне к нему благосклонен. Сколько мы ни перечитывали статью Мечникова, никак не могли понять, в чем отдает он Кюне «должную справедливость»! Статья, правда, несколько сдержаннее, нежели первая. Но Мечников не упускает случая заметить, что, руководствуясь «единственным желанием водворить истину», он «не обращает особенного внимания» на «очень резкий тон» оппонента, однако позволяет себе «удивиться тому, что, писавши свои замечания единственно из чувства уважения к журналу, в котором были напечатаны мои исследования, он не сохранил этого уважения настолько, чтобы не выходить из пределов приличия».
Статья опять была помещена в «Записках Академии наук» и в «Архиве анатомии, физиологии и опытной медицины».
Вопрос о том, кто был точнее в своих наблюдениях, остался открытым, ибо опыты Кюне и Мечникова никто проверять не стал. Что касается существа спора — вызывается ли сокращение стебелька инфузорий проявлением общей сократимости всей протоплазмы (вывод Мечникова) или стебелек представляет собой мускульное волокно (вывод Кюне), — вопроса, по поводу которого Мечников заявил, что считает его решенным, то лабораторная техника того времени однозначно ответить на него не позволяла. Позднее оказалось, что оба участника полемики были не правы, но ближе к истине стоял все-таки Кюне: проходящий внутри стебелька тяж хотя и не тождествен мускульной ткани, но ей аналогичен.
7
Как бы там ни было с инфузориями и их стебельками, а Илья добился того, к чему (разумеется, совершенно подсознательно) стремился: в храм науки он не вошел, а ворвался, внеся в него тем самым изрядный переполох. Однако в промежутке между двумя наскоками на берлинского доктора — а на этот промежуток пришлись и летние каникулы, на которые Илья увез в Панасовку одолженный у профессора Щелкова микроскоп, — он выполнил еще несколько небольших работ над инфузориями, и эти работы хотя и без шума, однако с большей основательностью говорили о том, что в храме он не случайный посетитель, что намерен обосноваться в нем навсегда…
А когда каникулы подошли к концу, он вспомнил, что в аудиториях Харьковского университета время теряет попусту. Ему поскорее надо туда, в Вену, Берлин или Вюрцбург — словом, к истокам. Но как заикнуться об этом теперь, после столь недавнего и столь бесславного бегства!
И у него созревает новый план, о котором тоже заявить нелегко, но от которого он уже не отступится, невзирая на слезы Эмилии Львовны и гнев потерявшего обычное самообладание Ильи Ивановича.
На стол ректора университета ложится прошение.
«Имея необходимость, по домашним обстоятельствам, уволиться из здешнего университета, имею честь…»
Ректор удивлен. Как, этот юноша, о котором хорошо отзывается уважаемый профессор Щелков и который что-то там печатает в научных журналах, хочет уйти из университета!.. Но делать нечего, на прошении появляется резолюция:
«Выдать документы и исключить просителя».
Через некоторое время на столе ректора новое прошение:
«Желая в качестве вольнослушателя слушать лекции в здешнем университете, покорнейше прошу Ваше превосходительство…»
Его превосходительство раздраженно пожимает плечами и зачисляет недавнего студента вольнослушателем.
А к концу учебного года получает от него третье прошение. Мечников желает экстерном держать выпускные экзамены… Проучившись два года вместо четырех!.. Что ж, пусть попробует!
…Экзамены, как водится, совпали с началом оперного сезона, и Илья, само собой разумеется, не пропустил ни одного спектакля; но это не помешало ему сдать экзамены, сдать так, что Совет университета направил в министерство народного просвещения ходатайство командировать его на казенный счет для усовершенствования по зоологии за границу…
В 1864 году девятнадцатилетний Илья Мечников окончил университет.
Скоро, правда, выяснилось, что он зря так торопился.
Из-за границы еще не вернулся другой выпускник Харьковского университета, тоже зоолог, П. Т. Степанов, а содержать двух стипендиатов из одного университета и по одной специальности для министерства было слишком накладно.
Но победителей, как известно, не судят; Илья Иванович сменил гнев на милость, просохли и просияли глаза Эмилии Львовны… Илье еще нужно было собрать материал для кандидатской работы. Кандидатская в те времена — это не нынешняя кандидатская; нынешней кандидатской степени соответствовала степень магистра. А кандидатская работа — нечто вроде нынешнего диплома. В общем, для приличной кандидатской диссертации вполне можно было набрать материал в панасовском пруду. Но Илья объявил, что коль скоро ему не суждено пройти за границей основательную подготовку, то он желает хоть на два месяца поехать на остров Гельголанд. Эмилия Львовна его тут же поддержала и добилась согласия Ильи Ивановича, а Дмитрий Иванович, сосредоточенно о чем-то поразмыслив, разжал свои обычно сомкнутые уста и сказал, что для такого дела вполне может сократить некоторые не очень срочные расходы по хозяйству…
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ Его университеты. Продолжение
1
На этот раз он все тщательно взвесил, обдумал, навел необходимые справки…
Гельголанд состоит из двух частей — Верхней и Нижней, соединенных деревянной лестницей в 190 ступеней…
Но не лестницей прославился этот островок и даже не святилищем бога Фосите, разрушенным еще в VIII веке святым Виллебродом; и не строгими нравами местных жителей — такими строгими, что на острове никогда не было тюрьмы… Натуралисты съезжались каждое лето на островок потому, что он окаймлен песчаными косами и рифами, из-за чего вдоль берега образуется как бы естественный аквариум, кишащий всевозможной живностью.
Она-то и привлекла юного естествоиспытателя, который за время подготовки к выпускным экзаменам изрядно поостыл к инфузориям и увлекся историей развития животного царства.
2
«Во всей естественной науке нет более важного пункта, как вопрос об образовании организма из основной субстанции. Тут лежит ключ ко всей физиологии и биологии».
Эту мысль почти за сорок лет до того, как юный выпускник Харьковского университета прибыл на заброшенный среди вод Северного моря островок, высказал Карл Эрнст Бэр — тогда тоже совсем юный натуралист.
Бэр приехал в Вюрцбург прослушать курс сравнительной анатомии у профессора Деллингера, а у профессора Деллингера была давняя мечта: проследить развитие зародыша в курином яйце.
Но яйца стоили дорого, а еще дороже стоила «машина для высиживания». Тем более что к ней надо было приставить «обслуживающий персонал», дабы круглосуточно поддерживать постоянную температуру. А еще требовалось нанять гравера: чтобы работа имела смысл, нужно было все стадии зародыша тщательно зарисовывать…
Не имевший необходимых средств Деллингер предложил свою заветную тему Бэру. Но юноша был еще беднее учителя.
Однако вслед за Бэром в Вюрцбург приехал его друг Христиан Пандер. Отец Христиана был директором банка в Риге, и то, о чем Деллингер и Бэр могли только мечтать, Пандеру оказалось вполне по карману.
«Я горжусь тем, что был главным зачинщиком этого предприятия», — писал Бэр, видя, как успешно начинались опыты Христиана.
Вскоре Бэр получил место в Кенигсберге, а через два года Пандер прислал ему свою только что вышедшую диссертацию…
Бэр читал монографию не спеша, подолгу разглядывал гравюры и, чтобы уяснить себе непонятные места, сам стал вскрывать куриные яйца. Через десять лет он выпустил первый том «Истории развития животных»; появление этого труда означало, что основана новая наука — эмбриология. Еще через девять лет вышел второй том…
Бэр не только дополнил и уточнил исследования Пандера, но сделал из них выводы. Он показал, что эмбриональное развитие животного подчинено строгим законам. Чем дальше зашел процесс развития, тем яснее выражены отличительные особенности данного организма. На третий день зародыш цыпленка приобретает строение, присущее всем позвоночным, позднее появляются признаки, характерные для класса птиц; затем — отличительные для данного отряда, семейства, рода, вида… Бэр свел воедино эмбриологические данные, касающиеся не только птиц, но и других животных. И обнаружил, что у всех позвоночных зародыш закладывается сходным образом — в виде особых листков, причем одни и те же листки дают начало одним и тем же группам органов.
Бэр пытался разобраться и в эмбриологии беспозвоночных, но данных об их развитии было слишком мало, а самих беспозвоночных — слишком много. Пути развития их групп выявляли мало общего, и Бэр заключил, что разные типы животных развиваются по-разному и что предложенная им схема развития позвоночных для остальных трех типов (Бэр всего выделял четыре типа животного царства) не пригодна…
Вывод этот, как показало будущее, был неправильным. Но правильна основная посылка Бэра: изучение зародышевого развития вело к пониманию важнейших закономерностей жизни.
3
Здесь следует сообщить о недуге, который почти всю жизнь мучил Мечникова: он скверно спал. Стоило залаять собаке или подраться кошкам, и Илья Ильич не смыкал глаз до утра. Достаточно было не закрыть в доме ставни, и он маялся даже в темную безлунную ночь… Ну а когда начинал брезжить рассвет, то не помогали никакие ставни…
Еще в детстве Илья приобрел привычку вставать ни свет, ни заря, а так как он не умел терять время попусту и особенно дорожил им на Гельголанде, то с первыми лучами солнца, вооружившись сачком и ведерком, он уже бороздил по мелководью. Этим он заметно отличался от немецких коллег…
Увлекшись охотой, Илья не замечал, как каждый день в один и тот же час берег пустел, ибо коллеги куда больше, чем о наполнении ведерок, заботились о наполнении своих желудков. Мечников же постоянно забывал о завтраке и этим тоже от них отличался. У них даже создалось впечатление, что русский юноша не ест и не спит, а когда они обратились к нему за разъяснениями, то, оказалось, что он еще и общителен, приветлив и свободно говорит по-немецки.
Его представили самому знаменитому из бывших в то лето на Гельголанде ученых профессору ботаники Бреславльского университета, в будущем одному из основателей бактериологии, Фердинанду Кону.
Надо сказать, что, дебоширя во храме, Илья был настолько неосторожен, что зацепил и профессора Кона. Кон, правда, высказал взгляд, совпадающий с его, Мечникова, мнением, но специально природу сократительной способности стебелька инфузорий не исследовал. Илья небрежно заметил, что доктор Кон «обошел тот вопрос», разъяснение которого «должно предшествовать всем другим исследованиям» стебелька.
Бреславльский профессор, однако, не оскорбился — то ли оттого, что счел замечание коллеги справедливым, то ли ему уж слишком большое наслаждение доставил хруст ребер стоявшего на другой точке зрения Кюне, то ли юный возраст забияки произвел на него такое сильное действие, что он простил ему все прегрешения.
Кон был еще сравнительно молод, горяч, влюблен в науку. По вечерам, когда Мечников, удовлетворившись наконец дневным уловом, позволял себе выйти на берег моря без ведерка, они теперь часто разгуливали вдвоем. Надвигающиеся сумерки и легкий освежающий ветерок располагали к неторопливым беседам.
Профессор часами мог говорить о простейших. Найдя в новом друге благодарного слушателя, Кон воодушевлялся; однако, памятуя, что инфузории и другие одноклеточные юношу уже не волнуют, он по временам прерывал свои вдохновенные речи, дабы дать собеседнику некоторые практические советы.
Он обратил внимание Мечникова на то, что во второй половине сентября ожидается съезд натуралистов всей Европы и ему было бы полезно на съезде побывать. Тем более что в Гисене (а съезд состоится именно в этом городе) кафедрой зоологии руководит сам Рудольф Лейкарт — крупнейший современный зоолог. К тому же в лаборатории Лейкарта собрана богатейшая коллекция низших животных.
Стоит ли объяснять, что план Кона Илья принял с восторгом, хотя для его осуществления должен был проделать некоторые манипуляции, о которых добрейший профессор не мог и подозревать.
Двухмесячный срок пребывания на Гельголанде истекал за три недели до открытия съезда, а так как Илья вопреки сложившемуся о нем мнению все-таки ел и спал (хотя и скверно), то эти три недели ему надо было существовать да еще оставить деньги на проезд и на житье в Гисене.
Илья перебрался из гостиницы в домик рыбака — это стоило вдвое дешевле; на еду он решил тратить не больше 30 копеек в день и реже менять белье, что также давало известную экономию…
Сообщая обо всем этом матери, он заключал:
«Ради бога не сочти описание моей новой жизни за жалобу или ропот; наоборот, я так счастлив, имея в виду столько пользы и еще тем, что я не могу упрекнуть свою совесть в бесполезном растрачивании денег, добытых любовью и заботой, что в такой обстановке я готов бы находиться почаще. Пожалуйста, не вообрази также, чтобы я занятиями расстроил свое здоровье; даю тебе честное слово, что до сих пор у меня даже ни разу голова не болела (головные боли его также мучили довольно часто наряду с бессонницей, а может быть, вследствие ее. — С. Р.). Да я и не верю, чтобы занятиями можно расстроить здоровье: я видел много ученых немцев, которые кулаком вола убьют» (при этом он, правда, скрывал, что в отличие от него ученые немцы спят и питаются нормально. — С. Р.).
4
Девятнадцатилетний возраст прибывшего с Гельголанда русского коллеги вместе с его двумя не лишенными любопытства сообщениями на съезде и рекомендательным письмом от Фердинанда Кона сделали свое дело.
С Лейкартом Илья заговорил о том, что хотел бы заняться нематодами, если, конечно, герр профессор не возражает…
Герр профессор не возражал.
Больше того, хотя под певучим названием Nematode скрывается группа омерзительных червяков, большинство из которых паразитирует в организмах различных животных или человека, упоминание о них не только не омрачило профессора, но заставило его крупное мясистое лицо расцвести лучезарной улыбкой. Именно паразиты давно уже составляли предмет специальных исследований Лейкарта, именно они принесли профессору репутацию одного из первых зоологов Европы.
Собственно говоря, до трудов Лейкарта науки о паразитах не существовало. Ученые склонны были видеть в них совершенно особые существа, ни на что в животном мире не похожие; происхождение паразитов приписывали их будто бы произвольному зарождению в тканях организма-хозяина. Отдельные разрозненные сведения о них причудливо уживались с невозможными домыслами, ибо, как язвительно писал Лейкарт, «там, где молчат факты, особенно речиста фантазия». Лейкарт все расставил по местам. Он показал, что личинки многих паразитов ведут свободный образ жизни, а личинки-паразиты нередко превращаются в свободноживущие взрослые организмы; из этого следовало, что «нет резкой разницы между паразитами и свободноживущими животными». Лейкарт показал, что паразиты, как и всякие животные, развиваются из яйца, и утверждал, что они произошли от свободноживущих предков в результате приспособления к особым условиям. Причем многие важные выводы Лейкарт сделал именно при изучении нематод.
— О нематоды! — сказал он, лучезарно улыбаясь. — С ними случаются удивительные истории!..
Лейкарт охотно сообщил юноше все, что знал о нематодах, не умолчав и о совсем новых, еще не опубликованных фактах.
Было решено, что Мечников займется аскаридами, обитающими в легких и кишках лягушек. В сопровождении служителя лейкартовской лаборатории Илья обшарил окрестные болота, набрал пару сотен лягушек и стал вскрывать их, дабы извлечь столь необходимых ему червячков.
Видя его рвение, Лейкарт с каждым днем все больше к нему добрел… Приближались осенние каникулы; до них Мечников и надеялся кое-как дотянуть со своим тощим кошельком. Но однажды…
Мы невольно переходим на сказочный лад, потому что то, что произошло однажды, и впрямь случается только в сказках…
Да, однажды странный разговор завел с ним достопочтенный профессор Лейкарт. Аккуратный и благочестивый немец, для которого не было на свете ничего важнее самого строгого порядка и распорядка, завел разговор о том, что каникулы — вовсе не помеха для занятий в лаборатории!.. Если только коллега не имеет других планов, то он, профессор Лейкарт, готов на время каникул оставить лабораторию в его полное распоряжение. Со всеми коллекциями, приборами, материалом… Пожалуйста… И если нужна будет помощь, совет, он, профессор Лейкарт, всегда готов к услугам. Нет, нет, никаких стеснений! Он никуда не уезжает и будет рад видеть коллегу у себя на квартире.
Что было делать юному естествоиспытателю? В кошельке у него оставалась сумма ровнехонько на проезд до дому, и ни копейкой больше!.. Боясь показаться неблагодарным, он, прежде чем отказаться, преодолел смущение и поведал профессору о своих обстоятельствах. И тут произошло еще одно чудо.
Пока Лейкарт слушал, брови его вползли на высокий лоб, потом резко упали вниз, нахмурились; он сел к столу, что-то долго писал на листе бумаги. Запечатал конверт и торжественно произнес:
— Это письмо моему давнему знакомому профессору Пирогову. Думаю, что он найдет способ вам помочь!
Нетрудно представить себе, какой радостный танец протанцевал в тот день Илья (вспомнив уроки Карла Ивановича Шульца), едва уединился в своей комнатушке. Ведь Пирогов, оставив хирургию, давно уже служил по министерству народного просвещения; был попечителем Одесского, потом Киевского учебного округа; и, наконец, его послали за границу наблюдать за занятиями командированных на средства министерства кандидатов. С мнением Пирогова считались…
Илья поспешил сообщить обо всем родным, и те пустили в ход связи, так что вместе с официальным ходатайством Николая Ивановича Пирогова на стол министра легла неофициальная просьба члена государственного совета Евграфа Петровича Ковалевского.
Вскоре Илья получил письмо от самого министра А. В. Головнина, который извещал о зачислении его профессорским кандидатом на два года начиная с 1865-го. Требовалось лишь подписать установленные «условия», что Илья незамедлительно и исполнил.
В конце января или начале февраля Мечников уже получил первый перевод, а пока пустил в ход сумму, отложенную на дорогу домой, и с новой силой набросился на несчастных аскарид…
5
О развитии этих червячков было известно только то, что взрослые особи ведут паразитический образ жизни, а личинки — свободный. Какие надо создать условия, чтобы яйца беспрепятственно развились в личинки, — этого не знал даже Лейкарт. Он посоветовал своему новому ученику помещать самок вместе с яйцами и личинками во влажную камеру, что Мечников и делал. И попусту потерял почти весь каникулярный месяц, ибо яйца гибли, даже не начав развиваться… Наконец Илья решил поместить червячков во влажную землю и уже на следующий день обнаружил такое, что заставило почтенного герра профессора еще раз забыть про порядок и распорядок и собственной персоной явиться в лабораторию.
Личинки, которым по всем правилам полагалось в определенный момент превращаться во взрослых червячков, а этим последним — откладывать яйца, — сами порождали потомство; причем новое поколение личинок развивалось внутри родительского организма.
Увидев все это собственными глазами, Лейкарт уже не оставлял лабораторию, тем более что начался новый семестр.
Всю зиму учитель и ученик увлеченно проработали вместе, уточняя детали открытого Ильей явления. Кроме того, они взялись за маленьких мушек-галлиц (цецидомий) — насекомого, у которого такой странный способ размножения уже был известен (его открыл за два года до того казанский профессор Н. П. Вагнер).
Мечников и Лейкарт нашли, что личинки галлиц развиваются в материнском теле из недозревших яиц. Лейкарт их назвал «ложными», а Мечников опубликовал небольшую статью «О развитии личинок Cecidomyia из ложного яйца». Это было предварительное сообщение; Илья собирался вернуться к цецидомиям в задуманной им монографии о развитии насекомых, но ему пришлось вернуться к ним значительно раньше.
Харьковский ученый Митрофан Ганин, тоже заинтересовавшись открытием Вагнера, утверждал, что молодое поколение личинок развивается из обычных зрелых яиц. Илья с присущей ему страстностью взялся опровергать Ганина и в качестве арбитра пригласил академика Бэра, к которому обратился с письмом.
Бэр прочел письмо на заседании физико-математического отделения Академии наук и предложил опубликовать его в «Записках Академии…».
«Этот деятельный и искусный наблюдатель» — так отозвался маститый ученый о Мечникове…
Но до этого еще полтора года; а пока юный наблюдатель настолько перетрудил свои больные глаза, что уже не мог даже нескольких минут без перерыва провести за микроскопом. Лейкарт уговорил его отдохнуть, и Илья уехал в Женеву, где в это время объявился его старший брат Лева.
6
Лева с детских лет доставлял бедной Эмилии Львовне уйму хлопот. Мало того, что злосчастный коксит сделал его инвалидом, — в Панасовке он, к ужасу родителей, якшался с дворовыми, из гимназии был исключен за дерзкие выходки и, прежде чем получил аттестат зрелости, произвел «смотр учебных заведений Российской империи». В Харьковском университете он не проучился и года, как должен был уйти под угрозой исключения с волчьим билетом. Уехав в Петербург, он поступил в Медико-хирургическую академию, оттуда перешел в университет; одновременно Лев Мечников посещал классы в Академии художеств и изучал иностранные языки.
Благодаря знанию языков и хлопотам Эмилии Львовны он получил место переводчика в миссии генерала Б. П. Мансурова и отправился в Иерусалим. Но пробыл там недолго.
Мансурову подсунули альбом Льва Ильича, в котором оказались едкие карикатуры на самого генерала. Генерал вызвал переводчика для объяснений, но тот держался дерзко и покинул кабинет, оставив прошение об отставке.
Поскитавшись несколько месяцев по Малой Азии и низовьям Дуная, он обосновался в Венеции; хотел заняться живописью, но вместо этого вступил в армию Гарибальди и был ранен в одном из сражений. В 1863 году Лев Ильич открыто выступал на митингах в защиту восставших поляков, чем отрезал себе путь на родину…
Заявившись к брату, Илья застал у него множество людей, обступивших стол с географической картой и о чем-то горячо спорящих. Выяснилось, что они хотят основать коммуну где-нибудь в Италии, и Лев Ильич, как знаток страны, должен дать им совет о выборе места.
Вовлеченный в интересы политической эмиграции, Илья следил за спорами, столкновениями мнений, партийной борьбой. Но теории казались ему лишенными серьезных оснований, а дискуссии об устройстве послереволюционной России — дележом шкуры неубитого медведя. Страсти, бушевавшие в тесном кружке эмигрантов, казались ему какими-то ненастоящими.
…Вынужденный к безделью, он подолгу бродил по городу. Но ни одетая в гранит Рона с шестью перекинутыми через нее мостами, ни белые корабли, бороздящие синюю гладь Женевского озера, ни старая Ратуша со скатом вместо лестницы, ни почтамт с фигурами на крыше, символизирующими пять частей света, не вызывали в его душе трепетного восторга. Не потому, что он был равнодушен к красотам этого мира, а скорее наоборот — потому, что был слишком неравнодушен к ним. Ольга Николаевна объясняет: он заранее ждал столь многого от встречи с городом, одно название которого заставляло сердце учащенно биться, его воображение рисовало такие впечатляющие картины, что действительность в сравнении с ними часто оказывалась какой-то ненастоящей, словно выцветшая гравюра из старинной книги. Только снеговая вершина Монблана, господствующая над городом, внушала уважение; хотя и ей, говоря откровенно, следовало бы быть погрознее и понеприступнее, чтобы сравняться с тем, что рисовала его фантазия.
По вечерам Лев Ильич часто захаживал к Герцену и приводил с собой брата. Герцен был любезен, остроумен, читал гостям главы из «Былого и дум», и непростые «думы» патриарха революционной эмиграции глубоко запали в душу Мечникову. «Обаяние его было так велико и неотразимо, — отмечает Ольга Николаевна, — что осталось одним из самых сильных впечатлений жизни Ильи Ильича».
Над многоголосой толпой молодежи Герцен возвышался, как Монблан над притулившимся к его подножию игрушечным городом. Но особым авторитетом в кругу эмигрантов патриарх не пользовался. Горячие молодые головы требовали решительных действий и обвиняли Герцена в медлительности. Илья лишь укрепился во мнении, внушенном ему еще чтением Бокля: наука и только наука может привести к переустройству общественной жизни.
7
Вернувшись в Гисен, Мечников опять стал работать у Лейкарта, но продолжать исследование нематод уже не мог, так как все запасы их иссякли. Изучая под микроскопом внутренние органы одного из видов ресничного червя, Илья обратил внимание на свободные, «блуждающие» клетки, которые захватывали и переваривали кусочки пищи. Картина напоминала ту, что он много раз наблюдал еще в лаборатории Щелкова, когда занимался инфузориями. Обволакивание и постепенное растворение в себе инородных частиц — таков единственный способ питания одноклеточных: ведь у них нет специальных пищеварительных органов. Но сходная картина у червей, имеющих кишечный канал, была неожиданностью. Впрочем, весь смысл этого открытия Илья тогда не понял. До теории фагоцитоза оставалось еще семнадцать лет — немногим меньше того, что он успел прожить.
В середине июня Мечников поехал на несколько дней в Гейдельберг — познакомиться с тамошними профессорами и с русскими студентами. Рассказывая о выполненных в Гисене исследованиях, он особенно упирал на работы с нематодами и был сильно озадачен, когда услышал от одного из новых друзей, что тот уже читал об этом в статье Лейкарта, помещенной в апрельском номере «Геттингенского вестника».
Илья не раз предлагал Лейкарту опубликовать полученные результаты, но профессор советовал сперва проследить все этапы развития нематод. Они даже сговорились послать (когда завершат работу) статью за двумя подписями в русский медицинский журнал, причем Лейкарт должен был ее написать, а Мечников — перевести… И вот оказалось, что статья уже опубликована, а Лейкарт до сих пор не сказал ему ни слова…
«То, что я ниже сообщаю, — писал Лейкарт, — содержит лишь ту часть моих наблюдений, которая доведена до более или менее полного окончания. Большинство наблюдений я сделал в течение истекшего зимнего семестра, причем почти всегда пользовался помощью и участием и господина кандидата Мечникова» (курсив И. И. Мечникова. — С. Р.).
Эти строки привели Илью в замешательство… Как! Самое важное открытие — о половом поколении личинок — он сделал совершенно самостоятельно, во время каникул, когда профессор носа не показывал в лабораторию!.. И вот Лейкарт отводит ему роль всего лишь пассивного помощника…
Вернувшись в Гисен, он пошел к Лейкарту объясниться…
Но как начать разговор? Как сказать почтенному герру профессору, что он — вор? Затруднение, несколько неожиданное для Мечникова. Ему ли, еще совсем недавно и столь блистательно сокрушившему ни в чем не повинного Кюне и чуть было не сокрушившему самого Дарвина, — ему ли искать вежливых выражений!.. Но одно дело — воевать с абстрактно звучащими, пусть очень авторитетными, именами и совсем другое, когда за именем стоит живой, хорошо знакомый человек, да еще столь любезный и гостеприимный, сделавший тебе столько добра…
— Вы однажды сказали, господин профессор, — начал Илья неприятный разговор, — что собираетесь вместе со мной написать статью для русского медицинского журнала. Хорошо бы это сделать именно теперь, поскольку, во-первых, история развития нематод почти доведена до конца, и, во-вторых, я собираюсь в ближайшее время переехать в Неаполь.
Он, вероятно, ожидал, что профессор, как бывало прежде, начнет отговариваться — работа-де еще не окончена; тут-то он и задаст ему приготовленный вопрос: «Почему же вы тиснули статейку за моей спиной, да еще при этом отвели мне такую ничтожную роль?..» Что ответит на это герр профессор?..
Но Лейкарт настолько углубился в лежавшие перед ним бумаги, что словно бы и не слышал обратившегося к нему ученика. Илья совсем растерялся. Не зная, как быть дальше, он пролепетал:
— Известно ли вам, что в настоящее время русский медицинский журнал имеет нового редактора, господина Якубовича?..
Ответа опять не последовало…
«Крайне удрученный всем этим, — пишет Ольга Николаевна, — юноша поверил свое горе зоологу Клаусу, которого знал со времени гисенского съезда. Последний ответил ему, что такой образ действий характерен для Лейкарта и что следовало бы, чтобы Илья Ильич, в качестве независимого иностранца, разоблачил его. Он так взвинтил его, что тот, наконец, решился послать статью в журнал Дюбуа-Реймона, где изложил случившееся, и уехал из Гисена, не простившись с Лейкартом».
Последняя фраза приведенного абзаца симптоматична. Не забудем, что написано все это со слов Ильи Ильича и им прочитано. В словах: «Он (то есть Клаус. — С. Р.) так взвинтил его» и т. д. — чудится нам позднейшее сожаление Ильи Ильича о содеянном…
Процитировав в своей статье слова Лейкарта о помощи и участии «господина кандидата Мечникова», он писал:
«Хотя выражения „помощь“, „участие“ не подлежат более точному определению, однако никто не подразумевает под ними признания вполне самостоятельных открытий, которые я сделал в немалом количестве. Самый важный из всех фактов, сообщенных в цитированной работе проф. Лейкарта, — это, несомненно, своеобразное развитие Ascaris nirgovenosa,[8] открытое мною одним, во время осенних каникул, когда профессор Лейкарт еще не работал в своей лаборатории. Однако не только фактические данные по возникновению полового свободного поколения личинок из зародышей Ascaris открыты и проверены мною лично, но и метод опыта (заключающийся в содержании молодых личинок во влажной земле) найден мною совершенно независимо от проф. Лейкарта, который рекомендовал мне различные другие (неудачные) способы работы».
Сколько бушующего огня прорывается сквозь эти внешне сдержанные строки! Будь Илья не так молод или не так горяч, он, наверное, нашел бы способ заявить о своих правах в такой форме, которая позволила бы Лейкарту их признать.
Но Клаус-то настропалил «разоблачить»! И Мечников, давно уже порешив с Лейкартом разделить приоритет, теперь требует признания своего единоличного авторства, чем переводит спор в совершенно иную плоскость. Ведь совместное открытие Лейкарт имел право опубликовать за своей подписью; следовало лишь указать имя соавтора открытия, что он хоть и не очень внятно, но сделал. Вопрос, таким образом, мог быть сведен к разъяснению смысла «не подлежащих более точному определению» слов «помощь» и «участие», что Лейкарт, и без того сконфуженный внезапным отъездом ученика, поспешил бы, думается нам, исполнить. Чужое же открытие Лейкарт за своей подписью не имел права публиковать; таким образом, оказывалось задетым его честное имя. Не поднять перчатку Лейкарт не мог.
И выяснилось, что:
1. «Г-ну Мечникову было желательно, как он говорил, получить некоторое образование по гельминтологии и, где возможно, делать наблюдения над историей развития нематод под моим наблюдением. До сих пор он еще в этой области совсем неопытен и даже вообще не умеет ставить опытов по гельминтологии».
2. «Самопожертвование учителя не может заходить так далеко, чтобы ученику, который принимает участие в исследованиях учителя лишь с целью собственного усовершенствования, передавать все, что, может быть, лишь по счастливому случаю попалось ему на глаза прежде, чем самому учителю».
3. «Г-н Мечников узнал (от проф. Лейкарта и других), что существуют Nematoda, которые в молодом состоянии живут, питаются и растут на воле в форме Rhabditis и, более того, он еще в то время слышал мое предположение о том, что отдельные формы в этом состоянии, возможно, достигают половой зрелости, и я прибавил тогда, что ставлю себе задачей подвергнуть это предположение дальнейшему испытанию с помощью новых и расширенных экспериментов».
И дальше в том же роде. А в конце вывод: «Таким образом, опыты были мною поставлены, а произведены Мечниковым».
Лейкарт выдвигает альтернативу: либо ученик, отлично сознавая свою незначительную роль в открытии, хочет его себе присвоить, и тогда он нечестен, либо (Лейкарт великодушно склонен признать второе) он очень неопытен и наивен и просто не понимает, что, как пассивный исполнитель, не может претендовать на то, что ему первому попало на глаза «лишь по счастливому случаю».
На все это Мечников ответит отдельной брошюрой и издаст ее на собственный счет, урвав толику денег из министерской стипендии. Он так тщательно выпишет все возражения Лейкарта, так детально изложит всю историю своих с ним взаимоотношений, что не остается никаких сомнений в его правдивости. Но как он мог доказать то, что сообщал? Он так и пишет: «Если мне не удастся доказать на суде правильность каждого отдельного приводимого здесь факта, то я подтвержу правильность сказанного мною моим честным словом».
Честным словом!
Так он же действительно неопытен и наивен, этот юный герр Мечников!.. Немецких ученых, которым он разослал свою брошюру, он мало в чем убедил, хотя те, кто враждовал с Лейкартом, довольно потирали руки. Основной его аргумент — каникулы — изрядно побивался признанием того, что он обсуждал с Лейкартом ход экспериментов у него на квартире. Не убедил никого и Лейкарт, хотя вопреки Клаусу такой образ действий вовсе не был для него характерен. Н. И. Пирогов в том самом письме в министерство, в котором ходатайствовал о стипендии для Мечникова, писал:
«Лейкарту наши посланные по зоологии и сравнительной анатомии многим обязаны; я могу свидетельствовать, что ни один из германских ученых не занимался так усердно с нашими посланными и не открывал им так радушно и свой дом, и все громадные научные средства (которыми располагает Гисенский анатомический институт), как проф. Лейкарт».
И надо сказать, что после разоблачений Мечникова поток начинающих ученых из России в лабораторию Лейкарта не оскудел. Явился к нему и Владимир Заленский, а ведь он знал всю историю из первых рук… Как бы задавшись целью повторить путь своего старшего товарища, он после гимназии поступил в Харьковский университет (правда, его путь из Харьковской гимназии в Харьковский университет не проходил через Вюрцбург), занимался в лаборатории И. П. Щелкова, окончил университет также экстерном (но не за два, а за три года), а потом — за границу, прямехонько к Лейкарту…
Но хватит! Оставим сконфуженного герра профессора! Коль скоро герой наш ушел от него, не простившись, то и нам он больше не понадобится.
Мечников давно уже защелкнул замки чемодана и, боясь опоздать на поезд, за добрых два часа примчался на вокзал. Новые дали, новые встречи ждут его впереди.
8
Об Александре Ковалевском Мечников слышал еще в Петербурге, где успел побывать перед отъездом на Гельголанд. Ковалевскому пророчили большое будущее, и Илья, презрев условности, тут же отправился к нему на квартиру. Но судьбе не было угодно, чтобы их встреча тогда состоялась. Осведомившись о том, какой Ковалевский нужен, тот ли, что издает книги, или «который исследует», мальчик-слуга сообщил вломившемуся гостю, что тот, который исследует, несколько дней назад отбыл за границу…
К счастью, судьба осознала свою ошибку и решила во что бы то ни стало ее исправить.
В мае 1865 года она предстала перед Ильей в облике почтальона и вручила пакет. Ковалевский звал в Неаполь и писал, что ему удалось проследить основные стадии развития ланцетника — маленького, похожего на рыбку животного; оказалось, что развитие ланцетника, относимого к позвоночным, напоминает развитие морских звезд и некоторых других беспозвоночных животных.
Мечникову нетрудно было понять смысл этого открытия.
С тех пор как вышел в свет классический труд Бэра, накопилось много фактов из истории развития беспозвоночных, но их не удавалось объединить общей идеей. Теория разграниченности типов животного царства, освященная авторитетом Бэра, Кювье и других крупных ученых, казалась настолько незыблемой, что отдельные высказывания еретиков не могли ее подорвать.
Позднее, когда Ковалевский, Мечников и те, кто шел по их следу, доказали всеобщность теории зародышевых листков, стало ясно, что, строго говоря, такой результат можно было предвидеть заранее, исходя из эволюционного учения. Но, говоря словами Карла Максимовича Бэра, сказанными по другому поводу, «теперь, когда ход развития оказался столь простым, найдут, разумеется, что все это и так само собой ясно и вряд ли нуждается в подтверждении путем исследования. Но история Колумбова яйца повторяется ежедневно, и все дело лишь в том, чтобы поставить его стоймя».
Открытие А. О. Ковалевского перебрасывало первый мост между миром позвоночных и беспозвоночных животных. Мечников решил примкнуть к Ковалевскому, и судьба сделала все, чтобы ускорить его переезд. В Гисене остановился барон А. Ф. Стуарт, уже шапочно знакомый с Мечниковым и друг А. О. Ковалевского, Стуарт тоже держал путь в Неаполь…
9
Паровозик с большущей трубой замедляет ход, обдает встречающих клубами шипящего пара. Илья Мечников вместе со Стуартом выходит на перрон. Сквозь говорливую толпу к ним пробивается Ковалевский. Он приземист, ширококост, крепок, с большой лобастой головой, вырастающей словно бы прямо из дремучей русой бороды; смотрит на приезжих широко открытыми синими глазами.
— Господин Ковалевский! — представляет Стуарт. — Господин Мечников!
Подхватив, несмотря на протесты нового знакомого, его чемодан, кликнув извозчика, Ковалевский тут же стал с жаром рассказывать, как всю зиму охотился за ланцетниками, как они подолгу жили в банках, но в непривычной обстановке ни за что не хотели откладывать икру. Быстрыми движениями они всплывали на поверхность, но тут же опять ныряли и зарывались в песок. И вот однажды, уже ночью, просматривая перед сном без особой надежды содержимое своих банок, он обнаружил в одной из них несколько оплодотворенных яиц. Затаив дыхание он просидел до утра и увидел все. Яйцо разделилось на ряд сегментов, набухло, превратилось в пузырек; одна половина пузырька углубилась в другую, зародыш стал покрываться мерцательными ресничками, закружился внутри оболочки, прорвал ее, и на поверхность всплыла маленькая личинка…
Лошадь долго тащилась по кривым улочкам, сдавленным стенами высоких домов. Громко перекрикивались с балконов женщины, развешивая длинными палками белье. Торговцы предлагали прохожим горячие макароны. Куда-то спешили бесчисленные ослики с поклажей, шмыгала неумытая детвора, уличные музыканты в отороченных бахромой шляпах крутили ручки шарманок. Неожиданно открывшееся море рыбьей чешуей поблескивало на солнце и в первую минуту ослепило Мечникова. Вдали, над едва заметным противоположным берегом залива, поднимался черный конус Везувия, вовсе не такой грозный, каким представлялся Илье, — совсем невысокая горка с ровными пологими склонами, словно бы нарисованная на листе бумаги…
Ковалевский вместе со своим другом Ножиным снимал комнату на самом берегу и уже подыскал такую же в соседнем доме для Мечникова и Стуарта.
Ковалевский был почти на пять лет старше своего нового друга. По воле родителей он три года провел в Институте путей сообщения, но карьера инженера-путейца, хоть и заманчивая ввиду перспектив разворачивавшегося в стране строительства железных дорог, его не прельстила; он бросил институт и поступил на естественное отделение Петербургского университета. Через год из-за студенческих волнений университет закрыли, и Ковалевский, не желая терять попусту время, уехал в Гейдельберг.
В Петербург он вернулся, чтобы сдать экзамены за университетский курс и защитить кандидатскую работу. Тогда-то о нем и заговорили как о восходящей звезде. Покончив с формальностями, он опять отправился за границу, в Италию, чтобы приступить к осуществлению глубоко продуманного плана исследований. Из-за его поспешного отъезда и разминулся с ним Мечников.
Зато теперь Илья видел, с каким упорством работает Ковалевский…
Каждое утро он шел к берегу, где его поджидал с рыбачьей лодкой жизнерадостный Джиованни. Рыбу Джиованни давно не ловил, предпочтя более надежный промысел: он стал поставлять животных зоологам, а зоологи в Неаполе не переводились. Зная морскую живность, как свой карман, Джиованни по беглому карандашному наброску безошибочно выискивал нужных заказчику тварей даже микроскопического размера. Ковалевскому все же казалось, что надежнее сопровождать Джиованни, и он по многу часов проводил с ним в море, все больше бронзовея лицом и открытыми по локти руками. Ланцетники ловились редко, и, чтобы добыть их в нужном количестве, Ковалевский изрядно переплачивал Джиованни, хотя деньги его давно вышли и он уже продал несколько рубах…
Кроме ланцетников Ковалевского интересовали моллюски и некоторые другие животные. Свою задачу оп видел в том, чтобы сравнивать пути развития разных групп беспозвоночных.
Рядом с ним с таким же упорством работал Николай Ножин. Он также частенько отправлялся на морскую охоту с Джиованни, а теперь в лодке бывшего рыбака отыскалось место и для Мечникова.
О Ножине Илья много слышал в Женеве от брата; знал о нигилистических крайностях в его костюме и образе мыслей, знал, как схватывался он в острых спорах с «самим» Бакуниным и как эти столкновения нередко кончались его истерическими припадками, — и все же Ножин поразил Мечникова.
Болезненный, узкогрудый, с густо блестевшими серыми глазами навыкате, он чем-то напоминал маленького испуганного зайчонка. Ножину можно было дать лет пятнадцать, не больше, хотя он был всего на год младше Ковалевского и почти на четыре года старше Мечникова.
Николай был определен в Александровский лицей, куда принимали лишь отпрысков высших сановников государства. Карьера юноше была обеспечена, и мать с отчимом сочли блажью его желание оставить лицей и поступить в университет. Он наговорил им дерзостей, обвинил в том, что они ведут постыдную жизнь, и заявил, что покажет им и всей России, как надо жить.
В Гейдельберге он и Стуарт (тоже бывший лицеист) близко сошлись с Ковалевским.
Во время занятий друзья были неразлучны, но каникулы проводили врозь — кто как мог, в зависимости от средств.
Стуарт денег не считал и беспечно разъезжал по Европе. Ковалевский получал мало, и ему приходилось экономить каждую копейку, дабы иметь возможность работать на море. Ножин не считал денег, как и Стуарт, но по другой причине: мать присылала ему мизерные суммы и так нерегулярно, что считать было почти нечего. Из всех приморских городов он предпочитал Ниццу, где жило много русских семей и можно было перебиваться частными уроками.
Однажды Стуарт нашел его в Ницце больным и сильно ослабевшим от голода. Неспособный к самостоятельной работе, Стуарт как бы нанял себе в руководители Ножина (хотя, возможно, это был удобный способ предложить другу денежную помощь).
Вспыльчивый, болезненный, задиристый, нервный, во всем этом похожий на Мечникова, но еще изломанный перенесенными лишениями, Ножин, как и Мечников, страстно поклонялся Боклю, хотя делал из его книги иные выводы. Если Мечникова Бокль «успокоил», убедив в том, что, занимаясь наукой, он как бы автоматически осчастливливает человечество, то Ножин истолковывал Бокля прямо противоположным образом. Он считал, что коль скоро наука служит прогрессу человечества, то ученый обязан заниматься лишь такими исследованиями, которые приносят немедленную пользу; и не мелочную пользу, а такую, которая прямо открывает дорогу к переустройству мира… Мечников считал, что Ножин оказал большое влияние на формирование взглядов Ковалевского. Так, во всяком случае, истолковывают некоторые комментаторы высказывание Ильи Ильича о том, что «в этом отношении Александр Онуфриевич скорее (чем у своего учителя Лейдига. — С. Р.) мог почерпнуть что-либо среди окружавшей его молодежи».
Правда, другие комментаторы оспаривают такое толкование, но вот в письме к Ковалевскому, написанном в 1888 году, Мечников даже упрекает Александра Онуфриевича, что он не отдает должное памяти Ножина.
В ответ Ковалевский писал:
«Вы меня попрекнули, почему я не упомянул про Ножина, но вы были не правы, т[ак] к[ак] я не имел ни малейших оснований говорить о нем. Если бы только был какой-нибудь повод, то я это бы сделал, т[ак] к[ак] горячо любил Ножина; он, собственно, не имел никакого отношения к моим работам; то же, что он сделал, нисколько не вязалось с сравнительной эмбриологией <…>. Он не мог тогда иметь никаких общих взглядов, так как, кроме гидроид, в широком смысле слова он ничего другого не знал».
Ну, в том, что Ножин не имел общих взглядов, Ковалевский, конечно, не прав. Тут они с Ильей Ильичом о разном говорят. То, что Ковалевский называет в своем письме общими взглядами, для Мечникова и в еще большей мере для Ножина были взгляды частные. Таковых Ножин, во всяком случае в тех областях, в которых работал Ковалевский, не имел. То же, что Мечников разумеет под общими взглядами, для Ковалевского было слишком общим и поэтому бесплодным. Строгий экспериментатор Александр Онуфриевич ценил факты, а не воздушные замки «общих взглядов». Это не значит, конечно, что он не глядел дальше своего микроскопа. Идеи он ценил, но лишь постольку, поскольку их можно было проверить опытом, — в этом и состоял его общий взгляд, бесконечно далекий от общих взглядов Ножина…
Почему же Мечников, ближайший друг Ковалевского, так глубоко заблуждался на этот счет?
Не потому ли, что тяга Ножина к глобальным построениям, столь чуждая Ковалевскому, была близка самому Мечникову, а «общие взгляды» отчаянного нигилиста нашли отзвук в его душе?..
Тут вот что еще любопытно. По уверению Ильи Ильича, на Ковалевского сильно повлияло знакомство с брошюрой Фрица Мюллера «За Дарвина». Биографы Ковалевского доказали, что это не так. В самом деле. Ракообразными, с которыми работал Мюллер, Александр Онуфриевич никогда не занимался. Что же до Мечникова, то чтение Мюллера, как утверждает Ольга Николаевна, «оказало решающее влияние на направление его дальнейших работ». Решающее! Тут опять перенос на Ковалевского того, что он мог бы сказать о самом себе. Похоже, брошюра Мюллера впервые разъяснила Мечникову все значение Дарвиновой теории!
Да, но при чем тут Ножин? А вот при чем. Заглянем-ка еще раз в воспоминания Ильи Ильича о Ковалевском. Он пишет:
«Сильное влияние оказала на него небольшая брошюрка немецкого ученого, давно переселившегося в Бразилию, — Фрица Мюллера, брошюра, вышедшая в 1864 г. и озаглавленная „Fur Darvin“. Сочинение это было вскоре после его появления переведено на русский язык ближайшим другом и сожителем Ковалевского Ножиным».
Тот факт, что Ножин перевел брошюру Мюллера, служит Мечникову как бы лишним подтверждением ее влияния на Ковалевского. А так как склонность Ильи Ильича переносить на других то, что испытал сам, уже не вызывает сомнений, то это значит… Правда, Ольга Николаевна определенно утверждает, что Мечников прочитал Мюллера еще в Гисене. Но Ольга Николаевна не всегда точна в указании дат и географических мест событий. Что, если и на этот раз она допустила неточность? Что, если это Ножин протянул Илье Ильичу брошюру, оказавшую решающее влияние на направление дальнейших работ!..
Брошюра Фрица Мюллера больше всего подкупала тем, что вопреки ее названию автор не спешил с первых же строк высказываться за Дарвина. Тон брошюры был таков, будто автор ведет неторопливую беседу с близким другом, которому рассказывает о своих сомнениях и о том, как различными наблюдениями и опытами он эти сомнения разрешал.
Мюллер предлагал взять семейства одного класса или роды одного крупного семейства, или даже виды обширного рода — и как можно подробнее набросать родословное древо. Что из этого выйдет? Либо схема выстроится, либо нет; в первом случае теория Дарвина будет подтверждена, во втором — опровергнута. Мюллер выбрал ракообразных, потому что их классификация была разработана лучше других групп, и еще потому, что «ни в каком другом случае, как в случае низших ракообразных, мы не испытываем более сильного искушения придать выражениям „родство, происхождение от общей основной формы“ и т. п. значение большее, чем просто образное». «Понятно, никому не приходила мысль, — продолжал Мюллер, имея в виду паразитических раков, — считать занятием, достойным бога, забавляться выдумыванием этих удивительных уродливых форм: их считали утратившими свою прежнюю организацию по их личной вине, подобно Адаму при грехопадении».
И Мюллер набрасывает родословную ракообразных, показывая тем самым справедливость теории Дарвина.
Нетрудно понять, с каким волнением Мечников читал и перечитывал брошюру целую ночь. Мысль Мюллера давала руководящую идею, словно нить Ариадны, показывала путь. Сама собой стала складываться в голове целая программа исследований, и на нее не жалко было положить жизнь — те пять-шесть десятков лет, на которые он еще имел основание рассчитывать.
Нетрудно представить себе, как, едва дождавшись утра, он побежал к Ножину, и они, отмахнувшись от Ковалевского, пытавшегося напомнить, что Джиованни со своей лодкой давно уже ждет, проговорили несколько часов. Даже если наше предположение неверно и Илья действительно прочитал книжицу еще в Гисене — все остальное было наверняка…
10
Под влиянием Фрица Мюллера Мечников набросился на ракообразных и обнаружил поразительную наблюдательность и идейную целостность в подходе к проблемам. В центр исследования он поставил небалию — самую примитивную форму высших раков, чье положение в системе этой группы считалось спорным, и сопоставлял ее развитие с развитием других ракообразных. Ему удалось выявить особенности дробления яйца, с несомненностью установить образование зародышевых листков и проследить развитие из них органов. Мечников идет дальше.
Он сопоставляет зародышевые листки ракообразных с листками других беспозвоночных и позвоночных животных и хотя не решается еще провозгласить всеобщность теории зародышевых листков, но делает вывод о «значительном распространении» зачатковых листков у беспозвоночных животных. Это, по его мнению, «обещает <…> доставить прочные данные для <…> сравнительной эмбриологии».
Напряженная работа требовала сосредоточенности, да Мечников и Ковалевский не умели отдавать делу только часть своего времени, мыслей, душевных сил. Правда, им хотелось познакомиться с «двумя русскими знаменитостями», жившими в то лето в соседнем городке Сорренто, — И. М. Сеченовым и М. А. Бакуниным. Но, увлеченные работой, друзья все откладывали поездку, да и робели нагрянуть непрошеными гостями. Наконец, побуждаемые Стуартом, которому ракообразные да головоногие, медузы да морские звезды изрядно осточертели и потому придали храбрости, они решились.
Бакунин принял их радушно и шумно. Размахивая руками, сверкая взором, разметав свою львиную гриву, он объявил о скором ниспровержении самодержавного строя. В газетах промелькнуло сообщение о волнениях киргизов, отказавшихся платить ясак, и Бакунин уверял, что вот-вот восстанет вся Россия.
Кто-то робко спросил:
— Что же, Михаил Александрович, будет после такого переворота?
— Ну, этого теперь предсказать невозможно, — тотчас ответил Бакунин. — Непосредственная задача состоит в том, чтобы не оставить, что называется, камня на камне, а потом уже будет видно, как строить новую жизнь.
Жена Бакунина стала разливать кофе, но Михаил Александрович выхватил у нее кофейник и взялся за дело сам. Через несколько секунд кофейник лежал опрокинутый, а ароматный кофе густыми ручьями стекал с белой скатерти на пол…
Так через много лет вспоминал Мечников.
Глубоко веруя, что только наука может быть достойным поприщем для приложения, сил молодежи, он не упускал случая показать ей бесполезность, как ему казалось, революционной борьбы и не случайно о своей встрече с Бакуниным поведал в воспоминаниях о Сеченове. Он отлично понимал, какое воздействие производит на читателя эффект контраста.
Не упомянув про апельсиновый сад вокруг дома и летнюю террасу, на которой их принял Сеченов, Мечников продолжает:
«Трудно представить себе в самом деле более резкий контраст, чем тот, который оказался в характерах этих двух русских знаменитостей. С одной стороны, кипучая натура, не знающая меры, вечно переливающаяся через край совершенно поверхностного бушевания; с другой — мысль и дело, идущие из самой глубины души. Каждое слово Сеченова, прежде чем выйти наружу, подвергалось строгому контролю рассудка и воли».
Мечникова поразило лицо Сеченова — скуластое, смуглое, попорченное оспой; его темные проницательные глаза.
Автор «Рефлексов головного мозга», наделавших столько шума в обществе, принял юных соотечественников как равных, без менторской солидности. Разговор зашел о роли положительных знаний в жизни общества; Сеченов рассказал о своих последних работах и прочел вслух только что законченную статью.
На другой день Илья прибежал к Сеченову один — «излить перед ним» свои «помыслы». Мечников горячо протестовал против распространенного мнения (особенно среди физиологов), что разгадку тайн жизни следует искать только в физико-химических процессах, протекающих в организме. Илье Ильичу уже тогда было ясно, сколь важную роль в понимании биологических закономерностей должна сыграть сравнительная эмбриология. Сеченов с пониманием отнесся к юному естествоиспытателю, обнаружив более широкие взгляды, чем большинство его коллег.
С этого времени началась их дружба, которой, правда, суждено было тут же прерваться, ибо Сеченов вскоре покинул Италию. По иронии судьбы Илье пришлось сблизиться с «другой знаменитостью», столь чуждой ему по взглядам.
Ковалевский уже продал все, что мог, и должен был возвращаться в Россию; к тому же ему надо было сдать экзамены и защитить диссертацию на степень магистра. С ним уехали Ножин и Стуарт, и для не переносящего одиночества Ильи стало подлинным благодеянием, что Бакунин со своими приверженцами перебрался в Неаполь. Теперь после многочасовых бдений над микроскопом Мечников обедал в шумном обществе бакунинского кружка, за которым в небольшом ресторанчике был закреплен столик.
Обеды нередко затягивались допоздна. Бакунин громогласно проповедовал свои идеи; его молодые соратники схватывались в жарких спорах.
Споры мало занимали Мечникова: они напоминали то, что совсем недавно он слышал в Женеве. Охотнее всего Илья беседовал с молодой англичанкой мисс Рив, которая хорошо знала Герцена и много рассказывала о нем.
Неожиданно в Неаполе вспыхнула холера.
Город огласился несмолкающим колокольным звоном; по кривым улочкам потянулись мрачные процессии. За гробами шли толпы людей в длинных белых покрывалах с прорезями для глаз; в руках они несли чадящие факелы, и потом еще долго по улицам стлался черный дым.
Город был в панике, и, надо сказать, Мечников не принадлежал к тем немногим, кто встретил бедствие с философским спокойствием. Оставалось еще семнадцать лет до открытия Кохом холерной «запятой». Илья не смел и думать, что придет время, когда он сам вступит в борьбу со страшной болезнью и даже будет пить культуру смертоносного микроба. Юный естествоиспытатель с удвоенной силой накинулся на ракообразных, но занятия его стали утомлять.
К тому же из-за нескончаемых серенад Илья все эти месяцы скверно спал, а теперь, когда нервы оказались натянутыми сильнее, чем струны гитар, он почти вовсе лишился сна. Однажды в сердцах он вылил на голову незадачливому певцу ведро помоев, однако несложный расчет показывал, что на всех неаполитанских влюбленных помоев не напасешься.
По вечерам в ресторанчике, видя мрачное состояние своего обычно оживленного собеседника, мисс Рив стала над ним подтрунивать. Веселая и беспечная, она оставалась беззаботной и вовсе не боялась холеры.
Но однажды англичанка не пришла к обеду, что всех встревожило, ибо прежде ни одного обеда она не пропустила Бакунин пошел узнать, что случилось, и застал мисс Рив в постели.
На следующий день она умерла…
Эта смерть окончательно выбила Мечникова из колеи Сильно переутомленный, взвинченный, он уже не мог продолжать свои занятия и поспешно уехал в Геттинген…
11
В Геттинген, а не в Петербург.
Об этом пишет Ольга Николаевна, и то же следует из четвертого отчета Мечникова о его пребывании за границей; отчет датирован 14/2 декабря 1865 года и кончается словами:
«Из Неаполя я переехал в Геттинген, куда только что приехал и где намерен пробыть до конца семестра…»
Обращаем на это внимание, так как ученик А. О. Ковалевского К. Н. Давыдов приводит будто бы принадлежавшие самому Александру Онуфриевичу воспоминания о том, как на защите его магистерской диссертации, когда он стал описывать процесс образования кишечника у ланцетника, Мечников выкрикнул из зала: «Кишечник никогда нигде не образуется таким образом, это абсурд!»
Мечников действительно оспаривал взгляды Ковалевского на образование кишечника. Склонный к глобальным обобщениям, Илья Ильич свои выводы, полученные на ракообразных и насекомых, поспешил распространить и на других животных. Его широкий ум не хотел мириться с тем, что некоторые факты не укладываются в выведенные им общие правила.
«Руководствуясь аналогией, мы еще более укрепляемся в нашем мнении…»
«Я думаю на основании аналогий…»
«Из сказанного следует, что, по всей вероятности, и у лягушки, и у миноги, и у Amphioxus[9] образование кишечной полости подходит под общий закон, выведенный нами из изучения развития ракообразных. Если непосредственное наблюдение подтвердит это, то еще раз обнаружится заслуга сравнительного метода…»
Аналогия, аналогия! Он мыслил аналогиями! И аналогии приведут его к величайшим открытиям, в том числе к главному, которое навечно связано с именем Мечникова, — явлению фагоцитоза. Но аналогии же стали источником многих его заблуждений, потому что «непосредственные наблюдения» далеко не всегда подтверждали выведенные им «общие законы».
В споре с Ковалевским он оказался не прав. Постепенно Мечников должен был уступать, причем делал это с большой неохотой.
Но на защите Ковалевским диссертации он из зала выкрикивать не мог, потому что не был тогда в Петербурге. Тут у Ильи Ильича полное алиби. А вот кто действительно попортил кровь Александру Онуфриевичу, так это Николай Ножин. Он-то на диспуте выступил.
«Чуть ли не последнее свидание (с Ножиным. — С. Р.) было на моем диспуте, — писал через много лет Ковалевский Мечникову, — где он заявлял требование, что всякий начинающий работу должен дать отчет, — какое общественное значение она может иметь, и настаивал на этом в весьма резкой форме, и тогда я сказал декану, что я на возражения в этом направлении отвечать не могу».
В Петербурге, по словам Ковалевского, Ножин «был совсем сбит с пути окружающими». О проделанной на море работе он опубликовал лишь одно предварительное сообщение, в котором, между прочим, указывал, что открыл общий закон взаимного расположения органов. Но вместо того чтобы продолжать научные публикации, Ножин занялся журналистикой. Его перу, например, принадлежит страстная отповедь Варфоломею Зайцеву, который в одной из своих статей оправдывал порабощение белыми колонизаторами людей «низшей расы» и при этом пытался опереться на Дарвина.
Еще больше прославился Ножин скандальными выходками. Особенно нашумела его попытка выкрасть из имения родителей сестру, которую он хотел «спасти», то есть увезти за границу учиться. В Петербурге беглецов настигли; сестра вернулась в родительский дом, а «известный нигилист Ножин» попал на заметку Третьего отделения.
3 апреля 1866 года он внезапно умер, а на следующий день Каракозов стрелял в царя. В первом же официальном сообщении по делу Каракозова говорилось о Ножине как о его соучастнике. В связи с этим неожиданная смерть «известного нигилиста» (по всей видимости, от тифа) возбудила фантастические толки, говорили, что он накануне покушения раскаялся и, желая предотвратить цареубийство, уговаривал друга вместе с ним донести, опасаясь, что Ножин донесет сам, друг якобы его отравил. Называли даже имя этого друга — известного поэта и переводчика В. С. Курочкина. Курочкин действительно дружил с Ножиным, но в деле Каракозова он не был замешан. Говорили, впрочем, что ему удалось замести следы…
12
В Геттингене Мечников решил заняться позвоночными, о которых имел пока смутное представление.
Профессор Кэфферштейн поручил ему отпрепарировать какую-то редкую ящерицу, но тут обнаружилось, что Илья совершенно не способен к школярским занятиям… Повторять зады, изучать то, что давно уже известно, изучать только затем, чтобы задраить бреши в своем слишком поспешно завершенном образовании (ах, как жалел он теперь о пропущенных лекциях профессора Черная и профессора Масловского!), — все его нутро восставало против такого времяпрепровождения… Он торопился, нервничал, раздражался… Ящерица была непоправимо испорчена, в сердцах Мечников швырнул инструменты на пол…
Илья Ильич перешел к профессору анатомии Генле, под его руководством стал знакомиться со строением почек у разных животных, но вскоре и эти занятия ему надоели. С профессором он больше беседовал не о почках, а о том, что недавно пережил в Неаполе. Картины охваченного эпидемией города то и дело всплывали в его воображении, порождали щемящее чувство безнадежности, мысли о незащищенности человека перед силами природы. Генле высказывал предположение, что заразные болезни вызываются невидимыми микроскопическими существами, но, когда Мечников обрушивал на него град вопросов об особенностях различных болезней, о характере их распространения, о том, почему одни люди умирают от них, а другие выздоравливают, и, наконец, многие вообще не заболевают, — профессор лишь разводил руками.
Илья принялся самостоятельно изучать травяных вшей, пополняя материал своей будущей монографии о развитии насекомых, а на летний семестр уехал в Мюнхен, к знаменитому Зибольду.
К. Зибольд был уже стар, учеников не принимал, и Мечникову ничего не оставалось, как продолжать самостоятельные исследования.
Еще в 1854 году Г. Цаддах описал зародышевые листки у насекомых и уподобил их листкам позвоночных. Это была одна из немногих «еретических» работ додарвинова периода, в которой делалась попытка установить единство происхождения разных типов животного царства. Однако превосходной идее Цаддах оказал медвежью услугу.
Одним из главных событий гисенского съезда, на который, как мы помним, Мечников приехал с Гельголанда, был доклад молодого натуралиста Августа Вейсмана. Исследователь большого таланта и горячего темперамента, Вейсман показал, что Цаддах допустил грубые ошибки. В полемическом задоре Вейсман утверждал, что развитие насекомых идет по совершенно особому пути, сравнивать его с развитием других животных — значит предаваться пустой игре воображения.
Доклад Вейсмана глубоко заинтересовал Мечникова. Первые же собственные исследования над насекомыми показали ему, что Вейсман правильно раскритиковал Цаддаха. Но следует ли отсюда, что теорию зародышевых листков вообще нельзя распространить на насекомых? С этим Мечников согласиться никак не мог. Он уже доказал применимость теории листков к ракообразным и обнаружил их у паукообразных. Оба класса вместе с насекомыми принадлежали к одному и тому же типу животных — членистоногим. Пути их развития должны были обнаруживать сходство!
Мечников исследует самых разных насекомых и наконец выясняет ошибку Вейсмана. Зародышевые листки у насекомых лишь едва намечены, но они существуют, и именно они дают начало основным системам органов!
В августе 1866 года вновь призываемый Александром Ковалевским Илья вернулся в Неаполь. Но не успел он прийти в себя после тяжелого путешествия (до Генуи он плыл на пароходе, попал в сильный шторм, и морская болезнь вызвала у него стойкие головокружения), как в городе вновь вспыхнула холера… Опять непрекращающийся погребальный звон, похоронные процессии и сознание полной беззащитности ввергли молодого естествоиспытателя в мрачнейшее состояние. Однажды вечером, возвращаясь домой, он столкнулся во дворе со священником. Священник спешил к его квартирной хозяйке, дабы позаботиться о спасении ее души, ибо тело несчастной донны Кончетты уже ничто спасти не могло. Ночью она скончалась от холеры…
Эта смерть, как год назад смерть мисс Рив, побудила Мечникова покинуть город. Вместе с Ковалевским он перебрался на остров Иекия, но, дабы восстановить свои силы, вскоре переехал в курортное местечко Каву, где вновь встретился с Бакуниным.
Теперь они сошлись особенно близко. Испытывая неистребимую потребность о ком-нибудь заботиться, Мечников так бережно опекал Бакунина, что тот дал ему прозвище «мамаша». Прозвище прижилось: впоследствии «мамашей» его называл Сеченов.
…Когда эпидемия улеглась, Мечников вместе с Бакуниным вернулся в Неаполь.
В городе появился и Владимир Ковалевский. Он приехал сражаться в армии Гарибальди. Будущий основатель эволюционной палеонтологии все еще не нашел себя и оставался не тем Ковалевским, который исследует, а тем, который издает. Дела его шли неважно: он пускался в рискованные операции, под будущие доходы делал большие долги и никак не мог выпутаться из денежных затруднений.
В бакунинском кружке Владимира Онуфриевича приняли холодно. Объяснялось это тем, что один из эмигрантов, Николай Утин, предупредил товарищей: Ковалевского подозревают в провокаторстве. Слишком уж счастливо избегал он ареста, тогда как ближайшие друзья его «проваливались» один за другим. Правда, Утин добавил, что сам сомневается в «шпионстве» Владимира Онуфриевича, особенно с тех пор, как лично его узнал.
Один из таких разговоров происходил в присутствии Мечникова, и он вспомнил подобные же толки.
Бакунин тотчас отписал обо всем Герцену:
«Важнее было для меня показание М-ва — натуралиста, которого я от души уважаю как человека умного, серьезного и добросовестного. Он сам лично так же ничего не знал положительного против Ковалевского, но слышал многое от разных людей в Швейцарии и в Германии, особливо же в первой, и именно в обществе, окружающем Якоби. М-в, впрочем, действовал в этом случае весьма осторожно, долго не говорил никому ничего и заговорил только тогда, и то в весьма тесном кружке, когда был вызван к тому показаниями Утина».
Ковалевский каким-то образом узнал о страшном подозрении и прислал Бакунину «воинственную телеграмму», в которой грозил Мечникову «неумолимым гонением».
Вскоре, однако, друзья объяснились. Мечников повинился в своей опрометчивости, и теплые отношения между ними восстановились.
В Неаполе Илья усиленно занимался развитием ракообразных и, кроме того, головоногим моллюском Sepiola, яйца которого ему доставлял неунывающий Джиованни. Яйца были прозрачными, что позволяло, не вскрывая их, следить за развитием зародышей.
У моллюска Мечников тоже обнаружил зародышевые листки и проследил образование из них наружного покрова и мускулов, хрящевого скелета, нервной системы, органов зрения, слуха, обоняния, дыхания, кровообращения и частично пищеварения.
Материалы этих исследований легли в основу его магистерской диссертации, в которой он, не имея «достаточных данных для сравнения Sepiola с эмбриологией других головоногих» и вообще моллюсков, попытался указать на общность развития некоторых органов Sepiola с органами скорпиона и даже позвоночных животных.
Дальнейшими исследованиями такая общность частью подтверждена не была, но в то время его выводы явились большим шагом вперед.
ГЛАВА ПЯТАЯ От доцента до профессора
1
Последнюю порцию министерской стипендии Мечников расходовал с особенной осмотрительностью, и, хотя срок его командировки истекал вместе с 1866 годом, он приехал в Петербург только в марте 1867-го, когда утренние туманы жадно съедали потемневший снег, по обочинам улиц неслись мутные потоки и на Неве гулкими выстрелами лопался лед.
В столице его встретили с шумным восторгом, что, впрочем, сам Мечников принимал как должное. Ведь он возвратился в Россию не подающим надежды вундеркиндом, а признанным исследователем, лауреатом премии имени К. М. Бэра. Премия в тот год присуждалась впервые, и высокое жюри поделило награду между ним и Александром Ковалевским; а Бэр, сам великий Бэр, с бритым, изъеденным морщинами лицом и большим птичьим носом, на специально устроенном приеме сказал Илье несколько ободряющих слов.
Братья Ковалевские воспротивились желанию своего друга снять номер в гостинице и уговорили поселиться у них.
Профессор зоологии К. Ф. Кесслер громко восхищался его познаниями и талантом.
Вечера Илья коротал в доме профессора ботаники А. Н. Бекетова, где сразу же стал близким человеком, чуть ли не членом семьи…
Петербургский университет без всяких проволочек присудил ему степень магистра, а Новороссийский университет стараниями профессора И.А. Маркузена, с которым Илья вступил в переписку еще во время своего пребывания за границей, тут же избрал его доцентом.
Словом, то была прекрасная весна, весна его жизни.
Летом двадцатидвухлетний лауреат, магистр и доцент явился в Панасовку, дабы напитаться безудержными излияниями родительской нежности, по которой за три года разлуки успел истосковаться. Поблаженствовав под отчим кровом два месяца — не так уж мало для его деятельной натуры, — он помчался в Одессу.
И нагрянул туда в разгар каникул…
Но он хоть и был еще очень юн, а все-таки возмужал за последние годы. Нет, он уже не тот, кто несколько лет назад тоже в разгар каникул приехал в Вюрцбург, что обернулось для него почти катастрофой. Никого не застав и послонявшись пару дней по пустым коридорам университета, он нанял лодку и стал выезжать в море. Ведь не зря же Илья выбрал Новороссийский университет, а не Казанский, куда его настойчиво звал профессор Н. П. Вагнер.
С Вагнером Илья уже был знаком — они встречались в Неаполе, причем маститый профессор воспылал к юноше пылким дружелюбием. В письмах Вагнер приглашал остановиться в своей квартире, предлагал денег взаймы, обещал даже со временем перейти на кафедру позвоночных животных, дабы очистить для Мечникова место профессора на кафедре беспозвоночных. Этим посулам Илья Ильич, похоже, не особенно доверял, но сотрудничество с Вагнером было, безусловно, заманчивее, нежели сотрудничество с Маркузеном, о котором, как писал ему казанский профессор, «я ни от вас и ни от кого не слыхал ничего хорошего». И если Мечников все-таки выбрал Новороссийский университет, то только по одной причине: здесь было море.
Правда, его ждало разочарование. Черноморская фауна оказалась бедной; мечты о том, чтобы продолжать исследование с прежним размахом, надо было оставить. Впрочем, еще теплилась надежда: может быть, это особенность данного места и времени. Ведь и в Неаполе бывают периоды, когда живности в море почти нет. Мечников решает махнуть в Крым: если живность есть у крымских берегов, то она появится и у Одессы.
2
По счастливой случайности он остановился в том самом месте, где проводил свой отпуск его будущий коллега по университету профессор ботаники Лев Семенович Ценковский. Они быстро сблизились, хотя профессор был вдвое старше юного доцента.
…Позднее Мечников назовет Ценковского «первым русским биологом, сделавшим себе имя в европейской науке».
Первым — это слишком смело, но в главном Мечников прав: исследования Ценковского в области простейших организмов, промежуточных между растительным и животным царствами, составили эпоху в науке.
Целыми днями они гуляли вдоль берега, хотя «гуляли» здесь не то слово. Потому что юный доцент, невзирая на жару, стремительно несся вперед, а Ценковский, поспешая за ним, обливался потом и едва переводил дух.
Заядлые спорщики, они схлестывались по самым разным вопросам. Правда, Мечников спорить, в сущности, не умел: горячился, бесцеремонно перебивал, яростно разрушал концепции, которые противник, может быть, вовсе и не собирался отстаивать, не замечал, как переходит на резкий, обидный для собеседника тон…
Ценковский стал объяснять молодому коллеге, что с мнениями других людей необходимо считаться, иначе трудно ужиться в коллективе, особенно в чопорной профессорской среде. По словам Ольги Николаевны, он «отечески взялся „цивилизовать“ чересчур пылкого, импульсивного и часто резкого юношу», а тот «старался сообразоваться с его советами, поскольку позволяла его страстная натура».
Однако, как мы скоро увидим, страстная натура «сообразоваться» ему нисколько не позволяла. Может быть, потому, что жизненный путь продолжал казаться юноше ровным и гладким, как первый ледок на панасовском пруду, и, хотя приближалась осень, в душе его продолжала буйствовать весна. Да и небо над головой, благословенное крымское небо, оставалось таким ясным, что облакам просто неоткуда было взяться. (Скоро ему предстояло узнать, как быстро могут сгущаться тучи на небосклоне жизни…)
3
И вот он поднялся на кафедру, поправил овальные очки и сквозь толстые линзы оглядел переполненный зал.
В первом ряду весь синклит Новороссийского университета во главе с ректором Ф. И. Леонтовичем.
На молодого доцента внимательно смотрит профессор физики Ф. Н. Шведов; торжественно сложил на груди руки И. А. Маркузен; ободряюще кивает Ценковский. Математик Е. Ф. Сабинин смотрит в сторону, глаза его замутнены, он по обыкновению пьян… Рядом с ним К. И. Карастелев — тоже математик, говорят, совершенно бездарный, — что-то нашептывает Сабинину.
А сзади — сотня пар любопытных, немного насмешливых глаз. Студенты! Не только те, что с сегодняшнего дня стали его постоянными учениками, но и с других курсов и факультетов. Многие толпятся в проходах, стоят в распахнутых дверях, на них напирают из коридора. Да, здесь чуть ли не весь университет, потому что день сегодня особый. Сегодня вступительная лекция нового доцента, и к тому же не совсем обычного: о нем идет слава большого ученого, хотя он младше своих учеников…
Он нервно забарабанил пальцами по кафедре, потом сжал их в кулак.
— Господа! — сказал неожиданно высоким голосом. Кашлянул и, овладевая собой, повторил: — Господа! История развития низших животных…
Здесь мы вынуждены поставить многоточие, потому что текст вступительной лекции Мечникова не сохранился.
По воспоминаниям профессора Г. Е. Афанасьева, «Мечников был виртуоз, который говорил с такой кристаллической ясностью, что слушателю начинало казаться, что все это и он мог бы вперед сказать и что в этом и сомневаться невозможно».
К лекциям он готовился с большой тщательностью: просматривал всю текущую литературу; излагал результаты своих собственных исследований; долгие часы занимался приготовлением препаратов, так что слушатели своими глазами видели все, о чем он говорил. Это было внове.
Со студентами он держался запросто, как с равными себе, что тоже было внове.
Юный доцент стал привлекать желающих к научной работе, а так как в университете зоологической лаборатории не существовало, то он приглашал их к себе домой.
Это было внове настолько, что профессор Маркузен устроил доценту «большую историю».
4
Отношения с Маркузеном никак не складывались. Он оказался «ужасно безалаберным, капризным и глупым человеком», — во всяком случае, так отозвался о нем Мечников в письме А. О. Ковалевскому.
Илья Ильич хотел поручить состоявшему при кафедре консерватору раз в неделю выходить в море за материалом для препаратов, но Маркузен не позволил.
«У меня много дел для лекций, к тому же и море отсюда довольно далеко, так что я сам почти никогда не имею времени делать экскурсии, а Джованни здесь нет», — жаловался Мечников.
Когда же он все-таки выбирался в море, то Маркузен, желая подчеркнуть, что экскурсии — личное дело доцента, отказывался оплачивать их из средств кафедры. Таких мелочей с каждым днем накапливалось все больше. Тучи сгущались…
И разразилась гроза.
…В конце года в Петербурге впервые собирался съезд российских естествоиспытателей. Юному доценту очень хотелось поехать на съезд, но такое же желание изъявил и Маркузен. Факультет отдал предпочтение профессору. Мечников, рассчитывая на поддержку Ценковского, стал настаивать. Но Лев Семенович его сторону не взял: посоветовал уступить. Илья Ильич мудрому совету не внял, и тогда факультет, по его словам, «для того, чтобы оправдать себя, выставил меня недобросовестным и алчным, накинув мне, будто я знаю, что факультет хочет меня летом командировать за границу (ничего подобного не было), а я еще прошу пособия на Петербург».
«Большинство профессоров, — объясняет Ольга Николаевна, — стали на сторону Маркузена, принадлежавшего к их партии». Но дело здесь не только в партийных пристрастиях. Маркузен, конечно, никаких научных заслуг не имел, да и к съезду особого интереса не питал; наконец, будучи человеком состоятельным, он вполне мог поехать на собственный счет — дорогу юному естествоиспытателю не закрывать. Но формальное-то право было на стороне профессора!
Остро переживая происходящее, Мечников неосторожно пожаловался на «несправедливости» студентам, и те устроили Маркузену «кошачий концерт». Профессорская корпорация еще больше возмутилась. Правда, боясь, что скандал выйдет за стены университета, совет принял соломоново решение: направить на съезд обоих. Поле боя и на этот раз осталось за Мечниковым. Но то была пиррова победа. Ему стало ясно, что с Маркузеном он ужиться не сможет…
Впрочем, дело едва не приняло неожиданный оборот. Студенты, прознав, что любимый преподаватель собирается уходить, вновь стали устраивать скандалы Маркузену. «Есть надежда, — писал Илья Ильич А. О. Ковалевскому, — что этого господина можно будет выжить отсюда. Я, во всяком случае, объявил, что если останусь здесь, то только для того, чтобы лучше обсудить дело, что в случае неулучшения моего положения я в конце учебного года уберусь отсюда. Я теперь мечтаю о том, чтобы спровадить Маркузена (он весьма богатый человек и притом совершенно здесь бесполезен)».
5
Съезд естествоиспытателей разочаровал Мечникова: «Было все чинно и неинтересно».
И ради этого он заваривал кашу!.. А каково ее расхлебывать? С каким лицом теперь возвращаться в Одессу и ради чего? Чтобы зарабатывать репутацию скандалиста, заставляющего уйти в отставку престарелого профессора?..
Но недаром то была весна его жизни, его весна, когда по каким-то таинственным законам энергия и талант находят поддержку еще и в самом обычном везении…
Словно нарочно, словно специально для него в Петербургском университете появилась свободная доцентура по зоологии!..
Не мешкая, Мечников решил баллотироваться, был избран и вдобавок командирован до нового учебного года за границу.
Он тотчас отправился туда, на благодатное Средиземное море, под синий шелк неаполитанского неба, где его уже поджидал Александр Ковалевский.
6
Была весна следующего, 1868 года… Правда, погода в Неаполе стояла скверная, и Ковалевского в городе не оказалось. Море волновалось, живности в нем почти не было, даже Джиованни был в ту весну бессилен; изныв от безделья, Ковалевский решил попытать счастья в Мессине…
Обо всем этом Мечников узнал из письма, поданного ему женой Александра Онуфриевича Татьяной Кирилловной. Она только что родила дочку Оленьку и была еще слаба — потому и задержалась в Неаполе. В ожидании новых вестей от Ковалевского Мечников рьяно взялся опекать молодую мать и ее малютку.
…Александр Онуфриевич сообщил, что с живностью в Мессине и вправду много лучше. Мечников сел на пароход и, промаявшись ночь от морской болезни, наутро увидел меж невысоких гор Сицилии маленький городок, полукругом окаймляющий берег пролива. Грязная набережная была загромождена ящиками из-под апельсинов. Ковалевский встречал его на пристани…
Вскоре сюда же приехала Татьяна Кирилловна с дочкой. Друзья отыскали православного священника, чтобы окрестить девочку. Пока длилась церемония, Мечников в качестве крестного отца неловко держал ребенка, а Ковалевский больше всего был обеспокоен тем, чтобы сохранить огарки восковых свечей: смесь воска с оливковым маслом нужна была для приготовления препаратов.
Однако взаимное общение, в котором оба чувствовали неистребимую потребность, недолго доставляло им радость.
Прежде всегда получалось так, что они избирали для исследования разные объекты. А тут обоих заинтересовали асцидии…
Эти мешкообразные животные примитивны по своей организации; личинки же их имеют развитую нервную систему и даже спинную струну — прообраз позвоночника. Эти «странности», встречающиеся только у оболочников, к которым принадлежат асцидии, и заинтересовали друзей. А так как ни один из них не хотел уступить, то поводов для недоразумений было предостаточно.
Скоро к тому же выяснилось, что относительно асцидии они держатся совершенно разных точек зрения. Ковалевский еще раньше установил, что развитие личинок асцидии во многом сходно с развитием ланцетника. Он проследил за формированием нервной системы и установил, что она происходит из верхнего листка (эктодермы) — так же, как у ланцетника и вообще у позвоночных. Мечников пришел к другому выводу. Он доказывал, что нервная система происходит из среднего листка (мезодермы) и что проводить параллели между асцидиями и позвоночными нет никакой возможности. Это различие во взглядах отчасти объяснялось тем, что Ковалевский изучал животных, размножающихся половым путем, а Мечников — почкованием. (Эмбриональное развитие во многом зависит от способа размножения, но в то время об этом никто не подозревал.) Однако главная причина разногласий была серьезнее. Мечников из своих прежних наблюдений сделал неверный вывод — о том, что нервная система у беспозвоночных развивается из среднего листка, и теперь, руководствуясь «аналогией», распространял это представление на асцидий.
Оба исследователя стремились убедить друг друга с такой неумеренной горячностью, что дело чуть не дошло до разрыва…
Распри с Ковалевским Мечников переживал как большое личное горе. А поскольку беда не приходит одна и поскольку в исследовательской работе он меры не знал, и еще потому, что солнце в Мессине светило слишком ярко, — глаза его опять отказались служить… И хотя погода стояла отменная и небо над Мессиной было поистине синий шелк, но его переутомленные глаза видели только тучи, грозовые тучи, да такие черные, какие еще никогда не собирались на горизонте его жизни…
Илья часами слонялся по городскому парку или долго сидел в тени большого дерева с пурпурно-красными, похожими на мотыльков цветами и предавался непростым размышлениям…
От тех пяти-шести десятков лет, на которые он вправе был рассчитывать с той поры, когда впервые осознал временную ограниченность своего существования, — от этих пяти-шести десятков лет, которые еще так недавно все лежали перед ним впереди, прожорливое время — он не успел оглянуться — уже откусило хоть и не очень большой, но все-таки изрядный кусок. И главное — как сложатся те четыре-пять десятков лет, которые все же ему оставались? С чем уйдет он из этого мира? Неужели ему суждено, как и большинству людей, остаться лишь ничтожной кочкой на унылой равнине несуществования?..
До сих пор все шло у него неплохо. Он уже положил первый камень в фундамент своей вечной жизни, которой нет за гробом, но которая все-таки возможна — в памяти людей; чтобы достигнуть ее, надо работать, работать не покладая рук, но вот глаза… А что, если они или какая-нибудь другая болезнь так и не позволят вернуться к микроскопу?..
К микроскопу ему удалось вернуться довольно скоро — после того, как друзья опять перебрались в Неаполь.
Обратное путешествие они совершили врозь — Ковалевский со своим семейством на пароходе, а Мечников, опасаясь новых приступов морской болезни, переправился через пролив и поехал сухим путем, на лошадях. Спешить ему было некуда.
Дорожные впечатления развеяли его; глаза получили необходимый отдых. Но в Неаполе распри с Ковалевским вспыхнули с новой силой.
«Наши отношения стали до того тяжелы и лично для меня решительно невыносимы, — писал Ковалевский своему другу 25 мая, — поэтому я [хочу] еще раз сделать предложение к окончательному разрешению вопроса.
Если уже мы оба продолжаем работать над Phallusia, то, чтобы не подавать повод к инсинуациям, какие я имел удовольствие слышать вчера, пусть рыбаки носят кому-нибудь одному, а мы уже добросовестно поделим между собой (в счетах мы никогда не спорили, есть надежда, что здесь не подеремся). (Вероятно, рыбаки сначала приносили добычу Ковалевскому, и Мечников упрекнул его в том, что он отбирает себе лучшие экземпляры. — С.Р.)
Наконец, ради прекращения этих неприятных отношений я готов сделать еще уступку и предоставить Вам весь материал с тем, чтобы сделанное мною в течение этой недели и не сделанное еще Вами было признано моим (нервная система вся в этом случае остается за Вами).
Я делаю эту уступку не потому, чтобы считал, что Вы имеете больше прав на асцидий, чем я, нет, я в этом случае остаюсь при том же мнении, как и вчера, но просто потому, что мне приятны и интересны наши прежние отношения и тяжелы и неприятны настоящие.
За Вами, значит, выбор того или другого разрешения».
Худой мир лучше доброй ссоры; отношения между друзьями кое-как наладились, но потом еще много лет спор возобновлялся, дело вновь доходило до взаимных обид и упреков, даже препирательств из-за того, кто первый установил тот или иной незначительный факт.
Прав в этом споре, как и в предыдущем, оказался Ковалевский. Точные наблюдения и здесь взяли верх над аналогиями (хотя порою Мечников впадал в другую крайность и не желал признавать даже самых очевидных аналогий).
Впрочем, общность развития асцидий и позвоночных, на которой настаивал Ковалевский, вызвала возражения не только у Мечникова. Академик Бэр справедливо увидел в работе Ковалевского подрыв теории разобщенности типов. Один из крупнейших зоологов, Гегенбауэр (об этом Эрнст Геккель рассказывал Владимиру Онуфриевичу), прочитав статью Александра Ковалевского, «проходил в волнении целую ночь, не ложась в постель». Своеобразную позицию занял Митрофан Ганин. Он считал, что наблюдения Мечникова более правильны, но тем не менее сближал асцидий с позвоночными.
Постепенно правоту Ковалевского признавало все больше ученых, и создалось положение, когда, как отметил Ганин, «один только Мечников еще противится сближению асцидий с позвоночными животными».
Вескую поддержку Ковалевский получил от Дарвина.
«Если верить эмбриологии, оказывавшейся всегда самой верной руководительницей в деле классификации, — писал создатель теории естественного отбора, — мы получили, наконец, ключ к источнику, из которого произошли позвоночные. Мы теперь имеем право думать, что в чрезвычайно отдаленный период времени существовала группа животных, сходных во многих отношениях с личинками теперешних асцидий, и что эта группа разделилась на две большие ветви, из которых одна регрессировала в развитии и образовала теперешний класс асцидий, другая же поднялась до венца и вершины животного царства, дав начало позвоночным».
Волей-неволей и Мечникову пришлось признать свою неправоту… А пока он изнурял еще не окрепшие глаза, силясь найти решающий аргумент в споре. Эти настойчивые поиски, однако, не отодвинули на задний план других размышлений…
Как надо жить?..
Он посвятил себя науке, но дает ли ему это право пользоваться чужими услугами? Он ест пищу, приготовленную другими, носит одежду, сшитую другими, наконец, изучает под микроскопом животных, добытых не им, а неунывающим Джиованни. Но у Джиованни, как и у него самого, только одна жизнь, те же шесть-семь десятков лет — так имеет ли он право красть его время?..
Таков ли был ход его мыслей? Об этом мы можем лишь предполагать. Но вот что бросается в глаза. Вернувшись в Петербург, юный доцент начал вести странный, не подобающий его положению образ жизни.
«По принципам и из экономии, — пишет Ольга Николаевна, — он хотел обходиться без посторонней помощи, сам готовить и хозяйничать. Однако все шло у него из рук вон плохо. Прежде всего, ему надоело прибирать, и скоро в комнате завелся хаотический беспорядок; потом и готовить было скучно; он стал ходить обедать в какую-то плохую немецкую кухмистерскую. И все же, несмотря на все лишения, он не мог сводить концов с концами. Пришлось читать лекции в отдаленном горном корпусе. Из экономии туда приходилось ходить пешком даже в самую страшную стужу; ученики вовсе не интересовались отвлеченной наукой, так что заработок этот был тяжелой повинностью, без всякого нравственного удовлетворения. И вот пребывание в Петербурге, от которого он ждал столько хорошего, принесло ему ряд тяжких разочарований. Его столь радостное настроение вскоре стало уступать место пессимизму и мизантропии».
Ну, материальные трудности Ильи Ильича Ольга Николаевна преувеличивает. Ведь на жалованье доцента (полторы тысячи в год) худо-бедно жили и многодетные семьи. Что касается пессимизма и мизантропии, сменивших безмятежно-радостное якобы настроение, то тут Ольга Николаевна тоже не совсем точна: Мечников и раньше временами впадал в мрачное расположение духа — мы это демонстрировали в меру своего умения на предыдущих страницах.
…Что же останется из сообщенного Ольгой Николаевной, если учесть сделанные оговорки?
А то, что молодой доцент по принципам, но отнюдь не из экономии, решил в своей частной жизни обходиться без посторонней помощи. И хотя хозяйничать и готовить ему было скучно и, пойдя обедать в кухмистерскую, он вступил в противоречие со своими принципами, ибо в кухмистерской обед готовили как раз посторонние ему люди, но важно, что такие принципы у него появились.
Сам Мечников писал позднее в полемической статье против Толстого:
«Я близко знаю одного русского ученого, который, будучи совсем молодым человеком, в шестидесятых годах (следовательно, задолго до проповедей гр. Толстого), задумал соединить занятия естественными науками с образом жизни, основанным на теории „гармонического отправления частей для блага целого“. С этой целью он стал жить, стараясь по возможности сам удовлетворять своим потребностям, совершенно вроде того, как впоследствии гр. Л. Толстой, когда он решил, что он должен делать все, что ему „самому нужно — мой самовар, моя печка, моя вода, моя одежда…“. Только мой ученый обходился вовсе без самовара и старался, елико возможно, упростить жизненный обиход, лишь в редких случаях чистя платье и сапоги, прибирая комнату и пр. Несмотря на то, что уже вскоре стали сказываться очень чувствительные неудобства от такого „соединения труда“, тем не менее, молодой естествоиспытатель оставался верным принципу и крепился сколько было сил».
Верным принципу. Об экономии — ни слова.
Но крепиться сколько было сил Мечникову оказалось нелегко, точнее — у него немного было сил на то, чтобы крепиться. Тем более что бытовая неустроенность, на которую он обрек себя по собственной прихоти и с которой, следовательно, должен был по необходимости мириться, помножалась на неустроенность в университете, с которой он мириться не желал.
Да, Петербургский университет, так манивший его из одесского далека, вовсе не оказался обетованной землей для исследовательской работы.
Лаборатории и здесь не имелось: при кафедре зоологии был только неотапливаемый музей со стеклянными шкафами — в них выставлялись коллекции для обозрения. Лабораторный стол пришлось поместить в темном углу и, настраивая микроскоп, то и дело дышать на зябнущие пальцы. Проводить практические занятия со студентами было вообще негде. И главное, возглавлявший кафедру профессор К. Ф. Кесслер давно примирился с этими условиями. Как ректор университета, он был завален административными обязанностями, и, когда юный доцент требовал принять меры для налаживания работы на кафедре, Кесслер не мог взять в толк, чего от него хотят. Эта инертность руководителя кафедры бесила Мечникова. Впоследствии, через много лет, он с философским спокойствием назовет такое равнодушие «довольно естественным и особенно распространенным среди людей, уже достигших цели». Но сейчас доцент «пришел к заключению, что против него интригуют и что хотят подавить его научные силы».
Он стал подозрителен. Неосторожно оброненное кем-нибудь слово воспринимал как оскорбление, шутливая колкость больно ранила его самолюбие. Находясь в наимрачнейшем расположении духа, Илья постоянно напевал арию из «Волшебной флейты»: «Будь я мал, как улитка, забился б я в свою скорлупку». (Обо всем этом он впоследствии поведал в «Этюдах оптимизма», выведя себя под именем «близко знакомого лица, прошедшего через период жизни, окрашенный крайне мрачным миросозерцанием».)
Положение его осложнялось тем, что он никак не мог забиться в скорлупку, ибо по натуре своей был создан для активной, деятельной жизни. Он стал опять раздражаться, горячиться, и скоро выяснилось, что кого-то невзначай обидел, с кем-то слишком остро поспорил, а отношения его с Кесслером незаметно дошли примерно до той стадии, до какой год назад — отношения с Маркузоном… Он, наверное, снова впал бы в отчаяние, если бы его интересы замыкались университетскими делами.
К счастью для молодого аскета, Иван Михайлович Сеченов ввел его в кружок своих друзей, собиравшихся по субботам у Сергея Петровича Боткина. Мечников сблизился с самим Боткиным, с профессором анатомии В. Л. Грубером, с директором Медицинского департамента Е. В. Пеликаном.
Ближе сошелся он и с Владимиром Ковалевским.
В сентябре Владимир Онуфриевич ненадолго уехал и вернулся с женой Софьей Васильевной. Мечников в числе немногих друзей был посвящен в тайну, заключавшуюся в том, что брак молодой четы фиктивен.
Горячо сочувствуя девушкам, стремившимся получить образование, Владимир Онуфриевич многим из них помогал подыскивать «женихов», дабы освободить их из-под родительской опеки. Сестрам Корвин-Круковским — дочерям отставного генерал-лейтенанта — найти подходящих «освободителей» было особенно трудно, так как «нигилисты» по большей части происходили из разночинцев, а породниться с ними генерал желания не имел.
Владимир Онуфриевич, как дворянин, был «подходящим». Правда, ему следовало бы «жениться» на старшей из девушек, Анне, но поначалу она не решалась, а потом «жених» заявил, что желает венчаться только с Софьей.
Через много лет, будучи в гостях у Толстого, Мечников скажет, что Софью Ковалевскую прочили ему в жены и что Владимир Онуфриевич писал ему об этом в Неаполь.
Документы такую версию опровергают. Опубликовано письмо Владимира Онуфриевича, в котором, судя по содержанию («Я познакомился этой зимой почти случайно с двумя девушками»), он впервые сообщает брату и Мечникову о Софье Васильевне и уже о своей женитьбе на ней пишет как о деле решенном. Никаких планов относительно Мечникова и Софьи быть, следовательно, не могло.
Был другой план. Когда фиктивная чета Ковалевских поселилась в Петербурге, первой их заботой стало вытащить из глуши Анну. Перебирались возможные «женихи», среди них и Мечников.
19-20 сентября Софья Васильевна писала сестре: «…к обеду пришел Мечников. Сначала он мне очень не понравился, но я скоро к нему привыкла, надежд на него никаких не может быть; все время толковал о семейном счастье etc., следовательно, я и немного внимания на него обращала».
Из окружения «мужа» Софье Васильевне больше всех понравился его брат, Александр Онуфриевич. (Он был теперь экстраординарным профессором в Казани, но ненадолго приезжал в Петербург.) «Нигилист сильный и советовал мне непременно переодеться мальчиком, если меня выгонят с лекций Ивана Михайловича», — восторженно сообщала она сестре. Но Александр Онуфриевич, как мы помним, был женат и, значит, в «женихи» не годился.
«Надежды» Софья Васильевна возлагала на Сеченова. Иван Михайлович в числе первых русских ученых активно отстаивал право женщин на образование. Еще в начале 60-х годов он вопреки официальным запретам допускал их на свои лекции. Под его руководством выполнила первую научную работу Надежда Прокофьевна Суслова. Она, как писал Сеченов, «геройски вынесла на своих плечах разрешение вопроса, способна ли русская женщина быть медиком-ученым». Другая ученица Сеченова, Мария Александровна Бокова, стала его женой. Брак их, однако, оформлен не был, ибо Мария Александровна состояла в фиктивном браке с Иваном Петровичем Боковым. Формально, таким образом, Сеченов оставался холостяком, и Владимир Онуфриевич не сомневался, что он охотно пойдет под венец, чтобы вызволить Анну Васильевну. Но заговорить с Сеченовым на столь деликатную тему можно было, лишь заручившись согласием Марии Александровны; она же, как писала Софья сестре, «решительно не хочет понимать и так толкует, как будто ей и на мысль не приходит возможность деятельного участия с ее стороны». В конце концов, родители разрешили Анне Васильевне жить с «замужней» сестрой. Она тотчас уехала в Париж — изучать «социальные движения»; познакомилась там с Виктором Жакларом, революционером, последователем Бланки, за которого позднее вышла замуж. Жаклару грозила ссылка, и он вынужден был бежать в Швейцарию. Впоследствии Жаклар с Анной Васильевной вернулся в Париж и стал видным деятелем Коммуны. Арестованный версальцами, он ждал сурового приговора, но ему удалось бежать. Анна Васильевна скрылась из Парижа несколько раньше, так как ей тоже грозил арест.
Надо сказать, что взгляды Мечникова на «женский вопрос» сильно отличались от взглядов его ближайших друзей. Мечников считал, что женщины не способны к самостоятельной творческой деятельности: история-де не знает примеров, когда бы женщина создала нечто подлинно великое, будь то в науке или искусстве. Ему, разумеется, возражали, что виновата в этом не природа женщины, а се вековое закрепощение; но Мечников стоял на своем. По его мнению, даже в таких областях, как кулинарное или швейное искусство, в которых женщины издревле могли проявить свои таланты, высшие достижения все-таки принадлежат мужчинам. Музыке, говорил он, девочек обучают не меньше, чем мальчиков, однако в семье Рубинштейнов выдающимися музыкантами стали сыновья, а не дочери. Мечников даже предложил формулу, согласно которой гениальность — это такой же вторичный половой признак мужчины, как развитая мускулатура или борода.
Придерживаясь столь странных для поколения «шестидесятников» воззрений, Илья Ильич, казалось бы, должен был относиться к затеям своих друзей без всякого сочувствия. Он и не сочувствовал таким крайним формам борьбы за «освобождение», как фиктивные браки. Но противником женского образования Илья Ильич не был. Ревностный последователь Бокля, считавший знания основой прогресса, он полагал, что женщинам необходимо учиться хотя бы потому, что им вверена забота о будущих поколениях. «Мечников обещался пускать на свои лекции и выхлопотать позволение нам слушать лекции физики в университете», — сообщала сестре Софья Васильевна.
(Неприятное впечатление, которое он при первой встрече произвел на С. В. Ковалевскую, оказалось взаимным. В дальнейшем между ними поддерживались вежливо-холодные отношения. Мечников считал ее слишком рассудительной, говорил, что ей не хватает «сердца». Его характеристика неожиданно совпадает с автохарактеристикой С. В. Ковалевской. Уже в зрелые годы в минуту откровенности она писала своей подруге М. В. Мендельсон: «Много раз в жизни я собиралась совершить какое-нибудь безумство, но это не удавалось мне никогда <…>. Я чувствую себя сама собой только в роли рассудительной и прозаической мещанки — скажи же, кто может любить такое создание?»)
Однако чаще, чем у Боткина или «четы» Ковалевских, Илья Ильич коротал вечера в милом доме Андрея Николаевича Бекетова, где ему всегда были рады и где он отогревался душой и телом после многочасовых бдений в холодном музее и перед многочасовыми бдениями в своей неуютной холостяцкой квартирке…
У Бекетовых подрастали дочери, и Мечников приглядывался к ним еще весной, до отъезда в Неаполь и Мессину…
Нет, нет, он пока не собирался жениться.
Узы Гименея привлекали его лишь в отдаленном и потому не совсем определенном будущем, да и старшей из дочерей Бекетова едва исполнилось тринадцать лет.
…Чего же ради он к ним приглядывался?
А того ради, что к мысли Бокля (человечество движется вперед накоплением знаний) он считал необходимым сделать важное дополнение: не только человечество в целом, но каждый человек в отдельности должен строить свою жизнь на строго научных началах.
А раз так, то вопрос о таком важном жизненном шаге, как женитьба, следовало заблаговременно изучить.
Продумывая, анализируя, взвешивая, он заключил, что одной любви для счастья недостаточно.
Илья Ильич даже пришел к убеждению, что не особенно и нуждается в любви. Только в минуты трудные, в минуты неудач и разочарований, чувствовал он «ужасную потребность быть любимым, потребность всяких нежных излияний». А это значило, что хотя «любовь является отличной поддержкой в тех случаях, когда чувствуются удары в самые больные места», но она «оказывается, очевидно, стоящей на втором плане; без такой любви можно обойтись в то время, когда ударов не ощущается, когда все идет нормально. Это не та любовь, которая составляет для человека половину всего его существования и которая должна сопутствовать семейное счастье».
Выходило, что на то время, «когда все идет нормально», будущей его жене следовало бы лучше всего убираться с горизонта, дабы не застить свет, изливающийся с голубого свода небес; появляться же ей полагалось лишь в ненастье: служить этаким зонтом, принимающим на себя потоки грозовых ливней…
Круг обязанностей будущей жены был, таким образом, очерчен. Что касается его собственных обязанностей по отношению к ней, то всего лучше, чтобы их не существовало вовсе. В частности, он твердо решил не заводить детей. «Детей иметь не предполагается; это тебе говорит эмбриолог, т[о] е[сть] специалист по истории развития», — сообщит вскоре Илья матери; это единственный пункт всей стройной теории, которого он твердо будет придерживаться и в первом, и во втором своем браке.
…Трудность состояла в том, что девушку, которая бы отвечала столь необычным требованиям, вряд ли можно было отыскать. Мечников это ясно осознавал, но, несмотря на склонность к пессимизму и мизантропии, в уныние он не впал, а как истинный специалист по истории развития, счел возможным развить свою будущую жену из какой-нибудь девочки-подростка.
Вот ради чего он приглядывался к дочерям Бекетовых!..
Впрочем, приглядывался совсем недолго, а, как человек деятельный, поспешил перейти к делу.
Он ходил с детьми гулять, водил их в театр, участвовал в их незатейливых играх — словом, всячески их развивал и скоро так к ним привязался, как только мог привязываться, испытывая острую одинокость и неустроенность.
Свой выбор он остановил на старшей.
Правда, на практике не все получалось так гладко, как в теории. Если говорить по правде, то все получалось не так гладко.
Потому что дети оставались детьми, а ему нужно было нечто большее, чем милые ребячьи забавы. Возникали ссоры, обиды, которые он тяжело переживал, и, наверное, разорвал бы с Бекетовыми, если бы не жившая в их доме родственница Людмила Васильевна Федорович, тихая добрая девушка, постоянно мирившая его с девочками.
…Однажды он не пришел к Бекетовым в урочный час; не пришел и в следующие дни. Обеспокоенная Людмила Васильевна вместе со старшей девочкой, той самой, его избранницей, отправилась к нему…
Нет, ничего особенного с ним не случилось. Обычное «воспаление в горле», иначе говоря — ангина. Но совсем один в своей захламленной, нетопленной квартирке, без лекарств и куска хлеба, последовательный рационалист и специалист по истории развития лежал совершенно беспомощный и уже отчаявшийся…
Гостьи наняли извозчика и, несмотря на его протесты, перевезли к себе.
Илья Ильич несколько ожил и даже повеселел. Тем более что теперь он мог, не укоряя себя в «слабости», в «измене», покончить с принципом, из-за которого влачил столь жалкое существование. Непосредственный опыт — этот высший судья всякой теории — показал, что принцип хорошо «в принципе», но мало пригоден для практической жизни.
«С тех пор он уже не возвращался к „естественному“ и „гармоничному“ образу жизни», — писал Мечников в полемической статье против Толстого об «одном русском ученом»…
Здесь же, у Бекетовых, ему пришлось распрощаться и с другой своей теорией. Потому что «возлюбленные дети», как он их называл, вместо того чтобы сокрушенно покачивать своими милыми головками, ходить на цыпочках, говорить шепотом и всякими другими способами выказывать сочувствие его страдающему горлу; вместо того чтобы отпаивать его сладким чаем и горькими лекарствами, — вместо всего этого они беспечно предавались своим детским забавам и, кажется, даже не очень-то помнили о его трагическом существовании.
Увидев все это, Илья Ильич веселеть перестал и скоро вновь впал бы в уныние, если бы не Людмила Васильевна. Она одна приносила ему еду, поправляла подушки, подолгу сидела возле него, уговаривала принять микстуру, и, боже мой, как приятно оказалось, немного покапризничав, уступать ее настоятельным просьбам!
Неужели он не понимал, что от девочки-подростка нельзя ожидать чувств, на которые способен лишь взрослый человек? И неужели забыл, что к осуществлению своего плана только приступил, и, значит, не совсем логично требовать, чтобы рассчитанное на много лет развитие дало немедленные результаты?
Надо думать, понимал и не забыл…
Но жизнь, живая жизнь, богаче и сложнее, проще и обыкновеннее самой стройной теории. Любовь к подростку оказалась выдуманной, а то, что он считал просто хорошим отношением к Людмиле Васильевне, обернулось настоящей любовью, и такой, которая вовсе не стоит на втором плане…
«Ты совершенно несправедливо думаешь, что Людмила мне прежде не нравилась, — писал он матери. — Я в нее не был влюблен, но находился с ней в очень дружеских отношениях и хотя не считал ее идеалом женщины, но все-таки был уверен в том, что она вполне честный, добрый и хороший человек <…>. Она меня весьма любит, и это не подлежит сомнению, как ты, наверное, сама узнаешь, если познакомишься с нею. Я ее также люблю весьма сильно, и это уже составляет весьма основательный фундамент для будущего счастья, хотя, разумеется, я не могу тебе поручиться, что мы во что бы то ни стало будем весь век жить голубками. Какое-то розовое, беспредельное блаженство вовсе не входит в мои планы относительно отдаленной будущности. А я никак не могу сообразить, почему бы было лучше, если бы я стал ждать, пока у меня разовьется мизантропия, — вещь, на которую я оказываюсь весьма способным».
Не сумев построить жизнь по заранее разработанной теории, он теперь спешно под живую жизнь подводил теорию, что вовсе не успокаивало Эмилию Львовну, встревоженную внезапной переменой его планов. Она, видимо, уже не сомневалась, что сын через несколько лет женится на дочери известного профессора Бекетова, и вдруг на месте дочери оказалась родственница, не имеющая к тому же никакого состояния, да в довершение все решилось так скоропалительно… Она продолжала предостерегать своего импульсивного сына (а уж матери ли не знать его характер!), и он сообщал ей о невесте с хладнокровием натуралиста, описывающего изучаемый объект:
«Она недурна собой, но не более. У нее хорошие волосы, но зато (зато! — С. Р.) дурной цвет лица. Ей почти столько же лет, как и мне, т[о] е[сть] 23 с лишним года. Родилась она в Оренбурге, потом долго жила в Кяхте, затем она года два жила за границей и, наконец, поселилась в Москве <…>. В ней такие недостатки, которые, на мои глаза, покажутся большими, чем тебе, но что же с этим делать! Хорошо, что она сама их знает. Недостаток ее самый существенный состоит в слишком покойном характере, в отсутствии большой живости и предприимчивости, в способности скоро сживаться с дурной обстановкой. Но зато, будучи покойным, у нее характер сильный, — она может много переносить и оставаться вполне рассудительной. Она в высшей степени добрая и милая, и в характере ее я до сих пор не нашел ни одной грубой черты. Я ведь пишу тебе и о недостатках, следовательно, ты не должна думать, что я чересчур увлекаюсь Люсей и потому нахожу в ней достоинства. Факт положительный тот, и я забыть этого не могу, что всегда, когда я себя чувствовал почему-либо скверно, то она, т. е. сношения с нею меня успокаивали. Как бы мрачно я ни смотрел на будущее (а мой характер, как знаешь, не особенно побуждает меня смотреть сквозь розовые очки), все-таки я не могу не признавать того, что, живя вместе с Люсей, я, по крайней мере, на довольно долгое время сделаюсь спокойным и перестану страдать от той нелюдимости, которая на меня напала в последнее время».
7
Любопытно, что в этих письмах (а мы их цитируем менее щедро, чем Ольга Николаевна) нет ни слова о болезни Людмилы Васильевны.
Между тем Ольга Николаевна уверяет, что после того, как выздоровел он, слегла она, и тогда он, в свою очередь, стал ее выхаживать; именно во время этой ее болезни (от которой она так и не оправилась) было решено об их свадьбе, и даже «для венчания Людмилу Васильевну должны были внести в церковь на кресле, так как она не могла ходить из-за одышки».
Правда, после выхода в свет книги Ольги Николаевны брат Людмилы Васильевны Дмитрий Васильевич Федорович записал в дневнике:
«Мне было 14 лет, память у меня хорошая. В церковь ехали в карете. Людмила, Надя[10] и я с образом. Невеста была в лиловом шелковом платье и черной бархатной кофте, которую И[лья] И[льич] не позволил снять, так как церковь была сырая. На свадьбе были Сеченов, Ник. Ил. Мечников (шафера), Ковалевская, будущая знаменитость, с мужем, проф. Боков. Вернувшись, закусывали, смеялись, как И[лья] И[льич] забыл фрак в университете и хватился, когда уже надо было ехать в церковь. В комнате было жарко, и Сеченов лазил на стол открывать трубу.
Вот какие подробности я помню. Возможно ли, чтобы я не заметил, что сестру несли в кресле? Невероятно! Но мог же И[лья] И[льич] выдумать».[11]
Д. В. Федоровичу осталась неизвестной лекция Мечникова о туберкулезе, прочитанная в Лондоне в 1913 году и опубликованная русским журналом «Природа».
— Она, — сказал Илья Ильич о Людмиле Васильевне, — была до того слаба, что ее нужно было внести на стуле в церковь, в которой мы венчались.
Похоже, память сыграла с Дмитрием Васильевичем Федоровичем коварную шутку…
Однако вначале врачи не находили у Людмилы ничего серьезного, уверяли, что «грипп» скоро пройдет. Но больная не поправлялась. Обеспокоенный муж обратился к Боткину. Сергей Петрович осмотрен Людмилу Васильевну и посоветовал скорее везти за границу: «грипп» обернулся скоротечной чахоткой.
Чахотка… Одно это слово сразу перечеркнуло радужные мечты, заставило забыть все строго продуманные теории. Найти опору и утешение? Он сам должен был стать опорой и утешением, чтобы хоть как-то скрасить юной супруге оставшиеся недолгие годы…
Илья Ильич уже защитил докторскую диссертацию и, хотя оставался доцентом, но получал жалованье экстраординарного профессора. Две тысячи в год вполне хватило бы для жизни в Петербурге, но содержать жену за границей… Хорошо еще, что ему не отказали в командировке, а такое вполне могло случиться, если учесть его более чем прохладные отношения с коллегами и в особенности с ректором.
8
Положение Мечникова в университете осложнилось еще больше после того, как он опубликовал в «Отечественных записках» рецензию на «Труды съезда естествоиспытателей» — того съезда, на который он так рвался из Одессы и которым был разочарован. «Труды» вышли только в начале 1869 года, с большим опозданием. Статью, которую он сам предложил в сборник, не опубликовали (как объяснял профессор А. Н. Бекетов, из-за того, что автор слишком поздно представил рисунки, но Мечников возражал: рисунки прибыли тогда, когда еще не весь том был отпечатан). В то же время многие работы оказались не новыми (пока сборник готовился, они появились в разных журналах), а помещенная в зоологическом разделе большая статья профессора Кесслера содержала серьезные ошибки. Все это разъярило Мечникова. Рецензия его получилась резкой; Илья Ильич не посчитался даже с тем, что главным редактором «Трудов» был Андрей Николаевич Бекетов, в чьей семье он скоротал столько приятных вечеров и на чьей родственнице женился. Свое имя Мечников, правда, скрыл за инициалами М. И., но то был секрет полишинеля. Зоологи, которые настолько глубоко знали предмет, чтобы обнаружить ошибки в статьях сборника, были наперечет.
Бекетов решил вступиться за свое детище. 5 мая 1869 года в «Санкт-Петербургских ведомостях» появилась его еще более резкая отповедь. Он называл автора рецензии «если не помешанным, то дошедшим до самозабвения от злобы господином» и намекал, что между рецензентом и профессором Кесслером имеются личные счеты.
Мечников был в это время уже за границей. Сообщая ему о статье Бекетова, Александр Ковалевский писал из Казани: «Если действительно статья М. И. Ваша, то вряд ли Вам возможно будет оставить ответ Бекетова без внимания и не подписаться на объяснении не псевдонимом. Все старое и более или менее близкое к генеральству — против М. И., но из люд[ей] помоложе — против отзыва Бекетова».
В бумагах Мечникова сохранился черновик его ответа Бекетову,[12] но найти заметку в «Санкт-Петербургских ведомостях» нам не удалось. Возможно, Илья Ильич понял, что слишком погорячился, и псевдоним решил не раскрывать.
В общем, он преждевременно сжег позади себя корабли, как писал ему Сеченов.
Правда, возвращаться в Петербургский университет Мечников не собирался. Как доктор зоологии он имел теперь право на звание ординарного профессора, и именно в это время должна была появиться вакансия в Медико-хирургической академии (выходил в отставку престарелый зоолог Ф. Ф. Брандт).
Сеченов настоятельно советовал баллотироваться, брал на себя проведение этого дела и в успехе его не сомневался. Долго уговаривать Мечникова не пришлось: мало того, что жалованье ординарного было на тысячу рублей больше, — привлекала перспектива служить с Сеченовым в одном учебном заведении.
О своем намерении перейти в Медико-хирургическую академию Мечников написал некоторым друзьям и вскоре получил полный горьких упреков ответ от Николая Петровича Вагнера.
Казанский профессор давно собирался перебраться в столицу и теперь считал, что Мечников перебежал ему дорогу. В его воображении карман конкурента разбухал до фантастических размеров.
«На этом месте (то есть в Медико-хирургической академии. — С. Р.) Вы будете получать 3 тыс. руб., затем в университете Вы будете со временем получать тоже 3 тыс. руб. (Я полагаю, что Вы дойдете до ординарного.) Затем какие-нибудь корпуса и комитеты дадут Вам до тысячи. Итого 7 тыс.!
Что же? Плавание — широкое для большого корабля. В Вас есть знания, способности и, главное, то нервное, лихорадочное увлечение, та nervi, которая многое выкупает и ведет ко многому. Что же? Плывите, Илья Ильич, и предайте нас забвению (на это ведь немного нужно мужества). И да будет над Вами вечно благословенное петербургско-серое небо, да звучат над Вами фиоритуры и тремоло какой-нибудь Патти, а перед глазами пусть проходит разнообразный ряд всяких amnion'oв».[13]
Однако воображение Вагнера разыгралось слишком сильно — недаром впоследствии он стал известным писателем Котом Мурлыкой… В действительности все вышло наоборот…
Конференция академии в ответ на представление Сеченова избрала комиссию, дабы рассмотреть научные работы предложенного им кандидата. В комиссию вошли химик Н. Н. Зинин, анатом В. Л. Грубер, ветеринар И. М. Равич — все трое крупные ученые, друзья Сеченова, хорошо знавшие (во всяком случае, Грубер) также и Мечникова. Они дали о кандидате самый лестный отзыв.
Однако, прежде чем перейти к голосованию, ректор неожиданно предложил решить вопрос: нужен ли вообще академии преподаватель зоологии в ранге ординарного профессора, не лучше ли передать эту вакансию какой-либо другой кафедре? Его поддержали фармаколог И. В. Забелин и глазник Э. А. Юнге — оба давние недруги Сеченова.
Иван Михайлович сообразил, что за его спиной состоялся сговор. Забелин и Юнге вознамерились провести в ординарные экстраординарного профессора судебной медицины И. М. Сорокина.
Сеченов стал горячо возражать, и, так как предложение ректора противоречило уставу, конференция была вынуждена «пустить на шары» вопрос об избрании Мечникова.
При этом Сеченов, как сообщал он Мечникову, «руководствовался следующим соображением: уж если гг. профессора решили не пускать Вас в академию, то пусть они, по крайней мере, публично позорят себя, провалив вас на баллотировке».
Когда очередь дошла до профессора Юнге, он, по выражению Сеченова, стал «кобениться» и в конце концов заявил, что Мечников по своим заслугам достоин быть даже академиком, но так как Медико-хирургической академии ординарный профессор зоологии не нужен, то он кладет кандидату черный шар. Его шар был тринадцатым, а белых оказалось двенадцать…
Такого удара Мечникрв еще не получал…
И, как назло, недолго оставалось до окончания годичного срока командировки. Илья Ильич приходил в ужас, когда думал о том, что скоро опять должен появиться в Петербурге. К тому же Сеченов сообщал: «До меня доходили в последнее время слухи, что в университете работает против вас очень сильная партия, а вы знаете, что насолить человеку у нас вообще умеют».
И все-таки наш доктор зоологии был еще чертовски молод, и ему продолжало везти… Словно нарочно, словно специально для него в Новороссийском университете вышел в отставку ненавистный Маркузен. Стараниями Л. С. Ценковского место предложили Мечникову, и он немедленно дал согласие. О таком обороте дела он мог лишь мечтать, тем более что одесский климат больше подходил его больной жене, нежели петербургский.
Горько проученный, он опасался, что его провалят и в Одессе, но недавние коллеги отнеслись к нему лучше, чем молодой ученый в мнительности своей предполагал. Шестнадцатью голосами против трех он был избран ординарным профессором, и тут же совет удовлетворил его просьбу продлить заграничную командировку до конца летних каникул, то есть до сентября 1870 года…
9
В Италии здоровье Людмилы Васильевны улучшилось, и Мечников смог приступить к научным занятиям.
О развитии иглокожих имелись лишь отрывочные данные. Правда, А. О. Ковалевский уже пытался распространить на них теорию зародышевых листков, но полученные им результаты пока не были убедительными.
Изучая развитие голотурий, эфиур, морских звезд и морских ежей, Мечников показал, что «если при развитии иглокожих нельзя говорить о зародышевых листках как таковых, то, во всяком случае, можно с самых ранних стадий эмбрионального развития различить две обособленные закладки органов».
Мечникову удалось также выяснить судьбу образований, возникающих в зародыше рядом с кишечником. Оказалось, что при развитии этих образований они выстилают вторичную полость тела («целомическую» полость) и дают начало органам, связанным со средним зародышевым листком (мезодермой).
Эти открытия составили эпоху в сравнительной эмбриологии. Они позволили пересмотреть вопрос о месте иглокожих в системе животного царства, что Мечников и сделал, решительно отграничив их от червей, с которыми прежде сближали иглокожих.
Правда, один установленный им самим факт чуть было не спутал ему карты.
Мечников особенно тщательно изучал торнарию — странное существо, открытое в конце 40-х годов крупнейшим немецким зоологом Иоганном Мюллером и принятое им за личинку какого-то иглокожего.
Проследив за развитием торнарии, Мечников обнаружил, что она превращается вовсе не в иглокожее, а совсем в другой организм, называвшийся баланоглоссом.
Это открытие, само по себе очень эффектное, заставило Илью Ильича изрядно поломать голову. Потому что торнария все-таки походила на личинку иглокожего, а баланоглосса относили к типу червей. Отграничив иглокожих от червей, Мечников должен был теперь вновь их сблизить.
Из затруднительного положения он нашел выход, делающий честь и его остроумию, и его поразительной интуиции. Он выделил баланоглосса в особую группу и назвал «червем, построенным по типу иглокожих». Лишь много позднее было установлено, что баланоглосс относится к классу кишечнодышащих, а класс этот — к подтипу полухордовых, то есть занимает значительно более высокую ступеньку в эволюционной лестнице, нежели черви. К полухордовым и оказались близки иглокожие…
На жаркие летние месяцы Илья Ильич перевез жену в рекомендованный Боткиным Рейхенгаль — курорт в Верхней Баварии. Лишенный возможности изучать морских животных, Мечников решил продолжить исследования скорпиона. Ему удалось установить у паукообразного три зародышевых листка и тем самым окончательно распространить теорию листков на членистоногих.
Осенью Мечниковы вернулись в Италию и поселились в Сан-Ремо — небольшом городке на берегу Генуэзского залива. Потом перебрались в Виллафранку — тоже маленький городок в провинции Верона.
Теперь, когда развитие членистоногих, иглокожих, оболочников, многих червей Мечниковым в общих чертах было изучено, он стал сопоставлять этих животных с кишечнополостными — наиболее примитивными из беспозвоночных.
Кишечнополостные — к ним относятся разные медузы, сифонофоры, гидроидные полипы, гребневики — названы так потому, что имеют только одну полость — пищеварительную. У более организованных животных появляется еще и другая — полость тела, иначе ее называют «цело-мической» полостью, или «целумом». Каким образом целом отделяется, «отшнуровывается» от первичной, то есть пищеварительной, полости? Этот процесс Мечников уже изучал на многих животных и теперь мог убедиться, что нечто подобное происходит и у кишечнополостных. Разница состояла лишь в том, что у кишечнополостных «отшнуровывание» идет не до конца — поэтому-то у них и не образуется вторичной полости. Но раз так, то можно перебросить мост между кишечнополостными и более организованными полостными животными!
Успешная работа, улучшение здоровья жены — она тоже увлеклась его исследованиями и помогала готовить рисунки, — избрание в Одессе, премия имени Бэра, вновь присужденная ему и Ковалевскому, — все это подняло настроение неисправимого пессимиста.
Летом 1870 года он вернулся с Людмилой в Россию и поселился в Панасовке. Лето выдалось на редкость жаркое и сухое, и Людмила тяжело страдала от зноя. Ее лихорадило, по ночам возобновилось кровохарканье. Чтобы хоть немного облегчить участь больной, в ее комнате развешивали влажные простыни.
Людмиле рекомендовали кумыс, и для его приготовления был нанят татарин. Но кумыс помогал плохо. Стало ясно, что зимовать в России Людмила не сможет.
Илье Ильичу пришлось отвезти ее с сестрой в Монтре — живописный курорт на берегу Женевского озера, а самому ехать в Одессу, так как начинался учебный год.
ГЛАВА ШЕСТАЯ Новороссийский университет
1
Новороссийский университет, по утверждению Мечникова, «отличался особенным изобилием неприятных дрязг». Профессора никаких дел вне университета, как правило, не имели, ибо других высших учебных заведений, где бы они могли занимать места, в городе не было. Свободное время они проводили в «лектории». Здесь, как вспоминал Мечников, «перетирались косточки товарищей, созидались, укреплялись и разрушались „партии“».
Страсти особенно накалялись, когда предстояли выборы новых профессоров или должностных лиц — деканов, секретарей, ректора… Каждая «партия» стремилась провести своего кандидата, нимало не считаясь с их истинными достоинствами.
Лучше всего было бы держаться в стороне от всей этой «деятельности», и Мечников впоследствии уверял, что сам он ни в каких «партиях» и группах не участвовал. Достаточно, однако, заглянуть в его письма или перелистать протоколы заседаний совета, чтобы убедиться в обратном. Необузданный темперамент бросал Илью Ильича в самое горнило борьбы, от которой его не могли удержать ни предостережения видавшего виды Ценковского, ни собственный опыт столкновений здесь, в Одессе, с Маркузеном и в Петербурге с Кесслером.
Да и как было устраниться, когда все эти враждебные «партии» и «группы» по большей части делали одно и то же — тянули университет в болото, как выразился однажды Сеченов?
Как было устраниться, когда право голоса в совете, дарованное ему, как и каждому профессору, университетским уставом, налагало обязательства и перед своей совестью, и перед друзьями?
Иван Михайлович Сеченов — с тех пор, как конференция столь беззастенчиво забаллотировала Илью Ильича, — твердо решил уйти из Медико-хирургической академии и просил выдвинуть его кандидатуру в Одессе. Мечников загорелся этой идеей. Он понимал, сколь крупного ученого приобретает университет, да и просто по-дружески хотел помочь Ивану Михайловичу.
Правда, сам Сеченов считал, что у него мало шансов. После выхода в свет «Рефлексов головного мозга» он слыл крайним материалистом, его влияние на молодежь считали опасным. Он так и писал своему другу: «Я не придаю этой мысли ничего иного, как значение проекта, мечты». Но — кто знает? — если действовать настойчиво и осмотрительно…
И Мечников потихоньку созидает свою «партию».
В результате Сеченов получает четырнадцать белых шаров против трех черных!..
Правда, торжествовать еще рано. Согласно уставу мало-мальски важное решение университетского совета может вступить в силу лишь после утверждения министром народного просвещения. А министр (вернее, товарищ министра граф Делянов — министр граф Дмитрий Толстой в длительном отпуске) находит формальную зацепку: Сеченов избран по кафедре зоологии, а диплома доктора зоологии у него нет — он доктор медицины.
Но Мечников не думает сдаваться; он предлагает присвоить Сеченову степень доктора зоологии без защиты диссертации: ученые заслуги Ивана Михайловича общеизвестны. И совет университета принимает предложение Ильи Ильича единогласно — совет не любит, когда высшее начальство отклоняет его решения.
Делянов опять волынит: в Новороссийском университете, видите ли, нет свободного места ординарного профессора.
«Его сиятельство изволили найти, — иронично сообщал Сеченов Мечникову, — что мое назначение потребует особенных издержек, за разрешением которых нужно еще обратиться в государственный совет. Там это дело затянется, канет в вечность и les apparences seront sauvees[14] таким же самым манером, как ваше неизбрание в Медико-хирургическую академию».
Но Сеченов не собирается сидеть сложа руки. Он спешит уведомить ректора, что готов освободить государственный бюджет от бремени непосильных расходов: перейти в Одессу экстраординарным профессором и даже доцентом.
«И эта попытка, — пояснял он Мечникову, — будет иметь, конечно, отрицательный результат, но, когда выдумают новый предлог, можно будет найти и против него средство».
Сеченов соглашался пустить в ход любые средства, кроме одного — искательства. «Мне несравненно приятнее получить место в Одессе с боя, чем по протекции», — писал он Мечникову, прося и его не прибегать к обходным маневрам. Даже к своему другу профессору Е. В. Пеликану, занимавшему крупный административный пост, Сеченов за помощью не обращался.
Случилось, однако, так, что Пеликан остановился в Одессе — он ехал в Константинополь на международный съезд, посвященный борьбе с холерой.
Пеликан нанес визит попечителю учебного округа С. П. Голубцову, и у них зашел разговор о Сеченове; на вопрос, действительно ли он так опасен, Пеликан расхохотался… Голубцов был личным другом Делянова. Этим и решилось дело.
Итак, победа. Полная и окончательная!
Но тот, кто участвует в борьбе, должен быть готов не только к победам, но и к поражениям. К этому Мечников готов не был.
…Талантливый ученый Александр Вериго, доцент химии, защитил докторскую диссертацию и получил формальное право на звание профессора. В факультете его единогласно избрали экстраординарным, но некоторые профессора на заседание не явились, а в совете стали оспаривать правомочность избрания. Ценковский, считавший, что интрига затеяна оттого, что Вериго поляк, и бывший сам поляком, тот самый Ценковский, что так заботливо учил Илью Ильича осторожности, вспылил, тут же подал прошение об отставке и в знак протеста покинул заседание.
Вместе с ним ушел и Мечников. Он был в числе тех, кто выдвигал Вериго; остаться безучастным он не мог да и не хотел. Илья Ильич горячился, говорил, что тоже подаст в отставку. Покинуть университет грозился и профессор химии Н. Н. Соколов.
Скандал становился слишком громким; о нем заговорили газеты.
Подобного оборота дела противники не ожидали, и поскольку нападение — лучший вид обороны, то они стали обвинять Соколова, Ценковского и Мечникова, что, угрожая оголить ведущие кафедры естественного факультета, они шантажируют совет.
В разгар событий пришло разрешение министерства командировать Мечникова на год за границу. Ценковский уговаривал его задержаться, но Илья Ильич рвался к больной жене. Перед отъездом он оставил Ценковскому чистые бланки со своей подписью, дабы тот в зависимости от обстоятельств подал нужную бумагу от его имени.
В Монтре Илья Ильич увидел, что Людмиле отнюдь не стало лучше. Он решил везти ее на Мадейру — принадлежавший Португалии остров, климат которого считался целительным для чахоточных. Тут ему показалось, что, оставив Ценковскому бланки со своей подписью, он поступил опрометчиво. Вести из Одессы приходили с большим запозданием. Как там идут дела? Может быть, бумага от его имени уже подана!.. А если отставку примут? Куда он денется? Чем будет оплачивать лечение Людмилы на дорогих заграничных курортах?
Он бросился на телеграф и послал ректору депешу: не давать хода прошению, если таковое получено.
То была минутная слабость. Ценковский не думал распоряжаться его судьбой и, узнав о телеграмме, сильно обиделся.
Самого Ценковского из-за «оскорбительного тона» заставили взять прошение обратно, но потребовали извинений и окончательно провалили Вериго. Ценковский подал другое, «приличное» прошение.
Кроме него и Н. Н. Соколова, никто в отставку не вышел. Даже пострадавший, Вериго, о котором Ценковский писал, что он «ни под каким предлогом не останется в университете», остался. Тому, правда, способствовали особые и неожиданные обстоятельства.
Профессор славянских законодательств Богишич был крупным ученым, членом академии в Загребе. Он, однако, плохо знал русский язык, лекции читал по запискам, написанным русскими словами, но латинскими буквами. Студенты его косноязычных лекций не любили, часто пропускали их; Богишич злился, лютовал на экзаменах, а однажды стал выгонять с лекции студента только за то, что тот сидел развалившись.
На следующую лекцию студенты не явились, а когда разъяренный профессор выскочил из пустой аудитории, освистали его. Проректор пытался их утихомирить, но студенты потребовали, чтобы Богишич публично принес извинения. Занятия временно прекратились. Об «истории» узнали в Петербурге. Граф Дмитрий Толстой слал грозные циркуляры, требуя прекратить беспорядки, виновных исключить из университета и выслать из Одессы. Спешно собравшийся университетский суд, рассмотрев дело, исключил трех главных зачинщиков — в их числе Андрея Желябова, будущего народовольца, организатора покушений на Александра II. Этим, однако, приговор не исчерпывался. В состав суда, как писал Сеченов Илье Ильичу за границу, входили «все противники теперешнего начальства, то есть ректора и проректора, желающие занять их места». Не удивительно поэтому, что причину «беспорядков» суд усмотрел не в грубости Богишича, а в «нераспорядительности начальства». Сеченов с этим не согласился, благодаря чему оказался «заодно» со сторонниками ректора, имевшими в совете большинство. Недолго думая, он вновь выдвинул кандидатуру Вериго, и тот был избран…
2
Мадейра поразила супругов своей непохожестью на курорты Южной Европы. В главном городе острова Фуншеле, разбросанном среди зелени на большом пространстве, не было скученности, не слышалось резких выкриков уличных продавцов, заунывных мелодий шарманок, тревожного колокольного звона…
Но здоровье Людмилы Васильевны не поправлялось. «Внешняя сторона жизни, — пишет в связи с этим Ольга Николаевна, — была в полном контрасте с душевным состоянием. Чудная, ни с чем не сравнимая красота природы, благоухание цветов, симпатичная среда (они подружились с поселившимся в мезонине их дачи немцем Мартенсом. — С. Р.), удобство для жизни — такова была рама, в которой разыгрывалась трагедия одной гибнущей молодой жизни и другой — напрасно выбивающейся из сил, чтобы спасти ее!..»
Остров наводняли чахоточные, стремившиеся сюда со всех концов Европы.
Но спасения не было…
И вдобавок ко всему у скалистых берегов Мадейры почти не оказалось живности. Меж тем за командировку предстояло отчитаться, и не только перед университетом, но и перед Московским обществом испытателей природы, в котором Мечников взял субсидию… Конечно, все эти отчеты были пустой формальностью, но нам уже известна склонность Ильи Ильича непомерно преувеличивать стоящие перед ним затруднения.
Желая продлить пребывание жены на Мадейре, он съездил на главный из Канарских островов, Тенериф, чтобы описать свое путешествие и хоть сколько-нибудь заработать. С видимым удовольствием повествует Мечников о сахарной голове господствующего над островом потухшего вулкана; о нравах и обычаях местных жителей; об экзотических растениях и больше всего о гигантском драконовом дереве, росшем здесь почти шесть тысяч лет, впервые описанном Гумбольдтом и несколько лет назад поверженном бурей. Теперь оно лежало словно «неуклюжий остов какого-нибудь допотопного животного». Через много лет Илья Ильич вспомнит этого гиганта — свидетеля чуть ли не всей письменной истории человечества. Мечников попытается обосновать мысль, что смерть вовсе не является неизбежным следствием жизни, результатом ее саморазвития. По крайней мере, среди растений есть такие виды, будет доказывать Мечников, которые существовали бы вечно, если бы их не подтачивали вредители, не валили ураганы или удары молнии. Правда, на мир животных, а следовательно, человека, это правило не распространишь: человек за особенности своей организации расплачивается неизбежностью смерти. Но ведь и люди в подавляющем большинстве не дотягивают до естественного конца, к которому вело бы физиологическое развитие организма; они умирают насильственно, ибо к насильственной смерти ведет не только меткий выстрел или удар кинжала; губящие человека болезни — те же убийцы.
Но все эти рассуждения понадобятся ему лишь тогда, когда он на склоне лет станет подыскивать аргументы для обоснования своей оптимистической философии.
Пока же воззрения Ильи Ильича на человеческое бытие, усугубляемые медленным умиранием Людмилы, полностью беспросветны. С ними можно познакомиться по напечатанной в начале 1871 года его статье о воспитании — первой из того цикла работ, которые он впоследствии объединит в книгу под обязывающим названием «Сорок лет искания рационального мировоззрения».
Ольга Николаевна утверждает, что статья родилась из его собственного опыта «воспитания» девочек Бекетовых. Сам Мечников вспоминал, что как-то, наблюдая за новорожденными щенками, он поразился тому, насколько быстро они, подражая матери, выучиваются ориентироваться в обстановке, обходиться без посторонней помощи. Тогда-то и мелькнула мысль: как велика разница в продолжительности воспитательного периода у животных и человека!
Он стал изучать всевозможные материалы, чтобы как-то уяснить себе замеченный парадокс.
«Все прекрасно, выходя из рук творца вещей, — читал Мечников у Жан-Жака Руссо, — все вырождается в руках человека. Он принуждает почву одной страны питать произведения другой, одно дерево производить плоды другого. Он смешивает и спутывает климаты, элементы, времена года; он уродует свою собаку, лошадь, раба; он все сокрушает и извращает; он любит безобразие, уродов; он ничего не хочет оставить в таком виде, как сделала природа, ни даже человека; ему нужно выдрессировать его, как лошадь, переделать его по-своему, как плодовое дерево».
Ребенок, по мнению Руссо, рождается совершенным, потому что природа (или творец) не делает ошибок; если из ребенка вырастает дурной или несчастный человек, то это происходит от неправильного, то есть «искусственного», воспитания. Надо оставить ребенка в покое, не мешать ему, и тогда в нем разовьются только хорошие наклонности; дурные же не разовьются просто потому, что их не может быть в природе человека…
Современный Мечникову английский философ Герберт Спенсер, развивая теорию «естественного воспитания», приводил примеры «естественного наказания», при помощи которого ребенок должен научиться ориентироваться в окружающем мире. Если ребенок дотронется до раскаленной решетки камина или всунет палец в пламя свечи, рассуждал Спенсер, то ожог и связанное с ним чувство боли заставят его в будущем избегать подобных экспериментов.
Но разве ребенок умеет правильно обобщать свой опыт? — спрашивал Мечников. Разве он умеет улавливать истинную причинно-следственную связь явлений? Однажды обжегшись, он будет бояться подходить и к холодному камину; как же он научится использовать камин для своих нужд?..
А каким «естественным» путем заболевший ребенок узнает, что от горького лекарства зависит его выздоровление?.. А как он отличит приятные на вкус, но ядовитые ягоды от съедобных? Ведь в организме нет никаких естественных регуляторов, которые бы позволили отличать полезное от вредного. Человек вопреки Руссо и Спенсеру вовсе не совершенен по своей природе. Мечников с удовольствием находит свидетельство этому у самого Руссо, но не в трактате о воспитании, а в его «Исповеди». «По-видимому, несмотря на самое добропорядочное воспитание, я имел наклонность к испорченности», — признавался Руссо.
«Наклонность к испорченности», утверждает Мечников, заложена в самой природе человека, ибо она полна противоречий; причем дисгармонии особенно сильны в детском возрасте.
«Откуда происходит слабость человеческого характера? От несоответствия между его силами и его желаниями. Это наши страсти делают нас слабыми, так как для удовлетворения их потребовалось бы больше сил, чем нам дала природа».
Цитируя эти слова Руссо, Мечников продолжает:
«Нужно прибавить, что природа дала нам не только менее сил, чем сколько необходимо для удовлетворения наших желаний, но что она же и дала нам эти чрезмерные желания».
Однако, отвергая теорию «естественного воспитания» как не отвечающую природе человека, Мечников ничего не предлагает взамен. Он убежден, что дисгармонии человеческой природы непреодолимы и человек обречен на страдания…
И все же беспокойный дух его не мог помириться на пессимистическом отношении к жизни. Ибо подлинный, законченный пессимизм бездеятелен и мертв, а Мечников жаждал действия, жаждал движения и должен был, следовательно, искать путей к свету.
В архиве сохранилась тетрадь,[15] датированная 1869–1871 годами, в которую Мечников заносил выдержки из прочитанных книг и, что для нас особенно интересно, свои соображения по их поводу.
Пытливо, а порой и мучительно ищет он ответы на самые важные вопросы человеческого существования.
Как жить? Как складываются взаимоотношения между людьми в современном ему мире? Что такое нравственность и какова ее природа? Способны ли люди ради общего блага поступиться собственными эгоистическими интересами?
«Очень нетрудно, — комментирует он Дарвина, — жить вместе с людьми для удовлетворения простой потребности к обществу. Справедливо, что человеку ненавистна жизнь в одиночестве. Он ищет общества, но для этого он не жертвует ничем или почти ничем из собственных чисто эгоистических потребностей. Если же явится конфликт между личными побуждениями [и интересами общества], то это еще вопрос, чем пожертвует человек: обществом или собою».[16]
Мечников соглашается с Дарвином, что по мере развития цивилизации социальные инстинкты людей становятся все более совершенными, чувство симпатии, которое у первобытного человека обращено только на членов своей семьи или племени, постепенно распространяется на целые народы, на всех людей и даже на животных. Но проблема кажется ему не такой простой, как Дарвину. Мечников обращает внимание на то, что «чем больше количество существ, на которых распространяется симпатия, тем шире, тем развитее нравственное чувство, тем труднее решить, какое действие нравственно, то есть наиболее содействует благу всего человечества или даже всех живых существ».[17]
«Легко решить, — записывает Мечников, — что полезно мне и моему семейству; нетрудно знать, что моему племени нужно для блага и что ему вредно. Я стараюсь убивать врагов моего племени, отнимать их имущество, всячески вредить им и проч. Все это „нравственно“ с точки зрения племенной нравственности».
Но вопрос становится значительно сложнее, когда речь идет о нравственном и безнравственном с точки зрения больших современных обществ, а тем более с точки зрения всего человечества. Полезна или вредна для современного общества смертная казнь опасных преступников? Нравственно или безнравственно убивать вредных животных? На все эти вопросы Мечников не находит ответа и лишь констатирует: «То, что одни считают должным и нравственным, другие преследуют как преступление».[18]
«С разрешением нравственных вопросов в утилитарианском смысле то же, что с всяким эмпирическим вопросом. Чем добросовестнее человек, чем он больше знает, тем он меньше вещей считает решенными, тем больше он сомневается. Неуч будет судить на основании 2–3 известных ему фактов, которые он обобщит до степени закона; он будет (и вместе с ним толпа) хвалить одно, порицать другое, тогда как настоящий ученый <…> станет сомневаться и скажет, что у него нет достаточных данных для решения вопроса».[19]
Как «настоящий ученый», Мечников не устает поверять алгеброй гармонию (лучше сказать, дисгармонию) собственной жизни. На Мадейре раздирающие душу сомнения нахлынули на него с новой силой.
Кто он, собственно говоря, такой?
Он числится профессором, его считают крупным ученым… Но, привязанный к больной жене, он давно уже не преподает и не ведет исследований… Долго ли еще он будет пускать пыль в глаза? Не честнее ли оставить несбыточные мечты и взяться за какое-нибудь реальное дело? Ну, скажем, здесь, на Мадейре, открыть книжный магазин… Но чтобы открыть магазин, нужен капитал, а где его взять?..
Между тем годичный срок командировки подходил к концу. Просить о продлении он не решался, а возвращаться в Россию Людмила не могла. Пришлось снова прибегнуть к помощи ее сестры Нади, а самому ехать в Одессу — читать лекции, заседать в совете, распутывать различные «истории».
3
Он поселился по-холостяцки в меблированных комнатах на Херсонской улице. Поблизости в таких же номерах жил Сеченов — тоже временно одинокий, ибо Мария Александровна заканчивала образование за границей.
Свою научную деятельность Сеченов начинал с исследования газов крови и теперь вернулся к той же теме. Из его лаборатории часами слышен был шум воздушного насоса; когда кто-либо из посторонних справлялся о нем, то обычно слышал в ответ:
— Идите в его лабораторию — он там качает.
По вечерам Иван Михайлович писал статьи для «Вестника Европы» или приходил к Мечникову.
Частенько он вытаскивал Илью Ильича поужинать в ресторане и за «полбутылкой красного вина» любил предаваться воспоминаниям о своей молодости, когда был армейским сапером и не помышлял о научной деятельности; когда устраивал с товарищами кутежи, на которых, как поведал потом Мечников, «пили до того, „чтобы не чувствовать, когда ворон станет клевать глаза“».
Еще Сеченов любил устраивать «балы», на которые приглашал товарищей по университету. На «балах», впрочем, никогда не танцевали, хотя и засиживались допоздна, дружески беседуя или слушая пение ассистента Сеченова П. А. Спиро, у которого был превосходный тенор.
Мечников и Сеченов были избраны присяжными заседателями, им довольно часто приходилось исполнять обязанности в окружном суде. Приговоры, которые они выносили, были по большей части оправдательные, так что у судей и прокуратуры даже сложилось мнение, что они придерживаются теории невменяемости преступников. «Один товарищ прокурора, — вспоминал Мечников, — в своей обвинительной речи долго распространялся о том, что среди присяжных есть такие, которые на основании учения о рефлексах головного мозга считают всякое преступление ненаказуемым».
На деле же следствие обычно велось так небрежно, что Мечников и Сеченов просто не могли обременять свою совесть осуждением обвиняемых без достаточных оснований.
Ведя холостяцкий образ жизни, друзья тосковали по семейному уюту и вскоре после того, как в Одессе был избран доцентом молодой физик Н. А. Умов, собираться стали у него.
Кроме Сеченова и Мечникова, в маленький кружок постоянно входили профессор теории и истории изящных искусств Н. П. Кондаков, профессор римского права Н. Л. Дювернуа…
«Хозяин, — вспоминал Сеченов, — кроме утонченной любезности, оказался завзятым хлебосолом; хозяйка представляла элемент сердечности; я имел значение еще не совсем состарившегося дядюшки, а душой кружка был И. И. Мечников. Из всех молодых людей, которых я знал, более увлекательного, чем молодой Илья Ильич, по подвижности ума, неистощимому остроумию и разностороннему образованию я не встречал в жизни. Насколько он был серьезен и продуктивен в науке — уже тогда он произвел в зоологии очень много и имел в ней большое имя, — настолько жив, занимателен и разнообразен в дружеском обществе. Одной из утех кружка была его способность ловко подмечать комическую сторону в текущих событиях и смешные черты в характере лиц, с удивительным уменьем подражать их голосу, движениям и манере говорить. Кто из нас, одесситов того времени, может забыть, например, нарисованный им образ хромого астронома, как он в халате и ночном колпаке глядит через открытое окно своей спальни на звездное небо, делая таким образом астрономические наблюдения; или ботаника с павлиньим голосом, выкрикивающего с одушевлением и гордостью длинный ряд иностранных названий растительных пигментов; или, наконец, пищание одного маленького, забитого субинспектора, который при всяком новом знакомстве рекомендовал себя племянником генерал-фельдцейхмейстера австрийской службы».
Эту интересную для нас страничку своих воспоминаний Сеченов заканчивает оговоркой: «Все это Мечников делал без малейшей злобы, не будучи нисколько насмешником».
Но в борьбе с теми, кто, по выражению Сеченова, тянул университет «в сторону уездного училища», Мечников умел использовать и насмешку — это, по выражению того же Сеченова, «страшное средство обуздания гадин».
Илья Ильич не упускал случая «обмазать грязью, в которой они толкутся», декана факультета Карастелева и профессора математики Сабинина — главарей «подлой партии», пускавших в ход «все нечестные и законные способы», и перетянул на свою сторону большинство преподавателей факультета.
Когда Александр Ковалевский в Киевском университете оказался в полной изолинии, Мечникову удалось добиться его перевода в Одессу.
(К своим обязанностям Александр Онуфриевич относился с большой серьезностью и щепетильностью. Лаборатория его располагалась над лабораторией Сеченова, и однажды Иван Михайлович поднялся к нему, чтобы справиться по какому-то вопросу. Ковалевский вел в это время занятия; студенты сидели над микроскопами, а профессор расхаживал между ними. Иван Михайлович запросто, по-приятельски обратился к нему, но Александр Онуфриевич сердито ответил, что, к сожалению, занят. Будучи семейным человеком и «немного бирюком», по определению Сеченова, Ковалевский далеко не сразу стал своим человеком в милом умовском кружке.)
Мечников вошел в библиотечный совет и взял на себя руководство формированием книжных фондов. Он стал секретарем, а потом и председателем общества естествоиспытателей и в значительной мере определял направления научных исследований. Решение текущих дел университета очень часто зависело от его мнения. Так, еще до приезда Сеченова Илья Ильич добился организации первоклассной физиологической лаборатории. Для оборудования зоологической лаборатории он сумел получить средства. Ходатайствовал о субсидиях способным студентам; помогал профессорам (в частности, Ценковскому) получать заграничные командировки…
Считая, что образование должно быть доступно возможно более широким слоям молодежи, Мечников провел через совет решение отменить на естественных факультетах вступительный экзамен по латыни. Такая простая мера открыла бы двери университетов выпускникам реальных училищ, не изучавшим древних языков, но в остальном подготовленным ничуть не хуже, а по естественным наукам даже лучше гимназистов. Однако министр народного просвещения постановление не утвердил, найдя его противным «уставу гимназий и прогимназий, Высочайше утвержденному 19 ноября 1864 года, при начертании коего имелась в виду та справедливая мысль, что только классические гимназии, где учение сосредоточивается на древних языках и математике, в состоянии доставить то разностороннее умственное развитие, которое необходимо для слушания университетских лекций». Это и не удивительно: предложение Мечникова шло вразрез с намерениями правительства. Именно в это время Дмитрий Толстой разрабатывал новую школьную реформу, целью которой было ограничить доступ в гимназии детям из низших сословий и еще больше отдалить друг от друга учебные программы гимназий и реальных училищ.
Другое важное решение совета, принятое по инициативе Мечникова, но отклоненное министром, касалось предоставления преподавателям заграничных командировок. Илья Ильич предлагал ввести строгую очередность и так организовать дело, чтобы длительные отлучки преподавателей не нарушали учебного процесса.
Вся эта многообразная деятельность была направлена к одной цели — превратить университет из центра только учебного в крупное научное учреждение.
Однако, несмотря на свою большую активность и внешнюю веселость, Мечников был полон мрачных предчувствий. Он ежедневно посылал Людмиле нежные, заботливые письма. В том, что письма были именно такие, уверяет Ольга Николаевна. Она эти письма видела. Но почему-то не сохранила…
Кроме писем, он отправлял на Мадейру денежные переводы — все свое профессорское жалованье целиком. Сам существовал на 25 рублей квартирных и еще на 25, полагавшихся ему как секретарю общества естествоиспытателей. К счастью, хозяйка, у которой он снимал квартиру и столовался, брала недорого, и он был ей много должен…
В феврале 1873 года в перерыве между двумя лекциями ему подали телеграмму: Людмиле стало хуже. Машинально прочитал Илья Ильич вторую лекцию и пошел в ректорат брать отпуск…
4
…В первое мгновение он ее не узнал — так она изменилась.
С постели она уже не вставала; врачи, чтобы облегчить ее страдания, постоянно кололи ей морфий.
Денег не было…
Он рассчитывал на очередную Бэровскую премию, так как серьезных конкурентов не предвиделось. И действительно: два члена комитета — Железнов и Овсянников — проголосовали за присуждение премии Мечникову, а остальные четверо — Брандт, Шренк, Максимович и Штраух (Бэр был болен и в работе комитета не участвовал) — высказались за разделение премии между ним и дерптским ботаником Руссовым. Однако согласно уставу разделить сумму между участниками конкурса можно было лишь при единогласии членов комитета. Вопрос заново пустили «на шары», и тогда четверка, выступавшая за разделение, отдала свои голоса Руссову…
Этот удар Илья Ильич получил в самое неподходящее время, и трудно сказать, чем бы все кончилось, если бы Сеченов не рассказал о затруднениях Мечникова его старому товарищу А. Ф. Стуарту. Тот предложил ему взаймы пятьсот рублей. Скрепя сердце Илья Ильич согласился взять триста и вскорости получил перевод.
Очевидная несправедливость решения Бэровского комитета вызвала шум в прессе. Но Мечникову было не до того. Он не отходил от постели умирающей жены.
20 апреля, проводив в последний раз сокрушенно качавшего головой доктора, он вернулся в ее комнату.
Но она уже не видела его.
Ее тонкие, почти прозрачные пальцы судорожно теребили одеяло; ставшая совсем плоской грудь тяжело вздымалась; в широко открытых, огромных на исхудавшем лице глазах он прочел столько отчаяния и ужаса, что в смятении выбежал из комнаты…
Он понимал, что это конец, но еще раз войти к ней не решился…
И когда заколоченный гроб с глухим стуком опускали в могилу, его на кладбище не было…
Хоронить Людмилу он был не в силах.
Вместе с сестрой Людмилы Надеждой Васильевной Илья Ильич возвращался через Португалию и Испанию и остановился у брата в Женеве. Дорожные приключения несколько развеяли молодого вдовца; рассказывая о них, он заметно оживлялся. Но от близких не ускользнула его глубокая подавленность. Воспаление глаз, постоянно мучившее Илью Ильича, настолько обострилось, что он целыми днями сидел в темной комнате наедине со своими думами.
Не прошло и четырех с половиной лет, как он, во фраке, за которым пришлось в последнюю минуту бежать в университет, и она, в лиловом платье и черной бархатной кофте, стояли перед алтарем… Неполных четыре с половиной года, большая часть которых прошла в разлуке…
Он думал, что любовь необходима ему в трудные минуты невзгод, что в обычной спокойной жизни она не нужна, как зонт в ясную погоду. Но оказалось, что обычная спокойная жизнь лишена без любви всякого значения…
Она ушла. Она освободила его…
Но к чему ему эта свобода?..
Чтобы одного за другим терять близких?
Неужели он обречен пережить смерть матери? Отца, сестры, братьев?.. Он самый младший в семье, и вполне возможно, что умрет последним… (Илья Ильич не знал, что действительно переживет всех родных и не без некоторой гордости за свою простоквашу будет говорить об этом.)
Наука?.. Можно сколько угодно твердить: наука, прогресс, человечество… Но не слишком ли академична та наука, которой он себя посвятил? Кого она спасла, сделала счастливым, кому вернула дорогих и близких?..
Да и много ли он наоткрывает, сидя в темной комнате и испытывая нестерпимую резь в воспаленных глазах?..
Неумолимое время твердыми челюстями перемалывает год за годом. Ему уже двадцать восемь. А что хорошего он видел в жизни? И что хорошего можно от нее ожидать? Так стоит ли цепляться за те три-четыре десятка лет, на которые он еще вправе рассчитывать; за те три-четыре десятка лет, которые уже поданы под разными соусами на пиршеский стол монотонно жующего времени… Не лучше ли разом запихнуть их в ненасытную пасть?..
В кармане Мечников обнаружил коробочку с морфием, машинально захваченную при отъезде с Мадейры.
Он решил, что это судьба…
Без колебаний отправил он содержимое коробочки в рот. Лег на диван. Стал ждать, когда это начнется…
Страха не было. Только легкое любопытство… Как же оно происходит?..
Он закрыл глаза.
Тело стало как будто легче; его охватила сладкая истома… Странно, но это даже приятно!.. Сейчас. Немного терпения — и все. Все…
Вдруг к горлу подкатил тошнотворный комок. Он попытался проглотить его, но не смог. И тут его стало рвать… Прибежали Надежда Васильевна, Лев Ильич, жена Льва Ильича Ольга Ростиславовна.
Послали за доктором.
…Доктор сказал, что опасности нет: доза морфия оказалась слишком большой и вызвала рвоту прежде, чем яд успел всосаться в кровь…
Но смерть и теперь, после того, как он так решительно шагнул ей навстречу и только по какой-то немыслимой случайности, словно поскользнувшись в последнюю секунду, не сумел переступить черту, — она и теперь нисколько его не страшила. Жутко было от другой мысли: что придется влачить это пустое, бесцельное существование еще долгие-долгие годы…
Илья Ильич принял горячую ванну, затем облился ледяной водой и в легком костюме вышел на продуваемый холодным ветром берег Роны Воспаление легких должно было сделать то, что не удалось ему при помощи морфия…
Он шел вдоль одетой в гранит набережной и рассеянно водил по сторонам воспаленными глазами… Над водой кружилось множество бабочек… Это были фингоны, но издали ему показалось, что это поденки. Много-много позднее, работая над «Этюдами о природе человека», создавая оптимистическую философию, Мечников приведет в пример поденок как существ, умирающих естественной смертью. Они устроены таким образом, что, «сделав дело», то есть отложив яйца, умирают без какой-либо посторонней причины, в силу самой своей природы, ибо органы питания у них неразвиты, и смерть от истощения к ним приходит независимо от того, имеется ли вокруг достаточно пищи или нет… Сейчас же в его голове мелькнула мысль: как объяснить возникновение этих насекомых с точки зрения дарвиновской концепции отбора? Между ними ведь нет борьбы за существование…
То была не просто мысль — то было спасение…
Увлекшись внезапно возникшей проблемой, он не заметил, как ускорил шаг, как забыл о бренности и бессмысленности своего существования…
Да, у него было нечто, что стоило больше жизни и что вопреки всем теориям наполняло жизнь смыслом…
5
Надо ли описывать отчаяние Эмилии Львовны, когда он, пугающе равнодушный ко всему на свете, явился в Панасовку…
Потом Илья Ильич поехал к Федоровичам. Сказал, что хочет перебраться в Москву, чтобы работать для их семьи. Федоровичи, разумеется, отказались.
Он изнывал от тоски, опустошенности, безделья. Посвятить себя заботам о близких покойной жены — в этом он пытался обрести хоть какую-то точку опоры.
Но пока Илья Ильич сам нуждался в заботах. Он, которого привыкли видеть всегда либо над микроскопом, либо за книгой, он, умудрявшийся читать в обществе, за чаем или обедом и при этом участвовать в разговоре, все еще не в состоянии был взяться за какое-нибудь серьезное дело. Зайдя как-то утром в его затемненную комнату, Надежда Васильевна увидела, что пол вокруг него усыпан мелко нарезанной бумагой; в руках он держал ножницы… «Вот какое занятие нашел он себе!» — восклицает она.
Когда становилось совсем невмоготу, Мечников вспоминал то сладостное ощущение, которое испытал в Женеве, когда, приняв яд, лежал с закрытыми глазами на диване в ожидании скорого конца.
Морфий на какое-то время стал его единственным утешителем. Трудно сказать, к чему бы это привело, если бы однажды он опять не принял слишком большую дозу, так что жизнь его вновь оказалась в опасности. Оправившись, Мечников выбросил все запасы пагубного зелья и твердо решил никогда больше не прикасаться к нему.
«Он уехал в Калмыцкие степи, — заключает Надежда Васильевна, — с целью антропологических изысканий. Его печальный облик часто рисовался мне среди этих степей».
6
Конечно, то было стремление хоть чем-то себя занять. Хоть как-то отвлечься. Хоть к чему-нибудь приспособить свои больные, но жадные до наблюдений глаза…
Интерес Ильи Ильича к развитию беспозвоночных нисколько не ослабел. Он доказал это во время своего второго путешествия в Калмыцкие степи, когда в районе Маныча увидел небольшие древесные посадки и под корой подгнивших стволов обнаружил яйца многоножек… Он собрал их, сложил в банку, тщательно завязал и помчался в Астрахань — раздобыть микроскоп. За четыре дня пути яйца погибли, но Илья Ильич нашел еще одну рощицу, в ней снова собрал яйца, довез их до Астрахани и «левым, менее больным глазом» проследил «главные черты истории развития» многоножек. А вернувшись в Одессу, отложил на целый год антропологические материалы, статью же о многоножках написал немедленно. Она датирована сентябрем 1874 года.
…И все же неспроста именно в антропологию решил он бежать от одиночества и вынужденной праздности.
Человек всегда возбуждал в нем особый интерес. Еще в 1869 году он испещрял записные тетради антропологическими заметками.
Позднее Мечников станет патологом и микробиологом, то есть целиком посвятит себя изучению болезней человека; много внимания уделит человеку как биологическому виду, да и свой собственный организм сделает объектом неустанного исследования… За свою долгую жизнь в науке Мечников как бы повторит весь путь биологической эволюции: начав с одноклеточных в лаборатории Щелкова, принявшись затем за беспозвоночных, он в конце концов перейдет к высшим животным и человеку. Так за что же ему следовало ухватиться в переломный момент своей жизни, когда заново переосмысливал, переоценивал все?..
Оба путешествия в Калмыцкие степи — и в 1873 и в 1874 годах — оказались трудными, что в данном случае шло ему на пользу, ибо отвлекало от мрачных мыслей. Всякий раз, когда надо было менять лошадей, выяснялось, что их нет — угнали-де в степь. Сопровождавший Мечникова казак начинал браниться, размахивать нагайкой, и лошади появлялись. Мечников тяжело страдал от грязи, от пищи, пропитанной запахом бараньего сала, от лая собак по ночам…
Он считал калмыков типичными представителями монгольской расы, что не согласуется с современными представлениями, по которым калмыки — переходное звено от монголоидов к европейцам. Следствием этой ошибки стал неправильный вывод о том, что цвет кожи — этот важнейший признак расовой принадлежности — нестоек, сильно варьирует (он варьирует у калмыков именно потому, что они занимают промежуточное положение). Мечников сосредоточил внимание на строении века, на относительных размерах частей тела — головы, туловища и ног, то есть как раз на таких признаках, которые нельзя считать характерными. Собранный им материал, хотя и обширный по тем временам, был недостаточен, чтобы прийти к правильному заключению.
Мечников решил, что калмыки (и, следовательно, монгольская раса) ближе по своей биологической организации к детям европейской расы, нежели к взрослым европейцам…
Он получил такой результат, потому что хотел получить именно такой результат.
Он ехал в Калмыцкие степи с предвзятой идеей. Изучая низших животных, Мечников не раз убеждался, что у тех из них, которые занимают более высокую ступеньку на эволюционной лестнице, как бы повторяются основные этапы развития менее организованных, а потом к ним добавляется еще одна или несколько стадий. И вот действие этого правила он решил распространить на учение о человеческих расах. У него и получилось, что «низшая», монгольская раса — это не что иное, как «остановка в развитии» «высшей», европейской расы. Правильно решая вопросы происхождения человека, отстаивая взгляды Дарвина, Мечников, однако, не избежал ошибочных представлений о биологическом «превосходстве» одних рас над другими, и вряд ли уместно его «исправлять».[20]
Впрочем, Мечников ни в коей мере не разделял расовых предрассудков своего времени.
Он считал, что проблема расовой дискриминации — проблема не биологическая, а социальная. Каждый человек имеет право на полное развитие своих природных способностей — больших или маленьких, — в этом убеждении он оставался тверд.
Антропологические исследования совпали с работой Мечникова над статьей «Возраст вступления в брак», в которой он продолжает размышлять над дисгармониями человеческой природы. Рассмотрев различные материалы, Мечников пришел к выводу, что половая зрелость человека наступает значительно позже, нежели половая чувствительность, общее физическое созревание — позже полового, а вступает в брак большинство людей еще позже. Этими несовпадениями во времени Мечников объясняет тот психический и нравственный разлад, который так свойствен молодежи.
Илья Ильич сопоставляет возраст вступления в брак в разных странах, разных классах общества, среди людей разных вероисповеданий… Он приходит к заключению, что чем выше уровень цивилизации, тем в более позднем возрасте люди женятся и выходят замуж, то есть беды, вызываемые дисгармонией человеческой природы, имеют тенденцию усиливаться.
Эти данные лишь помогают Мечникову укрепиться в своем пессимизме. Воистину несчастен человек, и в будущем его ждут лишь новые бедствия!..
7
Между тем в доме, где Илья Ильич снимал квартиру, прямо над ним жило большое семейство Белокопытовых — одних детей в семействе было восемь человек. Мечников нестерпимо страдал от постоянного шума, стука, возни, особенно по утрам, когда еще затемно на кухне начинали рубить мясо для котлет, чем нарушали его и без того слишком чуткий сон.
И как-то утром он не выдержал. Вышел на лестничную клетку, стремительно одолел два пролета и постучал…
Господин Белокопытов принял его любезно, обещал шум устранить.
Дети сидели за чайным столом; старшие девочки, увидев чужого, собрали книжки и выскользнули за дверь. А через несколько дней Илья Ильич встретился с ними у общих знакомых и привел в смущение, рассказав не без ехидства, что давно их знает, ибо по утрам с удовольствием наблюдает в окно, как они, торопясь в гимназию, храбро перепрыгивают через большую лужу во дворе.
В гимназии, где учились девочки, преподавал ученик Ильи Ильича; расспросив его и узнав, что одна из них, Ольга, интересуется естественными науками, Мечников предложил давать ей уроки зоологии. Она была в восторге, родители не возражали, и скоро стучаться в дверь этажом выше своей квартиры стало для Ильи Ильича самым обычным делом. Тут специалист по истории развития вспомнил свой старый план и решил, что его ученица — это как раз та самая девочка, из которой ему следует развить свою будущую жену.
Но и здесь не обошлось без осложнений…
Илья Ильич знал, что ученица ждет уроки с нетерпением, знал, что ее мать к нему крайне расположена, но вот отец….
Нет, господин Белокопытов ничего не имел против того, чтобы дочь брала уроки зоологии у известного профессора. Но общие взгляды учителя ему не нравились — и чем больше он его узнавал, тем настороженнее становился.
«Мой отец был отличный, в высшей степени благородный человек, — поясняет Ольга Николаевна, — но принадлежал к типу „старого барина“, к эпохе других воззрений и нравов; столкновения были неизбежны». И чуть раньше: «Это была рознь двух поколений — „отцов и детей“».
Больше о господине Белокопытове мы ничего не знаем, разве только то, что он был отставным ротмистром. Но и сказанного достаточно, чтобы представить себе лощеного провинциального аристократа, которому слишком длинноволосый и плохо причесанный профессор зоологии — хоть и дворянин и почтенного рода, ничего не скажешь, — казался грубым душою и малобрезгливым: ведь он с упоением ковырялся во внутренностях всяких тварей, один вид которых у благородного человека вызывает омерзение; к тому же тридцатилетний профессор проповедовал крайний материализм… Предвидя неизбежные столкновения и стремясь упредить их, Мечников видоизменил свой план. Он решил, что беды не случится, если он сначала женится на своей ученице, а потом уже станет ее развивать. Выбрав время, когда Ольги не было дома, Илья Ильич поднялся к Белокопытовым… Предложение он сделал по всей форме доброго старого времени.
О чувствах своего учителя Ольга не подозревала, и случившееся ее потрясло.
«Я совершенно не могла понять, как он, такой умный и ученый, может жениться на ничтожной девчонке, — вспоминала она впоследствии. — Меня пугала мысль, что он ошибается во мне, и мне казалось, точно я иду на экзамен, к которому вовсе не подготовлена. Я увлекалась Ильей Ильичом и очень любила его; он производил сильное впечатление всей своей личностью…»
Страницы, посвященные началу их совместной жизни, безусловно, лучшие в книге Ольги Николаевны; Читатель не посетует на некоторые выдержки:
«На мое юное воображение влияло также его грустное прошлое, его интересная внешность, несколько напоминавшая в то время Христа: бледное и худое лицо его было освещено добрым, лучистым взглядом, вдохновенным, когда он увлекался».
Юная невеста боялась, что ее высокоученому жениху скучно с нею, и «старалась придумывать „умные“ разговоры».
«Но все, что я выискивала, казалось мне таким неловким и ничтожным, что я отбрасывала один проект за другим, пока не приходил Илья Ильич и не заставал меня врасплох. Он не понимал всей глубины моего смущения, и поведение ревностной ученицы не удовлетворяло его».
Свадьба состоялась 14 февраля 1875 года. Утром братья невесты запряглись в салазки, чтобы в последний раз ее покатать, и они «с увлечением помчались по снежному ковру на большом дворе нашего дома».
«Венчальное одеяние было моим первым длинным платьем, и я боялась наступить на подол; с ужасом думала я о том, как войду в церковь под общими взглядами присутствующих <…>. Мое смущение еще усилилось, когда послышались шепоты: „Боже, да она совсем дитя!“»
Она была совсем дитя!.. Настолько, что полагала, будто брак — это и есть «умные» разговоры. (Через много лет Мечников, смеясь, рассказывал об этом у Толстого.) В первое утро после свадьбы она поднялась пораньше, чтобы лучше приготовить урок по зоологии и тем самым доставить приятное супругу.
Жена-школьница, жена-ученица… Нелегкое бремя взвалил он на свои плечи!
«Научные методы, во всем прилагаемые им, могли оказаться опасными в эту деликатную психологическую минуту. Однако во многих отношениях он проявил редкую воспитательную проницательность. Так, общим его принципом было предоставлять мне полную свободу, в то же время направляя и влияя логикой своей аргументации». (Выходит, на практике он не прочь был воспользоваться так убийственно им же изничтоженной теорией «естественного воспитания».)
«Как вся молодежь того времени, я увлекалась политикой и социальными вопросами, не будучи достаточно зрелой для них. Дома отец, боясь последствий этого увлечения и не сочувствуя ему, запрещал нам посещать политические кружки. Илья Ильич, напротив, сразу дал мне полную свободу, хотя сам относился критически к увлечению молодежи. Он считал, что социальные вопросы и политика относятся к чисто практической области, для которой у юношей нет ни достаточной подготовки, ни необходимого опыта. Но он понимал, что все похожее на насилие имело бы лишь обратное влияние. Поэтому, нисколько не мешая мне знакомиться с политическим движением, он, однако, обсуждал его со мною и подвергал всестороннему анализу и критике».
То были годы, когда многие молодые люди меняли студенческие тужурки на крестьянские армяки и «шли в народ» — подымать крестьянство на борьбу.
Илья Ильич, должно быть, доказывал юной супруге, что те, кто хочет звать крестьян к бунту, просто плохо знают жизнь. Прежде чем просвещать других, нужно запастись знаниями самим. Знания и только знания ведут человечество к прогрессу.
«Этот образ действий, — заключает Ольга Николаевна, — оказался крайне рациональным; только благодаря ему не сделалась я одной из многочисленных политических жертв того времени».
«Горячее участие принимал Илья Ильич решительно во всех сторонах моей жизни. До замужества я не успела сдать гимназических экзаменов и теперь должна была держать их по всему курсу перед экзаменационным комитетом. Илья Ильич помогал мне готовиться даже по катехизису, внося во все веселость и оживление».
Ольга Николаевна с трогательной благодарностью рассказывает о том, какое неизгладимое влияние оказал Илья Ильич на формирование ее духовного облика.
К сожалению, она (может быть, из скромности) ни слова не сообщает о своем влиянии на Илью Ильича. Для нас, однако, особенно важна эта сторона их отношений.
Однажды, заметив, что Сеченов с некоторых пор очень мрачен, Илья Ильич спросил, что с ним.
— Вот в чем дело, мамаша, — ответил Иван Михайлович. — С некоторых пор я почувствовал особенное влечение к молодой женщине, которой даю уроки по математике и физике. Я решительно не знаю, как это произошло, и думаю, что это лишь временное увлечение, зависящее, очевидно, от прилива крови к продолговатому мозгу.
Приведя в воспоминаниях о Сеченове этот эпизод, Илья Ильич пользуется случаем рассказать и о других увлечениях своего друга. Он сообщает пикантные подробности не из-за их занимательности, а лишь затем, чтобы заключить:
«Нельзя не видеть в этом явлении нового доказательства того закона, что характерная для мужчин инициатива в низших и высших проявлениях гениальности связана с отправлением, которое вследствие очень глубоко укоренившегося предрассудка относится к числу особенно презираемых».
Заметив, что «связь поэзии, литературы, ораторского искусства и музыки с любовью признана всеми», Мечников протестует против распространенного мнения, «будто научная инициатива составляет исключение из этого правила». Ну что ж, ему-то хорошо было ведомо, чем стимулируется «научная инициатива»!
Не фингоны, которых Илья Ильич издали принял за поденок, не два путешествия в Калмыцкие степи, а Ольга Николаевна вернула его к жизни.
«Он во всем приобщал меня к своей жизни, делился мыслями, вводил в свои занятия. Мы всегда много читали вместе; у него была отличная дикция, и он охотно читал вслух. Его радостью было баловать меня. Мы часто посещали концерты и театры. Драма и хорошая музыка трогали его до слез. В голове его постоянно носились музыкальные мотивы, которые он насвистывал, даже работая».
Похоже, Илья Ильич был счастлив… Впрочем, это не мешало ему стойко держаться пессимистических взглядов, так что, по словам Ольги Николаевны, «он считал преступным для сознательного человека производить на свет другие жизни». В этом вопросе специалист по истории развития остался верен себе до конца…
8
Обобщая исследования многих зоологов, в особенности труды А. О. Ковалевского, Эрнст Геккель в 1874 году сформулировал свой «Основной биогенетический закон». Закон гласил, что развитие животного от зародыша до взрослого состояния — это не что иное, как ускоренное повторение эволюционного развития данного вида организмов. Онтогенез (развитие особи) повторяет филогенез (развитие вида) — вот наиболее краткая формулировка этого закона.
Блестящий оратор и замечательный популяризатор науки, Геккель был страстным борцом за дарвинизм. Еще в начале 60-х годов он провозгласил насущную необходимость пересмотреть зоологию с позиций эволюционной теории и взялся за это нелегкое дело. В 1869 году Мечников опубликовал на русском языке изложение его «Общей органической морфологии» — двухтомного труда, в котором множество накопленных наукой фактов сводилось к «единству не отвлеченно-научному, а такому, которое по возможности совпадало бы с живой действительностью», как писал Илья Ильич, который был убежден «в основательности и своевременности развиваемых им (Геккелем. — С. Р.) воззрений». Мечникову была близка и общефилософская позиция Геккеля, рассматривавшего мир как единое целое, в котором все явления и процессы обусловлены причинно-следственной связью.
Но с годами Мечников стал относиться к Геккелю со все возрастающим скептицизмом и особенно обрушился на биогенетический закон. Свою критику Илья Ильич сосредоточил на выдвинутой немецким ученым гипотезе о прародителе многоклеточных животных.
Поскольку животные на начальном этапе зародышевого развития проходят стадию двойного мешка, образующегося в результате впячивания одной половины пузырька в другую (стадия гаструлы), рассуждал Геккель, и поскольку развитие организма согласно его закону — это повторение развития вида, то из этого следует, что когда-то на Земле обитало существо, развитие которого заканчивалось стадией гаструлы; оно-то и стало родоначальником всего животного царства (Геккель назвал это гипотетическое животное — гастрея).
В своих полемических статьях Мечников вскрывал слабость научного метода Геккеля, слишком доверявшего своей фантазии. В научных трудах он иногда приводил изображения несуществующих организмов и описывал их так, будто это зарисовки с натуры. Даже тогда, когда точно установленные факты противоречили его взглядам, Геккель не смущался: либо игнорировал их, либо истолковывал произвольно.
Мечников обрушивался на немецкого коллегу со всей страстностью и резкостью, тот в долгу не оставался, так что вскоре они стали «врагами в науке».
Но требовались не только рассуждения о недоказательности умозрительных построений Геккеля — нужно было что-то ему противопоставить. И как только глаза позволили вернуться к микроскопу, Мечников оставил антропологию и возобновил начатые уже давно исследования губок — животных, настолько примитивных, что ученые в то время сомневались, относить ли их к многоклеточным организмам или просто к колониям одноклеточных. Со свойственной ему прозорливостью Мечников решил, что именно губки должны дать наиболее убедительный материал для опровержения гипотезы немецкого ученого.
В прежние годы при изучении медуз, гидроидных полипов и других кишечнополостных животных Мечников обнаружил, что развитие зародыша не всегда сопровождается втягиванием одной его половины в другую. В этих случаях пищеварительная полость появлялась не на начальном этапе развития, а позднее, и зародыш питался так же, как простейшие: находящиеся внутри его клетки захватывали и переваривали микроскопические кусочки пищи. И вот у губок этот процесс удалось проследить особенно отчетливо.
Но если наиболее примитивные животные способны питаться, то есть поддерживать свое существование, не достигнув стадии двойного мешка, то стадия эта (гаструла) вовсе не является первичной. Выходит, что если в далеком прошлом такой организм и существовал, то он не мог быть родоначальником всех многоклеточных животных!
Мечников выдвигает свою гипотезу первичного животного — паренхимеллы, которое должно было представлять собой переходную форму между колонией одноклеточных и настоящим многоклеточным организмом.
Над Геккелем он мог торжествовать победу.
Любопытно, что А. О. Ковалевский, который должен был в первую очередь считать себя обойденным, в отличие от Мечникова к обобщающим работам Геккеля остался совершенно равнодушным.
9
Однажды Мечникова попросили прочесть публичную лекцию в пользу нуждающихся студентов. Взяв темой лекции «очерк воззрений на человеческую природу», он стал развивать свои идеи о дисгармониях, обрекающих человека на страдания.
Прежде всего он обратился к «первобытным народам», которые, по взглядам Руссо и его последователей, ведут «естественную жизнь», наиболее будто бы соответствующую нашей природе.
Мечников отмечает, что путешественники, изучавшие жизнь первобытных племен в джунглях Африки и Америки, в глубине Азии и на островах Океании, неизменно указывают на пристрастие этих народов к разного рода украшениям и татуировкам. Туземцы не только носят серьги в носу и ушах; они охотно подвергаются весьма болезненным операциям только ради того, чтобы в нижнюю губу вставить кость или полированный кристалл, у некоторых племен принято красить зубы в разные цвета, снимать с них эмаль и даже спиливать до десен; туземные женщины искусственными приемами вытягивают себе груди, чтобы их можно было забрасывать за спину и кормить ребенка во время похода; у других же племен, наоборот, груди стараются уменьшить, для чего молодым девушкам накладывают на развивающиеся молочные железы свинцовые накладки. Древнее происхождение имеет сохранившийся у китаянок и японок обычай искусственно задерживать рост стопы; кое-где детям изменяют форму головы, для чего новорожденным надевают специальные обручи и не снимают их по пять-шесть месяцев.
О чем говорят все эти факты? О том, что человеческое тело — такое, каким его создала природа, — первобытные народы вовсе не считают совершенным и стремятся изменить его согласно своим идеалам красоты.
Религиозные верования нового времени, прежде всего христианство, утверждает далее Мечников, тоже основываются на представлении о несовершенстве человеческой природы. Отсюда свойственное религии противопоставление души и тела, аскетическое стремление к умерщвлению плоти.
Правда, история знает и другой взгляд на человеческую природу. Мечников напоминает, что древние греки воспевали человека таким, какой он есть. Расцвет пластического искусства у эллинов (прежде всего — скульптуры), прекрасное знание анатомии, большое значение, которое они придавали гимнастике, — все это связано с их преклонением перед природой. Греческие боги — наиболее красивые и совершенные из людей.
Однако воспевание всего естественного привело и, по мнению Мечникова, неизбежно должно было привести к фатализму. Ведь несчастья, болезни, смерть естественны для нашей природы; поэтому античные мыслители пришли к проповеди подчинения несчастьям и спасение от них видели в том, чтобы принимать беды спокойно, с радостью. Поздние стоики (Сенека) даже выдвинули идею, согласно которой человеческая природа порочна, они настаивали на необходимости борьбы духа с плотью — средоточием слабостей и пороков. Так, по Мечникову, логическое развитие философии, первоначально основывавшейся на идее совершенства всякого «естества», привело к прямо противоположным воззрениям…
В эпоху Возрождения возродился и античный взгляд на человеческую природу; многие придерживаются его и теперь. Однако Мечников считает этот взгляд неправильным. Нет, он не призывает вернуться к религиозным воззрениям и тем более к аскетизму. Он пытается осветить проблему с позиций эволюционного учения.
«Современная теория происхождения человека может быть причислена к числу наиболее прочных научных теорий, — говорит Мечников. — Она показывает, что человек получил все свои органы от какого-нибудь более низкого в системе животного, передавшего по наследству, между прочим, и такие части, которые, сделавшись бесполезными, мало-помалу заглохли, оставив, однако же, по себе более или менее заметные следы в виде так называемых рудиментарных, или остаточных, органов».
В результате человеческий организм устроен крайне нецелесобразно; многие органы, бесполезные или почти бесполезные, причиняют человеку массу неприятностей. Так, зубы, утверждает Мечников, при современных способах приготовления пищи стали почти ненужными, между тем зубная боль приносит ужасные мучения, а прорезание зубов у детей нередко приводит к осложнениям со смертельным исходом. Вообще болевое ощущение, которое должно сигнализировать об опасности, грозящей человеку, вовсе не соответствует степени этой опасности. Принятие смертельных доз яда (Мечников, разумеется, имеет в виду так хорошо ему знакомый морфий) не вызывает болевых ощущений, в то же время совершенно безопасный порез очень болезнен…
«Можно утверждать, — приходит к выводу Мечников, — что вид Homo sapiens принадлежит к числу видов, еще не вполне установившихся и не полно приспособленных к условиям существования. Унаследованные им инстинкты потеряли свою первоначальную силу, сделались шатки, тогда как долженствующий стать на их место разум еще недостаточно развился и окреп. Отсюда раздвоение и разлад, со столь ранних пор обратившие на себя внимание человечества».
Мечников приводит знаменитую строку из «Фауста»: «Две души чувствую я в моей груди». И еще — из байроновского «Манфреда»:
…Всё в мире Течет спокойно, ровно, бесконечно; А мы — ею цари и лжевладыки, Часть божества в смешеньи с частью праха; Равно бессильные подняться кверху Иль вниз упасть, — мы двойственной натурой Гармонию природы оскорбляем.Мечников называет поэтов наиболее чуткими в делах человеческих…
В заключение он говорит, что наука, осознав заложенную в нашей природе дисгармоничность, сможет найти средства к ее устранению. В противоположность фатализму Мечников выдвигает на первый план фактор воли и сознания, ибо человек — «активнейшее из всех живых существ».
Однако этот прозвучавший в заключение оптимистический аккорд — первый в философских работах Мечникова! — пока еще тонет в общей пессимистической мелодии его лекции.
Очерк вскоре был опубликован в «Вестнике Европы», а еще через год там же появилась статья Мечникова «Борьба за существование в обширном смысле».
Как и во всех работах, посвященных приложению теории Дарвина к человеку и человеческому обществу, в этой статье Мечников наряду с глубокими идеями высказывал ошибочные взгляды, вызванные перенесением биологических закономерностей на общественные явления. Получилось, что борьба за существование в человеческом обществе по своему характеру мало чем отличаетея от борьбы в природе. При этом выживает не тот, кто честнее и благороднее, а тот, кто коварнее и сильнее. Вот к чему, оказывается, привели его давние размышления над нравственными проблемами! Человек должен либо отказаться от следования нравственным идеалам, либо быть готовым потерпеть крушение в борьбе за жизнь — таков невеселый вывод его статьи.
Чего держаться ему самому, он не знал: отказаться от нравственных идеалов не мог, а потерпеть крушение не хотел…
Тем не менее экземпляры своей статьи он раздал студентам «для их вразумления». Как вспоминал Н. Ф. Гамалея, в то время студент Новороссийского университета, «в нашем кружке, который я устроил для изучения различных книг по эволюции <…> статья Мечникова вызвала единодушный протест. У меня были записаны многочисленные возражения положениям Мечникова».
С годами взаимоотношения Ильи Ильича со студентами становились все более сложными. С их стороны вызывали возражения не только отдельные положения той или иной его статьи, но и его мысли о роли науки в жизни общества, о назначении человека. Один из самых преданных почитателей Ильи Ильича, его ученик Яков Юльевич Бардах, впоследствии вспоминал:
«В то время (1876–1880 гг.) большой популярностью пользовались так называемые студенческие вечеринки. На них приглашались любимые профессора. Одним из самых желанных и любимых был, конечно, И[лья] И[льич]. На вечере его окружали, каждый хотел с ним говорить. От него ждали ответа на волновавшие и мучившие нас вопросы. На все у него был один ответ: „Только положительная наука, только она одна может нас приблизить к разрешению вечных проблем жизни. Наука все больше раздвигает границы познаваемого. Блестящий расцвет естествознания раскрывает пред нами новые захватывающие горизонты, и эти перспективы научного прогресса сделают для человечества больше, чем совокупность всех работ в других областях знания и жизни“. Но эта страстная проповедь положительного знания, призыв в лабораторию и научные кабинеты, не удовлетворяла молодежь. Большинство стремилось в жизнь, в народ; многим страстно хотелось теперь же водворить социальную справедливость. И[лье] И[льичу] указывают на разительные противоречия жизни. Один цитирует ему стихи: „Отчего под ношей крестной весь в крови влачится правый?“ Другой: „Отчего еще Генрих IV мечтал о курице в супе каждого своего подданного? Отчего это и доселе мечта? А что сделала наука для реализации этой мечты?“ Третий протискивается, весь волнуясь: „Вот так высоко ценимый Вами Дарвин! Что же, борьба за существование, успех наиболее сильного, наиболее приспособившегося, разве это прогресс? Почему почти всегда торжествует не право, а сила?“ Круг все более увеличивается. Все ждут, что скажет любимый профессор. Все затихли в ожидании ответа. Ведь для большинства это не спор, а, быть может, момент, который определит всю дальнейшую жизнь. И вот раздается вдохновенное слово И[льи] И[льича]. Весь разгорячившись, отметая непокорную прядь волос, нависающую на лоб, с нежной лаской умных, проникающих вас насквозь глаз, с доброй, чуть-чуть насмешливой улыбкой, он зовет нас в светлое царство пауки, где каждый работает по мере своих сил, стремясь к раскрытию истины, часто ошибается, поэтому понимает ошибки других — следовательно, должен быть терпимым, уважать чужие взгляды, ценить и преклоняться перед чужим трудом. Совокупными усилиями получаются мирные завоевания науки — это приучает человечество к коллективизму в самой высокой области — в области духа. Наука переплетается с нравственностью, определяя поведение людей, и приучает их к справедливости. Так говорит И[лья] И[льич], — и молодежь его слушает, покоряясь обаятельной силе его простой, но сильной своей убежденностью и проникновенностью речи. Действуют не столько слова, сколько проникающая их вера во всемогущество знания. Его слушают. Большинство с ним не согласно, но всех пленяет его душевный облик. Разгораются споры. Один говорит: „Я его уважаю, но он глубоко ошибается“. Другой: „Я с ним не согласен, но возражать сейчас не в состоянии“. Третий: „В его словах все-таки часть правды“. Четвертый говорит: „Конечно, я весь отдаюсь науке“. Страстные споры тянутся до рассвета и продолжаются в следующие дни в аудиториях и лабораториях».
Итак, один из преданнейших почитателей Ильи Ильича свидетельствовал, что большинство студентов с ним не соглашалось…
В конце 1876 года в Петербурге, на площади перед Казанским собором, состоялась демонстрация: над площадью взметнулось красное знамя с начертанными на нем словами «Земля и воля». Летом 1877 года петербургский генерал-губернатор Трепов приказал подвергнуть телесному наказанию студента Боголюбова, арестованного во время «казанской демонстрации». В декабре юная революционерка Вера Засулич, явившись на прием к Трепову, в упор выстрелила в него из револьвера. В марте 1878 года суд присяжных вынес Вере Засулич оправдательный приговор. В Одессе один из революционеров, Иван Ковальский, оказал при аресте вооруженное сопротивление жандармам. 2 августа Ковальский был казнен, а 4-го С. М. Кравчинский поразил кинжалом шефа жандармов Мезенцева. В 1879 году был убит харьковский генерал-губернатор князь Д. Н. Кропоткин. Было совершено несколько неудачных покушений на царя. В феврале 1880 года всю Россию потряс взрыв в Зимнем дворце, в котором революционеры сумели накопить большие запасы динамита…
Общество бурлило, студенческая молодежь в массе своей сочувствовала террористам. И чем упорнее Мечников держался своих взглядов, тем меньшее впечатление производили на студентов его проповеди на вечеринках да и его лекции…
Нет, недостатка в слушателях он не испытывал; ему не приходилось опасаться, что студенты по жребию станут выделять на его лекции трех дежурных, чтобы только не срывать занятия. Читал-то он по-прежнему замечательно!..
А все же молодежь предпочитала теперь бегать на юридический факультет, где политическую экономию преподавал молодой профессор А. С. Посников. Читал он с блеском. Илья Ильич и сам посещал его лекции, а с самим Посниковым настолько сдружился, что тот в какой-то мере заменил ему Сеченова, перешедшего в Петербургский университет. Когда профессор Цитович напечатал на диссертацию Посникова отзыв, смахивавший на политический донос, Мечников так разволновался, что с ним впервые случился сердечный припадок.
Но теории нового профессора Мечникову казались неглубокими.
Посников доказывал преимущества общинного землевладения, выступал против частной собственности. От его лекций попахивало социализмом, и Илья Ильич считал, что Посников лишь сбивает молодежь с толку, отвлекает от серьезного дела. Но слово «социализм» под влиянием последних событий стало популярным не только в замкнутых революционных кружках, но и среди широких слоев студенчества. В этом и состояла та пропасть, что незаметно разверзлась между Ильей Ильичом и его учениками.
10
В феврале 1878 года умер Илья Иванович… Весть эту Илья Ильич, против ожидания, перенес сравнительно спокойно. Уговорив Ольгу Николаевну остаться в Одессе, он поехал в Панасовку, где у гроба отца собрались все близкие, кроме Льва Ильича, которому дорога в Россию была заказана.
После похорон, когда несколько улеглась первая острая боль от понесенной утраты, старший брат Иван Ильич, харьковский прокурор, много рассказывал о политических событиях. Илья Ильич не преминул написать об этом Ольге Николаевне, но, к сожалению, содержание разговора излагать не стал — обещал передать по возвращении в Одессу.
О чем шла у них речь? Скорее всего о харьковских делах, где генерал-губернатор князь Кропоткин (ему оставался еще год жизни) особенно усердствовал в искоренении крамолы. В Харькове располагалась центральная Новобелградская тюрьма. Политических в ней содержали в одиночках, но камер уже не хватало. Режим был настолько суровый, что заключенные сходили с ума, иногда кончали жизнь самоубийством. Смотритель тюрьмы при прямом попустительстве губернатора изощрялся в издевательствах над узниками, за малейшую провинность или без всякой провинности сажал их в карцер, заковывал в кандалы.
Как сам Иван Ильич относился к подобным «мерам», нам судить трудно, ибо нет прямых свидетельств о его политических взглядах. Все же можно предположить, что зверств губернатора он не одобрял. Через год с небольшим, когда убитого Кропоткина заменит граф Лорис-Меликов, акции Ивана Ильича сильно поднимутся. «Мечников у него (то есть у Лориса-Меликова. — С. Р.) первый человек»,[21] — напишет в частном письме один из подчиненных Ивана Ильича. Скорее всего, и по политическим взглядам Иван Ильич был близок к графу — стороннику «законности» и постепенных реформ, а не к крайнему реакционеру Кропоткину…
11
Правительство видело главный источник крамолы в университетах. Ведь по политическим делам привлекались, как правило, либо студенты, либо недавно окончившие высшие учебные, заведения, либо, наконец, исключенные из них.
26 октября 1878 года были изданы «Временные правила», фактически уничтожавшие те ограниченные свободы, которыми пользовались университеты по уставу 1863 года. Согласно правилам, учреждалась новая должность — инспектора, не избираемого советом, а назначаемого попечителем по согласованию с генерал-губернатором. Инспектору передавались важнейшие функции, прежде принадлежавшие совету: только он имел теперь право распределять пособия, стипендии, освобождать от платы за обучение, причем в прямую его обязанность входило при помощи этих поощрений влиять на «образ мыслей» студентов. Инспектору вменялось следить за жизнью студентов, за их нравами, даже за тем, чтобы на них была «приличная» одежда; особенно подчеркивалась необходимость следить, чтобы среди студентов не устанавливалось отношений товарищества, взаимной солидарности.
5 ноября попечитель Одесского учебного округа запросил А. С. Посникова, бывшего в то время проректором, может ли он совмещать функции профессора и инспектора. Посников, естественно, отказался. Он же стал основным автором записки, составленной комиссией профессоров по поводу «Временных правил». Мнение Посникова было резко отрицательным, и составленную им записку совет одобрил единогласно: перед лицом опасности, нависшей над университетскими свободами, отошли на второй план все «партийные» распри. Но с мнением совета власти не посчитались. Новыми правилами все студенчество было фактически отдано под гласный надзор полиции.
Мечников мечтал «урваться» на Средиземное море, и в 1879 году ему удалось получить заграничную командировку. Узнав об этом, к нему явилась «депутация» студентов. Назревают большие события, объясняли они, профессор должен отложить поездку.
— Я считаю мою чистую научную деятельность слишком высокой, чтобы пожертвовать ею для чего бы то ни было, — гордо ответил Мечников.
12
2 марта 1881 года профессоров Новороссийского университета собрали на чрезвычайное заседание. В глубоком молчании выслушали они известие о том, что император Всероссийский Александр II принял мученическую смерть от разрыва бомбы, брошенной заговорщиками…
14 марта — опять чрезвычайное заседание. «Члены Совета императорского Новороссийского университета, — гласил протокол, — после благодарственного господу богу молебствия о восшествии на престол государя императора Александра Александровича, собравшись в актовом зале, под председательством ректора, с участием и других преподавателей, единогласно постановили: повергнуть к стопам его императорского величества выражение верноподданнических чувств».
Мечникова на этих заседаниях не было.
Он лежал в тифозном бреду…
Мы подошли к самому загадочному и в то же время самому ответственному моменту биографии Ильи Ильича…
Дело в том, что возвратным тифом он заболел не случайно. Тиф он себе привил.
И вот мотивы этого акта остаются не совсем выясненными.
Ольга Николаевна пишет, что в Неаполе, куда они приехали в конце 1879 года, она заболела тяжелой формой тифа. Состояние ее было опасным. Илья Ильич, полный тревоги, днем и ночью не отходил от ее постели, сильно переутомился, у него появились боли в сердце, бессонница, стойкие головокружения и даже легкое заикание; он решил, что начинается паралич. «Это окончательно подкосило его, и в 1881 году, под влиянием нервного возбуждения, он решил покончить с собой. Чтобы скрыть от близких, что смерть его произвольна, он при вил себе возвратный тиф, избрав именно эту болезнь для решения вопроса, заразительна ли она через кровь».
В версии этой, однако, много сомнительного. Хорош самоубийца, если он больше всею заботится скрыть истинные причины своей смерти! И что это за нервное возбуждение, которое заставляет самоубийство совместить с решением научного вопроса! К тому же еще в 1874 году прозектор Одесской городской больницы Григорий Николаевич Минх ввел себе кровь тифозного больного и заболел типичным возвратным тифом. Через два года другой одесский врач, Осип Осипович Мочутковский, повторил опыт и с тем же результатом.
Правда, эти опыты не всем казались убедительными; Минх и Мочутковский как врачи находились в постоянном контакте с больными и могли заразиться другим путем.
Выдающийся медик, О. О. Мочутковский стал популярным в городе практикующим врачом. У него постоянно лечился и Илья Ильич. От Мочутковского и от Минха, с которым Илья Ильич тоже был близко знаком, он, вероятно, и узнал о трудностях в изучении тифозной инфекции, к которой невосприимчивы обычные лабораторные животные. Мечников, с его способностью увлекаться, мог предложить себя для решающего эксперимента безо всяких мыслей о самоубийстве. Однако таков мог быть только предлог! Но и впоследствии Мечников, всегда охотно рассказывавший о своем прошлом, прививку себе возвратного тифа с покушением на самоубийство не связывал.
Словом, загадка… И прежде всего в том, почему вдруг он заинтересовался тифом? Почему такой скачок в совершенно неведомую, совершенно чуждую ему область?
Скачок, правда, не покажется таким большим и таким неожиданным (хотя все же останется очень большим и очень неожиданным), если мы сделаем коротенький экскурс в предшествовавшие ему годы.
С тех пор как Мечников женился на Ольге Николаевне, он частенько проводил отпуск в имении своего тестя Поповке в Киевской губернии. Благополучие многодетной семьи Белокопытовых зависело от урожаев пшеницы.
Среди вредителей, сильно изреживавших посевы, особенно грозен был хлебный жук; в отдельные годы насекомые размножались так сильно, что пожирали добрую половину урожая. От хлебного жука страдала вся южная Россия. Мечников стал задумываться, как избавить посевы от этого вредителя. Однажды на подоконнике Илья Ильич заметил мертвую муху, все тело ее проросло плесенью. Было ясно, что насекомое погубил плесневый грибок. Явилась мысль: а если искусственно распространять среди вредителей эпидемии и тем самым препятствовать их размножению?..
В 1878 году урон, причиненный хлебным жуком, был особенно велик, и Мечников взялся за опыты. Из литературы он знал, что во Франции в отдельные годы гибнет огромное количество гусениц шелкопряда от грибковой болезни, называемой «мюскардина». Он обнаружил аналогичных грибков у хлебного жука, а поставив опыты, убедился, что они действительно губительны для насекомого и что, растирая умерших от этой болезни жуков и смешивая их прах с землей, можно легко распространять заразу. Аналогичные результаты дали опыты по свекловичному долгоносику.
Этими работами заинтересовался херсонский помещик Г. Л. Скадовский. Ученик и преданный почитатель Льва Семеновича Ценковского (после ухода из Новороссийского университета Ценковский получил место в Харькове), он вел различные полудилетантские исследования в своем имении. Скадовский запросил у Мечникова материал и повторил опыты. Результат получился отрицательный. Причину неудачи установить не удалось, так как свой эксперимент Скадовский провел без должной строгости и контроля. Но вместо того чтобы повторить его еще и еще раз, он заявил об ошибочности выводов Мечникова. Илья Ильич ответил Скадовскому резкой статьей. Это было его первое столкновение с учеником Ценковского…
Начав опыты в университете, Мечников затем продолжил их в лаборатории сахарного завода графа Бобринского в местечке Смела недалеко от Поповки, а также в самой Поповке.
Так ученый сделал первый шаг на пути к новой для себя области — патологии…
Но какой это маленький шаг в сравнении со вторым, когда он ввел себе кровь тифозного больного!
Он заразил себя 27 февраля… К 1 марта температура у него поднялась за сорок.[22]
Илья Ильич бредил, смутно осознавал окружающее, но известие об убийстве царя ужаснуло его; он нисколько не сомневался, что теперь последует сильнейшая реакция…
Через несколько дней первый кризис миновал, но 14-го у него опять было под сорок. Больному становилось все хуже — это показывают торопливые записи температуры: 40,6; 40,7; 39,9; 40,4; 40,9. Самым тяжелым был день 18 марта. Температуру мерили восемь раз, и она неуклонно росла. Последнее показание термометра в 11 часов вечера — 41,2…
Он чувствовал, что умирает, и это было особое чувство. «В полусознании, — пишет Ольга Николаевна, — ему чудилось, что он решил вопросы человеческой этики, что доставляло ему несказанное удовольствие. Впоследствии факт этот даже подал ему повод предположить, что смерть может сопровождаться приятными ощущениями».
…В это самое время Толстой писал свою «Исповедь»:
«Я не мог придать никакого разумного смысла ни одному поступку, ни всей моей жизни. Меня только удивляло то, как мог я не понимать этого в самом начале. Все это так давно всем известно. Не нынче — завтра придут болезни, смерть (и приходили уже) на любимых людей, на меня, и ничего не останется, кроме смрада и червей. Дела мои, какие бы они ни были, все забудутся — раньше, позднее, да и меня не будет. Так из чего же хлопотать? Как может человек не видеть этого и жить — вот что удивительно! Можно жить только, покуда пьян жизнью; а как протрезвишься, то нельзя не видеть, что все это — только обман, и глупый обман! Вот именно, что ничего даже нет смешного и остроумного, а просто — жестоко и глупо».
Однако, сколь ни приятно было чувство «умирания», как только миновал кризис, в Мечникове вдруг проснулась сильнейшая жажда жизни, неуемное душевное ликование. Он не переставал шутить и смеяться радостным детским смехом. Он впервые был счастлив беспредельно, счастлив просто оттого, что жив, что дышит, что светит солнце. И никакие внешние обстоятельства не могли омрачить его, хотя веселого было мало. Прежде всего вследствие тифа началось новое острое воспаление глаз. Правда, последнее. Теперь до конца жизни глаза его больше беспокоить не будут. Но он-то не мог знать об этом…
Пришла и «смерть любимых людей».
Умер отец Ольги Николаевны. За годы замужества дочери он примирился с нигилизмом и крайним материализмом зятя, проникся к нему безграничным доверием, и Илья Ильич платил тестю тем же. Перед кончиной Николай Николаевич призвал зятя к себе и поручил ему заботы о многочисленном семействе…
Умер от гнойного заражения и старший из братьев Мечниковых, Иван Ильич. Ему было сорок пять лет. Еще недавно он был полон сил; умница и жизнелюб, он неизменно посмеивался над нытиками, уверял всех, что смерти не боится, что бояться неотвратимого глупо…
Об этом же Иван Ильич, по всей видимости, говорил Толстому, когда за год до своей роковой болезни (а не в 1867 году, как принято считать) провел день в Ясной Поляне.[23] По воспоминаниям Т. А. Кузминской, Толстой нашел его человеком умным и незаурядным. Иван Ильич же, наоборот, пришел к заключению, что Лев Николаевич не очень умен. Брату своему он пояснял:
«Вот ты — профессор зоологии; ты отлично знаешь все учение, касающееся лесной дичи. Ты знаешь, например, что написано о вальдшнепе на разных языках, как устроены его внутренности и тому подобное. Но, идя на охоту, я возьму не тебя, чтобы ты помог мне найти вальдшнепа в лесу, а собаку, которая, ничего не зная о нем, разыщет его гораздо лучше, чем ты, одним чутьем. Таков и Толстой. Чутье его относительно внутреннего содержания человеческой души необыкновенно, и он отгадывает самые скрытые побуждения с изумительной верностью. Там же, где нужно решить вопрос при помощи рассуждения и логики, Толстой очень часто не выдерживает критики».
Илья Ильич провел у постели брата последние дни и видел, как болезнь сделала его другим человеком. Все свои силы Иван Ильич посвятил тому, чтобы получше устроиться, сделать карьеру, и теперь, перед лицом смерти, видел, сколь бесцельна и пуста была его жизнь. Временами в нем просыпалась надежда, он говорил о том, как выздоровеет и вместе с Ильей уедет в Италию. Но чаще он не обманывался о своей участи, и мысль о неотвратимо надвигающемся конце, о полном своем несуществовании мучила его сильнее, чем физические страдания. В загробную жизнь Иван Ильич не верил.
Он помирился только на мысли, что между смертью в сорок пять или семьдесят лет разница всего лишь количественная.
Младший брат с ним не спорил. И не только потому, что оспаривать то, чем утешился умирающий, значило лишь усугублять его страдания; младший брат еще не знал, что через много лет придет к убеждению, что старость дает человеку совершенно особые ощущения и иное отношение к смерти…
Со смертью Ивана Ильича оборвалась та тонкая ниточка, которая связывала Илью Ильича с Толстым. Иван Ильич познакомился с Львом Николаевичем через Кузминских. Шурин Толстого, Александр Михайлович Кузминский, служил под началом Ивана Ильича и был ему многим обязан. Заикнись в ту пору младший брат, и старшему не составило бы труда — самому или через Кузминского — устроить ему встречу с Львом Николаевичем.
Но в ту пору, когда Мечников еще только искал свою истину (а Толстой искал, или, по крайней мере, еще не обнародовал, свою), чего ради ему было добиваться этой встречи?
Потребность видеть Толстого появилась у него много позднее.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ Ясная Поляна. 30 мая 1909 года, 7.30–13.00
1
Итак, в сопровождении Александры Львовны они вошли в дом и тотчас увидели его, не по-стариковски быстро спускавшегося по лестнице.
Он метнул на них пронизывающий взгляд, но тут же расцвел в доброй, сердечной улыбке.
— Между вами, — сказал, — есть сходство; это бывает, когда люди долго и хорошо живут вместе.
«Мы, конечно, тотчас узнали его, — писала подруге Ольга Николаевна, — но в то же время были поражены тем, как мало передают его все изображения. У него вовсе нет ни той грубости черт лица, ни того сурового волчьего выражения, кот[орое] на всех его портретах».
Хозяин вежливо осведомился, как гости доехали и какое впечатление произвела на них Россия; извинился… и пошел к себе наверх — кончать «утренний урок».
Да. Ушел кончать утренний урок!..
Что ж! В Ясной Поляне посетители не переводились; если бы не неукоснительное следование заведенному распорядку, Толстой вообще ничем не мог бы заниматься.
…Правда, для такого гостя можно было, кажется, сделать исключение… Не хотел ли он показать «этому Мечникову», что приезд его не настолько важен, чтобы он, Толстой, нарушил сложившийся уклад?..
2
В 1888 году в публичной лекции о чахотке Илья Ильич впервые высказал свое мнение по поводу взглядов Толстого на науку. Лекция была опубликована, но Льву Николаевичу, по-видимому, осталась неизвестна.
В 1891 году в журнале «Вестник Европы» появилась обширная статья Мечникова «Закон жизни. По поводу некоторых произведений графа Л. Толстого». В Яснополянской библиотеке этого журнала нет; возможно, Толстой и эту статью не читал. Но вряд ли он ничего о ней не слышал. В печати статья вызвала большой резонанс; некоторые видели в ней первую серьезную попытку критического разбора взглядов Толстого, другие же считали, что критика направлена не по адресу. Впрочем, ни в 1891, ни в 1892, ни в 1893 году Толстой ни словом не обмолвился о Мечникове — по крайней мере, мы не располагаем материалами, которые позволили бы заподозрить противное.
Лишь в 1894 году, по свидетельству одного мемуариста, Толстой будто бы сказал:
«Я знаю, что есть Мечников, но то, о чем он говорит, не существует (речь шла о теории фагоцитоза. — С. Р.). Когда я был маленьким, то очень любил рассказ моего отца о монахе, который показывал волосы богородицы, тянувшиеся до бесконечности. Монах садился перед публикой и делал так (Лев Николаевич сложил пальцы в щепотки и стал разводить руками), и все ахали и удивлялись. Так и ученые говорят теперь о том, чего нет, а все удивляются».
Слова эти вполне в духе Толстого. Но приведены они через 20 лет после того, как были сказаны, так что считать их вполне достоверными нельзя. Однако если они и впрямь были произнесены, то вскоре Толстой, по-видимому, забыл о Мечникове и не вспоминал о нем добрых восемь лет.
Но вот стали появляться работы Ильи Ильича о старости и смерти, и Толстой словно бы встрепенулся.
10 марта 1902 года, больной, он продиктовал дочери Марии Львовне Оболенской: «Читал статью Мечникова в „Русск[их] вед[омостях]“ и возмущался».
В «Русских ведомостях» от 7 марта была напечатана (в пересказе) лекция Мечникова о его воззрениях на человеческую природу.
С того времени, судя по всему, Толстой как бы постоянно чувствует незримое присутствие Мечникова. 20 июля Гольденвейзер записал: «Вчера Лев Николаевич порицал ученых (поминал при этом Мечникова) за их отрицание и непонимание религиозного миросозерцания».
Меньше чем через год уже известная нам дневниковая запись: «…если вырезать прямую кишку, то люди не будут более думать о смысле жизни, будут так же глупы, как сам Мечников…»
Еще через два месяца Толстой получает от Ильи Ильича его только что вышедшую книгу «Этюды о природе человека» и заносит в дневник: «Книга от Мечникова. Хочется написать о ней». А через пару дней — в письме к брату Сергею Николаевичу: «Ты читал или прочтешь о книге Мечникова. Он прислал мне ее, и она очень интересна по своей ученой глупости» (опять этот оборот!).
Свое намерение написать о книге Мечникова Толстой, к сожалению, не исполнил, но вскоре в печати появилась статья некоего Мирского, который приводил его слова:
«Я этой книги не прочел, а только просмотрел ее. И читать не буду. Все, что скажет и может сказать Мечников, я знаю. Он очень образованный и ученый человек, но он не понимает того, что нужно людям. Горе не в том, что мы живем мало времени, а в том, что мы плохо живем, живем против себя и своей совести. Мы наполняем свою жизнь делами, которых не надо бы было делать, или тратим ее на шумиху слов. Одно надо, чтобы проснулось сердце человеческое и чтобы там засела мысль о боге. Чтобы эту вот мысль человек признал единственным своим руководителем, единственной властью над собой и жил по ее указаниям».
Однако труд Мечникова Толстой не просмотрел, а именно прочитал, и очень внимательно. Экземпляр книги, присланный ему Мечниковым, сохранился в Яснополянской библиотеке.
В холодной, со сводчатым потолком комнате полуподвального этажа Яснополянского музея я перелистываю ее и с трудом сознаю, что после Толстого и В. Ф. Булгакова, составившего опись библиотеки Льва Николаевича, если кто и брал ее в руки, то дальше первого свободного листа с дарственной надписью не открывал.
Дарственная надпись гласит:
«Великому писателю графу Льву Николаевичу Толстому в знак глубочайшего почтения. Ил. Мечников».
Первые 138 страниц — чистые; возможно, их Толстой действительно только просмотрел.
Но вот Мечников перешел к «общественному инстинкту, свойственному всякому человеческому существу». Как широко должно распространяться чувство симпатии: «Только ли на близких и дальних родственников или на всех сограждан и соотечественников, или на всех белых и черных, добрых и злых людей?» Вот вопрос, который, по убеждению Мечникова, «никогда не могли решить как следует ни рационалистические теории, ни религиозные доктрины».
Эти слова Толстой подчеркивает и ставит на полях знак вопроса. Он убежден, что религиозные доктрины на все это давно ответили…
«Инстинктивное чувство само по себе остается совершенно немым на этот вопрос», — пишет через несколько строк Мечников, и Толстой опять подчеркивает и ставит знак вопроса. Лев Николаевич убежден, что если довериться тому, что Мечников называет инстинктивным чувством и что он сам называет непосредственным религиозно-нравственным чувством, то оно даст ясный ответ; не надо только затуманивать себя суемудрыми рассуждениями…
На следующей странице опять пометки Толстого; видно, как растет его раздражение.
«Слишком усиленная симпатия может оказаться вредной, — пишет Мечников. — Как известно, некоторые нации, влекомые симпатией, принимали деятельное участие в войнах, результаты которых не были благоприятны. Симпатия, обнаруживаемая к дурным и опасным людям, может точно так же быть пагубной. Итак, общественный инстинкт часто приходится сдерживать в интересах самой группы людей, соединенных для общей цели». Первую фразу Толстой подчеркивает, остальное отчеркивает и ставит еще одну закорюку вопроса. Он решительно не согласен…
Всего им сделана тридцать одна пометка!
В одном месте Толстой пишет: «Не знает Христа»; в другом фразу Мечникова «Со времени пробуждения в Европе научного духа признано было, что понятие будущей (то есть загробной. — С. Р.) жизни не имеет никакой серьезной основы» Толстой удостаивает восклицательным знаком, имеющим, разумеется, иронический смысл.
Попытки Мечникова проводить параллели между человеком и животными Толстой пресекает репликами вроде: «Кто сказал, что эти существа такие же живые существа, как человек».
«Потеряно понятие жизни», — замечает Толстой еще в одном месте; иронично — «научность!» — в другом; «что такое инстинкт» — в третьем; «совершенно детское рассуждение» — в четвертом, и даже — «эротомания» — в пятом.
Мечников жалуется на предрассудки, мешающие изучению человеческой природы, и приводит пример: во Франции вскрытие трупа разрешается только через 24 часа после констатации смерти и лишь с согласия родственников покойного.
Толстой саркастически: «За этим дело стало?»
Мечников: «Нравственность, следовательно, должна основываться не на извращенной человеческой природе, какова она теперь, но на идеальной, т. е. такой, какой должна она стать в будущем».
Толстой опять ставит вопрос, обозначающий, по-видимому, то же, что и недавняя дневниковая запись: «Как же до сих пор жить людям? И ведь жили уже миллиарды с прямой кишкой».
«Где же должна остановиться любовь к ближнему, если она не может в одинаковой степени обнять все человечество?» — спрашивает Мечников.
«Нигде», — отвечает Толстой.
«Нужно, чтобы люди убедились в могуществе науки и вреде глубоко укоренившегося суеверия», — пишет Мечников.
«Да, — соглашается Толстой (единственный раз соглашается!), но тут же добавляет, — только главная superstition[24] это science».[25]
Но и окончив полемику на полях книги, Толстой продолжает мысленно спор с Мечниковым.
Посетивший его в августе Вересаев писал:
«…Толстой заговорил о присланной ему Мечниковым книге „Essai de philosophie optimiste“.[26] С негодованием и насмешкой он говорил о книге, о „невежестве“, проявленном в ней Мечниковым.
— Он, профессор Мечников, хочет… исправить природу! Он лучше природы знает, что нам нужно и что не нужно! У китайцев есть слово „шу“. Это значит — уважение. Уважение не к кому-нибудь, не за что-нибудь, а просто уважение — уважение ко всему за все. Уважение вот к этому лопуху у частокола за то, что он растет, к облачку на небе, к той грязной, с водою в колеях, дороге… Когда мы, наконец, научимся этому уважению к жизни».
18 июля 1904-го Толстой заносит в дневник на редкость емкие и страстные строки:
«Мечников придумывает, как посредством вырезания кишки, ковыряния в заднице обезвредить старость и смерть. Точно без него и до него никто не думал этого. Только он теперь хватился, что старость и смерть не совсем приятны. Думали прежде вас, г-н Мечн[иков], и думали не такие дети по мысли, как вы, а величайшие умы мира, и решали и реш[или] вопрос о том, как обезвредить старость и смерть, только решали этот вопрос умно, а не так, как вы: искали ответа на вопрос не в заднице, а в духовном существе человека.
Смерть (и старость) не страшны и не тяжелы тому, кто, установив свое отношение к Богу, живет в нем, знает, что то, что составляет его сущность, не умирает, а только изменяется. И умирает и стареет легко тот, кто не только знает это, но верит в это, верит так, что живет этим, так живет, что старость и смерть застают его за работой. Всякий знает, что умереть легко и хорошо, когда знаешь, за что, зачем умираешь, и самой смертью своей делаешь предназначенное себе дело. Так легко умирают взрыв[ающие] себя или убитые в сражении воины. Так легко должны были умирать и умирали мученики, самой смертью своей служа делу всей своей жизни и жизни всего мира. Хочется сказать, что счастливы такие мученики, и позавидовать им, но завидовать нечего, во власти каждого в каждой жизни нести это мученичест[во] в старости и смерти: умирать благословляя, любя, умиротворяя своими последними часами и минутами».
Итак, все ясно — писания Мечникова не стоят выеденного яйца. Но почему такой пыл, такое яростное негодование? И самое любопытное: книгу, интересную только «своей ученой глупостью», Толстой перечитывает минимум еще раз, о чем свидетельствует запись Гольденвейзера от 22 октября 1904 года:
«Нынче он сказал мне:
— Я много вынес из этой книги интересных сведений, так как Мечников, несомненно, большой ученый. Только удивительна в нем самодовольная ограниченность, с какой он убежден, что решил чуть ли не все вопросы, волнующие человека. Он так уверен, что счастье человека в его животном довольстве, что, называя старость злом (вследствие ограничения в ней способности физического наслаждения), даже и не понимает, что есть люди, думающие и чувствующие совершенно наоборот. Да, я дорожу своей старостью и не променяю ее ни на какие блага мира».
Краткая запись в дневнике от 19 мая 1905 года интересна тем, что сделана по совершенно постороннему поводу:
«Саша от боли впрыснула морфий. Няня не одобрила: пострадать надо, когда бог посылает. А Мечников хочет уничтожить не только страдания, но и смерть.
Разве он не жалкий, испорченный ребенок в сравнении с народной мудростью старушки?»
Мечников не собирался уничтожить смерть и считал злом лишь преждевременную старость, но не эти уточнения важны нам сейчас.
Он был убежден, что решил чуть ли не все вопросы, волнующие человека! Вот что Толстой считал самодовольной ограниченностью…
Еще в 1890 году он сердился на сына Сергея Львовича, — зачем тот изобретает велосипед, зачем «столь разумный и как бы практический в приобретении знаний, не выдумывавший сам логарифмов и т. п. вещей, которые давно выдуманы», он, Сергей Львович, «в самом важном знании — что хорошо, что дурно и потому как жить», пытается дойти «своим умом и опытом», а не пользуется «тем, что давно, несомненно и очевиднее всякой геометрической теоремы объяснено и доказано», ибо на главные вопросы уже ответили «величайшие умы человечества». (Себя Толстой к «величайшим умам» не причислял: называл Будду, Сократа, Христа, Лао-Цзы… Но настаивал на своем толковании их учений!)
Поразительно! Столь чуткий к движениям души человеческой, сам столь долго и мучительно искавший Истину, он, оказывается, не понимал, что именно потому, что знание того, «что хорошо, что дурно», есть «самое важное знание», что именно поэтому до него следует доходить «своим умом и опытом»!
И вдруг какой-то Мечников заявляет о своей Истине, своем понимании смысла человеческого существования…
Но Толстой — всегда Толстой. Сколько ни докапывайся до сути его взглядов, обязательно еще останется «х», неизвестное, выкидывающее самые необычные фокусы. Из письма к Софье Андреевне от 16 мая 1906 года узнаем, что Лев Николаевич ест рекомендованную Мечниковым простоквашу и относит на ее счет свое хорошее самочувствие.
3
…Он ушел кончать утренний урок.
Александра Львовна провела гостей в комнату для приезжих, сообщила, что в ней прежде был кабинет Льва Николаевича и здесь он написал «Анну Каренину».
Оставшись одни, гости огляделись — и ахнули. Это же кабинет Левина!.. Вот оленьи рога — повешены в простенке между окном и застекленной дверью; в углу — печь с отдушником; старый диван; большой стол — на нем лишь не хватало открытой книги, сломанной пепельницы и тетради…
Ольга Николаевна подошла к окну, и взору ее открылась лужайка с кустами пышно цветущей сирени. «Такой этот вид красивый, что и до сих пор он у меня перед глазами», — писала она с восторгом Вере Александровне Чистович.
В десятом часу их позвали на террасу пить кофе.
За длинным столом, накрытым белой скатертью, — яснополянские домочадцы. У самовара хозяйничает Александра Львовна…
Толстому кофе подали в кабинет, но он неожиданно появился в дверях, неся поднос с дымящейся чашкой и куском хлеба.
«Он сказал, что хочет посидеть с нами и выпьет кофе здесь, а не у себя, как обыкновенно это делает», — сообщала Ольга Николаевна подруге.
Что это? Только ли желание «не оскорбить»?..
Мечников попросил вместо кофе жидкого чая, объяснив, что кофе вообще не пьет. Разговор зашел о гигиене питания, перекинулся на вегетарианство, и Толстой сказал, что есть мясо он уже просто не в состоянии: даже один вид его вызывает у него отвращение.
Но беседа была общей и потому несерьезной.
После кофе Толстой опять поднялся к себе, и Гусев объяснил корреспондентам, что он будет работать, как всегда, до половины второго.
Александра Львовна и Лев Львович пошли показывать гостям сад и деревню. Тучи уже успели рассеяться, и выглянувшее солнце стало припекать. Но гости не чувствовали ни жары, ни — после проведенной в дороге ночи — усталости. Наблюдавшие со стороны корреспонденты отметили их отличное настроение и оживленность в разговоре.
«Запущенный, со старыми, вековыми деревьями, лужайками с нескошенной сочной травой и цветами» сад напоминал Ольге Николаевне Поповку. В деревне им тоже понравилось; видно было, что мужики зажиточные: избы кирпичные, многие крыты железом. Крестьяне останавливались, делились новостями; отношения их с Толстыми были простые и добрые, или, говоря словами Ольги Николаевны, «самые хорошие, без всякой слащавости или неискренности с какой бы то ни было стороны».
Как просто смотрела на вещи Ольга Николаевна!..
Конечно, хорошие, конечно, без слащавости, а все же не такие, какие нужны были Льву Николаевичу, не такие, какими были их отношения между собой. Дети Толстого оставались для крестьян барами, а сам Толстой — барином. Добрым, но — барином!
Знакомые И. А. Бунину помещик Мертваго и журналист Попов после похорон Толстого разговаривали с яснополянскими мужиками, и Мертваго потом передал этот разговор Бунину:
«— Ну, вот мы несли эту самую вывеску. Что ж, будет нам за это какое-нибудь награждение от начальства или от графини? Ведь мы как старались! Целый день на ногах! Опять же на венок потратились».
Еще Мертваго рассказал Бунину, как язвил один яснополянский мужик:
«— Да, хороший был барин покойный граф! Все, говорит, бывало, теперь не мое, я давно все добро жене и детям отдал, мне это, мол, без надобности, я трудящий народ люблю… А выйдешь как-то на зорьке, еще солнце не показывалось, а уж он шмыг, шмыг по росе, по опушке своего леса, и так шныряет глазами по лесу: нет ли, значит, порубки где?»
— Я его, — рассказывал Мертваго, — стыдить стал, уверять, что это он для здоровья гулял рано по утрам. Куда тебе! Мужик стоял на своем: «Знаем мы это здоровье! Нет, уж такие зоркие хозяйские глаза были!»
Нет, не просто все было в усадьбе Толстых, как не просто было и на душе Толстого…
Но как заглянуть в эту душу?
Пока гости гуляли по деревне, он сидел там, в своем кабинете, в кресле с укороченными ножками; голова его едва поднималась над столом, и не совсем удобно было высоко поднятым на него рукам, зато ослабевшие к старости глаза ясно различали возникающие из-под пера строчки…
«Нынче утром приехал Мечников, — сообщал Лев Николаевич Черткову. — Я, как обычно, занимаюсь; теперь 11-й час, я с ним немного поговорил, но в кругу всех. Он мне оч[ень] симпатичен».
И через час дневниковая запись:
«Мало спал, встал рано. Приехал Мечник[ов] и корреспонденты. Мечн[иков] приятен и как будто широк. Не успел еще говорить с ним».
И это после того, как он совсем недавно дважды с карандашом прочитал его книгу и нашел ее автора самодовольным и ограниченным…
А ведь какие взгляды развивал в ней Мечников!
4
Человек — самое несчастное из всех живущих на земле существ. Потому что человек одарен сознанием.
С ранних лет научаясь обобщать и наблюдая, как рождаются, живут и умирают люди вокруг, он начинает понимать, что сам тоже обречен смерти. Жизнь его, те шесть-семь десятков лет, на которые он вправе рассчитывать (восемь-девять десятков, если уж очень повезет), оказывается, если подумать, всего лишь едва заметной кочкой на уходящей в бесконечность унылой равнине несуществования…
Если подумать… Но если бы можно было не думать!.. …Кто бы плелся с ношей, Чтоб охать и потеть под нудной жизнью, Когда бы страх чего-то после смерти — Безвестный край, откуда нет возврата Земным скитальцам, — волю не смущал, Внушая нам терпеть невзгоды наши И не спешить к другим, от нас сокрытым?О смерти думает каждый — больше или меньше, и думает со страхом… И цепляется за жизнь — если не действительную, то воображаемую. Мировые религии потому и получили большое распространение, считал Мечников, что они обещают загробную жизнь… «Утешение человечества ввиду неизбежности смерти» — такова, по мнению Мечникова, основная задача религии. Вера в бога, по его представлениям, — это своего рода защитная реакция организма на неизбежность смерти.
Но разве смерть в самом деле грозит нам «другими невзгодами»? Небытие есть ничто, никаких неприятностей причинить оно не может. Значит, причина боязни смерти не в ней самой, а в природе человека с присущим ей инстинктом самосохранения — могучим орудием эволюции, без которого ни одно животное не смогло бы выжить в борьбе за существование.
Но инстинкт самосохранения и порождает страх смерти. Инстинкт самосохранения и служит источником наших несчастий… Образуется порочный круг, из которого нет выхода.
Нет выхода?
Однажды, перечитывая библию, Мечников наткнулся на повторяющиеся рефреном слова о первых патриархах:
«И умер в старости доброй, престарелый и насыщенный жизнью…»
А что, если эти слова понимать буквально? Что, если жизнью и в самом деле можно насытиться?
Ведь инстинкты непостоянны. Инстинкт голода ослабевает по мере насыщения, и в конце концов человек может так наесться, что один вид пищи будет вызывать у него отвращение. То же относится к половому и многим другим инстинктам.
И инстинкт самосохранения тоже с годами меняется. Мечников хорошо помнил, что в молодости мало дорожил жизнью. Изучив большое количество биографических материалов о великих людях, он получил сходные результаты. И сделал вывод о подвижности во времени инстинкта самосохранения. Слабый в молодости, он усиливается с годами, в старости же должен опять ослабевать; если этого не происходит, то только потому, что век человеческий слишком короток; человек просто не успевает «насытиться жизнью».
Ребенок — едва начал себя осознавать — уже стремится поскорее вырасти, стать юношей. Точно так же юноше не терпится стать взрослым мужчиной… А взрослый человек вовсе не спешит стать стариком. Наоборот, со страхом и печалью замечает он первые морщины на лице, первую седину в волосах…
Это происходит потому, считал Мечников, что старость приходит к нам преждевременно. «Естественную» старость человек ожидал бы с таким же нетерпением, как юноша — возмужалости. И точно так же, как желанную, встретил бы старик «естественную» смерть. Надо только продлить человеческую жизнь до «естественных» пределов, человек должен прожить полный жизненный цикл, которому Илья Ильич дал название «ортобиоз».
Как этого достигнуть?
Мечников считал основной причиной преждевременного старения яды гнилостных бактерий, гнездящихся в толстой кишке (и в этом, конечно, заблуждался). Саму толстую кишку он относил к тем доставшимся нам от предков органам, которые совершенно бесполезны и могут быть удалены из организма без всякого ущерба для него (и в этом тоже заблуждался), — поэтому он приветствовал операции английского хирурга Лэна. Впрочем, на хирургическом вмешательстве он не настаивал, так как надежным средством против гнилостных бактерий считал молочнокислые продукты, особенно изготовленную по его рецепту «болгарскую простоквашу»…
Но не единственным.
Мечников выступал против всяких излишеств и крайностей.
Он указывал, что излишества в пище так же укорачивают жизнь богачей, как полуголодное существование — бедняков; что праздность так же вредна, как непосильный, изнурительный труд; что чрезмерная роскошь так же сокращает дни, как нищета и антисанитария.
В интересах сытых и богатых, проповедовал Мечников, отказаться от излишеств в пользу голодных и бедных — ведь заразные болезни, нередко переходящие в массовые эпидемии, начинаясь, как правило, там, где царит перенаселенность и грязь, не щадят потом и кварталы богачей.
Толстой взывал к врожденному нравственному чувству; он старался пробудить у людей, принадлежавших к господствующим классам, их уснувшую совесть.
Мечников не верил в возможность пробудить совесть, как не верил в то, что врожденное нравственное чувство может у большинства людей пересилить врожденный же эгоизм.
Вот, пожалуй, главное различие в их взглядах.
Но как ничтожно это различие в сравнении с тем, что их объединяло!.. Оба были за умеренную трудовую жизнь, оба призывали помогать ближнему… И если, по Мечникову, «горе» было все-таки в том, что «мы живем мало времени», то ведь причину этого «горя» он видел в том, что на языке Толстого называлось: «Мы плохо живем, живем против себя и своей совести».
…Так почему же Толстой в дважды прочитанной книге Мечникова всего этого не увидел?
5
А может быть, увидел?..
В нами уже частично использованном разговоре его с Софьей Александровной Стахович милая Софья Александровна пыталась защищать Мечникова, но Толстой сказал:
— Прочтите Достоевского «Смерть в госпитале». Почему воображают, что лучше жить сто двадцать лет, а не сто двадцать минут?
И Софья Александровна не нашлась что возразить.
Познакомившись со взглядами Мечникова по газетному интервью, она не понимала, что, с его точки зрения, разница между тем, прожить ли 120 лет или 120 минут, не только количественная.
Но поверим ли мы, что Толстой тоже этого не понимал?
Откуда же такое упорное нежелание обсуждать воззрения Мечникова по существу? Не оттого ли, что Толстой не сознавал, конечно, — не позволял себе сознавать, — но чувствовал своим чутким нравственным чувством, что стоит уступить хоть на миг, хоть на миг стать на точку зрения Мечникова (а как иначе обсуждать его взгляды всерьез?), и попадешь в тиски его логики, из которых уже не вырвешься… А если признать, что наука все-таки способна указать путь к правильной, то есть справедливой и счастливой, жизни, то зачем тогда все его искания и все его находки!..
Невольно вспоминается умное замечание Чехова о Толстом, которое записал Бунин: «Иногда он хвалит Мопассана, Куприна, Семенова, меня… Почему? Потому что он смотрит на нас, как на детей. Наши рассказы, повести и романы для него детская игра, поэтому-то он в один мешок укладывает Мопассана с Семеновым. Другое дело Шекспир: это уже взрослый, его раздражающий, ибо он пишет не по-толстовски…»
Не видел ли он в Мечникове взрослого, мыслящего «не по-толстовски»?
Но почему тогда десять минут беглой полусветской болтовни — и пожалуйста! — Мечников приятен и как будто широк?!
6
А в это время вставшая поздно Софья Андреевна спешила к возвращавшимся из деревни гостям.
Высокая, полная, еще красивая, с чем-то властным и энергичным в движениях (такой показалась она Ольге Николаевне), стала оживленно рассказывать:
— Лев Николаевич теперь в отличном периоде, бодр и спокоен… Вы, вероятно, слышали обо мне много дурного; говорят, что он — небо, а я — земля. Но так будет поневоле: надо же кому-нибудь заботиться о материальной стороне, чтобы он сам мог спокойно работать, без мысли о зарабатывании, которая неизбежно бы дурно влияла на его произведения. Ведь он пишет медленно и долго и должен иметь спокойствие духа, мочь делать это… К тому же у нас двадцать три внука! Вот мне и приходится всем заниматься самой — и хозяйством, и изданиями. Весь день только этим и поглощена. А по ночам до трех часов пишу записки «Моя жизнь», в сущности биографию Льва Николаевича…
Бедная Софья Андреевна! Ведь она искренне была убеждена, что ее заботы о материальной стороне помогают ему «иметь спокойствие духа»! И это в то время, как он изнемогал под бременем излишеств, которыми, говоря объективно, не так уж и был отягощен яснополянский быт.
Но в чем бесспорно права была Софья Андреевна — это в том, что Толстой был тогда «в отличном периоде, бодр и спокоен».
Пока она занимала гостей, он закончил свое письмо к Черткову (то, в котором упоминал о приезде Мечникова), а в этом письме есть и такие строки:
«Вы видите противоречие в том, ч[то] я вам пишу, ч[то] мне хорошо, а у ваших — говорил, ч[то] хорошо бы умереть. Не ради словца, оригинальничания говорю это: истинно хорошо мне только тогда, когда я не боюсь смерти. И как только не бояться смерти, так трудно удержаться, чтобы не желать ее».
7
Как жаль, что Илья Ильич никогда не прочтет этих строк, написанных по капризу судьбы в тот самый день, когда он был гостем в Ясной Поляне…
Задолго до этого дня один его знакомый, приехав по делам в Руан, застал город в праздничном убранстве. Оказалось, что муниципалитет чествует простую женщину, которой исполнилось сто лет. В газетах были помещены интервью со старухой, причем она говорила что-то о пресыщенности жизнью. Знакомый послал вырезки Илье Ильичу и скоро получил от него письмо. Мечников просил навестить старуху, выспросить о ее отношении к жизни и смерти и записать все это для него.
…Старуха лежала в постели и смутно сознавала, что происходит вокруг. Когда она немного пришла в себя, то сказала, что очень слаба и хотела бы умереть: жить ей надоело…
— Почему надоело? — последовал вопрос.
— А разве приятно жить, когда все тело ноет и нельзя двинуться с места?
Но внучка старухи шепнула посетителю:
— Не верьте ей. Еще хочет жить. Когда может сойти с постели, она первым делом подходит к стенному календарю, начинает считать листочки, много ли еще осталось до пасхи, когда станет тепло и можно будет выйти погреться на солнышке.
Основываясь на этом и многих других фактах (Мечников тщательно изучал долгожителей), а также на некоторых расчетах (довольно, впрочем, произвольных), Илья Ильич оценивал примерный срок «естественной» жизни в 120 лет (отсюда 120 лет и 120 минут в беседе Толстого с С. А. Стахович). Он делал, правда, осторожные оговорки, что этот срок колеблется в зависимости от индивидуальных особенностей людей и может быть в отдельных случаях ниже 100 лет, но, судя по всему, до поры до времени большого значения им не придавал.
В следующем после посещения Толстого, 1910 году, работая по обыкновению в лаборатории, Мечников допустит небольшую небрежность, и лицо его окажется забрызганным культурой брюшнотифозных бактерий. Он успеет слизнуть капли с губ, прежде чем сообразит, что произошло. Понимая, что в 65 лет перенести брюшной тиф удается не каждому, он подумает о том, что если заболеет и умрет, то ничего страшного не случится. Главное дело своей жизни он уж исполнил, и было бы даже хорошо закончить ее вот так, на боевом посту…
Но, привыкнув анализировать свои ощущения, он заметит, что все его существо сопротивляется этой мысли. Вопреки здравому смыслу ему хотелось жить! Наслаждаться существованием!..
С этого момента, однако, начнется в нем внешне невидимая, но внутренне гигантская работа привыкания к смерти.
Через два-три года он станет замечать, что уж не так его радует приход весны…
Не такое, как прежде, наслаждение доставляет работа…
Не так, как в былые годы, волнует музыка…
И мысль о смерти, о приближающемся несуществовании, не пугает, а порой даже радует; ибо кажется отвратительной другая мысль — о вечной жизни там, за гробом, в возможность которой он, слава богу, не верил.
Тогда-то, чтобы объяснить столь раннее увядание инстинкта жизни, он станет подчеркивать, что время наступления «естественной» смерти сильно колеблется, и себя отнесет к категории людей с «ускоренным ортобиозом», вспомнит, что в его роду вообще не было долгожителей и он уже достиг возраста, до которого не дожил ни его отец, ни дед, ни один из братьев (это обстоятельство он, разумеется, отнесет на счет простокваши), и еще вспомнит, что сформировался рано, прожил жизнь, полную бурь и тревог: насытился-де не оттого, что ел долго, а оттого, что ел быстро.
В предисловии ко второму изданию своей книги «Сорок лет искания рационального мировоззрения» он напишет:
«Я недавно беседовал со стариком 76 лет, который никак не может понять, чтобы когда-нибудь у него появилось чувство пресыщения жизнью, тогда как я знаю другого старика, которому еще не исполнилось 69 лет и к которому по временам уже начинает подкрадываться это чувство».
Нетрудно догадаться, кто этот «другой старик».
Предисловие датировано 6(19) февраля 1914 года; через три месяца Илье Ильичу исполнялось 69…
Повторим еще раз: как жаль, как необычайно жаль, что не знал он строк, написанных Толстым в тот самый день, когда он гостил в Ясной Поляне: «…И как только не бояться смерти, так трудно удержаться, чтобы не желать ее». Ведь это же и есть чувство пресыщения жизнью — в чистом виде!.. Какой весомый факт для обоснования его теории!
8
Лев Николаевич не высидел у себя до половины второго, в первом часу сошел на террасу к завтраку и заявил, что дал себе на сегодняшний день каникулы.
Кушанья ему подавали отдельно: овсянку, картошку, яйцо, кислое молоко, немного разбавленного водою вина.
Толстой, как отмечает Маковицкий, повел разговор осторожно, ощупью; желая развлечь гостей, повторял известные домочадцам шутки, но потом «перешел в простой, непринужденный, сердечный серьезный тон». «Говорил больше Мечников, и довольно много о себе, но без всякого самохвальства». Говорил он, разумеется, о своем образе жизни, о тем, что воду пьет только кипяченую, не ест сырых и немытых плодов, не употребляет алкоголя, даже кваса не пьет, ни в какие игры не играет.
Маковицкий набрасывает великолепный портрет Ильи Ильича: «Здоровенный моложавый старик 64 лет, среднего роста, широкоплечий, с толстой шеей, маленькими глазами в очках, лоб покатистый, но с горбинкой, рот приоткрыт и голос гортанный».
Мечников стал рассказывать о процедуре вручения Нобелевской премии, о закулисной стороне работы Нобелевского комитета, в которую случайно оказался посвящен. Объяснил, что Толстому премию не присуждают потому, что секретарю комитета не нравится его религиозное учение.
Но вот задвигались плетеные кресла, все встали из-за стола, и на веранду ворвались корреспонденты и фотографы.
Одного из репортеров, немало досаждавшего Мечникову в Москве и теперь вооружившегося для камуфляжа фотоаппаратом, Илья Ильич узнал и добродушно сказал:
— А, вы тоже здесь!
Софья Андреевна стала придирчиво выяснять, нет ли среди прибывших репортера «Нового времени», но Н. Н. Гусев подтвердил, что здесь только «свои», и она успокоилась.
Фотографы усадили Толстого и Мечникова в глубине террасы, и Лев Николаевич громко сказал:
— Мы с вами, Илья Ильич, ведь не боимся их? Верно? — И фотографам: — Стреляйте, стреляйте!..
Настроение его становилось все более приподнятым. Непринужденно державшийся, много и интересно говоривший гость ему положительно нравился. Фотографы засуетились, защелкали затворами, а потом стали просить выйти на солнечную лужайку, «на тот свет» — показал один рукой.
— На тот свет? — весело подхватил Толстой. — Очень рад!
Все рассмеялись, но была ли в его словах только шутка?[27]
Они вышли на улицу, сели рядом на скамью.
— Если бы вы знали, каким успехом во Франции пользуются ваши художественные произведения, — начал Мечников.
— О, я мало помню их.
— Но вот в «Анне Карениной»…
— Я совершенно забыл «Анну Каренину».
В первую секунду Мечников, кажется, даже не удивился. Подхватил заинтересованно:
— Почему? Память ослабела? — Он коллекционировал всякие признаки старческого увядания.
— И память ослабела, и меня не интересуют прежние произведения. Они — что паяц перед балаганом — заманивают публику; заставляют читать то, что я пишу теперь.
Но Софья Андреевна решительно не согласилась с тем, что он забыл «Анну Каренину», и Толстой, кажется, не стал возражать. От разговора о своих художественных произведениях он явно хотел уклониться.
Мечников и Ольга Николаевна стали убеждать его, что он напрасно так относится к своему художественному творчеству.
«Мы доказывали ему, — пишет Ольга Николаевна, — что все его идеи уже заложены были в его романах, что эстетическая сила их, наоборот, оказывала гораздо большее влияние, чем простая проповедь. Конечно, вряд ли что-нибудь доказали. Кажется, на него произвело впечатление только уверение, что такое искусство, как его, помогает жить, открывает чужую душу, ее легче понять и потому прощать».
Произвело впечатление? Может быть. Но он продолжал уверять, что писать в форме романа опасно, ибо большинство следит лишь за сюжетом, нравственную идею не замечает, и эффект получается обратный желаемому. Мечников возразил, что в романе имеет значение и чисто эстетическая сторона; так, ему доставило большое удовольствие описание в «Воскресенье» того, как дама доставала портмоне. Утверждать, что он забыл и «Воскресенье», Толстой не решился, но сказал, что сам этих деталей никогда бы не заметил: они нужны только для того, чтобы повествование выглядело достоверным.
К нему подбежал пудель и стал тереться о его ногу; поглаживая собаку, Лев Николаевич сказал:
— Чем ниже степень развития существа, тем оно совершеннее. Например, пудель более совершенен, чем человек. Человек же — самое несовершенное существо. Потому-то, Илья Ильич, — заключил он шутливо, — ваши микроорганизмы — наиболее совершенные существа в мире.
— Среди микроорганизмов тоже есть добрые и злые, Лев Николаевич, — в таком же шутливом тоне ответил Мечников.
Толстой предложил гостям прокатиться в соседнюю деревню Телятинки, к Чертковым. Подали лошадей. Толстой с Мечниковым сели в одну пролетку, Александра Львовна с Ольгой Николаевной — в другую; Лев Львович оседлал верховую лошадь.
Они приветливо помахали оставшимся. Толстой натянул поводья, и лошадь тронулась.
Они остались один на один…
ГЛАВА ВОСЬМАЯ Уход из университета. Теория фагоцитоза. Начало бактериологических исследований
1
Обстановка в Новороссийском университете после 1 марта 1881 года обострялась с каждым месяцем. Большинство профессоров, подчиняясь нажиму властей, стало собственными руками душить университетские свободы; меньшинство, цепляясь за еще не отмененный устав 1863 года, самоотверженно их отстаивало.
Пока Мечников болел, произошли новые выборы ректора. Оба кандидата были от противной партии, однако один из них был глуп и бездарен, другой — умен и хитер. Фамилию «глупого» мы не знаем, а умным был профессор математики С. П. Ярошенко. Тактические соображения подсказывали, что надо голосовать за глупого; своими действиями, по мнению Ильи Ильича, он мог лишь навредить делу реакции. Не имея возможности присутствовать на заседании, Мечников передал свой шар Н. А. Умову, будучи уверенным, что тот сумеет правильно им распорядиться. Но добрый, бескорыстный Умов подошел к делу так, как привык подходить всегда в подобных случаях: оба шара — свой и Мечникова — он положил более достойному, то есть Ярошенко. В результате Ярошенко получил 13 голосов, а его конкурент — 11. Мечникову стало ясно, что в университете он теперь проработает недолго…
В начале осеннего семестра декан юридического факультета профессор И. И. Патлаевский вздумал пересмотреть прошлогодние кандидатские работы и в одной из них углядел «социалистические» идеи. Было ясно, что это подкоп под руководителя работы профессора А. С. Посникова.
Студенты решили вступиться за любимого профессора. Собравшаяся в передней главного здания университета толпа, как только появился Патлаевский, освистала его. На шум прибежал инспектор и потребовал у присутствующих студенческие билеты. Студенты билетов не отдали и отказались назвать свои фамилии. Срочно собрался университетский суд и приговорил виновных к разным наказаниям — от выговоров до исключения с волчьим билетом. Дело разбиралось так поспешно, что исключили трех студентов, к беспорядкам непричастных. (В их число попал Владимир Хавкин, будущий выдающийся микробиолог, ученик И. И. Мечникова.)
Студенты устроили новую сходку.
Совет университета постановил отменить решение суда, но попечитель его утвердил, что, впрочем, не помешало ему через несколько дней вновь принять в университет всех троих, невинно исключенных. Несмотря на это, министр осудил решение совета.
Начальство подозревало в неблагонадежности не только студентов, но и некоторых профессоров.
Через два о лишним года киевский губернатор Машин, который во время описываемых событий был одесским градоначальником, сообщая министру, что «некоторые пользующиеся в Киеве всеобщим уважением профессора университета» высказывали ему «свое соболезнование и как бы удивление» в связи с избранием А. О. Ковалевского и И. И. Мечникова членами-корреспондентами Академии наук, называет их лицами «крайнего направления» и дальше пишет: «Во время бывших в конце 1881 года беспорядков между студентами Одесского университета г. Мечников принадлежал к числу тех профессоров, которые ставили местную администрацию в печальную необходимость искать корень возникновения беспорядков не в одной среде увлекающегося юношества, но и между членами профессорской корпорации».[28]
Но беспорядки надо было прекратить как можно скорее, и начальство обратилось за помощью к тем, кого считало их главными виновниками. Зная, какое влияние имеют на молодежь А. С. Посников и И. И. Мечников, попечитель пригласил обоих к себе и попросил воздействовать на студентов. Они ответили, что, если Патлаевский не будет отстранен от должности декана, студенты вряд ли их послушаются. Попечитель поспешил заверить: как только занятия возобновятся, Патлаевский уйдет.
Передав это студентам, Мечников и Посников уговорили их вернуться в аудитории. Однако Патлаевский продолжал оставаться деканом!.. При удобном случае Мечников спросил попечителя, когда же будет исполнено его обещание, но тот пожал плечами: он лицо подневольное и ничего сделать не может.
Мечникову ничего не оставалось, как положить давно заготовленное им прошение об отставке — он на всякий случай носил его в кармане — на стол ректору. О своем намерении уйти заявили еще три профессора — Посников, Преображенский и Гамбаров, — и все трое в течение года покинули университет.
Находившийся в заграничной командировке А. О. Ковалевский предпринял отчаянную попытку вернуть Мечникова. Он писал ему горячие письма, доказывал, что его уход будет ударом для университета и лишь сыграет на руку противной партии. Но Илья Ильич остался непреклонен.
Студенты понимали: истинная причина ухода любимых профессоров не в истории с Патлаевским, а в искусных маневрах ректора. И они решились на опаснейший шаг.
15 мая 1882 года С. П. Ярошенко получил письмо. Студенты писали, что предотвратить «такое большое несчастье», как уход профессоров, «составляющих гордость университета», может только отставка ректора. Студенты выражали надежду, что все «недоразумения и столкновения» происходили помимо «намеренного желания» Ярошенко и что «добровольной отставкой» он «поддержит» в них эту «желанную мысль».
Под письмом стояло 95 подписей…
19 мая Ярошенко собрал чрезвычайное заседание совета и огласил крамольное послание. Семь студентов были исключены, остальным от имени совета объявили выговор; окончательно был исключен из университета и Владимир Хавкин.
А на следующем заседании, 22 мая, огласили «Прошение профессора Ильи Мечникова»: «Не имея возможности по расстроенному здоровью продолжать службу в Новороссийском университете, честь имею покорнейше просить совет ходатайствовать об увольнении меня от нее».
Разгорелись прения.
Ф. Н. Шведов, А. А. Вериго и математик В. Н. Лигин доказывали, что «профессор Мечников по своим научным заслугам и педагогическому дару принадлежит к числу таких представителей науки, для удержания которых в своей среде университет должен употребить все находящиеся в его власти меры».
Однако восемью голосами против семи постановили: «Ходатайствовать об увольнении профессора Мечникова от службы согласно прошению…»
2
Всё!..
Ожидал ли он столь скорого и простого решения? Не таилась ли в глубине души его надежда, что придут к нему поклониться, и не раз, и не два?..
«Находящиеся в его власти меры» университет не употребил.
Что ж, тем лучше. Хватит! Пятнадцать лет отдал Илья Ильич преподавательской деятельности. С него довольно…
Три тысячи в год? Черт с ними! Его давно уже зовут в Полтаву, предлагают место земского энтомолога. Он примет это предложение. Отдохнет — и с осени за новое дело…
Так предполагал Мечников. Но земским энтомологом стать ему не пришлось. Ибо хорошо сказано: человек предполагает, а господь располагает.
Умерла мать Ольги Николаевны. На Илью Ильича и его супругу свалилось новое горе, от которого они не скоро оправились.
Но когда оправились, то сообразили, что теперь по-иному могут устроить свою жизнь, ибо они получили наследство.
Поповка и вместе с ней другое имение, Красноселка, расположенное неподалеку, в Чигиринском уезде той же Киевской губернии, перешли теперь к Белокопытовым-младшим, причем часть доходов, принадлежавшая Ольге Николаевне, вполне могла обеспечить бездетную семью Мечниковых. А если так, то побоку службу! Университетский хомут и так изрядно намял ему шею.
Тем более что на доходы можно было рассчитывать лишь при умелом ведении дел, а вести-то их, кроме Ильи Ильича, было некому. К тому же он дал слово покойному тестю взять на себя заботу о его малолетних отпрысках.
Он с жаром окунулся в хозяйские заботы с тем, чтобы деревне отдавать лишь летние месяцы, а остальные посвящать своим научным занятиям.
В деревне он любил беседовать с мужиками и бабами, входил в их нужды. Хотя Илья Ильич не имел диплома врача, но к нему обращались крестьяне со всей округи, и он, как заправский доктор, выслушивал и выстукивал, давал лекарства и всякий раз, выпроваживая пациента, не забывал напутствовать его бодрящим словом: «Пустяки, завтра встанешь», «До ста лет доживешь!..» Носил он полотняную рубаху; по утрам босой, закатав брюки, бродил с сачком по илистому берегу речки, и вокруг него роились деревенские ребятишки. Они собирали для «барина» червяков, жуков, кузнечиков; он одаривал добытчиков пятачками и конфетами.
Илья Ильич любил кататься по окрестностям, только не терпел тряски и, когда его сильно подбрасывало на колдобине, сердито толкал в спину кучера Семена Пахненко. Потом, вернувшись, чувствовал себя виноватым и совал Семену рубль, а то и трешку. Кучер знал эту слабость хозяина и норовил заработать побольше тумаков.
В деревне добродушно посмеивались над чудаковатым и незлобивым барином.[29]
Жизнь в деревне была, однако, не только идиллической.
Помещичьи земли сдавались в аренду, крестьяне, в большинстве малоземельные, полагали, что если они вытеснят арендаторов, то земля отойдет к ним.
Мечников старался всячески улаживать конфликты крестьян с арендаторами, но отношения между ними все больше обострялись, особенно в Красноселке. Однажды Мечников даже обратился к властям, дабы предотвратить назревавшее несчастье. Но власти бездействовали, так как «еще ничего не произошло». Крестьяне убили сторожа, который мешал им пасти скот на хозяйской земле. Их судили и двенадцать человек отправили на Сахалин. Повлиять на события было невозможно, и сознание собственного бессилия угнетало Мечникова. Когда вышел срок аренды, он продал часть земли крестьянам, «но это, по существу, не могло уладить общего положения, — пишет Ольга Николаевна. — Поэтому он был очень счастлив, когда в 87-м году мой брат Николай, окончив Петровско-Разумовскую сельскохозяйственную академию, взял на себя управление семейными делами».
Мечников не чувствовал, как он писал впоследствии, «ни малейшего угрызения совести от того, что большую часть жизни он жил доходом от земли, которую он не поливал „ни потом, ни кровью“». Он полагал, что научной работой окупает свое содержание. Через много лет в предисловии к первому русскому изданию «Этюдов оптимизма» он подробно разовьет мысль о том, что «доходом от земли имеют нравственное право пользоваться не только люди, идущие за плугом, выполняющие механическую работу, но и те, которые направляют мускульный труд выбором подходящих для культуры растений и животных, равно как и те, которые трудятся над устранением повреждения культивируемых организмов, те, которые ищут средств против болезней человека, домашних животных и растений, и вообще все, кто споспешествует умственному и материальному прогрессу человечества».
Но — любопытная деталь — Илья Ильич, по-видимому, не считал возможным расходовать на собственные нужды что-либо сверх жениного наследства. Получив согласно уставу выходное пособие от университета в размере годового жалованья, он построил в Поповке церковноприходскую школу (это была первая школа в уезде), а позднее, когда умерла Эмилия Львовна — самая тяжкая утрата, какую ему довелось пережить, — отказался от своей доли в Панасовке в пользу детей покойного Ивана Ильича. И даже когда ему предлагали субсидии на работы по борьбе с хлебным жуком, он неизменно отклонял их, предпочитая оставаться «независимым» исследователем.
3
Похозяйствовав в Поповке первое лето, Мечниковы со всем выводком юных Белокопытовых уехали на Средиземное море.
И вот он снова в Мессине — с грязной набережной, заваленной ящиками из-под апельсинов, с небольшим городским садом и в нем огромным деревом — он не знал его названия — с пурпурно-красными цветами, похожими на мотыльков…
За четырнадцать лет здесь ничего не изменилось. Но как изменился он сам!..
Тогда, просиживая знойные часы в тени этого дерева и глядя вокруг воспаленными глазами, он видел впереди лишь беспросветный мрак… Теперь другое… Прошло уж больше года, как вырвался он из холодных лап смерти, которой чуть было сам не отдал себя на съедение, введя в вену кровь тифозного больного, а самоощущение безмерного наслаждения жизнью не покидает его.
С некоторым для себя удивлением Илья Ильич к 38 годам обнаружил, что жить все-таки стоит! Стоит жить! Вопреки всему, даже вопреки понесенным утратам, вопреки тому, что твоя собственная жизнь — только ничтожная кочка на бесконечной унылой равнине несуществования… Природа, наделила тебя глазами, способными любоваться ширью моря под солнцем, и живописностью гор, окаймляющих берега, и цветами этого громадного дерева, летящими под напором ветра, как мотыльки летят на пламя свечи… Природа наделила тебя способностью слышать извечный рокот прибоя, и шум ветра в кроне того же громадного дерева, и смех, и пение птиц, и трогающие сердце мелодии шарманки… Тебе дана способность обонять благоухание цветов и терпкие запахи водорослей на морском берегу… Ты можешь подставлять лицо порывам соленого ветра. Ты полон сил и наделен способностью мыслить, а значит, проникая за край чувственной видимости мира, постигать гармонию (или дисгармонию — это уж как тебе угодно считать) мироздания.
Как жаль, что он только теперь осознал это, когда неумолимое время сжевало уже добрую половину отпущенных ему лет… Ну ничего, впереди их еще достаточно, чтобы насладиться счастьем быть, жить, чувствовать, мыслить…
Они сняли небольшой особняк за городом, в местечке Ринго, на самом берегу пролива; обставили дом взятой напрокат мебелью и зажили покойно и счастливо. В гостиной он водрузил микроскоп и с упоением предавался работе. Дети вместе с Ольгой Николаевной отдыхали и развлекались. На рождество в крохотном садике при доме нарядили мандариновое деревце, превратив его в елку. Эта «елка» позволяет датировать «звездный час» Мечникова Он наступил тихим вечером, через несколько дней после рождества, то есть в самом конце 1882 или в начале 1883 года.
4
Теория паренхимеллы — первичного существа, более примитивного, чем геккелевская гастрея, — страдала серьезными пробелами. В то время как исследователи продолжали открывать стадию гаструлы у все новых и новых животных, Мечников свою стадию паренхимулы нашел лишь у самых низших организмов. Более развитые как бы перешагивали через нее…
Но если так, то не сохранилось ли клеточное пищеварение у некоторых животных хотя бы в виде атавизма, спрашивал себя Мечников.
Проверить свое предположение он решил на личинках морской звезды, удобных для наблюдений своей прозрачностью. Правда, пищеварительные клетки, если бы они действительно оказались в теле личинки, должны быть тоже прозрачны — в микроскоп их не разглядишь… Но эту трудность Илья Ильич сумел обойти.
Ученый стал вводить личинкам красный порошок кармина и скоро обнаружил то, что ожидал: интересующие его клетки поглотили зернышки порошка и окрасились в красный цвет…
И вот однажды, наблюдая в микроскоп, как клетки захватывают красные зернышки, он вдруг ощутил лихорадочное волнение, так хорошо уже знакомое, столько раз испытанное за годы исследовательской работы. Он знал, что должно произойти что-то важное, очень важное; может быть, самое важное в его жизни.
Был необычайно тихий вечер, ибо Ольга Николаевна повела юных Белокопытовых в цирк, смотреть каких-то заморских обезьян.
Илья Ильич оторвал глаз от микроскопа, встал, прошелся нервным шагом по комнате, потом вышел на берег…
…Если блуждающие клетки поглощают зерна кармина, то не значит ли, что они должны противодействовать любым посторонним внедрениям в организм?! Любым — будь то инертный кармин, болезнетворные микробы или обыкновенная заноза…
Он быстро зашагал к дому.
В садике рядом с еще наряженной «елкой» росли кусты розы. Ученый сорвал несколько острых шипов и устремился к микроскопу, где под окуляром еще лежала прозрачная, как вода, с капельками окрашенных клеток личинка. Один острый шип он вонзил ей под кожу… Ночь Илья Ильич провел неспокойно.
А рано утром увидел то, что так жаждал увидеть! Острую занозу обволок сгусток окрашенных кармином красных клеток! Они даже слились в одну гигантскую клетку с множеством ядер — таково было их «стремление» поплотнее охватить занозу…
5
Классическая простота этого опыта (не обойденного ни одним из биографов Мечникова) поражает прежде всего неклассичностью идей, которые привели к нему ученого, и неклассичностью выводов, которые он из него сделал.
Ведь атавизм Мечников трактовал как некую биологическую ненужность, как груз, который организму приходится нести в расплату за высокое положение на эволюционной лестнице. На этой идее держалось все учение Ильи Ильича о дисгармониях человеческой природы, а следовательно, вся его пессимистическая философия, ибо он считал, что в процессе эволюции многие органы утрачивают свои полезные функции и становятся обузой для организма.
И вот теперь ему приходит в голову мысль о перемене функции. Его вдруг осеняет, что блуждающие клетки, утратив свое значение кормильцев организма, взяли на себя другую, и не менее важную роль: защитников от всякого рода внешних врагов — будь то заноза, болезнетворные микробы или даже вполне безобидные зернышки кармина.
То была чисто интуитивная догадка, озарение, поистине звездный час, каковой даже гению выпадает один-два раза в жизни. И если опыт с занозой его догадку как будто бы подтвердил, то «целый ряд заключений», который, по уверению Мечникова, «сам собой вытек» из этого опыта, на самом деле был тоже цепочкой интуитивных догадок.
Стоит занозить палец, и вокруг занозы собираются белые кровяные тельца — особые клетки, называемые лейкоцитами; начинается воспаление. Медики считали, что воспалительный процесс поражает стенки кровеносных сосудов — поэтому белые шарики и выходят из них. Медики даже были уверены, что микробы, проникая внутрь лейкоцитов, находят благоприятную среду и разносятся ими по всему организму.
Иными словами, считалось твердо установленным, что лейкоциты пассивны и лишь способствуют развитию патологического процесса. Мечников же наделял их активной и притом защитительной функцией. То есть он переворачивал все представления с головы на ноги.
Или с ног на голову?
В этом состояло теперь существо вопроса.
Он бросился к профессору Клейнербергу, с которым успел подружиться. Крупный зоолог, специалист, как и он сам, в области беспозвоночных, Клейнерберг имел, кроме того, медицинское образование.
Выслушав коллегу, он пришел в сильное возбуждение.
— Das ist wahrer Huppokratische Gedanke![30] — воскликнул он.
А весной в Мессине, направляясь в Египет, остановился Рудольф Вирхов — признанный патриарх медиков всего мира. Не было болезни, в изучение которой немецкий ученый не внес бы значительный вклад. Еще в 40-е годы, когда в науке едва утвердилась мысль о том, что основным «кирпичиком» всякого живого организма является клетка, Вирхов выдвинул теорию, согласно которой именно в клетке следует искать причину любого патологического процесса. Тем самым он вооружил медицину микроскопом, поставил ее на почву строгих экспериментальных фактов. Вирхов избегал односторонности и предвзятости, и это качество, помноженное на авторитет, делало его суждения особенно весомыми.
Правда, вирховская теория не избегла участи всех универсальных теорий, являвшихся слишком рано. С развитием бактериологии стало ясно, что, первопричина, по крайней мере, части болезней не в клетках самого организма, а во вторгающихся извне микробах. Но Мечникову казалось, что клеточное пищеварение, борьба клеток (именно клеток!) с болезнетворным началом примиряет вирховскую теорию с данными бактериологии. Появившийся в Мессине Вирхов был для него сущей находкой.
«Патриарх» оказался здоровым живым стариком. Когда Мечников изложил ему свою идею, в его быстрых маленьких глазках вспыхнул неподдельный интерес. Вирхов захотел самолично осмотреть препараты и на следующее утро приехал в Ринго. Можно понять, с каким внутренним трепетом Илья Ильич следил за выражением лица «патриарха», когда тот, прикрыв ладонью топорщущуюся бороду, склонился над микроскопом…
«Отзыв его был крайне благоприятным», — с удовольствием вспоминал впоследствии Мечников. Однако его слова не следует истолковывать таким образом, будто Вирхов безоговорочно принял его теорию.
Клетки — пожиратели микробов? Воспаление — защитная реакция организма? Быть может, быть может… Однако не слишком ли спешит уважаемый коллега с выводами? Пока что он наблюдал борьбу клеток с кармином и занозой и всего лишь у морских звезд… Ах да, еще у других низших животных. Но только низших… Надо быть осторожнее. Нужны опыты. Много опытов. Пока пусть коллега пришлет статью в его журнал — он охотно ее напечатает.
С наступлением летнего зноя Мечниковы с юными Белокопытовыми отправились на родину…
Ехали не спеша. В Риве, маленьком, раскинувшемся среди виноградников и маслиновых рощ городке на берегу Гардского озера, остановились на две недели. Пока Ольга Николаевна водила детей купаться или обследовать окрестности, Илья Ильич писал статью — первую статью о воспалении у беспозвоночных.
Вторую остановку они сделали в Вене. Мечников нанес визит своему старому приятелю Клаусу — тому самому, что некогда настропалил его «разоблачить» Лейкарта. В его лаборатории работали два молодых зоолога Гроббен и Гайдер. Илья Ильич выложил всем троим свои новые идеи и попросил подсказать, каким термином, используя древнегреческий, обозначить «пожирающие клетки» (сам он в древнегреческом был нетверд).
Так родились фагоциты.
Так родился фагоцитоз.
…Несмотря на все свое увлечение, Мечников вряд ли мог тогда представить, сколь славная и непростая жизнь предстоит этим созданным им понятиям…
6
Август 1883 года выдался в Одессе чудесный. «Светлые солнечные дни ни разу не омрачались туманом и ненастьем», — свидетельствовал очевидец. Это были прекрасные дни: в Одессе проходил очередной (уже седьмой) съезд российских естествоиспытателей и врачей.
Несмотря на каникулярное время, съезд собрал многих виднейших ученых; на нем были даже зарубежные гости: адъюнкт из Праги и профессор из Лондона. Из Харькова приехал профессор химии Николай Николаевич Бекетов, бывший профессором еще в те годы, когда Мечников в том же университете сидел на студенческой скамье. Из Петербурга прибыл его брат Андрей Николаевич Бекетов, некогда обласкавший Илью Ильича, а потом рассорившийся с ним (теперь, по-видимому, их отношения восстановились). Были академик В. Ф. Овсянников, столь много помогший Мечникову при его первых шагах в науке, академик А. М. Бутлеров, профессор ботаники И. П. Бородин, Н. В. Склифосовский. И конечно, одесситы: А. О. Ковалевский, А. А. Вериго, Н. А. Умов, В. В. Заленский (Владимир Владимирович Заленский, сделавший в последние годы ряд выдающихся открытий, занял место Мечникова в Новороссийском университете).
И вот столь высокий синклит единодушно избирает Илью Ильича председателем съезда.
Почему такая честь?
«На съезде уже было известно, — объяснял Я. Ю. Бардах, — что И[лья] И[льич] стал тяготеть к медицине, что он стал работать над сущностью основного патологического процесса, над сущностью воспаления, — и вот мы, врачебная часть съезда (Бардах после окончания естественного отделения Новороссийского университета успел окончить в Петербурге Медико-хирургическую академию и стать врачом. — С. Р.), указывали, что выбором И[льи] Ильича] мы как бы знаменуем союз и тесное сотрудничество между биологией и нарождающейся новой медициной».
18 августа в университетскую церковь на торжественный молебен по случаю открытия съезда прибыл командующий военным округом генерал-лейтенант Петров. И еще — градоначальник Косаговский. И городской голова Маразли. И одесский комендант генерал-лейтенант Челищев. И окружной военно-медицинский инспектор тайный советник Приселков. И конечно, попечитель учебного округа Лавровский… Провозгласив многая лета царствующему дому, участники съезда перешли в актовую залу университета. Лавровский, сказав приветственное слово, объявил съезд открытым…
Мечников, занявший место в центре накрытого сукном стола президиума, встал, оглядел так хорошо знакомый ему зал со сводчатыми окнами и забитой до отказа галеркой и начал вступительную речь.
Он поблагодарил, как водится, за оказанную ему «не вполне заслуженную» честь. Он поблагодарил, как водится, всех, кто содействовал съезду. Он поблагодарил, как водится, «иногородних членов, которые не пожалели времени, чтобы побывать на нашем съезде». И заговорил… «лишь исключительно от своего имени».
В программе съезда значились в основном сугубо теоретические доклады и сообщения; даже наиболее важные направления прикладной науки не были никак представлены. И вот Мечников заявил, что не видит в этом недостатка, а, наоборот, считает достоинством съезда, ибо не хлебом единым жив человек; не сиюминутная польза составляет задачу науки. У нее другое, более высокое назначение — «ответить на основные вопросы, тревожащие человеческий ум», то есть вопросы «нравственной, а следовательно, социальной жизни».
«Некоторые, быть может, подумают, — продолжал исключительно от своего имени председатель съезда, — что, говоря таким образом, я имею возможность утверждать, будто теория уже настолько созрела, <…> что она может дать всеобъемлющее готовое миросозерцание». Нет, несмотря на всю свою пылкость, Мечников призывает не питать на этот счет иллюзий. Наука еще далека от своей цели, и скороспелые теории могут лишь увести ее в сторону. Естествоиспытатели поэтому должны «укрепиться в своем скептицизме».
Вот к какому безрадостному результату пришел он за долгие годы тщетных поисков философского камня!
…Но почему так тверд его голос, почему он сам так бодр и оживлен?.. Да потому, что многолетние поиски убедили его, что «есть времена, когда скрывать подобную точку зрения положительно не следует; это именно времена фанатической убежденности в истинности принципов, разделяемых известными инстанциями. Скептицизм в таких случаях умеряет самоуверенность, вносит осторожность суждений и действий и, наконец, ведет к терпимости».
«Никто из нас, ни софисты, ни поэты, ни ораторы, ни артисты, ни я, не знает, что такое истина, доброе и прекрасное. Но между нами то различие, что, хотя они все ничего этого не знают, тем не менее уверены, что знают „нечто“, между тем как я, если и не знаю, то, по крайней мере, нимало не сомневаюсь в том!»
Приведя эти слова Сократа, председатель съезда говорит, что в них сформулирована позиция, которую должен занять современный ученый. И дальше с особым нажимом, отчеканивая каждое слово:
«Теоретическая разработка вопросов естествознания (в самом широком смысле) одна только может дать правильный метод к познанию истины и вести к установлению законченного миросозерцания или, по крайней мере, по возможности приблизить к нему».
Председатель съезда верит в науку.
Он убежден, что торжество разума «уже не за горами» и что «в ожидании лучшего будущего обязанностью своей мы считаем отстаивать интересы теоретического знания у нас, несмотря на все препятствия, с какой бы стороны они к нам ни приходили».
О, как он был еще наивен — теперь уже 38-летний скептик и специалист по истории развития, а также создатель только что родившейся фагоцитарной теории!.. Впрочем, это не его только наивность; это наивность его времени, благополучного девятнадцатого века, когда верили в абсолютную причинную связь явлений, когда были убеждены, что наука может все. Но то, что нам сейчас кажется наивным, для тех, кто слушал Мечникова, прозвучало как откровение. «Чтобы понять необыкновенное действие, оказанное этим небольшим словом на всех участников съезда, — вспоминал Бардах, — нужно было быть в этом общем собрании, слышать глубоко проникновенные слова И[льи] И[льича], слышать его голос с его звенящим тембром, нужно было видеть его вдохновенное лицо. Это не была речь, а страстная, убежденная исповедь веры, исповедь искателя истины, со всей страстностью своей натуры стремящегося к разрешению вечных проблем жизни».
Да, удивительную речь произнес «от своего имени» председатель седьмого съезда российских естествоиспытателей и врачей, посягавший на решение «вечных проблем»! В ней две стихии, два мировоззрения. В ней лед и пламень; в ней, если хотите, глубоко укоренившиеся бациллы его прежнего пессимизма и уже вступившие в схватку с ними фагоцитарные клетки нового, еще философски не осмысленного взгляда на человеческое бытие.
…Сделанный им на том же съезде доклад «О целебных силах организма» уже позволяет предвидеть, чем окончится эта борьба.
Дисгармонии человеческой природы? Что ж, ничто не совершенно в этом мире. Но справедливо ли ополчаться на природу, когда она создала механизм самозащиты, благодаря которому и существует на земле все разнообразие форм жизни!
«Натуры — болезней врачи. Природа сама отыскивает пути без размышления; она достигает нужного без указания и учения», — цитирует Мечников Гиппократа и напоминает, что основатель медицинской науки требовал от врачей помогать природе или хотя бы не вредить ей. Илья Ильич напоминает, что таких же взглядов придерживался во II веке римлянин Гален, что их исповедовал в XVI веке Парацельс, в XVII — Сиденгам, в XVIII — Штале и Броун…
В успехах бактериологии Мечников видит новое доказательство этой мысли. Ведь установлено, что каждый день и час огромное число болезнетворных бактерий вместе с водой и пищей проникает в наш организм. А заболеваем мы крайне редко. Просто невероятно редко! И все оттого, что в организме нашем есть эти самые целебные силы, противодействующие микробам.
Вот о чем говорил недавний пессимист в своем докладе!.. И еще, конечно, о фагоцитах, которые и являют собой, по его мнению, эти целебные силы. О селезенке как «центральном органе целебной пищеварительной системы» (впоследствии это предположение им же будет подтверждено). О своей надежде дать объяснение природе иммунитета, природе предохранительного действия вакцин…
Доклад Мечникова стал главной сенсацией съезда.
Размышляя о значении съездов вообще и Одесского в особенности, известный в то время врач и публицист В. О. Португалов писал:
«Никто так не способен впасть в односторонность, в рутину, как человек науки, как человек мысли. Это доказывается тем раздражением и той обидчивостью, которые вызывает малейшее возражение. Мы говорим и толкуем о терпимости, но среди нас, интеллигенции, меньше всего, так сказать, интеллигентной терпимости. В этом отношении съезд имеет громадное значение: здесь развенчиваются авторитеты отживших теорий и озаряются более яркими лучами новые, освежающие учения. Здесь сталкиваются старые, выцветшие, морщинистые и лысые мировоззрения с нарождающимися, пробивающимися на свет божий новыми взглядами. Здесь мы иногда узнаем даже новые научные открытия. Таковым нельзя не признать сообщение, сделанное профессором Мечниковым».
Впрочем, Португалов осторожен. Он воздерживается от окончательного суждения до тех пор, когда Мечников «сделает известным свое открытие путем печати и когда оно будет проверено другими компетентными учеными». Он словно предвидит, что «компетентные ученые» восстанут против фагоцитарной теории и борьба за нее затянется на десятилетия.
Но другой участник съезда, академик Овсянников, не захочет ждать так долго. Он будет утверждать, что «своеобразный и новый взгляд на воспалительные процессы, опирающийся, однако, на целый ряд точных фактических данных, а также воззрение на роль фагоцитов при разрушительных эпидемических болезнях произвели глубокое впечатление на всех присутствующих, и после многих прений и разъяснений собрание приветствовало сообщение Мечникова, как новую эру в деле исследования патологических процессов».
Новая эра! Овсянников напишет это, представляя доктора зоологии И. И. Мечникова в члены-корреспонденты Академии наук, и вместе с ним представление подпишут академики Л. И. Шренк, А. А. Штраух, К. И. Максимович и А. С. Фаминцин. (Его изберут тогда же, осенью 1883 года.)
Между тем «точные фактические данные», которыми располагал Мечников, касались лишь медуз да морских звезд, инертных зерен кармина и занозы. В то, что организм человека борется с болезнетворными микробами точно таким же образом, — в это надо было просто поверить.
Ну конечно, он руководствовался аналогиями. Но аналогии хороши лишь тогда, когда доказаны. Провозгласившим «новую эру» докладам председатель съезда входил, следовательно, в отчаянное противоречие с тем, что сам же требовал от коллег во вступительном слове.
Так уж он был устроен, неустрашимый Илья Ильич. Он мыслил аналогиями. Он смело выдвигал рискованные гипотезы.
Но теперь-то ему понадобились факты, срочно понадобились факты. И на первый из них Мечников наткнулся совершенно случайно, как часто и бывает в подобных случаях.
7
Однажды в гостях у Ковалевского он подошел к аквариуму, где обитали всякие твари, и залюбовался шмыгавшими по поверхности воды маленькими ракообразными — дафниями (водяными блохами). Он заметил, что тельца некоторых из них не прозрачны, а словно бы чем-то замутнены.
Одна из «ненормальных» дафний была тут же отправлена под микроскоп, и Мечников увидел, что тело ее пронизано нитями дрожжевого грибка… Это была удача!
Дальше уже не представляло труда установить, что споры грибка попадают вместе с пищей в кишечный канал дафнии; там растворяется их оболочка; спора приобретает форму длинной тонкой иглы и нередко, как бы «пробуравив» стенку кишечника, проникает в полость тела. Тут-то и начиналось самое интересное…
Вокруг «иглы» собирались белые кровяные тельца; они окружали ее и передвигались вместе с нею…
Если спор оказывалось много, кровяные тельца не успевали с ними справиться; споры прорастали, образуя разветвленные конидии, дафния мутнела и на шестнадцатый день погибала… Если же спор было небольшое количество, то, окруженные клетками, они разбухали, темнели, края их становились зазубренными, и в конце концов они распадались. Фагоциты побеждали! Нагляднее всего картина вырисовывалась тогда, когда «игла» как бы застревала в стенке кишечника: часть ее — в полости тела — разрушалась фагоцитами, а другая часть — внутри кишечника — оставалась нетронутой…
Прекрасное открытие! Ольга Николаевна пишет даже, будто до исследования грибковой болезни дафний фагоцитарное учение было гипотезой, а после этой работы стало теорией.
Впрочем, она явно торопит события. Ибо предстояла еще упорнейшая борьба. Недаром через много лет, когда все уже будет закончено, видный английский ученый Рей Ланкастер назовет ее самой романтической главой в истории медицины.
Что доказал Мечников своим исследованием? То, что при данной грибковой болезни данного ракообразного выздоровление или смерть зависит от того, справятся ли клетки крови со спорами грибка или нет. Много ли это? Очень много. Но как мало в сравнении с тем, что ему еще предстояло доказать!..
Статью Мечников послал в вирховский Архив, и благожелательный «патриарх» не замедлил ее напечатать. Но… работа эта не обратила на себя никакого внимания.
То есть не то чтобы совсем никакого.
Первые же выступления Мечникова в Обществе одесских врачей вызвали самые оживленные прения. Как отметил тогдашний президент общества доцент Н. О. Бернштейн, «воззрения г. Мечникова вводят новую жизнь в некоторые патологические процессы. Вот почему мы с таким удовольствием выслушали сообщение г. Мечникова. Оно удовлетворило общей, может быть, и бессознательной потребности в объяснении явлений, известных нам с фактической стороны, но не со стороны их внутреннего смысла». При всем этом врачи вовсе не спешили согласиться с Мечниковым. Одни допускали, что фагоциты способны захватывать бактерии, но сомневались в том, что они их переваривают, и даже высказывали мысль, что фагоциты служат разносчиками бактерий; другие утверждали, что фагоциты могут захватывать только мертвых бактерий; третьи указывали, что при ряде заболеваний вообще не наблюдается фагоцитоза; четвертые отмечали, что некоторые особенности воспалительной реакции трудно согласовать с учением о фагоцитах…
Военный врач К. К. Искерский говорил, что многие болезни разрешаются кризисами, ведущими к сильному ослаблению организма; при этом должны ослабевать и фагоциты и вслед за кризисом наступать смерть. На практике же чаще бывает наоборот: больной выздоравливает. Искерский допускал резкие выпады против Мечникова, обвинял его в незнании основ медицинской науки и всячески давал понять, что вторжение зоолога в чужую область неуместно. Илья Ильич горячился, нервничал; раздражался, когда от него требовали разъяснения деталей, в которые он еще не вникал. Он видел, что медикам непонятен подход биолога-эволюциониста, охватывающего явление в целом, в разрезе миллионолетней эволюции.
Возражения против фагоцитарной теории появились и в печати. С ними выступили зоолог А. Ф. Брандт, врачи С. М. Шор и Н. Н. Васильев. Все они, однако, попросту не поняли смысла фагоцитарного учения.
А зарубежные медики молчали…
Илья Ильич возмущался, но, подавляя приступы негодования и стараясь более хладнокровно смотреть на вещи, он не мог не сознавать, что в их молчании есть свой резон. Какое им, в конце концов, дело до водяных блох, если к тому же о них пишет человек, в медицинском мире неизвестный, сделавший что-то там, кажется, очень важное в эмбриологии низших животных.
Чтобы расшевелить зарубежных медиков, надо было обнаружить фагоцитоз на близких им объектах. Что ж, он нанесет новый удар. Он покажет им клеточное пищеварение у обычных лабораторных животных, и не на занозе, а на инфекционной болезни. Хотя бы на сибирской язве, которая у всех на устах с тех пор, как Пастер продемонстрировал чудодейственные свойства своей вакцины…
8
Это было тремя годами раньше, когда Илья Ильич, оправляясь от привитого себе возвратного тифа, впервые в полной мере ощутил радость обычного человеческого существования.
5 мая 1881 года на ферму Пулье-ле-Фор, что недалеко от французского города Мелена, с утра стекались агрономы, врачи, фармацевты, ветеринары. Они собрались на единственный в своем роде спектакль и заранее потешались, предвкушая забавное зрелище.
Выхода действующих лиц ждали с нетерпением.
И вот они появились.
Профессор Пастер, крепкий 50-летний старик с седеющей бородой, в черной ермолке. Он заметно прихрамывал (следствие разбившего его много лет назад паралича), но был оживлен и решителен.
Эмиль Ру — худощавый, нервный, с маленькой головкой и удлиняющей худое лицо небольшой черной бородкой.
Шамберлан — высокий, русый, светлоглазый.
И совсем молодой Тюлье (через год он в Египте на руках у Ру умрет от холеры, которую они оба будут исследовать).
Все взоры устремились на них.
Помощники Пастера вывели из хлева и отвели под высокий навес большую партию животных: 48 баранов, двух коз, девять коров и одного быка — и разделили их на две группы. Пастер взял шприц и половине баранов, одной козе, пяти коровам и быку под пристальными взглядами публики стал вводить по пять капель жидкости, которую он называл первой вакциной. Помощники тут же метили подвергнутых прививкам животных.
Потом в большой зале фермы Пастер сделал доклад…
Второе действие состоялось 17 мая.
Оно точь-в-точь напоминало первое…
Только вводимую в тот день жидкость Пас rep называл второй вакциной…
Третье действие — 31 мая.
На этот раз Пастер вводил не вакцину, а ядовитую культуру микробов сибирской язвы. И вводил не половине животных, а всем…
Соль спектакля состояла в том, что он заранее заявил: все вакцинированные бараны останутся живы, а остальные — подохнут! Сбудется ли это предсказание?
Третье действие было решающим, и публика не хотела, чтобы ее провели. Ни в коем случае нельзя было дать Пастеру смошенничать! Один ветеринар бесцеремонно вмешался в действие: взял сосуд с культурой и хорошенько встряхнул. (Давний недруг Пастера профессор Колен предупредил ветеринара, что бульон с культурой неоднороден: бактерии оседают, и верхний слой жидкости их не содержит.) Еще он потребовал, чтобы доза вводимого яда была утроена: мало ли что… Другие — их на мякине не проведешь! — захотели, чтобы прививки делались поочередно: вакцинированному животному, затем контрольному и дальше в таком же порядке.
Пастер принял все условия…
А утро 3 июня стало утром его триумфа.
Ибо 18 овец погибло, а остальные были при смерти. Из контрольных. Вакцинированные остались живы все. Об этом он узнал из телеграммы, которая заканчивалась словами: «Поразительный успех!»
Успех был поразительный не только потому, что с этого дня появилось средство против массового падежа скота. Работы Пастера открывали дорогу совершенно новому методу предохранения от болезней — пригодному и для животных, и для людей. Клин надо вышибать клином! Ведь то, что Пастер называл вакциной, было не чем иным, как культурой тех же самых бацилл сибирской язвы, только ослабленных!..
9
Первые опыты — Мечников их производил в своей маленькой домашней лаборатории — озадачивали.
Заразив кроликов и морских свинок сибирской язвой, он находил в их крови множество бактерий, но внутри лейкоцитов их почти не было… Кролики умирали; Илья Ильич вскрывал трупы, но и в селезенке, содержащей множество лейкоцитов, бактерии лежали свободно и лишь отдельные из них оказывались внутри клеток.
Ну хорошо, а как белые кровяные тельца будут реагировать на ослабленных бацилл?
Но, прививая вакцину, Мечников вообще не находил бактерий в крови животных. Может быть, кровоток уносит их в легкие и селезенку?.. Вскрытия, однако, надежных результатов не давали: бактерии исчезали слишком быстро.
Надо поставить опыт так, чтобы бактерии поступали в организм медленным, непрерывным потоком… Как это сделать?
Мечников вколол стеклянную трубочку с вакциной в мякоть уха кролика и там ее разломал, чтобы бактерии могли выходить из трубочки…
На следующее утро в месте прививки ученый заметил воспалительную реакцию. Поместив пробу под микроскоп, он увидел скопления гнойных клеток, то есть лейкоцитов, причем многие из них содержали бактерий.
Все было так, как он предполагал. Фагоциты, неспособные поглотить обычных бактерий сибирской язвы, захватывали ослабленных.
Чтобы не оставалось никаких сомнений, Мечников стал вкалывать в одно ухо кролика (или свинки) трубочку с вакциной, а в другое — с сильной культурой. На другой день уже было заметно различие в реакциях. При уколе иглой около трубочки с неослабленными микробами появлялась капля крови, в которой легко обнаруживались свободные бактерии. Такой же укол около трубочки с вакциной приводил к выделению гноя, причем почти все бактерии оказывались внутри лейкоцитов.
Теперь оставалось выяснить главное. Не объясняется ли предохранительное действие вакцины тем, что, «натренировавшись» на поедании ослабленных микробов, фагоциты приобретают способность справляться и с сильными?
Мечников ввел двум кроликам и двум морским свинкам слабую (двенадцатидневную) вакцину.[31] Все животные легко перенесли заражение.
После этого он ввел им более сильную (шестидневную) вакцину. Оба кролика и одна свинка справились и с нею, но вторая свинка умерла от сибирской язвы… В начале болезни большинство бацилл у нее было захвачено фагоцитами, но часть их оставалась свободной; от пробы к пробе число свободных бацилл увеличивалось, и животное погибло.
Оставшейся свинке и обоим кроликам ученый ввел неослабленную культуру. Свинки и один из кроликов вскоре погибли, причем через 16 часов после заражения Мечников обнаружил в крови кролика большое число свободных бактерий, а рядом с ними — свободных лейкоцитов. Он уже знал, что участь животного предрешена.
Зато у последнего кролика картина была совершенно иной.
Первая проба показала, что большинство бактерий поглощено фагоцитами, а при второй пробе свободных бактерий не оказалось вовсе. Стало ясно: кролик с болезнью справился!
К несчастью, он тоже погиб: беря у него очередную пробу, служитель слишком сильно сдавил ему шею и придушил. Но вскрытие показало отсутствие у кролика сибирской язвы.
Все подтвердилось! Все!..
Однако ликовать было еще рано. Два кролика и две свинки — как это мало, чтобы обосновывать далеко идущие выводы!
А что прикажете делать?
Запас лабораторных животных у Мечникова иссяк. Да их и негде было держать в необходимом количестве.
Нужны были опыты иного масштаба; требовались помещение, оборудование, сотрудники. Иными словами, нужны были деньги, может быть, и не очень большие, но на скромные доходы с Поповки тут было не развернуться. «Положение независимого исследователя» просто-напросто оказывалось Илье Ильичу не по карману.
Итак, опять поступать на службу? Но куда? Вернуться в университет? Ну нет!.. Да и не подходит университетская кафедра для задуманных им исследований. Тут нужно особое учреждение…
Но таковых в России нет. Их, собственно, нет нигде в мире. Даже в Париже, у Пастера, лаборатория слишком мала и бедна.
Мечников подробно описал свои опыты, призвав других ученых повторить их. Однако не обольщался; понимал: пока солнце взойдет, роса очи выест… Впору было вновь впасть в беспросветный пессимизм.
К тому же обнаружилось, что у Ольги Николаевны и ее старшей сестры не в порядке легкие — их нужно срочно везти за границу. Можно представить себе, как взволновало Илью Ильича это известие, как всколыхнуло в душе притуплённые временем воспоминания…
10
В Италию они ехать не могли — там свирепствовала холера. Они отправились в Испанию, перебирались с места на место, ища такие условия, где необходимый Ольге и ее сестре климат сочетался бы с обилием живности для его работы. (Перед тем как навсегда проститься со своей прежней научной специальностью, Илья Ильич хотел завершить исследования медуз; над монографией о них он работал уже несколько лет.) Мечниковы добрались до Гибралтара, переправились на африканский берег и остановились в Танжере. Но и здесь живности не оказалось…
Ольга Николаевна подробно описывает их путешествие, но мы не последуем за нею. Раз уж так получилось, что Илья Ильич остался без привычных занятий, то пусть отдыхает спокойно. Надо же ему отдохнуть!..
…Когда они вернулись, ровно на одну зиму укоротился оставшийся ему путь. Он приехал в Одессу аккурат к своему 40-летию, то есть весной 1885 года.
Экватор жизни был уже пройден.
Но недаром говорят, что общение с юношеством молодит и стариков. Правда, с тех пор, как Илья Ильич оставил университет, молодых людей вокруг него поубавилось; но раннюю юность переживала наука, к деятелям которой он теперь себя причислял. В бактериологии происходило примерно то же, что двадцать лет назад — в сравнительной эмбриологии, когда Мечников энергично развивал ее наперегонки с Александром Ковалевским…
Теперь сравнительная эмбриология приобрела все признаки возмужалости. Вместо коротких статеек, писавшихся часто наспех, прямо у микроскопа, стали появляться объемистые труды — в тяжелых, тисненных серебром переплетах, снабженные множеством тщательно выполненных рисунков. Вот и Мечников писал монографию о медузах. Но таких неожиданностей, каким было, к примеру, стоившее ему столько крови открытие личиночного размножения нематод, теперь уж нельзя было встретить в сравнительной эмбриологии. О да, она продолжала обогащаться важнейшими фактами. Но важнейшими для нее самой… Она уже не сулила переворотов, не ломала привычных представлений, не заставляла ссориться с ближайшим другом из-за особенностей кишечного канала ланцетника или нервной системы асцидий!.. Как спокойно все стало в сравнительной эмбриологии… Как давно они с Ковалевским ни о чем не спорили… Даже нападать на Геккеля у Ильи Ильича теперь не было охоты — в сущности, ведь они во многом были единомышленниками.
…Есть глубокая закономерность в том, что Мечников оставил сравнительную эмбриологию. Его звали иные дали. Покрывать крыши в зданиях истины было не в его вкусе.
Он любил закладывать фундаменты.
Хотя мир микроорганизмов был известен уже давно, хотя Пастер еще в 60-е годы связал с их жизнедеятельностью бродильные процессы, медицинская бактериология была еще очень юна. Десяти лет не прошло с того дня, как Роберт Кох точными опытами доказал, что первопричиной сибирской язвы является особый микроб, неизменно присутствующий в крови больных или умерших животных. Вслед за тем Кох и его ученики открыли возбудителей нагноения ран, заражения крови, туберкулеза, холеры, дифтерии, брюшного тифа, рожи…
Химик по специальности, Пастер оставил брожение и, пригласив к себе в помощники нескольких молодых врачей, тоже взялся за инфекционные болезни. Вместе с учениками Пастер обнаружил микробов краснухи свиней, куриной холеры, родильной горячки; установил, что ослабленные бактерии предохраняют от болезни; создал вакцину против куриной холеры и сибирской язвы; принялся за бешенство.
Каждый год, а порой и месяц приводил к новым открытиям, и вместе с ними мысль о невидимых врагах человека становилась все более привычной.
С этой точки зрения зима, проведенная Мечниковым на африканском берегу, и следующее лето, отданное по обыкновению Поповке, не пропали для него даром. В сентябре 1885 года он заявил на заседании Одесской энтомологической комиссии, членом которой был с тех пор, как занялся хлебным жуком, что охотно взял бы на себя исследование чумы рогатого скота. Болезнь за короткий срок валила тысячные стада; она свирепствовала в Сибири, Поволжье, южных губерниях. В Одессе, правда, ее не было, но в любой день она могла быть занесена. И как раз незадолго перед тем несколько исследователей заявили об открытии возбудителя этой болезни. Данные противоречили друг другу, и вот Мечников готов взяться за их проверку.
Ему выделили сарай на ферме общества сельского хозяйства для содержания животных, а две губернские управы — Таврическая и Бессарабская — ассигновали по тысяче рублей.
Мечников смог командировать двух врачей — Кранцфельда и Фишлеса в охваченные эпизоотией районы за материалом.
Так, совсем незаметно, Илья Ильич включился в «охоту за микробами».
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ Одесская бактериологическая станция
1
Утром 6 июля в лаборатории Пастера появилась взволнованная женщина. За руку она держала девятилетнего сына.
Два дня назад Жозефа искусала собака, которую признали бешеной. Доктор прижег мальчику раны карболовой кислотой, но обнадеживать несчастную мать не стал. Он посоветовал отвезти Жозефа в Париж, сказал, что там есть человек, единственный во всем свете, который может спасти ребенка, хотя он и не врач.
..Уже более пяти лет Пастер занимался бешенством, но, выделить возбудителя болезни так и не смог. Путь, которым он шел, создавая вакцину против сибирской язвы, здесь не годился. Долгими опытами он установил, что таинственный возбудитель гнездится в продолговатом мозге. С помощью Эмиля Ру Пастер разработал методику заражения собак. И кроликов. После этого уже нетрудно было культивировать таинственных возбудителей непосредственно на животных: следовало лишь своевременно прививать вытяжки из продолговатого мозга взбесившихся кроликов здоровым. Но как приготовить вакцину, как получить ослабленные культуры невидимых возбудителей? Пастер решил и эту задачу. Оказалось, что если мозг бешеного кролика подвергнуть высушиванию при определенной температуре, то вирус ослабляется, причем степень ослабления пропорциональна времени высушивания.
Пастер преодолевал одну трудность за другой и наконец пригласил комиссию, которая работала полгода и подтвердила, что если собаке ввести несколько капель суспензии, приготовленной из вытяжек кроличьего мозга, подвергнутого высушиванию в течение четырнадцати дней,[32] через сутки ей же ввести тринадцатидневную суспензию и так постепенно увеличивать вирулентность вакцины, то прививки эти сами по себе для животного безвредны и в то же время предохраняют его от последующего заражения бешенством. И самое главнее: даже если собака была искусана до начала прививок, но лечение началось достаточно рано, то она тоже останется здоровой. Собака. Но собака — не человек!
Относительно человека еще все оставалось неясным. Ни дозы прививок, ни их интенсивность…
Но медлить было нельзя: с каждым днем опасность лишь увеличивалась. Тем более что случай серьезный: у Жозефа Пастер насчитал четырнадцать ран.
Первым, с кем он посоветовался, был Вюльпиан. Член комиссии, проверявшей работы по бешенству, он досконально знал все проблемы.
Вюльпиан сказал, что мальчика надо попытаться спасти.
Его поддержал Транше — единственный практический врач в лаборатории Пастера.
Но самые близкие, самые преданные помощники — Ру и Шамберлан — восстали против прививок человеку.
В случае неудачи, говорили они, метод будет настолько скомпрометирован, что применение его станет невозможным; если же для мальчика все кончится хорошо, то в лабораторию хлынут пострадавшие, отказать им будет уже нельзя, меж тем лаборатория не готова к их приему.
Пастер понимал всю серьезность этих возражений. Но он решился. В тот же день Транше сделал Жозефу Мейстеру первую инъекцию…
Вторым был четырнадцатилетний Жюпиль. Вместе с пятью другими мальчиками он пас на лугу стадо, когда увидел на дороге бегущую собаку: изо рта ее клочьями свисала пена. С криками «Сумасшедшая, сумасшедшая!» ребята бросились наутек, а Жюпиль, спасая товарищей, вступил с собакой в единоборство. Ему удалось повалить ее, перетянуть хлыстом пасть и задушить, но руки его были покусаны. Как отказать такому храбрецу!
Вслед за Жюпилем в лабораторию Пастера стали стекаться пострадавшие со всей Франции. Потом прибыли четыре мальчика из Нью-Йорка… Потом из других стран.
Появились пациенты и из России.
2
А вскоре некоему бессарабскому помещику М. В. Строеско пришла в голову фантазия пожертвовать тысячу рублей на поездку русского врача в Париж для изучения методики прививок против бешенства.
Строеско был человеком скромным; он пожелал остаться неизвестным, и в Общество одесских врачей с просьбой избрать подходящего кандидата от имени «жертвователя» обратился доктор Духновский.
Председатель общества Н. А. Строганов зачитал письмо Духновского, и врач был избран, а врачебный инспектор Л. А. Маровский еще раньше вошел в городскую думу с предложением учредить в Одессе бактериологическую станцию…
Все это — доподлинно известные факты; но при знакомстве с ними не покидает ощущение какой-то таинственности…
В самом деле — почему столько случайных людей?
Строеско оставим — он всего лишь жертвователь (хотя кто-то ведь должен был внушить ему мысль именно так, а не иначе распорядиться своей тысячей). Но Духновский, Строганов, Маровский — они ведь врачи. И ни один из них, начинателей столь важного дела, впоследствии не имел к станции никакого касательства!
Похоже даже, что все трое толком и не знали, в чем, собственно, состоит их начинание. Маровский не знал наверняка: его записка в управу обнаруживает малое знакомство с бактериологией. В программу работы будущей станции он включил наряду с прививками против бешенства также прививки против чумы рогатого скота, сибирской язвы, краснухи свиней, сапа, овечьей оспы. Он не подозревал, что вакцины против чумы рогатого скота еще не существует и неизвестно, будет ли она создана — Мечников пока вел лишь предварительные разработки; вакцины против сапа тоже еще не существовало — Мечников только предполагал такие исследования.
Но почему Маровский объявил решенными именно те вопросы, которыми хотел заняться Мечников? Уж не с его ли слов (плохо понятых) писал свою записку врачебный инспектор?
И еще одно странное обстоятельство.
«Жертвователь» не просто просил общество избрать подходящего человека — он назвал своего кандидата, доктора Гамалею.
И Духновский не просто передал волю «жертвователя» обществу, а кандидатуру Гамалеи поддержал.
И Строганов — тоже.
Не подозрительное ли единодушие?
Теперь имя Николая Федоровича Гамалеи широко известно. Но ведь тогда это был молодой человек, всего два года назад получивший диплом врача (он, как и Бардах, после Новороссийского университета окончил Медико-хирургическую академию).
Правда, под влиянием Мечникова Гамалея увлекся бактериологией, по его примеру оборудовал у себя маленькую лабораторию и быстро освоился с техникой приготовления бактериальных культур — делом по тем временам очень тонким. Это он приготовил Мечникову вирулентные и ослабленные культуры бацилл сибирской язвы, помогал ему в исследованиях чумы рогатого скота, туберкулеза…
Поэтому именно к Гамалее, «специально занимающемуся бактериологией», официально обратился Маровский с просьбой подготовить предварительную смету расходов будущей станции и указать возможного заведующего. Гамалея смету составил и назвал кандидатуру Мечникова. Однако Мечников в рекомендациях своего ученика не нуждался. А вот если бы Мечникова спросили, кого, по его мнению, следует послать к Пастеру, он, конечно, предложил бы Гамалею.
Так, может быть, Илью Ильича и спросили?..
Может быть, вся затея исходила именно от него, и он держался в тени лишь потому, что не совсем «прилично» было выступать инициатором учреждения, которое сам собирался возглавить? Впрочем, стоило возникнуть препятствию на пути, и Мечников забывал о «приличиях». Ему пришлось «выдать» себя уже на том заседании общества, когда утверждали кандидатуру Гамалеи.
Искерский, которому, по-видимому, вся эта затея была не совсем по душе, предложил командировать в Париж Мечникова. Илья Ильич ответил, что он не врач и не имеет права делать прививки людям, а поэтому не может взять на себя такой труд. Тогда Искерский осведомился о научном багаже молодого врача, на что Мечников ответил:
«Д-р Гамалея долгое время работал со мной, и я могу заявить, что он прекрасно знаком с экспериментальной частью; в последнее время мы вместе работали над туберкулезными бациллами, культуру которых чрезвычайно трудно получить. В Париже получение этих культур вызвало шум, между тем д-р Гамалея весьма удачно и без шума получил эту культуру <…>. Доктор Гамалея одинаково хорошо знаком как с коховскими, так и с пастеровскими приемами. Я уверен, что в Одессе трудно будет найти такого бактериолога; кроме того, д-р Гамалея имеет прекрасные инструменты, устроенную маленькую лабораторию, совершенно свободен и, следовательно, — наилучший кандидат для такой командировки». После столь решительного отпора новых вопросов не последовало и кандидатура молодого врача была утверждена единогласно. Даже Искерский не решился голосовать против.
3
Гамалея уехал в Париж, а предложение Маровского, как требующее ассигнований, было передано в финансовую комиссию; комиссия, находя, что «вопрос нуждается в предварительной разработке», рекомендовала городской думе передать дело в городскую управу.
Началась обычная волокита.
Гласный думы Велькоборский, которому поручили это дело, оказался человеком энергичным. Он собрал совещание, пригласил на него Мечникова, Ковалевского, Заленского, профессора Ришави, председателя энтомологической комиссии Брайкевича, Маровского, Строганова. Все участники совещания высказались за скорейшую организацию в городе бактериологической станции, и, опираясь на их авторитетное мнение, Велькоборский составил подробную записку со сметой расходов на содержание станции и персонала — всего в 8220 рублей в год. Указал на Мечникова как на компетентное лицо, готовое взять на себя руководство станцией. Но…
1 марта Строганов зачитал на заседании общества четыре обстоятельных письма Гамалеи.
В них описывалась лаборатория Пастера, порядок приема пациентов, способ лечения, занятия Гамалеи краснухой свиней и сибирской язвой. Было видно, что молодому врачу оказан сердечный прием. Однако в лабораторию, где приготовляли вакцины против бешенства, посторонних не допускали; Пастер был против прививочных пунктов вне Парижа; он говорил, что не может выпустить из своих рук столь ответственное дело, да и не видит в этом нужды: в Париж для лечения приезжают из самых отдаленных районов земного шара… Словом, затею со «своей» станцией надо оставить и развернуть кампанию по сбору средств на строительство в Париже международного института, который замышляет Пастер. Так заключал Гамалея.
Услышав это, Мечников опять забыл о «приличиях». Он первым выскочил на трибуну и говорил с такой страстью, как никогда еще не говорил. Можно было подумать, что теперь решается его судьба (а она действительно решалась в эту минуту!).
Открыть подписку в пользу Пастеровского института необходимо, но в остальном согласиться с Гамалеей никак нельзя, горячился Мечников. Надо потребовать, чтобы он «продолжал преследовать цели своей командировки»…
Мечникова поддержали. Соответствующая инструкция была послана в Париж.
4
То было трудное для Пастера время, ибо пророка нет в своем отечестве. Из российского далека он казался небожителем, а в медицинских кругах Парижа многие считали его чужаком; химиком, взявшимся не за свое дело; сумасбродом, вздумавшим бороться с ядом бешенства ядом того же бешенства…
Первый подытоживавший прививки людям доклад Пастера в Медицинской академии вызвал бурю. Из 350 пациентов умерла только одна девочка, и ту привели в лабораторию больше чем через месяц после того, как ее укусила бешеная собака. Казалось бы, что противопоставить этим цифрам?
Но было что противопоставить…
Человек заболевает бешенством в течение полутора-двух месяцев после укусов, а то и еще позже. Достаточный срок миновал только для ста пациентов Пастера, так что будьте добры, господин профессор, остальные 250 случаев исключить!..
Далее. Всегда ли установлено бешенство собаки, искусавшей больного? Нет? Так исключите и все сомнительные случаи!..
Затем. Кое-кому из ваших пациентов предварительно прижигали раны? И даже многим? Откуда же уверенность, что им помогли именно прививки?..
А разве каждый человек, покусанный бешеным животным, умирает? Не каждый? Каков процент смертности? Точно еще не установлено? А одна девочка все-таки погибла, хотя прошла полный курс лечения?!
Отбиваться Пастеру было нелегко.
…И тут в Париж прибыло 19 крестьян из Смоленской губернии, жестоко покусанных бешеным волком. У пострадавших были глубокие раны на голове и лице; в организмы их попало очень много яда. Смертность в таких случаях бывает особенно высокой и сокращается инкубационный период болезни. А со времени происшествия прошло уже две недели…
Пастер увеличил интенсивность прививок и довел их до двухдневных суспензий. (В обычных случаях он останавливался на пятидневных.)
Но, несмотря на принятые меры, один из пострадавших умер до окончания полного курса лечения и еще двое — вскоре после него… Остальные, правда, были живы, но, пока не минул двухмесячный срок, Пастера не оставляла тревога. Ухаживавшего за русскими пациентами Гамалею он принимал ежедневно в любое время…
Вскоре прибыло семь человек, покусанных волком в Орловской губернии; один из них тоже умер. Из девяти пострадавших от бешеного волка во Владимирской губернии умерло трое…
Пастеру стало ясно: хочет он того или нет, а прививочные пункты вне Парижа необходимы.
Однажды Гамалея поделился с ним мыслями о причинах неудач, то есть о том, над чем ломал голову сам Пастер. Все случаи смерти падали на первые четырнадцать дней после окончания прививок. Не значит ли это, рассудил Гамалея, что вакцина противодействует вирусу лишь до его проникновения в нервную систему, а две недели необходимы вирусу, чтобы размножиться в нервной системе и поразить ее?
Пастеру эти соображения показались основательными. Он убедился, что, несмотря на молодость русского коллеги, может ему доверять.
5
Однако выделить из своего бюджета восемь тысяч управа не хотела, а возможно, и не могла. Она снеслась с Херсонским губернским земством, дабы переложить на него половину расходов; там тоже созывали совещания, обсуждали, рядили… Мечников нервничал, ждал, но в его ли характере было ждать пассивно?
Вместе с Я. Ю. Бардахом он вторгся в домашнюю лабораторию Гамалеи и начал ее расширять.
Прежде всего надо было оборудовать комнату для приема больных и, главное, еще одну — для высушивания кроличьего мозга. Мечников раздобыл газовый камин с аппаратом, регулирующим приток топлива, собственноручно притащил в «мозговую» комнату, опробовал и убедился, что с его помощью можно поддерживать постоянную температуру, отклонения от которой будут меньше градуса. Итак, одна из главных проблем решена.
Мечников заказывает металлические клетки для кроликов и собак, запасает на ферме Общества сельского хозяйства необходимое количество животных. Воспользовавшись подвернувшимися случаями, Бардах прививает партиям кроликов мозг умершего от бешенства человека и трех подозрительных собак (две из них оказались бешеными): он начинает культивировать возбудителя.
А Мечников не устает воевать за уже фактически существующую станцию. Он читает три публичные лекции — в них доказывает, что «санитарно-гигиенические меры должны обосновываться на данных бактериологических исследований» и что «для внесения научности в эту область необходимы особенные станции».
Много раз он развивает ту же мысль в Обществе одесских врачей. Публикует в «Одесском листке» статью, в которой рассказывает, чем занималась бы станция, если бы вопрос о ней был решен положительно.
В конце мая из Парижа прибывает бесценный груз: три кролика (точнее, лепарита — зайцекролика), зараженных ядом бешенства, — их Пастер подарил Одесской станции, дабы избавить от долгих предварительных опытов. На следующий день один из лепаритов взбесился; Бардах извлек его мозг, растер в специально приготовленном бульоне и ввел первой партии кроликов.
Остальных двух лепаритов, прежде чем их постигла такая же участь, Мечников продемонстрировал в Обществе врачей и не забыл подчеркнуть, что «если пропадет присланный материал от Пастера», то «трудно и неловко будет просить вторично такой материал».
1 июня 1886 года Гамалея вернулся в Одессу. 10-го в тетради регистрации появилась запись номер 1: «Бардах Яков, 28 лет, изъявил желание быть привитым».
Яков Юльевич Бардах первым в России подверг себя прививкам против бешенства с чисто научной целью (Гамалея дважды подвергался им еще в Париже).
А 13-го начался прием пострадавших…
В Одессу, в дом Гамалеи на Канатной улице, 14 потянулись больные. Еще недавно они были обречены, а теперь у них появилась надежда. По большей части это были люди бедные, не смевшие и думать о том, чтобы добраться до Парижа. И в Одессу-то многим из них удавалось приехать только потому, что давний знакомый Мечникова, учившийся в Новороссийском университете, Сергей Юльевич Витте, будущий министр финансов и глава правительства Российской империи, а в то время управляющий Юго-Западных железных дорог, распорядился выдавать в необходимых случаях пострадавшим бесплатные билеты.
На бактериологическую станцию приходили люди издерганные, перевозбужденные, с полными ужаса глазами. Даже один офицер, человек образованный и неробкий, признавался, что перед первой прививкой его сильно манило открытое окно, как Подколесина в гоголевской «Женитьбе».
— Если бы только стыд не удержал, я бы дал тягу со станции, — признался он корреспонденту «Одесского листка».
Но день ото дня больные успокаивались и оканчивали лечение в уверенности, что спасены.
Такова была психологическая реакция пациентов.
Зато реакция обывателей, которых никогда не кусали бешеные собаки, была иной. Их ужас держался стойко, и стыд их не останавливал. По городу ползли панические слухи. Если появлялся наниматель квартиры и узнавал, что это дом Гамалеи, то прежде всего спрашивал:
— Это какого же? Не того, что у Пастера?
— Да, того самого.
— Так это здесь бешенство прививают! Господи, спаси и помилуй! — и спешно удалялся.
Служивший при лаборатории сторож поспешил взять расчет.
Врачебный инспектор получил анонимный донос: в доме Гамалеи прививают животным чахотку, дифтерит, скарлатину и выпускают их на свободу. И даже в цистерну, откуда жители берут питьевую воду, опускают банки с зараженной кровью…
Надо было спешить с подыскиванием постоянного пристанища для станции…
Мечников целыми днями разъезжал по городу, и вскоре ему удалось найти за недорогую плату двухэтажный особняк на Гулевой улице — типичный для Одессы дом с внутренним двориком, вход в который преграждают чугунные ворота с литой решеткой.
В доме было 19 комнат. Шесть из них Илья Ильич взял себе, остальные тринадцать отвел под станцию. Городская управа его выбор одобрила, в дом стали проводить воду и газ; вопрос о станции был наконец решен.
Управа утвердила штат из семи человек. Заведующему положили годовое жалованье в три тысячи рублей, полторы тысячи — помощнику заведующего и по шестьсот и четыреста двум фельдшерам и трем служителям.
Сразу же вышла неловкость, ибо у Мечникова было два помощника, а не один. Выход из положения он увидел в том, что предложил состоятельному Гамалее сверхштатный (неоплачиваемый) пост товарища заведующего, а помощником назначил неимущего Бардаха. Илья Ильич имел на это моральное право, потому что от своих трех тысяч отказался наотрез, а когда управа не захотела принять такую жертву, то он приобщил эту сумму к тысяче, отпускавшейся на текущие расходы.
Мечников и Гамалея предоставили в распоряжение станции свои собственные микроскопы, термостаты, автоклавы, тем не менее на покрытие расходов денег не хватило; в конце года Мечников вынужден был обратиться к городским властям с просьбой о дополнительной субсидии, которая и была великодушно дана, но… в счет бюджета следующего, 1887 года.
6
Итак, он добился того, чего так страстно желал. Он остался если не совершенно, то хотя бы отчасти «независимым» исследователем: ни копейки не брал за свои труды. И, имея двух ревностных помощников, мог доверить им практическую работу и сосредоточиться на защите и развитии своей теории. Он все предусмотрел и не сомневался, что так и пойдет. Он не учел (так никогда и не научился учитывать), что жизнь полна неожиданностей, случайностей, которые невозможно предусмотреть.
В августе 1886 года, когда Илья Ильич по обыкновению хозяйствовал в Поповке, его пригласили в Одессу на санитарный съезд. Он, разумеется, приехал и тут же вступил в схватку с главным докладчиком — доктором М. С. Уваровым.
Уваров доказывал, что бактериология не имеет сколько-нибудь важного значения в санитарном деле. «Гигиена — наука общественная, а потому и средства ее должны быть социологическими». Докладчик утверждал, что основная задача санитаров — изучать распространение заболеваний, а основной метод — статистика; общественные явления нельзя рассматривать в микроскоп.
«— Не мне говорить против статистики, — парировал Мечников, — но статистика дает весьма отдаленные результаты, а жизнь требует сейчас, сию минуту, помощи, и с этой точки зрения бактериология, конечно, может дать более непосредственный, практический результат… Я меньше всего склонен рекомендовать земству принятие неустановившихся научных приемов и выводов, которые или недостаточно еще проверены, или бесполезны. Но почему же не воспользоваться тем, что уже есть, теми результатами, которые уже утверждены и несомненны?»
Такого выступления ждали, и «гг. Грязнов, Уваров, Поппер и Генрихсон, — как писал „Одесский листок“, — поспешили возражать, доказывая важность и необходимость статистики, как будто оратор что-нибудь высказывал против».
Выпады против бактериологии представляются нам сегодня порождением косности, закоренелого консерватизма. В то время еще изредка наведывалась в Европу чума; частой гостьей была холера; туберкулез, словно всесильный дракон, постоянно требовал жертв (ведь каждый седьмой человек умирал от чахотки!). Как же не возмущаться нам, что какой-то Уваров ставил палки в колеса великому Мечникову?
Но не будем забывать, что события тех лет мы рассматриваем (и не можем рассматривать иначе!) сквозь призму успехов, достигнутых в последующие годы и десятилетия. Постараемся быть справедливыми. В каждую эпоху появляется множество лжеучений и лжепророков, и особенно много их в медицине; и никто еще не нашел рецепта, как безошибочно зерна отделять от плевел. Во главе санитарного дела Херсонской губернии Михаил Семенович Уваров был поставлен по прямой рекомендации Ф. Ф. Эрисмана — крупнейшего в России гигиениста; и повел работу таким образом, что, несмотря на нехватку врачей, мизерность денежных средств и невежество большей части населения, организация санитарного дела в губернии была одной из лучших в Российской империи. В докладе Уварова отразилось общее недоверие врачей к новой науке, имевшей, по их мнению, очень скромные и притом сомнительные успехи и чрезмерные претензии.
Но именно потому, что Уваров был не одинок, Мечников не мог оставить его нападки без ответа. В пылу полемики Илья Ильич зашел дальше, чем хотел. Он заявил, что санитар — по преимуществу дезинфектор, а потом просил не включать этих слов в протокол. В конце концов съезд принял его резолюцию, в которой, между прочим, было указано, что санитарные врачи должны овладевать бактериологическими методами и что Одесская станция берется их учить.
В сентябре 1886 года Мечников открыл «холерные» курсы…
7
Холера в это время появилась в Австро-Венгрии и неумолимо приближалась к русским границам. Чтобы предотвратить надвигающуюся беду, Илья Ильич предложил установить на границе санитарные посты для обследования въезжающих из Австро-Венгрии и такие же пункты основать при больницах, дабы своевременно выявлять случаи холеры. Но для работы на этих постах и пунктах нужно было подготовить персонал — вот Мечников и взялся обучать врачей. В десятидневный срок очередная группа слушателей приобретала навыки в диагностике холеры.
О курсах много писали газеты; журналисты восхищались тем, как чудодей-профессор, обучая врачей, пользуется консервными банками и обходится без дорогостоящего оборудования.
Эти неумеренные восторги обеспокоили Мечникова. Он поспешил опубликовать разъяснение, дабы появившиеся сообщения «не подали повод к некоторым недоразумениям».
«Хотя станция действительно настолько бедна, — писал Мечников, — что не имеет даже своих микроскопов, тем не менее она пользуется всеми приборами, необходимыми для бактериологических исследований». Мечников перечисляет эти приборы и заключает: «Если врачи, занимавшиеся на станции, приготовляли студень с помощью „посуды, имеющейся всегда у каждого под рукой“, то это объясняется именно тем, что преследовалась специальная цель — показать, как на пограничных пунктах можно обойтись без лабораторных приспособлений».
8
На станцию стекалось все больше пострадавших.
Приезжали из Твери и Екатеринослава, Костромы и Козлова, Сорок и Подольской губернии, Нежина и Москвы, Киева и Калуги, Петербурга, Кременчуга и Харькова; появились больные из Румынии и Турции…
Преследуемые страхом пациенты иной раз записывались, но на прививки не являлись; кое-кто не хотел приезжать или присылать детей. И все же доверие к станции росло.
Мечников следил за тем, чтобы его молодые помощники не увлекались новациями; он ни на йоту не хотел отступать от правил, выработанных Пастером. Бардах предложил для облегчения дела производить вскрытие черепа у кроликов без хлороформирования и обычным трепаном, а не таким, каким пользовались у Пастера. Но Мечников не захотел пойти на это. Лашь после долгих настояний он пригласил для консультации П. А. Спиро, унаследовавшего после ухода Сеченова кафедру физиологии в университете; была проделана серия параллельных опытов, и только тогда Илья Ильич согласился на это чисто техническое новшество.
Вскорости, однако, стали поступать известия о гибели от бешенства бывших пациентов станции… Из первых 88 больных умерли двое (не считая двух стариков из Костромы, которых буквально загрыз бешеный волк и которые умерли до окончания прививок), причем оба скончались уже после истечения контрольного срока в четырнадцать дней.
Конечно, 2 смертных случая из 88 — это немного. Но на сто первых пациентов смертей было уже семь…
Мечников не находил себе места.
Когда раздавался телефонный звонок и из городской больницы сообщали, что умер еще один человек от водобоязни, он цепенел. Бардах тотчас мчался в больницу, а заведующий станцией прирастал к окну. По походке возвращающегося помощника он старался определить — кто умер, лечившийся или нелечившийся? Если шаги на лестнице были твердыми, неторопливыми, у него отлегало от сердца. Если же штиблеты ученика выстукивали быструю неровную дробь, Мечников выскакивал на лестницу и засыпал его вопросами…
Пока недоброжелатели лишь шептались по углам, но было ясно, что они выжидают случая, чтобы вернее нанести удар.
И случай не замедлил представиться.
Одного из умерших мальчиков, Сергея Тыжненко (Гамалея ошибочно называет его Томским), укусила собака которая успела скрыться; бешенство ее не было установлено. И вот доктор Кеслер выступил в Петербургском обществе врачей с сенсационным докладом. Он утверждал, что собака вовсе не была бешеной и мальчик стал жертвой прививок.
Общество активно поддержало докладчика. Падкое до скандальных сенсаций «Новое время» поспешило опубликовать о заседании подробный отчет. «В собрании, — писала самая популярная в России газета, — было высказано желание всячески избегать пастеровского метода, как не имеющего научной подкладки. Успех, каким пользуется сам Пастер, объясняется его громадной опытностью, но повсеместное применение его метода в руках неопытных врачей может быть губительно для пациентов».
Столь острый оборот дела грозил самому существованию станции. К счастью, шумиха поднялась лишь в октябре (мальчик умер в августе), и станция уже располагала твердыми доказательствами безопасности прививок.
Мечников спешно напечатал в «Вестнике одесской городской управы» отзыв Пастера, удостоверявшего «опытность» Гамалеи, а тот сделал подробный доклад в Обществе одесских врачей.
Кролики в Одессе были меньше парижских, мозг их был легче и высыхал сильнее. Через месяц после начала прививок Гамалея стал доводить инъекции до четырехдневных суспензий, как соответствующих пятидневным суспензиям Пастера. Еще через месяц, когда поступили первые данные о смерти пациентов, он по согласованию с Пастером пустил в ход еще более ядовитые, двухдневные суспензии. (Пастер сделал то же самое, так как среди его пациентов смертность тоже несколько увеличилась.) К октябрю, таким образом, способ лечения на станции дважды изменялся, причем оба раза в сторону усиления прививаемого яда. Если бы прививки были причиной несчастных исходов, то смертность неминуемо бы возросла, на самом же деле она упала с семи до половины процента, то есть снизилась в четырнадцать раз…
Протокол заседания отправили в Петербург; толки об опасности метода прекратились.
Но только для того, чтобы вспыхнуть с новой силой…
В «Одесском листке», прежде отзывавшемся о станции с неизменным сочувствием, появилась большая статья, в которой со ссылкой на упорно воевавшего с Пастером профессора Колена сообщалось, что «изобретенный г. Пастером метод лечения укушенных бешеными животными далеко не оправдал ожиданий публики». Автор статьи обвинял Пастера в нескромности и ставил под сомнение его научную честность. Хотя Одесская станция не упоминалась, выпад был направлен в первую очередь против нее.
Парировать этот удар оказалось не просто, ибо во Франции к этому времени развернулись драматические события.
Вдруг стали поступать известия о смерти бывших пациентов Пастера, причем смерти необычной. У больных не появлялось признаков водобоязни и буйства: у них отнимались ноги, затем паралич поражал и весь организм…
Еще никто не знал, что в редких случаях бешенство у человека протекает столь странным образом, но было известно другое: именно так погибают зараженные кролики. Напрашивался вывод: причиной смерти послужил не «собачий» яд, внесенный при укусах, а «кроличий», введенный прививками.
Такое обвинение бросил в лицо Пастеру профессор Петер, и его поддержал Колен. Эффект был настолько силен, что парижские власти запросили Пастера, не следует ли прекратить прививки.
Пастер вызвал в Париж Гамалею, но, будучи больным, уехал отдыхать в Итальянскую Ривьеру.
Бой приняли друзья Пастера Вюльпиан и Бруардель; оба, однако, прививками не занимались и чувствовали себя неуверенно.
Гамалея снабдил Вюльпиана данными Одесской станции и собранными им материалами о двух десятках случаев паралитического бешенства у людей, а сам поехал к Пастеру.
Всегда брызжущий энергией, Пастер был глубоко подавлен.
— Quel malheur, quel malheur,[33] — повторял он и непрестанно вздыхал.
Гамалея стал уверять, что нападки отбиты и все обстоит превосходно, но Пастер устало посмотрел на него и сказал:
— Вы ничего не знаете.
Бешенством заинтересовались в Англии. Принявшийся за эксперименты профессор Горели заразил кошку («И что за охота работать с кошками», — вздохнул Пастер), она укусила служителя; Горели послал его в Париж, но, вернувшись, служитель умер от бешенства. («А он был пьяницей», — Пастер опять вздохнул.) Самым же неприятным было то, что, когда Горели заразил вытяжками мозга, взятыми от погибшего служителя, лабораторных животных, смерть их наступила не в обычные сроки, а после длительной инкубации, характерной для «кроличьего» вируса. Выходило, что служитель погиб не оттого, что его укусила кошка, а от пастеровских прививок…
— В Англии готовят отчет, — сказал Пастер, — и если в него попадет этот случай, то с методом будет покончено. — Он еще раз вздохнул.
С письмом Пастера Гамалея поехал в Лондон.
Остановившись по пути в Париже, он решил проконсультироваться с Ру. Главный исполнитель экспериментов по бешенству, он мог знать такие детали, о которых не подозревал ни Гамалея, ни сам Пастер. Отказавшись участвовать в прививках людям, Ру держался в стороне от полемики, но судьба метода его глубоко волновала. Выслушав Гамалею, Ру спросил, каким именно животным английский ученый привил мозг погибшего служителя. Гамалее об этом ничего известно не было. Тогда Ру уверенно заявил, что Горели, по всей вероятности, использовал свинок, а у них и «собачье» бешенство проявляется после долгой инкубации.
В Лондоне выяснилось, что Горели настроен более доброжелательно, чем казалось Пастеру. И главное — он действительно работал со свинками! Обрадованный Гамалея предложил ему повторить опыт на кроликах, но прививочного материала у Горели не сохранилось. В конце концов был опубликован вполне благоприятный отчет.
И все же Гамалея, как и Пастер, остался при убеждении, что несколько человек погибло от прививок.
Температура в комнате, где высушивались кроличьи мозги, несмотря на принимаемые меры, колебалась: с наступлением холодов мозг высыхал недостаточно сильно, и интенсивное лечение, давшее летом отличные результаты, стало опасным. Экспериментальная недоработанность метода жестоко мстила исследователям.
9
16 января 1887 года Мечникову принесли бумагу от Одесского врачебного управления:
«Ветеринарный врач Пенский донес врачебному управлению, что при ферме Общества сельского хозяйства он нашел, что опыты над чумным ядом все еще продолжаются, несмотря на заявление Ваше о прекращении их: на ферме в настоящее время находятся четыре больных теленка. Установление надзора с целью воспрепятствовать постороннему скоту заходить во двор фермы оказывается на самом деле невозможным; так, например, арендатор фермы завел пару волов, из коих один погиб уже от чумы. Затем 14 января во двор фермы зашла корова, которая была доставлена в полицейский участок для розыска ее хозяина и установления над ней ветеринарно-полицейского надзора.
Кроме того, при допросе лиц, проживающих на ферме, выяснилось, что еще перед праздниками рождества тоже был подобный случай: корова, как говорят, из Балковской улицы зашла даже в сарай, где находится больной вол, так что есть некоторое основание полагать, что чума рогатого скота в Михайловском участке появилась вследствие переноса заразы из фермы Общества сельского хозяйства.
Сообщая об этом, Врачебное управление честь имеет покорнейше просить Ваше Превосходительство не отказать дать по вышеупомянутому донесению г. Пенского разъяснения».
Сколько намаялся Мечников с этой чумой!
Поначалу, как ни старался, а описанных в литературе микроорганизмов в крови больных животных обнаружить не мог. Потом понял: бактерии «появлялись» в препаратах его предшественников только потому, что они не соблюдали элементарных правил асептики.
Илья Ильич нашел совсем другого микроба, похожего на палочку брюшного тифа, но подопытному теленку болезнь не привилась. Он вновь послал за материалом, опять нашел палочку, но привить болезнь снова не удалось. Тем временем наступила зима; эпизоотия повсюду прекратилась, и за отсутствием материала исследования пришлось прервать.
Возобновить их Мечников смог лишь весной. Ему опять удалось обнаружить палочку и на этот раз привить чуму животным… И тут Мечников получил предписание прекратить опыты: есть-де опасность вызвать в городе эпизоотию.
Он поднял скандал и добился отмены запрета.
Вернувшийся из первой поездки в Париж Гамалея сказал, что Пастер заинтересовался исследованиями и готов заочно участвовать в них. Мечников передал дело Гамалее, и тому после многих попыток удалось, как казалось, выработать надежный метод заражения животных. Но вести исследования на рогатом скоте было невозможно — не хватило бы никаких денег, а кролики чумой не заболевали.
Восприимчивыми оказались морские свинки, и, хотя стоили они довольно дорого (три рубля пара) и их трудно было приобретать в Одессе, дело пошло. Гамалея приступил к экспериментам по ослаблению культур; стало казаться, что недалеко до получения вакцины.[34]
И вдруг в Одессе у рогатого скота появилась чума.
Заболевания начались в большом удалении от фермы, свалить вину на станцию было невозможно. Но Мечников уже поднаторел в подобного рода делах. Он стал подумывать о том, чтобы прекратить эксперименты.
Часть фермы была сдана в аренду под огороды болгарам. По договору арендаторам запрещалось держать рогатый скот, в чем с них взяли расписку. Но вот Мечников узнает, что болгары тайно завели пару волов и один из них умер от чумы. Илья Ильич приказал немедленно остановить работы, причем участковый ветеринар Пенский нашел эту меру слишком крутой, ибо чума все равно свирепствовала в городе. Тем не менее «со стороны ветеринаров, — как с досадой говорил Мечников, — поднялся целый вопль, пошли донесения, различными невеждами распространялись нелепицы, что на ферме нами распространяется чумная зараза, и требовалось запретить это делать, т. е. запретить нам производство опытов и исследования». А теперь он должен давать «разъяснения» по донесению изолгавшегося с перепугу Пенского.
Нетрудно представить, как вскипел его превосходительство и какой ответ послал он во врачебное управление!
Илья Ильич требовал очной ставки, но Пенский, прежде бдительно «контролировавший» ферму, теперь куда-то исчез.
«Донесения», однако, продолжали поступать, и еще через месяц после инцидента Мечникову «пришлось послать другой ответ по однородному же делу, чтобы положить конец всем этим пертурбациям, чтобы заставить умолкнуть всех этих противников практически-научного исследования чумы».
Он просил предоставить ему другой участок, в изолированном месте, верстах в десяти-двадцати от города, чтобы только не «находиться под постоянным опасением и постоянно же переносить нравственные неприятности».
Но участок так и не предоставили, а «донесения» настолько допекли Мечникова, что он имел неосторожность высказаться публично о полном невежестве ветеринаров в бактериологии.
Прицепившись к этим словам, жалкий журнальчик «Ветеринарное дело» стал из номера в номер выплескивать на него ушаты помоев. Мечникова обвиняли в транжирении казенных денег, в стремлении к наживе, в саморекламе и, конечно, в распространении эпизоотии среди домашних животных.
Вступившийся за своего друга А. О. Ковалевский напечатал в «Одесском листке» прочувствованную статью.
В ответ «Ветеринарное дело» обругало и Ковалевского…
И в довершение всего в январе 1887 года в Москве состоялся II Пироговский съезд, на котором Ф. Ф. Эрисман выступил с утверждением, что «для нашей земской и городской санитарии преобладание бактериологического направления было бы <…> смертным приговором»; он призывал «не слишком поддаваться увещеваниям бактериологов-фанатиков», возражал против «бессмысленной ловли запятых» (то есть холерных вибрионов) на австро-венгерской границе, против бактериологических исследований воды…
Уваров добился перепечатки речи Эрисмана в «Сборнике херсонского земства». Впрочем, тот же «Сборник» предоставил страницы и Мечникову, который обрушился на Эрисмана, показав, что тот незнаком с новейшими данными бактериологии, и назвав его «приверженцем старого направления гигиены».
10
Когда опасность появления холеры миновала, Мечников ликвидировал «холерные» курсы и стал обучать прикомандированных врачей бактериологии вообще.
По подсчетам А. В. Сорокиной, у Ильи Ильича обучалось свыше пятидесяти человек; вместе с постоянными и временными сотрудниками станции они составили первое поколение Микробиологической школы И. И. Мечникова.
Кроме Гамалеи п Бардаха, на станции трудился Д. О. Кранцфельд, незаурядный врач, которому Мечников поручил исследование сапа. Проработав с Ильей Ильичом около года, он сам стал вести занятия в Елизаветградском уезде. Его брат, М. О. Кранцфельд, санитарный врач Одессы, под руководством Мечникова занимался изучением холеры и брюшного тифа. Ему, между прочим, удалось найти брюшнотифозных бактерий в воде одного из колодцев села Августовки и тем самым указать причину вспыхнувшей там эпидемии.
Среди врачей, обучавшихся на мечниковских курсах, особенно выделялся П. Н. Диатроптов. Он так увлекся бактериологией, что добился организации маленькой станции в Елизаветградском уезде, которую и возглавил. Впоследствии он был назначен заведующим Одесской станцией, на которой работал до 1907 года. Еще один ученик Мечникова, С. Н. Караманенко, стал выдающимся деятелем земской медицины, много сил положившим на ликвидацию опасных эпидемий, нередко вспыхивавших в губернии.
На станцию съезжались немногочисленные русские бактериологи из разных городов. Среди них были и такие, кто уже обучался за границей — у Пастера и Коха, но и они нисколько не жалели, что приехали практиковаться к Мечникову.
Даже Лев Семенович Ценковский, раньше Ильи Ильича вступивший на стезю бактериологии, теперь уже сильно состарившийся и больной, прибыл в Одессу познакомиться с новейшими научными приемами.
Мечников поручил своего давнего наставника попечительству Бардаха. Молодой врач робел делать замечания маститому ученому; заметив это, Ценковский сказал:
«Вы со мной не стесняйтесь, поступайте, как будто перед Вами начинающий врач, на всякую ошибку указывайте и исправляйте ее, и тогда и я и Вы будете довольны».
Ценковский посещал лекции Мечникова, с восторгом отзывался о них, хвалил Бардаха за то, что он их записывает, советовал внимательно изучать конспекты. Все это, впрочем, неудивительно. Через 35 лет, перечитав свои давние записи, профессор Бардах писал: «Поражаешься свежестью высказанных в них (лекциях. — С.Р.) идей, глубиной и смелостью мысли. Его взгляды на положение бактерий в системе, на плеоморфизм бактерий, на их бессмертие приняты и сейчас». (К великому сожалению, эти конспекты впоследствии пропали.)
11
Из Парижа Гамалея привез не только известие о полном торжестве пастеровского метода прививок против бешенства, но и новое приобретение — «секрет» сибиреязвенных вакцин.
Первым в России прививками против сибирской язвы заинтересовался херсонский помещик Скадовский — тот, с которым много лет назад Мечникову пришлось столкнуться в связи с хлебным жуком. Когда стало известно, что во Франции вакцина начинает применяться на практике, Скадовский пожелал предохранить ею свои стада. Обратившись в Париж, он получил ответ, из которого вытекало, что его просьбу охотно исполнят, если он оплатит не только прививки, но и проезд ученого из Парижа и обратно.
Увидев, что затея влетит в копеечку, Скадовский выступил с призывом к крупным овцевладельцам объединиться, дабы пригласить специалиста на паях. Но поддержки он не встретил.
— Дело новое, — говорили ему, — что еще из него выйдет, а денежки нужны немалые.
Так все ничем бы и кончилось, если бы сибиреязвенной вакциной не заинтересовался Лев Семенович Ценковский.
Он поехал в Париж, чтобы на месте изучить изготовление вакцин, но столкнулся с неожиданным препятствием. Сибиреязвенные прививки были монополизированы Обществом пастеровских вакцин — коммерческим предприятием, строго засекретившим свои приемы и обязавшим к тому же Пастера.
Собственно говоря, приготовление вакцин никакой тайны не составляло: Пастер с Шамберланом и Ру давно опубликовали методику, и ею пользовались во всех бактериологических лабораториях. Однако для практических целей требовалось большое количество вакцины, которая бы в течение долгого времени не теряла своих свойств.
Способ хранения вакцин и засекретило общество.
Вернувшись ни с чем, Ценковский взялся самостоятельно решать этот вопрос, а Скадовский предоставил в его распоряжение своих овец и вызвался ему помогать.
Дело подвигалось медленно.
Правда, уже в 1885 году Ценковский, уступая, видимо, настояниям Скадовского, приступил к массовым прививкам. Но результат, как и следовало ожидать, был неважный. В феврале 1886 года Ценковский писал Мечникову: «Пока я все бьюсь, чтобы выработать более удобный способ получения вакцин; остаться же при пастеровском неудобно потому, что вакцины крепнут со временем, и приходится каждый раз путем бесконечных проб на животных добывать новые». Гамалея в это время в Париже изучал бешенство, и Ценковский продолжал: «Попросите д-ра Гамалею разузнать, в чем в лаборатории Пастера сохраняют вакцины. Конечно, этого они ему не скажут, но, может быть, Гамалея случайно что-нибудь подметит».
Но в то время ни Мечникову, ни Гамалее было не до сибирской язвы.
Когда же молодой русский врач по вызову Пастера вновь поехал в Париж, Илья Ильич поручил ему попытаться добыть «секрет».
Пастер искренне хотел помочь своему другу и, посоветовавшись с Ру, предложил обходный маневр.
Описанный в литературе способ ослабления бактерий сибирской язвы (повышенной температурой) был не единственный. Ру и Шамберлан добивались того же, воздействуя на них серной кислотой, двухромистым калием. Пастеру этот метод тогда «не нравился» — он не отвечал его теоретическим взглядам, был заброшен и остался неопубликованным. Но большой разницы между обоими методами не было, а «секрет» распространялся только на общепринятый…
Выяснив в Париже принципиальные вопросы, Гамалея в Одессе довел эксперименты до конца. На это ушел почти весь 1887 год.
Проконтролировав Гамалею и убедившись, что работа завершена, Мечников пригласил комиссию, в ее присутствии был поставлен публичный опыт, и комиссия подтвердила, что вакцина готова к практическому использованию.
Между тем в имении Скадовского Белозерке работы продолжались, но уже без Ценковского. Здоровье Льва Семеновича резко ухудшилось; он уехал за границу лечиться и умер в Лейпциге 25 сентября 1887 года. Смерть учителя не остановила Скадовского; наоборот, лишь теперь он по-настоящему развернулся. Хотя результаты оставались нестабильными и в них теперь не было прежней научной строгости, Скадовский начал вакцинировать не только своих овец, но и стада других помещиков, всячески при этом рекламируя «русский метод профессора Ценковского».
Возникала конкуренция. Столкновения становились неизбежными.
12
Столкновения! Опять столкновения!..
О, баталии, разыгрывавшиеся на виду всего города, всей губернии, даже всей России, делали свое дело. «Доктор зоологии И. И. Мечников», к имени которого газеты давно уже привычно прибавляли «наш знаменитый ученый», становился все более популярным. Но сколько же еще он будет отбиваться от невежественных наскоков?
«Научная работа его самого, — вспоминал Бардах, — руководство, участие и контроль научных работ ассистентов, учеников, чтение лекций по микробиологии, организация и ведение холерных курсов, доклады в Обществе одесских врачей, участие в губернских съездах санитарных врачей, беседы с многочисленными городскими и земскими деятелями всего юга России, с врачами, местными и приезжими, публичные лекции — весь день протекал в этой кипучей работе».
Прекрасно! И все же Илья Ильич не испытывал полного удовлетворения. Потому что собственным научным исследованиям, то есть тому, что, по его убеждению, должно было «дать законченное миросозерцание» и привести человечество к счастью, он мог уделять лишь малую часть своего времени. К тому же давняя его статья о фагоцитозе у кроликов и свинок, зараженных ослабленными и сильными бактериями сибирской язвы, была замечена европейскими учеными. Но, вопреки его надеждам, она их не убедила.
Первым фагоцитарную теорию раскритиковал профессор Баумгартен из Кенигсберга. Он утверждал, что идея Мечникова телеологична, ибо основана на представлении о некой цели, которой якобы подчинено строение и функции организма. Опыты Мечникова Баумгартен откровенно высмеял и объявил, что «объяснение Мечниковым деятельности лейкоцитов является скорее проявлением богатого воображения, чем результатом объективного наблюдения исследователя».
…Впоследствии, когда грандиозная битва за фагоцитоз останется позади, Илья Ильич отметит, что критика Баумгартена была «очень талантлива и остроумна» и излагалась «особенно чудеспым слогом». Но пока талант, остроумие и «чудесный слог» оппонента вряд ли доставляли ему удовольствие. Тем более что Баумгартен увлек за собой учеников, и один из них, Петрушки, посвятил опровержению фагоцитарной теории целую диссертацию.
Известный ученый профессор Флюгге тоже восстал против фагоцитарной теории. Ею сотрудник Нутталь опубликовал ряд экспериментальных исследований в опровержение фагоцитоза. Превосходную статью выпустил работавший в лаборатории Флюгге молодой ученый из России В. К. Высокович.
Мечников парирует удары и нередко сам переходит в наступление. Он повторяет опыты своих противников и вскрывает их ошибки; когда это необходимо, видоизменяет методику экспериментов и всякий раз обнаруживает фагоцитарную реакцию там, где оппоненты ее не находили.
Труднее всего было разбить главный козырь Баумгартена, установившего, что при возвратном тифе клетки крови не захватывают микробов, между тем болезнь обычно заканчивается выздоровлением. Мечников полагал, что спириллы захватываются фагоцитами селезенки, но как это доказать? Ведь живого человека не вскроешь, чтобы исследовать его селезенку! Правда, уже несколько лет, как установлено, что возвратный тиф — не только «человеческая» болезнь; его удается привить узконосым обезьянам.
Но где взять обезьян?
Этот, казалось бы, неразрешимый вопрос решился просто благодаря тому, что в Одессу приехал принц Александр Петрович Ольденбургский.
Александр Петрович, как и подобало принцу, в день своего рождения (а родился он за год до Мечникова) был зачислен прапорщиком в лейб-гвардии Преображенский полк. В двадцать шесть лет он уже этим полком командовал, отличился в русско-турецкой войне 1877–1878 годов (уже в качестве командира бригады). Однако интересовала его не только военная служба. Он отпускал немалые деньги на организацию приютов, обществ призрения и вспоможения… Больше же всего Александр Петрович покровительствовал медицинским учреждениям. Принц был попечителем детской больницы, больницы для душевнобольных, Троицкой и Георгиевской общин сестер милосердия. Вскоре после того, как Пастер начал массовые прививки против бешенства, Александр Петрович направил в Париж укушенного бешеной собакой офицера в сопровождении доктора Н. А. Круглевского и обратился к Пастеру с просьбой ознакомить врача с техникой прививок.
Когда Круглевский возвратился из Парижа, принц основал бактериологическую станцию под его руководством. Петербургская станция приступила к практической работе через месяц после Одесской.
Неудивительно, что, приехав в Одессу, принц первым делом посетил бактериологическую станцию. Показывая ему свое детище, Мечников, между прочим, обмолвился о затруднениях, связанных с изучением возвратного тифа. Беседа, по всей видимости, произвела глубокое впечатление на принца. Поняв, что имеет дело не только с увлекающимся человеком, но с одним из крупнейших ученых своего времени, Александр Петрович пообещал прислать обезьян, и скоро Мечникову доставили бесценный подарок. Шестерых мартышек ему вполне хватило, чтобы доказать, что спириллы возвратного тифа действительно захватываются лейкоцитами, расположенными в селезенке…
Только точные опыты Высоковича отчасти подтвердил Мечников своими исследованиями. Но Высокович не опроверг сути фагоцитарного учения — он установил, что микробов захватывают не лейкоциты крови, а клетки соединительной ткани, костного мозга, селезенки, печени и некоторые другие. На этом основании он и оспаривал теорию Мечникова. Однако Илья Ильич никогда не утверждал, что роль лейкоцитов исключительная. Наоборот, он говорил о защитной пищеварительной системе, в которую включены клетки разного происхождения.
Высокович, однако, продолжал доказывать, что его данные противоречат данным Мечникова, а вскоре заявил претензию на приоритет в создании клеточной теории иммунитета. На это Мечников лишь недоуменно пожимал плечами.
Илья Ильич проводит новые исследования. Открывает фагоцитоз при рожистом воспалении. Описывает борьбу клеток с палочками туберкулеза и затяжной характер этой борьбы ставит в связь с хроническим течением болезни. (Работы эти стали классическими.)
Но число противников не уменьшается. О своем несогласии с Мечниковым заявил Циглер; с критикой выступил Вейгерт. Оба крупные патологи. Венгерский ученый Фодор публикует исследование, показывающее, что болезнетворные микробы гибнут в пробирке с кровью без фаюцитоза. (Это открытие вскоре послужит отправной точкой для многих опровержений.)
Мечников знает, что его теорией недоволен Кох. Пока он молчит; до полемики не снисходит. Но в любой момент можно ожидать удара; сокрушительной силы удара, если учесть, сколь высок авторитет Коха в научных кругах.
А в Обществе одесских врачей, где Мечников делает свои сообщения, на него по-прежнему и с непонятной, все возрастающей злобой нападает К. К. Искерский. Фактам он не внемлет, а идеи «доктора зоологии» неизменно называет софизмами и парадоксами.
Мечников нервничает; ему опять мерещится заговор. Одни хотят отстранить бактериологию от санитарного дела, другие обвиняют станцию в распространении чумы, третьи — в заражении людей бешенством… С тех пор как Маровский ушел с поста врачебного инспектора и его место занял доктор Корш, на станции отбоя нет от комиссий, выискивающих всевозможные «упущения»… А тут еще этот Искерский…
Однажды Илья Ильич не сдержался и наговорил ему таких резкостей, что Строганов отказался опубликовать протокол заседания.
Нет, как ни дорого Илье Ильичу его детище, а станцию придется оставить. Ему нужна тихая гавань, где можно, отрешившись от всяческих забот, отдаться главному делу жизни — защите и разработке фагоцитарной теории…
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ Одесская бактериологическая станция Продолжение
1
В сентябре 1887 года Мечников поехал в Вену на IV Международный конгресс по гигиене и демографии, где собрались крупнейшие бактериологи Европы. Правда, два главных столпа бактериологии не приехали. Пастер сказался больным, а Кох заявил, что никакой пользы от таких съездов не видит. Это, впрочем, не помешало ему прислать своего главного ассистента Фридриха Леффлера, прославившегося открытием дифтерийной палочки.
Мечников выступил с докладом о работах Одесской станции. Теория фагоцитоза в официальных заседаниях не обсуждалась — только мюнхенский ученый Эммерих вскользь покритиковал ее. Но в кулуарах о фагоцитах говорили много. Леффлер сказал Мечникову, что Кох хочет видеть его препараты, относящиеся к исследованиям возвратного тифа, и просит прислать их.
Зачем присылать? — живо отозвался Мечников. Он сам приедет в Берлин и продемонстрирует Коху все, что того интересует!
Слышавшие разговор ученые отозвали его в сторону и посоветовали ни в коем случае этого не делать.
— Вы не знаете Коха, — объяснили ему. — Он «не увидит» того, что вы ему покажете, и объявит ваши выводы опровергнутыми.
Мечников, однако, направился в Берлин.
2
«Явившись в Гигиенический институт, в котором профессорствовал Кох, — вспоминал он позднее, — я застал там его ассистентов и учеников. Осведомившись у Коха, они сказали, что свидание назначено на следующее утро.
Тем временем я выложил свои препараты и стал показывать их его молодым сотрудникам. Все в один голос заявили, что то, что они только что увидели под микроскопом, безусловно подтверждает мои выводы».
Мечников приободрился.
На следующее утро ассистент повел его к Коху.
Первая встреча с главой немецких бактериологов так сильно запомнилась Илье Ильичу, что впоследствии он очень ярко описал ее в своих воспоминаниях.
Человек средних лет сидел за микроскопом и на вошедших не поднял глаз.
Кашлянув, ассистент осторожно сказал, что Мечников принос препараты.
— Какие такие препараты? — сердито ответил Кох, отрываясь наконец от микроскопа, но даже не взглянув на гостя. — Я вам велел приготовить все, что нужно, к моей сегодняшней лекции, а вижу, что далеко не все налицо.
Ассистент стал лепетать оправдания и опять указал на Мечникова. Продолжая сердиться, Кох наконец повернул свое усеянное веснушками лицо к Илье Ильичу и, не подавая руки, сказал:
— Я сейчас очень занят и не могу уделить вашим препаратам много времени.
Наскоро собрали несколько микроскопов. Заглянув в каждый из них, Кох недовольно спросил:
— Отчего же вы покрасили ваши препараты в лиловый цвет? Было бы гораздо лучше их окрасить в голубой.
Мечников объяснил.
Кох выпрямился и сказал, что препараты ничего не доказывают. Его сотрудники, накануне говорившие обратное, поспешили к нему присоединиться.
Мечников был взбешен, но сумел сдержаться.
— Нескольких минут, очевидно, недостаточно, — нашелся он, — чтобы увидеть все тонкости. Прошу вас назначить мне новое свидание, более продолжительное.
…В следующий раз Кох все-таки увидел то, что требовалось, но сказал, что он не специалист по микроскопической анатомии и ему все равно, где находятся микробы — внутри или вне клеток.
Таков был Кох.
Старейший советский бактериолог Борис Ильич Клейн рассказывал о своих занятиях в институте Коха в 1902 году. Борис Ильич работал в лаборатории Колле — милого, добродушного человека, хорошо относившегося к молодому русскому коллеге. Однажды взволнованный Колле сказал, что сейчас придет Кох, и побежал его встречать.
Их появление было не лишено комизма.
Кох шел неторопливо, держался прямо, холодно смотрел сквозь очки ничего не выражавшими, бесцветными глазами. А Колле крутился вокруг него, забегал то справа, то слева и с подобострастием что-то нашептывал.
Едва взглянув на русского незнакомца, не поздоровавшись и не осведомившись о нем, Кох в сопровождении вертящегося Колле вышел.
Когда Колле вернулся, то было видно, что с плеч его свалилась огромная тяжесть. Он как-то распрямился, в движениях его не стало унизительной суетливости. Но он оставался преисполненным благоговения.
— Кто это был? — спросил он русского коллегу.
— Профессор Кох, — недоумевая, ответил Борис Ильич.
— Эксцеленце Кох! — поправил Колле со значением.
И все же Кох прежде всего ученый, а потом уже эксцеленце. Через девятнадцать лет после первой встречи с Мечниковым он нашел в себе мужество публично заявить, что тогда, в 1887-м, Мечников был полностью прав, демонстрируя ему препараты…
3
Своим пребыванием за границей Илья Ильич решил воспользоваться для того, чтобы ознакомиться с работой ведущих лабораторий, а заодно приискать себе пристанище.
В Вене во время конгресса профессор Гюппе приглашал его обосноваться в Висбадене — маленьком университетском городке. Что ж! Ни о чем другом он не мечтал.
Но в Висбадене Мечников быстро убедился, что городок этот не для него. Лаборатории враждовали между собой, а внутри каждой царил свой эксцеленце.
В Мюнхене, куда он поехал объясниться с Эммерихом, была такая же картина.
Германия ему явно не подходила.
Совсем иное он увидел в Париже.
4
Пастер оказался дряхлым, полупарализованным старичком, совершенно седым. Он был болезненно бледен, выглядел крайне утомленным, и Мечников подумал, что жить ему осталось несколько месяцев. Но едва Пастер заговорил, как серые глаза его заблестели и он весь преобразился.
«В то время как мои молодые сотрудники отнеслись очень скептически к вашей теории, — вспоминал Мечников слова Пастера, — я сразу стал на вашу сторону, так как я давно был поражен зрелищем борьбы между различными микроскопическими существами, которых мне случалось наблюдать. Я думаю, что вы попали на верную дорогу».
Волоча одну ногу, Пастер повел гостя в отделение, где принимали больных. «Он останавливался на малейших подробностях, — вспоминал Мечников, — отчаивался при малейшей неудаче, утешал детей, плакавших от боли, причиняемой впрыскиваниями, совал им в руку медные деньги и конфеты. Легко было видеть, что Пастер всем существом своим предан делу и что страстность его натуры не уменьшилась с годами».
«Страстность натуры», «всем существом предан делу», «отчаивался при малейшей неудаче», «утешал детей, совал в руку конфеты и деньги»… О ком говорит Мечников? О Пастере? Да, конечно. Но разве и не о себе тоже?.. Разве не увидел он в полупарализованном старике свою страсть, свой темперамент и азарт и разве не это родство натур, родство характеров объясняет в какой-то мере то исключительное положение, какое в скором времени Мечников займет в Институте Пастера?
И не поэтому ли ему вдруг стало так необыкновенно просто с этим уже причисленным к сонму бессмертных — не только формально, ибо Пастер входил в число сорока «бессмертных» членов Французской академии, но по сути своей деятельности, по завоеванному жизнью своей праву на бессмертие — человеком!.. И так просто оказалось обратиться к Пастеру с просьбой (о чем и не помышлял, отправляясь к нему), чтобы в новом своем институте, строительство которого подходило к концу, он выделил ему одну или две комнаты, как «независимому» исследователю.
Пастер пригласил Мечникова на обед. Уверенный, что речь идет об обычном семейном обеде, Илья Ильич облачился в черный сюртук. Подымаясь по лестнице, он, однако, увидел разодетых дам и кавалеров во фраках. Мечников захотел тотчас вернуться в гостиницу, дабы надеть фрак, благо запасся им для Венского конгресса. Но Пастер уже увидел его, никуда не отпустил и, чтобы гость чувствовал себя свободно, сам переоделся в сюртук. Он усадил Мечникова рядом с собой, был к нему очень внимателен и предупредителен.
«Гвоздем программы», как выяснилось, было вручение хирургу Терильону ордена Почетного Легиона. Когда Пастер с большой торжественностью передал Терильону коробочку, все пришли в неописуемый восторг, а награжденный бросился целовать ученому руки.
После обеда, желая доставить русскому гостю особое удовольствие, Пастер стал показывать ему свои собственные награды. Ордена были выставлены в особой витрине, и Пастер подробно и с большим знанием дела рассказал о каждом. Под конец он извлек один из них, дал внимательно разглядеть (орден был вычеканен из серебра в виде маленьких роз, подвешенных на цепи) и с гордостью объяснил, что это очень важный бразильский орден, которым награждены всего два человека: он, Пастер, и какой-то бразильский адмирал.
Мечников не мог сдержать улыбки.
Позднее, когда Илья Ильич уже работал в Париже, Пастер как-то, будучи сильно удрученным, на вопрос, что с ним, ответил:
— Можете себе представить, я только что был в министерстве, и мне наотрез отказали дать вам сразу орден офицера Почетного Легиона, а, ссылаясь на какие-то нелепые правила, согласились наградить вас лишь орденом кавалера.[35]
Мечников стал уверять, что равнодушен к орденам, но Пастер не поверил: решил, что его успокаивают.
У «бессмертных» бывают свои слабости…
5
Едва Мечников вернулся в Одессу, как опять на него посыпались всевозможные нападки.
Стоило ему начать курс лекций о туберкулезе, как в газете «Новороссийский телеграф» появилась разносная статья Искерского.
Корш продолжал присылать разные комиссии, и они послушно «устанавливали», что на станции не соблюдаются элементарные санитарные правила.
Узнав о том, что Пастер в ответ на просьбу правительства Австралии указать средство борьбы с сильно расплодившимися и уничтожавшими посевы кроликами предложил распространять среди них куриную холеру, Мечников решил применить тот же метод против сусликов, наносивших большой урон сельскому хозяйству на юге России. Весной 1888 года Гамалея отправился в Кишинев и вместе с энтомологом Забаринским провел контрольные опыты. Результат получился превосходный, и Мечников захотел дальнейшие исследования перенести под Одессу, так как ездить в Кишинев было неудобно. Но Корш заявил, что куриная холера опасна для домашних животных, и эксперименты запретил. Не без его участия в «Новом времени» появился бойкий фельетон, в котором утверждалось, что куриная холера опасна и для людей, так как может превратиться в настоящую азиатскую холеру.
Мечников немедленно послал свои возражения в «Новое время», а на областном съезде земских представителей дал бой Коршу. Илья Ильич доказал, что врачебный инспектор не знает существа дела. Микроб куриной холеры совершенно безвреден для крупных животных, а для домашней птицы опасны только неослабленные микробы; суслики же гибнут от ослабленных, которые птицам лишь полезны, ибо вызывают у них иммунитет. Ответ Корша свелся к тому, что-де Мечников очень искусен в полемике… Тем не менее врачебный инспектор «остался при своем мнении». Съезд направил ходатайство генерал-губернатору, и опыты в конце концов были разрешены. Но случай этот нанес еще одну рану чувствительной душе Мечникова…
«Разве можно жить в подобных условиях, разве можно вести какую-нибудь работу?» — горячился он, и, как писал Бардах, «этот инцидент имел очень большое влияние и сыграл известную роль в его решении покинуть Россию».
Сам Мечников и Ольга Николаевна тоже вспоминают столкновение с Коршем как «последнюю каплю, переполнившую чашу».
Он хоть и договорился с Пастером, но, видно, еще колебался. Шутка ли — уехать в чужую страну, поселиться среди людей, говорящих на чужом (хоть и понятном тебе, но чужом!) языке, привыкать к чужим обычаям и нравам…
Но жребий был брошен. Уезжая на лето в Поповку, Мечников уже твердо знал, что на станцию не вернется.
6
Правда, в отставку он не подал.
Опасался, как объяснял впоследствии, что на его место пригласят кого-нибудь со стороны.
Он хотел, чтобы станцию возглавил опытный и преданный делу человек, то есть Николай Федорович Гамалея, и три руководителя станции порешили, что лучше всего ему пока уйти в длительный отпуск, дабы Гамалея стал временным заведующим. Это, по их мысли, облегчило бы утверждение его потом на постоянную должность.
В деревне Илье Ильичу было неспокойно. Как-то сложится будущая жизнь?.. Вместе с Ольгой Николаевной он поглощал несметное количество французских романов, стремясь разобраться в особенностях национального характера французов. Романы ему не нравились. Да и дела станции продолжали волновать.
Незадолго до его отъезда в деревню на одном из совещаний к нему обратились с вопросом: что он думает о сибиреязвенных прививках в Белозерке? В ответ он подверг опыты Скадовского подробному разбору.
Председатель Херсонской губернской управы Никитин попросил Илью Ильича изложить свои соображения письменно, что он и сделал. Как только его отзыв появился в «Одесском листке», в редакцию пришла телеграмма:
«В № 140 вашей газеты появился реферат отзыва Мечникова о белозерских прививках, на который с удовольствием отвечу. Георгий Скадовский».
Что напишет Скадовский? Не придется ли возражать на его ответ?.. Мечников напряженно ждал…
Илью Ильича беспокоило и то, что между двумя его помощниками наметилось отчуждение, какая-то взаимная ревность. Чем она была вызвана? Мечников, вероятно, знал, но нам сейчас трудно выяснить этот вопрос. Оба талантливые, оба преданные делу, они, однако, были очень разными. Высокий, статный, красивый, в щеголеватом пенсне на цепочке, Гамалея работал легко, как бы играючи, как бы между прочим. Бардах же, до болезненности худой, с печатью обреченности на лице, отдавался делу с неуемной горячностью, с аскетическим самоотречением… Уходя в отпуск, Мечников поручил Бардаху все работы по прививкам против сибирской язвы. Может быть, Гамалее это не нравилось? Может быть, Бардаху не нравилось, что за два года существования станции Гамалея успел прославиться на весь мир, о нем же вспоминали значительно реже?..
В одном из писем Мечникову Гамалея недовольно сообщал, что Бардах повел работы по вакцинации овец против сибирской язвы со слишком большим размахом. Илья Ильич на это не ответил, дав понять временному заведующему, что тот вмешивается не в свое дело.
Еще Гамалея писал, что станцию опять посетил принц Ольденбургский и, узнав о предстоящем уходе Мечникова, предлагает ему возглавить в Петербурге большой институт, который задумал основать.
Нетрудно представить, как екнуло сердце Ильи Ильича… «Но, проученный одесским опытом и зная, как трудна борьба с противодействиями, возникающими без всякой разумной причины со всех сторон, я предпочел…» Словом, он остался при своем решении. Тем более что петербургский климат был вреден Ольге Николаевне.
Слухи о его уходе проникли в печать, и в Одесскую городскую управу поступило заявление из Петербурга от доктора медицины Кноха, пожелавшего занять место директора станции.
Потом в газете «Новороссийский телеграф» появился «Ответ на отзыв», написанный Скадовским, причем, не удовлетворившись этим, Скадовский запросил телеграммой редактора «Записок Императорского общества сельского хозяйства Южной России» Забаринского, может ли его статья быть помещена в этих «Записках». «Неприличный и ненаучный тон вашего ответа в „Нов. тел.“ исключает возможность его появления в серьезном и порядочном органе печати» — такую депешу получил Скадовский. Но не успокоился. Он поспешил выпустить «Ответ» на собственный счет и разослал брошюру чуть ли не всем земским деятелям губернии.
…Как просто, оказывается, было в то время печатно возвести на человека любое обвинение! Скадовский утверждал, что Мечников… подкуплен Пастером, а вернее — Обществом пастеровских вакцин. Пастер (а Скадовский думает, что общество, ибо «едва ли г. Пастер принадлежит к числу тех людей, которые, продавши свое имущество одному лицу, могут решиться продать то же имущество другому») потому-де открыл Гамалее «секрет» сибиреязвенных прививок, что в Париже узнали об успехах Ценковского и задумали с помощью Одесской станции задушить конкурента!..
Брошюра произвела на земских деятелей тем большее впечатление, что Скадовский пользовался в губернии сильным влиянием. Сказочно богатый (он даже выстроил собственный город-порт Скадовск), он принадлежал к числу «просвещенных» помещиков, жертвовал немалые суммы на общественные и благотворительные нужды, и земское начальство перед ним заискивало.
Ответ Скадовского был опубликован в первых числах августа, а 14 августа в «Одесском листке» появилось короткое сообщение:
«Бактериологическая станция просит нас заявить, что при производстве предохранительных прививок первой вакцины в Каховке у помещика К. М. Панкеева вследствие еще не выясненной причины погибло свыше 50 процентов привитых овец. Точная цифра павших привитых овец не приведена пока в известность. Причины этого несчастного случая тщательно расследуются на станции».
22 августа 1888 года Мечников приехал в Одессу, я 24-го уехал обратно в Поповку. Что пережил он за эти три дня?.. Ответ пусть подскажет читателю его собственное воображение.
Какое счастье, что случилось это только теперь, когда Илье Ильичу уже 43 года и оптимистическое мироощущение окончательно в нем утвердилось! Произойди нечто подобное несколькими годами раньше, и кто знает, не предпринял ли бы он новую попытку переступить черту и не оказалась ли бы она более удачной, чем прежние.
…Выяснилось, что погибло не свыше половины, а около 80 процентов овец общим числом 3549 и стоимостью в 40 тысяч рублей.
Что именно произошло, установить оказалось невозможным.
Бардах и помогавший ему молодой врач Шор уже привили первую и вторую вакцину почти семи тысячам овец помещиков Сухомлиновых и Кузнецова. И ни одна из них не пала! А буквально за несколько дней до катастрофы они привили первую вакцину семи тысячам овец другого помещика — Шредера. И опять ни одна не погибла! Таких результатов не добивались даже во Франции, где массовые прививки проводились уже много лет.
Не желая попусту терять две недели, которые должны пройти между прививками первой и второй вакцины, Бардах и Шор поехали к Панкееву. И вот, когда они заканчивали дело, овцы начали гибнуть…
Надеясь спасти оставшихся, Бардах стал спешно вводить им фенол, но было уже поздно. Пастухи пришли в сильное возбуждение, над молодыми учеными нависла опасность самосуда. В полном изнеможении от усталости и горя приехал Бардах с остатком вакцины в Одессу. Гамалея ввел пробу кролику, и тот вскорости погиб. Стало ясно, что у Бардаха была не первая вакцина, а сильный яд сибирской язвы. Почему? Мечников терялся в догадках. Кто-то подменил культуру? Маловероятно… Вакцина самопроизвольно усилилась? Это тоже маловероятно.
Пришел Панкеев. Он оказался «человеком, не смотрящим в глаза и (к счастью) вообще малосимпатичным», как писал Мечников Ольге Николаевне. Помещик требовал возмещения хотя бы половины убытков. Мечников ответил, что сочувствует его беде, но выложить двадцать тысяч не может. Он предложил встречный план. Пусть Панкеев повременит, даст станции оправиться; впредь прививки будут проводиться небольшим партиям овец под залог определенной суммы, так что хозяевам ничем рисковать не придется; вырученные же деньги пойдут на покрытие убытков Панкеева, и за несколько лет частично, а то и полностью станция их возместит. Но помещик этот план отверг. Он потребовал, чтобы Мечников и Гамалея уплатили ему по 10 тысяч (с Бардаха взять было нечего). Оба, разумеется, отказались. Панкеев подал в суд, дело тянулось много лет, и в конце концов он во всех инстанциях проиграл, что, между прочим, сразу же предсказал Мечникову его брат Николай Ильич («спокойный папаша» был одним из лучших практикующих юристов Одессы).
Но в печати поднялся невероятный шум: газеты не могли пропустить столь скандальную историю.
Неистовствовал «Новороссийский телеграф». В столице улюлюкало «Новое время». Подпевали «Петербургские ведомости». Только «Одесский листок» оставался доброжелательным и даже пытался защищать Мечникова. 22 сентября газета писала:
«…систематические нападки на И. И. Мечникова, встречающиеся в последнее время в столичной прессе, очевидно, исходят из одного и того же источника. Мы едва ли ошибемся, если скажем, что эти нападки исходят от не в меру рьяных последователей покойного Л. С. Ценковского, мнящих себя почему-то его продолжателями. К этому мнению приводит нас тот факт, что почти всегда рядом с нападками на И. И. Мечникова идут дифирамбы и славословие Л. С. Ценковскому. Г. Мечников, изволите ли видеть, оказывается не только прямым виновником неудачной прививки, но самая неудача является прямым последствием того, что во главе бактериологической станции стоит именно г. Мечников, не имеющий диплома ветеринара и коновала».
«Одесский листок» все объяснял точно. Несмотря на неудачу у Панкеева, в эффективности метода прививок сомневаться не приходилось, поэтому враги станции стремились поставить несчастный случай в ряд с другими «упущениями». Всякое лыко пошло в строку. Вспомнили и вола, погибшего от чумы; умершую фельдшерицу Александрову, заразившуюся по собственной небрежности сапом (это произошло в то время, когда Мечников был в Вене на Международном конгрессе; причину несчастья выясняла особая комиссия и пришла к выводу, что Александрова не соблюдала положенных правил предосторожности), и каких-то покрытых коростой овец, содержавшихся на ферме вместе со здоровыми (Мечников не имел об этом понятия, так как овцы не принадлежали станции)… Одна газета написала, что Мечников почти не бывает в Одессе, ибо живет либо за границей, либо в деревне, а другая в связи с этим недоумевала: почему же он не подает в отставку?
Ему указывали на дверь…
Особенно явственно это прозвучало на заседании Херсонского губернского земства. Председатель управы Никитин заявил, что Мечников нравственно обязан возместить Панкееву убытки; Никитин предлагал учредить многоэтажный контроль над станцией и запросить Мечникова, согласен ли он остаться заведующим при таких условиях. Последний пункт был, правда, снят, но само обсуждение его, подробно изложенное в газетах, уже было прямым оскорблением! Станцию называли «спекулятивным учреждением», от которого губерния «не получает никакой пользы». И в довершение ко всему собрание подчеркнуто вынесло благодарность Скадовскому…
А Мечников-то в это время, уже в Париже, мучился сомнениями: имеет ли он право в столь критический момент оставить станцию, не следует ли ему вернуться?..
Прочитав отчет о заседании, он отвечал:
«Разумеется, я бы пополнил убытки, как бы это трудно для меня ни было, если бы считал себя хоть сколько-нибудь ответственным за небрежность, совершенную более чем через два месяца после моего отъезда из Одессы и официальной сдачи станции в другие руки».
Мечников напомнил о своих безвозмездных трудах в пользу земства и указал, что если бы, ввиду несчастного случая, произвели «материальную оценку» его деятельности и «предложили бы внести за меня сумму, которую, по мнению председателей двух управ, я должен г. Панкееву», то ему «вряд ли бы много пришлось приплатить из собственного кармана».
«Я, конечно, отказался бы от такого предложения, — заключал Илья Ильич, — и привожу его только для того, чтобы осветить свои права на иное отношение ко мне общественных инстанций».
Да, Мечников имел право на иное отношение к себе общественных инстанций, но он, конечно, не мог рассчитывать на иное отношение. Хуже было другое.
«Полагая, что лица, более или менее близко стоящие к делу, найдут возможность высказаться по этому поводу, я долгое время по легко понятным соображениям не решался выступить в свою защиту».
Лица, близко стоящие к делу, не нашли возможность высказаться.
Бардах по вполне понятным причинам молчал. Он был виноват, конечно, что, прежде чем использовать очередную порцию вакцины, не проверил ее на кролике или на одной-двух овцах. А Гамалея? «Я считал Мечникова морально ответственным за катастрофу ввиду того, что он передал такую ответственную работу двум молодым людям без всякого контроля и участия со своей стороны». Странное утверждение. Сам Гамалея, уезжая в Париж, передавал Бардаху более ответственные прививки — против бешенства. Да и по возрасту он на два года младше Бардаха. Выходит, Пастер тоже поступил опрометчиво, когда доверился ему — еще более молодому.
Друзья, как известно, познаются в беде. Дружба трех основателей Одесской бактериологической станции не выдержала проверки бедой…
Мечников не считал, что, поручив Бардаху большое дело, допустил ошибку. В своем ответе земству он писал: «Если бы меня спросили, кому бы я и впредь поручил ведение этого дела, то я, не колеблясь, указал бы на того же г. Бардаха, тем более что после, такого ужасного несчастья он приобрел большую опытность. Ни пред другими, ни пред собой я не намерен умалять пагубное значение непостижимой ошибки г. Бардаха, но я не могу в то же время не принимать в соображение, что в новом деле подобные ошибки не такая большая редкость. Следует вспомнить, что хорошие результаты Одесской станции по отношению к прививкам водобоязни тоже дались не сразу, а после тяжелых неудач первого периода этих прививок».
Чтобы написать такое после случившегося, надо было иметь мужество и надо было верить в Бардаха…
Что ж, Мечников хорошо знал своего ученика.
…Нет никакого сомнения, что под «лицами, близко стоявшими к делу», Илья Ильич разумел именно Бардаха и Гамалею — основных сотрудников станции. Но совестливый Александр Онуфриевич Ковалевский принял упрек и на свой счет.
«Я горько скорблю, что не ответил раньше за вас, — поспешил он написать Мечникову, — тем более что почти те же мысли приходили и мне в голову, и Заленскому, Михайловскому и другим, и я их и говорил».
Но Ковалевскому еще предстояло вступиться за своего друга. На следующий день в «Одесском листке» появился ответ Мечникову председателя Херсонской губернской управы Никитина. Оказывается, он вовсе не обвинял Илью Ильича за отказ уплатить Панкееву! Хотя имел на это право. Потому что Мечников в свое время заявил публично, что станция берет на себя всю ответственность за последствия сибиреязвенных прививок… Что же касается своих безвозмездных трудов в пользу земства, то Мечников напрасно их перечисляет: «Земство Херсонское как прежде, так и ныне относится с большим почтением к трудам уважаемого профессора и с большой благодарностью; но следует ли из этого, что за дело, подобное панкеевскому, это земство аплодировало, когда этим делом доказано, что безграничному доверию земства г. Мечников не дал должной цены». Выходит, это Мечников должен был ценить доверие земства, милостиво позволявшего трудиться на его благо!
Ковалевский тотчас запросил телеграммой, действительно ли Мечников говорил где-нибудь, что берет на себя ответственность за все последствия прививок, и, получив ответ: «Никогда не произносил в заседании приписываемых слов», — напечатал резкую отповедь Никитину. Его высказывания Ковалевский назвал «бесцеремонным глумлением». «По мне, не подлежит никакому сомнению, — писал с болью Александр Онуфриевич, — что за этот несчастный случай Мечников выстрадал более, чем все господа представители земства, вместе взятые <…>, а г. Никитин позволяет говорить о требовании аплодисментов! — не аплодисментов могли требовать от земства г. Мечников и заведующие станцией, а делового и серьезного отношения к делу. Станция земская и городская, земству представляются постоянные отчеты о ее деятельности, представители земства обязаны были отнестись деловым образом к серьезному делу, расследовать вопрос во всех деталях, произвести следствие и изложить в докладе управы результаты и предложить меры, способные урегулировать и упрочить дело, а не оскорблять или попросту изгонять г. Мечникова».
До Ковалевского доходили слухи, что Никитин «ужасно зол»; но возразить председатель управы не решился. Пилюлю он проглотил.
А Скадовский, немало потрудившийся над раздуванием «Панкеевского дела», в конце концов обломал сук, на котором сидел сам. Товарищ министра внутренних дел, дабы успокоить «общество», прививки против сибирской язвы в России запретил. Со временем весь материал и на Одесской станции, и в Белозерке погиб…
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ Пастеровский институт
1
Подгоняемый нетерпением, Илья Ильич по обыкновению своему приехал в Париж на месяц раньше, чем это было нужно.
Здание Пастеровского института — роскошное, в стиле Людовика XIII, — на улице Дюто, еще не было закончено, и Мечниковы поселились в небольшой гостинице в Латинском квартале поближе к улице Ульм, где в приземистом бараке ютилась старая лаборатория Пастера.
Со сложными чувствами переступил Илья Ильич ее порог.
Теперь он вошел сюда не как гость, а как полноправный сотрудник. Но полноправным-то он никак не мог себя ощутить…
О, Пастер встретил его с прежним радушием!
И его ближайшие ученики — Ру, Дюкло, Шамберлан — тоже.
Но в лаборатории негде было повернуться, и мнительному Мечникову чудилось, что его присутствие стесняет других.
Вскоре в новом здании были окончательно отделаны две комнаты. Пастер разрешил занять их, и безмерно счастливый Илья Ильич сам помогал рабочим вносить в пахнущее свежей краской новое свое обиталище лабораторные столы и ящики с оборудованием.
2
14 ноября 1888 года состоялось официальное открытие института.
На торжестве председательствовал сам президент республики Сади Карно. Присутствовали министры, парламентарии, видные промышленники, банкиры, ученые.
Говорили речи. Раздавали ордена Почетного Легиона. Пастер был настолько взволнован, что сказать ответное слово не мог, и подготовленную им речь прочел его сын.
Наконец-то сбылась заветная мечта престарелого ученого. Наконец-то у него институт, в котором найдут пристанище исследователи со всего мира, желающие посвятить свои силы борьбе с человеческими недугами…
Именно со всего мира.
Институт построен на деньги, собранные по международной подписке; он служит целям борьбы с недугами, от которых равно страдают жители разных стран. И двери его должны быть открыты для всех. Так считал Пастер. И, желая показать, что это не только слова, во главе двух из шести отделений поставил иностранных ученых. Илью Мечникова. И Николая Гамалею.
3
Николай Федорович Гамалея приехал в Париж, чтобы продемонстрировать эффективность противохолерной вакцины, которую, как он думал, ему удалось создать. В Париже, однако, его ждала жестокая неудача. Пастер, успевший уже оповестить о блестящем открытии своего русского ученика, требовал результатов, а молодому ученому никак не удавалось привить холеру голубям, с которыми он успешно экспериментировал в Одессе. В конце концов Пастер объявил (цитируем Гамалею), «что так как я скомпрометировал его своей неудачей, то мне не место в его институте».
Николай Федорович писал, что он оказался жертвой интриг. Он пытался продолжать свои опыты в других парижских лабораториях, но, не добившись успеха, в 1892 году вернулся в Россию.
Так складывалась судьба крупнейших русских бактериологов: один «от интриг» уехал из России в Париж, другой «от интриг» же из Парижа в Россию…
На этом нам придется расстаться с Николаем Федоровичем Гамалеей. Делаем это без всякой охоты, ибо впереди у него огромные заслуги перед отечественной и мировой наукой. Что же до Мечникова, то его отношения с первым из своих учеников за время их совместного пребывания во Франции вконец испортились. В одном из писем Ольге Николаевне Илья Ильич сообщал, как он слушал лекцию об иммунитете профессора Страуса, о том, что там присутствовал Гамалея и даже не раскланялся со своим учителем и недавним другом.
Через много лет Гамалея выступит с весьма странной критикой фагоцитарной теории. Отповедь ему даст ближайший сотрудник и ученик Мечникова Александр Михайлович Безредка. Сам Илья Ильич будет хранить молчание. Даже в капитальном труде своем «Невосприимчивость в инфекционных болезнях», в котором подробнейшим образом изложит историю дискуссий вокруг фагоцитоза, он ни словом не обмолвится о возражениях Гамалеи. Только в сноске укажет, что в решении научных вопросов «ошибочно» становиться на «личную точку зрения»…
4
Из двух с половиной миллионов франков, собранных по международной подписке, полтора ушло на покупку земли и строительство здания. Оставшийся миллион давал тридцать тысяч годового дохода, и столько же выделяло французское правительство. Однако мизерность этих средств не очень беспокоила Пастера. Если частные пожертвования позволили ему возвести хоромы, то почему им и в дальнейшем не стекаться в фонд института широким потоком? Ведь «общество» вполне созрело, чтобы понимать, сколь благодетельно для него же развитие бактериологических исследований.
Но источник неожиданно иссяк…
Ажиотаж, вызванный некогда вакциной против бешенства, улегся, «общество» охладело к бактериологии.
Чтобы привлечь внимание к институту, надо было поразить мир крупным, практически важным открытием, но удачи выпадают не каждый год. Только широкий масштаб исследований мог дать надежду на успех, но для этого-то и нужны были деньги. Положение усугублялось тем, что маленькое жалованье не устраивало сотрудников; многие стали приискивать другие места. Видя все это, Пастер глубоко страдал.
Мечников предлагал пустить большую часть средств на приобретение человекообразных обезьян, дабы попытаться привить им некоторые «человеческие» болезни, безвредные для обычных лабораторных животных. Если это удастся, убеждал он Пастера, то внимание вновь будет приковано к институту и столь необходимые деньги появятся.
План Ильи Ильича был, однако, сопряжен с опасностью потерять последнее, и Пастер, всегда столь страстный в поисках истины, умевший и любивший рисковать, на этот раз рискнуть не решился.
Впрочем, это был уже другой Пастер.
Работать он больше не мог. Взялся, правда, за изучение эпилепсии, но опыты приводили его в такое возбуждение, что родные и друзья, опасаясь за его здоровье, уговорили работу прекратить.
С утра он обходил лаборатории, пытался вникать в проводимые исследования, но уже с трудом их понимал и развлекался тем, что рассказывал о былых достижениях.
Свои надежды Пастер возлагал на толстосумов и, желая польстить им, ввел некоторых в совет института. Но Пастер был плохим дипломатом. Альфонс Ротшильд, самый богатый человек Европы, изредка приходя на заседания совета, если и запускал руку в свой объемистый карман, то вынимал из него «не бумажник, а часы, выражая нетерпение, что заседание еще не кончилось», как с грустной иронией вспоминал Мечников.
Ротшильды привыкли вести крупную игру. Они ворочали миллионами, свергали и приводили к власти правительства; им было не до микробов.
Пастер стал обхаживать другого богача, барона Гирша; засылал к нему эмиссаров, приглашая посетить институт.
Наконец барон явился. С надменным видом подошел к Пастеру и сказал:
— Нам не нужно представляться друг другу; оба мы хорошо известны.
Быстренько обежав институт и взглянув на коллекции микробов, «которые были ему показаны под целой батареей микроскопов», барон с пренебрежением спросил: «Какая от всего этого может быть польза?» — и поспешил удалиться…
Но все же институт набирал силы.
Ру со своим учеником Иерсеном взялся за изучение дифтерии, эпидемии которой свирепствовали по всей Европе.
Ученые сразу же наткнулись на странное обстоятельство, которое, впрочем, отметил еще Леффлер — первооткрыватель дифтерийной палочки. Все попытки обнаружить палочку в крови, селезенке, печени и других органах окончились неудачей. Микробы гнездились только в горле заболевших детей, а болезнь носила не локальный, а общий характер. Не оставалось ничего другого, как предположить, что палочка вырабатывает какой-то сильный яд, который и разносится по организму…
Чтобы убедиться в этом, Ру стал выращивать культуры микробов, отфильтровывать бактерии от жидкостей и эти жидкости вводить лабораторным животным. И вот после многих неудач ему удалось вызвать у кролика типичную дифтерию. Вырабатываемый микробами яд был открыт. Ру взялся за поиски противоядия.
А тем временем Мечников развернул исследования по фагоцитозу, и к нему потянулись молодые ученые со всей Европы.
Первыми его учениками в Институте Пастера стали англичанин Рюффер и русский врач Николай Чистович.
Позднее появились француз Э. Берне, японец Яманучи, итальянцы Салимбени и Санарелли, бельгийцы Ж. Бордэ и О. Жангу, румын Кантакузен и особенно много русских — В. А. Хавкин, Г. Н. Габричевский, М. И. Судакевич, В. И. Исаев, И. Г. Савченко…
Скоро в двух комнатах стало тесно, и Пастер отдал Мечникову второй этаж в южном крыле обширного здания.
Сам он в институте уже не бывал, и сотрудники ходили к нему с докладами.
За Мечниковым был закреплен понедельник, и он отмечал про себя, как раз от раза истощается великий ум, иссякает, казалось бы, бездонный источник энергии. Вопросы Пастера обнаруживали, что он не понял или забыл то, о чем ему говорили десять минут назад. Видеть эту беспомощность было нестерпимо больно, и визиты к Пастеру превратились для Ильи Ильича в тяжкую повинность, которую он безропотно нес до последних дней того, кого называли спасителем человечества…
5
Каждый месяц приносил фагоцитарной теории новых сторонников, но все более активными становились и ее противники.
Один из них — Эмиль фон Беринг, талантливейший ученик Коха. Он был убежден, что причина иммунитета не в деятельности клеток, а в свойствах жидкостей организма. Ряд ученых уже установил, что сыворотка крови и другие органические жидкости умерщвляют помещенные в них бактерии. Стало ясно, что в соках организма есть какие-то бактерицидные вещества. Было установлено, что при нагревании до 55–60 градусов они распадаются и жидкости становятся для микробов безвредными. Мюнхенский ученый Бухнер назвал эти противодействующие бактериям вещества аллексинами — от греческого слова «allexo» — предохранять. Им он приписывал главную роль в иммунитете. Аллексины или фагоциты? Беринг решил выяснить этот вопрос. Он взял сыворотку крови белых крыс (считалось, что они невосприимчивы к сибирской язве), смешал ее с сибиреязвенными бациллами и ввел кроликам. Кролики остались живы…
Итак, сыворотка крови от природы иммунного животного сделала невосприимчивым к болезни другое животное! Чем не доказательство справедливости гуморальной[36] теории иммунитета?..
Но почему Беринг так уверен, что белые крысы невосприимчивы к сибирской язве? Мечников ставит опыты и убеждается, что крысы погибают от этой болезни так же, как и кролики. Результат парадоксален. Кровь крыс содержит аллексины, которые могут предохранить кроликов, но самих крыс они не уберегают. Все гораздо сложнее, чем кажется с первого взгляда!
В 1890 году в Берлине состоялся очередной медицинский конгресс. Теория иммунитета на нем, как и на Венском конгрессе, специально не обсуждалась, однако затрагивали ее в своих выступлениях многие. Некоторые ученые поддерживали идею фагоцитоза, но случилось то, чего давно уже опасался Мечников: Роберт Кох отозвался о его теории с пренебрежением.
Кох теперь не утверждал, что не видит пользы в международных конгрессах. Он выступил с большим докладом и стал подлинным героем дня.
Кох заявил, что его многолетние поиски лекарства против самого страшного бича человечества — туберкулеза — близки к завершению; он уже имеет средство, излечивающее морских свинок, и убежден, что оно будет целительным для людей.
Ученый не сообщил никаких подробностей, но мало кому пришло в голову усомниться в его словах. Слишком высок был авторитет Коха, все слишком хорошо знали, с какой придирчивостью он проверяет свои работы, прежде чем их обнародовать.
И хотя с точки зрения научной этики его сообщение выглядело более чем странным (Ру недовольно писал из Берлина, что Кох должен был либо молчать, либо раскрыть все до конца), известие о замечательном открытии мигом облетело весь мир.
Берлин наводнили чахоточные; врачи из разных стран осаждали Коха, требовали чудодейственный туберкулин. Выпустив из бутылки джинна, ученый утратил над ним контроль. Сказав «А», он должен был сказать и «Б».
Со всех сторон стали поступать сообщения о молниеносных исцелениях. Хотя Кох предупреждал, что лекарство помогает лишь на ранних стадиях болезни, но его уже не слушали, давали всем без разбора. Ученого прославляли, на него молились, правительство подарило ему большой институт, получивший название Коховского, как Пастеровский в Париже. Лишь немногие сохраняли сдержанность. Но даже Пастер, когда Кох прислал ему флакон с туберкулином, воскликнул:
— Это существует, и хватит об этом!
И тут произошла катастрофа…
«Исцеленные» туберкулином стали умирать.
При повторении опытов Коха в других лабораториях обнаружилось, что он допустил серьезные ошибки. Даже свинки, на которых он разработал свой метод, вовсе не излечивались…
Провал был полный и, в сущности говоря, неизбежный. Кох поплатился за свое высокомерие.
6
В конце 1890 года в Париж приехал Джозеф Листер, видный хирург, один из признанных творцов медицинской бактериологии. Еще в то время, когда Пастер занимался брожением и не помышлял о медицине, Листер применил его данные для предупреждения послеоперационных инфекций.
Известие, привезенное Листером, потрясло сотрудников Пастеровского института. Он рассказал, что Беринг создал лекарство от дифтерии…
Вряд ли где-либо могли лучше оценить это достижение, чем в Институте Пастера. Ведь с тех пор, как Ру открыл дифтерийный токсин, он безуспешно бился в поисках антитоксина, и вот оказалось, что противоядие найдено.
Когда сообщение Беринга появилось в печати, Ру и Мечников смогли в еще большей мере оценить его открытие. Оказалось, что это не счастливая находка, не случайно найденное вещество, нейтрализующее дифтерийный токсин, а результат углубленных исследований, которые Беринг проводил, исходя из своих взглядов на природу иммунитета. Было известно, что животные, перенесшие дифтерию, вторично ею не заболевали: они оказывались иммунизированными. Беринг предположил, что сыворотка крови таких животных должна убивать дифтерийных бактерий. Опыт, однако, показал обратное: палочки спокойно размножались в пробирке с сывороткой. Закономерно возник вопрос: а как сыворотка будет действовать на дифтерийный яд? Беринг смешал сыворотку со смертельной дозой токсина и ввел свинке, никогда не болевшей дифтерией… Животное осталось здорово, в то время как контрольная свинка, которой был введен токсин без сыворотки, погибла!
В следующем, 1891 году в Лондоне состоялся очередной гигиенический конгресс, и по предложению Листера целое заседание на нем было посвящено проблеме иммунитета.
С изложением фагоцитарной теории выступил не Мечников, а Ру. Видимо, потому, что Илья Ильич еще не совсем свободно владел французским языком, на котором приличествовало говорить представителю Пастеровского института.
Эмиль Ру пришел к Пастеру еще совсем молодым врачом и участвовал во всех его начинаниях по борьбе с болезнями. Страстный, нетерпеливый, всегда начиненный идеями, Пастер был склонен к опрометчивым действиям, так что методичному и осмотрительному Ру нередко приходилось уберегать учителя от слишком поспешных или слишком рискованных шагов. К тому же Ру оказался непревзойденным мастером эксперимента. Лабораторные исследования были его стихией; пробирки, реторты, шприцы не просто служили ему инструментами в работе — они вдохновляли его, изощряли его строго логический ум. В лаборатории Ру проводил большую часть суток, ей отдавал все свои силы, так что на обычные «радости жизни» у него их уже не оставалось. Любые, самые фантастические идеи Пастера он умел перевести на язык точного опыта и тем самым либо подтвердить, либо опровергнуть их.
К широким обобщениям он относился со свойственным строгим экспериментаторам недоверием, и неудивительно поэтому, что в то время, как Пастер с восторгом принял фагоцитарную теорию, Ру встретил ее скептически.
Однако Мечников с первого дня произвел на Ру самое благоприятное впечатление, и нескольких бесед с ним оказалось достаточно, чтобы Илья Ильич обрел в Ру верного единомышленника и друга. Ру понимал, как неуютно должно быть Мечникову в чужой стране, и ненавязчиво опекал его. Сам он был одиноким, и чуткий Мечников не упускал случая зазвать его к себе на обед, тем более что визиты неприкаянного холостяка доставляли радость Ольге Николаевне.
Мечников не охладел к Ру даже тогда, когда отношение к нему жены стало приближаться к той зыбкой, но опасной грани, которая отделяет дружбу от более глубокой привязанности. Новое испытание судьбы Илья Ильич воспринял как истинный философ.
«Одно время, — пишет с понятными недомолвками Ольга Николаевна, — Илья Ильич думал, что мое счастье призывает меня уйти от него, и всячески старался доказать, что я имею на это право. Благородство его поведения было лучшим нашим оплотом».
Благородство поведения в конечном счете вознаграждается. Ольга Николаевна знала, в чем ее счастье. Она осталась с Ильей Ильичом, и оба они сохранили дружбу с Эмилем Ру.
С большим докладом против фагоцитарной теории на Лондонском конгрессе выступил Бухнер. Он отстаивал свои аллексины, утверждал, что если фагоциты и играют какую-то роль в борьбе организма с микробами, то самую ничтожную.
Немецкие ученые дружно поддержали Бухнера. Особенно непримиримую позицию занял Беринг. Он, единственный из учеников Коха, который дерзал возражать учителю, в конце концов рассорился с ним и ушел из Коховского института, — не желал идти ни на какие уступки. Фагоцитоз Беринг объявил мистикой, упирая на то, что его внутренний механизм совершенно неизвестен. Он утверждал, что теория Мечникова не только несостоятельна, но еще и вредна, ибо тормозит терапию, потому что, «когда спрашивается, как же использовать живые клетки, чтобы излечивать болезни, и как направлять их действие для лечения больного человека, то ответ на этот вопрос очень затруднителен».
Возражения Беринга звучали тем более весомо, что ученые находились под впечатлением его блестящего открытия — дифтерийного антитоксина.
С ответом вновь выступил Ру, но все ждали, что скажет сам автор фагоцитарной теории. Отмалчиваться было невозможно, и смущенный Мечников начал с того, что попросил снисхождения: он еще плохо владеет французским языком и к тому же за отведенные пятнадцать минут не сможет осветить все затронутые вопросы.
Когда отпущенное ему время истекло, он прервался на полуслове и хотел сойти с трибуны, но Листер предложил дать Мечникову закончить. Зал согласился, и Илья Ильич проговорил пятьдесят минут. С трибуны он ушел, сопровождаемый аплодисментами. «А ведь аудитория состояла главным образом из его противников», — вспоминал участвовавший в работе конгресса Я. Ю. Бардах.
«Он всех покорял силой своего мощного ума, — объяснял Бардах, — в нем счастливо сочетался в высокой степени талантливый наблюдатель и острый критик, способный к самым широким обобщениям». В своей горячей речи Мечников доказывал, что аллексины убивают микробов лишь в пробирке, в самом же организме они вовсе не препятствуют заболеванию. А антитоксины Беринга действуют на яды бактерий, но не на них самих, так что нет никаких оснований отвергать значение фагоцитоза в иммунитете, подтвержденное многочисленными опытами.
«Мечников сейчас занят демонстрацией своих препаратов, — спешил Ру сообщить Ольге Николаевне сразу же после заседания, — и к тому же он не рассказал бы вам всего своего собственного успеха. Он говорил с такой страстью, что всех воспламенил. Мне кажется, что с сегодняшнего дня теория фагоцитов приобрела много новых друзей».
7
В Пастеровском институте Мечников и Ру организовали курсы по микробиологической технике. Илья Ильич читал на них лекции по своей, основанной на фагоцитарном учении, теории воспаления. (Изданные отдельной книгой, эти лекции стали классическим трудом Ильи Ильича.)
Новые заботы захватили Мечникова, новые друзья окружали теперь его. Наконец-то он обрел то, к чему стремился, наконец-то ничто не отрывает его от любимой работы. Илья Ильич сблизился со многими сотрудниками института. В Париже он сдружился также с Максимом Максимовичем Ковалевским, выдающимся ученым-правоведом, историком и социологом, — полуизгнанником, удаленным из Московского университета за проповедь конституционных взглядов.
Приглашенный читать лекции в Стокгольм, Максим Максимович вскоре стал интимным другом своей однофамилицы Софьи Васильевны Ковалевской. (Владимира Онуфриевича давно уже не было в живых. Все время метавшийся между наукой, в которой он сделал революционный переворот, никем, однако, в России не оцененный, и разными коммерческими комбинациями, Владимир Онуфриевич доверился обманувшим его компаньонам, обанкротился и в 1883 году, в возрасте 41 года, покончил с собой.) Максим Максимович вместе с Софьей Васильевной, а после ее смерти — один, часто наведывался в Париж и не упускал случая повидать Мечникова.
Раз в неделю у Мечниковых обедал П. Л. Лавров.
Необычайный пунктуалист, Петр Лаврович приходил ровно в половине шестого, и какое-то время его развлекала Ольга Николаевна, ибо Илья Ильич обычно запаздывал.
Наконец он входил, шумно приветствовал гостя и начинал рассказывать о событиях в институте.
После обеда переходили в гостиную пить кофе, и у Лаврова с Ольгой Николаевной завязывался оживленный разговор об искусстве. Илья Ильич лишь изредка вставлял замечания, «всегда тонкие и оригинальные, часто очень остроумные или едко-иронические», как вспоминал один свидетель этих бесед.
Иногда Илья Ильич в тот же день приглашал к обеду кого-нибудь из своих товарищей по институту — чаще всего Ру, иногда Дюкло, Йерсена. В таких случаях обычно вспыхивал научный спор, и тогда беседой руководил Мечников, а Лавров, утонув в мягком кресле, внимательно слушал. Работами Пастеровского института, и в особенности И. И. Мечникова, он намеревался воспользоваться в своем труде «Опыт истории мысли новейшего времени».
Познакомился Илья Ильич с Лавровым, по всей вероятности, еще в один из своих приездов в Швейцарию, у Льва Ильича, которого уже не было в живых — он умер летом 1888 года.
Лавров был для Мечникова как бы живым напоминанием о брате, и Илья Ильич относился к нему с нежной заботливостью.
Однажды случилось так, что Илья Ильич вовремя пришел к обеду, а Лавров запоздал минут на пятнадцать (в пути сломался омнибус). Я. Ю. Бардах, приехавший после Лондонского конгресса в Париж, был свидетелем того, как взволновала эта задержка Мечникова. Он поминутно вскакивал, доставал часы и, решив, что Петр Лаврович, видимо, заболел, чуть было не отправил к нему Бардаха; а когда Лавров появился целый и невредимый, он был счастлив и весь вечер окружал гостя трогательным вниманием. «Если мы вспомним, что И[лья] И[льич] был человеком весьма умеренных политических взглядов, а П[етр] Л[аврович] — крайним революционером, — заключает этот эпизод Бардах, — то увидим, насколько верны и отвечают действительности сказки о „нетерпимости“ И[льи] И[льича]».
Бардах, безусловно, прав: хотя Мечников обрушивался на своих научных противников с прежней страстью, из статей и речей его окончательно исчезло то, что порою встречалось в работах его молодости. К противникам своим он обращался теперь как к союзникам. Илья Ильич осуществлял на деле то, что еще в Одессе проповедовал студентам на их вечеринках: ученый ищет новое, часто ошибается и потому должен быть терпим к ошибкам других.
И еще в одном прав Бардах: не политические пристрастия сблизили Мечникова с русскими эмигрантами. Просто ему необходимо было общение с соотечественниками.
Из многочисленных молодых людей, приезжавших в Париж поработать в его лаборатории, Мечников неизменно отдавал предпочтение русским.
Александр Михайлович Безредка окончил Новороссийский университет, но в Медико-хирургическую академию его не приняли. Он приехал в Париж, окончил медицинский факультет и поступил в лабораторию Мечникова. Со временем Безредка стал ближайшим помощником Ильи Ильича, а после смерти учителя возглавил лабораторию. Остался во Франции также М. Вейнберг, выполнивший вместе с Мечниковым ряд работ по аппендициту.
Владимир Хавкин тоже вел исследования под руководством Мечникова. Он увлекся противохолерными прививками и потом уехал в Индию, где работал над совершенствованием вакцины, которую испытывал на себе самом и применял во время эпидемий. В Индии В. А. Хавкина чтут как героя.
Но большинство русских ученых, проработав — кто несколько месяцев, а кто и по два-три года — в Пастеровском институте, возвращались на родину. Они занимали кафедры, организовывали лаборатории, наиболее талантливые из них создали свои научные направления.
А. В. Сорокина установила имена сорока русских ученых, прошедших выучку в лаборатории Мечникова, но список этот неполон. В Париже Илья Ильич продолжал создавать отечественную школу микробиологов.
Первый из русских учеников Мечникова в Париже, Николай Яковлевич Чистович, изучал реакцию фагоцитоза при пневмонии и вернулся в Россию, овладев новейшими методами исследований. Впоследствии он был избран профессором кафедры заразных болезней Военно-медицинской академии, открыл в клинике оспенное и холерное отделения; бактериологию он ввел в учебный план в качестве обязательного курса и воспитал целую плеяду высокообразованных врачей-бактериологов.
Г. Н. Габричевский, командированный Московским университетом, также получил подготовку в лаборатории Мечникова и, вернувшись, создал Московскую школу микробиологов. Ему принадлежит ряд выдающихся работ по возвратному тифу, бактериологии чумы и другим проблемам.
Ассистенткой Габричевского стала ученица Мечникова П. В. Циклинская, впоследствии первая женщина — профессор бактериологии.
Глава Казанской школы микробиологов И. Г. Савченко также практиковался в лаборатории Мечникова. Учеником Ильи Ильича считал себя Д. К. Заболотный, начинавший свою деятельность под его руководством в Одессе, а потом приезжавший в Париж. Заболотный стал крупнейшим ученым, первым президентом Украинской Академии Наук.
Дважды у Мечникова работал В. И. Недригайлов — один из создателей Бактериологического института в Харькове. В лаборатории Мечникова выполнил интересные исследования В. И. Исаев — главный врач Кронштадтского морского госпиталя. Питомцем и близким другом Ильи Ильича был Л. А. Тарасевич, блестящий ученый, педагог, общественный деятель…
Основателями советской медицинской микробиологии по праву считаются Николай Федорович Гамалея, Даниил Кириллович Заболотный, Яков Юльевич Бардах. Николай Яковлевич Чистович, Лев Александрович Тарасевич. Все пятеро — ученики Мечникова.
Мечников принадлежит всему миру, но не случайно именно в нашей стране так свято чтут его память. Именем Мечникова у нас названы улицы и площади, высшие учебные заведения и научно-исследовательские институты, госпитали и больницы. В его честь вычеканена медаль. Издано шестнадцать томов его Академического собрания сочинений (к сожалению, незаконченного). И главное, в Советском Союзе научные идеи Мечникова нашли наиболее активных последователей.
…Илья Ильич выписывал кучу русских газет, с жадностью их прочитывал, а каждого свежего человека из России атаковал вопросами: что там, как там?
Там царило спокойствие. Самодержец всероссийский «успокоил» общество. Теперь уже не стреляли в министров и губернаторов, не пытались пустить под откос царский поезд. Студенты не волновались, разве что самую малость.
Только вот беда: изверившаяся в возможности одним махом установить на земле царство справедливости, молодежь в массе своей вовсе не кинулась в лаборатории, как должно было быть по представлениям Ильи Ильича…
Мечников недоумевал: почему такое пренебрежение к науке, которая одна только, как он полагал, может дать ответ на все «проклятые» вопросы, а значит, привести к всеобщему счастью?..
Илья Ильич узнает, что некоторые молодые ученые под влиянием проповедей Толстого «бросали науку, жгли приготовленные диссертации и вступали в общины для обновления жизни в сфере почти исключительно физического труда».
Как тут не забить тревогу! Молодежь не способна критически оценить взгляды великого писателя. Но Мечникову-то хорошо видны вопиющие противоречия в учении Толстого. Это Илья Ильич и хочет растолковать молодежи.
Чем доказывал писатель, что каждый человек должен непременно пахать землю и тачать сапоги, а потом уже, если ему захочется, писать романы или ставить научные эксперименты? Тем, что само устройство человека требует от него разнообразных физических действий. Птица потому птица, что она летает, утверждал Толстой, а человек потому человек, что он «ходит, ворочает, поднимает, таскает, работает пальцами, глазами, ушами, языком, мозгом».
Образную мысль Толстого Мечников склонен понимать буквально. Все, что мы знаем и о птице и о человеке, установлено наукой; как же можно, опираясь на науку, в то же время отрицать ее значение для людей? Кстати, не все птицы летают…
Мечников напоминает, что природа человека дисгармонична. Некоторые органы нашего тела прогрессируют, другие же отмирают; развивать эти отмирающие органы, основываясь на том, что они «естественны», — значит сталкивать человека вниз по эволюционной лестнице, к обезьяне. Вот к чему привело бы последовательное проведение в жизнь толстовской доктрины!
Толстой, ратуя за «гармоничное развитие», требует, чтобы все люди, в том числе и ученые, восемь часов в сутки отдавали физическому труду, а умственному лишь четыре часа.
Писатель уверяет, что знает людей науки, проводящих по десять часов ежедневно в полной праздности. Что ж, такие субъекты известны и Мечникову. «Было бы очень желательно, чтобы они даже и четырех часов в день не посвящали умственному труду, а занимались бы исключительно физическим. Беда только в том, что такие люди всегда останутся глухи к проповедям гр. Толстого и что их совесть вообще ничем расшевелить невозможно». Но почему Толстой называет этих тунеядцев учеными? Нет, истинные ученые работают не покладая рук по двенадцати и больше часов в сутки. Наука уже вооружила людей против некоторых болезней и в будущем принесет новые благодеяния. Но ей не следует мешать. Подлинно нравственное поведение должно быть основано не на нынешней природе человека, а на идеальной, какой она станет в будущем. Здесь еще много невыясненного, и решить все сложные вопросы может только наука. Вот на что молодежь должна направить свои силы! Что касается «непротивления злу насилием», то Мечников хотел бы, чтобы этот принцип был распространен «на приемы литературной критики и полемики, так как чересчур запальчивая речь с пеной у рта, клеймение противников позорными эпитетами и приписывание им самых низких побуждений („оглупление“ противников, „одурение“ противниц, „дармоеды“ ученые и художники, жрецы науки и искусства, „самые дрянные обманщики“ и многое другое, чем пересыпаны статьи гр. Л. Толстого) может только повредить делу, заставив, пожалуй, подумать, что такие приемы служат лишь для прикрытия слабости основной аргументации».
Итак, Илья Ильич показал, что нравственное учение Толстого базируется на глубоком внутреннем противоречии. Но что же он предлагает взамен?
Да опять ничего! Его собственная теория всеобщего счастья, вскормленная кислым молоком, явится еще не скоро.
Некоторые места полемической статьи Мечникова заставляют даже думать, что, несмотря на радостное миросозерцание, которое вот уже десять лет владеет всем его существом, бациллы пессимизма все еще отравляют его своими ядами. Илья Ильич сочувствует толстовской «проповеди гуманности и мягкого обращения с людьми и животными, но не потому, чтобы мучить и убивать людей и животных было „противно и мучительно природе человека“, а несмотря на то, что мучить людей и животных очень свойственно человеческой природе». Мечников убежден, что слишком много звериного унаследовал человек от своих предков. Но о том, как переделать нашу природу, он пишет невнятно. Основной инструмент эволюции — отбор; но роль естественного отбора в человеческом обществе со временем уменьшается, а искусственный отбор «в приложении к человеку должен составить критический и поэтому крайне трудный период в жизни человечества». Мечников признается, что «по временам может явиться сомнение в успешности дальнейшего развития и самый мрачный взгляд на будущность». Словом, он безнадежно запутывается.
Но отдать на поругание науку — нет, этого он не может допустить! «Вывод, сделанный более тридцати лет назад Боклем в результате обзора пути, пройденного человечеством, подтверждается с каждым днем все более и более, — уверенно пишет Мечников. — Самые прочные успехи, добытые людьми, — это именно те, которые совершены при помощи положительного знания. Самые серьезные надежды, которые можно лелеять, должны быть возложены на дальнейшие успехи в той же области».
И он не только лелеял надежды. Дело жизни своей он видел в том, чтобы доказать, что они осуществимы.
…В 1892 году в некоторых городах Европы очередной раз вспыхнула холера.
Врачи, бактериологи, гигиенисты разных стран бросились на борьбу с азиатской пришелицей. Холера была одной из самых загадочных болезней. Трудности в ее изучении состояли в том, что коховской «запятой» удавалось заразить только свинок и только при введении микробов в брюшную полость, причем характер болезни не имел ничего общего с холерой человека… Факт этот мало о чем говорил, особенно после того, как удалось открыть целый ряд микробов, почти неотличимых от «запятой» Коха и тоже убивающих свинок. Таковым оказался открытый Гамалеей Мечниковский вибрион, вибрион Денеке, вибрион Финклера и Приора, вибрион Паскаля… Правда, большинство исследователей не сомневалось, что виновник бедствия именно коховский вибрион, но, строго говоря, это еще требовалось доказать.
Словом, загадок было более чем достаточно, чтобы увлечь Мечникова, да вдобавок ко всему появилось сообщение, что если сыворотку человеческой крови ввести свинкам, то их можно уберечь от гибельного действия «запятой».
Опять это свойство сыворотки!
Мечников исследовал кровь 68 человек и получил неожиданный результат.
Он брал кровь у людей, никогда холерой не болевших, и у перенесших заболевание; у больных, находящихся в разных стадиях болезни, и у умерших от холеры. И независимо от всего этого кровь примерно в половине случаев защищала свинок от вибриона; а в половине — нет. Результат получился сходным с тем, что Илья Ильич установил, когда изучал сибирскую язву у белых крыс. Между способностью человеческой крови защищать свинок от холеры и сопротивляемостью к болезни тех людей, у которых эту кровь брали, не оказалось никакой связи. И этот козырь Мечников выбил из рук сторонников гуморальной теории.
На этом он мог считать свою задачу выполненной. Но тут пришло известие о героическом эксперименте 73-летнего мюнхенского гигиениста Макса Петтенкофера.
Прежде чем стать гигиенистом, Петтенкофер сменил множество профессий. Он был помощником аптекаря; пробовал силы на подмостках сцены; служил на монетном дворе; изобрел способ приготовления цемента; сумел получить светильный газ из древесины. Однажды ему поручили выяснить, почему в королевском замке всегда сухой воздух… Начав с гигиены жилищ, Петтенкофер затем принялся за гигиену одежды, вопросы питания, водоснабжения и за все прочие вопросы личной и общественной гигиены.
Среди инфекционных болезней Петтенкофер особое внимание уделял холере, которой сам переболел в молодости и от которой чуть было не погибла его дочь. Открытие Кохом холерной «запятой» он встретил в штыки. Не то чтобы Петтенкофер вообще отрицал роль микробов в распространении холеры, но он отводил вибриону второстепенную роль. Куда большее значение он придавал, например, состоянию грунтовых вод в местности, охваченной эпидемией, и ряд данных как будто бы говорил в его пользу. Так, в некоторых районах никогда не бывало холеры (таким «заговоренным» местом был, например, Версаль); иные области болезнь обходила во время одних эпидемий и не щадила во время других. Исходя из этих фактов, Петтенкофер считал бесполезной дезинфекцию испражнений холерных больных, выступал против карантинов и рекомендовал эвакуировать людей из охваченных инфекцией районов в «благополучные» (что, как мы теперь понимаем, могло лишь способствовать распространению эпидемии).
Стремясь во что бы то ни стало доказать свою правоту, Петтенкофер запросил из Института Коха культуру «запятых». Получив ее, он собрал нескольких учеников, на их глазах выпил немного соды (дабы нейтрализовать кислоты желудка) и запил холерной культурой…[37]
Последствием эксперимента явилось лишь легкое расстройство пищеварения.
Примеру Петтенкофера последовал его ученик Эммерих. Он принял меньше бацилл, но после этого нарочно нарушал режим питания, чтобы ослабить сопротивляемость своего организма.
Результат получился такой же…
Но Петтенкофер торжествовал недолго. Сотрудник Коха Гаффки поспешил заявить, что догадывался, для чего Петтенкоферу понадобилась «запятая», и послал ему старую, утратившую вирулентность культуру.
Опыт был тем самым сразу же обесценен.
Венский профессор Штриккер решил внести ясность в этот вопрос.
Его ученик Гастерлик трижды принял культуру вибриона, взятого от человека, болевшего холерой, и тоже остался здоров. Вслед за ним приняли вибрионы еще пять человек.
И все — с тем же результатом. Все, кроме одного.
У этого одного появился ряд явлений, обычных при холере. Но судорог у него не было. И понижения температуры — тоже. В общем, некоторых признаков типичной холеры не обнаружилось, и обследовавшие больного специалисты во мнениях разошлись. Бактериологи склонялись к тому, что перед ними легкая форма холеры. А клиницисты это отрицали. Отчего желудочное расстройство? Мало ли отчего!..
Итак, восемь человек рисковали жизнью, а дело не сдвинулось с места!..
Мог ли пылкий Илья Ильич стерпеть такое?
Словом, он сам решил испить из сей чаши.
Как? Неужели? Невероятно!
Положим, использовать себя вместо подопытного кролика ему не впервой.
Но ведь с тех пор, как он ввел себе в вену кровь тифозного больного, прошло уже больше десяти лет! Тогда он был мрачнейшим пессимистом и, может быть, попросту хотел разделаться с жизнью. Не с моста же было ему прыгать и не мылить веревку — мог ли он поступить столь нерасчетливо? Если уж умирать, так смертью своей последний раз послужить науке…
Но теперь-то он жизнерадостен! Теперь-то он не устает наслаждаться каждым мигом своего существования! И вот так, по доброй воле, поставить жизнь на карту?
Ну как не восхититься подвигом нашего героя. Как не проникнуться гордостью за Илью Ильича. Следуя его собственному завету, мы до сих пор «не умалчивали ни о чем дурном», что бывало в его непросто прожитой жизни. Так можем ли мы не склонить голову теперь?!
Конечно, с некоторой точки зрения, Петтенкофер, торивший эту тропу, рисковал больше. Но только с некоторой точки зрения… И дело даже не в том, что, объективно говоря, он вообще ничем не рисковал, ибо культура была невирулентной. Он и субъективно не рисковал почти ничем! Ведь в «запятую» Петтенкофер не верил — настолько, что, став бациллоносителем, принципиально отказался от всяких мер предосторожности и неизбежно навлек бы беду на город, будь Гаффки менее предусмотрителен.
А Мечников-то правоверный бактериолог! Он нимало не заблуждался насчет того, чем грозит ему коховский вибрион. Не кто иной, как последователь Петтенкофера Ф. Ф. Эрисман, называл его фанатиком за то, что он предложил вылавливать на границе эти самые «запятые»… И пожалуйста — внутрь смертоносную культуру!
Что ни говори, а было в нем что-то бесовское. Какой-то дьявольский огонь полыхал в его душе.
Тот, вероятно, огонь, в каком только и могут выплавляться великие дела.
Поначалу он принял не «запятую» Коха, а вибрион Денеке, действие которого прежде на себе никто не проверял.
Со свинками этот микроб расправлялся ничуть не хуже, чем коховский, а как он действует на людей, было неизвестно; правда, его обнаруживали в сырах, неосторожное употребление коих вело к сильному отравлению, иногда со смертельным исходом.
Но «патологического эффекта не было», как подытожил Мечников этот опыт.
Ему предложили услуги два ученика (Мечников указывает лишь первые буквы их фамилий — К. и Б.), и оба перенесли слабое расстройство желудка.
Спустя пять недель Мечников выпил культуру вибриона Финклера.
«Действие было полностью отрицательным».
Повторивший его опыт еще один ученик, П., так же как и первые двое, отделался легким расстройством пищеварения.
Культуру открытого Гамалеей Мечниковского вибриона Илья Ильич пить не стал: решил, что его организм невосприимчив к этой группе бактерий. Разводку выпили два сотрудника лаборатории, Г. и С, и оба остались совершенно здоровы.
И тогда бесстрашный Илья Ильич отправил в рот разводку «запятых» Коха…
О, он позаботился, чтобы никаких недоразумений не было! Взял свежую культуру и проверил ее действие на свинке.
К нему присоединился препаратор лаборатории Латапи; они честно разделили выращенную культуру пополам и приняли ее через два часа после завтрака, нейтрализовав, разумеется, желудочный сок содой… Но оба «абсолютно не почувствовали присутствия огромного количества живых холерных вибрионов в нашем теле».
Они повторили опыт.
И опять никаких признаков недомогания. Лишь на шестой день у исследователей появилось легкое расстройство желудка, и, желая использовать это «благоприятное» обстоятельство, они выпили культуру в третий раз. Только теперь они ее разделили не на две, а на три части: к ним присоединился Г. — тот, что прежде испытал на себе действие Мечниковского вибриона.
И опять все трое отделались слабым расстройством пищеварения…
На этом можно было бы поставить точку. Все ясно! Вопреки тому, что он думал сам, коховская «запятая» холеру не вызывает!..
Но Мечникова осаждают сотрудники, ученики, даже посторонние лица. Каждый хочет испытать на себе действие еще недавно столь страшного, а на поверку оказавшегося безобидным вибриона.
И еще пять человек выпивают разводку: Ж.,[38] С. Б. Гачковский[39] и Ю. Четверо из них остаются здоровы. Но пятый, юноша девятнадцати лет, к неожиданности и ужасу Ильи Ильича, заболевает…
Мечников призывает лучших врачей Парижа, и все подтверждают диагноз: азиатская холера…
Мечников в отчаянии. А что, если юноша погибнет?.. Нет, этого он не сможет перенести…
Врачи говорят, что есть надежда: болезнь протекает не в самой тяжелой форме. Но опасность огромна. У юноши эпилепсия, а нервные больные особенно часто гибнут от холеры. И подумать только: именно этому испытуемому он, разнообразия ради, дал старую культуру, хранившуюся в институте с 1884 года.
Дьявольская «запятая»!..
Итак, виновность коховского вибриона доказана. И еще доказано, что проникновение вибрионов в организм вовсе не всегда вызывает заболевание…
Но почему же не всегда?
Беспокойная мысль Мечникова, получив толчок, уже не может остановиться. Очевидно, чтобы вибрион показал свои «зубы», нужны особые условия… Какие? Холерные бациллы гнездятся в кишечнике; даже при смертельных исходах они редко проникают в кровь. Размножаясь, «запятая» вырабатывает яд, который и отравляет организм…
Почему же в одних случаях яд вызывает смерть, а в других он либо не вырабатывается, либо нейтрализуется?
Некоторые ученые утверждают, что его обезвреживают вещества, выделяемые из клеток кишок. Но, во-первых, эту гипотезу невозможно доказать. А во-вторых, как согласовать с нею наличие целых районов, постоянно или временно защищенных от холеры? Вот ведь в Версале опять не было ни одного случая. Не допустить же, что активность веществ, выделяемых клетками кишечника того или иного человека, зависит от его местожительства?.. Может быть, в воде «заговоренных» районов холерные вибрионы попросту не могут размножаться? Однако по поручению Мечникова его ученик итальянец Санарелли без труда обнаруживает в воде одного из версальских фонтанов «запятую» Коха…
Правда, не исключена возможность, что микроб похож на коховский только внешне. Свинок он убивает, но ведь они погибают и от других холероподобных вибрионов.
И едва Ю. поправился, как Мечников забыл о своих душевных терзаниях и дал выпить разводку еще нескольким людям, благо недостатка в добровольцах не испытывал…
Все-таки бес сидел в нем!
«У него тогда возникло такое неудержимое стремление решить поставленный вопрос, что никакие посторонние соображения, ни чувства не могли остановить его, — вспоминала Ольга Николаевна. — Этот „психоз“, как он говорил впоследствии, повторился и теперь, несмотря на весь ужас пережитого».
Мечников теперь осторожен. Дает первым испытуемым ничтожные дозы вибриона. Но они остаются здоровы, и дозы приходится увеличивать.
И вот новое торжество, приводящее Илью Ильича в отчаяние. Один из двенадцати испытуемых заболевает типичной холерой…
Мечников казнит себя. Он один виноват во всем. Если испытуемый умрет, то он — убийца!..
Но вселившийся в него бес ворожит ему. Больной выздоравливает.
А «психоз» все не проходит. Илью Ильича осеняет новое предположение. Может быть, холера минует такие районы, как Версаль, потому, что вибрион постоянно находится в воде и постепенно вакцинирует население?
И еще несколько человек глотают культуры — теперь многократно: сначала убитые, потом ослабленные, потом все более вирулентные. Все испытуемые остаются здоровы. Подобные же опыты ставят на себе в Киеве ученики Мечникова Д. К. Заболотный и И. Г. Савченко и тоже не заболевают.
Но что доказывают эти эксперименты? Может быть, испытуемых действительно предохранили ослабленные вибрионы; а может быть, они не заболели по другой причине, как он сам, Латапи и другие в его лаборатории…
Нет, такие опыты к определенным результатам не приведут. Их надо оставить.
Неожиданный случай окончательно отрезвляет Мечникова. Умирает Ю. — первый человек, переболевший экспериментальной холерой. Причину смерти установить не удается, но Илья Ильич опять винит себя: может быть, перенесенная тяжелая болезнь ускорила конец юноши. Он дает зарок никогда впредь не экспериментировать на людях (придет, однако, время, когда он нарушит этот зарок).
Но неужели же все эти опыты, вызвавшие столько волнений, так ничего и не дали?
Нет, кое-что Илья Ильич все же выяснил.
Во-первых, что в «благополучных» районах вполне может размножаться вирулентная «запятая». Во-вторых, она, по всей вероятности, не вакцинирует население. И в-третьих, индивидуальная невосприимчивость отдельных людей не может играть существенной роли в распространении эпидемий — в противном случае не было бы «благополучных» местностей.
Проникнув в организм человека, бактерии попадают в особую среду; в одних случаях она им благоприятствует, и человек заболевает, а в других препятствует, и он остается здоров.
В чем же особенность среды, в которую попадают вибрионы? Кишечный канал человека наводнен множеством различных палочек, кокков, спирилл. И они не просто сосуществуют, а сложно взаимодействуют, «помогают» либо «мешают» друг другу. Не следует ли из этого, что холерный вибрион в одних случаях находит благоприятную микробную среду, обильно размножается и отравляет ядами организм, а в других «соседи» не дают ему размножиться или нейтрализуют его яды?..
Мечников экспериментирует па питательных средах и убеждается, что в присутствии одних микробов коховский вибрион размножается особенно интенсивно, а в присутствии других слабо или даже совсем не размножается. Отлично! Теперь нужно выяснить, так ли все будет происходить в живом организме. Но какой объект избрать?
О человеке нечего и думать. Опыты эти опасны и ничего определенного не покажут. Из восприимчивых к холере животных известны только свинки. Но они пригодны лишь для того, чтобы проверять вирулентность вибриона…
И тут Мечникову приходит в голову отличная мысль. Его гипотезу можно проверить на новорожденных животных — ведь «младенцы» появляются на свет стерильными!
Лучше всего — на кроликах: они долго питаются материнским молоком, и их нетрудно будет уберечь от «посторонних» микробов…
Нескольких сосунцов Илья Ильич заставил облизать стеклянную палочку, конец которой обмазал холерной культурой…
И — как в воду глядел.
Примерно половина сосунцов заболела, причем болезнь походила на холеру человека. Правда, не очень тяжелую… Ну что ж, можно ведь усилить активность вибриона!
Он стал вводить сосунцам «запятую» с одним «усиливающим» микробом, с двумя, тремя и добился почти стопроцентной смертности несчастных «младенцев».
А «ослабляющие» микробы?..
Болезнь поражает все меньшее число животных!..
Еще шаг, и он получит лекарство от холеры…
Но… многие сосунцы неожиданно умирают.
Не от холеры — это видно по характеру заболевания, и то же показывают вскрытия. Но они умирают… Очевидно, «сопутствующие» микробы вредны кроликам…
«Лекарство» от холеры Мечников так и не смог создать. Его попытки применить вакцину для предохранения подопытных кроликов также положительного результата не дали, из чего он сделал вывод о неэффективности противохолерных прививок. Этого заблуждения он держался твердо; его не убеждали ни поступавшие из Индии данные Хавкина, ни отчеты русского ученого С. И. Златогорова, испытывавшего вакцину во время эпидемии в Персии, ни материалы другого русского ученого, П. П. Маслаковца, проверявшего действенность вакцин во время вспышки холеры в Астрахани. В 1909 году, во время своего триумфального приезда в Петербург, Мечников схлестнулся в острой дискуссии с Маслаковцем и Златогоровым. Илья Ильич настаивал на том, что прививки бесполезны и проводить их не следует. Маслаковец и Златогоров утверждали обратное. Все трое остались при своих мнениях, да и имевшиеся на тот момент данные были слишком противоречивы, чтобы из них можно было сделать однозначный вывод. Правильную позицию занял тогда Д. К. Заболотный. Он сказал, что в разгар эпидемий «прививки желательно и необходимо продолжать, точно регистрируя наблюдения, так как только таким способом может быть определена ценность метода». Впоследствии эффективность противохолерных вакцин была окончательно доказана.
Но, несмотря на заблуждения Мечникова, вклад его в изучение азиатской холеры огромен. Он не оставляющим сомнений образом доказал «виновность» коховского вибриона; он впервые вызвал экспериментальную холеру у человека и у животного, он установил роль «сопутствующих» микробов. Все это — классические исследования.
И они важны не только сами по себе. Идею «микробы против микробов» Мечников впоследствии сделает краеугольным камнем одного из важнейших направлений терапии. Именно эту идею положит в основу работы своей лаборатории английский ученый Райт, и когда его ученик Александр Флеминг случайно обнаружит, что оставленная на воздухе культура микробов погибла от попавшего в нее плесневого грибка, то он окажется подготовленным к тому, чтобы понять смысл этого явления. Так будет открыт пенициллин, так в медицине начнется новая эра — эра антибиотиков.
Ну а для дальнейшей биографии Мечникова (значит, и для нас) самое важное в его работах по холере состоит в том, что он обратил особое внимание на кишечную микрофлору человека.
Холерная «запятая», проникнув в кишечный канал человека и найдя благоприятную микробную среду, вырабатывает смертельный яд, который всасывается в кровь и убивает организм. Но ведь яды вырабатывают и другие микробы, обитающие в наших кишках постоянно. Они тоже отравляют организм, только медленно, в течение многих лет и десятилетий. А если так, значит они укорачивают жизнь, ту жизнь, что только один раз дается человеку и которая хоть и является ничтожной кочкой на унылой бесконечной равнине несуществования, но ох как не безразлично, сколь долго будет безжалостное время сжевывать отпущенные ему годы!..
Вот примерный ход рассуждений, которые приведут Мечникова к созданию еще одной науки — науки о борьбе с преждевременной старостью; приведут к созданию своей философии жизни и смерти, своей этики — словом, к тем воззрениям, которые он будет неустанно проповедовать и защищать и которые, между прочим, заставят его проделать тысячеверстный путь из Стокгольма в Ясную Поляну.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ Ясная Поляна. 30 мая 1909 года, 13.00–17.00
1
Чтобы попасть из Яснополянского музея в Телятинки, надо спуститься вниз по «прешпекту» (пруд с зеркально отраженными ветлами теперь будет справа), миновать две белые башни-колонны с выкрашенными в зеленый цвет шапками мономаха, пройти мощеной улицей деревню с высоким Домом культуры в конце и за околицей свернуть на правую дорожку, но не на самую правую — эта приведет вас обратно в усадьбу, — а на ту, что спускается в лощину и потом взбирается по пологому противоположному склону.
Когда-то здесь был глубокий овраг, по дну его тек ручей Кочак; как-то ночью, еще в молодости Толстого, тройка, на которой он мчался с тогдашним хозяином Телятинок помещиком Бибиковым, ухнула с крутого обрыва, и только с перепугу лошади выскочили на другой берег.
— Ну, Лев Николаевич, ежели бы днем, ни за что бы не выбрались! — воскликнул тогда Бибиков.
Позднее через овраг перекинули мостик; по нему и проехали Толстой с Мечниковым. А сейчас здесь нет ни оврага, ни мостика, ни ручья со странным названием Кочак; лишь небольшая лощинка и пересекающая ее узкая извилистая дорога.
Идет время…
Из лощинки вы подымаетесь на невысокий холм — с него далеко видно вокруг — и потом опять спускаетесь вниз, вдоль узкой полоски насаженного леса… Следующий подъем и приведет вас в Телятинки.
2
Тут они и проехали…
Лев Львович ускакал верхом, словно посланный с донесением гонец. Александра Львовна с Ольгой Николаевной сзади — делятся житейскими заботами.
А впереди, в таком же шарабане, запряженном одной лошадью, совершается главное.
Ярко светит солнце. Очень ярко. Это видно по фотографии, запечатлевшей момент их выезда. Фотография передержана и потому чересчур контрастна. Лошадь кажется вороной, хотя она, видимо, более светлой масти; ее бок отливает на солнце. Серый сюртук Мечникова кажется черным, почти таким же, как его черная шляпа; короткая седая борода лишь подчеркивает строгость его фигуры. А бороды Толстого почти не видно — она сливается с белой блузой; шляпа на нем тоже белая, широкополая, отбрасывающая на верхнюю часть лица резкую полосу тени — в ней надежно укрыты глаза. Обе фигуры — белая и черная — живут каждая сама по себе. Трудно отделаться от впечатления, что перед вами подделка — две искусно склеенные фотографии.
К счастью, мы достоверно знаем, что это не так. Они действительно сидели в этом открытом тесном шарабане и вели свою главную беседу.
Можно лишь пожалеть, что не записывал за ними стенограф; что не присутствовал пунктуально фиксировавший все слетавшее с уст Толстого Маковицкий; что не слышали их тоже фиксировавшие (хотя и не так подробно) Гольденвейзер и Гусев…
Нет, не то чтобы мы ничего не знали об этом разговоре… Мечников через три года изложил содержание беседы в своих воспоминаниях; кое-что с его слов сообщила Вере Александровне Чистович Ольга Николаевна. А Толстой уже на следующий день стал пересказывать окружающим, не раз возвращался позднее — через полгода и год, и тут уж не упустили случая, записали все: и Маковицкий, и Гусев, и Гольденвейзер, и сменивший отправленного в ссылку Гусева Булгаков. Да и сам Толстой обронил несколько строк в дневнике. Но как по-разному запомнился главный разговор его участникам!..
3
«Только что мы выехали за ворота усадьбы, как он повел, очевидно, уже ранее продуманную речь, — писал Мечников. — „Меня напрасно обвиняют, — начал он, — в том, что я противник религии и науки. И то и другое совершенно несправедливо. Я, напротив, глубоко верующий; но я восстаю против церкви с ее искажением истинной религии. То же и относительно науки. Я высоко ценю истинную науку, ту, которая интересуется человеком, его счастьем и судьбою, но я враг той ложной науки, которая воображает, что она сделала что-то необыкновенно важное, когда она определила вес спутников Сатурна или что-нибудь в этом роде. Истинная наука прекрасно вяжется с истинной религией“».
Так вот что, оказывается, сказал Толстой! Или чтобы быть предельно точным: так вот, значит, как Мечников понял сказанное Толстым! (Хотя, по-видимому, Илья Ильич передает слова Льва Николаевича с большой точностью. О науке говорится как о живом человеке — она воображает; так мог сказать только Толстой.)
«Когда он кончил, — продолжал Мечников, — я сказал ему, что наука далеко не отворачивается от вопросов, которые он считает наиболее существенными, а старается по возможности разрешить их».
И Мечников стал излагать свои взгляды о том, что «человек — животное, которое унаследовало некоторые черты организации, ставшие источником его несчастий», о краткости жизни, страхе смерти и путях его преодоления…
…Да Толстой ведь все это знал!
Из его же, Мечникова, дважды прочитанной книги…
…Но если бы ему было известно, с каким придирчивым вниманием Толстой изучал его труд! Увы, получив от Мечникова книгу, Лев Николаевич ничего ему не ответил. Но зато Илья Ильич знал о статье того самого Мирского, в которой говорилось, что Толстой книги не читал и читать не станет… Пройдет еще часа три или четыре, и Мечников скажет Льву Николаевичу, что именно по этой причине не решился послать ему другое свое философское сочинение — «Этюды оптимизма». И что же Толстой?.. Смутится? Станет уверять: читал, мол, вашу книгу, напутал все этот Мирский?.. Ничуть не бывало! Он рассмеется!.. Рассмеется и скажет: «Спасибо, что вы простили мою неучтивость и все-таки приехали».
…Итак, пока шарабан пылил по успевшей просохнуть после утреннего дождя дороге; пока лошадь, пробежав по мостику через Кочак, подымалась на холм, а потом спускалась вдоль узкой полоски леса, Илья Ильич говорил, говорил не умолкая, говорил торопливо, заметно нервничал, спешил, хотя и не знал, что до Телятинок так близко и что Лев Николаевич отвел на этот самый главный разговор столь короткое время…
О, Толстой превосходно знал, что делал! Ему ведь ничего не стоило проскочить поворот к Чертковым и покружить по окрестным дорогам столько, сколько бы захотелось!
Но ему не захотелось этого…
Ведь разбросать на полях задевшей тебя книги язвительные реплики легче, чем возражать ее автору, да еще оставаться при этом в роли гостеприимного хозяина!..
Толстой держал поводья и внимательно слушал.
Внимательно? Да — если верить Мечникову. Но Толстой просто молчал — если верить Толстому…
4
Но если верить Толстому, то речь у них вообще шла не о том! То есть о том, конечно, — о чем еще могли вести они главную беседу! О науке, религии, смерти, нравственности. Но не так все это началось, не с того… Если верить Толстому…
«Я начал разговор с того, как тяжело иметь слуг, — рассказывал Лев Николаевич. — Иногда старик слуга ходит за молодым. Мечников мне ответил: „Да, я расскажу вам вот какой случай…“ и рассказал, как у его знакомой семьи французского буржуа, живущей в своем поместье, кажется, где-то недалеко от Парижа, у всех членов семьи стали часто повторяться заболевания аппендицитом. Знакомые эти просили Мечникова приехать к ним, чтобы постараться найти причину этих заболеваний. Мечников поехал и, осмотрев все у них очень внимательно, сказал им: „Ничего нет удивительного, что вы хвораете: вы едите испражнения своих слуг“. Оказалось, что в доме не было устроено для прислуг отхожих мест, и они для своих надобностей пользовались огородом. Рассказав это, Мечников прибавил: „Вот видите, наука приходит к тем же выводам“. Это en toutes lettres.[40] И, представьте, он прислал мне свою книгу,[41] и там рассказан этот случай, и повторяется это там в тех же выражениях. Я и замолчал… Он — милый, простой человек, но как бывает у людей слабость — другой выпивает — так и он со своей наукой».
Вот как выглядит эта встреча в пересказе Другой Стороны, изложенном А. Б. Гольденвейзером! Примерно то же самое Мечников прочел у «одного приближенного Толстого»[42] и счел нужным привести свой вариант разговора об аппендиците (который, разумеется, повторялся в семье, а не по нескольку раз у членов семьи) и попрекнул «приближенного» за то, что тот придал его словам «совершенно неверный характер чего-то совсем бессмысленного». Мы привели это место в изложении Гольденвейзера, из которого видно, что характер «чего-то бессмысленного» придал его словам сам Толстой. Кстати, в «Этюдах оптимизма» Мечников действительно пишет, что плохое отношение к прислуге «безнравственно с точки зрения блага самих хозяев». Но случая с семейством знакомого буржуа, да еще «в тех выражениях», в книге нет. Толстой тут малость присочинил.
Да и вспомнил-то он этот эпизод лишь пять месяцев спустя (запись Гольденвейзера относится к его приезду в Ясную Поляну 4–5 октября). Маковицкий записал рассказ Толстого уже 1 июня, и запись эта передает более непосредственную реакцию Льва Николаевича на встречу с Мечниковым.
«Л[ев] Н[иколаевич] рассказывал, что когда они ехали с Мечниковым вдвоем, то он начал говорить Мечникову о науке, желая узнать его религиозно-нравственные основы, и увидел, что у него никаких религиозно-нравственных основ нет. „Я ему начал говорить: вы ведь знаете, как я себе представляю знания? В виде сферы, из центра которой идут радиусы. Они (могут быть) бесконечны, так и знания одни (могут быть) бесконечны. Для верности формы сферы нужно, чтобы радиусы были одинаковы, а здесь как же может быть, когда радиуса знания своего народа никакого нет, совершенно не знают меньших братьев, какое же это может быть знание?“ Когда я ему это сказал, он ничего не возразил. Из этого я понял, что ему совершенно неинтересна религиозно-нравственная сторона. Я ого не виню ни капли, потому что он очень милый человек, понятный, он всю свою жизнь посвятил своей науке».
Как, однако, непохожа версия одного и того же разговора, изложенная одним и тем же его участником 1 июня и 4 [или 5] октября! Совпадают только финалы обоих пересказов. Милый, простой человек этот Мечников; посвятил всю жизнь науке, вот и носится с нею как с писаной торбой! Толстому, вероятно, нравилась эта мысль: добрая, христианская и — полностью уничтожающая.
Да и как им было прийти к согласию, если религиозный моралист говорил ученому о науке и при этом желал узнать его религиозно-нравственные основы, а ученый убеждал моралиста, что наука не может исходить из нравственных норм, а как бы автоматически приводит к ним!
Лошадь бежит весело: копыта ее, словно маленькие гранатки, крошечными взрывиками, вздымающими клубочки пыли и оставляющими воронки подковообразных следов, отмечают их путь.
Они сидят рядом в тесном шарабане.
Они соприкасаются плечами, но между ними стена.
Мечников все говорит, говорит, торопясь и немного нервничая; Толстой делает вид, что внимательно слушает, и потихоньку радуется, что не наступает тягостное молчание… И так они въезжают в Телятинки.
Это — если верить Толстому.
5
Однако Толстой, многократно пересказывая свою главную беседу с Мечниковым, не упоминал об одной детали… Не только в присутствии Гусева, Маковицкого или Гольденвейзера не обмолвился о ней ни разу, но даже дневнику своему не поведал он, что, несмотря на краткость пути и разговорчивость Другой Стороны, она, Другая Сторона то есть, все-таки замолкла еще до того, как они подъехали к усадьбе Чертковых. И тут уж надо было что-то сказать ему, Толстому.
И (передаем слово Мечникову): «Толстой заметил, что, в конце концов, наши мировоззрения сходятся, но с тою разницей, что он стоит на спиритуалистической, а я на материалистической точке зрения».
…Сходятся?! Он так сказал?!
Что это — вежливость хозяина или вынужденная уступка? Или давно уже осознанная им, но тщательно укрываемая от самого себя истина, вдруг сорвавшаяся с языка?!
В этот миг рухнула разделяющая их стена…
Но тут они действительно въехали в Телятинки.
6
Странная это деревня, непохожая на обычные русские села. Избы не вытянуты двумя рядами вдоль дороги, а расположены квадратом по периметру небольшого поля.
…Они обогнули одну сторону квадрата, проехали вдоль другой и свернули в молодую рощу (старый бибиковский лес сгорел, на его месте посадили новый), к чертковскому дому.
Следом подкатили Сопровождающие Лица. Лев Львович был уже здесь, предупредил хозяйку, и она спешила им навстречу. (Хозяина, В. Г. Черткова, не было в Телятинках; по нелепому доносу помещицы Звегинцевой его выслали из пределов Тульской губернии.)
…Когда гости вошли в дом, Анна Константиновна Черткова познакомила их с Гольденвейзером (он по обыкновению летние месяцы жил в Телятинках).
«Мечников оказался очень милым, по-стариковски немного болтливым», — записал Гольденвейзер.
Вышли на балкон.
На улице девочка (внучка Толстого) играла с собакой — брала ее на руки, ласкала, целовала в мокрый нос. Мечников сказал, что такая близость с животным опасна; от собак можно заразиться паразитами, особенно кистой эхинококка.
— У нас этого не может быть, — возразила А. К. Черткова, — все обитатели нашего дома, в том числе и собаки, — строгие вегетарианцы.
— Ну, вы можете легко скомпрометировать вегетарианство, — сыронизировал Мечников, намекая на болезненный вид Анны Константиновны.
Он стал излагать научные данные о вегетарианстве, о том, что куры от мясной пищи заболевают подагрой и быстро умирают; что собаки, которым привит туберкулез, погибают от него, если их не кормить мясом, а при мясной пище справляются с болезнью легко. В науке, — он подвел итог — ряд данных за вегетарианство, но есть данные и против; во всяком случае, туберкулезным больным мясо полезно.
Но разве такими доводами можно было убедить Толстого или хотя бы Анну Константиновну! Ведь они стали вегетарианцами вовсе не «для здоровья», а из других, «высших» побуждений. Мечников это понимал, и когда Толстой, оживившись, сказал, что уже не сможет есть мясо, ибо один вид окорока вызывает у него тошноту; когда он добавил, что не понимает, как в былые годы увлекался охотой и думал только о том, чтобы настрелять побольше дичи, — ответил, что сам никогда не охотился, не сделал в жизни ни одного выстрела, но не считает охоту дурным делом. Животные, пояснил Мечников, все равно не могут прожить полный жизненный цикл, да и не сознают такой потребности. Начав стареть, они становятся добычей других животных и умирают более мучительной насильственной смертью, чем внезапная смерть от пули. Если бы охота повсюду прекратилась, возросло бы число хищников, а от этого пострадали бы даже люди. Вегетарианцы пекутся о благе животных, но если их учение распространится повсеместно, то исчезнут все мясные породы скота (ведь их не будут разводить); следовательно, не станет свиней, этих, как выразился Мечников, «эпикурейцев животного мира, видимо, наслаждающихся своим существованием, и счастье которых так бросается в глаза».
— Этого мы не можем знать, — тихо ответил Толстой, — и вообще здесь дело не в рассуждениях, а в непосредственном нравственном чувстве, живущем в человеке.
Так записал его возражение Гольденвейзер. Мечников тоже приводит это возражение, но в несколько иной редакции, и выделяет курсивом то, что считает наиболее важным.
«Послушайте, — возразил Толстой, — если мы будем все подвергать рассуждению, то мы сможем дойти до самых невероятных нелепостей. Пожалуй, в таком случае можно будет оправдать и людоедство».
7
О, как все клокотало в душе яснополянского мудреца! Сколько усилий стоило ему ограничиться этой фразой и, памятуя о своей роли гостеприимного хозяина, сдержать рвавшиеся наружу резкости!..
А Мечников радуется!
«В этом ответе на мои взгляды сказался весь Толстой, — пишет он с видимым удовольствием, — и из всего нашего разговора эти слова его мне показались самыми знаменательными. Вопрос такой важности, как ядение мяса, захватывающий столько сторон жизни (гигиена, экономика и т. д.), Толстой разрешает лишь на основе чувства».
И немного дальше:
«Наша беседа на балконе дома Чертковых произвела сильное впечатление на меня, так как я нашел в ней ключ к пониманию мировоззрения Толстого».
Нашел ключ!.. Так отчего же не отворить им дверь?
«Впечатлительность и чувствительность Толстого до такой степени овладели всей его чисто художественной натурой, что умственная сторона, рассуждение и логика у него отошли на задний план. Эта основная черта его характера бросается в глаза во всей его жизни, во всех его произведениях и сказалась также и в разговорах, которые он вел со мною».
И все? О нет! Добрую половину своих воспоминаний о Толстом Мечников посвящает вовсе не воспоминаниям, а обоснованию этого тезиса. Он удачно подбирает высказывания Толстого и наиболее близких ему героев его произведений, чтобы доказать одно: Толстой отрицал науку только потому, что сам был беспомощным мыслителем, что жил чувством, а не головою, в логических рассуждениях путался и боялся их…
Хорошо, допустим, что так. Но ведь не в такой же мере Толстой не умел рассуждать, чтобы не понимать, что если все люди станут вегетарианцами, то некому будет разводить свиней! Да и, положа руку на сердце, о свиньях разве он беспокоился?.. О людях! О том, чтобы не черствели их души, ибо черствость эта, по разумению его, грозила существованию не только свиней, но и самого рода человеческого!
И так ли уж сильно он был не прав?
Ведь те, кто через несколько лет пошлет на смерть миллионы людей, о, они не будут страдать излишней чувствительностью и впечатлительностью!.. Они будут руководствоваться исключительно разумом, привлекут на помощь весь арсенал современной им науки. Толстой, к счастью для него, не доживет до первой мировой войны. Но Мечников доживет. И станет свидетелем того, как самые «разумные» и высокообразованные его современники благословят величайшую за всю предшествующую историю человечества бойню…
Выделив курсивом вторую часть возражения Толстого, Мечников совершенно не заметил первую половину его реплики:
«Этого мы не можем знать».
Вот слова, в которых не менее важный ключ к пониманию взглядов Толстого на науку.
В ученых Лев Николаевич видел людей, выдающих за истину свои сомнительные предположения. Такую (действительно нередкую в науке) подмену он считал «предрассудком науки» и не уставал повторять: «Не бойся незнания, бойся ложного знания. От него все зло мира». «Бойся не незнания, а ложного знания. Лучше ничего не знать про небо, чем думать, что оно твердое и на нем сидит бог. Но немного лучше и то, чтобы думать, что то, что нам видимо как небо, есть бесконечное пространство: бесконечное пространство так же не точно, как и твердое небо».
В последнем высказывании при желании можно увидеть предвосхищение эйнштейновской теории замкнутого пространства, однако смысл его, разумеется, не в этом.
Еще в те времена, когда Толстой не верил в бога (или думал, что не верит в бога) и верил в прогресс (или думал, что верит в прогресс), — еще в те времена он относился к науке со сдержанной настороженностью. Толстой слишком рано и с удивительной прозорливостью понял, что наука сама по себе не может улучшить нравственность. Но, может быть, именно потому, что он понял это слишком рано, он не смог понять, что наука нравственности и не ухудшает.
Постепенно от сдержанной настороженности он перешел к активному отрицанию науки. Уже в 1878 году он писал Н. Н. Страхову:
«Я говорю, что человек, который, как Сократ, говорит, что он ничего не знает, говорит только то, что на пути логического разумного знания ничего нельзя знать, а никак не то, что он ничего не знает, ибо положение: я знаю, что ничего не знаю, есть явная бессмыслица <…>. И потому положение о том, что наука не дает знания, ведет непременно к вопросу: что же мне дает знание?»
Что же, по мнению Толстого, дает знание, если его не дает наука? Непосредственное нравственное чувство! Эту мысль он варьирует многократно — в письмах и статьях, в дневнике и своеобразных проповеднических сочинениях «Круг чтения» и «Путь жизни».
«Я пришел к тому убеждению или, скорее, вернулся, — записал Толстой в дневнике 15 сентября 1904 года, — что всякое объективн[ое] изучение есть суета, обман, даже преступление, попытка познать непостижимое. Только свой субъективн[ый] мир открыт человеку, и только изучение его плодотворно. Изучение внешнего мира есть изучение данных своих чувств (sens). И потому и изучение внешнего мира — ествен[ные] науки — плодотворно только тогда, когда материал его — впечатления. Как только изучается невидимое, неосязаемое — начинает[ся] ложное знан[ие]».
А вот другая дневниковая запись, выражающая его мысли с особенной четкостью:
«Человек познает что-либо вполне только своею жизнью. Я знаю вполне себя <…>. Я знаю себя тем, что я — я. Это высшее или скорее глубочайшее знание. Следующее знание есть знание, получаемое чувством: я слышу, вижу, осязаю. Это знание внешнее: я знаю, что это есть, но не знаю так, как я себя знаю, что такое то, что я вижу, слышу, осязаю. Я не знаю, что оно про себя чувствует, сознает. Третье знание еще менее глубокое — это знание рассудком: выводимое из своих чувств или переданное знание словом от других людей — рассуждение, предсказание, вывод, наука.
Первое. Мне грустно, больно, скучно, радостно. Это несомненно.
Второе. Я слышу запах фиалки, вижу свет и тени и т. д. Тут может быть ошибка.
Третье. Я знаю, что земля кругла и вертится, что есть Япония и Мадагаскар и т. п. Все это сомнительно.
Жизнь, я думаю, в том, что и третье, и второе знание переходит в первое, что человек все переживает в себе».
Выходит, дело не только в чувствительности художественной натуры Толстого, а в его стойком убеждении, что «внешнее» знание неотделимо от заблуждений, что по-настоящему можно знать лишь самого себя и что знание человека расширяется не путем логических рассуждений, не путем почерпнутых от других людей (из книг, например) сведений, а путем переживания в себе, вбирания в себя того, что прежде было внешним. О да, конечно, это рассуждение художественной натуры! Но — и это парадоксально — рассуждение, строго подчиненное логике.
…Нет, не одна только дверь преграждала путь в тайник души Толстого. Мечников нашел ключ? Да он ничего не искал! Он давно уже держал его в руках. Но ключ этот, будучи универсальным, обладал одним незаметным его владельцу недостатком: он отворял лишь дверь в прихожую, но не подходил к замочкам, на которые запирались внутренние покои.
8
И у Толстого тоже был свой ключ, и он тоже открывал лишь дверь в прихожую. Милый, простой человек этот Мечников, понятный. Он всю жизнь посвятил своей науке.
Все правильно в этих словах, кроме одной малости.
Мы-то знаем: не потому Мечников оправдывал науку, что бездумно отдал ей себя, а потому отдал себя науке, что с младых лет считал ее единственным средством улучшить человеческую жизнь и самого человека.
9
— Этого мы не можем знать, и вообще, если мы все будем подвергать рассуждению, то мы сможем дойти до самых невероятных нелепостей. Пожалуй, в таком случае можно будет оправдать и людоедство.
— Людоедство! — подхватил Мечников. — А знаете, в Центральной Африке, в Конго, есть племена, у которых победители поедают своих пленников. Пленника сначала подводят к вождю, и он отмечает на его теле место, которое хотел бы съесть сам, потом отмечают аппетитные места другие, в порядке старшинства, а остатки идут всем остальным.
«Лев Ник[олаевич] был ужасно этим поражен, и вот здесь проявилась его необыкновенная отзывчивость и чувствительность. Он ближе всех нас, гораздо более молодых, принимал к сердцу эту жестокость и, видимо, страдал от нее», — сообщала Ольга Николаевна подруге. Думаю, для ее памяти не будет оскорбительным замечание, что поет она здесь (это чувствуется и в других местах ее письма) с голоса своего мужа.
Толстой спросил, существуют ли у этих племен какие-нибудь религиозные представления, и когда Мечников ответил, что им, как и другим дикарям, не чуждо поклонение предкам, сказал задумчиво:
— Это все та же вера в единое вечное начало жизни, которое живет в человеке…
— Людоеды Конго считаются не более злыми, чем их соплеменники, не едящие человеческого мяса, — гнул свое Мечников. — Путешественники объясняют людоедство в Центральной Африке тем, что там распространена гибельная для животных болезнь тце-тце. Разводить скот невозможно, а инстинктивная потребность в питании мясом существует, вот они и поедают себе подобных.
«Толстой настолько заинтересовался этими сведениями, — вспоминал Мечников, — что просил меня прислать ему подробные данные об этом вопросе и еще при прощании сказал моей жене, чтобы она мне напомнила сделать это».
(И потом, когда он получит от Мечникова книгу французского путешественника Эдуарда Фоа об аборигенах Конго, внимательно будет ее читать и попросит Гольденвейзера наиграть приведенные в книге мелодии туземных песен.)
На обратный путь в шарабан с Мечниковым сел Лев Львович, а Лев Николаевич поскакал верхом. Мечников залюбовался, как лихо вскочил он в седло, как перемахнул через ров и умчался молодцом, точно сбросил с плеч несколько десятилетий.
Говорить с гостем один на один ему уже было не о чем…
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ Пастеровский институт. Иммунитет
1
Очередной международный конгресс должен был состояться в 1894 году в Будапеште. Обозревая работы последних лет по иммунитету, Мечников мог с удовлетворением отметить, что произошли большие сдвиги в умах его противников.
Замолкла школа Баумгартена.
Эммерих и Флюгге тоже против фагоцитоза выступать перестали. Бухнер занял примиренческую позицию: он продолжал отстаивать свои аллексины, но считал теперь, что их выделяют в плазму крови лейкоциты.
Даже Беринг сделал некоторые уступки клеточной теории.
И вдруг Мечников прочитал статью одного из ближайших сотрудников Коха, Пфейффера, который поставил простой и убедительный опыт. Он вводил холерных вибрионов в брюшную полость многократно вакцинированных (гипервакцинированных) свинок и через несколько минут извлекал небольшое количество жидкости. И видел под микроскопом, что лейкоцитов в жидкости очень мало, а свободные вибрионы совершенно переродились: они превратились в неподвижные шарики…
Мечников бросился повторять опыты Пфейффера и убедился в их безукоризненной точности… Рушилась вся изощренно построенная аргументация, которой он до сих пор отбивался от «гуморалистов». Значение в иммунитете аллексинов Бухнера можно было отрицать, ибо их действие на бактерии было обнаружено в пробирке, а не в живом организме. Антитоксины Беринга нейтрализовали микробные яды, но самих микробов не уничтожали, — значение этих веществ можно было ограничивать; но бактерицидные вещества Пфейффера убивали микробов, и не в пробирке, а в иммунизированном организме!
Так что же? Неужели правы те, кто с иронией называл фагоцитоз беспочвенной фантазией?..
С большим трудом, но все же ему удалось взять себя в руки. Слишком уж выделялся «феномен Пфейффера» из всего, что так хорошо было ему известно. В этом надо разобраться, и немедленно, чтобы дать бой Пфейфферу на предстоящем конгрессе…
Холерные вибрионы превращаются в неподвижные шарики вне фагоцитов — это бесспорно. Но без всякого ли участия с их стороны?
Мечников целыми днями не выходит из лаборатории. Он возбужден и не может спать; по ночам продумывает эксперименты следующего дня.
Пфейффер извлекал жидкость через десять минут после введения вибрионов и уже находил их разрушенными. А каков процесс разрушения? Как будет выглядеть жидкость через 5 минут или даже через 1 минуту? Задавшись таким вопросом, Мечников устанавливает, что в первые минуты в жидкости много лейкоцитов, но они очень быстро растворяются… Не следует ли из этого, что введение в иммунизированный организм вибрионов ведет к разрушению фагоцитов; они изливают свое содержание в окружающую среду, которая и убивает микробов!
А что, если вместе с вибрионами ввести вещества, предотвращающие разрушение лейкоцитов? Поставив такой опыт, Мечников увидел, что «запятые» поглощаются белыми кровяными тельцами. Ярко выраженный фагоцитоз!
Но в таком случае ему есть что сказать на конгрессе! Придется, правда, сделать небольшую уступку: признать в отдельных случаях не внутриклеточное, а внеклеточное действие фагоцитов, что до сих пор Илья Ильич всячески отрицал. Но уступить придется и Пфейфферу!
2
На конгрессе он выступил с блеском. Сила его доводов была неотразимой, и аудитория рукоплескала ему. Он походил на «демона науки», и всем так запомнилась его пламенная речь, что Ру через многие годы с необычайной яркостью описал это выступление Мечникова.
Из Будапешта он поехал в Россию. Это был второй приезд Ильи Ильича на родину. Первый раз — в 1891 году — он тихо пожил в Поповке. Теперь он тоже намеревался отдохнуть после бурных недель «войны» с «пфейфферовским эффектом», но о приезде его сообщили газеты. Киевский университет пригласил Мечникова выступить, и он прочитал лекцию о холере, которая как раз появилась на юге России. Лекцию запомнили многие.
«Призывая молодежь к служению науке, — писал Д. К. Заболотный, — Илья Ильич вызвал необыкновенный энтузиазм среди учащихся, которые провожали его на вокзал с цветами и речами».
На этой лекции присутствовал и Борис Ильич Клейн. Борис Ильич и сейчас с волнением рассказывает о том глубоком впечатлении, какое произвела на него, тогда студента, лекция маститого ученого.
Поселившись за границей, Мечников стал пророком в своем отечестве…
3
Но «феномен Пфейффера» не давал ему покоя. На обратном пути он остановился в Берлине, чтобы обсудить свои разногласия с автором этого открытия.
Пфейффер принял его любезно и, едва начав разговор, торжественно сообщил:
— А знаете, тайный советник теперь здесь!
Мечников живо вспомнил прием, оказанный ему Кохом семь лет назад, и не выразил большого желания видеть «тайного советника».
Но Пфейффер вышел и тотчас вернулся с Кохом, который чуть ли не в объятия заключил гостя. Любезности эксцеленце не было предела. Он водил Мечникова по лабораториям, знакомил с сотрудниками, показывал клинику, а в заключение сказал, что хочет познакомить его со своей супругой и приглашает на обед.
Что произошло с этим удивительным человеком?
То ли жестокий удар, вызванный провалом туберкулина, сделал его мягче; то ли героические опыты, которыми Мечников «защитил» его «запятую», вызвали в нем нечто вроде чувства благодарности; то ли молодая супруга (Кох развелся с первой женой и женился на актрисе Гедвиге Фрейберг) благотворно влияла на него?..
Вернувшись в Париж, Мечников увидел, что свершилось наконец то, о чем давно мечтали все сотрудники института.
Газеты писали о новом успехе науки, о величии французского гения; «Фигаро» объявила подписку в пользу Пастеровского института для приготовления противодифтерийной сыворотки, и деньги уже начали поступать.
…Когда Беринг открыл противодифтерийный антитоксин, казалось, что вот-вот будет создано средство, предупреждающее дифтерию. Но опыты показали, что предохраняющее действие антитоксина кратковременно. Уже через одну-две недели «предохраненные» свинки гибли от дифтерии так же, как и контрольные. Тогда Беринг решил лечить антитоксином уже заболевших животных и добился успеха. Но до лечения людей было еще далеко. Нужно было получить антитоксин из крови не морских свинок, а более крупных животных. Беринг стал заражать дифтерией кроликов, собак, овец и испытывать вырабатываемые ими антитоксины. Вскоре опыты он перенес в клинику и спас многих, казалось бы, обреченных детей. Но результаты были нестабильны. Иногда сыворотка помогала, иногда — нет. Запасы ее были невелики, и стоила она дорого.
И тут инициативу вновь перехватил Ру. Ему пришла в голову счастливая мысль использовать для получения антитоксина лошадей.
Институт был настолько беден, что первых двух животных ученому пришлось купить на собственные деньги. Но эти-то лошади и привели его к успеху.
В пылу «патриотических» чувств газеты приписывали все заслуги Ру, забыв о Беринге. Когда возмущенный Пастер напустился на одного репортера за то, что он написал неправду, тот спокойно ответил: «Ах, дорогой учитель, правда ведь не интересует публику».
Но публику интересовала сыворотка; подписка дала институту миллион франков.
Наконец-то можно было вздохнуть спокойно. Впрочем, ненадолго. Деньги ушли на приобретение участка напротив главного здания и строительство на нем инфекционной больницы.
Ученым опять пришлось дорожить каждой свинкой и экономить на лабораторной посуде.
4
…1 ноября 1894 года у Пастера случился тяжелый приступ уремии. Четыре часа он был без сознания. Родные и сотрудники организовали круглосуточное дежурство, которое длилось несколько месяцев. Не одну ночь скоротал у постели Пастера и Мечников.
Весной старому ученому стало лучше. Родные увезли его на дачу в Вильнев-л'Этан. Здесь Пастер проводил каждое лето, возвращался всегда окрепшим, и когда он вновь отправился в Вильнев-л'Этан, «то никому не могло прийти в голову, что он более не вернется в Париж», как вспоминал Мечников.
В начале сентября Илья Ильич получил письмо от Ру, который писал, что состояние учителя внушает тревогу. Илья Ильич тотчас поехал повидать Пастера. Великого старца он нашел в саду, под сенью раскидистого темно-красного бука. Против ожидания Пастер был бодр, оживлен, много смеялся. Успокоенный Мечников вернулся в Париж, но уже через несколько дней старику опять стало хуже. Кровоизлияние в мозг приковало его к постели, и он тихо скончался в 4 часа 40 минут дня 28 сентября 1895 года…
Смерть «спасителя человечества», оказавшего ему столько добра, острой болью отозвалась в душе Мечникова, и он утешался лишь сознанием того, что наука от этого, в сущности, ничего не потеряла, ибо для нее Пастер умер уже несколько лет назад.
Директором института стал Пьер-Эмиль Дюкло.
Химик по специальности, он начал с того, что основал большое отделение биологической химии и лаборатории по изучению пивоварения и сельскохозяйственных проблем. «Главнейшая же задача института — изучение инфекционных болезней, — вспоминал Мечников, — была отодвинута им на задний план. Бактериологические лаборатории, не пользуясь достаточными средствами, должны были кое-как влачить существование».
Дюкло в институте появлялся редко. Он много болел, а в промежутках между болезнями все силы отдавал общественной деятельности. Текущие дела вел заместитель директора Эмиль Ру, и ему, как мог, помогал Мечников.
Общие заботы еще больше сблизили друзей. Они взяли за правило видаться ежедневно, для чего даже выработали особый ритуал: каждый день в одно и то же время Ру приходил в лабораторию Мечникова пить молоко.
Издав в 1891 году свои «Лекции по сравнительной патологии воспаления», Мечников был уверен, что и другие разделы фагоцитарной теории не замедлит выпустить в свет. Но достижения сторонников гуморального направления потребовали от него новых углубленных исследований.
Роль аллексинов и антитоксинов в иммунитете становилась все более бесспорной. Примиренческая позиция Бухнера, утверждавшего, как мы помним, что аллексины поступают в плазму крови из фагоцитов, не устраивала Мечникова. Илья Ильич утверждал, что аллексины находятся внутри фагоцитов и только в тех редких случаях, когда фагоциты разрушаются (как в «пфейфферовском эффекте»), аллексины изливаются наружу и делают бактерицидной жидкую часть крови.
Чтобы доказать эту гипотезу, Мечников поручил одному из своих учеников, талантливому бельгийцу Октаву Жангу, поставить соответствующие опыты. Жангу на центрифуге отделял клетки крови от ее жидкой части, причем клетки оставались неповрежденными. Сыворотка при этом не уничтожала микробов даже в пробирке. Казалось, гипотеза доказана. Однако как только данные Жангу появились в печати, другие ученые проверили их и результатов не подтвердили. Хотя Листер называл идею Мечникова о том, что фагоциты есть главное средство защиты организма, «великой истиной», сторонники гуморальной теории имели право стоять на своем.
В 1896 году появилась статья Пфейффера «О новом основном законе иммунитета». Пфейффер доказывал, что открытое им явление имеет общий характер; что микробов разрушает особое вещество, находящееся в жидкостях организма и отличное от бухнеровских аллексинов; и, наконец, что это вещество, бездеятельное в пробирке, становится активным в организме под влиянием клеток эндотелия (клеток, выстилающих брюшную полость и вообще полости, содержащие жидкости: стенки кровеносных сосудов, лимфатических узлов и т. п.), то есть клеток, не имеющих ничего общего с фагоцитами.
Стремясь опровергнуть эту работу, которая, по словам Мечникова, «оживила гуморальную теорию», он задался целью вызвать пфейфферовское явление вне организма. После многих безуспешных попыток ему это удалось. Оказалось, что если в пробирку с жидкой частью крови вакцинированной свинки посеять холерных вибрионов, а затем добавить немного богатой лейкоцитами брюшной лимфы, то происходит быстрое перерождение вибрионов.
Само собой разумеется, что при этом эндотелиальные клетки не могли играть никакой роли.
Защитив, таким образом, в очередной раз своих фагоцитов, Илья Ильич дальше не пошел. Однако остановиться на этом не пожелал работавший в его лаборатории молодой бельгиец Жюль Бордэ.
Малепький, немногословный, как-то затерянный среди хаоса колб, реторт, пробирок, наваленных вокруг него книг, Бордэ был совершенно незаметен рядом с порывистым, страстным Мечниковым. Впрочем, Илья Ильич больше, чем кто-либо, ощущал его присутствие.
Бордэ был всегда спокоен. Он был всегда хладнокровен. Он никогда ничего не утверждал.
Он только ставил вопросы.
И только такие вопросы, на которые можно было ответить опытом; других вопросов для пего не существовало.
Прирожденный скептик, он умел одной иронической усмешкой разрушить целые нагромождения фантастических теорий. Навсегда останется тайной, сколько фонтанов мечниковского красноречия угасло под язвительным взглядом голубых глаз маленького бельгийца, игравшего при нем такую же роль, какую в прежние времена рядом с пылким Пастером играл Эмиль Ру.
Если Мечников добивался воспроизведения пфейфферовского эффекта в пробирке только для того, чтобы реабилитировать фагоцитов, то Бордэ решил докопаться до самой сути этого явления.
Он подвергал холерных вибрионов действию жидкой части крови от природы невосприимчивых и восприимчивых животных; иммунизированных и неиммунизированных; крови, предварительно обработанной нагреванием до 60 градусов и необработанной, и, наконец, различными комбинациями этих жидкостей.
Сыворотка иммунизированного животного (козы) убивала вибрионов, а неиммунизированного, восприимчивого животного (морской свинки) их не убивала. В таком результате не было еще ничего неожиданного, но Бордэ сделал следующий шаг. Он высеял микробов в плазму крови иммунизированного животного (козы), предварительно обработанную нагреванием до 55–60 градусов. Микробы не погибли. Что же, нагревание уничтожило те бактерицидные вещества, которые появились при иммунизации? Нет, Бордэ этого не утверждал. Он лишь задал вопрос, а ответить на него должна была сама природа.
Экспериментатор добавил в пробирку несколько капель крови неиммунизированной морской свинки. И вибрионы начали погибать… Можно было ожидать чего угодно, только не этого!.. Кровь свинки не убивала вибрионов; обработанная нагреванием кровь иммунизированной козы тоже их не убивала; а смесь этих двух жидкостей оказалась губительной для микробов!..
Это было большое открытие. Стало ясно, что защитные силы организма не сводятся к какому-либо одному фактору. Минимум их два, и действуют они сообща. Бордэ еще и еще видоизменяет свои опыты, и постепенно перед ним вырисовывается простая по сути своей, но полная глубокого смысла картина.
В крови неиммунизированного животного присутствуют вещества, убивающие микробов; вещества эти исчезают при нагревании до 55 градусов (а именно при такой температуре разрушаются бухнеровские аллексины); они неспецифичны, то есть действуют на разных бацилл и существуют в организме независимо от того, был ли он когда-либо подвержен инфекции или нет.
Однако сами по себе аллексины часто не могут справиться с микробами. Им нужна помощь, и помощь эта приходит уже после проникновения микробов. С их появлением в организме начинают вырабатываться другие вещества, специфические, то есть способные воздействовать только на данных микробов; эти вещества не разрушаются при нагревании до 55–60 градусов. Но сами по себе они тоже не могут убить микробов. Они лишь тем или иным образом воздействуют на них и делают уязвимыми для аллексинов.
Получив все эти результаты в исследованиях на холерных вибрионах, Бордэ вскоре убедился, что жидкости крови так же действуют и на другие болезнетворные бактерии. А однажды он попробовал использовать вместо микробов красные кровяные тельца других видов животных (например, красные шарики кролика высевал в плазму крови свинки и козы). Оказалось, что сыворотка действует на клетки инородного организма таким же точно образом, как и на бактерий.
Этот опыт только подтвердил взгляды Мечникова, считавшего, что реакция иммунитета — это борьба организма с любыми чужеродными включениями. Теперь, однако, теоретическое положение оказалось обоснованным экспериментально.
Впервые ученым стало ясно, что суть иммунитета состоит в способности организма отличать «свое» от «чужого», сохранять «свое» и отторгать, уничтожать «чужое».
Пфейффер и его сторонники пытались спорить с Бордэ, но аргументация бельгийца была неотразимой.
5
В августе 1897 года должен был состояться очередной международный конгресс — на этот раз в Москве. Поскольку руководство институтом осуществляли Ру и Мечников, вместе они не могли уехать из Парижа даже на короткое время. Поначалу решили, что на конгресс поедет Ру, а Мечников останется. В последний момент они, однако, поменялись ролями. «Зная хлебосольство москвичей и слабый желудок Ру, — шутливо объяснял Мечников, — я убедил его не ехать. Как русский, желудок которого более привычен к национальному хлебосольству, я решил поехать в качестве делегата от института». К этому он, правда, добавлял: «Тем более что мне хотелось побывать на родине».
Излишним вниманием организаторы съезда приезжих делегатов не баловали. Мечников был доволен, что его не таскают по приемам и балам. «Целый день бегаешь с одной секции на другую и до того устанешь, что рад-радешенек, что тебя никто не трогает, — объяснял он одному знакомому врачу. — Но, — добавил при этом, — для иностранцев вряд ли это было весело». Илья Ильич сначала полагал, что его «забыли» как русского, который знает, где поселиться и как проводить свободное время. Но жившие в одной с ним гостинице иностранцы оказались в таком же положении, и он давал в их честь обеды, знакомил с городом.
— Разница между съездами за границей и последним московским, — говорил Мечников, — та, что там заботятся обыкновенно о каждой отдельной личности, а здесь заботились об общей массе, тратили, по-видимому, большие деньги, а отдельно каждого из гостей конгресса мало кого удовлетворили.
Но, несмотря на свои иронические замечания, Мечников был доволен приездом на родину. Он встречался с Сеченовым, Умовым. Посетил Федоровичей. Виделся со многими учениками.
На конгрессе Илья Ильич сделал два доклада — один о своих работах по иммунитету, второй, обзорный, об исследованиях чумы.
В предшествовавшие годы ученые добились большего успеха в борьбе с «черной смертью». Удалось открыть возбудителя чумы. Ру создал противочумную сыворотку, а Иерсен испытал ее в Китае и Индии, где свирепствовала эпидемия.
Рассказывая об этом новом достижении, Илья Ильич не упустил случая подчеркнуть, что «вопреки тем, которые провозглашают банкротство науки, как это делал еще недавно здесь же писатель, перед гением которого мы все преклоняемся <…>, мы вправе провозгласить, что в этом вопросе, столь важном для всего человечества, в вопросе о чуме, наука и одна только наука одержала решительную победу».
Вчитываясь в заключительную часть речи Мечникова, невольно приходишь к убеждению, что успехи в исследованиях чумы послужили ему лишь удобным поводом, чтобы высказать свои новые мысли по поводу «главного вопроса, который волнует человечество». Вопрос этот «вовсе не заключается в сохранении нашего тела», а состоит «в нравственном законе, которому надлежит управлять человеческой жизнью». Мечников протестует против тех, кто утверждает, что «наука беспомощна сказать свое слово в этой области». «Великий закон, управляющий живыми существами, говорит нам о борьбе за существование и о победе наиболее сильного. Из этого, — поясняет Мечников, — заключили, что наука учит уничтожать слабых, стало быть, проповедует безнравственность».
Позвольте, да кто же (хочется спросить Илью Ильича) заключил? Не сам ли он лет за двадцать «вразумлял» учеников своих, что того, кто следует нравственным принципам, ждет неизбежное крушение в жизненной борьбе?..
Да, но сколько воды утекло за двадцать-то лет!..
Теперь Мечников называет такую точку зрения «печальным недоразумением». Оказывается, «естественный подбор, который создал виды, уступает свои права, когда дело заходит о человеческой жизни». Проблема, над которой он бился так долго, которая в былые годы так щедро питала его пессимизм, теперь решалась им наиблагополучнейшим образом: она попросту снималась с повестки дня.
Мечников горячо полемизирует с давним своим противником Эрнстом Геккелем, который в успехах медицины увидел опасность, предположив, что, сохраняя слабых, «медицинский отбор» может привести к вырождению человечества. Эта проблема, со всей серьезностью встающая перед наукой лишь в наши дни и столь прозорливо подмеченная Геккелем, нисколько не беспокоила Мечникова.
«Удовлетворяя требованиям нравственного чувства, — говорил Илья Ильич, — он (человек. — С. Р.) не должен останавливаться перед сохранением слабых из боязни этим самым нарушить закон естественного подбора. Этот естественный подбор, дойдя до человека, преломляется в нем, как луч света в призме. Это уже не он больше, это — искусственный подбор, движимый чувством, которое должно управлять человеческими делами».
По свидетельству одного из участников конгресса, Мечников «имел безумный успех. Несколько свободная форма его сообщений была одним из условий к этому, до такой степени чувствовалась убежденность его увлечения. Он был подобен Сибилле на треножнике».
Думается, однако, что успеху его выступления способствовала не столько «свободная форма», сколько тот горячий деятельный гуманизм, которым пронизано содержание этой замечательной речи и который так близок нам и сегодня. Пусть Мечников, видевший в науке средство для решения любых вопросов, недооценивал серьезности тех проблем, которые встают перед человечеством вследствие успехов самой науки. Как бы ни были сложны эти проблемы, мы верим вместе с Ильей Ильичом, что они всегда будут решаться с позиций гуманности. Сильный по первому зову должен прийти на помощь слабому или терпящему бедствие. Нет и не может быть таких «научных» соображений, которые бы отменили этот, говоря словами Мечникова, «нравственный закон, которому надлежит управлять человеческой жизнью».
6
Точные и ясные опыты Жюля Бордэ вызвали к жизни лавину новых исследований.
Главный из возникших вопросов состоял в том, какова природа тех таинственных веществ, которые появляются в организме только при иммунизации, не распадаются при нагревании до 60 градусов и не уничтожают микробов, но воздействуют на них таким образом, что они (микробы) становятся легкой добычей аллексинов.
После того как Эмиль Беринг открыл дифтерийный антитоксин, другой (и не менее талантливый) ученик Коха, Пауль Эрлих, задался целью выяснить механизм взаимодействия токсина и антитоксина Загадок здесь было множество. Когда в организм животного вводили небольшую дозу токсина, антитоксин тут же начинал вырабатываться и постепенно нейтрализовал весь введенный токсин. На этом, казалось бы, выработка антитоксина должна закончиться. На деле же он продолжал вырабатываться еще и еще, так что мог нейтрализовать сотни смертельных для данного животного доз токсина.
Для объяснения этих странных явлений Эрлих предложил остроумную теорию. Он допустил, что молекула токсина имеет группу атомов, расположенных строго определенным образом и способных вступать в химическое взаимодействие с другой группой атомов, расположенных тоже строго определенным образом. Эти две группы атомов, по его представлениям, подходят друг к другу, как ключ к замку.
Далее Эрлих допустил, что в организме некоторые клетки содержат молекулы с ответвляющимися боковыми цепями, которые и оканчиваются различными «ключами». А «замок» — это молекула токсина.
Когда токсин появляется в организме, рассуждал Эрлих, то соответствующая ему боковая цепь как бы «притягивается» к молекуле токсина и отделяется от материнской молекулы, а на ее месте тотчас образуется новая боковая цепь, которая тоже отделяется, и т. д. Эти отделившиеся боковые цепи и есть молекулы антитоксина. «Замочек», таким образом, сам для себя «штампует» множество «ключей».
Почему антитоксин взаимодействует со строго определенным токсином? Почему он накапливается постепенно? Почему он образуется в избыточном количестве?
Все это хорошо объясняла теория Эрлиха. Но только для случаев иммунитета к токсинам. Механизм противомикробного иммунитета представлялся в ту пору совершенно иным и оставался тайной.
После открытий Бордэ Эрлих повторил его опыты, кое в чем их расширил, а главное, подтвердил: суть реакции иммунитета в способности организма отличать «свое» от «чужого».
Но если так, рассудил Эрлих, то не должно быть принципиальной разницы в реакции организма на введение в него токсинов или других чужеродных тел, будь то бактерии или красные шарики. Против всех их организм вырабатывает антитела: против токсинов — антитоксины; против микробов и красных шариков — другие антитела (впоследствии выяснилось, что антитела различны по характеру действия; были открыты аглютинины, преципитины, сенсибилизаторы, опсонины и т. д.).
Словом, Эрлих распространил свою теорию боковых цепей на все случаи взаимодействия организма с чужеродными включениями.
Сам механизм взаимодействия Эрлих представлял себе как простую химическую реакцию наподобие взаимодействия кислоты с основанием. Точными опытами Бордэ эту точку зрения опроверг и выдвинул другую теорию. В основу взаимодействия он поставил физико-химические процессы. Механизм этот недостаточно выяснен и в наше время…
Во всех этих работах Мечников принимал самое деятельное участие. Он решил выяснить эволюционное значение способности организма вырабатывать антитела и прибегнул к своему излюбленному сравнительному методу.
Он начал с простейших.
Оказалось, что инфузории, а также другие микроорганизмы, посеянные в раствор дифтерийного и столбнячного ядов, отлично в них размножаются, но никогда не выделяют антител.
Выяснив это, Мечников шагнул на следующую ступеньку эволюционной лестницы и установил, что различные беспозвоночные животные тоже не способны вырабатывать антитела в заметных количествах.
А позвоночные?
Мечников ставит опыты с рыбами, амфибиями — результат такой же.
Только у пресмыкающихся — Мечников работал с крокодилами — ему удалось обнаружить антитела, но в полной мере способность их вырабатывать оказалась присущей лишь теплокровным животным.
Таков в общих чертах вывод Мечникова, и он в основном подтверждается современной наукой.
Итак, после долгой полемики было наконец выяснено: нет дилеммы — фагоциты или жидкости служат для защиты организма. И фагоциты и жидкости играют важную роль в иммунитете.
Теперь уже не оставалось препятствий к тому, чтобы обозреть все многообразие явлений иммунитета. В 1901 году Мечников выпускает главный труд своей жизни.
Мы уже имели случай заметить, что не в характере его было крыть крыши в зданиях истины, что он предпочитал закладывать фундаменты. Добавим еще, что в названия своих трудов он любил вносить мало подходящее к научному исследованию словечко «этюды». «Этюды о природе человека», «Этюды оптимизма», «Этюды о половом вопросе», «Этюд о естественной смерти», «Этюды о кишечной флоре», «Этюды по экспериментальному сифилису»… Словечко это должно было обозначать постановочный характер его работ, их незавершенность; Илья Ильич как бы призывал других ученых следовать по указанному им пути. И среди более чем полусотни его работ по иммунитету некоторые тоже названы этим «ненаучным» словечком.
Но главный труд его назван иначе — так, как приличествует солидной монографии — плоду исканий, растянувшихся на два десятилетия.
«Невосприимчивость в инфекционных болезнях».
Здесь Илья Ильич претендовал на законченность.
Правда, прочный мост между гуморальной и фагоцитарной теориями иммунитета был переброшен уже после выхода в свет его книги. В 1902 году ученик Ильи Ильича И. Г. Савченко обнаружил особые антитела, которые способствовали фагоцитозу. Еще через год независимо от Савченко и более полно это же явление описал английский ученый Райт, назвавший новый вид антител опсонинами. Из этого открытия вытекало, что антитела и фагоциты взаимодействуют между собой.
Впрочем, на такое взаимодействие, с несколько иных позиций, Мечников указывал и прежде. Он утверждал, что антитела вырабатываются клетками тех самых систем, которые «отвечают» и за фагоцитарную реакцию.
Его взгляды можно в общих чертах суммировать следующим образом. При проникновении в организм микробов или других чужеродных тел к ним устремляются фагоциты, захватывают и «переваривают» их при помощи аллексинов.[43] Если фагоциты не в состоянии захватить живых неослабленных микробов, то они начинают вырабатывать антитела, которые подготавливают микробов к фагоцитозу. И наконец, если бактерии успевают разрушить фагоцитов, то аллексины поступают в плазму крови и вместе с антителами уничтожают их.
Поскольку не было никаких возможностей экспериментально установить, какие именно системы «ответственны» за выработку антител, то можно было думать, что Мечников просто спасает свои старые взгляды. Однако, по воззрениям иммунологов нашего времени, например лауреата Нобелевской премии, австралийского ученого Ф. Бернета, антитела вырабатываются подвижными клетками зобной железы, селезенки, лимфатических желез, то есть теми же фагоцитами, если употребить терминологию Мечникова. «Началом и основой всех современных исследований в области иммунитета» назвал недавно работы Мечникова крупнейший французский вирусолог Пьер Лепин.
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ Пастеровский институт. Работы по старению
1
Внешне жизнь его текла однообразно.
Квартира находилась возле института, на улице Дюто, 18, и, бывало, в течение многих месяцев Илья Ильич не покидал квартала, двигаясь ежедневно по одному короткому маршруту. Утром: квартира — лаборатория; вечером: лаборатория — квартира.
Рядом шумел Париж. В большом городе рождались и умирали, любили и ненавидели, пили вино и просили милостыню. В нем громко смеялись и тихо плакали, молились и богохульствовали.
Франция восхваляла саму себя.
Франция заключила союз с Россией и мечтала вернуть отторгнутые провинции Эльзас и Лотарингию. Франция, как никогда прежде, славила национальных героев; как никогда прежде, преклонялась перед армейским мундиром.
Подспудно в этом мутном потоке пробивались другие течения. Уже томился на Чертовом острове ни в чем не повинный капитан Альфред Дрейфус; Метью Дрейфус уже вел сыскную работу, чтобы найти истинного автора «бардеро» — секретного документа, переданного якобы его братом представителю враждебной державы. Скоро Метью Дрейфус предъявит доказательства того, что «бардеро» написано капитаном Эстергази. Но Эстергази будет оправдан, и тогда Эмиль Золя выступит со смелой статьей «Я обвиняю!», и его осудят за «клевету». Разъяренная толпа заклеймит писателя как «изменника» и побьет стекла в его квартире. Но с этого момента в общественном мнении Франции наметится поворот. Вместе с другими передовыми деятелями в поддержку Золя и в защиту Дрейфуса выступит директор Пастеровского института Дюкло…
Но тщетно мы будем искать среди лиц, хоть как-то причастных к этим событиям, Илью Ильича Мечникова. Во Франции он всего лишь «независимый иностранец»; проблемы чужой страны не его проблемы.
Только в своей маленькой квартирке, стены которой были увешаны картинами Ольги Николаевны, и особенно в институтском кабинете — здесь стоял большой белый стол у окна; на нем батареи пробирок, трубочек, склянок с разноцветными жидкостями; на лабооаторном столе что-то булькало в колбах и ретортах; в стеклянных клетках вдоль стен тихо попискивали морские свинки, — он чувствовал себя дома.
И когда приходили к нему за помощью, он забывал, что «его хата с краю»: пускал в ход все свои связи, использовал свой авторитет ученого, даже деньгами одаривал неимущих, благо Поповка благодаря умелому управляющему давала хотя и скромный, но твердый доход.
Л. Горовиц-Власова вспоминала, как она в 1896 году приехала в Париж поступать на медицинский факультет. Иностранцев в вузы старались не принимать, и у девушки не было иного выхода, как обратиться к Мечникову.
Илья Ильич тут же сел писать декану факультета, но признался, что еще не освоил «всех тонкостей французского эпистолярного языка», и позвал на помощь одного из своих учеников-французов. Разгорелся спор, так как Мечников «с жаром отстаивал некоторые из выражений своей редакции», но, наконец, письмо было составлено.
Отказать девушке после этого не решились, но и не спешили зачислить ее на факультет. Занятия уже начались, а она пребывала в неизвестности. Неожиданно ее вызвал декан и, улыбаясь, сказал:
— Ну что ж, если профессор Мечников не может поехать с вами в Лион, придется нам принять вас.
Оказалось, Мечников послал еще одно письмо декану, в котором писал, что ввиду юного возраста девушки он принял над ней «опекунство», а поехать с нею в Лион или другой город не может…
О его доброте знали многие и нередко злоупотребляли ею.
«Еще больше, чем Ваши знания, — писал Эмиль Ру своему другу, — к Вам привлекает Ваша доброта. Кто из нас ее не испытывал? Я видел трогательные доказательства ее много раз, когда Вы ухаживали за мной, как за ребенком. Вам так приятно оказать услугу, что Вы благодарны тем, кому ее оказали… Не дать для Вас так тяжело, что Вы предпочитаете лучше быть обманутым, чем отказать».
К нему приходили знакомые и знакомые знакомых; приходили с рекомендательными письмами и без рекомендательных писем; приходили врачи и ученые из разных стран; приходили больные и родственники больных — просили устроить на лечение; приходили студенты — особенно много из России, — просили, как и Горовиц-Власова, помочь поступить в высшее учебное заведение. И если требовалась его помощь, он в любой момент готов был оторваться от рукописи или микроскопа, хотя, как писал один из посетивших его журналистов, «каждое новое изыскание, новое открытие радует его гораздо живее, доставляет ему несравненно большее удовольствие, чем любителю парижской жизни — квинтэссенции вавилонских наслаждений».
Этьен Бюрне, один из ближайших учеников Мечникова, называл его лабораторию «новым типом учреждения», «центром европейской науки». «Несколько квадратных метров лаборатории Мечникова, — писал Бюрне, — представляли на самом деле одну из вершин Европы, свободное пространство, живую клетку, обладавшую защитными свойствами, иммунитетом против предрассудков, самодовольства, самоуспокоенности, эгоизма и обмана».
Эту несколько высокопарную характеристику нельзя, однако, считать преувеличенной. Ру называл лабораторию Мечникова «самой жизненной в нашем доме», куда «толпами стекаются желающие работать». Он говорил, что Мечников зажег в институте «очаг, свет которого виден издалека»; именно в его лаборатории «обсуждается очередное событие в бактериологии; сюда приходят посмотреть интересный опыт; здесь исследователь ищет мысль, которая вывела бы его из затруднения».
«Именно к Вам, — писал Ру своему другу, — обращаются с просьбой проверить только что подмеченное явление; с Вами делятся открытием, которое часто не переживает Вашей критики; и, наконец, так как Вы все читаете, то каждый и обращается к Вам за нужной справкой, с просьбой сообщить содержание только что появившейся статьи, которую сам не прочтет».
Мечников не только все читал; он обладал способностью запоминать все важное из прочитанного.
Ежедневно в институт поступало множество научных журналов; Мечников, по воспоминаниям А. М. Безредки, прямо в передней «набрасывался на них, немилосердно разрывал обложки и, лихорадочно пробежав оглавления, умел останавливаться, руководимый особым чутьем, на статье, которая представляла действительно интерес».
Нередко он тут же прочитывал заинтересовавшую его статью; несмотря на протесты библиотекаря, уносил всю кипу журналов в свой кабинет и прочитывал еще раз, с карандашом в руках. Этого было достаточно, чтобы через много лет безошибочно назвать фамилию автора, номер журнала, год издания… «При этом, — вспоминал Безредка, — не без некоторого кокетства, И[лья] И[льич] иногда прибавлял к своему указанию, что статья должна начинаться справа или слева, сверху или снизу страницы». Его близорукие глаза были удивительно цепкими. Если ему надо было запомнить имя или дату, он записывал их на клочке бумаги, который тут же разрывал и выбрасывал. «Раз имя или число были запечатлены на его сетчатке, — пояснял Безредка, — он более их не забывал».
Откровенный и словоохотливый, остроумный и увлеченный, он служил в институте неким «центром всеобщего тяготения». Если где-нибудь во дворе собиралась кучка людей, можно было не сомневаться, что в середине ее стоит Мечников.
К сожалению, от работы его отрывали не только просители.
Однажды в лабораторию пришел какой-то врач из Америки и на вопрос, что ему угодно, ответил, что хочет «посмотреть на великого Мечникова». Илья Ильич быстро выскользнул из кабинета и, капризно скривив рот, прокричал работавшему в другой комнате Безредке:
— Александр Михайлович! Уберите от меня этого американского болвана!
С годами, по мере того как росла популярность Мечникова, такого рода посетители появлялись все чаще. Он отводил душу по воскресеньям: «посетителям» было невдомек, что ученый и выходные дни проводит в лаборатории.
Илья Ильич чувствовал себя счастливым, когда мог без помех предаваться своим занятиям: неудивительно поэтому, что он по три года не бывал в театре и даже не знал, есть ли в Париже опера.
Впрочем, его страсть к музыке была уже не так сильна, как в молодости.
Он вообще во многом изменился.
Стал менее импульсивен, менее нервен, менее «чувствителен к крайним ощущениям», говоря словами Ольги Николаевны. Потому-то музыка не доставляла ему теперь столько радости, как прежде; но зато грохот, скрежет, лай собак, мяуканье дерущихся кошек не причиняли ему теперь острых страданий… Кушанья, к которым он пристрастился еще в детские годы, не доставляли теперь ему особого удовольствия; но зато он и не мучился, когда надо было принять горькую микстуру… Истинное наслаждение он получал теперь от впечатлений «нейтральных». Он полюбил тишину. Полюбил простую еду: хлеб и чистую воду. Он не искал теперь живописных мест, и если ради Ольги Николаевны уезжал иногда вместе с нею отдохнуть в Швейцарию, то редко высиживал там больше двух недель: скучал по лаборатории. Но теперь он «несказанно наслаждался видом зеленеющей травки, распускающихся почек вокруг него; первые шаги, улыбка ребенка приводили его в восторг и делали счастливым». Илья Ильич говорил, что у него развился «инстинкт дедушки». Сознательно лишив себя радостей отцовства, он с особенным удовольствием крестил детей чуть ли не у всех друзей и знакомых и отчаянно баловал крестников.
Привыкший анализировать свое душевное состояние, Илья Ильич неоднократно объяснял супруге (а она добросовестно внесла в свою книгу), что, «став менее требовательным, он ценил жизнь такой, какой она представлялась, ощущал непосредственную жизнерадостность. Инстинктивное „чувство жизни“ расцвело в нем. Он теперь смотрел на человеческую природу и на жизнь с другой точки зрения, чем в молодости, потому что эволюция привела его к большему психическому равновесию: он приспособился».
В 1898 году Мечниковы приобрели небольшую дачу с фруктовым садом в Севре — уютном поселке недалеко от Парижа. Поначалу они проводили там лишь летние месяцы, но с 1903 года перебрались туда окончательно. Ежедневные маршруты Ильи Ильича удлинились. Каждое утро он на поезде приезжал на вокзал Монпарнас и оттуда направлялся в институт, а вечерами — обратно на вокзал и в Севр. Впрочем, от института до вокзала было рукой подать: всего-то три квартала. Он возвращался из Парижа, увешанный пакетами со всевозможной снедью, которой любил баловать «девочку» (как нежно называл жену), и торчавшими из карманов газетами и брошюрами — он их читал дорогой. Сходя с поезда, неизменно веселый и бодрый, Илья Ильич отыскивал глазами встречавшую его Ольгу Николаевну:
— Какой воздух! Какая зелень! Какое спокойствие! — обычно говорил он. И тут же подводил под свои впечатления «теоретическую» базу: — Видишь, если бы не проведенный день в Париже, я бы уже менее чувствовал прелести Севра, покой в нем.
«Он возвращался к семи часам и больше не работал, — вспоминала Ольга Николаевна, — вечера были его полным ежедневным отдыхом: он всецело предавался ему, чувствовал себя нараспашку, шутил, рассказывал все события дня, говорил о своих исследованиях, о плане опытов следующего дня; часть вечера он читал вслух, а затем слушал музыку не только из любви к ней, но и для того, чтобы „перейти на другие рельсы“».
2
Он приспособился.
Он был полон тихой жизнерадостности, хотя оснований для пессимизма у него теперь было ничуть не меньше, чем в годы многострадальной молодости.
Потому что, познав наконец в полной мере счастье простого человеческого существования, он не мог не ужаснуться при мысли, что безжалостное время берет свое и от тех шести-семи десятков лет, которые еще, кажется, так недавно почти все лежали перед ним впереди, остался сущий пустяк… Ведь борода его уже была живописно разукрашена серебряными нитями, а от уголков глаз пролегли глубокие бороздки; вновь появились сердечные перебои; стали беспокоить почки. И хотя врачи не находили ничего угрожающего, он не мог не понимать — надвигается старость.
Но происшедшая с ним перемена была глубже, чем кажется с первого взгляда, ибо «несправедливости общего характера и личные неприятности не вызывали более в нем отвращения к жизни и желания покончить с нею, а лишь стремление преодолеть их», — писала О. Н. Мечникова.
Не возьмемся судить, чем считал он надвигающуюся старость — несправедливостью ли общего характера, или только личной неприятностью, но он преисполнился стремлением ее преодолеть.
…Илья Ильич вырвал из своей живописной бороды несколько седеющих волосков и положил их под окуляр микроскопа…
3
Как вы думаете, что он увидел?
Ну, конечно же, их — фагоцитов!
Оказалось, что зернышки красящего пигмента захвачены клетками!..
Как описать восторг, в который пришел, увы, уже седеющий Илья Ильич…
Впрочем, если быть совсем точным, то он начал не со своей бороды, а с волосков шерсти стареющей собаки.
И прежде чем поместить их под микроскоп, обработал специальным раствором.
И самое главное — увидев своих старых знакомцев, Мечников, конечно, обрадовался, но нисколько не удивился.
Потому что он так и предвидел.
Пройдя с ним уже добрые три четверти его жизненного пути, мы могли убедиться, что он очень часто предвидел то, что видел потом под микроскопом. Так уж был устроен его мысливший аналогиями ум. Ставя опыт, он заранее знал, что должен получить. И ошибался редко.
Фагоцитоз Мечников рассматривал не только как средство борьбы с инородными включениями. Уже из первых своих наблюдений над блуждающими клетками он сделал вывод, что фагоциты захватывают и растворяют омертвевшие или ослабевшие клетки самого организма. Так бывает, например, когда хвостатый головастик превращается в бесхвостую лягушку: атрофия хвоста сопровождается поеданием «лишних» клеток фагоцитами.
Но старение — это тоже атрофия, только медленная.
В старости уменьшается рост и вес организма, становятся хрупкими кости, жесткими мышечные ткани; стенки сосудов утрачивают эластичность, что ведет к артериосклерозу — типичной болезни стариков. Все это — атрофия. Все это поедание фагоцитами «благородных» клеток, перерождение их в инертную соединительную ткань…
Итак, исследование седеющих волос его предположение подтвердило.
Исследование других атрофических явлений — тоже.
Макрофаги — один из видов фагоцитов, — в течение всей жизни охраняющие организм, в старости ускоряют его гибель. Макрофаги «поедают» клетки половых желез, печени, сосудов, нервной системы. Вот заключение, к которому, пришел Мечников.
Нельзя ли приструнить этих агрессоров? Или усилить сопротивление «благородных» тканей?
Он знал, что если в брюшную полость морской свинки впрыснуть кровь кролика, то в организме животного вырабатывается сильнейший антитоксин: кровь такой вакцинированной свинки убьет кролика. Открытие это сделал в его лаборатории Бордэ. Он установил, что антитоксин растворяет красные шарики, так что кровь кролика становится прозрачной. Но ведь к такому результату приводят большие дозы антитоксина. А малые? Они должны стимулировать организм кролика!
И действительно: малые дозы крови вакцинированной свинки «заставили» организм кролика в несколько раз увеличить «производство» красных шариков.
Но ведь свинке можно вводить не только кровь другого животного… Можно вводить клетки печени, мозга, мускульной и других тканей. И тогда ее организм должен вырабатывать вещества, малые дозы которых будут стимулировать усиленное производство соответствующих «благородных» элементов. Итак, надо получать самые различные стимулирующие сыворотки.
О, это была программа на много лет вперед! Более того, это была программа, выполнение которой могло натолкнуться на непреодолимые трудности. Насчет всего этого Мечников нимало не заблуждался. Но, взволнованный открывшейся перспективой и по обыкновению словоохотливый, он направо и налево делился мыслями и имел неосторожность высказать их некоему В. Яковлеву — корреспонденту газеты «Россия».
И вот в конце 1900 года, в преддверии XX века, Мечников узнает, что он новоявленный Фауст!.. Что нет, он не Фауст, ибо Фауст в сравнении с ним ничто — просто жалкий безумец и фразер… «Потому что, если бы он в своей лаборатории, среди своих колб и реторт, действительно все изучил, как уверяет <…>, не нуждался бы он в услугах красного Сатаны, и не Мефистофель его, а он бы победил Мефистофеля, как всегда свет побеждает тьму и зло».
Изложив свою беседу с Мечниковым, Яковлев не утаил: ученый считает, что пока умеет защищать от малокровия лишь кроликов. Но все это бойкий корреспондент посчитал «излишней» осторожностью и скромностью Ильи Ильича.
«Человечество будет обладать возможностью схватить костлявую смерть за фалды савана и задержать ее, — кто знает на сколько времени», — патетически заявил он.
Правда, академик Полайон — Яковлев рассказал ему об открытии Мечникова — «отнесся к тому, что не знает, очень скептически». Он даже сказал, что бессмертие для человека недостижимо. Но зато согласился с тем, что «по законам природы человек должен бы жить 250 лет».
«Что ж, и 250 лет прожить было бы недурно!» — воскликнул пылкий корреспондент.
Статью Яковлева изложили чуть ли не все газеты России. Европейская пресса тоже подхватила сенсацию. И никому не приходило в голову усомниться в верности сообщения. Обсуждали другое: а нужно ли человеку жить 250 лет?
Мечников поспешил послать письмо Д. Н. Анучину, и тот опубликовал его в «Русских ведомостях». Журналист, писал Мечников, «воспользовавшись надеждами, которые они (опыты. — С. Р.) возбуждают, напечатал очень оптимистическую корреспонденцию. Надежду имею и я, — продолжал Илья Ильич, — не только относительно старческой, но и всякой вообще атрофии, но между надеждой и ее осуществлением еще огромное расстояние. Вот почему мне так неприятно проникновение в печать разговоров о моих работах и почему мне так ужасно хочется, чтобы этот газетный шум утих сколь возможно скорее».
Мечту получить специфические антиатрофические сыворотки Мечников не оставил до конца своих дней.
Но он считал, что лечить преждевременную старость, как любую болезнь, намного труднее, чем предупредить ее. Он стал искать средство оттянуть ослабление «благородных» тканей, и на этом пути, как ему казалось, добился куда более внушительных результатов.
Смерть, по его представлениям, аналогична сну. А потребность в сне многие ученые объясняют самоотравлением организма. При бодрствовании обмен веществ идет быстро, шлаки не успевают выводиться из организма и нервные клетки как бы отравляются ими; во время же снаобмен замедляется и шлаки удаляются.
Если так, то ослабление «благородных» клеток тоже можно объяснить отравлением, только медленным, длящимся долгие годы, всю жизнь. Откуда же берется столь длительно действующий отравляющий фактор? Конечно, им может быть никотин, алкоголь и другие яды… Но непьющие и некурящие люди тоже стареют преждевременно.
Значит — микробы, постоянно живущие в организме и выделяющие яды.
Такие микробы — в кишечнике. Микрофлора кишечного канала разнообразна; в нем обитают полезные микробы, но есть и вредные. Таковы, например, гнилостные бактерии — они вырабатывают фенол и индол — и микробы маслянокислого брожения. И те и другие вместе с пищевыми остатками гнездятся в толстой кишке.
Мечников сравнивает продолжительность жизни птиц, у которых толстые кишки едва намечены, и млекопитающих, у которых они развиты сильно. И оказывается, что вторые живут, значительно меньше, чем первые. Причем бегающие птицы (страусы; у них развиты толстые кишки) живут мало, а летающие млекопитающие (летучие мыши; у них толстые кишки не развиты) — долго.
Со свойственной ему решимостью Мечников выводит закон: чем длиннее толстая кишка, тем короче жизнь.
Так что же — удалять толстую кишку? Но Лэн еще не делал своих операций. Да и можно ли поголовно оперировать все население планеты?
Нет, надо удалить из организма не толстую кишку, а вредных бактерий!
Мечников пытается использовать для этой цели ферменты, выделяемые личинками моли: они губительны для гнилостных микробов. Но опыты положительного результата не дают. Он пытается применить ферменты кишечника животных, питающихся падалью (в трупах всегда много гнилостных микробов; если они безвредны для животного, то, значит, в кишечнике должны быть убивающие их вещества), но опять без успеха.
И тогда Илья Ильич пускает в ход свою излюбленную идею об антагонизме микробов. Гнилостные бактерии «боятся» молочной кислоты. Мясо, оставленное на воздухе, быстро загнивает, но этого почти никогда не бывает с молоком: оно скисает, ибо в нем есть сахаристые вещества — с их помощью палочка молочнокислого брожения вырабатывает молочную кислоту, чем и препятствует гниению. То же самое происходит и с другими продуктами: квашеная капуста, соленые огурцы не портятся из-за присутствия молочной кислоты. Но если просто принимать внутрь молочную кислоту, проку будет немного: она всосется еще в желудка и просто не дойдет до толстых кишок. Надо, чтобы молочная кислота вырабатывалась «на месте действия». А для этого следует употреблять молочнокислые бактерии.
Итак, простокваша.
Мечников изучает кефир, русскую простоквашу и варенец, кумыс, кислое молоко кавказцев, египтян, болгарский ягурт.
И всякий раз, кроме молочнокислой палочки, он обнаруживает и другие микроорганизмы, в том числе — бактерии спиртового брожения. А задача не только в том, чтобы заселить кишечник полезными микробами, — необходимо еще воспрепятствовать проникновению вредных. Для этого надо раз и навсегда исключить из рациона сырые продукты и сырую воду. Простоквашу готовить только из кипяченого молока. И применять не обычную закваску, а чистую культуру молочнокислой палочки. Лучше всего — болгарской, которая вырабатывает особенно много молочной кислоты. Правда, при этом молоко приобретает неприятный запах сала. Поэтому вместе с болгарской палочкой надо использовать еще одну разновидность молочнокислой бактерии, которая препятствует омылению жиров.
Так появляется лактобациллин.
С 1898 года Мечников стал придерживаться строгой диеты; в 1901-м включил в нее обычную простоквашу, а позднее — болгарскую. Его примеру последовали Ру и некоторые другие из близких друзей…
Однако задача, которую ставил перед собой Мечников, не исчерпывается стремлением «продлить прозябание человека на земле», как писал один бойкий фельетонист. Илья Ильич хотел освободить людей от страха смерти, преодолеть главную дисгармонию человеческой природы.
Он обходит приюты для престарелых, беседует с десятками стариков. Увы! Найти «сытых жизнью» ему не удается. Даже те, кто говорит, что ждет не дождется смерти, просто видят в ней единственную возможность избавиться от своих тяжелых недугов. Стоит сказать такому старику, что болезни его излечимы, как он тотчас ухватится за призрачную надежду…
Но Мечников убежден: виной всему преждевременное одряхление организма. Виной всему те условия жизни, при которых старики становятся лишними.
«Цивилизованные народы, — напишет он через несколько лет, — не поступают как жители Огненной Земли или другие дикари; они не убивают и не съедают своих стариков, но тем не менее жизнь последних часто становится очень тяжелой. На них смотрят как на тягостную обузу, потому что они не могут быть полезными ни в семье, ни в обществе. Не считая себя вправе избавиться от них, все же желают их смерти и удивляются, почему так долго не наступает желанный конец».
В 1903 году вышли в свет «Этюды о природе человека» — почти одновременно на французском и русском языках. Позднее, приветствуя Мечникова по случаю его 70-летия, Ру скажет, что более интересной книги он не читал в жизни.
В двенадцати главах этого удивительного сочинения Мечников делает попытку обозреть с научных позиции своего времени те «роковые» вопросы, которые издревле волнуют человечество. Мечников обнаруживает поразительную осведомленность в религиозных и философских учениях — области, казалось бы, ему далекой. Популярность различных религиозных учений Мечников объясняет тем, что они обещают загробную жизнь, а следовательно, помогают верующим хоть отчасти преодолеть инстинктивный страх смерти. Однако надежды, которые обещают людям религиозные доктрины, Илья Ильич считает призрачными.
Обозревая различные философские учения, Мечников приходит к заключению, что даже философы-идеалисты, которые верили в «мировой дух», сомневались в возможности личного бессмертия. Так, Платон, чье учение целиком построено на идее личного бессмертия, «главным образом старается убедить самого себя в существовании будущей жизни». Неудивительно поэтому, заключает Мечников, что «припев всех философских систем постоянно один и тот же: преклониться перед неизбежным, то есть смириться перед перспективой уничтожения».
Насколько же привлекательнее, по мнению Мечникова, его теория «ортобиоза»!..
5
Новоявленный спаситель человечества, претендующий (при всех оговорках о гипотетическом характере многих своих положений) на знание Истины; проповедник, сумевший облечь свое учение в яркую, увлекательную форму и при этом не поступиться и малой толикой строгой научности, оказался в центре внимания «образованной» Европы.
Им восхищаются, его боготворят. Известный голландский ботаник Гуго де Фриз присылает ему теплое письмо, в котором сообщает, что, прочитав «Этюды о природе человека», понял причину той удивительной эволюции, какую претерпело его собственное мироощущение. В молодости де Фриз был пессимистом, и лишь в зрелые годы у него постепенно сложилось радостное отношение к жизни.
Илью Ильича осаждают богатые старики, предлагают миллионы за «возвращение» молодости. О нем распускают сплетни, будто он, корысти ради, держит в тайне способ приготовления простокваши. Появляются фирмы, выпускающие лактобациллин в жидком и твердом виде и рекламирующие свой товар тем, что будто бы только им Мечников продал свой «секрет». Даже испытанные друзья порой попадаются на эти удочки.
«Отвечаю Вам на „деловое“ письмо по поводу лактобациллина, — писал Мечников Вере Александровне Чистович. — Вы отлично знаете, что никакого „патента“ на это нет и не может быть. И я должен пожурить Вас вдвойне, и как некоторым образом Ваш учитель по части бактериологии, и как старый друг, за то, что Вы подозреваете какую-то „тайну“. Какая же может быть тайна, особенно для бактериолога, когда дают чистую культуру в молоке?»
Тайны не было.
Было отчаянное стремление преодолеть главную дисгармонию человеческой природы, открывшуюся ему на закате дней…
И были насмешки, даже обвинения в шарлатанстве.
Одни критики находили его утверждения лишенными логики; другие с жаром опровергали то, что он вовсе не утверждал; третьи уверяли, что его теория вовсе не дает ответа на «вечные» вопросы, ибо согласно ей смерть все равно неизбежна; четвертые считали, что всю-то теорию он выдумал ради собственного успокоения…
Он мог бы, конечно, и смолчать. В конце концов, он свое сделал. Он указал людям путь, и его ли дело, захотят они последовать за ним или нет? Но Илья Ильич считал, что это его дело.
Да, именно теперь он, как никогда прежде, готов ринуться в бой.
Несмотря на горькие уроки, полученные от журналистов, Мечников охотно беседует с ними. Он выступает с лекциями, пишет сам в газеты, журналы, выпускает брошюры. В 1907 году издает «Этюды оптимизма» — объемистую книгу-возражение.
За прошедшие годы он времени даром не потерял. Он настойчиво искал примеры «естественной» смерти в животном и растительном мире; он продолжал исследовать стариков; он жадно изучал биографические материалы о великих людях прошлого и нашел немало фактов, подтверждающих его взгляды. Так, поэты-пессимисты, как правило, наиболее мрачные свои произведения создавали в молодые годы. Таковы Байрон, Леопарди, Пушкин (Пушкина Мечников тоже зачисляет в пессимисты, с чем мы, конечно, не согласимся), Лермонтов.
Будда пришел к своему пессимистическому учению тоже в молодые годы.
В молодости написал свой главный труд Шопенгауэр.
Однако, утверждает Мечников, Шопенгауэр в старости стал иначе смотреть на жизнь — об этом свидетельствует исследование его творчества, которое выполнил крупный невропатолог Мебиус.
Особенно подробно он останавливается на биографии Гёте, благо поэт жил долго и о нем сохранилось особенно много материалов. Пессимизм молодого Гёте, автора «Страданий молодого Вертера», сменился в старости жизнерадостностью и хрестоматийным «олимпийским» спокойствием.
Две части «Фауста», по мнению Мечникова, — это два этапа биографии самою поэта. Первая часть написана молодым Гёте, и в основу ее положена история его любви к дочери пастора Фредерике.
«Хотя Фауст вначале изображен в виде старого ученого, успевшего воспринять все знания своей эпохи, тем не менее он носит явную печать крайней молодости», — убежден Мечников. Отсюда, по его мнению, и пессимизм Фауста.
Во второй же части трагедии Фауст действительно стар. Мечников считает, что Гёте изобразил здесь свою любовь к семнадцатилетней Ульрике фон Леветцов, и предлагает любопытнейшую версию: Гёте стыдился старческого чувства и зашифровал главную тему. С этих позиций Мечников и объясняет вторую часть «Фауста» — одно из самых загадочных произведений мировой литературы.
«В любви Фауста к Елене, — пишет он, — дело касается не мнимого старца, которому стоит снять бороду и переменить берет, чтобы стать молодым, а настоящего старика, о возвращении к молодости которого не может быть и речи, несмотря на все таинственные и волшебные приправы».
Отсюда, по мнению Мечникова, и оптимизм Фауста, несмотря на переживаемую им трагедию.
Сопоставляя обе части великого произведения, Мечников подводит итог:
«В первой части молодой пессимист, полный страсти и требовательности, готов на самоубийство и ни перед чем не останавливается для удовлетворения своей жажды любви.
Во второй части зрелый и старый человек продолжает любить женщин, хотя и иным образом; он умудрен опытом и стал оптимистом; удовлетворив стремления личной жизни, он посвящает остаток дней своих на благо человеческое; достигнув столетнего возраста, он умирает с чувством высшего блаженства, и даже почти можно сказать, что он обнаруживает при этом инстинкт естественной смерти».
Так Мечников подбирает примеры в доказательство справедливости своих взглядов.
6
Но главный его аргумент — он сам.
Вот уже пять, вот уже семь, вот уже одиннадцать лет он придерживается строгой диеты. Ни капли алкоголя. Никаких возбуждающих напитков. Ничего сырого или немытого. И каждый день — один-два горшочка болгарской простокваши. И какое прекрасное самочувствие — лучше, чем в тридцать пять лет! Какой здоровый румянец играет на его щеках!
Каждый день он исследует самого себя. Фиксирует в записной книжке работу пульса и хорошо ли спал.
Он боится за свое сердце.
Он дьявольски боится рака.
Он боится смерти.
И не только потому, что инстинкт самосохранения становится в нем все сильнее; он понимает, что ранняя смерть выбила бы фундамент из-под его теории. Он стремится обезопасить себя на этот случай и не устает повторять, что если и умрет «преждевременно», то это ничего не будет значить, так как он лишь в преклонном возрасте нашел истину, когда сердце его уже было тронуто склерозом.
Нет, не о себе заботится он теперь: сам он уже обречен. Но молодежь не должна повторять ошибки стариков. Если молодые люди хотят прожить счастливую жизнь, они должны стремиться к здоровой старости, к «ортоби-озу». А для этого есть одно средство: им, Мечниковым, рекомендуемый гигиенический режим!
…Целебное действие простокваши ныне не подлежит сомнению. Молочнокислую диету врачи рекомендуют при многих заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Кефир составляет основу молочных смесей, которыми подкармливают младенцев. Но младенцам дают кефир не для того, чтобы отсрочить их старость…
Простокваша как средство продления жизни себя не оправдала. Процесс старения оказался намного сложнее, чем это представлялось Мечникову, хотя он и говорил, что «проблема старости — одна из самых сложных и самых трудных проблем биологии». В открытом Ильей Ильичом явлении «поедания» «благородных» клеток клетками соединительной ткани академик А. А. Богомолец видел важный приспособительный механизм, не ускоряющий, а, наоборот, замедляющий старение. При старении «благородные» клетки не только уменьшаются в числе — они каким-то образом перерождаются, становятся менее мобильными, менее способными реагировать на разнообразные изменения условий, в которых им приходится «работать». При старении замедляется биосинтез белка; истощаются энергетические ресурсы организма; нарушаются регуляторные системы: менее интенсивным становится обмен веществ…
Почему?
К сожалению, современная наука в основном лишь обрисовывает картину того, что происходит в организме при старении, но пока мало может сказать о том, почему это происходит.
Ясно, однако, что старение несводимо к деятельности гнилостных бактерий, как вообще болезни несводимы только к деятельности микроорганизмов. Свидетель и один из главных «виновников» успехов бактериологии в первые десятилетия ее развития, Мечников склонен был видеть в них причину и таких болезней, к которым микробы непричастны. Что ж, то вполне понятный и вполне извинительный грех.
Но с водою не следует выплескивать и ребенка. Не следует забывать, что наука (на ином, разумеется, уровне) нередко возвращалась к взглядам Мечникова, списанным в архив по причине их «устарелости». Таково, например, убеждение Ильи Ильича в инфекционной природе рака. После того как было «точно» выяснено, что рак никак не связан с инфекционным началом, выдающийся советский ученый Лев Александрович Зильбер выдвинул вирусную гипотезу рака. Была установлена вирусная природа, по крайней мере, некоторых опухолевых заболеваний; в наши дни теорию Зильбера поддерживает большинство онкологов. В своей посмертно изданной книге Л. А. Зильбер писал:
«И. И. Мечников указывал на возможную роль вирусов в возникновении опухолей и утверждал, что они могут проявить свою болезнетворность только при определенных условиях — положение, получившее полное подтверждение при изучении многих опухолей вирусного происхождения».
Совсем недавно австралийский иммунолог Ф. Вернет выдвинул новую гипотезу старения. Тесно увязывая механизмы старения с механизмами иммунитета, Вернет — на современном научном уровне — как бы возвращается к некоторым взглядам Мечникова. Идеи Ильи Ильича продолжают жить, продолжают питать науку.
На борьбу с преждевременной старостью Мечников вышел преждевременно. Но кто-то должен был начать этот поход. И он начал.
Что ж, в его вкусе было закладывать фундаменты.
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ Пастеровский институт. Работы по сифилису
1
В те дни, когда «Этюды о природе человека» быстро раскупались во Франции и России, мир облетела новая весть.
28 июля 1903 года Мечников продемонстрировал на заседании Медицинской академии в Париже двухлетнюю обезьянку-шимпанзе по кличке Ядвига.
Обезьянка была больна. И не туберкулезом, не воспалением легких (от которых обычно погибали шимпанзе в европейском климате), а той болезнью, которую, как иронизировал Мечников, «не принято называть в обществе»; в России ее именовали «французской», а во Франции (с легкой руки драматурга Бриё) — «аварией»; по мнению некоторых специалистов, она описана в библии и других древних книгах, а по мнению других, ее завезли в Европу заодно с картофелем, табаком и другими заморскими чудесами храбрые сподвижники Христофора Колумба…
Прежде чем отважиться на доклад в академии, Мечников пригласил в лабораторию видных сифилидологов, в том числе крупнейшего специалиста профессора Фурнье. Фурнье был потрясен.
«К огромному моему удивлению, — говорил он, — так как впервые мне дано было видеть то, что я увидел в этот день, я констатировал на животном поражение, которое представилось мне в виде абсолютного, великолепного, неопровержимого сифилитического шанкра».
С тех пор как после возвращения Колумба в Европе разразилась эпидемия сифилиса, медики тщетно искали средства против него.
Долгое время, правда, сифилис считали вполне безобидным. Что он вызывает? Маленькую язвочку, которая через некоторое время исчезает… Потом сыпь, которая тоже то исчезает, то появляется вновь… В последние десятилетия прошлого века, однако, выяснилось, что хотя сифилис сам по себе не смертелен, но он приводит к таким тяжелым болезням, как прогрессивный паралич, сухотка спинного мозга, тяжелейшие поражения сосудов; сифилис, иными словами, ведет к атрофии «благородных» тканей, а значит, к преждевременной смерти. Уже только поэтому Мечников должен был схватиться с ним.
Ученого мучило бессилие науки, глубоко возмущала ханжеская позиция иных моралистов, готовых видеть в тяжелой болезни божью кару за чрезмерное «любострастие».
К тому же «французская» болезнь нередко поражала и тех, на кого богу вроде бы гневаться было не за что. От больных родителей она по наследству переходит к детям; здоровые дети заражались, питаясь молоком больной матери или кормилицы; сифилис передавался через поцелуи, соприкосновения, через общую посуду и вещи. Там, где царили скученность, невежество и антисанитария, как это было, например, в некоторых районах России, особенно же на ее окраинах, однажды занесенная, болезнь поражала целые селения. В конце прошлого века в Ташкенте по масштабу причиняемых им бедствий сифилис занимал второе место после малярии. Да и в «цивилизованных» странах Запада положение было ненамного лучше. По данным одной германской страховой компании, смертность среди ее клиентов на 25 процентов зависела от туберкулеза; на 15 процентов — от сифилиса…
И не было никакой возможности одолеть страшную болезнь. Потому что, чтобы одолеть, надо исследовать. Надо пробовать. Но пробовать на людях нельзя, а животных «авария» игнорировала. Она обосновалась на самой верхней ступеньке эволюционной лестницы, на той, где обитает Homo sapiens, человек разумный — единственное существо, наделенное сознанием и волей.
Многие ученые пытались заразить сифилисом макак, мартышек и других узконосых обезьян. Сам Фурнье тоже немало потрудился на этом поприще, но не получил надежных результатов.
Читать и перечитывать краткое выступление Фурнье по докладу Мечникова необычайно интересно. Видно, какое смятение владеет душой маститого ученого:
«Я счел себя вправе ответить Ру и Мечникову: да, поражение, которое вызвала ваша инокуляция у животного, о котором идет речь, есть великолепное воспроизведение сифилитического шанкра, такого, как мы знаем у человека.
Сказав это, можем ли мы пойти дальше и утверждать, что с сегодняшнего дня разрешен большой вопрос — о возможности прививки сифилиса животным? Что касается меня, мне бы этого очень хотелось, я готов сегодня же сжечь мои корабли, настолько я чувствую себя уверенным в диагнозе, который только что объявил. Однако осторожность советует нам ждать. Тем более что мы имеем критерий, который вскоре разрешит вопрос в последней инстанции. Если в самом деле поражение, возникшее у шимпанзе Ру и Мечникова, действительно сифилитический шанкр, не пройдет и четырех недель (предполагая по крайней мере, что развитие сифилиса у животных подчиняется тем же законам, что и сифилис человека), как у шимпанзе возникнет то, что называют вторичными признаками <…>. И тогда свет будет зажжен, вопрос будет решен окончательно».
Но другие специалисты не хотели ждать четыре недели. Они опасались, что обезьянка за это время может погибнуть от какой-либо посторонней причины. Дю Кастель, Галлопо, Бюро в один голос заявили, что свет надо считать уже зажженным.
И при всем этом ученые не могли отделаться от впечатления, что им демонстрируют какое-то чудо.
«Аналогичные прививки многократно производились на обезьянах и всегда до сих пор сопровождались неуспехом. Не скажет ли нам Мечников, не были ли замечательные результаты, которые ему удалось получить, следствием специальных мер предосторожности?» — спрашивал один из участников заседания, Марк Се.
«Ни в коей степени, — ответил Мечников. — Прививка была сделана самым простым и самым обычным образом. Если она дала результаты, отличные от наблюдавшихся до сих пор, это наверняка относится к различию между животными, которые, будучи человекообразными, более приближаются к человеку, чем обычная обезьяна».
2
Итак, осуществилась его давняя идея. Мировоззрение эволюциониста подсказывало ему, что с помощью ближайших родичей человека удастся расширить границы экспериментальной медицины, распространить ее если не на все, то, по крайней мере, на некоторые болезни, считающиеся сугубо «человеческими».
После смерти Пастера Илья Ильич пытался внушить эту мысль Дюкло, но новый директор так же, как и прежний, не захотел рисковать скудными средствами, которыми располагал институт. Как-никак человекообразные обезьяны стоили от одной до двух тысяч франков каждая и к тому же быстро погибали в парижском климате.
И вот в апреле 1902 года четырнадцатый медицинский конгресс в Мадриде присудил Мечникову премию. Сумма премии была небольшой — всего пять тысяч франков, цена двух-трех шимпанзе. Ни о каких серьезных исследованиях при этом нельзя было и думать. Но пару опытов для ориентировки провести было можно. Словом, Мечников решил попробовать. И конечно, с жаром рассказывал окружающим о задуманных экспериментах. Некоторых увлекли его планы, причем среди них оказался Эмиль Ру.
Это существенно потому, что Ру вскоре тоже получил премию, да не какой-то пустяк, а целых сто тысяч франков! Премию присудил ему Французский институт (так назывался совет пяти академий), а учредил ее богач Озирис, сделавший редкую, хотя и вполне типичную карьеру — от мелкого мошенника до крупного миллионера и мецената.
Сын бедных родителей, он чуть ли не пешком пришел из Бордо в Париж, где поступил на службу в банк и едва избежал тюрьмы за какие-то спекуляции. Но потом он сказочно разбогател. Бездетный и очень скупой, он рассорился с требовавшими помощи родственниками и целью поставил так распорядиться своими миллионами, чтобы после его смерти им ничего не досталось. К тому же с ростом состояния возрастало и тщеславие банкира. Он сменил свое незавидное имя Ифла на более звучное Озирис и, сообразив, что миллионы в могилу с собой все равно не возьмешь, стал время от времени поражать мир необычными подарками обществу. Он купил и подарил французскому правительству поле под Ватерлоо, где потерпел последнее поражение Наполеон; он собрал большую коллекцию картин, которую завещал Лувру; отвалил солидную сумму Пьеру Кюри на исследования радиоактивности и физику Бонди на работы по беспроволочному телеграфу. Он же учредил премию по медицине, которая присуждалась раз в пять лет за полезное для человечества открытие, сделанное в это пятилетие…
Получив чек, Ру пришел к Мечникову.
— Вот вам деньги для опытов над антропоидами, — сказал он просто. — Я не имею на них права, потому что в течение последних пяти лет ничего не сделал.
Мечников взял деньги без колебаний; лишь поставил условие: Ру должен принять участие в опытах, «разделяя со мною удачи и неудачи, смотря по тому, что получится».
Ру согласился, но фактически почти все работы вел Мечников.
В 1903 году умер Дюкло.
Ру стал директором института, Мечников — его заместителем. И хотя Илья Ильич исправно нес свою долю административных обязанностей, основная тяжесть их легла на плечи Ру. Для лабораторных занятий у него почти не оставалось времени.
Позднее Ру писал Мечникову: «Вы — несравненный товарищ в работе; я могу это сказать, ибо не раз мне выпадало счастье участвовать в Ваших изысканиях. В сущности, все делали Вы». Вероятнее всего, Ру имел в виду исследования по сифилису. Много раньше, ознакомившись с одной из статей, он писал Мечникову: «Я очень смущен тем, что Вы представляете это сообщение от Вашего и моего имени; я не принимал никакого серьезного участия в Вашей работе по сифилису, и было бы лучше, если бы в соответствии с действительностью оно было бы подписано только Вами».
…Узнав о том, как ученый распорядился его премией, Озирис долго не мог этому поверить, а когда поверил, то что-то дрогнуло в душе престарелого богача. Он так растрогался, что решил оставить Пастеровскому институту львиную долю своих капиталов (28 миллионов франков). Когда он умер, родственники пытались оспорить завещание, но по части завещаний Озирис был дока. Дело о его наследстве разбиралось в судах не один год, и телеграмму о том, что оно наконец выиграно, Мечников получил от Ру в том памятном мае 1909 года, когда его с триумфом чествовали в Петербурге.
С этого времени Институт Пастера наконец-то вышел из финансовых затруднений.
3
А пока, сложив свои капиталы, друзья, по словам Мечникова, «бросились покупать шимпанзе».
Первой обезьяне они привили удаленную у человека саркому. Болезнь не привилась, а животное умерло от воспаления легких.
Второй была Ядвига…
Как только сообщение Мечникова и Ру стало известно, тут же отыскался претендент на приоритет в открытии экспериментального сифилиса. Некто Гамоник заявил, что он еще двадцать лет назад заразил сифилисом макаку.
Но в том-то и дело, что хотя в отдельных случаях прививки низшим обезьянам и удавались, однако поражения оказывались незначительными и совсем непохожими на «человеческие»: следовательно, никакой уверенности в том, что они вызваны именно возбудителем сифилиса, быть не могло. Тем более что сам возбудитель оставался неизвестен.
Только теперь, когда ученые получили возможность экспериментировать на животных (вслед за Ядвигой Мечников без труда привил болезнь Эдуарду, Ивонне, Галют Шарлотте и многим другим шимпанзе, причем у всех появлялись не только первичные, но и вторичные признаки), удалось установить природу слабых поражений у низших обезьян.
Мечников составил обширную программу исследований и приступил к ее осуществлению. Он вводил заразу невосприимчивым к ней животным, а потом их кровь вводил шимпанзе, надеясь получить противосифилитическую сыворотку. Но обезьяны заболевали: антитела не образовывались. Одновременно он прививал болезнь человека самым разным видам обезьян; переносил вирус от шимпанзе к шимпанзе, от шимпанзе к макакам, от макак к шимпанзе…
И прежде всего выяснил, что, проходя через организм низших обезьян, вирус ослабляется. Перевивая вирус от макаки к макаке, он видел, что поражения у каждой следующей обезьяны менее сильны, чем у предыдущей; на восьмом животном ему пришлось прервать серию, так как вообще не обнаружилось никаких признаков болезни.
У шимпанзе вирус макаки тоже вызвал меньшее поражение, нежели «человеческий», причем чем через большее число макак его предварительно «пропускали», тем меньше были поражения у шимпанзе.
Самым же важным было то, что шимпанзе при этом становились невосприимчивыми к «человеческому» вирусу.
Значит, вакцинация?!
В сентябре 1904 года Мечников выступил в Берлине на V Международном конгрессе дерматологов, и доклад его стал гвоздем конгресса.
Со времени первой прививки обезьяне прошло уже больше года, но дерматологи всего мира еще находились в состоянии какого-то шока.
Мечников в своем докладе подчеркнул, что работы лишь начаты и «означают только общую ориентацию в трудном и сложном исследовании».
Он говорил так не из одной лишь скромности.
Убедившись, что вирус макак вакцинирует шимпанзе, Мечников, естественно, задался вопросом: а нельзя ли вакцинировать человека?
Но как отважиться на столь рискованный эксперимент?..
Вскоре ему помог случай.
За макаками ревностно ухаживал Латапи, тот отважный препаратор, который некогда пил вместе с Мечниковым холерные культуры. Однажды Латапи обнаружил у себя на нижней губе маленькую язвочку; через несколько дней она исчезла. Но потом язвочка появилась вновь… И хотя она нисколько не походила на сифилитическую, Латапи взволновался. Желая успокоить товарища, Мечников взял из ранки несколько капель и привил макаке. Вскоре они оба забыли об этом опыте, как вдруг на тридцать шестой день у обезьяны появилось типичное для макак поражение. Латапи пришел в отчаяние. Мечников срочно пригласил в лабораторию Фурнье; профессор осмотрел больного и твердо заявил: опасаться нечего.
Мечников показывает маститому ученому обезьяну, но тот стоит на своем. Фурнье много месяцев наблюдает за Латапи и оказывается прав: никаких признаков болезни не появляется…
Выходит, вирус, взятый от низших обезьян, неопасен для человека!
Теперь во что бы то ни стало надо повторить опыт. И Илья Ильич, забыв данный самому себе зарок, прививает ослабленный вирус в предплечье предложившей себя для опытов 79-летней старушке…
Результат такой же!
Да, но как доказать, что ослабленный вирус предохраняет от заражения сильным? Ведь для этого надо привить испытуемому настоящий «человеческий» сифилис!.. Однако Илья Ильич уже не может остановиться. «Психоз» все усиливается. Он предлагает Латани, как «вакцинированному» вирусом макак, подвергнуться испытанию. Но тот решительно отказывается. Да, когда-то он не моргнув глазом трижды пил разводки холерных вибрионов. Но холера — это другое дело: проходит несколько дней, и все ясно — либо ты остался здоров, либо заболел. А тут недели и месяцы томительного ожидания… Нет, с него довольно пережитых волнений! Да он и не тот теперь. Он стал старше. Он хочет жить. У него развился инстинкт жизни. Настаивать Мечников, разумеется, не стал.
Тем более что он понимал — вакцинация живым, хоть и ослабленным, вирусом не найдет широкого применения. Ведь никто не может поручиться, что отдаленные последствия прививок не окажутся неблагоприятными.
4
Он ищет другие пути.
Многие проблемы не удается решить из-за того, что все еще не обнаружен возбудитель болезни.
Десятки проб, взятых из язв и крови человека, шимпанзе, макак, исследует Мечников под микроскопом в надежде отыскать таинственного возбудителя, но все безрезультатно.
Микроб, вероятно, очень мал; даже самые «сильные» микроскопы не позволяют его разглядеть. Но, может быть, удастся обнаружить присутствие возбудителя косвенным путем? Наталкиваясь на содержащиеся в пробах клетки, микроб должен их приводить в движение… Но клетки неподвижны, словно листья кувшинок в безветренный день на поверхности заброшенного пруда.
Правда, Бордэ и Жангу — они теперь работают у себя на родине, в Брюсселе, — нашли у больного сифилисом маленькую спиралеобразную бациллу и тотчас послали препарат своему учителю. Следом, однако, Мечников получил разочаровывающее сообщение: у пяти других больных найти спириллу бельгийцам не удалось.
Однажды, в начале 1905 года, просматривая очередную кипу литературы, Мечников обнаружил в журнале Прусской академии наук статью простиролога (то есть специалиста по простейшим) Зигеля. В крови больного Зигель нашел мельчайшего микроба, которого окрашивал смесью двух анилиновых красок — азуром и эозином. Вот он, возбудитель сифилиса! — провозглашал автор.
Взглянув на приложенные к статье фотографии, Мечников тут же понял, что утверждение немецкого коллеги вовсе не доказано. За последние 25 лет было обнаружено не меньше 25 «возбудителей» сифилиса. «Открытие» Зигеля — двадцать шестое в этом ряду, только и всего. С разочарованием Илья Ильич захлопнул журнал. Несмотря на поднятый в научных кругах шум, он даже не стал проверять сообщение Зигеля.
Вскоре, однако, Илья Ильич получил письмо от другого немецкого ученого, Шаудина. Это был еще молодой, но уже опытный простиролог, искусный наблюдатель, открывший возбудителей многих болезней. Санитарное ведомство, сообщал Шаудин, поручило ему проверить сообщение Зигеля. Как и следовало ожидать, микроб, описанный Зигелем, к сифилису непричастен. Что ж, так Мечников и предполагал… Но дальше Шаудин сообщал, что ему удалось обнаружить другую бактерию: очень маленькую спириллу, едва поглощающую краски и принимающую бледно-розовый цвет. Он уже обследовал многих больных и у всех нашел бледную спирохету; поэтому он предполагает, что она-то и является истинным возбудителем болезни. Но утверждать это наверняка он пока не решается. Он прикладывает препараты и просит оказать ему любезность — проверить его данные на обезьянах и либо подтвердить их, либо опровергнуть.
Мечников бросился к микроскопу, и теперь, когда он знал, что именно надо искать, взору открылось то, что прежде от него ускользало. У 25 из 31 обследованной обезьяны он нашел бледную спирохету. Сомнений быть не могло. Он изготовил препараты и отправил их Шаудину.
Ответ не заставил себя ждать. Шаудин сердечно благодарил, восхищался качеством препаратов и просил, чтобы Мечников поскорее опубликовал свои данные, так как Зигель и его сторонники полагают, что спирохета содержится… в красках и вместе с ними вносится в исследуемый материал.
«Он искал микроб Зигеля, — поспешил напечатать в очередной статье Мечников, — а встретил микроб, который нам не удалось обнаружить и который Бордэ и Жангу, нашедши его однажды, не смогли найти вновь».
5
Открылись новые горизонты в изучении страшной болезни — особенно после того, как австрийский ученый Ландштейнер предложил простой способ, позволяющий обнаруживать бледных спирохет без всякого труда. Оказалось, что если освещать пробы не снизу, как это делалось обычно, а сбоку, то спириллы на темном фоне выглядят ярко-серебристыми извитыми нитями.
Когда Илью Ильича познакомили с этим способом и он, заглянув в микроскоп, увидел, как, словно кометы по ночному небу, проносятся по темному полю светящиеся спирохеты, он воскликнул:
— Я никогда не думал, что они могут давать такие великолепные фейерверки!
…Теперь можно было установить, в каких именно органах «обитает» микроб; как он ведет себя во время скрытых стадий болезни; какова природа первичных, вторичных, третичных поражений… Зная возбудителя и имея восприимчивых к нему животных, выяснить все эти вопросы нетрудно.
Но с животными опять стало туго. Сто пять тысяч франков, казавшиеся несметным богатством, незаметно иссякли. Мечников стал опасаться, что в самый решающий момент опыты придется прекратить.
И тут помощь пришла с родины.
Старый друг Ильи Ильича Максим Максимович Ковалевский — в 1905 году он вернулся в Россию, но продолжал часто наведываться в Париж — был в курсе его взысканий. Узнав о новых финансовых затруднениях, он снесся с редактором «Русских ведомостей» В. М. Соболевским, а тот уговорил известных миллионеров и меценатов мать и сына Морозовых пожертвовать Мечникову крупную сумму; они прислали на работы с обезьянами тридцать тысяч франков.
Мечников испытывает на обезьянах самые разные ртутные препараты. Он ищет такие комбинации, которые приносили бы наименьший вред животным и в то же время надежно защищали их от болезни.
Наилучший эффект дает мазь, состоящая на одну четверть (или треть) из каломели (соединение ртути с хлором) и на три четверти (или две трети) из ланолина (жироподобного вещества, выделяющегося при промывке овечьей шерсти).
Можно ставить решающий опыт.
Мечников заражает партию шимпанзе, а потом втирает в место инокуляции каломелевую мазь — через час, два, четыре… восемнадцать, двадцать часов.
Лишь последняя обезьяна заболевает…
Итак, доказано: втирание мази даже через восемнадцать часов после заражения предохраняет обезьяну.
И опять перед Ильей Ильичом тяжелейшая проблема. Как лабораторный опыт перенести в клинику? Как от обезьяны перейти к человеку?
И опять его осаждают добровольцы.
Мечников полон сомнений, но глубокая вера в свою правоту и страстное стремление выяснить истину заставляют его отбросить колебания. Он останавливается на Поле Мессоневе — студенте-медике, уже окончившем курс, хотя еще не защитившем диссертацию. Мессонев, по крайней мере, хорошо понимает, что ему грозит, и, следовательно, отвечает за свои действия.
Мечников в присутствии свидетелей вводит юноше культуру взятой от человека спирохеты, а через час в течение пяти минут студент втирает каломелевую мазь.
Потом все настороженно ждут положенные три недели, когда обычно проявляются первичные признаки си филиса. Ждут еще и еще…
Проходит 94 дня.
Все сроки возможного проявления не только первичных, но и вторичных признаков болезни позади, а Поль Мессонев здоров — это подтверждают два авторитетнейших сифилидолога.
Мечников опять делает доклад в академии. Специалисты снова потрясены. «Не вправе ли мы теперь спросить: может быть, возможность истребить венерические болезни перестала быть сном?» — восклицает один из них.
Блюстители нравственности объявили применение ртутных мазей аморальным, так как они-де оставляют безнаказанным «любострастие». «Но так как все средства моральной профилактики не помешали большому распространению сифилиса и заражению стольких невинных, — возражал против этого „аргумента“ Мечников, — аморальным является ограничение способов борьбы с этим бичом».
Правда, иные «любострастные», узнав о появлении «верного» средства, и в самом деле пустились в разгул. В «Анналах венерических болезней» появилась статья о «перуанце, проезжавшем через Париж, который, проникшись доверием в эффективность каломелевой мази, счел возможным широко, без опасений воспользоваться своим пребыванием в столице. Несмотря на профилактические меры, он заразился».
Появились и другие сообщения о неэффективности каломелевой мази…
По просьбе Мечникова один его друг обошел изрядное число парижских аптек, и вскоре на столе Ильи Ильича образовалась целая коллекция всевозможных баночек. Некоторые из них не имели никаких этикеток; на других было написано: «Мазь против сифилиса», «Каломелевая мазь», «Мазь Института Пастера», «Мазь Мечникова».
Проведя анализ содержимого всех этих баночек, Илья Ильич убедился, что лишь в редких случаях мазь изготовлена по его рецепту; чаще в ней лишь до десяти процентов каломели.
Однако и правильно приготовленная мазь помогала лишь в первые часы после заражения. Когда к Мечникову обращались за помощью позже, он вынужден был отказывать. Случаев таких было немало, и Мечников взялся за поиски более надежного средства.
Доктор Салмон, один из деятельных помощников Мечникова в этих исследованиях, пытался лечить больных мышьяковистым препаратом атоксилом и получил неплохие результаты.
Мечников убедился, что впрыскивание атоксила предохраняет обезьяну от болезни в то время, когда применять каломелевую мазь уже бессмысленно. Проведя серию опытов, он установил минимальные дозы препарата, способные предохранить обезьян, а Салмон использовал эти данные для предохранения людей.
О новом достижении Мечников доложил на Международном конгрессе в Берлине в сентябре 1907 года.
Еще через три года Пауль Эрлих опубликовал свои исследования, длившиеся много лет и завершившиеся изобретением сальварсана. Испытав средство, Мечников убедился в его эффективности. Это он и поспешил признать.
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ Нобелевская премия. Конец дня в Ясной Поляне. Последняя поездка в Россию
1
Большой чести в том, что ему присуждена Нобелевская премия, Мечников не видел. Он считал, что комитет состоит из не вполне компетентных людей. К тому же Илья Ильич добивался присуждения премии Коху, полагая, что никто другой из бактериологов не заслуживает ее в такой степени, но жюри упорно обходило «тайного советника».
И все же телеграмма из Стокгольма обрадовала Мечникова.
Во-первых, опять появились деньги на обезьян.
Во-вторых, было приятно, что отмечены его работы по иммунитету; хотя широкой публике Мечников был больше известен как создатель каломелевой мази и лактобациллина, но он-то знал, каково его главное детище!..
И в-третьих, коль скоро комитет присудил ему только половину премии, то было приятно, что «солауреатом» его назван Пауль Эрлих.
Несмотря на значительные расхождения во взглядах, между ними давно уже сложились особенно теплые отношения. Впервые они встретились в 1900 году во время международного конгресса в Париже. Мечников дал тогда обед в честь немецкого гостя и настолько очаровал его, что Эрлих воскликнул:
— Какой характер! Какой великий человек!
У них было много общего. Увлекающийся, фонтанирующий идеями, яркий и остроумный собеседник, Эрлих был трогательно непосредственным человеком, начисто лишенным столь свойственной немцам холодности и педантичности. Нельзя сказать, чтобы они часто встречались. С Берингом, например, Мечников виделся куда чаще: охотно наезжал к нему в Марбург — познакомиться с новыми опытами или обсудить спорные вопросы.
Но когда в марте 1914 года состоялось сразу два юбилея (исполнилось 60 лет Берингу и Эрлиху), то Мечников (совместно с Ру) в приветствии Берингу смог отметить лишь его научные заслуги, а об Эрлихе написал:
«Идеи изобилуют на каждой странице его трудов и придают блеск содержанию. Живость воображения Эрлиха проявляется в его манере, в лучистости его взгляда, в богатстве его речи. Будучи не в состоянии выразить словами все свои мысли, он призывает на помощь словам химические формулы и фигуры, которые чертит постоянно на листе бумаги, который всегда с ним. Общее впечатление о личности столь же симпатично, как и интересно. Неисчерпаемый творец руководящих идей, Эрлих один из учителей, насчитывающих наибольшее число учеников, и все остаются привязанными к нему, так как он в то же время самый приветливый из людей».
2
В телеграмме Нобелевского комитета наряду с поздравлением содержались две просьбы: во-первых, поскорее прибыть в Стокгольм на официальную церемонию и, во-вторых, разрешить возникшее затруднение, ибо комитет не знает, представителя какой страны он удостоил наградой.
Мечников ответил, что приехать сможет только весной, когда закончит курс лекций в Пастеровском институте, и что он всегда был и остается подданным Российской империи.
Над выбором темы для нобелевской речи ломать голову ему не пришлось: согласно уставу лауреат обязан был говорить о предмете, за который присуждена премия.
Иммунитет!
Но Мечников не был бы самим собой, если бы ограничился только изложением сути своих исследований. В самом начале лекции, поблагодарив Нобелевский комитет за оказанную честь и воздав должное «моему другу профессору Эрлиху», Мечников без обиняков заявил, что решил показать «необходимость теоретических исследований». Илья Ильич вернулся, таким образом, к тому, что страстно проповедовал еще четверть века назад, в своем вступительном слове на VII съезде российских естествоиспытателей и врачей, когда только что открылась ему целебная роль подвижных клеток. Рассказав о нелегкой борьбе, какую вел все эти годы за свои воззрения, он заключил:
«Фагоцитарная теория, созданная более четверти века тому назад, в течение многих лет живо оспаривалась со всех сторон. Только в последнее время она была признана многими учеными всех стран, а практически ее начали применять, так сказать, со вчерашнего дня. Следовательно, можно надеяться, что в будущем в медицине изобретут еще не одно средство, чтобы использовать фагоцитоз в интересах здоровья».
Рыцарь науки, он не упускал случая выступить в ее защиту.
Похоже, читая свою лекцию, он прислушивался не столько к реакции переполненного зала, сколько к суровому голосу того, кто был за тысячи верст от благополучного Стокгольма, но с кем он вел заочный спор уже многие годы.
И, приняв все положенные нобелевскому лауреату почести, он отправился на родину, в Россию, чьим сыном оставался всегда.
Он поехал в Петербург. Потом — в Москву. Потом — в Ясную Поляну…
3
Когда возвратились из Телятинок, Толстого еще не было. Он сделал крюк по окрестностям и подъехал с другой стороны. Спешился, сам отвел лошадь на конюшню и вернулся к дому, поигрывая хлыстом. Видно было, что он утомлен…
У «дерева бедных» его поджидала группа крестьян. Им нужна была какая-то помощь. «Вскоре крестьяне потянулись гуськом от дерева и дальше от усадьбы с обнаженными головами, по-видимому, удовлетворенные в своей просьбе», — заметил все еще остававшийся в Ясной Поляне корреспондент «Раннего утра» Д. Н.
Толстой поднялся к себе отдохнуть, а гостями завладела Софья Андреевна. Она провела их по всему дому, и Ольга Николаевна отметила в письме подруге, что «дом Толстых похож на все помещичьи дома средней руки, но выделяется своей простотой. Мебель самая необходимая, старая, лишь бы на чем было сидеть. Никакого стремления ни к роскоши, ни даже к изяществу. Все — и стены, и полы, и обстановка, видимо, бесконечно давно не были возобновлены и стоят так, пока совсем перестанут быть годными. Как все это далеко от того, что рассказывают про роскошь и непоследовательность Толстого!»
Потом Софья Андреевна прочитала гостям вслух давно написанный, но так и не опубликованный при жизни Льва Николаевича рассказ «После бала» и первую часть «Отца Сергия».
Потом был обед.
После обеда сидели у дома на скамье, следили за игрой в городки. Толстой сказал, что сам охотно бы поиграл, но боится, что корреспонденты напишут об этом.
Лев Львович предложил погулять, и они замелькали втроем между деревьями — он, Лев Николаевич и Мечников. Мечников много говорил, оживленно жестикулируя, Толстой сосредоточенно слушал, заметно к вечеру сгорбившись.
Потом сидели на балконе у Льва Николаевича, потом пили чай. Мечников рассказывал о Пастере, Беринге, Ру. О Софье Ковалевской. Толстой — о том, как иногда, не подумавши, совершаешь дурной поступок. Он рассказал, как выслали Черткова, как приезжал от Столыпина чиновник расследовать это дело и как он, Толстой, хотел с этим чиновником поговорить, но, увидев его, разгневался и не подал ему руки, и как теперь раскаивается в этом. («Я мог сказать ему, — пояснил, — что считаю вредной и дурной его деятельность; но я должен был с ним, как с человеком, быть учтивым». В рукописи Гольденвейзера[44] дальше следует почему-то опущенное при издании: «Л. Н-ча долго мучила совесть за его „нехристианский“ поступок. А все-таки, что он не подал жандарму руки, всем было приятно».)
Еще Толстой сообщил доверительно свой секрет: он сейчас пишет художественную вещь о революции пятого года, но боится, чтобы из этого не вышло что-нибудь беспомощное, вроде второй части «Фауста».
— Но в этом произведении глубокой старости есть высокохудожественные места, — возразил Мечников.
— Вряд ли, — ответил Толстой. — В нем много ненужных и туманных сцен.
Мечников поспешил изложить свою версию второй части «Фауста». Толстой оживился, сказал, что непременно перечитает «Фауста».
Однако «заинтересованность» трактовкой Мечникова он выказал, по всей видимости, только из вежливости. Почти через два месяца Гольденвейзер записал слова Льва Николаевича о Тургеневе:
— Мне его миросозерцание претило: какое-то отношение ко всему с эстетической точки зрения. Странно, мне Мечников напомнил это. Он говорил о «Фаусте» и о старческой любви Гёте. Все это и вообще мерзость, а старческое-то и вовсе. А здесь это выставляется как что-то необыкновенное.
Мечников пообещал прислать ему «Этюды оптимизма», где «Фаусту» и Гёте посвящена отдельная глава.
В наступивших уже поздних сумерках Гольденвейзер сел к роялю. Оказалось, что музыкальные вкусы хозяина и гостя почти совпадают. Оба любили Моцарта, Гайдна, Шопена. Оба не выносили новую музыку (Мечников сказал, что пришел в ужас, когда ему в Петербурге играли Скрябина). Правда, он любил Бетховена, а Толстому Бетховен казался слишком усложненным.
Все было пристойно и вежливо. Хозяин и гость всячески подчеркивали, что получают удовольствие от общения друг с другом. Только раз, когда они на какую-то минуту остались в кабинете Толстого одни, Лев Николаевич снял с лица маску любезности, пристально (как пишет Мечников, но, может быть, опять пронизывающе?) посмотрел гостю в глаза и спросил:
— Скажите мне, зачем вы, в сущности, приехали сюда?
Мечников признается, что смутился, да и кто бы не смутился на его месте!
Прощались сердечно.
Долго жали друг другу руки. Мечников уверял, что пережил один из лучших дней своей жизни и что его жена, хотя он еще не говорил с ней об этом, испытывает такое же чувство.
— Я знал, что свидание будет приятно, но не думал, что настолько, — отвечал Толстой и предложил изредка переписываться.
— Постараюсь прожить сто лет, чтобы вам доставить удовольствие, — добавил он, смеясь.
И опять серьезно:
— Не прощайте, а до свидания.
А когда экипаж, в который уселись гости, уже покатил вниз по «прешпекту», они вдруг услышали, что их окликают… Толстой стоял на балконе, махал обеими руками и кричал вдогонку:
— До свидания… до свидания…
На станции Мечникова опять увидел корреспондент «Раннего утра» Д. Н. Было уже больше одиннадцати. «Вся фигура И. И. была, так сказать, полна глубокой думы». Мечников протянул деньги кассиру и ушел на платформу; станционный сторож не сразу разыскал его в темноте, чтобы вручить билеты. «Характерный штрих», — замечает по этому поводу Д. Н., и действительно: столь свойственной ученым рассеянностью Мечников не особенно отличался.
На вопрос корреспондента о Толстом он сказал примерно то же, что говорил самому Толстому при прощании…
А на следующий день (Мечников провел его в Москве в кругу друзей — нигде не появлялся и никого не принимал, вечером же укатил в Париж), когда в Ясную Поляну приехал корреспондент «Русских ведомостей» С. Спиро, Толстой повторил ему то, что говорил при прощании Мечникову: «Я от этого свидания получил гораздо больше всего того хорошего, чего ожидал».
Еще он сказал: «Я не встретил в нем обычной черты узости специалистов, ученых людей. Напротив, широкий интерес ко всему и в особенности к эстетическим сторонам жизни». «Я был поражен его энергией: несмотря на ночь, проведенную в вагоне, он так был оживлен и бодр, что представлял прекрасное доказательство верности его гигиенического, отчасти даже нравственно-гигиенического режима, в котором, по-моему, важное значение имеет то, что он не пьет, не курит и ни в какие игры не играет».
Это интервью позднее было включено в приложение к сборнику воспоминаний Мечникова. По мысли составителя, оно, очевидно, передавало истинное отношение Толстого к гостю. Маковицкий, однако, записал 31 мая: «Л. Н. сказал: в дневник, как всегда, записал откровенно, как мне тяжело было говорить с Спиро».
В дневнике же читаем:
«Меч[ников] оказался оч[ень] легкомысленный[45] человек — арелигиозный. Я нарочно выбрал время, чтобы поговорить с ним один на один о науке и религии. О науке ничего, кроме веры в то состояние науки, оправдания к[оторо]го я требовал. О религии умолчание, очевидно, отрицание того, что считается религией, и непонимание и нежелание понять того, что такое религия. Нет внутренне[го] определения ни того, ни другого, ни науки, ни религии. Старая эстетич[ность] Гегелевско-Гётевско-Тургеневская. И оч[ень] болтлив. Я давал ему говорить и рад оч[ень], ч[то] не мешал ему. Как всегда, к вечеру стало тяжело от болтовни. Гольд[енвейзер] прекрасно играл».
4
В ответ на присланные Мечниковым книги — о Конго Эдуарда Фоа и «Этюды оптимизма» — Толстой написал:
«Уважаемый Илья Ильич,
Простите, пожалуйста, что долго не отвечал вам. Благодарю вас за ваше письмо и книги. Только поверхностно просмотрел их. Очень бы желал чем-нибудь со своей стороны быть вам полезным. Пожалуйста, если вам что-нибудь нужно будет в России, что я могу исполнить, не обойдите меня.
Дружески жму вам руку. Прошу передать мой привет вашей жене.
Лев Толстой.
27 июля 1909».
Вот так! Книги получил, благодарю за них покорно, но в долгу оставаться не хочу, так что рад буду, со своей стороны, услужить; привет супруге…
Продолжения переписки не последовало.
Ну а «Этюды оптимизма» Толстой, конечно, не «поверхностно просмотрел»; он «два дня читал понемногу Мечникова книгу и ужасался на его легкомыслие и прямо глупость». Он хотел написать Мечникову «не доброе», потом решил, что если напишет, то «любовно», но в конце концов ограничился приведенными строчками.
Мечников считал, что не подал повода для этой подчеркнутой сухости, и после выхода в свет записок Гусева опять пустил в ход свой ключ. У Гусева он прочитал:
«Вчера Л. Н. получил от Мечникова его книгу „Essais optimistes“. Прочитав из нее главу о морали, он сказал: „Это — та же самоуверенность, что у теперешней молодежи. Всех разносить. Старики никуда не годятся. Не то чтобы признавать в них известные недостатки, а ничего в них нет хорошего“».
«Я объясняю себе возмущение Толстого по поводу моей статьи о нравственности, — писал Мечников, — его чрезвычайной, сохранившейся до конца дней, почти болезненной впечатлительностью. Несмотря на то, что я развивал вопрос о противниках вивисекций на животных совершенно спокойно, но мое отрицательное отношение к ним, вероятно, очень задело чувствительную струну великого писателя, как и все то, что я говорил о вреде чересчур усиленного преобладания чувства над рассудком».
Однако ни Гусев, ни сам Толстой ни слова не говорят о вивисекциях. И пометки Толстого — их всего две — относятся к тому месту, где Мечников утверждает, что наука уже так много принесла людям пользы, что вера в нее — это не слепая вера, а вполне заслуженное ею доверие. Нечто более важное, чем судьба кроликов, гибнущих под скальпелями жестоких вивисекционистов, задело Толстого!
…О Мечникове он помнил до конца своих дней — говорил о нем часто и с неизменным раздражением. Иногда даже забывал фамилию своего оппонента.
«— Ну, этот, как его, знаменитый ученый!..» Близкие знали, кого он имеет в виду, и подсказывали: «Мечников?» — «Да! Так он говорит, что…»
5
12 июня (по старому стилю 31 мая) 1909 года Мечников отбыл в Париж из Москвы, а 22-го уже был в Кембридже, куда приехал на праздник по случаю столетия со дня рождения Дарвина и пятидесятилетия выхода в свет «Происхождения видов».
На праздник съехалось около полутора тысяч ученых из многих стран обоих полушарий, но Мечникова больше всего обрадовала встреча с Реем Ланкэстером, крупным английским ученым, с которым его связывала давняя дружба.
Рей Ланкастер один из первых признал фагоцитарную теорию, приветствовал ее как важнейшее завоевание дарвинизма, восхищался страстностью и энергией, с какими Мечников отстаивал свои взгляды. В 1906 году, после того, как Илья Ильич по приглашению совета Королевского института в Харбине прочитал три публичные лекции, Рей Ланкастер выпустил их отдельной книжицей. В предисловии он охарактеризовал Мечникова как «одного из величайших людей науки — истинного благодетеля своей расы, но прежде всего изыскателя, полного всепоглощающего рвения раскрыть тайны природы». Обрадованный не менее, чем Илья Ильич, Рей Ланкастер ни на шаг не отходил от него.
На следующее утро состоялось торжественное заседание. Хозяева — доктора Кембриджа — щеголяли в красных мантиях с розовыми обшлагами; мантии французских академиков были расшиты зелеными пальмовыми листьями; несколько португальских профессоров обратили на себя общее внимание многоэтажными шляпами, которые Мечникову показались похожими на пышные пирожные, а К. А. Тимирязеву, тоже участнику праздника, — на опрокинутые цветочные горшки; одеяния немецких профессоров были не столь яркими, но не менее впечатляющими.
Когда по проходу, высоко неся голову, прошел необычайно красивый старик с пышной седой бородой, в черной средневековой мантии и черном берете, сосед Мечникова толкнул его в бок и с восторгом спросил: кто это?
Илья Ильич (сам облаченный в алую мантию доктора Кембриджского университета), не задумываясь, ответил:
— Это сам доктор Фауст, увековеченный Гёте.
Образ Фауста, с которым в последние годы часто сравнивали Мечникова, похоже, постоянно жил в его сознании.
После торжественного шествия представители различных университетов, институтов и научных обществ стали подносить организаторам праздника адреса.
Среди прочих два адреса — от Московского университета и Московского общества испытателей природы — поднес К. А. Тимирязев, «наш известный симпатичный соотечественник», как назвал его Илья Ильич. Сам Мечников поднес адрес от Пастеровского института.
В промежутках и по окончании этой затянувшейся церемонии говорили речи. От имени немецких ученых выступил берлинский анатом Оскар Гертвиг. От имени американских — известный палеонтолог Осборг. От имени хозяев торжества — Рей Ланкэстер. От имени французских и русских ученых краткую речь сказал Мечников, подчеркнувший огромное значение дарвинизма в медицине.
По свидетельству Тимирязева, речь Мечникова, «прочитанная на прекрасном французском языке с уверенностью и умением опытного оратора, слышанная во всех концах громадной залы, была покрыта громкими рукоплесканиями».
Правда, к официальной части праздника Илья Ильич отнесся с известной долей иронии: «Торжества должны лишь производить впечатление на публику, жадную ко всякого рода зрелищам, выходящим из рамок обычного». Но разочарованным Мечников не был. Участник множества различных съездов, он знал, что самое важное происходит обычно не на официальных заседаниях, а в кулуарах, когда между представителями разных научных направлений вспыхивают импровизированные дискуссии, стычки, взаимные пикировки. Дарвиновские торжества оказались в этом отношении особенно поучительными. Потому что учение Дарвина, несмотря на приобретенный им за пятьдесят лет хрестоматийный глянец, оставалось живым, развивающимся учением, и проблем в нем было куда больше, чем признаваемых всеми безоговорочных истин.
Рей Ланкэстер не удержался и даже в официальной речи раскритиковал противников «ортодоксального» дарвинизма, хотя и, соблюдая этикет, не назвал их имен. Но в кулуарах этикет был отброшен, да и никто не сомневался в том, кого именно атакует Ланкэстер. Его соотечественник Вильям Бэтсон и голландец Гуго де Фриз уже несколько лет развивали новые взгляды на наследственность и изменчивость — эти важнейшие (наряду с отбором) факторы эволюции. Де Фриз выдвинул теорию мутаций — крупных скачкообразных изменений наследственности, и те, кто не соглашался с де Фризом, обвиняли его в ревизии основ эволюционного учения.
Илья Ильич сам в Амстердаме знакомился с опытами де Фриза, а во Франции — с работами его последователя Бларингема и, несмотря на свою дружбу с Ланкэстером, столь резких нападок на «неодарвинизм» не одобрял. «Если слушать ортодоксов, то наука совершенно не прогрессировала со времени работ Дарвина», — заметил он в одной из статей.
Правда, до конца отказаться от ошибок «ортодоксов» Мечников все же не смог. Во времена, когда теория Дарвина завоевывала умы, считалось, что изменения, вызванные приспособлением организма к условиям внешней среды, передаются по наследству. Позднее, в 80-х годах, эту теорию подверг резкой критике Август Вейсман. К взглядам Вейсмана Мечников относился с большим вниманием, во многом соглашался с ним, но не во всем. Он считал, что у микроорганизмов приобретенные признаки наследуются.
К счастью, это заблуждение не могло сильно влиять на его конкретные исследования.
6
Изучение кишечной флоры привело Мечникова к проблеме «детской холеры», то есть детских поносов. Борец за долголетие не мог остаться равнодушным к болезни, уносившей наибольшее число едва появившихся на свет жизней.
Ученые долго и тщетно искали возбудителя «детской холеры», пытались заражать ею лабораторных животных и, не добившись успеха, сделали заключение, что болезнь эта не инфекционная. Появилась теория, согласно которой «детская холера» возникает в результате нарушений пищеварения, вызванного летним зноем. Правоверный бактериолог, Мечников не соглашался с этим. Зная, как «капризны» кишечные инфекции, зная, что их протекание зависит не только от микроба-возбудителя, но и от других микроорганизмов, которыми населен желудочно-кишечный тракт, Мечников стал вести опыты на кроликах-сосунцах и на новорожденных шимпанзе. Он доказал, что «детскую холеру» вызывают микробы особой группы, называемой протеем.
Из других «человеческих» болезней он обратился к брюшному тифу.
Положение с брюшным тифом сложилось парадоксальное.
Уже больше тридцати лет прошло с того времени, как ученик Коха Эберт обнаружил брюшнотифозную палочку. Существовало более двух десятков вакцин против брюшного тифа, и все они считались эффективными, так как предохраняли свинок от смертельных доз бацилл Эберта, введенных в брюшину; а людей брюшной тиф косил почти так же, как и много лет назад. Эпидемии вспыхивали то там, то здесь, в больших городах и малых селениях. Тяжелая, изнуряющая болезнь тянулась по полтора-два месяца, и каждый десятый от нее умирал…
Разочаровавшись во всех предлагаемых предупредительных средствах, Роберт Кох заявил, что не в вакцинации видит путь борьбы с брюшным тифом. Он решил уничтожить всех тифозных бацилл на территории Германии и покрыл страну сетью станций, которые брали под контроль заболевших. Станции действовали уже больше десятка лет, принесли немало пользы, и все же брюшной тиф продолжал свирепствовать в Германии так же, как и в других странах.
…Первым принялся «кормить» шимпанзе бациллами брюшного тифа профессор Гринбаум из Ливерпуля. Результат у него получился отрицательный. Мечников тоже пытался давать шимпанзе чистую культуру бацилл Эберта, но обезьяны не заболевали.
Тогда Мечников решил «накормить» животное не культурой микробов, а выделениями больного человека.
На седьмой день температура у шимпанзе стала подниматься и достигла 40,5 градуса. В крови ее исследователи обнаружили бациллы Эберта. Все симптомы указывали, что у животного типичный брюшной тиф. Через несколько дней болезнь осложнилась, и вскоре шимпанзе погибла. То была первая обезьяна, принесенная в жертву ради избавления людей от брюшнотифозной инфекции.
Но является ли бацилла Эберта носителем инфекции или она лишь сопутствует истинному возбудителю? Известно ведь, что возбудители некоторых болезней настолько малы, что их не удается увидеть в самый мощный микроскоп и что их не задерживает обычный фильтр… Мечников и Безредка профильтровали испражнения тифозного больного и жидкость, в которой уже не было палочек, но должен был остаться невидимый вирус, дали двум молодым шимпанзе… Обе обезьяны остались здоровы.
Итак, все усилия надо направить на то, чтобы вызвать болезнь чистой культурой тифозной палочки. Мечников и Безредка решают использовать для этой цели бациллу, взятую не от человека, а от шимпанзе.
Теперь наконец дело пошло. «Виновность» бациллы Эберта была доказана.
Ученые стали испытывать различные вакцины, предохраняющие свинок от введенных в брюшную полость бацилл. И оказалось, что ни одна из них не дает на обезьянах надежного результата. Так вот в чем причина неудач в борьбе с брюшным тифом!
Исследователи настаивают на необходимости широко пропагандировать личные меры профилактики, которые «известны и не так трудны, как это принято считать».
«Победа над невежеством и небрежностью является важным фактором борьбы против брюшного тифа, часто способным сделать бесполезной вакцинацию в то время, как она не приносит надежных и постоянных результатов». Так Мечников и Безредка закончили свое первое большое сообщение о брюшном тифе, опубликованное в начале 1911 года.
Но на этом исследователи, конечно, не успокоились. Если применявшиеся до тех пор вакцины оказались неэффективны, надо создать новую. Не из убитых бактерий, а из живых! Ведь бациллы поражают кишечник. А что произойдет, если их вводить под кожу?
Первые же опыты дают совершенно ясный результат: живые вакцины вызывают у шимпанзе гарантированный иммунитет.
Но вводить в широкую практику живой неослабленный вирус — значит подвергать людей опасности заражения из-за какой-нибудь небрежности. Безредка разрабатывает метод обработки бацилл сывороткой, содержащей антитела — сенсибилизаторы. Бациллы при этом остаются живыми, но организму с ними справиться легче. А обеспечивает ли сенсибилизированная вакцина иммунитет? Опыты показывают: да, обеспечивает!
Отлично. Теперь можно испытать вакцину на человеке.
Первые опыты на людях — двух женщинах сорока и тридцати трех лет — были проделаны летом 1911 года, 7 июня и 15 июля. Эти эксперименты дерзнул предпринять Александр Михайлович Безредка. Мечникова в это время в Париже не было. Он был в экспедиции — в Астраханских степях.
7
В знойный полупустынный край, куда некогда, в годы своей мрачной молодости, он бежал от самоубийства и наркомании, от прелестей цивилизации и бездействия, вызванного болезнью глаз, на сей раз его привела чахотка, самая страшная из болезней, уносившая наибольшее число человеческих жизней; болезнь, в поисках средства против которой бились все крупнейшие лаборатории мира; болезнь, уничтожившая столько радужных надежд и беспощадная к самым выдающимся медицинским авторитетам.
После того как великий Кох потерпел фиаско со своим туберкулином, чахотка сыграла шутку и с его непокорным учеником Эмилем фон Берингом. В октябре 1905 года Беринг заявил на международном конгрессе в Берлине, что в ближайшие же месяцы подарит миру средство против туберкулеза.
Мечникову он тогда же сообщил все подробности своих опытов и просил их проверить. Вскоре после этого Беринг пригласил его в Марбург и детально ознакомил с работами.
Илья Ильич убедился, что немецкий ученый нашел средство против коровьего туберкулеза: введение ослабленных «человеческих» бацилл предохраняло крупный рогатый скот. Было вполне вероятно, что аналогичным путем можно получить вакцину и против туберкулеза человека. Илья Ильич стал экспериментировать в контакте с Берингом, но и совместными усилиями им едва лишь удалось сдвинуть воз с места.
Между тем исследования брюшного тифа убедили Мечникова в том, что природная невосприимчивость некоторых людей вызвана тем, что они переболели слабой формой тифа.
А не происходит ли нечто подобное и с туберкулезом? Почему, спрашивал себя Илья Ильич, в больших городах, наводненных чахоточными, значительная часть людей все же не заболевает? Почему в некоторых случаях туберкулез самоизлечивается? Почему он сам не заразился, проживя в молодости своей несколько лет бок о бок с чахоточной женой? Почему, например, негры, попав в Европу из Африки, заболевают туберкулезом почти наверняка и умирают очень быстро? Влияние непривычного климата?
Но известно, что в Калмыцкой степи чахотки практически нет; когда же калмыки переселяются в Астрахань (где климат такой же), то очень быстро ее схватывают. Может быть, причины в том, что жители мест, пораженных туберкулезом, незаметно вакцинируются и становятся менее восприимчивыми?
Чтобы проверить эту гипотезу, надо было выяснить, каково распространение туберкулеза в Калмыцкой степи, благо коховский туберкулин, обманувший надежды на его целебные свойства, стал отличным средством диагностики. Венский врач Пирке показал: если в царапину на руке внести немного туберкулина, то характер воспалительной реакции позволит точно определить, есть ли у данного человека туберкулезные очаги или нет.
Итак, чтобы ответить на поставленный себе вопрос, требовалось всего лишь одолеть пару тысяч верст и проверить на реакцию Пирке две-три тысячи калмыков. Мечникову ли останавливаться перед таким пустяковым препятствием!..
Правда, хоть Илья Ильич и держался наилучшего мнения о своей «моложавости», он все же понимал, что задуманное не совсем подходит для его шестидесяти шести лет. Предосторожности ради он счел нужным посоветоваться с врачом. Доктор Генц, тщательнейше его обследовав, не нашел веских причин отменить экспедицию, но заметил:
— Можно внезапно умереть с меньшей болезнью сердца, чем ваша.
Что и говорить, предупреждение серьезное, особенно для того, кто целью поставил прожить подольше, дабы на себе самом показать чудодействие избранного им режима.
Но благоразумного Илью Ильича уже охватил «психоз». Теперь он опасался лишь одного: вдруг русские власти почему-либо не разрешат экспедицию…
На свой запрос Мечников получил ответ от самого Столыпина. Российский премьер сообщал, что с радостью позволяет посетить Астраханскую губернию, что туда же отправляется группа врачей из Петербурга — исследовать причину чумы, из года в год появляющейся в Киргизской степи,[46] и что он, Столыпин, просит уважаемого Илью Ильича возглавить и эту экспедицию.
Мечников решил, что если возьмет на себя руководство петербургскими врачами, то не сможет выполнить главную свою задачу; он согласился только составить план их работы и провести исследования в одном из чумных очагов.
14 мая вместе с Ольгой Николаевной и тремя сотрудниками Института Пастера — французом Бюрне, итальянцем Салимбени и японцем Яманучи — он выехал из Парижа. В Москве к ним присоединились еще два ученика Мечникова — Тарасевич и Шукевич.
В Астрахань плыли пароходом из Нижнего Новгорода, предаваясь в течение пяти суток «сладкому ничегонеделанию». Волга была еще в разливе, синяя гладь уходила почти к самому горизонту. Иногда мимо проплывали живописные островки; сонные рощи стояли «по пояс» в воде; на далеком берегу изредка появлялись деревушки.
Мечников почти не покидал палубы, жадно вглядывался в открывающиеся просторы. Чувствовал ли он, что видит все это в последний раз?..
В Астрахани городские власти сделали все, чтобы получше устроить участников экспедиции, но сильная жара, комары и невозможность соблюдать свой гигиенический режим угнетали Мечникова.
Участились перебои сердца; временами он чувствовал стеснение в груди, а иногда и острые боли.
В ставку Бек Мухаммеда — близ урочища Касай — Илью Ильича вместе с участниками чумной экспедиции Клодницким, Госсом и Кольцовым доставили на запряженных лошадьми таратайках. Ученые развернули походную лабораторию и приступили к исследованиям.
Эпидемия уже прекратилась; под руководством Мечникова участники экспедиции обследовали откопанные трупы, но микробов чумы не обнаружили.
Илья Ильич обратил внимание на многочисленные сусличьи норы вблизи могил. Он тут же предположил, что эти грызуны могут быть главными распространителями чумы в Киргизской степи, как в других местах крысы или тарбаганы. Правда, у отловленных сусликов чумных бацилл не нашли. Не оказалось у них и блох, обычно переносящих чуму с грызунов на человека. Но проведенные в походной лаборатории опыты показали, что суслики (как и другие обитатели степи — тушканчики) легко заражаются чумой; расспросив местных жителей, Илья Ильич узнал, что за ушами сусликов часто поселяются маленькие клещи. Не они ли переносят заразу от сусликов к человеку?..
Оставив Клодницкому и его товарищам инструкции, Мечников вернулся в Астрахань, чтобы приступить к выполнению главной своей задачи.
(Противочумная экспедиция работала еще два месяца, но возбудителя чумы так и не обнаружила. Однако на следующий год, опять вспыхнула эпидемия, врачи во главе с Клодницким вновь прибыли в степь и на этот раз добились положительных результатов. Гипотеза Мечникова блестяще подтвердилась: суслики и паразитирующие на них клещи оказались главными распространителями чумы. Эти данные легли в основу мероприятий по борьбе с «черной смертью».)
В глубине Калмыцкой степи реакция Пирке неожиданно часто оказывалась положительной. Но по мере приближения к периферии, то есть по мере того, как увеличивалась вероятность контакта калмыков с внестепным населением, процент положительной реакции заметно увеличивался и особенно высоким был в Астрахани. Женщины оказались менее подвержены инфекции, чем мужчины, и этот факт тоже говорил о многом, ибо у калмыков женщины реже общались с посторонними.
Инспектор астраханской школы для калмыков сообщил Мечникову, что за 45 лет ее существования в ней обучалось 715 детей, из которых 75 умерли, 27 покинули Астрахань из-за болезни, а остальные 613 окончили только начальную школу и вынуждены были вернуться в степь; школу для девочек-калмычек пришлось вообще закрыть. В высшей школе обучалось только 14 калмыков, и четверо из них — больные туберкулезом. Такова была невеселая картина. В Астрахани и в Калмыцкой степи, по которой ученые путешествовали то на лошадях, то на верблюдах, Илья Ильич и его спутники сделали реакцию Пирке более чем трем тысячам человек.
Данные экспедиции послужили веским подтверждением гипотезы Ильи Ильича о естественной вакцинации против туберкулеза. Воодушевленный этой идеей, Бюрне вскоре возьмется за поиски противотуберкулезной вакцины, добьется важных результатов, и только война четырнадцатою года и призыв в армию помешают ему довести до конца свои поиски. Позднее другой французский ученый, Кальметт, откроет невирулентный штамм палочки Коха. Этим штаммом сейчас в развитых странах иммунизируют всех новорожденных детей…
2 июля Мечников со своими спутниками выехал в Киев, где провел несколько дней. Выправлял заграничные паспорта и билеты, принимал посетителей, раздавал автографы, показывал своим спутникам артезианские колодцы, Аскольдову могилу, Печерскую лавру. В дневнике записал: «Иностранцы остались довольны всем».
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ «Ускоренный ортобиоз»
1
Мечников чувствовал себя утомленным и из Киева через Вену поехал в Ландек — прекрасный горный курорт в Силезии. Но 17 июля 1911 года он уже был в Париже и вновь приступил к исследованиям брюшного тифа. Вместе с Безредкой он в короткий срок сделал подкожные прививки сенсибилизированной вакциной полутора тысячам человек и окончательно доказал их эффективность.
Между тем для Мечникова наступили тяжелые времена. В России, по словам Ольги Николаевны, «его возмущало <…> поощрение черной сотни и обскурантизма, дающего государственную силу разным темным личностям, как Распутину», но во Франции тоже вновь поднялась мутная волна шовинизма. На горизонте уже сгущались тучи будущей мировой войны. На свет божий опять выплыло словечко «мэтэк», которым презрительно называли всех «нефранцузов», появились газеты националистического направления.
В этих условиях необходима была особая осторожность, которая, как мы знаем, Илье Ильичу никогда не была свойственна. Он дал согласие, чтобы одна из фирм, выпускавших лактобациллин, именовалась «единственным поставщиком профессора Мечникова». «Вознаграждение», которое он за это получил, состояло лишь в том, что фирма приняла на работу бедного молодого человека, за которого он хлопотал. Тем не менее газеты обвинили «мэтэка» в корыстолюбии.
Мечников, по свидетельству Ольги Николаевны, тяжело переживал эти нападки, и они, безусловно, ускорили течение его сердечной болезни.
В начале 1913 года пришло известие о смерти профессора В. В. Подвысоцкого. Старый друг Мечникова, он много лет был профессором патологии Киевского университета, а в последние годы возглавлял Институт экспериментальной медицины в Петербурге — тот самый институт, во главе которого его основатель принц Ольденбургский много лет назад мечтал видеть Мечникова.
У принца вновь возникла мысль пригласить директором Илью Ильича. Не желая получить официальный отказ, принц прямо к Мечникову обратиться не решился, а попросил его учеников предварительно разузнать, как бы Илья Ильич отнесся к его идее.
Д. К. Заболотный поспешил сообщить обо всем учителю и настоятельно просил «не отказываться от директорства и принять на себя руководство работами русских микробиологов, которых он объединил бы и в среде которых нашел бы горячую поддержку».
По всей вероятности, Илья Ильич в жизни своей не получал письма, на которое было бы так трудно ответить!
С полной ясностью он ощутил, как сильно его тянет на родину.
Но так же ясно осознал, что давно уже сжег свои корабли…
И еще он вдруг понял то, в чем избегал себе самому признаться. Понял, что, как это ни печально, а он уже стар, очень стар, несмотря на свою «моложавость».
И все же он колебался. Он долго молчал… Но письмо требовало ответа, и 25 (12) марта он написал Заболотному:
«Дорогой Даниил Кириллович,
Я все ждал предложения, о котором Вы писали, чтобы ответить Вам. Не получив его, отвечаю Вам теперь, извиняясь прежде всего за то, что запаздываю с ответом. Но все это время, да и теперь еще, я буквально завален работой и помехами к работе.
Прочитав Ваше дружелюбное письмо, я расчувствовался, и у меня зашевелилось в душе чуть не желание вернуться в Россию. Но, после зрелого размышления, я решил, что было бы невозможно мне приняться за новые дела. Посудите сами: мне скоро минет 68 лет. Это такой возраст, когда стариков нужно гнать в шею. Где же мне переселяться на новое место и взяться за управление большим институтом, которое и ранее мне было не по силам. К тому же, хоть я и враг всякой политики, но все же мне было бы невозможно присутствовать равнодушно при виде того разрушения науки, которое теперь[47] с таким цинизмом производится в России. В конце концов, я решил доживать конец моей научной деятельности на старом месте, где я сижу почти 25 лет. Видимо, здесь мне придется сложить и мои кости. Мне надо думать о приготовлении себя к доставлению роскошного яства Perfringens'y[48] и его родичам, а не рисковать в новом деле, на котором я могу запутаться.
Примите же мою сердечную благодарность за Ваши добрые пожелания. Искренне преданный Вам Ил. Ил. Мечников.
P. S. Передайте мой привет Вашим товарищам».
Итак, он счел невозможным «рисковать в новом деле» — он, всегда рвавшийся к новым делам, так смело и безоглядно рисковавший!..
Когда-то, много лет назад, он предложил Пастеру закупить на скудные средства института человекообразных обезьян, но Пастер рискнуть не решился, и это означало, что великий искатель истины сдал, изменил себе, что дни его сочтены…
Вспомнил ли он об этом, когда писал Заболотному? Вряд ли. Тем более знаменательно, что теперь то же самое повторилось с ним самим. Есть своя внутренняя логика в том, что именно в этом письме Мечников, хотя и прикрываясь слегка иронией, впервые обнаруживает одолевавшие его размышления о приближающемся конце, о полном своем несуществовании…
Правда, и прежде, когда он получал откуда-нибудь приглашения, он имел обыкновение отвечать, что «из Пастеровского института перейдет в одно лишь место — в соседнее кладбище Монпарнас». Но никогда он не ссылался на свой возраст, не говорил, что стариков надо гнать в шею.
2
В 1913 году в лаборатории Мечникова среди прочих его учеников работал русский врач И. Манухин. Однажды, в воскресенье (это было 19 мая), когда лаборатория пустовала, Мечников вошел к нему и попросил исследовать его сердце. Просьба удивила Манухина, так как прежде он ни разу не слышал, чтобы учитель жаловался на здоровье.
«И[лья] И[льич] спокойно и внимательно следил за определением границ своего сердца, — вспоминал Манухин, — и вместе со мной отметил его расширение: верхняя граница сердца начиналась между 2-м и 3-м ребрами, левая заходила на lЅ пальца за сосковую линию, а правая — на Ѕ пальца за правый край грудины».[49]
— Это для меня не ново, — заметил пациент.
Врач приступил к выслушиванию.
Мечников смотрел на Манухина «строгим испытующим взглядом» и сам комментировал исследование;
— Не правда ли, у меня выслушиваются систолические шумы на аорте и у верхушки сердца? Их у меня всегда находили.
Манухин подтвердил.
— А не слышите ли вы диастолических шумов?
— Нет, я их не слышу, — последовал ответ.
— Спасибо вам! — воскликнул Мечников. — Я нарочно обманывал вас, пока вы не сказали мне правды, так как хотел наконец узнать ее. Мне мои друзья говорили, что у меня очень хорошее сердце. Даже настолько хорошее, что шутя называли его «детским сердцем». «Детское сердце» в мои-то годы?! А я, старый дурак, верил!.. Представьте себе, верил!.. И думал, что предохраняю себя от склероза благодаря своему режиму…
Нет, он нисколько не усомнился в правильности своего режима, но лишь посетовал, что слишком поздно начал его применять.
— Обещайте мне, — потребовал он, — что после моей смерти вы опубликуете все, что нашли сегодня у меня.
Он был взволнован.
На следующий день он пришел в институт «позднее обыкновенного, мрачный и подавленный, говорил о своей близкой смерти и выглядел больным, — вспоминал Манухин. — Он следил за своим пульсом, прислушивался к деятельности своего сердца, и ему стало казаться, что оно уже отказывается работать».
Через несколько дней, подымаясь по лестнице, он неожиданно опустился на ступеньку и сказал сопровождавшему его служителю, что умирает и что нужно немедленно вколоть ему камфору.
«Как я узнал, — писал Манухин, — истинное состояние здоровья всегда скрывалось от И[льи] И[льича] его друзьями, чтобы не волновать его мыслью о смерти».
Манухин попытался исправить свою «ошибку». Трубка, которой он выслушивал больного, «оказалась» засорена, и под этим предлогом он обследовал Илью Ильича вторично. Мечников как будто бы поверил и скоро опять стал говорить о своем «детском сердце». Но когда через полгода Манухин покидал институт, Илья Ильич неожиданно сказал:
— А вы помните, что обещали мне весной? Так не забудьте же…
3
Часть лета 1913 года Илья Ильич и Ольга Николаевна провели в Сен-Леже — живописном поселке на опушке леса Рамбулье. Здесь было много прекрасных пейзажей, так и просившихся на полотно, и Ольга Николаевна по утрам отправлялась с мольбертом в лес, а Илья Ильич садился к столу писать статью о мировоззрении Метерлинка.
Писатель незадолго перед тем выпустил философское произведение, в котором восставал против страха смерти. Он был убежден, что страх смерти связан с неизвестностью, и рассматривал все возможные варианты. Метерлинк доказывал, что «страдания ада», которыми пугает церковь, не существуют. Метерлинк не верил в бессмертие нашего индивидуального сознания, но он не верил и в его уничтожимость. Он полагал, что после смерти дух человека сливается с «космическим целым», свободным от страданий.
Мечников в своей статье обратил внимание на то, что тема смерти — это главная тема не только последней книги, но и всего творчества Метерлинка. В молодости Метерлинк, по утверждению Мечникова, был пессимистом, позднее же его мировоззрение стало более светлым. В этой эволюции Илья Ильич видит еще одно подтверждение своего закона «ортобиоза».
Но он не желает «витать в той области, в которой чувствует себя привольно Метерлинк». Ведь о «космическом целом» нам ничего не известно. Да и «убеждение, что чувство жизни исчерпывается в глубокой старости, когда умолкает страх смерти и прекращается потребность в дальнейшем, чуть не бесконечном существовании, составляет, по-моему, гораздо более действительное утешение, чем перспектива слияния бессознательной души с неизвестным мировым целым».
Так уже в преддверии собственной смерти Мечников ищет новых доказательств своей теории.
4
Первый настоящий припадок случился с ним 19 октября. Рано утром, войдя в его комнату, Ольга Николаевна «пришла в ужас, увидев его лицо. Он был смертельно бледен, губы посинели, он тяжело дышал».
Тем не менее он не лежал в постели, а сидел за столом и стремительно заносил на бумагу свои ощущения.
«Севр 19/Х—1913 г. 7 час. 45 м. утра.
Сегодня утром после хорошо проведенной ночи сердце начало работать хорошо: было 58–59 ударов [в минуту] правильных. Но когда я встал, то сразу почувствовал сильнейшую боль вдоль грудной клетки; в то же время сделался сильный припадок тахикардии, подобного которому я никогда в жизни не имел».
Дальше он продолжать не мог, так как боль усилилась. Но когда полегчало, он снова взялся за перо:
«19/Х. 3 часа дня. Припадок продолжался до часу (всего длился шесть часов). По временам боль в груди была невыносима <…>. К полудню боль стала стихать, но сердце билось очень часто и ужасно неправильно. Чтобы не беспокоить д[евочку], я сел к завтраку, но боялся, чтобы наполнение желудка не усилило припадка. Оказалось как раз наоборот: после первых же глотков (я ел, разумеется, очень мало) боль стала сноснее, и сердце начало биться реже. После Завтрака все вошло в норму: боль прекратилась, и сердце стало биться медленнее (78–80) и гораздо правильнее. Перебои стали очень редки, и несколько раз я мог сосчитать 100 ударов без них.
Во все время припадка сознание не обнаруживало ни малейшего ущерба и, что меня особенно радует, я не испытывал страха смерти, хотя ждал ее с минуты на минуту. Я не только рассудком понимал, что лучше умереть теперь, когда еще умственные силы меня не покинули и когда я уже, очевидно, сделал все, на что был способен, но и чувства мои спокойно мирились с предстоящей катастрофой. Последняя для меня не будет неожиданной. Моя мать большую часть жизни страдала сердечными припадками и умерла от них в 65 лет. Отец умер от апоплексического удара на 68-м году. Старшая сестра умерла от отека мозга. Брат Николай (сифилитик) умер на 57-м году от грудной жабы. Сердечная наследственность у меня, несомненно, плохая».
Мечников подробно описывает «историю болезни» своего сердца, подчеркивает, что «начал жить очень рано (уже в 18 лет я напечатал первую научную работу)» и «всю жизнь очень волновался, прямо кипел». Он ведет к тому, что, «собираясь умереть», «спокойно предвидит полное уничтожение», что у него нет и «тени надежды на будущую (загробную. — С. Р.) жизнь», что он провел жизнь «сколь возможно ортобиотически».
Он словно бы оправдывается перед потомками за свою раннюю смерть.
Уже поставив подпись, он спохватывается и снова берется за карандаш: «Пусть те, которые воображают, что по моим правилам я должен был бы прожить 100 лет и более, „простят“ мне преждевременную смерть ввиду указанных выше обстоятельств».
…Но он не умер в тот день.
А на следующее утро почувствовал себя настолько хорошо, что, как обычно, поехал в институт.
Однако он теперь постоянно прислушивался к тому, что творилось в его душе, которой, как было ему хорошо известно, не существует без тела, ибо знал, что тело в любую минуту может превратиться в прах.
28 (15) декабря: «С тех пор, как я написал предыдущие строки, прошло более двух месяцев, которые я провел удовлетворительно, каждый день спрашивая, будет ли он последним. Ввиду этого очень торопился написать работу „О холере сосунов“, считая ее интересной. Несмотря на то, что сердечные перебои давали себя чувствовать более или менее часто, все же каждый день бывали периоды, когда сердце билось правильно, обыкновенным темпом, в 58–66—72 удара. Третьего дня у меня сделался сильный насморк с небольшой лихорадкой, и я спросил себя, не обратится ли он в воспаление легких. Ввиду этого опять приострился вопрос о возможности близкого конца. Мне было интересно анализировать мои мысли, чувства и ощущения. Мне кажется, что у меня под 70 лет потихоньку начинает развиваться чувство пресыщения жизнью, то, что я назвал „инстинктом естественной смерти“ <…>. Перспектива смерти меня меньше пугает, чем прежде во время припадка 19/Х я даже вовсе не испытывал страха смерти), и удовлетворение при выздоравливании менее ощутительно, чем бывало раньше. Я думаю, что эта количественная разница и составляет первые признаки равнодушия к смерти, вначале еле заметные <…>.
Между тем как я становлюсь равнодушнее к собственной смерти, у меня в высшей степени становится острым беспокойство о здоровье, жизни и счастье близких мне лиц. В этом отношении особенное горе доставляет сознание несовершенства современной медицины. Несмотря на все ее успехи за последнее время, все же она беспомощна против множества грозящих со всех сторон болезней. Легочные болезни (чахотка, пневмония и пр.), нефриты и многое множество других болезней еще не могут ни предупреждаться, ни излечиваться. Поэтому испытываешь вечный страх за близких.
Со временем, когда медицина (в чем я уверен) справится с этими бедствиями, то отпадет одна из больших причин жизненной горечи, но пока этого нет. Поэтому рядом с притуплением инстинкта жизни является примирение с перспективой смерти как средства не чувствовать бедствий, постигающих близких сердцу. Со временем, когда медицина устранит этот источник несчастья, старость сложится гораздо краше, и жизнь по ортобиозу сделается более возможной и нормальной.
В возрасте между 50 и 60–65 годами радость жизни, как я описал это в Nature humeine и Essais optimistes, мною ощущалась очень сильно; за последние же годы она начинает заметно ослабевать. Научная работа еще вызывает у меня неугасимый энтузиазм, но ко многим благам жизни я сделался равнодушным».
Насморк в воспаление легких не обратился и скоро совсем прошел. Но, как свидетельствует Ольга Николаевна, «прежнее радостное настроение покинуло его; в жизнь потихоньку проскользнул глухой, но упорный отзвук похоронного звона».
16 (3) мая 1914 года ему исполнилось 69. В этот день Мечников сделал еще одну запись:
«Сегодня я вступил в семидесятый год жизни! Для меня это большое событие. Анализируя свои чувства, все больше убеждаюсь, что „инстинкт жизни“ у меня ослабел. Я нарочно слушал те музыкальные вещи, которые прежде доводили меня до слез восторга (как, например, 7-я симфония Б[етховена], ария Баха для скрипки и пр.), чтобы проверить впечатление. Последнее значительно ослабело против прежнего. Несмотря на легкость, с которой плачут старики, у меня не появлялось ни одной слезинки за крайне редкими исключениями. То же и в других областях. Нынешней весной распускание и цветение кустов и деревьев, проявление оживления природы не вызывало и тени того восторженного чувства, которое я испытывал в прежние годы. Я скорее ощущал грусть, не от предвидения конца моей жизни, а от сознания тяжести существования. О наслаждении жизнью, как в прежние годы, не может быть и речи. Чувством, преобладающим над всеми прочими, является бесконечная тревога из-за здоровья и счастья ближних».
5
Смерть, однако, не спешила к тому, кто сам так упорно шагал ей навстречу.
В июле Мечниковы опять поехали в Сен-Леже, где сняли дачу, окрестив ее «Норкой». Илья Ильич соорудил маленькую лабораторию, которая «давала ему возможность разнообразить занятия и не утомляться исключительно чтением и писанием, как в прежние каникулы».
Илья Ильич изучал «естественную смерть» бабочек шелковичного червя — они, словно большие снежные хлопья, покрывали все камины и столы в «Норке»; писал воспоминания о Сеченове; читал или просто сидел у небольшого лесного прудика. С Ольгой Николаевной они ежедневно совершали долгие неторопливые прогулки.
«Сильная жара, — вспоминала Ольга Николаевна, — сменилась дождями, после, которых установилась удивительная погода. Вся природа точно успокоилась. Появились ковры лилово-розового вереска; хлеба дозревали, шла уборка их; росли стога и золотистые скирды. Все было спокойно и умиротворенно».
И тут пришла весть о том, что Австро-Венгрия объявила войну Сербии…
Мечников не хотел верить в свершившееся. «Как можно, — говорил он, — чтобы в Европе, стране цивилизованной, не пришли к соглашению без бойни. Война была бы безумием, даже с точки зрения Германии. Ведь против нее три сильнейшие державы. Нет, война невозможна».
Но она была не только возможна. Она уже началась.
1 августа Германия объявила войну России.
3 августа — Франции.
В какие-то сутки переменилась жизнь большого государства. С великим трудом Мечниковы достали лошадей, чтобы ехать на станцию; едва пробились сквозь вокзальную толчею и втиснулись в переполненный поезд.
6
Париж уже был на военном положении.
Институт Пастера опустел; почти всех сотрудников мобилизовали. Животных тоже не осталось: предвидя надвигающийся голод, их умертвили, дабы не переводить пищу.
Все это Мечников выяснил в первый же день, и, когда вечером он сошел с поезда в Севре, Ольга Николаевна его не узнала. Перед ней был глубокий старик, согнутый, удрученный, с погасшим, отсутствующим взглядом. «Цивилизация», в которую он так верил, зло надругалась над его старостью…
«Резкий контраст его стремлений с жестокой действительностью, — писала Ольга Николаевна, — был ударом, которого не могло перенести его отзывчивое, больное сердце».
Приходили известия о гибели знакомых молодых людей.
Немцы стремительно продвигались к французской столице. Над городом регулярно стали появляться немецкие самолеты. Однажды «таубе» сбросил бомбу близ вокзала как раз в то время, когда Илья Ильич и Ольга Николаевна сходили с поезда. Казалось, что город не выстоит. Правительство переехало в Бордо. Началась паника…
Проводя дни в опустевшей лаборатории, Илья Ильич стал писать книгу об основателях современной медицины — Пастере, Листере и Кохе.
Так встретил он свое семидесятилетие, до которого год назад явно не рассчитывал дотянуть.
Несмотря на военное время, чествовать его в библиотеке института собрались многие.
Торжество началось в половине одиннадцатого утра под председательством непременного секретаря Академии наук Гастона Дарбу. Он приветствовал юбиляра от имени академии и совета Пастеровского института.
Собранию сообщили о поступивших адресах и телеграммах; зачитали письмо Ру (он не мог присутствовать из-за болезни) — удивительное письмо (мы не раз цитировали его), каждая строчка которого, несмотря на «юбилейную приподнятость», дышала искренностью.
«Мне, право, совестно, — сказал в ответной речи юбиляр, — что теперь, когда всеобщее внимание сосредоточено на гигантской борьбе, вы вспомнили о таком незначительном событии, как мой 70-летний юбилей.
От души благодарю вас всех, особенно же нашего многоуважаемого председателя г[осподи]на Гастона Дарбу за его речь, столь благожелательную ко мне.
Не менее благодарен я и нашему дорогому директору, г[осподи]ну Эмилю Ру, сказавшему мне так много теплых и лестных слов, способных самого скептического человека заставить преувеличенно оценить свое значение.
Раз мы здесь собрались, я пользуюсь случаем, чтобы поблагодарить Институт Пастера за его доброе отношение ко мне в течение 27 лет, протекших с его основания. Здесь, в тишине лаборатории, вдалеке от всякого воздействия, чуждого строгой научной работе, я смог разработать мои идеи и спокойно достигнуть конца своей карьеры. Ибо, приходится с этим примириться, 70 лет в теперешних условиях существования составляют предел деятельной жизни. Именно поэтому их и празднуют совершенно особым образом.
Еще в самые отдаленные времена царь Давид провозгласил, что „жизнь человеческая — 70 лет. Более сильные достигают 80; дальше остаются только труд и горесть“. С тех пор 70-летний возраст стал указываться как естественный предел нормальной жизни. Установлено и получено много подтверждений того, что именно в возрасте 70, 71 года происходит больше всего смертных случаев (за вычетом годов раннего детства).
Вот таблица итальянского статистика Боди, которая дает тому доказательства. (Мечников продемонстрировал таблицу, которую мы здесь воспроизводим. — С. Р.) Я должен считать себя особенно счастливым, что достиг вершины этой горы; это не всегда легко удается. Часто думают, что долголетие является наследственным свойством. Именно благодаря наследственности знаменитый изобретатель антисептики Лестер достиг 85 лет. Он принадлежал к семье, члены которой жили очень долго. Отец его умер 83 лет, а дед — 93 лет. Ко мне это относиться не может.
Мои родители, деды и бабки, братья, сестры — все умерли, не достигнув моих лет (небольшие крестики в таблице означают возраст, в котором умерли мои родители, братья и сестры). У меня сильное искушение объяснить свое долголетие гигиеническим режимом, который я себе усвоил уже порядочно лет тому назад».
Дальше Мечников стал развивать свои взгляды на роль кишечной флоры, на эволюцию инстинкта жизни; сказал, что сам он принадлежит к числу людей с ускоренной эволюцией, у которых, «к счастью», уже в 70 лет «инстинктивный страх смерти начинает исчезать и сменяться чувством удовлетворенности существованием и потребностью в небытии», — словом, излагал то, над чем непрестанно думал в последние годы.
Он, разумеется, вспомнил Толстого, упорного своего оппонента, который хотя и был «великим знатоком человеческой души», однако «не подозревал того, что инстинкт жизни, потребность жить неодинаковы в разных возрастах».
Да, невеселый получился юбилей неисправимого оптимиста… Ему говорили о жизни, о великих делах, которые он сотворил; о щедрости его расширенного сердца.
А он в ответ твердил о смерти. Он был глубоко убежден, что дни его сочтены. Что ж, он всего лишь оставался самим собой; он, говоря словами Ру, «не упускал случая высказаться». И если в словах его была грусть, то это была грусть усталости, но не тоски.
«Когда заботы и треволнения настоящего момента, поглощенного мировой войной, давно уже будут сданы в архив, проблемы жизни и смерти сохранят свое господствующее значение.
Будем надеяться, что работы нашего института, в которых я уже не смогу принимать участия, в широкой мере будут способствовать тому, чтобы в будущем дать людям возможность достигнуть нормального предела жизни более продолжительного, чем теперь».
Так закончил юбиляр свою речь.
И в тот же день он сделал очередную запись в дневнике, во многом повторив то, что говорил во время чествования. Но одна фраза с особой отчетливостью передает его состояние:
«Я положительно теперь не боюсь смерти, но хотел бы умереть во время сердечного припадка, не подвергаясь какой-нибудь тянущейся болезни».
Это последнее пожелание полная дисгармоний природа не захотела исполнить.
7
Угроза вторжения немцев в Париж миновала; война приняла позиционный характер, незаметно стала обыденностью.
Летом Илья Ильич и Ольга Николаевна опять уехали в полюбившуюся им «Норку». Мечников задумал большую работу «Этюды о половом вопросе», замысел которой ему уже не суждено было осуществить, и, подбирая материал о влиянии любовного чувства на творчество великих людей, изучал биографии Бетховена, Моцарта, Вагнера.
Он много гулял по окрестностям, был спокоен и ровен, и только чутьем человека, прожившего с ним бок о бок долгую жизнь, Ольга Николаевна «угадывала в нем постоянную сосредоточенность на невеселой мысли, которой он не высказывал». Позднее он признался, что все время думал о своей внезапной смерти, которую каждый день ожидал, и о ее предстоящем одиночестве…
24 июня он записал:
«Когда я говорил о развивающемся у меня отсутствии страха смерти, то я имел в виду отсутствие страха „du neant“, то есть полного небытия. Страх этот, проявляющийся в течение продолжительного периода жизни и в конце ее прекращающийся, можно уподобить боязни темноты, испытываемой детьми инстинктивно и затем само собой проходящей. Когда в конце жизни прекращается страх небытия, то не является ни малейшей потребности в переживании, бессмертии души. Наоборот, отвратительно было бы думать, что душа переживает тело и будет на „том свете“ видеть бедствия, переживаемые на земле. Наоборот, на закате жизни развивается потребности полнейшего небытия».
8
«В конце ноября 1915 года Илья Ильич слегка простудился, что не мешало ему продолжать ежедневную работу в лаборатории; однако простуда эта была исходной точкой его предсмертной болезни.
2 декабря он почувствовал такое сильное сердцебиение, что смерть казалась ему близкой. В течение целых часов пульс его оставался крайне неправильным и очень ускоренным. С этого дня он уже не чувствовал себя хорошо, однако продолжал ездить в лабораторию до 9 декабря. Вечером этого дня состояние его настолько ухудшилось, что он вынужден был прервать свой обычный образ жизни».
Так, с точностью хроникера Ольга Николаевна описывает начало последней болезни мужа.
В этом был ее долг, им завещанный, а ею свято исполненный. За несколько дней до смерти он ей сказал: «Прежде всего ты должна будешь писать мою биографию. Помни, что я настаиваю особенно на последней главе… Ты одна можешь это сделать, потому что была неотлучно со мною, и тебе одной я поверял все свои мысли».
Правда, он тут же добавил: «И тебе даже это будет почти непосильно», из чего Ольга Николаевна сделала вывод, что он иногда утаивал от нее «свои страдания и слишком грустные мысли». Она полагала, что он это делал из жалости к ней, и была уверена, что «угадывала то, о чем он молчал». Но должны ли и мы быть уверены в этом? Кто знает, быть может, некоторые мысли он утаивал не только от любящей и страдающей его страданиями жены, но и от будущего своего биографа!.. Он так старательно доказывал своей смертью правильность своей жизни, своей теории ортобиоза, что по временам закрадывается подозрение: а не утаивал ли он то, что не укладывалось в рамки его теории?..
Найти врача в Севре в связи с войной было трудно. Только 11-го Мечников попал на прием к доктору Ренону; тот прописал лечение и велел прийти через 25 дней.
Но уже через день (вернее — через ночь) с ним случился тяжелейший приступ сердечной астмы. Он задыхался, Ольга Николаевна беспомощно металась по комнате. «Оба мы считали конец близким».
14 декабря в Севр приехал доктор Видаль и нашел у Ильи Ильича миокардит. Диагноз удалось скрыть от больного, почему-то потерявшего способность правильно считать собственный пульс.
На следующий день они в автомобиле переехали в Париж; им отвели маленькую комнатку в больнице института. Теперь Мечникова ежедневно навещало пять врачей — Видаль, Мартен, Вельон, Салимбени и Даррэ.
Ежедневно приходил Ру, и только теперь Мечников по-настоящему оценил его бескорыстную дружбу. Со слезами на глазах он говорил Ольге Николаевне:
— Я хорошо знал, что Ру добр и что он настоящий друг, но теперь только вижу я, какой он удивительный ДРУГ.
Врачи, по словам Ольги Николаевны, «изощрялись в средствах облегчить его муки, так как, увы, не имели надежды спасти его».
«После периода относительного улучшения, длившегося до конца декабря, — продолжала она, — болезнь стала прогрессировать, и почти каждая неделя приносила новый тревожный симптом. Главным образом по ночам коварно подкрадывалась пытка. Уснув довольно быстро, он начинал во сне плохо дышать. Вскоре он просыпался в неописуемом волнении и тоске; пот заливал его голову, шею и грудь; иногда нескольких полотенец не хватало, чтобы поспеть вытереть этот струившийся ручьями пот. Дыхание становилось затруднительным; хрипы и свисты в бронхах были ужасающими во время сильных припадков. Он привставал, выпрямлялся, руки его судорожно сжимались, лицо темнело и искажалось от боли: посинелые губы, широко открытые глаза выражали бесконечное страдание, он, задыхаясь, глотал воздух и производил впечатление настоящего мученика под пыткой. Наконец наступал раздирающий приступ кашля, и после выделения клейкой, временами кровавой мокроты припадок постепенно стихал».
При всем этом он постоянно повторял, «что ему не на что жаловаться, что жизнь его была счастливой, что ему удалось завершить свою задачу и даже достичь инстинкта смерти». Все, кто навещал Илью Ильича, восхищались его спокойствием и мужеством; но, как замечает Ольга Николаевна, «никто не знал степени того и другого, оттого что никто не видел и не переживал этих ужасных ночей». Всегда столь откровенный, на вопросы друзей о том, как прошла ночь, он неизменно отвечал: «Недурно». Он не сомневался в их преданности и не хотел их огорчать.
Продолжая анализировать свое душевное состояние, Мечников, однако, не замыкался в себе; став равнодушным, как уверял, к собственной жизни, он не утратил интереса к той большой жизни, которая кипела вокруг.
Он много читал, готовясь к работе над «Этюдами о половом вопросе». Он жадно следил за вестями с фронтов. Он принимал не только друзей, но и всех, кто желал его видеть, и оживленно беседовал с редкими теперь, из-за войны, гостями с родины.
К нему пришли прибывшие в Париж два депутата Государственной думы. Он забросал их вопросами о России, о войне и отношении к ней разных партий, о том, что будет с Россией после войны… Незадолго перед тем умер Максим Максимович Ковалевский, и Мечников жадно расспрашивал о его последних днях, о том, действительно ли он примирился с церковью.
Сам он не мог примириться ни с христианской церковью, ни с каким-либо другим религиозным учением. На посетителей произвела глубокое впечатление «необыкновенная свежесть мысли, глубокий реализм понимания и живость, умственная живость и гибкость <…> в этом приговоренном к смерти человеке».
9
С некоторым удивлением встретил Мечников свой очередной день рождения.
В записи, которую Илья Ильич сделал в этот день, он продолжает настаивать, что не боится смерти, что не испытывает никакого удовольствия от жизни и даже приход весны оставил его равнодушным. И все же он признается, что «очень желает выздороветь». Это новое чувство, по-видимому, беспокоит его больше, чем ночные страдания. Он спешит во что бы то ни стало примирить этот «факт» со своей теорией.
«Я думаю, что в моем желании выздороветь и продолжать жить играют роль отчасти практические обстоятельства. Война расстроила финансы; доходы из России значительно уменьшились. В случае моей смерти положение жены может очень стесниться, что при ее непрактичности может повести к очень печальным последствиям. Ликвидирование имущества до прекращения войны и до восстановления нормальных условий прямо немыслимо».
Итак, «оправдание» найдено. Только зачем он подчеркнул слово отчасти? Отчасти, значит, желание жить проснулось в нем само по себе…
Это последняя запись, которую Мечников сделал собственной, уже дрожащей рукой.
10
Следующую, самую последнюю, он продиктовал Ольге Николаевне через месяц и два дня:
«18/5 июня 1916 года. Моя болезнь, тянущаяся уже 7-й месяц, не может не наводить постоянно мыслей на серьезность моего положения. Я поэтому отдаю себе постоянно отчет о чувстве удовлетворения жизнью, которое испытывал за свои долгие годы. Несколько лет уже начавшее появляться отмирание жизненного инстинкта становится теперь определеннее и рельефнее. „Наслаждение“ составляет уже удел прошлого; я не испытываю больше той степени „удовольствий“, которую ощущал еще немного лет назад. Любовь к самым близким теперь гораздо сильнее выражается в тревогах и страданиях об их болезнях и горестях, чем в удовольствии от их радостей и нормальной жизни. Лица, которым я излагаю свои чувства, возражают, что удовлетворение жизнью в моем возрасте (71 г.) не должно быть нормальным. На это замечу им следующее: продолжительность жизни, до известной степени, по крайней мере, связана с наследственностью. Я уже упоминал раньше, в беседе на моем 70-летнем юбилее, что мои родители, сестра и братья умерли раньше моего настоящего возраста. Дедов своих я никого не знал, что указывает на то, что они умерли не очень старыми. Обратимся теперь к профессии, так как известно, что она влияет на продолжительность жизни. Пастер умер 72 с лишком лет, но уже давно он сделался неспособным к научной работе. Кох дожил до 67 лет; другие бактериологи (Дюкло, Нокар, Шамберлан, Бухнер, Эрлих, Леффлер, Пфейффер, Карл Френкен, Эммерих, Эшерлих) умерли, будучи значительно моложе меня. Из оставшихся бактериологов моего поколения большая часть прекратила научную работу. Все это может служить указанием на то, что моя научная жизнь окончилась, и подтверждением того, что мой ортобиоз действительно достиг желанного предела».
Ну вот, теперь он высказал все до конца…
Он понимал, что окончена его научная жизнь.
А жить не работая, жить не творя — к такой жизни он так и не сумел приспособиться. Такая жизнь ничем для него не отличалась от смерти, она была даже хуже смерти.
Несколько лет назад, в Кембридже, в дни дарвиновского праздника, он видел ближайшего друга Дарвина Джозефа Гукера, которому тогда было 92 года. Безо всякого почтения к его возрасту Мечников писал:
«На Гукера смотрели как на особенную диковину. В действительности он очень дряхл и может служить указанием на то, что долгая жизнь ценна не сама по себе, а лишь в том случае, когда она совпадает с сохранением умственных способностей. Было жалко смотреть на этого старца с открытым ртом, машинально повинующегося жестам и указаниям его гораздо менее старой супруги. Нет, такое долговечие совсем нежелательно».
Мечников не боялся смерти.
Он боялся пережить самого себя.
11
С наступлением летнего зноя в маленькой больничной комнатке стало душно. Чуткий Ру сразу же это заметил и предложил Мечниковым переселиться в бывшую квартиру Пастера, помещавшуюся в здании института.
Илья Ильич, уверявший, что совершенно равнодушен ко всему на свете, обрадовался как ребенок, которому подарили конфету. В том, что ему придется остаток дней провести в институте (да еще в квартире Пастера!), он увидел некое предзнаменование и сказал Ру: «Чтобы окончательно закрепить связь, надо бы сжечь мое тело в печи, где сжигают опытных животных, и сохранить мой пепел в каком-нибудь сосуде на одном из шкафов библиотеки».
— Что за похоронная шутка? — ответил Ру, действительно принявший его слова за шутку.
Но как только Ру вышел, Илья Ильич обратился к жене:
— Ну, что ты скажешь о моем предложении?
Она увидела, что он вполне серьезен, и одобрила его мысль.
— Будем только надеяться, что случится это еще не скоро, — поспешила добавить она.
Но она уже не надеялась.
Правда, в начале июля он захотел проводить часть времени сидя в кресле, и это обрадовало Ольгу Николаевну. Однако Илье Ильичу не стало лучше — просто в сидячем положении ему было легче дышать…
«12-го [июля 1916 года] около 5 часов, сидя в кресле, он вдруг почувствовал сильное удушье, закашлялся и отбросил большой сгусток очень красной крови…
„Понимаешь, что это значит?“ — сказал он, грустно улыбаясь и ласково успокаивая меня… Я отвезла его в кресле к кровати… Он лег, чтобы больше не встать». На следующий день ему было плохо.
— Я уверен, что это случится сегодня или завтра, — сказал он Ольге Николаевне.
«В отчаянии я спрашивала его, отчего он так думает. Чувствует ли слабость, томление. „Нет, — отвечал он, — Мне трудно описать свое ощущение. Я никогда не испытывал ничего подобного, это, так сказать, смертельное чувство… но я совершенно покоен и нисколько не боюсь. Ты будешь держать меня за руку, правда?“»
На следующий день утром давали оперу «Манон Леско», которую давно хотели посмотреть крестники Ильи Ильича. Он велел купить им билеты и очень боялся, что если это случится, то дети не пойдут на спектакль и будут лишены удовольствия; он просил, чтобы утром их к нему не приводили.
Это случилось только 15-го.
Он вдыхал кислород, как вдруг стал сильно икать.
— Это конец, — прошептал он. — Это предсмертная икота. Так умирают.
Он был в полном сознании.
Часы на ночном столике показывали четыре, но он помнил, что четыре уже пробило, и сказал, что часы остановились. Нашел в себе силы пошутить:
— Странно, что они остановились раньше меня. Ольга Николаевна вышла узнать время.
Было 4 часа 40 минут. Вошел Салимбени.
— Салимбени, вы друг, скажите — это конец? — спросил Мечников. — Помните свое обещание. Вы меня вскроете. И обратите внимание на мои кишки. Мне кажется, что теперь в них дело.
Вошли Ру и Мартен.
Больной ощущал тяжесть в животе и обсуждал с врачами, что предпринять. Илья Ильич не знал, что у него водянка брюшной полости. Неожиданно он дернулся всем телом.
— Умоляю тебя, не делай таких резких движений, — бросилась к нему Ольга Николаевна, — ты знаешь, что тебе это вредно.
Но он уже не мог ответить…
12
«Завернутый в белый саван, обрамляющий его прекрасное лицо, сам весь белый, он имел вид библейского пророка… Теперь он весь выражал полнейший душевный покой, лучезарная доброта и мягкость озаряли его».
13
Трехцветный французский флаг, развевавшийся над Пастеровским институтом, был приспущен и обвит черным крепом.
С утра обширный двор института заполнился.
Прощаться с Мечниковым пришло много незнакомых людей, среди них бедняки, женщины с детьми на руках, рабочие.
В середине дня пришли ученые, парламентарии, министры.
Газеты в тот день поместили большие некрологи. Авторы их сходились на том, что после Пастера Мечников — самая большая утрата.
«Покойный, — писала одна из газет, — был украшением французской науки так же, как и русской. Франция останется ему навсегда благодарной».
Русские газеты тоже заполнились некрологами.
Его назвали «героем науки и мысли».
Писали о заслугах Мечникова-зоолога, о заслугах Мечникова-бактериолога, о заслугах Мечникова-философа. Те, кому доводилось встречаться с ним, рассказывали об особенностях его пылкого темперамента, о его доброте, о его любви к музыке, о многих черточках его своеобразного характера…
Шла война; каждый день приносил известия о гибели сотен и тысяч людей. Но эта смерть приковала внимание всех…
14
18 июля гроб с телом Мечникова в закрытой карете привезли к воротам кладбища Пер-Лашез. Дальше несли на руках — через широкую площадь, к уродливой каменной громаде с круглым куполом и двумя кирпичными, точно заводскими, трубами.
Все провожающие не уместились на длинных деревянных скамьях в просторной полукруглой зале крематория, и многие остались снаружи. Внутри на передней скамье сидел согнувшийся, постаревший Ру. Рядом с ним Дарбу, Безредка, Ольга Николаевна, министр просвещения Пенлеве, русский посол Извольский, генерал Жилинский.
В широкие окна проникал яркий свет летнего дня. В глубине залы небольшое возвышение в виде сцены, закрытой черным занавесом; по бокам две мраморные колонны, и на них две пучеглазых мраморных совы.
Без отпевания, без речей и венков (такова воля покойного), в полной тишине гроб скрылся за черным занавесом, и те, кто остался на улице, увидели, как из кирпичной трубы повалил густой черный дым.
Бесконечно тянулся час молчания, час скорби…
Неожиданно раздались гулкие шаги. Занавес раздвинулся, и щеголевато одетый молодой человек в черном галстуке жестом пригласил следовать за собой.
На сцену поднялись Ру, Безредка, Салимбени и еще несколько человек. Их провели в пустую комнату без окон, тускло освещенную электрической лампочкой. Дверцы печи были открыты, из них на середину комнаты выходили два рельса. Два сторожа в траурных мундирах вытащили железными крюками прямоугольный асбестовый лист, еще раскаленный и светящийся.
Асбест постепенно остывал. В неровностях на его поверхности угадывались очертания человеческой фигуры.
Сторожа быстро соскребли железными лопаточками и ссыпали несколько горсточек пепла в шкатулку из красного с прожилками гранита; прикрыли ее пирамидальной крышкой и подали Ру.
Он вышел первый; за ним потянулись остальные. Ольга Николаевна стояла в дверях, и каждый из выходящих по французскому обычаю молча пожимал ей руку.
Москва
1968–1972
Иллюстрации
Основные даты жизни и деятельности И. И. Мечникова
1845, 3(15) мая — Родился Илья Ильич Мечников.
1856–1862 — Учился во 2-й харьковской гимназии, которую окончил с золотой медалью.
1862–1864 — Учился в Харьковском университете, который окончил экстерном.
1864–1867 — Научные исследования за границей.
1864, октябрь — Открытие личиночного размножения у нематод.
1865 — По ходатайству Н. И. Пирогова зачислен стипендиатом министерства народного просвещения на два года.
— Знакомство и совместные работы в Неаполе с А. О. Ковалевским.
— Знакомство с И. М. Сеченовым.
1867, февраль — Присуждение пополам с А. О. Ковалевским премии имени академика Бэра.
март — Возвращение в Россию. Защита магистерской диссертации, избрание доцентом Новороссийского университета.
1868 — Избран доцентом Петербургского университета. Защитил докторскую диссертацию.
1869, январь — Женитьба на Людмиле Васильевне Федорович.
ноябрь — Избран ординарным профессором Новороссийского университета.
1869–1870 — Пребывание за границей. Продолжение исследований по сравнительной эмбриологии беспозвоночных.
1870–1882 — Профессор зоологии и сравнительной анатомии Новороссийского университета.
1870 — Мечникову и А. О. Ковалевскому вторично присуждена премия имени академика Бэра.
1871–1872 — Поездка на остров Мадейра в связи с болезнью жены.
1873 — Смерть Людмилы Васильевны. Покушение на самоубийство.
1873–1874 — Две поездки в Калмыцкие степи с целью антропологических исследований. Продолжение исследований по сравнительной эмбриологии. Полемика с Эрнстом Геккелем.
1875, февраль — Женитьба на Ольге Николаевне Белокопытовой.
1878–1882 — Исследования по борьбе с хлебным жуком и другими вредителями сельскохозяйственных культур.
1879–1880 — Командировка за границу, продолжение исследований по сравнительной эмбриологии беспозвоночных.
1881 — Мечников прививает себе возвратный тиф с целью доказать его заразительность через кровь.
1882–1883 — Поездка в Мессину. Зарождение фагоцитарной теории.
1883, август — И. И. Мечников избран председателем VII съезда российских естествоиспытателей и врачей. Доклад «О целебных силах организма».
— Избран членом-корреспондентом Академии наук.
1884 — Изучение фагоцитоза при грибковой болезни дафний.
1886–1888 — Заведующий Одесской бактериологической станцией.
1887 — Поездка за границу. Знакомство с Луи Пастером и Робертом Кохом.
1888–1916 — Мечников заведует отделением в Институте Пастера в Париже. С 1903 года — заместитель директора института.
1891 — Международный конгресс в Лондоне. Первая крупная победа в борьбе за признание фагоцитарной теории.
— Выход в свет классического труда Мечникова «Лекции по сравнительной патологии воспаления».
— Первый после переселения в Париж приезд Мечникова в Россию.
1892–1894 — Исследования холеры.
1894 — Международный конгресс в Будапеште. Острая полемика с противниками фагоцитарной теории.
— Второй после переселения в Париж приезд в Россию. 1894–1901 — Разносторонние исследования в области иммунитета.
1895 — Избран членом Лондонского королевского общества.
1897 — Участие в работе Международного медицинского конгресса в Москве.
1898 — Опубликована первая статья И. И. Мечникова о старости с биологической точки зрения.
1901 — Выход в свет классического труда Мечникова «Невосприимчивость в инфекционных болезнях».
1902 — Четвертый приезд в Россиию. Избран почетным членом Академии наук в Петербурге.
1903 — Выход в свет книги «Этюды о природе человека».
— И. И. Мечников делает доклад об экспериментальном сифилисе.
1904 — Избран членом Французской академии наук.
1907 — Мечников предлагает каломелевую мазь как профилактическое средство против сифилиса. Выход в свет книги «Этюды оптимизма».
1908 — И. И. Мечникову пополам с Паулем Эрлихом присуждена Нобелевская премия.
1909, май — Поездка в Стокгольм и оттуда в Россию. 30 мая (12 июня) — встреча с Л. Н. Толстым.
1910–1912 — Исследование кишечных инфекций — «детской холеры», брюшного тифа и других.
1911 — Экспедиция в Калмыцкую и Киргизскую степи.
1913 — Выход в свет книги философских статей Мечникова под названием «Сорок лет искания рационального мировоззрения».
1916, 15 июля — Смерть И. И. Мечникова.
Краткая библиография
И. И. Мечников, Академическое собрание сочинения. Тома I–XVI. М, 1950–1964.
Подробную библиографию работ И. И. Мечникова и литературы о нем читатель найдет в книге:
В. В. Хижняков, Г. М. Вайндрах и Н. В. Хижнякова, Творчество И. И. Мечникова и литература о нем. Библиографический указатель. М., 1951.
Из работ, вышедших в свет после указателя:
Вароян О. В., Лепин П., Эпидемиологические основы современной иммунологии. М, 1972.
Белкин Р. И. И., И. Мечников. М., 1953.
Залкинд С. Я., Илья Ильич Мечников Жизнь и творческий путь М., 1957. К 125-й годовщине со дня рождения Ильи Ильича Мечникова.
«Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунологии», 1970, № 5, стр. 6—22.
Куванова Л. К., Бастракова М. С, Рукописные материалы И. И. Мечникова в Архиве Академии наук СССР. М — Л., 1960.
Миленушкин Ю. И., Мечников и его место в истории микробиологии (к 125-летию со дня рождения). «Микробиология», 4970, вып. 3, стр. 533–536.
Могилевский Б. Л., Илья Ильич Мечников. М., 1958.
Парин В. В., Илья Ильич Мечников (к 125-летию со дня рождения). «Природа», 1970, № 5, стр. 75–81.
Резник С. Е., Поиски оптимизма. «Наука и религия», 1972, № 6, стр. 21–27, № 7, стр. 24–31, № 8, стр. 27–31.
Сборник, посвященный 90-летию Одесского университета и 110-летию со дня рождения И. И. Мечникова. Одесса, 1955.
Токин Б. П., Мечниковы в Ясной Поляне. «Наука и жизнь», 1967, № 1, стр. 152–156.
Тульчицкая В. П., Чтение Мечникова о фагоцитозе. Научная конференция, посвященная 75-летию учения И. И. Мечникова о фагоцитах. 1958.
В работе над книгой использованы материалы периодических изданий: «Записки Новороссийского университета» (1867–1883), «Протоколы Общества одесских врачей», «Вестник Херсонского земства», «Врач», «Врачебное дело» и ряда других, а также различных газет второй половины XIX — начала XX вв. Использованы материалы Архива Академии наук СССР и других московских, одесских и киевских архивов, материалы диссертации А. В. Сорокиной «И. И. Мечников и развитие отечественной микробиологии». М., 1968.
Большую помощь своими воспоминаниями, советами и указаниями на литературные источники оказали автору Э. Г. Бабаев, А. Я. Бардах, В. А. Вовк, А. А. Гринфельд, Н. К. Даль, 3. Н. Иванова, Б. И. Клейн, А. и О. Лишины, Б. В. Левшин, Ю. И. Миленушкин, Ф. Ф. Платонов, Н. П. Пузин, П. В. и С. Ф. Огородько, В. Р. Соболев, М. Н. Соловьев, А. В. Сорокина, А. Г. Сердюк, В. П. Тульчицкая, М. В. Уманский, Н. Г. Фиш.
Всем перечисленным лицам приношу самую сердечную благодарность.
Примечания
1
Рукопись Д. П. Маковицкого хранится в архиве Музея Л. Н. Толстого в Москве. В настоящее время работники музея совместно с АН СССР и АН ЧССР готовят ее к печати. Д. П. Маковицкий, по национальности словак, поселился в Ясной Поляне в 1904 году. До этого совершенно не знал русского языка. Записки его местами косноязычны.
(обратно)2
Так, например, в газете «Одесский листок» от 6 июля 1916 года была помещена интересная статья недавно скончавшегося, а в то время еще совсем молодого литератора Бориса Вальбе, в которой читаем: «Мечников и Толстой — две гигантские вершины, имеющие, однако, общий корень. Оба всю жизнь заняты были исканием такого „синтеза идей“, который согласовал бы практику с основными теоретическими принципами, правду-истину с правдой-справедливостью».
(обратно)3
Архив АН СССР (Москва), ф. 584, оп. 1, ед. хр. 5, л. 55, 55 об. 28.
(обратно)4
Позднее, в 1865 году, статья все же была напечатана. История этой публикации, не лишенная любопытных деталей, изложена в работе А. Е. Гайсиновича «Первые научные интересы И. И. Мечникова» («Бюллетень общества испытателей природы». Отдел биологии, т 1(6), 1946). Однако статья ничьего внимания не привлекла, так что и сам Мечников об этом не узнал до конца своих дней; факт публикации, таким образом, остался вне биографии Мечникова. Не останавливаясь на нем более, отсылаем интересующегося читателя к указанной работе.
(обратно)5
К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. 20, стр. 69.
(обратно)6
К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. 26, ч. И, стр. 127.
(обратно)7
Черновик был обнаружен в бумагах Мечникова и опубликован в 1950 году В. А. Догелем и А. Е. Гайсиновичем; по этому черновику, повторенному потом в книге И. И. Мечников, Избранные работы по дарвинизму. М., 1958, и в IV томе Академического собрания сочинений. М., 1960, мы ее и цитируем.
(обратно)8
Вид нематод, исследованный Мечниковым.
(обратно)9
Ланцетника.
(обратно)10
Сестра Л. В. Федорович.
(обратно)11
Дневник Д. В. Федоровича вместе с некоторыми другими документами мне передали О. и А. Лишины.
(обратно)12
Архив АН СССР, ф. 584, оп. I, д. 22, лл. 1–4.
(обратно)13
Зародышевый листок.
(обратно)14
Внешние приличия будут соблюдены (франц.).
(обратно)15
Архив АН СССР, ф. 584, оп. 1, д. 5.
(обратно)16
Архив АН СССР, ф. 584, оп. 1, д. 5, л. 53.
(обратно)17
Там же.
(обратно)18
Архив АН СССР, ф. 584, оп. 1, д. 5, л. 53 об.
(обратно)19
Там же, л. 54.
(обратно)20
При подготовке антропологических работ Мечникова для переиздания в Академическом собрании сочинений его высказывания по расовому вопросу были опущены Это тем более странно, что другие работы с аналогичными же высказываниями изданы без каких-либо изменений.
(обратно)21
Государственный музей Л. Н. Толстого (ГМТ), фонд Кузминских, папка 9, инв № 752.
(обратно)22
Архив АН СССР, ф 584, оп. 2, д 39. «Температуры во время возвратного тифа».
(обратно)23
ГМТ. Фонд Кузминских, инв № 779.
(обратно)24
Суеверие (франц.).
(обратно)25
Наука (франц)
(обратно)26
«Очерки философии оптимизма» (франц.) — таков подзаголовок «Этюдов о природе человека».
(обратно)27
Восстанавливаем этот эпизод по запискам Д. П. Маковицкого. Известный уже нам корреспондент «Раннего утра» Д. Н. вкладывает в уста Толстого прямо противоположное: «Один из взволнованных фотографов взмолился, прерывая беседу Льва Николаевича с Мечниковым.
— Лев Николаевич, вас немножко бы со света… Лев Николаевич рассмеялся:
— За что же, мой милый, меня со света?.. Я еще жить хочу!»
(обратно)28
ЦГИА Украины, ф 442, оп. 536, д. 270, лл. 8–9.
(обратно)29
Крестьяне села Поповка Смелянского района Черкасской области до сих пор хранят о нем память. Еще живы некоторые старики из тех, что детьми собирали для него животных. Мне удалось побеседовать с Панасом Власовичем и Софьей Федоровной Огородько; некоторые подробности сообщил мне Валентин Александрович Вовк, слышавший их от своего покойного отца.
(обратно)30
Это чисто Гиппократова мысль! (нем.).
(обратно)31
То есть первую вакцину, приготовлявшуюся из культуры сибиреязвенных бактерий, подвергнутой воздействию повышенной температуры в течение 12 дней. Вторая вакцина приготовлялась таким же способом, но в течение 6 дней.
(обратно)32
В дальнейшем такую вакцину мы будем называть четырнадцатидневной суспензией, а более сильные соответственно — тринадцатидневной, двенадцатидневной пятидневной и т. п.
(обратно)33
Какое несчастье, какое несчастье (франц.).
(обратно)34
Увы, так только казалось. Открытый Мечниковым микроб вовсе не был возбудителем болезни. Однажды Гамалее удалось перенести заразу введением жидкости, отделенной от бактерий. Но смысл этого опыта ни он, ни Мечников не поняли и повторять его не стали. До открытия вирусов оставалось еще далеко.
(обратно)35
Орден Почетного Легиона имел пять ступеней, причем награждение можно было начинать с низшей ступени — кавалера. Пастер хотел представить Мечникова сразу ко второй ступени — ордену офицера Почетного Легиона.
(обратно)36
То есть жидкостный от латинского слова humor — влага.
(обратно)37
Принято считать, что Петтенкофер был первым, кто рискнул выпить холерную культуру. Между тем Мечников в лекции, прочитанной в Одессе еще в октябре 1886 года, называл англичанина Клейна и француза Бошфотена, которые, опровергая Коха, «глотали запятые» без всякого вреда для себя. Эти ученые, однако, не нейтрализовали желудочные кислоты содой, почему их опыты и считались недоказательными.
(обратно)38
Имя испытуемого раскрывает Ольга Николаевна. Это Жюпиль — тот отважный юноша, который вступил в схватку с бешеной собакой и был спасен Пастером. Он остался при лаборатории.
(обратно)39
Фанатик, создавший лекарство от «всех» болезней. Принимая его в больших количествах, он был уверен, что не подвержен заболеваниям. Прежде чем дать Гачковскому культуру, Мечников испытал на двух свинках его «виталин» и убедился, что это средство не способно ослабить действие вибриона.
(обратно)40
Буквально так (франц.).
(обратно)41
Речь уже идет о второй книге, «Этюдах оптимизма».
(обратно)42
Кого именно, нам выяснить по удалось.
(обратно)43
Впоследствии было установлено, что аллексины все-таки циркулируют в плазме крови. Однако внутри лейкоцитов оказались другие бактерицидные вещества (лейкины), которые по своим свойствам близки к аллексинам.
(обратно)44
Рукопись хранится в ГМТ.
(обратно)45
Зачеркнуто: односто(ронний).
(обратно)46
Калмыцкой степью называли прикаспийский район к западу от Волги, Киргизской — к востоку.
(обратно)47
«Время министерства Касса» (прим. Д. К. Заболотного).
(обратно)48
Гнилостный микроб, разлагающий трупы.
(обратно)49
Нормальные границы сердца, верхняя — 4-е ребро, левая — несколько sobadu от соска и правая — левый край грудины (прим. И. Манухина).
(обратно)
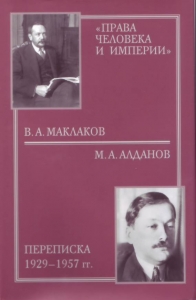


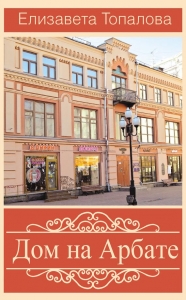
Комментарии к книге «Мечников», Семен Ефимович Резник
Всего 0 комментариев