АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ЛЕСКОВ ЖИЗНЬ НИКОЛАЯ ЛЕСКОВА
ВСТУПЛЕНИЕ
Мертвому тимпан — не погудка.
Пословица.On ne doit que la verite aux morts.
Voltaire. [1]Можно сделать правду столь же, даже более занимательной, чем вымысел.
Л. Толстой. (Письмо к Лескову 14/Х 1893 г.)“На похоронах моих прошу никаких речей обо мне не говорить. Я знаю, что во мне было очень много дурного и что я никаких похвал и сожалений не заслуживаю. Кто захочет порицать меня, тот должен знать, что я сам себя порицал”.
Вволю натерпевшийся от критики, Лесков, за два года до своей смерти, такими словами своей “посмертной просьбы” положил запрет на какие-либо о себе суждения над открытой его могилой.
23 февраля (7 марта) 1895 года, в ранние сумерки мягкого, полувесеннего петербургского дня, погребение совершилось в заповеданной покойным немоте и ничем, благодаря ей, не нарушенной сосредоточенности.
Дальше все потекло чредою общей: по мере того как оседала могила писателя, росли разноречивые, нередко злоречивые, критические о нем отзывы и умозаключения, а попутно множились и во многом недостоверные “воспоминания”.
Помимо вольных или невольных импровизаций в области якобы непосредственно личных воспоминаний или существенных биографических неверностей в них допускалось неряшливое цитирование его статей и, порою даже преднамеренное, искажение и перекраивание текста его писем [2].
Эти легковесные изделия всегда заставляли с горечью вспоминать нарочито злую на сей предмет сентенцию, приписываемую остромысленному Риваролю:
“Самая ужасная вещь для умерших писателей — воспоминания о них так называемых друзей и поклонников”.
Само становится рядом, столетием позднейшее, речение и нашего отечественного острослова — А. Ф. Писемского:
“Умереть я не боюсь: боюсь того, что какой-нибудь щелкопер немедленно напишет обо мне в газетах биографическую статейку, наврет в ней с три короба, да еще деньги за нее получит”.
Из многого, писанного о Лескове в послереволюционное время, самой яркой и проникновенной является вводная статья к изданию его произведений (1923 г.), в которой Горький называет его “волшебником слова”, “достойным встать рядом с такими творцами литературы русской, каковы Л. Толстой, Гоголь, Тургенев, Гончаров [3]”.
В области “воспоминаний”, как водится, со дня смерти писателя нагромождено (и до недавних лет продолжало нагромождаться) немало, мягко сказать, бессодержательного,
сомнительного и даже заведомо ложного (А. Алтаев, В. Русаков, Н. Кузьмин; не опубликованные — Е. И. Борхсениус и многие другие).
Этим повелительно ставится задача: дать достоверное для тщетно пока ожидаемого полноценного критико-исследовательского труда о Лескове.
Я знаю, что в некоторых отраслях полнее меня этого дать уже некому. Но я знаю и всегда знал также и то, как трудна и тяжела такая задача для близких большинства крупных, а с тем и сложных, людей.
“Сладок будешь — расклюют, горек будешь — расплюют”,— говорила бабушка Лескова, Акилина Васильевна Алферьева.
Умильная иконопись не даст “ключа к разумению истины”, по самой природе своей — жестокой и суровой.
Как же быть? А сделать что-то надо, давно пора. И времени впереди уже не избыточно: надо спешить, а то и не успеешь…
Кто же тогда, кто другой даст то, что, при большом насилии над собой, идя против многих канонов и держась только правды, какова бы она ни была, могу дать я — проживши с Лесковым двадцать лет нераздельно и еще восемь в постоянной близости к нему? И разве крупные люди в долготу дней принадлежат семье?
Итак, покорствую и иду на трудный искус: вместо бездоказательной “воспоминательной” трухи — дать достоверную повесть дней и трудов “тайнодума”, “рассказ которого одухотворенная песнь”.
Начатые в июльской книжке “Вестника Европы” 1893 года воспоминания А. И. Фаресова об А. Н. Энгельгардте вызвали гневные указания Лескова их автору:
“Статья напоминает блюдо, которое, как говорят, невкусно подано” (2 июля).
“Повторяю вам: написать очерк характерного лица — дело оч(ень) трудное и мастеровитое” (7 июля).
“Мастеровитые” очерки — дело писательское. Мое — дать то, что, “тлена убежав”, может облегчить познание Лескова.
В своей биографической мозаике я буду, помимо своей памяти, широко пользоваться хранимыми мною семейными документами, письмами, заметами и даже некоторыми нескупо рассыпанными в произведениях Лескова данными, по исключительно только такими из них, в которых автобиографическая суть ни в чем и ни в какой мере не подчинена беллетристическим целям.
7 декабря 1890 года Лесков прочел в № 5308 “Нового времени” сравнительно умеренно хвалебный некролог скончавшемуся накануне Г. П. Данилевскому.
Не помню — в тот же или другой ближайший день автор этого некролога, “милейший” и “обязательнейший” П. В. Быков появился, при мне и других, в кабинете Лескова.
Дружески приветствовав гостя, хозяин исподволь перешел к суровым ему укорам за приукрашение в газетной поминке литературных заслуг и общечеловеческих достоинств умершего.
— Да ведь это же в некрологе, Николай Семенович!
— А в некрологах надо непременно говорить неправду?
— “Aut bene, aut nihil”. [4]
— В обоих случаях, следовательно, — лгать?
— Но другого же правила нет, Николай Семенович…
— Как нет? — мягко вмешался в угрожавший обостриться диалог “нарочито-искательный мелодик” В. Л. Величко. — Есть, и очень красивое и звучное, но почему-то никогда не вспоминаемое: “De mortuis — veritas! [5]”.
— Прекрасное правило! — воскликнул Лесков. — Вместо пошлой, приевшейся лжи — живая правда! Ведь только она, может быть, могла бы на что-нибудь пригодиться… Только страх перед нею мог бы поостеречь и поудержать ото многого кое-кого из жуирующих и благоуспевающих!
Беру этот горячий восклик себе в наказ и постараюсь его не нарушить.
Ленинград, сентябрь,1932 г.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ИЗ СЕМЕЙНОЙ СТАРИНЫ
Но смерть не все взяла.
Средь этих урн и плит
Неизгладимый след
Минувшего таится.
Апухтин.ГЛАВА 1. АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЕ НАБРОСКИ
"Говорить о себе тонкое искусство, я не обладаю им”,— сказал Горький [6].
На самом деле он в совершенстве обладал этим искусством, при завидной к тому же решимости быть искренним.
При таком счастливом сочетании таланта и мужества становятся возможными достоверные дневники, автобиографии, записи — словом, все виды личных показаний.
По натуре “тайнодум”, Лесков не вел дневников, не делал келейных записей. Это ему было не по духу…
Десятки лет он не останавливался на мысли о необходимости дать личное жизнеописание, разбрасывая в своих произведениях много автобиографичного, но почти всегда с творческой вольностью.
Беллетрист до мозга костей, он предпочитал художественность летописной точности.
С годами, в заботе о предотвращении слишком грубых погрешностей в будущих своих биографиях, он стал давать скупые и малоговорящие схемки своей жизни, проходившие в печать или остававшиеся у кого-нибудь на руках. Дальше дело не шло.
Но вот в конце 1885 года он решает набросать “автобиографическую заметку”, которой, хотя бегло, очеркнуть свою жизнь.
Увы, писание ее неизбежно заслоняется задачами текущих дней.
После смерти Лескова, через его душеприказчика, она среди прочего поступает в издательство А. Ф. Маркса. Судьба автографа не ясна. По-видимому, он утрачен.
К счастью, около тридцати лет назад покойный А. А. Измайлов, имевший доступ к архиву этого издательства, хотя и вразнобивку и вперемежку с другими данными, не всегда четко, вводит ее в писавшуюся им работу — “Лесков и его время”.
Этим спасается драгоценнейший литературный документ, хотя, видимо, далеко не полностью.
Всем однородным, хотя бы и самым кратким, показаниям писателя о самом себе безраздельно предоставляется первая глава настоящего, первого, опыта возможно более полного и шире подтверждаемого описания “дней и трудов” Лескова.
Здесь говорит о Лескове только он сам.
Автобиографическая заметка
Под давлением неодолимой скуки, которую ощущаю и с к(оторой) бесплодно борюся с осени 1881 г., хочу набросать кое-что на память о моей личности, если она может кого-нибудь занимать. Заметки эти могут быть интересны в том отношении, что покажут в моем лице, какие неприготовленные к литературе люди могли в мое время получать хотя скромное, но все-таки не самое ничтожное место среди литературных деятелей моей поры. А это, мне кажется, стоит внимания.
По происхождению я принадлежу к потомственному дворянству Орловской губернии, но дворянство наше молодое и незначительное, приобретено моим отцом по чину коллежского асессора. Род наш собственно происходит из духовенства, и тут за ним есть своего рода почетная линия. Мой дед священник Димитрий Лесков и его отец, дед и прадед, все были священниками в селе Лесках, которое находится в Карачевском или Трубчевском уезде Орловской губернии. От этого села “Лески” [7] и вышла наша родовая фамилия — Лесковы.
Я никогда не бывал в этом селе и затрудняюсь с точностью определить его положение, но знаю, что оно в лесной полосе Орловской губернии, именно в Трубчевском или Карачевском уезде, где-то неподалеку от большого села Брасова, о котором я в детстве слыхал рассказы тетки моей, вдовой попадьи Пелагеи Дмитриевны.
Полагаю, что Лески было село бедное, потому что во всех воспоминаниях тетки об ее детстве и детстве моего отца главным образом всегда упоминалось о бедности и честности деда моего, священника Димитрия Лескова.
Отец мой, Семен Дмитриевич Лесков, “не пошел в попы”, а пресек свою духовную карьеру тотчас же по окончании курса наук в Севской семинарии. Это, говорили, будто очень огорчило деда и едва ли не свело его в могилу. Огорчение имело тем большее место, что места сдать было некому, потому что другой брат моего отца, а мой дядя, был убит в каком-то семинарском побоище и из-за какого-то ничтожного повода. Но отец мой был непреклонен в своих намерениях и ни за что не хотел надеть рясы, к которой всегда чувствовал неодолимое отвращение, хотя был человек очень хорошо богословски образованный и истинно религиозный. Место было передано “зятю”, то есть мужу матушки Пелагеи Дмитриевны, который вскоре умер, и левитский род Лесковых в селе Лесках пресекся, но зато появился Лесков в орловском приказничестве.
Выгнанный дедом из дома за отказ идти в духовное звание, отец мой бежал в Орел с сорока копейками меди, которые подала ему его покойная мать “через задние ворота”.
Гнев деда был так велик, что он выгнал отца буквально безо всего, даже без куска хлеба за пазухой халата.
С сорока копейками отец пришел в Орел и “из-за хлеба” был взят в дом местного помещика Хлопова, у которого учил детей, и, должно быть, успешно, потому что от Хлопова его “переманул” к себе помещик Михаил Андреевич Страхов, служивший тогда орловским уездным предводителем дворянства. Тут отец опять учил детей в семье бежавших из Москвы от французов Алферьевых и получал уже какую-то плату — вероятно, очень ничтожную. Но замечательно, что в числе его маленьких учениц была одна, которая потом стала его женою, а моею матерью.
На месте учителя в доме Страховых отец обратил на себя внимание своим прекрасным умом и честностью, которая составляла отменную черту всей его многострадальной жизни. Из учителей его упросили поступить на службу делопроизводителем дворянской опеки, — чем он и был, — не могу сказать, долго или коротко. Честность и ум отца обратили на него внимание кого-то из образованных орловских дворян, если не ошибаюсь, Сомова или Болотова, которые уговорили его ехать на службу в Петербург и дали ему для этого средства.
Здесь он служил недолго, где-то по министерству финансов, и был отправлен на Кавказ для ведения каких-то “винных операций”. По собственным его рассказам, это было место такое “доходное”, что на нем можно было “нажить сколько хочешь”. Это же самое подтверждали его орловские приятели Тимонов и Богословский и другие, часто говорившие о “глупом бессребреничестве” моего отца. О том же свидетельствовали многие письма, оставшиеся после его смерти, последовавшей в 1848 году. Но отец мой при кавказских “винных операциях” не нажил ничего, кроме пяти тысяч ассигнациями, которые получил в награду при оставлении им этого места в 1830 году.
В 1830 году с этими маленькими деньгами он приехал в Орел, встретил мою мать шестнадцатилетней девушкой, влюбился в нее и женился на ней, получив за нею в “обещание” приданое тоже в пять тысяч рублей — тоже, разумеется, ассигнациями.
Таким образом у них составилось десять тысяч (около 3 000 рублей серебром), из которых, впрочем, в руках была только отцовская половина, а материнская оставалась “в обещании” за Страховым, у которого дед мой, с материной стороны, служил управителем имений, а Страхов считался “благодетелем” семьи Алферьевых.
Я родился 4 февраля 1831 года Орловского уезда в селе Горохове, где жила моя бабушка, у которой на ту пору гостила моя мать. Это было прекрасное, тогда весьма благоустроенное и богатое имение, где жили по-барски. Оно принадлежало Михаилу Андреевичу Страхову и ныне еще находится в его роде. Семья была большая, и жилось на широкую ногу, даже с роскошью.
В Орле отца избрали заседателем от дворянства в орловскую уголовную палату, где он скоро стал заметен умом и твердостью убеждений, из-за чего наживал себе очень много врагов. Я даже помню дела каких-то Юшковых, Игиных и Желудковых, которые, говорили, “пахли сотнями тысяч” и решались сенатом “по разногласию” в духе особых мнений моего отца, несогласных с мнениями всей палаты. Притом отец был превосходный следователь и, по тогдашним обычаям, был часто командируем для важных следствий в разные города, и особенно долго жил в Ельце, где им раскрыто весьма запутанное уголовное дело, производившееся по высочайшему повелению.
Я помню, как мы с матерью ездили к нему в Елец и как мать мою какие-то люди старались впутать в это дело с тем, чтобы подкупить отца очень большою суммою (30 тысяч). Отец об этом узнал и выпроводил мать в Орел, а сам остался в Ельце и довел дело до открытия тайн, разоблачивших самое возмутительное преступление.
После этого он имел какое-то неприятное столкновение с губернатором Кочубеем (кажется, Аркадием Васильевичем), в угоду которому при следующих выборах остался без места, как “человек крутой”.
От отца требовали какой-то уступки губернатору, которую он будто бы мог оказать в виде вежливости, съездив к нему с визитом. Я помню, как несколько дворян приезжали его к этому склонить, но он додержал свою репутацию “крутого человека” и не поехал, а дворяне не нашли возможным его баллотировать.
Тогда мы оставили наш орловский домик, помещавшийся на 3-й Дворянской улице, продали все в городе и купили 50 душ крестьян у генерала А. И. Кривцова, в Кромском уезде.
Покупка была сделана не на наличные деньги, а в значительной степени в долг, — именно в надежде на 5 тысяч материнского приданого, все еще остававшегося “в обещании”. Оно так и не было никогда отдано, а купленная отцом деревенька поступила за долг в продажу, и мы остались при одном маленьком хуторе Панине, где была водяная мельница с толчеею, сад, два двора крестьян и около 40 десятин земли.
Все это при самом усиленном хозяйстве могло давать в год около 200–300 рублей дохода, и на это надо было жить отцу и матери и воспитывать нас, детей, которых тогда было семеро, в числе их я был самый старший.
Неудачи сломили “крутого человека”, и отец хотя не сделал ни одной уступки и никому ни на что не жаловался, но захандрил и стал очевидно слабеть и опускаться.
Жили мы в крошечном домике, который состоял из одного большого крестьянского сруба, оштукатуренного внутри и покрытого соломой.
Отец сам ходил сеять на поле, сам смотрел за садом и за мельницей и при этом постоянно читал, но хозяйство у него шло плохо, потому что это совсем было не его дело. Он был человек умный, и ему нужна была живая, умственная жизнь, а не маленькое однодворческое хозяйство, в котором не к чему было приложить рук. Меня в это время отвезли в Орел и определили в первый класс Орловской гимназии.
Религиозность во мне была с детства, и притом довольно счастливая, то есть такая, какая рано начала во мне мирить веру с рассудком. Я думаю, что и тут многим обязан отцу. Матушка была тоже религиозна, но чисто церковным образом, — она читала дома акафисты и каждое первое число служила молебны и наблюдала, какие это имеет последствия в обстоятельствах жизни. Отец ей не мешал верить, как она хочет, но сам ездил в церковь редко и не исполнял никаких обрядов, кроме исповеди и святого причастия, о котором я, однако, знал, чтó он думал. Кажется, что он “творил сие в его (Христа) воспоминание”. Ко всем прочим обрядам он относился с нетерпеливостью и, умирая, завещал “не служить по нему панихид”. Вообще он не верил в адвокатуру [8] ни живых, ни умерших и, при желании матери ездить на поклонение чудотворным иконам и мощам, относился ко всему этому пренебрежительно. Чудес не любил и разговоры о них считал пустыми и вредными, но подолгу маливался ночью перед греческого письма иконою Спаса Нерукотворенного и, гуляя, любил петь: “Помощник и покровитель” и “Волною морскою” [9]. Он несомненно был верующий и христианин, но если бы его взять поэкзаменовать по катехизису Филарета, то едва ли можно было его признать православным, и он, я думаю, этого бы не испугался и не стал бы оспаривать.
В деревне я жил на полной свободе, которой пользовался как хотел. Сверстниками моими были крестьянские дети, с которыми я и жил и сживался душа в душу. Простонародный быт я знал до мельчайших подробностей и до мельчайших же оттенков понимал, как к нему относятся из большого барского дома, из нашего “мелкопоместного курничка”, из постоялого двора и с поповки. А потому, когда мне привелось впервые прочесть “Записки охотника” И. С. Тургенева, я весь задрожал от правды представлении и сразу понял: чтó называется искусством. Все же прочее, кроме еще одного Островского, — мне казалось деланным и неверным. Самый Писемский мне не правился, а публицистических рацей о том, что народ надо изучать, я вовсе не понимал и теперь не понимаю. Народ просто надо знать, как самую свою жизнь, не штудируя ее, а живучи ею. Я, слава богу, так и знал его, то есть народ, — знал с детства и без всяких натуг и стараний; а если я его не всегда умел изображать, то это так и надо относить к неумению.
За М. А. Страховым была замужем родная сестра моей матери Наталия Петровна, большая красавица, которую старик муж ревновал самым чудовищным и самым недостойным образом к кому попало. Это был человек невоспитанный, деспотический и, кажется, немножко помешанный: он был старше моей тетки лет на 40 и спал с нею, привязывая ее иногда за ногу к ножке своей двуспальной кровати.
Страдания тетки были предметом всеобщего сожаления, но ни отец, ни мать и ни кто другой не смели за нее заступиться.
Это были первые мои детские впечатления, и впечатления ужасные, — я думаю, что они еще начали развивать во мне ту мучительную нервность, от которой я страдал всю мою жизнь и наделал в ней много неоправдываемых глупостей и грубостей.
Плодом супружества Страхова и моей тетки было шесть человек детей — три дочери и три сына, из которых двое были немного меня старше, а третий ровесник. И так как для их воспитания в доме были русский и немецкий учителя и француженка, а мои родители ничего такого держать для меня не могли, то я жил у Страховых почти до восьми лет, и это послужило мне в пользу: я был хорошо выдержан, то есть умел себя вести в обществе прилично, не дичился людей и имел пристойные манеры — вежливо отвечал, пристойно кланялся и рано болтал по-французски.
Но зато рядом с этими благоприятностями для моего воспитания и душу мою вкрались и некоторые неблагоприятности: я рано почувствовал уколы самолюбия и гордости, в которых у меня выразилось большое сходство с отцом. Я был одарен несомненно бóльшими способностями, чем мои двоюродные братья, и что тем доставалось в науках с трудностями, то мне шло нипочем. Немецкий учитель Кольберг имел неосторожность поставить это однажды на вид тетке, и я стал замечать, что мои успехи были ей неприятны.
Это во мне зародило подозрение, что я тут не на своем месте, и вскоре пустое обстоятельство это решило так, что меня должны были отсюда взять.
Страхов умер в Москве, куда тетушка повезла его лечить и не вылечила…
Он там схоронен на Ваганьковом кладбище. Тетушка возвратилась в Горохово и стала входить ближе в хозяйство и в воспитание детей. Тогда же в доме появился в качестве опекуна ее соседний помещик Н. Е. Афросимов, невероятный силач и невероятный циник, которого за это последнее терпеть не мог мой отец. Афросимов это знал и платил ему тем же. Отец мой в его глазах был “неуклюжий семинарист”.
О силе Афросимова у нас ходил такой анекдот, будто в двенадцатом году на небольшой отряд, с которым он был послан на какую-то рекогносцировку, наскакали два французских офицера. Афросимов не приказал солдатам защищаться, а когда французы подскакали к нему с поднятыми саблями, он одним ловким ударом выбил у них эти сабли, а потом схватил их за шиворотки, поднял с седел, стукнул лоб о лоб и бросил на землю с разбитыми черепами.
Не знаю, сколько в этом рассказе правды, но ему все верили, и Н. Е. пользовался большим уважением в дворянстве, предводитель которого и вверил ему страховскую опеку [10].
Во мне он невзлюбил “семинарское отродье” и на первых же порах нанес мне тяжкую обиду, которая теперь мне смешна, но тогда казалась непереносимою.
Дело в том, что по докладу неосторожного, но честного Кольберга меня за благонравие и успехи хотели “поощрить”. Для этого раз вечером собрали в гостиную всех детей. Это было в какой-то праздник, и в доме случилось много гостей с детьми почти равного возраста. Н. Е. держал ко всем нам речь, в которой упомянул о моих добрых свойствах и заключил тем, что мне за это дадут похвальный лист. Тут же был и этот лист, перевязанный розовой ленточкой.
Мне велели подойти к столу и получить присужденную мне семейным советом награду, что я и исполнил, сильно конфузясь, тем более что замечал какие-то неодобрительные усмешки у старших, а также и у некоторых детей, коим, очевидно, была известна затеянная против меня злая шутка.
Вместо похвального листа мне дали объявление об оподельдоке, что я заметил уже только тогда, когда развернул лист и уронил его при общем хохоте.
Эта шутка возмутила мою детскую душу, и я не спал всю ночь, поминутно вскакивая и спрашивая, “за что, за что меня обидели?”
С тех пор я ни за что не хотел оставаться у Страховых и просил бабушку написать отцу, чтобы меня взяли. Так и было сделано, и я стал жить в нашей бедной хибарке, считая себя необыкновенно счастливым, что вырвался из большого дома, где был обижен без всякой с моей стороны вины.
Но зато, однако, мне негде было более учиться, и я снова теперь возвращаюсь к тому, что меня отвезли в Орловскую гимназию.
Я был помещен на квартире у некоей Аксиньи Матвеевны, которой за весь мой пансион платили 15 р. ассигнациями (4 р. 30 коп.) в месяц. За что я имел комнату с двумя окнами на Оку, обед, ужин, чай и прислугу. Теперь невероятно, а тогда это было можно.
Я скучал ужасно, но учился хорошо, хотя гимназия, подпавшая в то время управлению директора Ал. Як. Кронеберга, велась из рук вон дурно. Кто нас учил и как нас учили — об этом смешно и вспомнить. В числе наших учителей был один, Вас. Ал. Функендорф, который часто приходил в пьяном бешенстве и то засыпал, склоня голову на стол, то вскакивал с линейкой в руках и бегал по классу, колотя нас кого попало и по какому попало месту. Одному ученику, кажется Яковлеву, он ребром линейки отсек ухо, как рабу некоего Малху, и это никого не удивляло и не возмущало.
Ездил я домой в год три раза: на летние каникулы, на святки и на страстной неделе с пасхою. При этой последней побывке мы с отцом всегда вместе говели, — что мне доставляло особенное удовольствие, так как в это время бывает распутица и мы ездили в церковь верхом”.
Здесь последовательное приведение текста Лескова стало. Дальше Измайлов лишь местами дает нечеткую ссылку на, должно быть, существовавшие еще какие-то ее страницы.
В одной из дальнейших глав своей работы Измайлов приводит, например, такое многозначительное авторское показание:
“Из рассказов тетки (Пелагеи Дмитриевны. — А. Л.) я почерпнул первые идеи для написанного мною романа “Соборяне”, где в лице протоирея Савелия Туберозова старался изобразить моего деда (Димитрия Лескова. — А. Л.), который, однако, на самом деле был гораздо проще Савелия, но напоминал его по характеру”.
Эти “однако”, “на самом деле”, не более как “напоминал” — подтверждают призрачность большой близости этих двух фигур: “министра юстиции”, старогородского протопопа Савелия и сельского, хотя бы и “многоумного”, иерея Димитрия.
Была ли “заметка” доведена до литераторских лет вообще и до писания “Соборян” в частности?
Вернее представляется, что о “Чающих движения воды”, “Божедомах” и “Старогородцах” (они же “Соборяне”) помянулось в ней — в ее начале — при описании чего-то еще трубчевски-лесковского. Беллетриста по натуре томило слишком точное, а с тем и суховатое повествование. Задача вязала руки. Оставалось положить перо летописца, чтобы возвратиться в привычную область творчества.
Коротенькое пояснение к самой автобиографической заметке: открывающее ее заявление о неодолимой скуке, ощущаемой с осени 1881 года, и о бесплодности борьбы с нею вызывает две догадки, не притязающие на безусловное их принятие, но невольно напрашивающиеся.
Осенью 1881 года в жизни Лескова ничего, что могло бы быть сопоставлено с тоном этого вступления, не произошло. Тут явная ошибка памяти. В марте 1882 года из его жизненной орбиты вышла, очень скромного общественного положения, женщина, роли которой будет отведено определенное внимание в своем месте. Допустимо предположение, что заметка могла первоначально набрасываться весной 1882 же года. Ощущение потери могло обостриться после ряда домашних неустройств, особенно досадительно сказавшихся осенью 1885 года, когда и я оказался отдаленным от отца, оставшегося, по собственному его решению, совершенно одиноким. Тогда дата заметки легче всего относится к этой осени.
Вторая догадка более отвлеченная, но непраздная. Жалобы на грусть искони в натуре человеческой. Ею полны бывают дружеские письма, еще больше стихи, как и прозаические произведения. В грусти есть много красивого. Это хорошая сдобь для многих произведений и, конечно, всего больше для воспоминаний о былом и невозвратно прошедшем… Годится и в других случаях. Вот, например, как начаты Лесковым, как нельзя более острые, его “пейзаж и жанр” или “наблюдения, опыты и приключения”: “…Я был грустно настроен и очень скучал” (“Полунощники”): “По одному грустному случаю я в течение довольно долгого времени…” (“Заячий ремиз”). Почему возможность применения такого же приема должна быть исключена и в вопросе об автобиографической заметке?
Из упомянутых выше кратких автобиографических справок всех шире опубликована переданная самим писателем, видимо в начале 1890 года, секретарю редакции журнала “Живописное обозрение”, В. Г. Швецову, под заглавием:
Заметка о себе самом
“Николай Семенович Лесков. Происходит из дворян Орловской губернии. Родился 4 февраля 1831 года в селе Горохове, Орловского уезда. Детство провел в с. Панине, Орловской губернии, Кромского уезда. Обучался в Орловской гимназии. Осиротел на 16-м году и остался совершенно беспомощным. Ничтожное имущество, какое осталось от отца, погибло в огне. Это было время знаменитых орловских пожаров. Это же положило предел и правильному продолжению учености. Затем — самоучка.
Служил непродолжительное время в гражданской службе, где положение сблизило Лескова с покойным Ст. Ст. Громекой. Сближение это имело решительное значение в дальнейшей судьбе Лескова. Пример Громеки, оставившего свою казенную должность и перешедшего в Русское общество пароходства и торговли, послужил к тому, что и Лесков сделал то же самое: поступил на коммерческую службу, которая требовала беспрестанных разъездов и иногда удерживала его в самых глухих захолустьях. Он изъездил Россию в самых разнообразных направлениях, и это дало ему большое обилие впечатлений и запас бытовых сведений. Письма, писанные из разных мест к одному родственнику, жившему в Пензенской губернии (А. Я. Шкотту), заинтересовали Селиванова [11], который стал их спрашивать, читать и находил их “достойными печати”, а в авторе их пророчил “писателя”.
Писательство началось случайно. В него увлекли Лескова сначала профессор Киевского университета, доктор Вальтер, убедивший Лескова написать фельетон для “Современной медицины”, а решительное закабаление Лескова в литературу произвели опять тот же Громека и Дудышкин с А. А. Краевским. С тех пор все и пишем.
В мае или июне 1890 г. этому писанию совершится 30 лет. Беллетристические способности усмотрел и поддерживал или поощрял Апполон Григорьев.
Верно: Н. Лесков”
Близок к этой “заметке” и, пожалуй, несколько интересней нигде еще не опубликованный, видимо черновой, к концу скомканный, собственноручный набросок Лескова, подаренный им библиографу его произведений, П. В. Быкову, должно быть в 1889–1890 годах:
“Из дворян Орловской губернии.
Отец Семен Димитриевич Лесков. Мать Марья Петровна из рода Алферьевых. Родился 4 февр. 1831 г. в селе Горохове, принадлежавшем дяде Н. С-ча Лескова — Михаилу Андреевичу Страхову, имевшему в свое время очень видное положение среди орловского дворянства. Первоначальное воспитание получил в этом богатом доме вместе со своими двоюродными братьями, для которых содержались в деревне хорошие русские и иностранные учителя; потом был отдан в Орловскую гимназию, во время пребывания в которой отец его умер и семья подверглась бедственному разорению. Все сгорело, и Н. С-ча взял к себе в Киев брат его матери, профессор Киевского университета, доктор медицины Сергей Петрович Алферьев в 1849 г. Здесь Н. С. продолжал свое образование под особым дружественным руководительством профессора Игнатия Фед[оровича] Якубовского, который был увлечен даровитостью своего ученика и занимался им с большой любовью. — Тетка Н. С-ча Александра Петр[овна] Алферьева вышла замуж за англичанина Шкотта, который управлял большими имениями Нарышкиных и Петровских — переводил крестьян из густонаселенных имений в степи волжского понизовья. Шкотт увлек Н. С. к себе, где он близко увидел народ в самых…
В юности на него имели влияние: профессора Савва Осип[ович] Богородский, Игнатий Фед[орович] Якубовский и известный статистик аболиционист Дмитрий Петрович Журавский, — потом позже Шкотт (англичанин радикал). По письмам к Шкотту Л[еско]ва узнал Селиванов и любил читать его письма. В литераторство Лескова втравили профессор К[иевского] ун[иверсите]та Александр Петр[ович] Вальтер, Ник[олай] Ил[ларионович] Козлов и Ст[епан] Ст[епанович] Громека — свели Л[еско]ва с Краевским и Дудышкиным и настояли, чтобы он “писал”. — Платили скудно: за романы и повести по 50 р. (“Овцебык”, “Обойденные”). За “Некуда” почти ничего не заплачено. Гонорар Л-ву весь возвысил Катков, начавший платить ему по 150 р. (“Соборяне” и “Запеч[атленный] ангел”), а позже по 200 р.
В П[етербург] приехал в тот год ноября[?]
“Очерки виноку[ренной] промы[шленности]” [12].
Известны еще более краткие заметки, данные А. Н. Толиверовой-Пешковой [13], П. И. Вейнбергу [14] и т. д.
Как в большинстве личных биографических свидетельств, многое не бесспорно в них и у Лескова.
Во всех справках о себе непоздних лет Лесков неизменно начинал их с указания на происхождение свое из дворян, хотя в статьях и очерках уже давно зло вышучивал чье бы то ни было стремление к повышению своей родовитости, напряженно проявлявшееся в его родных, Лесковых и Алферьевых. Постарше сам он начинает говорить о своем дворянстве как о “молодом”, “колокольном”, “незначительном”, и с явным удовольствием пишет одному новому своему знакомому: “У нас с вами, оказывается, одинаковое происхождение по линии плотского родства (попы и дворянская захудель)” [15].
Это уже полное пренебрежение и отречение от того, что когда-то во что-то ценилось и на что-то годилось.
В свое время, в молодые годы, была заказана железная печатка, с вырезанными на ней крестом, якорем, саблей, латинским “N” и русским “Л” по сторонам дворянской короны [16].
Вспоминается мимолетный случай, закрепленный, однако, о днесь сохранившейся реликвией. Должно быть, в 1890 году пришел я как-то, рано утром, в воскресенье, к отцу, чтобы потолковать без сторонних. “А вот, кстати, — сказал он, протягивая мне в ходе беседы блокнотный, исписанный его рукою, листок. — Прочти”. На нем стояло:
“Лесковы. [1626]
Предок сего рода, Семен Семенов Лесков, по песцовым книгам
7134/1626 года владел недвижимым имением в Белозерском уезде Новгородской губерн[ии], называемом Христова Гора. Потомки его служили российскому престолу в военной службе и состояли в разных чинах. (Герб. XII, 61).
Двор[янские] роды, внес[енные] в общ[ий] Гер[бовник] Всерос[сийской] Имп[е]р[ии].
Составил гр[аф] Александр Бобринский, ч. II, стр. 129” [17].
“Видишь, — продолжал он, когда я пробежал строки, — Семен Семенов! Совпадение? Может, и нет! Случалось, что старые роды, захудевая, теряли вотчины, беднели, шли в духовенство, а то сползали и до однодворческого крестьянства. Ну, да это так, шутки ради я тебе выписал на память. Наш род, как у худородного греческого полководца Ификрата, — с меня начнется, да, вероятно, на мне и кончится”.
В отношении “Автобиографической заметки” надо признать, что, несмотря па обидную ее незаконченность и малость, ценность ее велика.
Ярко рисует она ужас семейных преданий, лютость нравов и обычаев, царивших в роду карачевских Лесковых. Страшен отец. Строптив юный сын. Жалка и трепетна не смеющая вступиться за него мать. Бесправна дочь. Все сковано неодолимостью рабских бытовых устоев.
Вот они — “свинцовые мерзости дикой русской жизни”, на которые через сто лет укажет Горький [18].
ГЛАВА 2. ОТЕЦ
В “формулярном списке” Семена Дмитриевича, охватывающем весь служебный его путь от поступления, 2 июля 1811 года, “подканцеляристом” в Орловский уездный суд до “выбытия”, то есть отставки, 24 января 1839 года, с должности “по выбору дворянства” “заседателя Орловской уголовной палаты”, сказано, что ему при оставлении службы было сорок девять лет. Более точное определение возраста, путем указания хотя бы года рождения служащего, в те времена считалось лишним. Других документов, которые устанавливали бы вполне бесспорную дату, не сохранилось. Возможно, что они не были взяты им из семинарии при ее окончании. В семье считали, что родился он в 1789 году.
Приехав по окончании Севской духовной семинарии, в 1808 или 1809 году, домой и в тот же день выгнанный из-под родного крова отцом за непреклонный отказ идти в попы по непреодолимому отвращению своему к рясе, Семен Дмитриевич уже никогда не ступает ногою в Лески. Приход пошел в приданое за Пелагеей Дмитриевной.
Дед не забывается внуком. Помимо оговорки о несходстве некоторых черт Димитрия Семеновича Лескова и Савелия Туберозова, первый рисуется в “Автобиографической заметке” не мягкосерднее старогородского раскольника Семена Дмитриевича Деева [19], почему-то наделяемого писателем подлинно трубчевски-лесковскими именами.
О сколько-нибудь значительном витийстве или письменности деда свидетельств не сбереглось. Признавались — прямота, честность и, всего больше, крутость. Не более.
Учительствуя в домах местной знати, юный Семен Дмитриевич постепенно приобретает на этом поприще своего рода известность. Его ищут, стараются перенять, из-за него даже ссорятся. Какой-то “благодетель”, в целях снижения собственных расходов по оплате наставника своих отроков, обещает ему устроить его, так сказать “по совместительству”, на “коронную службу”.
2 июля 1811 года он определяется “подканцеляристом” в Орловский уездный суд. Умный, способный, прошедший суровую семинарскую выучку, он прекрасно справляется с любой работой. Служит он последовательно в суде, дворянской опеке, провиантском комиссариате, по питейным сборам, причем в 1822 году состоит “помощником винного пристава санкт-петербургских главных магазинов” [20]. Для достижения вожделенного чина, дававшего тогда права потомственного дворянства, испрашивает себе перевод [13 апреля 1825 года] “на окраину”, — в сущности не далее, чем во вполне благополучный Ставрополь, — “в Кавказскую область по управлению питейных сборов с награждением чина коллежского асессора”.
Для неродовитого чиновника, без связей и “покровителей”, это был большой шаг: так называвшееся уже штаб-офицерство, восьмой класс четырнадцатиклассной “Табели о рангах”, потомственное дворянство себе и нисходящему роду своему. По тем временам мечта и цель стремлений очень многих.
В 1827 году Семен Дмитриевич возвращается в Орел в невздорном чине и не без скромного достатка.
За годы его странствий, в самом начале двадцатых годов, скончался в родном своем селе престарелый и хворый отец. Следом, в полной безвестности проведшая жизнь, там же умерла и мать. Не зажилась в родном гнезде и рано овдовевшая Пелагея Дмитриевна. “Лески” осиротели. На Колохве Лесковых не стало. Карачевское их житие отошло.
В апреле 1830 года, на Красную горку, Семен Дмитриевич женится на бесприданнице Марье Петровне Алферьевой.
Чем он занимался почти пять лет, живя здесь, формуляр его не говорит. Наконец, 18 июня 1832 года, он вновь поступает на службу, сперва в гражданскую судебную палату “от короны”, а затем переходит в уголовную палату заседателем “по выбору от дворянства”. Открывается неплохая дорога. На седьмом году, по словам его сына, он чем-то навлекает на себя неудовольствие губернатора, А. В. Кочубея. Требовался досадный, но нимало не унизительный, искупительный визит. Семен Дмитриевич уперся и не поехал. Уговорить “крутого человека” не удалось. Благородное дворянство не дерзнуло баллотировать его в таких условиях на новое трехлетие. Пятидесяти лет, в полном расцвете сил, ума и способностей, с богатым служебным опытом, приходилось уходить в отставку, не выслужив даже какой-нибудь пенсии. 24 января 1839 года он “из палаты сей выбыл”. В нерадушном Орле делать стало нечего. Оставаться там не позволяло и чувство горькой обиды. Лесковы продают свой орловский дом, покупают в верстах семнадцати от Кром, на “узенькой, но чистой” речке Гостомле, маленькое именьице и по санному пути перебираются туда на преждевременное доживание. Это не обещало хорошего, не могло заполнить жизнь. Называлась деревенька Панин хутор или Панино.
Много лет спустя после смерти отца Лесков, горячо отговаривая П. К. Щебальского от намерения его бросить литературную работу и заняться виноградорством в Крыму, писал ему: “Отец мой был близок к Рылееву и Бестужеву, попал на Кавказ, потом приехал в Орел, женился и, при его невероятной наблюдательности, и проницательности, прослыл таким уголовным следователем, что его какие-то сверхъестественные способности прозорливости дали ему почет, уважение и все, что вы хотите, кроме денег, которыми его позабыли. Он рассердился, забредил, подобно вам, полями и огородами, купил хутор и пошел гряды копать, но… неурожаи, дрязги мужичьи, грозы, падежи и прочие прелести, о которых мы позабываем, предаваясь буколическим мечтаниям, так его выгладили, что из него в пять лет вышла дрязга, а потом он и умер, оставив кипы бумаг, состоявших из его переводов Квинта Горация Флакка и Ювенала, деланных им в те годы, когда матери нечем было ни платить за нас в училище, ни обувать наши ножонки [буквально]”[21].
Близость Семена Дмитриевича с Рылеевым и Бестужевым известными материалами и сторонними свидетельствами или семейными памятями оставляется без подтверждения. Условия и побуждения перехода в Ставрополь безошибочно определяются формуляром.
Еще через два десятка лет, в основе на ту же тему, отец пишет мне из Аренсбурга на Украину, где я проводил летние вакации: “Влечение твое к деревне, и особенно к малороссийской деревне, — вполне разделяю. Это была мечта всей моей жизни, для меня, однако, не удавшаяся, но не знаю — полезна ли была бы деревня для наших характеров и натур, склонных к сосредоточенности и мизантропии. Дед твой, на которого похожи нравом я и ты во всех основных чертах, кроме видоизменений в духе времени и окружающих условий, — был на счету людей высокого и светлого ума, пока кипели в житейском котле беспрерывных столкновений, а уединясь в деревне — опустился и заглох” [22].
Выразителем одного из приступов мизантропии и ипохондрии может служить как бы завещательное наставление, писавшееся Семеном Дмитриевичем в риторически-высоком “штиле”, еще до переселения в деревню, пятилетнему первенцу при каком-то, явно незначительном, недомогании:
“Любезный мой сын и друг!
Николай Семенович!
В дополнение завещания моего, оставленного твоей матери, достойной всякого уважения по личным ее, мне более известным преимуществам, оставляя сей суетный свет, я рассудил впоследнее побеседовать с тобою, как с таким существом, которое в настоящие минуты более прочих занимало мои помышления. Итак, выслушай меня и, что скажу, исполни: 1-е. Ни для чего в свете не изменяй вере отцов твоих. 2-е. Уважай от всей души твою мать до ее гроба. 3-е. Люби вообще всех твоих ближних, никем не пренебрегай, не издевайся. 4-е. Ни к чему исключительно не будь пристрастен; ибо всякое пристрастие доводит до ослепления, в особенности ж к вину и к картам; нет в мире зол заманчивей и пагубнее их. Я просил бы, чтоб ты вовсе их не касался. 5-е. Вообще советую тебе избирать знакомых и друзей, равных тебе по званию и состоянию, с хорошим только воспитанием. 6-е. По службе будь ревностен, но не до безрассудства, всегда сохраняя здоровье, чтобы к старости не быть калекою. 7-е. Более всего будь честным человеком, не превозносись в благоприятных и не упадай в противных обстоятельствах. 8-е. Между 25 и 35 годами твоего возраста советую тебе искать для себя подруги, в выборе которой наблюди осторожность, ибо от нее зависит все твое благополучие. Ни ранее, ни позднее сих лет я не желал бы тебе вступать в супружеские связи. 9-е. Уважай деньги, как средство, в нынешнем особенно веке, открывающее пути к счастию; но для приобретения их не употребляй мер унизительных, бесславных. 10-е. Будь признателен ко всем твоим благотворителям. Черта сия сколько похвальна, столько ж и полезна. 11-е. Уважай девушек, дабы и сестра твоя не подверглась иногда какому ни есть нареканию. 12-е. Кстати о сестре, она тебя моложе пятью годами. Когда будешь в возрасте, замени ей отца, будь ей руководителем и заступником. Нет жалчее существа, как в сиротстве девица, заметь это и поддержи последнюю мою о ней к тебе просьбу, ты утешишь тем меня даже за могилою. 13-е. Преимущественно хотелось бы мне, чтоб ты шел путем гражданской службы, военная по тягости своей и по слабости твоего сложения скорее может тебя погубить.
Я хотел бы излить в тебя всю мою душу, но довольно, моя минута приближается. Остальное предпишет тебе твоя мать и собственное твое благоразумие. Рука моя слабеет. Прощай, прощай, мой бесценный, мой единственный сын! Бог тебе на помощь!
Отец твой Семен Лесков
г. Орел, 1836 года.” [23]
Дневная дата отсутствует. Напутствие явно писалось не перед лицом действительно угрожавшей смерти, а так сказать, впрок. Оставить суетный свет пришлось только через двенадцать лет, и притом совершенно врасплох. Вышло проще.
По свидетельству сына-писателя, Семен Дмитриевич был “не лют” и “не лих”, приходясь по сердцу крестьянам, с которыми “умел справляться” [24]. Но с кем следовало — бывал “крут”: “Первый русский архиерей, которого я знал, был орловский — Никодим. У нас в доме стали упоминать его имя по тому случаю, что он сдал в рекруты сына бедной сестры моего отца. Отец мой, человек решительного и смелого характера, поехал к нему и в собственном его архиерейском доме разделался с ним очень сурово. Дальнейших последствий это не имело” [25].
К характеристике религиозности Семена Дмитриевича, данной сыном-писателем в “Автобиографической заметке” и в позднейших письмах его к сестре-монахине, просится одно из более ранних и любопытных свидетельств Николая Семеновича:
“На моей еще памяти отец мой, орловский помещик, купив новую деревню в Кромском уезде, посылал крестьян в приходскую церковь по наряду, под надзором старосты. Так же точно поступали и другие наши соседи помещики: они наряжали крестьян ходить по праздникам в церковь и зачастую сами сверяли с священниками исповедные книги” [26].
Это было вполне “в духе времени”, но не в духе большой религиозной строптивости, о которой упоминается в “заметке” или в письмах. Делалось это, должно быть, для “освежения чувств в народе”…
Так или иначе, но с крестьянами, которых Семен Дмитриевич “не стегал”, дело, видимо, шло, а вот со столбовыми — плохо. Не любил его не один Афросимов, а очень многие и из жениных родных. Эти видели в нем человека несродного им духа, других влечений, мягко говоря — нескладного и неудобного в жизни. В общем, для многих из них он был чужой. Приязни и дружелюбия в этой среде он к себе не знал.
“У Ададуровых” пили”, а мой отец и Илья Кривцов “чудили”. Оба были люди очень умные, жили анахоретами и изнывали в тоске. Илья Иванович[27], впрочем, тоже случалось пил, но только solo, а отец мой все читал книги и хандрил”. Так писал Лесков в 1881 году [28].
Портрета Семена Дмитриевича, ни масляного, ни дагерротипного, нет и не было. Последняя двоюродная сестра Николая Семеновича, Ольга Луциановна Водар, рожденная Константинова, лет двадцать назад говорила мне, что ее мать, урожденная Алферьева, находила в наружности и в манере держаться Семена Дмитриевича больше служило-приказного, чем помещичье-дворянского по требованиям того времени. При всей осторожности и мягкости этих отзывов очень уже почтенной старушки я уловил неизменность оценки своего деда во всем алферьевско-страховском родстве: да, умен, деловит, честен, но чудаковат, если не фантазироват, не располагает к себе, трудный человек…
Как прочно забытым чувствовал он сам себя в отставке — хорошо говорит единственное сохранившееся просительное за сына письмо его к Д. Н. Клушину:
“Милостливый государь
Дмитрий Николаевич.
До сведения моего дошло, что вы по выбору благородного дворянства Орловской губернии возведены на место председателя уголовной палаты, место почетное, когда-то занимаемое вашим покойным родителем. Хвала признательному дворянству, честь вам. Вы достигли своей цели, с чем вас позвольте и поздравить.
Известие об этом невыразимо меня обрадывало, как по беспредельному моему уважению к вам, так равно и потому, что под начальством вашим будет находиться старший из сыновей моих, другой уже год посвятивший себя изучению уголовного права, по собственному его желанию. Юноша с характером сильным и способностями, по отзывам других, достаточными, которого по этому поводу и позвольте рекомендовать в ваше покровительство. Умоляю вас быть ему тем, чем когда-то были ваши родители мне или чем бывают вообще аристократы для нашей мелкой братии пигмеев. Не хотелось бы мне, чтоб он когда-нибудь был секретарем, но чтоб покороче ознакомиться с ходом уголовных дел, производителем их быть ему желал бы, а далее хотелось бы сотворить из него то, чего будет сам заслуживать. Всех у меня 4 сына, вторый из них обучается в Орловской гимназии, мальчик, как кажется, с превосходным талантом, третий, ваш крестник, также заучился грамоте порядочно, а последний, по 4 году, побрыкивает еще на воле. Мне хотелось бы кого-нибудь из них пустить по военной службе, но я уже обессилел, а протеже никого более не имею. Еще раз позвольте повторить нашу покорнейшую просьбу о внимании вашем к нашему сыну первенцу. Не о снисхождении к его слабостям, а о справедливости к нему вас прошу.
Милостливой государыне Софье Ивановне пренизко кланяюсь. Как мать, знакомую с чувством чадолюбия более, чем всякий мужчина, я покорнейше прошу и ее об участии к моему сыну. Когда-то незабвенная Александра Ивановна умела открыть в благорасположение Николая Ивановича всякого, за кого его просили или кого она удостоивала своего предпочтения.
Почувствовать добра приятство
Такое есть души богатство,
Какого Крез не собирал.
С истинным высокопочитанием всегда
честь имею быть,
Милостливый государь,
вашим покорнейшим слугою
Семен Лесков.
17 марта 1848. с. Панино, Кром. уезда” [29]
Почему-то “юноша с сильным характером”, в заботе о котором писалось письмо, не передал его по назначению. Этим счастливо удвоилось все письмовое наследие “крутого человека”. Кроме завещательного наставления 1836 года и этого письма, не сохранилось больше ни строки, писанной рукой отца писателя.
Так оно и лежит почти сто лет в конверте, на котором рукою Николая Семеновича написано:
“Письмо моего покойного отца к
Дмитрию Николаевичу Клушину.
Письмо это не было отдано тому, кому оно писано” [30].
Не сохранилось ничего и из бумаг его, о которых говорено выше, но которых я лично никогда не видал у нас в Петербурге, как не слыхал о них и в Киеве. Может быть, они и были в свое время в Панине, но при переезде семьи в 1863 году в Киев, если еще не раньше, упразднились. В деревне в хозяйстве бумаге больше применение.
Письмо ясно отражает большую угнетенность, придавленность.
Писано оно за три-четыре месяца до смерти. Заканчивается оно не без искательства приведенными строками державинской “Фелицы”. Ими же, через двадцать восемь лет, писатель заканчивает свой рассказ “Пигмей” [31], фабулу которого, может быть, слышал от своего отца. Едва ли здесь только слепая случайность.
Итак, первенец служит, второй сын преуспевает в гимназии, крестник сановника заучился грамоте, четвертый побрыкивает, а их отец, в тоске от бездеятельности, глохнет и опускается выброшенным из поглощавшей его кипучей деятельности. Приложить себя не к чему. Все в прошлом. Беспросветная тоска! Не спасает ни Флакк ни Ювенал, ни малодушные уступки общеизвестным слабостям человеческим… Жизни нет. Она должна скоро оборваться. Холера вносит во все последнюю поправку.
Николая Семеновича при смерти отца в Панине не было. О всех ее подробностях он слышал рассказы матери, братьев, слуг… Драму последних лет отца он представлял себе яснее, а со временем и глубже многих в семье.
Проходят десятки лет. Лесков начинает, и на первых же главах бросает, роман “Незаметный след”. В нем как будто намечалось повествование о судьбе юноши, в которого его отцом заронены семена опасных исканий, неудовлетворенности, “фантазироватости”, словом — будущего “человека без направления”, не подчиняющегося слепо чужим доктринам. В отце юноши взяты кое-какие черты Семена Дмитриевича. Бытовое в очень многом совершенно несхоже с событиями, происходившими в жизни отца Николая Семеновича, особенно в отношении его женитьбы. Но кое-что, по воле автора романа, сближается, а местами творчески и призанимается им почти из действительности. Такие, взятые из собственных воспоминаний, частности биографически ценны. Не воспользоваться ими было бы ошибкой.
В канун своей смерти, мрачно настроенный, отец героя поручает явно апокрифичному дьякону Флавиану будущих своих сирот:
“ — И… отдай их куда знаешь… в портные, в кузнецы… в сапожники…
— Ну вот еще, что заговорил… Для чего это “в сапожники”? Чтобы каждому к ногам сгибаться да мерки снимать…
— Все равно… нельзя не согнуться…
— Ты покушай и ляг, и не думай о том, что было. Все пойдет по-новому.
— Знаешь, в каком случае возможно, чтобы что-нибудь пошло наново?.. Это возможно тогда, если… меня не будет более на свете.
— Вот тебе и раз!
— Поверь мне, поверь: я все испортил… такой был характер.
— И хороший характер.
— Ничего нет хорошего. С таким характером надо было жить одному”.
Грибы, якобы собранные дьяконом, были изжарены и съедены. Ночью — холера и смерть.
“Все бегали и суетились, отца то терли, то поднимали на кресло, то опять клали на диван. Он говорил только одно слово:
— Пожалуйста, пожалуйста!
Когда его поднимали, он просил: “пожалуйста”… Его клали—он опять повторял то же “пожалуйста”.
Лицо отца было страшно и точно все покрыто прилипшею к нему черною вуалью. Отец стонет и все повторяет: “Пожалуйста, пожалуйста!” — и через час эти крики затихли: его уже не было. Он умер утром на заре.
Это была холера, первою жертвой которой лег мой отец.
Он расстался с жизнью скоро и неожиданно, но… как-будто сам того желал.
Отца похоронили в простом деревянном гробе, который сделали наши мужики; но большие имущественные недостатки и тут дали себя чувствовать. У нас не было даже столько досок, чтобы можно было сколотить простой гроб с голубцом, а крестьяне находили, что для помещика необходим голубец, то есть крышка не из одной, а из трех досок. В дело вмешался дьякон Флавиан, у которого, между прочим, были в запасе и доски. Гроб сделали с голубцом”.
Дальше шло вперемежку: и совсем не панинское и совсем лесковское. Говорилось, что в свое время покойного искали “вытолкать из дворянской среды”, как “человека без направления”, что сам он “хотел быть похоронен как простой крестьянин” и что он как-то говорил, что у его старшего сына “превосходное сердце, над которым рано пролетает голубь и снизу проползает змей, и оба они оставляют незаметный след. Если бог его сохранит, то он проживет недаром” [32].
Это уже чистой воды сам Лесков последнего своего десятилетия. Он уже на словах и в письмах учит “зарыть дрянь”, как только станет несомненной смерть: в “посмертной просьбе” заповедует нищенски хоронить его, “по последнему разряду”.
В приведенных выдержках из романа вымысел охотно уступает место памяти, живым рассказам очевидцев смерти и собственным воспоминаниям об ипохондрии и мизантропии отца в период безрадостного панинского завершения незадавшейся жизни.
Описание отвечает разновременно слышанному лично мною.
Поправка одна — устраняющая дьякона Флавиана. По словам моего отца, в канун смерти дед, как всегда, хандрил и вечерком, по обыкновению, пошел побродить в одиночку, а вернувшись, передал жене своей большой карманный платок, полный набранных на прогулке грибов, прося зажарить ему их на ужин в сметанке. Остальное не вызывает изменений.
В частности, о “грибках” и холере. Беллетристу они не раз пригодились как хороший, из жизни взятый аксессуар. Трагическая мценская героиня избавляется от ненавистного свекра, угостив его за ужином грибками со страшным белым порошком [33]; в Киеве “распочалась в городе холера” с того, что старик Долинский покушал, на этот раз для вариации, дынь-дубовок [34]; безнаказанно покушал на ночь грибков “в сметане” и знаменитый Оноприй Опанасович Перегуд — уже в заключительном, можно сказать, творении Лескова [35]. Так случай, связанный с тяжелым воспоминанием о потере отца, не раз служит писателю в его работе.
Поражало меня, как бедны были вообще воспоминания о деде, как малоохотно отвечали мне почти все мои родные на казавшиеся им докучными расспросы мои, например, о его смерти.
Создавалось впечатление, что он оставил действительно “незаметный след”, слишком быстро заметенный в памяти вдовы и почти всех детей.
О менее близких родных и говорить нечего: смерть его упрощала отношения, устраняла средостение, сближала богатых и влиятельных с малоимущею, одного с ними духа, воспитания и влечений, многодетной вдовой. Все почувствовали облегчение. Ушел мешавший. Оставшиеся охотнее и легче шли на помощь. В итоге — не потеря, а облегчение и удобство. Грустно, но так.
Теплее и короче ли были отношения между покойным и его первенцем? Убедительных показаний в ту или другую сторону нет. Много ли они были вместе, чтобы хорошо свыкнуться, сжиться? Детство почти все старший сын в Горохове. После двух лет в Панине — гимназия в Орле. Дальше — служба там же, вплоть до самой отцовской кончины. Все порознь. Судьбою предопределенная, а позже и натурой избранная, центробежность первородного.
Остальные слишком малолетни. Несомненное одиночество, хотя и была семья. Так и шел Семен Дмитриевич в тени и незначительности в родстве, как, пожалуй, и в собственной семье, не без уколов самолюбию, в горечи сознания, что, отвергая некоторые сделки с своей натурой и взглядами, ничего не благоустроил жене и детям.
Читая, порою очень автобиографичные, очерки или письма Лескова, в которых упоминается или подразумевается его отец, необходимо помнить, что он, несомненно, был во многом проще, чем подчас изображался сыном-писателем.
В отношении же обрисовки черт матери, напротив, подлинная быль почти всегда свободна от воздействия на нее мотивов творческого порядка и, благодаря этому, ближе к жизни.
Что делать, беллетристическое творчество неохотно мирится с серенькой действительностью и склонно обогащать создаваемые им образы, положения и картины.
Скончался Семен Дмитриевич в июле 1848 года в Панине. Погребен на Добрынском погосте.
Похоронили ли его в одном белье, подпоясанного крестьянским пояском и в простых лаптях, как якобы он “желал”, или одетым по-господски, в гробу ли “с голубцом” или с одной прямой верхней доской — не все ли равно?
Через полтора десятка лет Панино продали, все перебрались в Киев, ходить на могилу стало некому. Заглох к ней след, замерла и память.
ГЛАВА 3. МАТЬ
Мария Петровна, по родству, была человеком совсем иного, чем ее муж, круга, а с тем и во всем других взглядов, вкусов, привычек, влечений.
Родилась она 18 февраля 1813 года в Орле. Происходила из рода Алферьевых, орловской же породы, служивших на средних должностях в московском Сенате и других учреждениях первопрестольной.
Отец и мать ее, потеряв при пожаре Москвы 1812 года все, находившееся там, достояние свое, к отроческим ее годам жили в селе Горохове у Страховых.
Воспитана она была в обычном дворянском стиле: музицировала, говорила по-французски, умела держать себя в обществе, вести в гостиной легкую светскую беседу, вставить к месту острое русское словцо или красивое иноземное выражение, рукодельничала, знала хозяйство. В итоге все, что требовалось тогда для выхода замуж, было налицо, кроме самого главного — приданого. А без пего виды на “хорошую партию” были слабы. Не было и видного, чиновного или общественного, положения, у отца, не хватало и красоты, покрывавшей в добрый час все нехватки. Оставалась одна цветущая юность с сопровождающей ее часто миловидностью. Не велико богатство.
А засиживаться у родителей, занимавших в семье богатого “полупомешанного” зятя далеко не полноценное положение, не приходилось.
Однажды Лесков писал, что его мать — “чистокровная аристократка влюбилась” в его отца — “дремучего семинариста” [36].
Тургеневский герой в рассказе “Три портрета” утверждал, что в его время “таких роскошей не водилось”.
Две сестры были уже пристроены. Посватался к третьей не совсем неимущий и небесчиновный уже Лесков — ее и благословили: слава создателю, и последняя сошла с рук, пристроена! Чего спокойнее. Девице-то ведь все семнадцать!
Словом, все шло более чем просто: по всем преданьям старины, по воле родительской и жизненной необходимости.
Марья Петровна была женщина большой воли, трезвого ума, крепких жизненных навыков, чуждая сентиментальностей и филантропии, властного нрава. По определению сына-писателя — “характера — скорого и нетерпеливого” [37]. Несмотря на большую разницу лет между супругами, домом и всем хозяйством правила она. Резко отличалась от своего, в панинские годы, чудившего мужа, была всесторонне деловита и практична, радея о насущном и не возносясь выспрь.
После вполне благополучных условий существования в Орле в своем, пусть и нехитром, доме и при заседательском окладе, получавшемся Семеном Дмитриевичем, жизнь, с неудержимо росшей семьей, без всякого приработка со стороны мужа, была трудна. Помощи его не было и в полевом хозяйстве. Первенство во всем перешло к ней. Год от года отец, по словам старшего сына, все больше “глох”.
Панинские крестьяне, считая, что их “панок не лют”, о властительнице своей думали иначе. Того же мнения держались и ее сестры и вообще все во всем родстве.
Отношения с первенцем, всех больше, по убеждению многих, перенявшим некоторые черты: матери, не были теплы. Что-то по отношению к родительнице у него “в печенях засело”.
Это давало, поражавшие неожиданностью, отзвуке в его раннем писательстве.
Описав, как жена “Митрия Семеныча” ударила раз самую любимую свою дочурку Машу рукой, поставила ее в угол, загородила тяжелым креслом, пообещав потом высечь розгой, а вечером, уже в постели, и высекла, автор говорил:
“У нас от самого Бобова до Липихина матери одна перед другой хвалились, кто своих детей хладнокровнее сечет, и сечь на сон грядущий считалось высоким педагогическим приемом. Ребенок должен был прочесть свои вечерние молитвы, потом его раздевали, клали в кроватку и там секли… Прощение только допускалось в незначительных случаях, и то ребенок, приговоренный отцом или матерью к телесному наказанию розгами, без счета должен был валяться в ногах, просить пощады, а потом нюхать розгу и при всех ее целовать. Дети маленького возраста обыкновенно не соглашаются целовать розги, а только с летами и с образованием входят в сознание необходимости лобызать прутья, припасенные на их тело. Маша была еще мала; чувство у нее преобладало над расчетом, и ее высекли, и она долго за полночь все жалостно всхлипывала во сне и, судорожно вздрагивая, жалась к стенке своей кровати”.
Там же давалась как бы и общая картина нравов: “Не злая была женщина Настина барыня (жена “Митрия Семеныча”. — А. Л.), даже и жалостливая и простосердечная, а тукманку дать девке или своему родному дитяти ей было нипочем. Сызмальства у нас к этой скверности приучаются и в мужичьем быту и в дворянском. Один у другого словно перенимает. Мужик говорит: “За битого двух небитых дают”, “не бить — добра не видать”, — и колотит кулачьями; а в дворянских хоромах говорят: “учи, пока впоперек лавки укладывается, а как вдоль станет ложиться, — не выучишь”,— и порют розгами. Ну и там бьют, и там бьют. Зато и там и там одинаково дети вдоль лавок под святыми протягиваются. Солидарность есть не малая”.
И наконец вывод: “Беда у нас родиться смирным да сиротливым, — замнут, затрут тебя, и жизни не увидишь. Беда и тому, кому бог дает прямую душу да горячее сердце нетерпеливое: станут такого колотить сызмальства и доколотят до гробовой доски. Прослывешь у них грубияном да сварою, а пойдет тебе такая жизнь, что не раз, не два и не десять раз взмолишься молитвою Иова многострадального: прибери, мол, только, господи, с этого света белого! Семья семьею, а мир крещеный миром, не дойдут, так доедут; не изоймут мытьем, так возьмут катаньем” [38].
Это из нутра и сердца за свои обиды вылилось! Тут уже о чьей-то жалостливости не поминается. В прозрачности обрисовки, где и кто в таких обычаях был особенно скор и нетерпелив, — чувствуется неодолимое желание чем-то сквитать былое. Приходится признать, что вообще с детьми Марья Петровна была очень неровна. Неудавшейся, некрасивой старшей дочери Наталии, даже и при отце, жилось горше горького. Любовь щедро проливалась на красивого и одаренного, рано погибшего младшего сына Василия и на многообещавшую и красивую, в отрочестве умершую, младшую дочь Машу. “Все ей за князя прочили выйти, а она вышла за еловую домовинку”. Материнскому самолюбию первое льстило, а потеря любимицы убила. С остальными шло по-всякому.
Так, в одном из позднейших рассказов, написанных уже много позже смерти матери автора, она убедительно противопоставляется самоотверженному добросердию полуапокрифичной “тети Полли”, то есть как бы Пелагеи Дмитриевны, и еще менее достоверной англичанки Гильдегарды [39].
Но все это беллетристическое, а есть и бесспорная дневниковая запись ее любимца, Василия, человека искреннейшей души:
“Апр[ель] 1[1871 г., Петербург]. Сегодня день именин моей матери, шлю ей заочно мое душевное поздравление и искреннее желание добра и покоя в жизни. Старуха много помоталась и победствовала на своем веку и имеет права на покойную старость. Разумеется, другая на ее месте и была бы довольна своим положением, но у нее дурной характер, и в этом ее несчастие. Дай ей боже смириться душой, и она отдохнет!” [40]
За восемнадцать лет замужества Марья Петровна много рожала. Большого присмотра за детьми держать, должно быть, было некогда, да и глаз не хватало по малости дворовых. Половина ребят вымерла. Одного даже сумели как-то обварить до смерти. Дожили до полных лет шестеро — четыре сына и две дочери.
Ни в годы замужества, ни в постигшем ее на тридцать пятом году вдовстве она не искала острых личных переживаний, целиком отдаваясь заботам о муже, детях, конечно как умела, — пожалуй, так сказать, “с ухабцами и сухой колотью”. Избытка и радостей в глухой деревушке, на небольшом земельном клину, но с большой семьей, не могло быть. Была нужда, подчас крутая. А выдержала: детей, кроме одной постылой дочери, подняла и угол сберегла, не расточила.
Влиятельные и достаточные родственники поустраивали последних двух мальчиков в учебные заведения, Наталия году в 1851 ушла в монастырь. Кормиться вдвоем с дочерью Ольгой становилось легче. Старшая сестра и новый ее, благородный муж Константинов помогали. Зимы можно было проводить у них в Орле, в обширном доме, доставшемся Наталии Петровне по завещанию Страхова, у Плаутина колодца. Стали рождаться новые потребности: Ольга Семеновна была “на выданье”… За нею и сама Марья Петровна стала вовлекаться в круговорот светской жизни губернского города, где жили такие именитые и богатые родственники или свойственники, как Кологривовы, один из которых командовал всею русской гвардейской кавалерией в наполеоновские войны, “столбовые” Тиньковы, Бунины и т. д. Тянуться было нелегко, а всей душой хотелось наверстать панинское безвременье.
Старший сын и брат над этим подшучивал, но жизнь естественно текла по обычному руслу.
В воздаяние за многие заслуги второй сын, Алексей Семенович, с упрочением своего положения практического врача и общественного деятеля, в 1863 году благословил старевшую мать продать Панино и вместе с Ольгой перебраться к нему в Киев.
Так все и сделалось. В свой час сын женится на тихой и кроткой чахоточной польке Елене Францевне Лонгиновой, дочь выходит замуж и переезжает в Канев, сын теряет больную жену и после нескольких лет вдовства задумывает жениться вторично. Новая избранница сердца — состоящая во втором браке с неким М. Болотовым, по первому мужу Арцимович, Клотильда Даниловна, рожденная Гзовская, мать троих детей от второго мужа. Дома буря! Мать и сестра становятся на дыбы. К улажению разрастающихся осложнений привлекается Николай Семенович. Надо сказать, что из всех его писем к матери сбереглось почему-то одно-единственное и притом как раз именно этих трудных для Марьи Петровны дней. Привожу этот документ, рисующий отношения, существовавшие между матерью и старшим ее сыном:
“31 генв. 879 г. Спб.
Среда.
Дорогая матушка!
Когда вы получите это письмо, брат Алексей будет в дороге. Он и его спутница выезжают завтра, в четверг, 1-го февраля, в 7 часов вечера, с курьерским поездом, и, следовательно, приедут в Киев в субботу вечером. Брат довел дела до известного положения, в котором их могут докончить другие, и спешит к дому, к делам службы и к практике. Это вас должно успокоить. Он также везет гостинцы вам, Ольге и ее детям. Вообще он о всех вас помнит. — По вопросу о житье вашем, как вчера писано, я сегодня имел с ним разговор, результат которого можно считать удовлетворительным, если вы будете готовы принять условия (от оценки коих я отказываюсь). Алексей пожелал прочесть ваше последнее письмо ко мне. А я, не видя в этом письме ничего неудобного, — напротив, встречая в нем выражения любви вашей к нему, — не счел нужным отказать ему в этой просьбе. Это и дало мне повод переговорить о вашем желании остаться в Киеве. Я, конечно, не скрыл, что я советую вам уехать, и советую это именно ввиду прежних неладов ваших с его нынешнею невестою. Он отвечал, что “это самое лучшее и что иначе он не может”. Тогда я предложил: нельзя ли вас устроить в маленькой келейке и оставить там в покое? Он согласен на это, но с условием, чтобы вы ничем не возмутили спокойствие его невесты и жены, — даже ни разговорами о ней с дядею или с прислугою. Я отвечал, что такие условия невозможны, потому что мало ли на свете вестовщиков и сплетников, которые могут сказать, что мать сказала то или другое, и тогда сейчас с нее начнется взыск. Это не в порядке вещей, и в этом тоне я не считаю даже возможным продолжать переговор и, для спокойствия общего и для достоинства матери, желал бы, чтобы она не согласилась подвергаться всяким случайностям, а уехала бы к сестре Ольге. Он сказал, что это и для него наилучшее, но что вы не уедете. За сим я, признаюсь, более уже ничего не понимаю и должен умолкнуть. “Потроха” все сразу, по его мнению, не надо брать. Конечно, можете их брать, можете и оставить до апреля. В апреле, он полагает, что вы приедете повидаться, на время, — и тогда заберете “потроха”. Просить вас остаться он решительно не хочет, а если вы будете проситься оставить вас, то вам будут предложены сказанные зависимые и, по-моему, совершенно невозможные условия. Однако, согласясь на них, вы еще можете остаться в Киеве, если это вам так нужно и дорого. Все это в воле вашей, но моего совета на это нет, и добра я вам от этого предсказать не решусь. Я бы на вашем месте ни за что на это не согласился, но вы поступите по усмотрению своему. Может быть, я и ошибаюсь. Брат уезжает в прекрасном, веселом расположении духа, и вы хорошо сделаете, если не встретите его с лицом недовольным. Все, чего вы не желали, уже совершилось, и переделать этого нельзя. Нечего уже теперь ныть и ворковать, а надо бодро смотреть вперед и научить свою скорбь быть гордою. О любви своей к нему лишнего не говорите. Какая же мать не любит сына, да еще такого хорошего, как Алексей? Что же он, в самом деле, Сергей Петрович, что ли, который всего матери жалел и выбросил ее из дома без всякой причины. Он берег вас и сестру выдал замуж братски. Что же его не любить? Вы хорошая мать, но такого сына и дурная мать любила бы. Зачем же об этом говорить? Расстаньтесь как можно более спокойно и смирно. Это все, что может вам желать лучший друг ваш. Остальное покажет время, которое бывает изобретательнее нас.
Преданный вам сын Николай.” [41]
По общесемейному решению, Марья Петровна два года проводит у Ольги Семеновны в Каневе.
К счастью, она не знала, что уже после ее переезда в Канев к Ольге Семеновне, когда развод Клотильды Даниловны еще едва двигался, Николай Семенович писал брату Алексею:
“Твоя первая жена, милая Ленушка, вносила что-то новое, свежее, живое и деликатное, но вся ее дорога была от печи до порога, а дом опять похвился скукою и себялюбием. Теперь снова человек добрый и, кажется, более здоровый и даже более опытный, чем Лена. Дай же бог чего-нибудь живого, простого, сердечного и горячего; дай бог нежную женщину в этот круг, где так велик и так мучителен недостаток этого свойства. Горе и всеобщая беда с кучерами в юбках, а иx так много, так много, что и сказать страшно” [42].
Время целит казавшиеся незаживляемыми раны, указывает, что они не были так глубоки, как это представлялось сгоряча. Осенью 1881 года старуха, с исполненным счастия сердцем, возвращается под сень сыновнего дома, где, вполне окрепшая в своем положении, жена его встречает ее с полным радушием и окружает такой заботой, что через несколько месяцев Марья Петровна пишет в Петербург:
“Как Клетя, так и Алексей очень ко мне внимательны, а первая заботится, как о ребенке… да, Николай, все высказанное тобой о Клете истинно, женщин каких мало, она вся в добре и желании угодить каждому; как она заботится о брате моем, как снисходительна к его резкостям, так себе иногда проскакивающим, зато же чтит он ее, любит, высказал мне, что так благодарен ей и Алексею, что покоят его и он всегда в родной семье, а теперь к довершению и я вместе, чего он так сердечно желал; нас, говорит, сердце мое, осталось только двое” [43].
Мать примиряется с невесткой, побежденная ее добротой, Ольга Семеновна сохраняет непримиримость. Сдались, выходит, не все “кучера в юбках”.
Возвращаюсь к приведенному мною письму моего отца к его матери. Много ли в нем тепла н сердечности? Судя по массе находящихся у меня писем Марьи Петровны к старшему сыну, от его писем всегда тянуло холодком. Зачастую ей выпадало читать жестковатые наставления и даже желчные указания. Детской радостью дышат ее письма к нему в ответ на сколько-нибудь приветливое и неукорительное слово “сурьезного человека”.
Можно себе представить, каким праздником было для нее хотя раз в жизни почитать в столичном журнале во всяком случае лестные для себя, почти похвальные строки:
“А на ту пору прошел “холерный год” и произвел в приходском дворянстве сильное опустошение, “в господском звании весь мужской пол побывшился”. Первый скончался мой покойный батюшка, а за ним переселились в вечность предводитель Иванов и “беспортошный” Илья Иванович. Имения остались без мужчин, и началось “бабье царство”, при котором дошло до того, что мою матушку (благодаря бога поныне здравствующую) прихожане раз избрали “старостихою”, т. е. распорядительницею и казначеею при поправке нашей добрынской церкви.
Выбирать к таким делам женщин совсем не в порядке, но так люди захотели, так и сделали. Не зная хорошо законов, сказали просто:
— Либо нехай Лесчиха справляет, либо ничего не дадим. Пусть воробьи не то что в окна летают, а хоть на головы попам сядут”[44].
Такие полномочия и доверие в сороковых годах прошлого столетия у нас, несомненно, редко оказывались женщине, разве уж очень толковой и надежной.
Сам я видел мою бабку много раз, проводя летние вакации в Киеве, Каневе, вообще на Украине. Последний год ее жизни, зиму 1885/86 года я, по неожиданному решению моего отца, которому будет оказано внимание в одной из дальних глав, прожил в Киеве. Мне было девятнадцать лет, бабушке близился семьдесят третий. Была старость без дряхлости, трезвость мысли без равнодушия, суд о казавшемся несправедливым — не без гнева. Некоторым действам своего первенца она выносила приговоры, не уступавшие в своей выразительности его былым определениям о “кучерах в юбках”. Николаю Семеновичу иногда что-то не нравилось в ее поздних письмах, и он, не без раздражения, делился этим недовольством с братом: “мать кое-что сообщает (Крохиным. — А. Л.), но, по обыкновению ее, растворяя содержание во множестве слов, затемняющих простой смысл сказания” [45].
Все имеет свой черед, и, по общему закону естества, приходит последнее и неизбежное в жизни каждого смертного: 16 апреля 1886 года Марья Петровна умирает в своем уютном флигельке, до последнего вздоха во всем обслуженная и досмотренная сыном и всех больше его женой Клотильдой.
Ход событий, распределение ролей и высказанные умозрения определяются перепиской Петербурга с Киевом.
28 марта Алексей Семенович пишет Николаю Семеновичу. Последний отчеркивает синим карандашом слова, приводимые здесь курсивом, а наверху пишет чернилами: “Получ. 1 апреля 86. вечером”.
“Мать получила сегодня твое письмо, любезный брат, и поручила мне поблагодарить тебя за память. Сама она не может писать, потому что лежит в постели. — Она, вообще, более месяца как стала очень плоха, потеряла всякий аппетит, почти ничего не ест, и желудок отказывается работать. С неделю тому назад она немного лишне выпила (?) (вопрос Николая Семеновича. — А. Л.), и у нее образовался острый катар желудка, с поносом и рвотою, которые в один день обессилили ее до того, что она слегла в постель, и хотя эти явления, слава богу, успокоились, но потеря сил настолько велика, что она вот уже трое суток как не в состоянии оставить постели. Сегодня утром, по ее желанию, пригласили домой священника (она еще не говела этим постом), и она встала, оделась, посидела часа два на диване, но вслед за тем разделась и опять улеглась, говоря, что очень устала и, может быть, заснет. — Состояние ее здоровья вообще плохо, хотя и нет никаких видимых явлений, указывавших бы на скорое банкротство жизненных сил, но 73 года, образ жизни, потеря аппетита, упадок сил — все это плохие предзнаменования, так что нельзя ни за что поручиться” [46].
На два дня позже Алексея Семеновича больная находит в себе силы написать открыточку дочери: “Дорогая моя Оличька, будь на мой счет покойна, надейся на бога и что ему угодно будет со мной, я понемногу обмогаюсь, усмотрена решительно всеми как родная, одну не оставляют скучать, так будь же покойна. Благославляю вас мать М. Лескова. 30 марта” [47].
14 апреля встревоженная дочь выезжает в Киев, а 15-го Николай Семенович пишет брату:
“Ольга уехала к вам вчера и, значит, теперь у тебя. Известие о матери, вероятно, роковое. — 73 года, по-моему, возраст большой, особенно для женщины, и силы организма, конечно, должны быть слабы. Только “аще в силах” (т. е. очень здоров) можно жить 80 лет, но и то уже “не жизнь, а труждание и болезнь”. Тем не менее в семье это момент острый и жгучий. Ты соблюл свою роль на земле удивительно полно и хорошо, и тебе по обетованию должен быть заслуженный “венец правды”… Поехать в Киев не могу по нездоровью и по другим некоторым причинам. Матери главнейшее, конечно, видеть тебя, который о ней всех более пекся, и Ольгу, которую она наиболее любила и с которою имела более общего. Думаю, что мой приезд, так сказать, не имел бы никакого значения для больной, а притом я и болен. — 10 дней я положил костыли, а 2-х часов возобновленных болей в стопе вполне достаточно, чтобы я сел недвижимо. Вчера, провожая Ольгу, я постоял на мокрой каменной террасе и сегодня опять нездоров… Ольге скажи, что в П[етер]бурге с отбытия ее больших перемен еще не случилось…” [48]
Опасения оправдались — мать скончалась. Николай Семенович пишет:
“17 апр. 86. Четверг.
Спб. Сергиевская 56, 4.
Любезный брат Алексей Семенович!
Вчера, в 9 час. вечера получена у Крохина твоя депеша, посланная 16-го апр. в 2 ч. 20 минут. Мать, родившая и воскормившая нас грудью, во гробе… Течение жизни ее было не кратко и, как все земное, должно было иметь свое окончание, но тем не менее на душе томно и остро… Из всех ты один сделал все для ее спокойствия и соблюл любовь свою до конца, и за то тебе должно быть всех легче. Прекрасные свойства твоей верной души не только заставляют уважать и любить тебя, но они высоко умиляют, трогают и даже заставляют тебе удивляться. Ты все понес и все донес до конца превосходно. Тебе поистине принадлежит уважение всякой души, способной понимать величие простых, но величавых в своей простоте поступков. Большою бы радостию было, если бы ты был примером для всех, кто видел и знал все твои сыновние отношения к усопшей матери. Ты редкий сын н редкий человек. — Затем душа требует воздать должное твоей жене и благодарить ее. Нет никакого дела до того, что порою могло быть в ее сердце. Их счеты слишком спутаны и перемешаны. Сердцу приказывать нельзя, но все поступки Клотильды Даниловны были не только безукоризненны, но даже прекрасны. Она не останавливалась на том, что только должно, но смело переходила за черту должного и совершала дела, которые может совершать одна любовь, и любовь истинная и самоотверженная. Если не все это делалось из благодарности, а только по желанию облегчить страдания лица, с которым были и недоразумения и явные несогласия, то поступки эти тем многоценнее, тем реже и тем более должны внушать почтения к хорошим свойствам ее сердца. “Жизнь пережить не поле перейти” — многое наговоришь, а подчас и сделаешь такого, чего бы не одобрил спокойный разум и совесть, но блажен тот, кто умеет побеждать в себе зло добром и повести себя так, как вела себя по отношению к нашей матери Клотильда Даниловна. — Как сын усопшей, я с чувством искреннейшей благодарности кланяюсь твоей жене до сырой земли и целую ее руку. Если ею управляют даже одни навыки, то мы обязаны восхвалить их силу и значение в жизни. Она этими навыками облегчила многое суровое и грубое в родстве нашем. Она […]с поражающей выдержкою соблюла мать до последнего ее вздоха. Да помянет это ей всегда св[ятое] провидение и суд людей добрых и справедливых…” [49]
ГЛАВА 4. БЛИЖНИЕ
Пытливо доискиваясь, сочетание каких условий дало любезного его сердцу писателя, Горький перебирал: “Дед Лескова был священник, бабушка — купчиха, отец — чиновник, мать — дворянка; таким образом, писатель объединил в себе кровь четырех сословий, но очень вероятно, что наиболее глубокое влияние оказал на него человек пятого сословия — солдатка-нянька, крепостная” и т. д. [50]
Об отце и матери говорено уже в меру знаемого. Никогда не забывая о своем изгнании из родительского дома, Семен Дмитриевич не видел большого удовольствия распространяться о своем жестокосердом отце. Не удивительно, что о деде писателя не сбереглось и пространных воспоминаний.
Прожив жизнь в служилой среде и женившись на девушке дворянского круга и воспитания, Семен Лесков совершенно отошел ото всего, с семинарии ненавистного ему “священнослужительского”.
Новое, жизненно-лучшее заслоняло и отодвигало старое, худшее: карачевское отходило в даль времен и полуапокрифических преданий, не вызывая сожалений о себе. На смену выступали: высшая культура, лучший бытовой уклад нового родства, более счастливые и выигрышные правовые и материальные условия последнего.
Естественно, что в орловско-киевских Лесковых, начиная с самого писателя, жило уже больше алферьевского, чем старолесковского. Дед по отцовской линии в их представлении не жил. О нем никто не говорил, его никто не вспоминал. Не позабыли, а просто не знали.
Когда я, в отроческие годы, пытался узнать о нем что-нибудь, отец мой, старший из детей Семена Дмитриевича, шутливо отвечал: “Умен был крутопоп Дмитрий, чего и тебе желаю!” И только.
Все карачевское отмирало, погружалось в забвение. Никто, например, не исключая и Николая Семеновича, не был уверен, в каком именно уезде стояло, давшее всему роду имя село Лески.
Бабки по отцу точно и вовсе не было. Даже имя ее не сбереглось.
Из всех былых аборигенов села Лески в живых оставалась уже одна вдова Пелагея Дмитриевна, связи с которой у Семена Дмитриевича в семинарские его годы сложиться было некогда, а по возвращении его с Кавказа создаваться было поздно.
В резко “обновленном” родстве брата ей было неприютно. Жизнь ее смолоду шла от него стороною. Сказания о ней ее знаменитого племянника сильно беллетризованы; смело усложнены они и портретно. В панинские годы, мальчиком, он мог иногда ее видеть и слышать любопытные рассказы ее о трубчевско-карачевских былях. Определенного положения в алферьевско-страховском свойстве брата она не заняла. Выпавшая ей на долю, сызначала незадавшаяся, жизнь содействовала тому, что ее стали называть “проказницею”. Все три сестры Алферьевы были другого закала и проказниц не жаловали. К киевским временам она уже совсем сошла с горизонта, и речей о ней я в свои побывки в Киеве не слыхивал. Не вспоминал о ней в разговорах со мной и мой отец, нескупо отведший, однако, ей кое-где не слишком бесспорные роли и позиции в своих произведениях [51].
* * *
Другую картину образов и воспоминаний дают отношения с дедом и бабкой с материнской стороны.
О деде, Петре Сергеевиче Алферьеве, Лесков говорит как о человеке энергичном, развитом, умном и по-своему “в духе времени” добром. Охотно упоминаются и братья его, двоюродные деды и писателя — Василии Сергеевич, “ученый”, и Иван Сергеевич — служивший в московском Сенате.
Вовлеченность этих людей в литературные интересы косвенно подтверждается одним из писем Лескова к Суворину: “Покорно вас благодарю за экземпляры “Горе от ума”. Они очень, очень изящны. Статья ваша живая и чуткая. Гарусовским списком, думается, вы, однако, напрасно пренебрегаете. Некто Алферьев в Москве имел тетрадь, где “Горе от ума” было списано его рукою, а на ней, — не знаю, по какому случаю, — была грибоедовскою рукою сделана надпись: “Верно — Грибоедов”, и стояло какое-то число. Тетрадь эта долго жила у нас в семье, и я по ней впервые выучил “Горе от ума”, на котором было написано автором “верно”. И то было вполне схоже с Гарусовым” [52].
Сам Петр Сергеевич тоже служил, не в больших чинах, в московском Сенате, имея за женой дом с садом и угодьями где-то на Новинском бульваре. Семья жила в хорошем достатке. При развертывании успехов наполеоновских полчищ он был командирован в Казань для отвоза туда сенатского архива. Перед отъездом он зарыл в землю все серебро, ценности и документы, наказав жене не мешкая собираться и, оставив дом на верных людей, ехать с детьми в родную ему Орловщину.
В Москве, по определению Лескова, “ершился, метался, прядал во все стороны” пресловутый Ф. В. Ростопчин [53].
Благодушнейшая Акилина Васильевна, как и многие другие, доверилась “ерницким”, успокоительным ростопчинским “афишам” и засиделась чуть не до вступления французов в город. С чрезвычайным трудом раздобыв какой-то возок, она едва вырвалась из покидавшейся уже всеми Москвы.
Прибежавшие в Орел Алферьевы приютились у каких-то своих прежних друзей. Будущее особенно не тревожило: если московский дом даже и сгорит — есть место, на котором можно вновь отстроиться и, выкопав хорошо схороненные ценности, снова зажить по-старому в освобожденной от двунадесяти язык первопрестольной.
Вышло не так. Возвратившийся из Казани с сенатским архивом Петр Сергеевич не сумел не только разыскать закопанное достояние свое, но даже определить межи своего участка и, за утратой всех документов, доказать свои права на него. Огонь начисто сровнял целые кварталы. Все было потеряно. Жить с большой семьей в Москве на сенатское жалование без собственного дома и всего былого достатка нечего было и думать. Семье возвращаться стало не к чему. Приходилось всем осесть в Орле. Он подал в отставку и приехал в Орел.
Здесь, в когда-то родном городе, выпало испить горькую чашу безземельных и бездомных обнищеванцев. Жили трудно. Муж где-то скромно служил, жена, с подручными женщинами, прирабатывала шитьем и рукоделием. Дочери, подрастая в нужде, как умели помогали матери в мелких поделках.
Так шло лет шесть. Потом подвернулось предложение прежнего знакомого, по оценке Николая Семеновича, “полупомешанного”, богатого и видного помещика М. А. Страхова, владельца села Горохова, управлять его имениями. Переехали и поселились в богатой усадьбе, но, конечно, в скромном управительском флигельке. А через несколько лет, когда старшей дочери, Наталии Петровне, фактически не хватало полных пятнадцати лет, этот пятидесятилетний холостяк, ровесник ее отца, возжелал на ней жениться. Отказа “благодетелю” быть не могло. Тут уже, в 1824 году, Алферьевы, в качестве родни хозяина, перебрались из своего флигелька в просторный “господский” дом.
Гороховская деятельность деда отмечена, между прочим, любопытной борьбой его с заклинателями, наговорщиками, “пережинами”, “заломами” и вообще со всеми видами мракобесия, описанными впоследствии его внуком [54].
Петр Сергеевич бесспорно был человеком ясного ума, прекрасных способностей, большого жизненного опыта, изрядной образованности, ненавидевший невежество и суеверие в народе и еще больше в дворянско-помещичьей среде. Своему единственному сыну он позаботился дать такое образование, какого не дал своим детям никто другой во всем родстве, обладая несравненно лучшими материальными средствами и принадлежа даже к более поздним поколениям.
Умер он в Горохове около 1840 года, лет на пять позже “благодетеля” Страхова. Погребен на местном приходском кладбище села Добрыни, получившем свое место в произведениях Лескова [55]. Не забывал внук помянуть деда и в печати [56].
* * *
Бабка Акилина родилась в 1790 году в Москве в весьма достаточной купеческой семье Колобовых.
По утверждению внука-беллетриста, она была взята “в дворянский” род “не за богатство, а за красоту”, причем “лучшее ее свойство было — душевная красота и светлый разум, в котором всегда сохранялся простонародный склад. Войдя в дворянский круг, она уступив многим его требованиям и даже позволила звать себя Александрой Васильевной, тогда как. ее настоящее имя было Акилина [57].
На самом деле о красоте ее в родстве никто другой не говорил. Была статность, рост, беспретензионная пригожесть. “Черт” в добродушном простоватом лице не было.
С именем дело шло тоже иначе: это была пожизненная ее драма. Ко времени разрешения ее матери от бремени отца не случилось в Москве. Приходский священник, не то в отместку за что-то ее отцу, не то по неодолимому упрямству, невзирая на все мольбы роженицы, “нарек” младенца не Александрой, как было заказано, на случай рождения девочки, отцом, а “по святцам”, — какая святая пришлась в день рождения ребенка. Вернувшийся вскоре Колобов пришел в ярость. Он слышать не мог неблагозвучного имени новорожденной, видя в нем поругание своей купеческой именитости и избыточности. Бросился к архиерею — тщетно! Тогда он строго-настрого приказал всем в доме облагороженно называть девочку Александрой, раз навсегда забыв оскорблявшую его “Акилину”. Тайна эта соблюдалась всеми, и особенно ревниво хранила ее сама не любившая своего крестного имени бабушка. Каково же было удивление всех предстоявших на панихидах по ней, когда священник возгласил “вечную память болярине Акилине”!
Кстати уж и о дворянстве рода, в который “была взята” усопшая. Я уже отмечал, что первые десятилетия писательства Лесков в автобиографических заметках, повестях и даже письмах не упускал упоминать о дворянстве всего своего родства и о собственном. Мы уже знаем, что Щебальскому он писал, что его мать была “чистокровная аристократка”. С годами и в этой области возобладал демократизм и скепсис. Однако, пока живы были мать и старшие родичи, ему приходилось сдерживаться. Год за годом все они “побывшились”, вымерли. И вот в “заметке о родовых прозвищах”, характерной уже по одному своему заглавию — “Геральдический туман”, предпринимается поход против обуявшего многих поветрия кичливости происхождения и стремления многих “выскочек” и “прибыльщиков” непременно “сочинять себе небывалые роды”. Дошел тут черед и до “разночинцев”, а с тем беспощадно развенчивалось и все алферьевское дворянство.
“Как не анекдот в этом роде, — писал автор, — укажу на довольно распространенную в России фамилию, звук которой таков, что все слышат в ней нерусское происхождение и даже прямо чувствуют в ней происхождение итальянское. Эта фамилия, о которой я говорю, есть Алферьевы. Их очень много везде… Канцелярия старого московского Сената считала одно время у себя “целое племя” Алферьевых… Было по Москве много еще и других Алферьевых, и все они были не старые родовитые дворяне, а из чиновников и отчасти из “колокольных дворян”, т[о] е[сть] из духовенства… Между линиями же Алферьевых один московский отводок отличался образованностью и другими хорошими качествами, и тут были усвоены уже некоторые приемы родовитой знати. Эти Алферьевы (тоже не дворяне) были по мужской линии Сергеи и Иваны… Один из них, Василий Сергеевич, печатавший стихи и посвящавший их своей “Гурлиньке”, слыл даже за очень ученого, каковым, впрочем, кажется, не был…
Учеными московскими изысканиями род Алферьевых был произведен от “знаменитого итальянца Альфиери…”
Моя матушка происходила из этого рода Алферьевых, и мы с детства привыкли знать, что “Алферьевы итальянского происхождения”. О дяде моем, недавно скончавшемся профессоре Киевского университета, С. П. Алферьеве, который был смолоду недурен собою, так и говорили, что в нем “видна тонкая итальянская порода” (он имел мелкие черты ярославского типа) …Случилось мне раз в уездном городке… Городище встретить на оконной ставне надпись: “портновó Алферьев”, и тут я получил вразумление”.
Последовавший затем диалог между Лесковым и обладателем вывески привел к тому, что фамилию этому “портново” дал поп, окрестив его отца Алфером, откуда, мол, пошли “Алферов двор”, а с тем и Алферьевы.
От прославленного драматурга графа Витторио Альфиери ничего и не осталось: есть в святцах девять Еливфериев, по-мужичьи — Алферов. Чего тут еще доискиваться!
Писатель не знал, что отец его матери даже и службой не успел приобрести потомственное дворянство и пожизненно числился происходившим “из обер-офицерских детей” [58], как именовались тогда чиновники, не дослужившиеся до спасительного “асессорства”, дававшего в те времена дворянство.
В чванливых разветвлениях страховской породы многие, разговаривая с Акилиной Васильевною, улыбались, а то и морщились, когда она говорила “ехтот”, “лыгенда” или “мораль”, понимая второе слово как “переделку в народном духе”, а последнее — оскорбительным.
До “ста годочков”, подаренных ей внуком, она не дожила почти тридцати лет, скончавшись около 1860 года на Орловщине у старшей своей дочери, Наталии Петровны, в ее имении Денисово.
Беспощадный в своих отзывах в печати о тех, “иже по плоти”, Лесков о бабке не говорил и не писал иначе, как с умилением. Память о ней для него была “веселою старою сказкой”, которой всегда ласково улыбалось сердце”…
Но, сколь это ни ценно, было тут и нечто еще большего значения.
Горький сказал о Лескове: “Он прекрасно чувствовал то неуловимое, что называется “душой народа” [59].
Душу народа первая раскрыла, дала верно почувствовать Лескову Акилина Колобова.
* * *
Старшая сестра матери писателя, а его тетка, Наталья Петровна Алферьева родилась 9 августа 1809 года в Москве. Почти подростком пришлось ей познать сладость супружества с “полупомешанным”, старевшим уже, “благодетелем” ее семьи Страховым.
Владелец поместья, в котором развертываются события рассказа “Зверь”, конечно, не во всем схож с этим “дядей” автора, но несомненно кое-что тут занято и у него: “Он был очень богат, стар и жесток. В характере его преобладала злобность и неумолимость”. О прекрасном духовном преображении его в горячего доброхота в семейных преданиях слышно не было. Умер таким, каким жил.
Освободительное вдовство пришло к молодой женщине только после двенадцати лет тяжелых испытаний. Остались ей семь человек детей и, по завещанию, неплохое имение в личную собственность. Через четыре года, уже по влечению сердца, вышла она за своего ровесника, гусара Елисаветградского полка, впоследствии земского деятеля, Луциана Ильича Константинова. Это был красивый, воспитанный и благородный человек. Брак был счастлив и дал еще восемь человек потомства. Молодожены поселились в имении жены Денисове, Ливенского уезда, Орловской же губернии.
Наталья Петровна была уже, что называется, настоящая губернская grande-dame. Она не раз жестоко гневалась на бедового племянника, который на заре своего литераторства прозрачно писал о “маленьком профессоре”, то есть о Сергее Петровиче, о лунообразной сестре своей Ольге Семеновне, о жестокости Марьи Петровны. Но и много позже проскользнуло в романе “На ножах” что-то, принятое в местном обществе за намек на судьбу самой Страховой-Константиновой: “Она была богата, молода и год как овдовела после мужа-старика, которому ее продали ради выгод и который безумно ревновал ее ко всем”. А еще лет через семь было рассказано в газете, как старший ее сын, студентом, был высечен за дебош киевским генерал-губернатором Д. Г. Бибиковым [60].
Характера она была твердого. Ее побаивались, но чтили. Была пряма и небезучастна. Не оставляла без поддержки и сравнительно малоимущую Марью Петровну, писем которой не любила и вскрывать их обычно не торопилась. Скончалась 10 августа 1879 года в Денисове.
* * *
Второю его теткой была Александра Петровна, родившаяся в 1811 году в Москве и скончавшаяся в 1880-м в Райском. О женитьбе на ней обрусевшего англичанина Александра Яковлевича (Джемсовича) Шкотта Лесков писал: “Он был человек недюжинный и в одном отношении предупредил даже на сорок лет этику “Крейцеровой сонаты”. Опасаясь, чтобы на него при выборе жены не действовали подкупающим образом “луна, джерси и нашлепка”, он отважился выбирать себе невесту в будничной простоте и для того объехал соседние дворянские дома, нарядившись “молодцом” при разносчике. Таким образом он увидал всех барышень в их будничном уборе и, собрав о них сведения от прислуги, сделал брачное предложение моей тетушке, которая имела прелестный характер” [61].
Одно малоизвестное и незаконченное произведение его говорит о значительно менее серьезном приеме для вызнания достоинств помещичьих дам и барышень: “Бывали даже такие случаи, что торговцы позволяли подкупать себя господам офицерам, которые от скуки одевали парики и подвязные бороды, одевались купеческими “молодцами” и разъезжали с купцами. Прибыв в дворянский дом, переодетые офицеры вносили и выносили свертки с товарами, а между тем смотрели девиц и дам, которых заставали нечесаными и вообще не в уборе и не в холе. Дамы, не ожидая подвоха, торговались, как скареды, — иногда унизительно лгали и божились, предлагая разносчикам менять новое на старое, и таким образом обнаруживали будничные стороны своего характера и своих правил. А костюмированные офицеры все это примечали и после критиковали их и браковали” [62].
Сам Шкотт, соблазнивший племянника испытать себя на живом производственно-коммерческом поприще, являл ему искреннее дружелюбие и полное доверие, признавая в нем отличные способности, энергию. Говорил он Николаю Семеновичу “ты”, а тот ему — в порядке чинопочитания тех времен — “вы” и “дядя”.
Коммерсанта из Лескова Шкотт не сделал. Да, судя по собственным его незадачам, не был таковым и сам. Он был агроном и механик по образованию, радикал по направлению, а не купец и не добытчик. Однако сделал он нечто весьма серьезное — пусть и не предумышленно, вовлек молодого чиновника в широкое практическое и непосредственное изучение своей страны в деловых трехлетних поездках по ней “от Черного моря до Белого и от Брод до Красного Яру”. Это была подготовка к писательству, равной которой не могла бы дать никакая другая работа и деятельность. В эти годы он влиял на несложившегося еще племянника сильнее очень многих из родства или жизнью близко поставленных людей. Недаром и упоминается он в ряде произведений [63] и даже газетных статей Лескова [64].
* * *
Был у Николая Семеновича еще и один-единственный родной кровный дядя — С. П. Алферьев, сыгравший большую роль в его жизни. Родился Сергей Петрович 4 октября 1816 года в Орловщине. В 1838 году окончил с серебряною медалью Медико-хирургическую академию в Москве. Был командирован для усовершенствования в медицинских науках за границу. С 1843-го — доктор медицины. С 1846-го — профессор Киевского университета. О племянниках заботился, но старший из них чего-то не мог простить ему, уверяя, — в беседах и семейных письмах, — будто Сергей Петрович, выписав его из Орла и приютив у себя “в чуланчике” (по “Горю от ума”) позабыл приглашать его обедать с собою. Алексей и Василий Семеновичи, жившие у него несравненно дольше своего старшего брата, ни на что схожее не жаловались и оставались всю жизнь к дяде дружественными. Как же шло у него дело со старшим?
Большой мягкости у Алферьева не было. Много и хорошо учившийся, он не мирволил самочинному оставлению племянником гимназии и переместил его из Орла в Киев не по личному к нему благоволению, а ради помощи сестре. Принял он недоучку, вероятно, суше, чем обходился потом с жившими у него с гимназических лет и успешно поокончавшими университет младшими племянниками.
Поведение сына Николая в Орле в положении приказного начинало сильно тревожить Марью Петровну, и она просила брата взять его под свой надзор. Широко вкусившему плоды преждевременной свободы Лескову очень хотелось еще шире вкушать их в много более соблазнительном Киеве. Это не могло находить себе сочувствия твердого нравом дяди. Отсюда легко могли возникать безосновательные обиды, вернее, огорчения племянника, при первой возможности не оставленные им без “отомщевания”.
В первое же серьезное, целиком беллетристическое свое детище, вопреки всем законам строения и теме повести, он ввел нечто произведшее в Киеве впечатление разорвавшейся бомбы: “Мой дядя много занял у гамбургских банкиров и считал себя чем-то вроде Карла Великого. Я до такой степени его уважаю, что всегда сожалел: отчего, когда он проезжал через Ахен, его не положили там вместо Карла Великого? Этим нас освободили бы от очень маленького профессора”. А в следующей главе добавлялось еще, что Киев славится сухими женщинами и “самыми невежливыми докторами в целой подсолнечной” [65]. Гейневский стиль был возведен в нестерпимую степень. Орловская родня встала на дыбы. Киевская растерялась. Ученый дядя олимпийски презрел.
Последние свои годы С. П. Алферьев жил в доме Алексея Семеновича, обслуженный и досмотренный во всех своих нуждах. Здесь же жила и последняя уже сестра, Марья Петровна. Этим исключалось или смягчалось чувство старческого одиночества.
Возможно, что именно в годы старения и досужества впервые захотелось бегло оглянуть пройденный жизненный путь.
Скупой на все виды письма и особенно на автобиографические сведения, он ограничился коротенькой схемой своей жизни, набросанной на синем листочке в восьмушку, построенной по десятилетиям. При всей ее лаконичности, она подтверждает подлинность ряда лиц и местностей, описываемых или упоминаемых в произведениях, статьях и заметках Лескова. Заполнение места, отведенного на листке для седьмого своего десятилетия было отложено до его истечения, если таковое действительно полностью истечет. Пока была поставлена только начальная его цифра. Проставить вторую не было дано.
“I пер[иод] 1816–1826.
Мое рож[дение] в Орле. — Ранние годы детства в Горохове. — Корм[илица] Варвара. Позднейшие годы, о которых сохранились воспоминания: Кирасиры, Кельнер, Герцог, Жильберт, Черемисинов, Языков, Воронин. — Учителя: M-r Louls, Дюсосе; Афросим Степанович Птицын, Лаваль. — Соседи: Зиновьева и ее карлик, Осипов, Афросимовы, Шуманские, Клепаков, Ефимовы, Сабуров. —
Приходское село — Собакино: церковь — духовенство, говенье, светл[ые] праздники; святки; Троицын день. Развлечения: бильярд, гитара, рыбная ловля. Чибрик, серенькая лошадка. — Замужество сестры — болезнь моя, когда оставались одни.
II пер[иод] 1826–1836.
Москва. — Родные. — Пансион. Галушки. Содержатель и его семейство. — Учителя и надзиратели. — Классы и рекреации. Экзамены. — Вакации. — Болезнь и смерть брата. Д[октор] Ставровский. Холера. — Отъезд в деревню. Болезнь в деревне. Залштейн — постройка в Горохове. — Возвращение в Москву. Поступление в Академию; Ясинские. — Товарищи. Курс. Профессора. Развлечения. Смерть Страхова. — Возвращение в деревню. Гусары: Конст[антинов] — Роден — Шкотт.
III пер[иод] — 1836—46.
Возвращение в Москву. Окончание курса. Поездка в Горохово.
Опред[еление] на службу при Академии и при больнице. Рябчиков и проч. — Смерть отца. Побывка в Горохове. Назначение в путешествие. Поездка в Петерб[ург] — Докторский экзамен. — Путешествие за границу: Берлин — Париж — Вена — Прага. Швейцария: занятия, развлечения, встречи; впечатления. Возвращение в Петерб[ург]. Чтение пробн[ой] лекции. — Назначение в Киев.
IV. 1846–1856.
Приезд в Киев в 1847. Март. Роковая встреча. Служба. — Перелом ноги. Приезд матери. — Командировка в Одессу, Крым и Константинополь.
V. 1856–1866.
Возвращение. Перемена Кафедры. Смерть матери. Поездка в Орел. Постройка дома. — Практика. — Окончание (1864) службы. — Жизнь частного человека и практ[икующего] врача.
VI. 1866–1876.
Поездки (Петерб[ург], Москва (1871–1872), за границу (1875 и в 1876 г.). — Смерть Над[ежды] Ник[олаевны], с 14 дек. 76. (Грусть и скука.)
VII. 1876—” [66].
Заболев, он наотрез отказался принимать какие-либо лекарства: если организм еще жизнеспособен — сам справится, а нет — не к чему отодвигать на несколько дней неизбежное.
На уговоры племянника-врача собрать консилиум ответил: “Все, что мне нужно, я сам предусмотрел и сделал. Не успел только одно — заказать гроб. Это поручаю сделать тебе” [67].
С этим и умер в ночь на 31 марта 1884 года на руках искренне любившего его Алексея Семеновича и его сердобольной жены, Клотильды Даниловны.
В надгробных речах отмечалась, между прочим, удивительная проникновенность его диагноза: “Печальный эпикриз всегда блестяще подтверждал его предположения” [68]. Некролог говорил и о замечательном даре слова этого “ученика венской школы” [69].
Почтил его память в столичной газете и Николай Семенович [70]. Не был забыт он и в статьях и очерках последнего [71].
Много в характере покойного было нерасполагавшего к нему, и сам он не искал ничьего расположения. Но мы здесь вообще разбираем не личные добродетели тех или других лиц, выясняем их роли и значение в жизни и судьбе Лескова. В этой области заслуга Алферьева огромна.
Припоминается товарищ Лескова по первым служебным его шагам в Орле, В. Л. Иванов. Он был из недоучившихся семинаристов, но сделал поистине “блестящую” карьеру, дослужившись в Орле же до статского советника, кавалера и венка на гроб с надписью: “Дорогому сослуживцу от благодарного губернатора!” [72] Нечто в этом роде, но — за отсутствием дара “умеренности и аккуратности” — вероятно, значительно менее пышное, грозило и Лескову.
Изъял его из мертвенно-дремотного Орла в университетский Киев, поставил в условия, благоприятствовавшие расширению умственного кругозора, пробуждению жажды к знанию, а с тем, попозже; и к писательству, — Сергей Алферьев.
Этою неотъемлемой от него заслугой и да будет почтен он в повести о жизни его именитого племянника.
Живописному очерку киевских типов и нравов старых лет Лесков предпослал эпиграф: “Мне убо, возлюблении, желательно есть вспомянути доброе житие крепких мужей” и т. д. [73]
Древлее речение сие всегда встает в памяти, когда думаешь о некоторых представителях лесковско-алферьевской породы: кремень Димитрий Лесков; чудаковато-самобытен сын его Семен Дмитриевич; горделива и тверда в обычае Наталья Алферьева; властна и сурова Марья Петровна; крут ее брат Сергей; грозен и неукротим, породою этой данный, писатель.
ГЛАВА 5. НЯНЬКА
Нельзя обойти и представителя “пятого сословия” (по определению Горького, см. выше), влияние которого на будущего писателя в самые ранние его годы, по убеждению Горького, могло быть очень велико.
Нянька Лескова Анна Степановна Каландина появилась на свет божий, как говорилось, “в крепости” 2 февраля 1812 года. Перед ее рождением владельцы ее родителей продали кому-то старшую ее сестру Аннушку. В горькую память себе назвали и новую свою дочку опять Анной. Скорбь о проданной на возрасте первой дочери прочно жила в семье и глубоко залегла в душу подраставшего ребенка.
На шестнадцатом году и ее продали Алферьевым, от которых, с замужеством Марьи Петровны, она перешла в приданое к Лесковым
Уже старухой, уступая просьбам молодежи, с большой неохотой и скупо рассказывала она, с каким страхом одевала и причесывала по утрам свою “молодую барыню”, мать писателя. Но дальше этого не шла. Все, однако, знали, что владелица ее в свое время была с нею не мягче, если не нетерпеливее, чем с другими своими крепостными.
Жила память о том, что, придя в возраст, она как-то упала в ноги своей, младшей ее на год, суровой барыне, прося разрешения на выход замуж за избранника ее сердца. Марья Петровна ее выбора не одобрила и указала на другого жениха, в свою очередь нелюбезного Аннушке. Понуждения, по счастию, не последовало, и дело, казалось, заглохло. Но вдруг, при одной из недальних поездок Лесковых, через силу таившаяся Аннушка с закушенным стоном соскочила с козел и тут же, в придорожной канаве, родила. Ребенок не то был мертв, не то скоро умер, а она свековала дальше уже целиком вне личной жизни, в семье своих “господ”, не оставив эту семью даже и после “воли”.
Да и куда было ей идти, пятидесятилетней одинокой старухе?
Так и жила, пережив на двадцать пять лет свою строгую барыню и перехоронив вообще весь взрощенный ею лесковский выводок.
В рассказе Лескова “Несмертельный Голован” приведена, якобы дневниковая, запись его бабушки Акилины Васильевны Алферьевой о том, как 26 мая 1835 года сорвавшаяся с цепи бешеная собака Рябка бросилась “на грудцы Анне”, державшей на руках “Николушку”, то есть будущего автора этого рассказа, и как нежданно появившийся легендарный Голован схватил эту Рябку за горло, бросил в погребное творило и спас тем дитя от неминуемой гибели.
Дальше там говорится: “Дитя это был я, и как бы точны не были доказательства, что полуторагодовалый ребенок не может помнить, что с ним происходило, я, однако, помню это происшествие”.
Толстой помнил, как его младенцем купали в корыте. Но купали не раз и позже. Позднейшее впечатление могло быть отнесено к более раннему.
В мае 1835 года Лескову было почти четыре с половиной года. Это бесспорно. Бесспорна ли дневниковая запись? Да и вел ли вообще дневник такой грамотей, как Акилина Васильевна, с немалым трудом и усталью писавшая письма своему любимому единственному сыну? Вне сомнений, во всяком случае, Анна Степановна. А солдатка Марина Борисовна в “Пугале”? Это уже совсем другая статья. Творчески, как говорил Лесков, ссылаясь на Толстого, “истинно не то, что есть и было, а то, что могло быть по свойствам души человеческой” [74].
Я прекрасно помню Анну Степановну сильно морщинистою, ссохнувшеюся старушкой с почтительно сомкнутыми в присутствии “господ” устами, охотно размыкавшимися для неустанных покоров и поучений по адресу всей молодой прислуги, не знавшей от нее спасения и пощады, не желавшей жить с нею в одном доме.
Помню и то, что у нее был сильно скрючен большой палец правой руки. И недаром. Однажды, держа малолетнего питомца своего на левой руке и шаря что-то свободною правою рукой в каком-то закроме или кадке, она вспугнула крысу, мертвой хваткой впившуюся зубами в этот палец. Взвыв от нестерпимой боли, она выбежала из кладовки с повисшей на пальце крысой, крепко прижимая другой рукой к своей груди “барчука”. Тут — не то сбежались ей на подмогу, не то, вернее, сама крыса, сумев разжать судорожно сведенные челюсти, сбросилась и убежала. Прокушенный в сухожильях палец остался навсегда кривым, сведенным.
Не на этой ли канве, полусотню лет спустя, вышит во всем усугубленный рисунок — с заменой крысы Рябкой, с введением в качестве “deus ex machina” [75] спасителя дитяти Голована, про которого “во челе” рассказа неспроста говорится: “Он сам почти миф, а история его — легенда”. Невольно вспоминается при этом еще и то, что, по дальнейшему там же показанию, бабка Акилина Васильевна последнее слово произносила по-своему “лыгенда” — и толковала его строго соответственно такому его произношению.
Ну а крыса? О, конечно, это уже не миф и не “лыгенда”. И, как бесспорное действующее лицо, она и творчески не оказалась забытой. Знавший ее роль в жизни своей няни ближе и точнее всех нас, младших членов рода, писатель дал и этой крысе литературное бессмертие.
Через пять лет после “Голована” появился, в завязке тягостно-мрачный, а в развитии своем превеселый, детский рассказ “Пугало”, среди персонажей которого не последнее положение занимает Аннушка “по прозванию “Шибаёнок”. “Эта последняя была у нас в своем роде фельетонистом и репортером. Она по своему живому и резвому характеру получила и свою бойкую кличку”.
Это опять-таки не кто другой, как юная Анна Степановна, или просто “Степановна”, как ее заглазно называли все уже на моей памяти. Здесь шутливо, во многих мелочах много проще, чем пять лет назад, повествуется следующий суеверно-трагикомический эпизод: “К нам в дом Селиван дерзнул появляться, скинувшись большою рыжею крысою. Сначала он (оборотень. — А. Л.) просто шумел по ночам в кладовой, а йотом один раз спустился в глубокий, долбленый липовый напол, на дне которого ставили, покрывая решетом, колбасы и другие закуски, сберегаемые для приема гостей. Тут Селиван захотел сделать нам серьезную домашнюю неприятность, — вероятно, в отплату за те неприятности, какие он перенес от наших мужиков. Оборотясь рыжею крысою, он вскочил на самое дно в липовый напол, сдвинул каменный гнеток, который лежал на решете, и съел все колбасы, но зато назад никак не мог выскочить по высокой кади. Здесь Селивану, по всем видимостям, никак невозможно было избежать заслуженной казни, которую вызвалась произвести над ним самая скорая Аннушка Шибаёнок. Она явилась для этого с целым чугуном кипятку и с старою вилкою. Аннушка имела такой план, чтобы сначала ошпарить оборотня кипятком, а потом приколоть его вилкою и выбросить мертвого в бурьян в расклеванье воронам. Но, при исполнении казни, произошла неловкость со стороны Аннушки-круглой, она плеснула кипятком на руку самой Аннушке Шибаёнку; та выронила от боли вилку, а в это время крыса укусила ее за палец и с удивительным проворством, по ее же рукаву, выскочила наружу и, произведя общий перепуг всех присутствующих, сделалась невидимкой. Родители мои, смотревшие на это происшествие обыкновенными глазами, приписывали глупый исход травли неловкости наших Аннушек, но мы, которые знали тайные пружины дела, знали и то, что тут ничего невозможно было сделать лучшего, потому что это была не простая крыса, а оборотень Селиван”.
Безукоризненно выдержанная по отношению к старшим членам лесковского рода, Степановна горячо возмущалась перед подростками неточностью событий в передаче их ее былым питомцам: “Что он пишет! Да разве все это было так? Ведь вот…” — и шло беспощадное указание на те или другие фактические неточности. Она “в сердцах” негодовала, всплескивала руками, укоризненно качала всегда повязанной платком седою головой. Но творцу всех обнаруживаемых ею прокольных ошибок никогда никаких указаний делать не дерзала.
Забыл сказать, что в 1873 году, с выходом замуж сестры писателя Ольги Семеновны за Н. П. Крохина, Степановна перешла в эту семью, где и вырастила еще трех девиц, впоследствии учительниц гимназии.
Последний раз я видел ее в Киеве, в 1903 году. Открыла дверь мне горничная Крохиных, которые все три были на службе. В столовой, у окна, довольно прямо сидела и вязала Степановна. Зорко вглядевшись в меня, она степенно положила вязание, поднялась, чинно поклонилась и осталась в почтительном ожидании на месте. Мы сердечно расцеловались, с большим трудом я уговорил ее сесть, и мы стали беседовать. Ей истекал девяносто первый год. Она была в полном порядке и физически и духовно. Сколько раз потом я жалел, что не выспросил ее в этот мой приезд в Киев хорошенько об орловском и панинском житье-бытье, о Семене Дмитриевиче, Пелагее Дмитриевне, молодом моем отце, о всем прошлом Лесковых, Алферьевых, Страховых и т. д., о прошедшем у нее на глазах и крепко сбереженном ею в глубинах отлично служившей еще ей памяти. Это был один из бесчисленных жизненных промахов, невознаградимых потерь, порожденных непростительной беспечностью к сбору семейной старины, равнодушием к ней.
В поздней, жуткой, голодной “рапсодии” Лескова “Юдоль” двадцативосьмилетняя Аннушка берет на себя приведшее к трагическим последствиям уличение птичницы Аграфены в утаении для четырехлетней ее дочери Васёнки “шматка” господского теста “в ладонь”. Девочка вскоре гибнет. Эта же Анна-доказчица кладет ее “на лавку под образ”, а возле нее ставит ковшик с водою, чтобы “душка ее обмылась”. Дальше автор говорит: “Это для меня было трогательно и занимательно, потому что до этой поры я еще не был при разлучении человеческой души с телом, и я не ожидал, чтобы это происходило так просто”.
Лескову в этот орловский голод было девять лет. Простота смерти обморозившейся и изголодавшейся девочки, происшедшей у него на глазах, глубоко врезалась в его память, запала в душу. И он, великий мастер описания смертей многих своих героев, как и жизненно близких ему людей, никогда не изменял своему первому, детскому впечатлению, как бы уроку и указанию, что смерть проста и что говорить о ней надо просто.
Веку Степановне выдалось вволю — без восьми месяцев сто лет. Вторую половину их все без исключения, даже сама Марья Петров-на, называли ее не иначе, как по имени-отчеству и уж конечно на “вы”. Оказывавшиеся ей знаки общего почтения она принимала с достоинством, как должное и заслуженное пожизненной бескорыстной преданностью, неустанной, до последних сил, работой. Это был равноправный член семьи, даже тяжеловатый для выпестованных ею дочерей Ольги Семеновны, а попозже, случалось, и для самой вдовой сестры Лескова.
“Племянницам шлю мой привет и поклон, также Степановне. Какова-то она?” [76] — писал он этой сестре, всегда вспоминая старуху, а подчас даже как бы утешая сестру: “Степановна, видно, еще не готова, как непроваренная подкова, которую кузнец все опять в горн бросает, чтоб проварилась. У меня через стену есть соседки за сто лет и еще чулки вяжут. Потерпите друг друга! Мож[ет] б[ыть], это всем вам так надобно” [77].
После кончины сестры и всего за три месяца до собственной смерти он еще раз шлет своей бывшей нянюшке добрый привет:
“Обнимаю и целую друга сердечного Анну Степановну. Бог ей в помощь переносить бремя лет” [78].
Она пронесла это бремя еще почти семнадцать годочков после смерти своего старшего воспитанника и, скончавшись в Киеве 26 июля 1911 года, легла на Байковом кладбище в одной ограде ее. своею “барышней” — Ольгой Семеновной Крохиной-Лесковой.
По праву занимает она не последнее место и в хронике семьи. давно ставшей для нее родной и собственной.
К тому же, кто решит теперь, в какой мере дышащие правдой орловские зарисовки Лескова чужды фельетонам, слышанным писателем в детские годы от репортера с живым и резвым характером — от Аннушки Шибаёнка?
* * *
Отношения Лескова с братьями и сестрами и степень их значения в его жизни осветятся при дальнейшем развертывании настоящей хроники.
* * *
Галерея лиц, близких Лескову по крови, быту и детским впечатлениям, пройдена.
Впереди — повесть о днях и трудах его ото дня рождения до часа смерти.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО ПИСАТЕЛЬСТВА. 1831–1860
Тебе все чувствовать дано,
Но жизнью ты не насладишься.
ВеневитиновГЛАВА 1. РОЖДЕНИЕ И ДЕТСТВО
Передо мною фотографический переснимок с очень нехитрого рисунка, внизу которого стоит полувыцветшая надпись моего отца:
“Господский дом в селе Горохове, Орловск(ой) губернии, в этом доме родился Николай Сем(енович) Лесков и тут же проведено его детство” [79].
Надлежащими документами удостоверяется: что “у отставного коллежского асессора Семена Дмитриева сына Лескова сын Николай родился 1831 года февраля четвертого числа”, что восприемником от купели был “села Горохова коллежский асессор и кавалер Михаил Андреевич Страхов”, что все это значится в метрической книге “Орловского уезда села Архангельского, что в Собакине” и что “таинство” крещения 11 февраля 1831 года “совершал священник Алексей Львов с причтом своим” [80].
Этим исключаются какие-либо сомнения в дате рождения Лескова и отвергаются досужие попытки внести в этот вопрос какую-нибудь неясность.
Сам Лесков через полусотню лет писал: “Орловской губернии и уезда в селе С-не, к которому прихоже сельцо Горохово, где я родился и провел мое детство, был священник о. Алексей. Он долго жил и умер в этом приходе, и я его хорошо помню. Он венчал мою мать с моим отцом, крестил меня и учил заповедям” [81].
“Во чреду лет” щедро автобиографичный писатель не применет привнести в освещение четко зарегистрированного события трогательную беллетристическую символику.
Главенствующий герой знаменитых “Соборян”, многомудрый протопоп Савелий Туберозов рукополагается автором хроники “во иерея” не в иной какой-нибудь день, как именно “4 февраля 1831 года”.
Крошечный, не опубликованный еще набросок, озаглавленный “Убежище. Роман. Из записок Пересветова”, начинается так:
“Я родился в 1831 году в семье своей первенцем. Матушка моя, принадлежавшая в юности к числу деревенских барышень, которые в то время знали наизусть очень много стихов, втайне делала по случаю моего рождения очень для меня лестное и поэтическое сближение. В этом году Лермонтов написал своего “Ангела”, и старшая сестра моей матери, бывшая замужем за важным сановником в Петербурге, вместе с поздравлением по случаю моего рождения прислала списанное ею стихотворение: “Он душу младую в объятиях нес для мира печали и слез… и звуков небес заменить не могли ей грустные (скучные. — А. Л.) песни земли”.
Матушка, читая эти стихи, целовала меня и в одно и то же время улыбалась и плакала. Она чувствовала себя счастливой, что ангел принес мне хорошую душу, и плакала об ожидающей меня участи.
Несправедливо было бы приписывать все это одной ее нервности. Молодые женщины нашего дворянского круга тогда в самом деле были склонны к поэзии и очень легко поддавались ее влиянию. Надолго ли это было и имело ли прочное влияние на их умы и характер, — это совсем другое дело” [82].
С изменением положения “старшей сестры” на замужество за видным местным дворянином и крупным помещиком Страховым — все остальное вполне биографично и для автора наброска и для его матери, на самом деле имевшей склонность к “возвышающим” некоторые события “сближениям” с хорошо ей знакомыми образами родной поэзии.
Интересные сами по себе, строки эти приобретают особое значение но явственно улавливаемому в них горячему желанию искушенного уже неудачами жизни и литературными “терзательствами” Лескова сохранить и укрепить в себе веру в дарование ему, при “приходе его в жизнь” мягкой души, обреченной на безвинные “злострадания”, успевшие уже к тому времени “истерзать” его мятущееся и мятущее сердце.
На пятьдесят пятом году жизни, прочитав одну только что появившуюся книгу [83], он самоуглубленно выписывает себе на листок приведенное в ней изречение Гете: “Душа человека похожа на воду: приходит она с неба, падает на землю и снова поднимается на небо”.
Тут пленяли оба пути: и исходное горестное низвержение и завершительное, победное вознесение!
Это подкупало, с чем-то мирило, обнадеживало…
И становился рядом, собственной мыслью и личным чувством рожденный, “очарованный странник”, всю жизнь носивший в себе “ангела сатанина” и умевший, “впадая в тихую сосредоточенность”, полностью отдаваться “наитию вещательного духа”.
И нисходили умиротворенность и теплое упование…
“Надолго ли это было и имело ли прочное влияние на ум и характер — это совсем другое дело…”
Когда кто-нибудь из позднейших посетителей Лескова, вглядываясь в его ранние фотографии, говорил: “Однако, Николай Семенович, какой же вы, должно быть… были… в молодости!..”
“Ууу!.. Аггел!.. аггел!..” — нервно переводя плечами и коротким движением руки как бы отметая от себя какой-то ярко ощущаемый и даже устрашающий образ.
Итак: от ангела до аггела! Какой простор и какая мука! Что-то фаустовское: “Ах, две души живут в больной груди моей, друг другу чуждые — и жаждут разделенья”.
Но… разделяются ли они вообще у кого-нибудь? В Лескове они были крепко свиты.
В гороховском доме, в котором родился будущий “волшебник слова”, жила и любимая им и любившая его прекраснодушная бабушка Александра (Акилина) Васильевна Алферьева, бравшая его с собой в восхитительные и полные впечатлений поездки по недальным монастырям.
“Путешествие… с елейной старушкой и с ее добродушнейшим старичком кучером Ильею Васильевичем составляло для меня вовсе годы моего детства неивысочайшее наслаждение.
Я был адъютантом старушки с самого раннего возраста. Еще шести лет я с ней отправился в первый раз в Л-скую (Ливенскую? — А. Л.) пустынь на рыжих ее кобылках и с тех пор сопровождал ее каждый раз, пока меня десяти лет отвезли в губернскую гимназию. Поездка по монастырям имела для меня очень много привлекательного… Едем, бывало, рысцой; кругом так хорошо: воздух ароматный; галки прячутся в зеленях, люди встречаются, кланяются нам, и мы им кланяемся. По лесу, бывало, идем пешком; бабушка мне рассказывает о двенадцатом годе, о можайских дворянах, о своем побеге из Москвы, о том, как гордо подходили французы, и о том, как потом безжалостно морозили и били французов. А тут постоялый двор, знакомые дворники, бабы с толстыми брюхами и с фартуками, подвязанными выше грудей, просторные выгоны, по которым можно бегать, — все это пленяло меня и имело для меня обязательную прелесть. Бабушка примется в горенке за свой туалет, а я отправляюсь под прохладный, тенистый навес к Илье Васильевичу, ложусь возле него на вязке сена и слушаю рассказ о том, как Илья возил в Орле императора Александра Павловича… Феакийцы не слушали так Одиссея, как слушал я кучера Илью Васильевича” [84].
Жилось с бабушкой мальчику хорошо, но после рассказанной в “Автобиографической заметке” недоброй шутки с оберткой от оподельдока он, глубоко оскорбленный, покидает этот спесью напоенный, ненавистный ему “большой дом”.
Последние предгимназические годы он живет с родителями, сперва в Орле, в незатейливом доме на Третьей Дворянской, над самой речкой Орликом, а затем в купленном ими с отставкой Семена Дмитриевича именьице Панино.
В Орле ему почти ежедневно приходится видеть, как внизу, на выгоне за Орликом, по утрам муштруют солдат, а потом бьют их палками. Он потрясен и плачет [85].
Ни в Орле, ни в Панине нет гувернеров, гувернанток, чопорности, высокомерия богатого родства, учиняемых исподтишка наглостей заевшейся гороховской дворни. Здесь все просто, свободно, малопризорно, а с тем и весело.
Известие о предстоящем вскоре переезде из города на житье в деревню исполняет восторгом.
Надежды счастливо оправдываются. В Панине сразу же создается обширный круг знакомых из людей самых разнообразных положений и возрастов. Особенно пленителен старый мельник, дедушка Илья. Каких только тайн природы и чудесных происшествий не знает он? Тут и сказочные кикиморы, и леший, и оборотни со всеми их проделками, каверзами и проказами.
Имея уже четверть века писательства за плечами и тепло вспоминая своего негаданного друга, забавника и наставника, Лесков благодарно и убежденно восклицал:
“Лесные родники осиротели бы, если бы от них были отрешены гении, приставленные к ним народною фантазией”.
А писатели, хочется прибавить, оскудели бы в творчестве без той близости к земле и народу, в которой росло большинство из них в нашем, становящемся уже далеким, прошлом.
В числе оставшихся после Лескова набросков, частью не имевших не только конца, но и начала, оказалось, видимо довольно автобиографическое, описание любопытного происшествия, случившегося с ним в детские его годы. Отсутствующее начало явно говорило о том, что в Панине поджидали к себе Шкоттов. Маленькому Лескову с еще мельшим братом его не терпелось. Украдкой выбравшись из дома, они отправились с целью перехватить гостей впереди родительской усадьбы. Услышав вскоре за ближним пригорком движение и голоса и решив, что это подъезжают их замешкавшиеся родственники-англичане, мальчики, как начинается набросок, “кинулись бегом на гору, к роднику”.
“ — Ну вот, — думали мы, — теперь-то мы их как раз и встретим… Может быть, они припоздали, может быть, сбились с дороги проселком, где так много маленьких свертков… И тогда как мы распорядимся? Один из нас, конечно, поцелуется с тетею и вспрыгнет на козлы к ямщику, чтобы показать ему дорогу, а другой сию же секунду бросится назад к дому, чтобы скорее ставили самовар, потому что на дворе был ужасный мороз и англичане с голыми коленками должны были страшно прозябнуть.
И что же вы думаете? — наши ожидания были не совсем напрасны: по мере того как мы взбегали на горку, мы замечали в темной котловине родника какое-то движение.
Наши сельские женщины не ходили на родник ночью, потому что все они имели суеверный страх к этому месту, — и притом мы видели, что в котловине не одна или две бабы с водоносами, а что-то больше. Нам казалось, что мы видим лошадей и людей и даже слышим какой-то говор.
Признаться, мы и сами струсили, но опасение прослыть за трусов перед англичанами взяло верх над нашими оробевшими сердцами: мы схватились за руки и, поняв друг друга в молчаливом пожатии, сделали опасный шаг вперед. До слуха нашего долетали звуки тихо и робко говоривших человеческих голосов, но слова, которые мы слышали, были нам незнакомы. Родители наши не были настолько богаты, чтобы учить нас в детстве многим языкам, но у нас была своя врожденная русская сметка, и мы без всякой учености поняли, что это говорят по-английски и что люди эти не кто иные, как наши гости, которые, вероятно, не поостереглись раската и попали в котловину.
Тогда я и брат смело бросились вперед и остановились: вместо бодрых и сильных англичан, готовых каждого встретить боксом, мы увидели трех человек, которые были обернуты в жалкие лохмотья и тихо бродили вокруг дрянных санишек, на которых лежал какой-то хлам, прикрытый запорошенной снегом рогожей, и оттуда раздавался жалобный писк. Лошадь, похожая на сухой остов, обтянутый конской кожей, стояла невыпряженною в хомуте с мочальной шлеею и, дрожа от стужи, валяла в зубах клок брошенной перед нею соломы…
Мы знали, что в деревнях скот нередко страдает и падает от бескормицы, а люди погибают от стужи, и враз позабыли о своих кузенах, а бросились к этим нищим.
Один из них был высокий седой старик в изорванной бараньей шапке, другой помоложе и в картузе, а третья — женщина. Что вы тут делаете? — закричали мы.
Они нам не отвечали и продолжали по-прежнему молча ходить вокруг саней, с которых не переставал раздаваться неумолчный жалобный писк.
— Зачем вы здесь стоите? — Здесь холодно. Высокий старик остановился, поглядел на нас, двух маленьких мальчиков, и отвечал по-русски:
— Здесь очень холодно, — это правда. Мы очень озябли, мальчик.
— Чего же вы здесь ждете?
— Мы ждем!.. Мы ждем милости божией.
— Но зачем вы не спускаетесь в деревню? Она близко, — сейчас за рекой… вон, слышите, лают собаки… Вас там согреют.
— Нас!.. Нет — нас не согреют.
Я почувствовал особое усиление звука в слове “нас” и понял, что это какие-нибудь особенные дурные люди, которые сами знают, что они не стоят ничьего внимания. Я знал, что есть люди, осужденные на ссылку, на каторгу, знал и то, что эти люди оттуда иногда бегают и скрываются… Это такие и есть! — подумал я, но как мне было их очень жалко, то я сказал:
— Мне вас очень жалко. Затяните скорее хомут вашей лошади и ведите ее за нами… Мы вас проведем к риге, — там вчера сушили снопы, и в печке должно быть еще немножко тепло, — я вас спрячу и… завтра у нас праздник, и мне, наверное, подарят новый серебряный рубль… Я его принесу вам туда в ригу. Старик вынул из-за пазухи руку и, положив ее мне на голову, сказал:
— Спасибо тебе, добрый мальчик, но мы с тобой не пойдем.
— Отчего? Я вас проведу так, что вас никто не заметит, а там у печи гораздо теплее.
— Да… там теплее… но ты еще молодое дитя и не понимаешь. Нас там могут найти и скажут, что мы спрятались, чтобы сделать дурное дело. Ты, верно, не знаешь, кто мы?
— Нет, я знаю, — вы каторжные, но я хочу, чтобы вам было тепло.
Старик покачал головою и, вздохнув, молвил:
— Ты ошибся, дитя, — мы не каторжные, но мы хуже.
Что может быть хуже каторжных, я еще не знал и сказал:
— Ничего, — скажите мне: кто вы, мне все равно вас будет жалко.
— Мы жиды!
При этом и другие два человека остановились и, вздохнув тихо, повторили:
— Да, — мы жиды.
Я и брат подалися назад — я собственно теперь понял писк, который слышался из-под запорошенных снегом саней, и понял страшную угрожавшую мне опасность: там, конечно, должны быть дети, которых где-нибудь увезли эти люди и теперь с ними скрываются. Оттого они и предпочитают лучше застыть на морозе, чем просить ночлега. Разумеется, они точно также схватят сейчас и меня и увезут от дома, от родных и от прекрасного завтрашнего праздника…
Ужас поднял дыбом волосы на моей голове, и я бросился бежать домой с страшным криком, а прибежав, упал и долго ничего не мог рассказать встревоженным моим страхом родителям. Но наконец, когда меня успокоили, я кое-как проговорил: “Там… у родника… жиды… везут детей… Меня хотели взять…”
— Что за вздор такой! — ответил отец и приказал подать себе шубку и палку, а также взял с собою меня и лакея Ивана.
Мы пришли к роднику, где жиды оставались в том же самом положении, а из саней слышался тот же самый писк, только он стал теперь еще слабее и жалостнее.
Отец стал говорить с евреями и узнал от…”
Но тут, чуть не на полуслове, рукопись оборвалась [86].
Вот, хотя бы только и приблизительно, какие картины и впечатления воспринимались иногда у самого панинского родника!
Здесь были уже не сказочные, страшноватые, но пленительные фантастические гении, а подлинная жизнь с ее душу леденящими ужасами…
Неизгладимо врезались они в память и представление, жгли сердце, заставляли думать…
В годы писательства они побудят: на первых же шагах выступить с защитой прав преследуемых русских раскольников, людей Моисеева закона и т. д., с искренним сочувствием рассказать о муках “интролигатора”, у которого был вероломно взят в кантонисты единственный малолетний сын и который, моля о защите и помощи, покрывался “кровавым потом” [87]; а впоследствии выйти с призывом к всеобщему объединению, независимо от различия веры и племени [88].
Страстно влюбленному в литературу, не знавшему равной ей по своему значению профессии, Лескову хотелось уловить в каждом малейший проблеск беллетристического дарования. Тут он, по собственному признанию, часто “спешил” и иногда огорчался этим, но не зарекался искать наново.
В том же порядке склонял он и меня к литературным опытам. Это вело к тяжелым диалогам.
“ — Почему не попробовать? Без этого нельзя судить — есть или нет дарования. Попробуй, тогда и говори! Пользуйся, пока я жив. Я тебе и проправлю и пристрою куда-нибудь первинку… А там, глядишь, подойдет и собственный навык, скажется натура, наблюдательность… А они у тебя есть. Я в твои годы не помышлял о писательстве, а вот выписался. И не жалею. Как ни терниста наша дорога, а все на ней никому не кланяешься, не унижаешься, как на всякой службе. Сам себе хозяин и говоришь не что велят, а что самому сказать хочется. Да и служишь уяснению понятий, просветлению взглядов, борьбе с омрачителями смысла. Чего достойнее? Есть за что и потерпеть и чем удовлетворяться. Ничего другого после не захочешь. Пробуй! Начни! У тебя живой пример — отец.
— Ну какой же вы пример мне? Ничего общего, ни в чем! У нас с вами как раз все навыворот: вы с детских лет жили с народом, знали массу разнообразного люда, жизненных условий, положений, набирались при бесконечных странствиях по России богатейших впечатлений… А я? Рос на Фурштатской, учился на Фурштатской, женился на Фурштатской… Так, кроме нас, и нет ничего, если не считать театров, вечеров, ресторанов, да еще петербургских дач и поездок за границу с ее отелями, табльдотами и паломничеством по “достопримечательностям”, с путеводителями в кармане или с отошневшими “гидами”! О чем мне писать? Что я собрал любопытного, ценного? Чем делиться? Что я могу сказать значительного? Не скромнее ли тянуть свою лямку и молчать?”
Это гневило и огорчало отца и, может быть, тем больнее, что бедность моего жизненного “багажа” была вся налицо, как у подавляющего большинства людей, взрощенных застегнутыми на все пуговицы, в условиях столичной жизни, а не землей, как это шло у Лескова.
Еще в Панине он уже близок и мужикам, и парням, и ребятишкам, с которыми пасет лошадей “на кулигах”, ловит с ними пескарей и гольцов в узенькой, но чистой речке Гостомле, сам загоняет в пруд ореховой хворостиной гусей… Дни и ночи в живом общении с народом, почерпая от него ценнейшие знания и горячо принимая к сердцу строгий наказ дружившего с ним умилительного мельника:
“Ты вот что, — говорил мне дедушка Илья: — ты мужика завсегда больше всех почитай и люби слушать” [89].
И Лесков учился понимать и любить мужика. Что же равное мог я услыхать в городе Санкт-Петербурге, какого “мужика” увидать, кроме выдрессированного приказчика — в “колониальном” или “галантерейном” магазине, или вымуштрованного дворника в белом переднике с большой бляхой на груди. Это был “народ”, которому, по старому присловью, “Питер все бока вытер”. Вытер и душу. Немного ее было и в самом городе, в котором на каждом шагу “как шиш торчал” либо “красный ворот”, либо чиновничий “вицмундир”.
Безбытовой и беспочвенный по началу жизни писатель узнается по нежизненности его творчества. У него нет “родных родников”. Незнание страны и живущих по необъятным ее просторам людей не проходит даром.
В мелкопоместном Панине нет изысканности манер и барственности, но есть книги, которыми не могло хвалиться пышное Горохово. Есть и духовные, и светские, и даже медицинские, вроде лечебника штаб-доктора Егора Каменского, чуть ли даже и не наставление о лечении “лоснящеюся сажей”, зло вышученное через шестьдесят лет Лесковым в рассказе “Загон”.
Понуждения к учебе не было, и будущий ненасытимый книголюб пристращается к чтению собственной охотой. Вот как рассказал он о первых своих шагах на этом поприще:
“Из всех книг, которые я прочел в продолжение моей жизни, самое памятное и самое глубокое впечатление дали мне следующие:
А) “Сто четыре священные истории” с картинками. Я выучился грамоте сам, без учителя и прочел эту книгу, имея пять лет от роду. Все ее истории сразу врезались мне в память, но не все они меня удовлетворили: по ним я очень полюбил Иисуса Христа, но удивлялся, что он на некоторые предлагавшиеся ему вопросы отвечал как будто неясно и невпопад. Это меня мучило, и я стал подозревать, что тут что-то не так рассказано. После я читал множество книг, но это все-таки помнил и всегда хотел узнать: так ли Христос отвечал, как написано в книге “Сто четыре истории”.
Б) Вторая памятная мне книга была “Чтение из четырех евангелистов”. Личность Христа из нее мне более выяснилась, но ответы его совопросникам по-прежнему оставались неясными. Это было в первом классе гимназии, когда мне было десять лет” [90].
Упомянув в одной любопытной, но сейчас призабытой, статье своей о “достойных замечания” книгах, виденных им в 1863 году у раскольников Пскова, Лесков писал:
“Первую из этих трех книг я видел в моем детстве у моего отца, который брал ее у своего приятеля, покойного орловского купца, Ивана Ивановича Андросова…
Двадцать с лишком лет прошло с тех пор, как я моими детскими руками переворачивал широкие листы толстейшей сине-серой бумаги, на которой напечатана эта книга, но и теперь я помню малейшие обстоятельства, при которых я упивался запрещенною книгой, отыскивая в ней именно те подробности христовых истязаний, которые мне хотелось во что бы то ни стало найти и которых я не мог допытаться ни от священной истории, лежавшей в моем шкафике, ни от тяжелой Библии, которую с благоговейным трепетом снимал со стола моего отца…
Я не помню ни одной книги, которая бы, по моим тогдашним понятиям, могла представлять интерес, мало-мальски равный содержанию этой книжки, заставлявшей меня плакать по Христу и вскакивать ночью от образов страшного Иуды и чудовищной картины ада, с беседующими в нем людьми ветхого завета…
Я решился сделать из этой любопытной книги большие выписки и выписал все, что может дать понятие о разноречии этой религиозной легенды с историческою истиною известных событий” [91].
В отчем дому, кроме матери, некому “парлировать” по-французски, но есть кому вести беседы с друзьями на отвлеченные темы, думать о предметах, выходящих далеко за повседневность. Наблюдательному и острому ребенку есть к чему прислушаться, чем заинтересоваться, о чем поразмыслить.
Семена, павшие на тучную почву, принесли плод обилен.
По исходе уже трех десятков лет жизни доводится Лескову побывать на родных стогнах.
Отца уже давно нет. Мать сберегала еще сыновьи книжечки. Разобрал он их и раздарил окрестным деревенским ребяткам. Отдал даже, видимо показавшийся уже устарелым, “Домашний лечебник” [92]. А две увез с собой. Дороги показались, памятны. Еще бы!
Первая была листового формата, на серо-синей же бумаге отпечатанная, — “Новая российская азбука” издания 1819 года, по которой сам он вкусил первую сладость постижения грамоты, а с нею и многоценных наставлений, как, например: “Обрани оссор и протчих непотребных дел отступай”, “Помышляй о том еже есть праведно”, “Ленивые ни когда не наживаются а не проворные сидят часто голодные”, “Зло есть господин заповеди нетворити за что повелевает и во ад затворить”, “Кто с плутами водится и сам таков же будет” и т. д. Всего в тетради восемь листов и бездна премудрости, вплоть до таблицы умножения, рисунков и “Наставления как писать письма к разным особам”, начиная с архиепископа до дьякона, старца, графа, князя, подполковника, к отцу, жене, приятелю [93].
Вторая — “Сто двадцать четыре священные истории из ветхого и нового завета, собранные А. Н., с присовокуплением к каждой истории кратких нравоучений и размышлений. В двух частях” (Москва, 1832), с массою поистине смехотворных гравюрок на дереве.
С этой книги, как уже ясно из вышеприведенного свидетельства самого Лескова, началось определенное духовное его воспитание и, надо думать, его книголюбие.
Как же было расстаться с такими старыми, дорогими по воспоминаниям друзьями? Их захотелось сберечь.
Берегутся они и о сей день.
Ценность их сейчас, конечно, не в преподаваемой ими мудрости пли достоверности повествуемого, а в том — кто жадно перелистывал и зачитывался их страницами в детские свои годы, более чем сто лет назад, в глухой деревеньке на прекрасной речке Гостомле.
ГЛАВА 2. ГИМНАЗИЯ
В живой беседе мне не приходилось слышать воспоминаний отца, относящихся к гимназической его поре. Он явно опасался возможных при этом, остро досадительных ему, вопросов о школьных его успехах. Спрашивать о том, о чем сам он не охоч был говорить, — семейным, тем паче младшим, не надлежало. Этого и держались. Знали только ощупью, что какая-то тут неудача была и что, пробыв в гимназии пять лет, он почему-то ее бросил, окончив, должно быть, пять классов.
Как уже известно, в автобиографических заметках этому придавался драматический характер.
По мере роста литературной известности росло и сознание, что будущие биографы, собирая по возможности самые полные данные об его жизни, могут допустить большие ошибки. Не полезно ли “в таком разе” (как любил говорить писатель) дать о себе самом по крайней мере то, что можно и хочется?
И начинается — не очень длительный и настойчивый — подбор кое-каких материалов. В начале девятидесятых годов одной из младших Страховых посылается в Орел просьба выслать хотя какой-нибудь рисунок гороховского дома. Делается попытка набросить сколько-нибудь развернутый очерк личной жизни
Но в большинстве предположения остаются неосуществленными. Безупречно цельное и строго точное повествование о днях и трудах всей своей жизни не удавалось и бросалось. Задача была не по складу натуры, характера, неодолимых уже навыков. Он был превыше всего беллетрист. Его влекло художественно живописать. Методический, как бы дневниковый, историзм и исповедное, в столе Жан-Жака Руссо или дневников Льва Толстого, обнажение всех или хотя наиболее щедрых последствиями своих движении и действ — было не в его средствах. “Могий вместити да вместит”. Он не вмещал.
Автобиографические опыты очень многим не удаются. Здесь слишком остро сказываются в каждом отдельном случае те или иные “свойства души человеческой”.
Однако кое-что из разбросанно и обрывочно оставленного в этой области несомненно имеет свою цену.
Один такой, к сожалению, вначале же оборвавшийся и до сегодня не опубликованный набросок дает выразительную картину его ранней жизни в Орле после поступления в гимназию. Он заслуживает приведения его здесь во всей полноте.
Как я учился праздновать
(Из детских воспоминаний писателя)
“Я учился в Орловской губернской гимназии, — в первом классе. Это было в начале сороковых годов. Мне тогда только исполнилось десять лет. Родители мои были небогатые дворяне и имели свою деревушку в Кромском уезде. Называлась деревушка Панин Хутор. Отец с матерью и маленькие братья с сестрами там и жили, а меня привезли в августе в Орел и “сдали в гимназию”, а на квартиру поставили к повивальной бабке за безводной рекой Перестанкою. У бабушки этой был сын, гимназист третьего класса, (который) назывался Никишенька и по отчеству тоже он был Никитьевич, и жили они в своем доме у Никития. А саму бабушку звали Порфирьевна. Крестное имя ее было Антонида, но этого имени никто не произносил, а просто говорили “бабушка Порфирьевна”. Бабушке было в то время лет под сорок, но она уже давно вдовела и вела жизнь примерную. Добрая была, рассудительная и аккуратная; а по своему повивальному делу славилась во всем орловском купечестве, и платили ей по тогдашнему дорого — ни за что не меньше золотого и темной материи на платье. У Порфирьевны “была такая амбиция”, что меньше золотого она ни за что не брала: если бедная женщина к ней обратится, то она сходит и так даром, бесплатно ей поможет, но уж платы иначе как золотом не возьмет. Ее уважали, и она, должно быть, заслуживала уважения. Три раза в год ей насылали “даров”. Дары бывали “богатые, средственные и бедные”, но всегда “усердные” и непременно “в трех видах” — соображая по времени. К рождеству “живность” — разная битая птица: куры, гуси, утки и индейки; к масленице — огромнейшие, длинной формы пшеничные хлебы “с уборцами” и стегно малосольной рыбы, преимущественно севрюжины. Хлебы были особенные и назывались “прощеными пирогами”, или “пряниками”. Вкусу в них не полагалось решительно никакого, и они во весь пост составляли для нас с Никишею сущее наказание, потому что из них насушивали сухари и выдавали их нам вместо свежих булок, которые зато на все это время отменялись. К пасхе же бабушке присылали в дар мучное и молочное: масло, яйца, творог, сметану и крупичатую муку на куличи.
Еда нам, впрочем, всегда была отличная, потому что у бабушки всего было много. Кроме тех даров, которые присылались три раза в год “по положению”, ей приносили чаю, сахару и кофе и варенья в разные дни — в именины ее и в рождение, в “причащеньев день”, и в несрочные дни, после каждого повоя, “на кашицу”.
“На кашицу” приносилось всего, что где случалося, — и вареного, и печного, и жареного. Сама Антонида Порфирьевна ничего этого не кушала, потому что она была “человек не домашний”, — дома ей случалось бывать очень редко и ненадолго, и потому она была “у всех как своя, а у себя дома конфузилась”. Есть у себя дома решительно не любила, и все изобилие съестных даров истребляли мы с Никишенькой да “служанка” — старушка Игнатьевна, которая совсем заплыла жиром.
Так, с материальной стороны, нам было очень хорошо, но зато не было нам никакого нравственного воспитания, а порчи было множество.
Постройки тогда в Орле в этой части города были такие, как “свиное каре”: на все четыре стороны квартала домы окнами на улицы, а “задами вместе”. Тут, “на задах” были огородцы, или “угородцы”, на которых росли ягодные кусты и овощи, а также и цветы. Из цветов, впрочем, были только разноцветные розы и шиповник. “Угородцы” не были отделены один от другого ничем или изредка разделялись только низкими и реденькими плетнями, через которые соседи без малейшего затруднения ходили друг к другу покурить, посплетничать, иногда нарвать чужих огурцов и подраться, а иногда нагрешить чем-нибудь еще тягостнее.
Раз одному соседу, — старику, который “зажился за семьдесят годов” и пошел в летний день отдохнуть под куст черной смородины, — нетерпеливая невестка влила в ухо кипящий сургуч… Я помню, как его хоронили… Ухо у него отвалилось… Потом ее на Ильинке (на площади) “палач терзал”. Она была молодая, и все удивлялись, какая она белая… Потом тут же раз, по самый Петров день…” [94]
На этом рукопись оборвалась, не успев что-либо сказать о переживаниях ее автора непосредственно в стенах самой гимназии, о чем речь будет в других местах. О роли церкви Никития читаем и в “Мелочах архиерейской жизни”: “Когда в Орле, в дни моего отрочества, расписывали церковь Никития и я ходил туда любоваться искусством местных художников, то один из таковых, высоко разумея о своем даровании, которое будто бы позволяло ему “одним почерком написать двенадцать апостолов”, говорил, что будто ему раз один церковный староста дал десять целковых на шабашку, чтобы он поставил в аду на цепь к Иуде Смарагда (орловского архиерея. — А. Л.), и что он будто бы это отлично исполнил. “Сходства, говорит, лишнего не вышло, а притом все, однако, понимали, что это наш Тигр — Ефратович” [95].
Это опять только “городское”, характеризующее наблюдательность и любознательность мальчика. А вот уже пойдет и “само знаменитое учреждение”:
“Так, в О(рловск)ой гимназии, где я учился, классные комнаты были до того тесны, что учителя затруднялись найти ученику, отвечающему урок, такое место, до которого бы не доходил подсказывающий шопот товарищей, духота всегда была страшная, и мы сидели решительно один на другом. Между тем наверху было несколько свободных комнат и прекрасная зала, в которую нас впускали раз в год, в день торжественного акта; остальные 364 дня в году двери залы были заставлены какими-то рогатками… Говоря о том, что в О[рлов]ской гимназии лет 12 тому назад было только одно отхожее место, устроенное на черном дворе, за инспекторскою кухнею, и что в нем было только две лавки с четырьмя сиденьями, к которым во время 1/4 часовой перемены толпились ученики всех семи классов, я вспоминаю множество забавно грязных и грустно смешных сцен, поводом к которым были ожидание вакантного места. Смешно сказать, а мне сильно сдается, что нужное место О[рлов]ской гимназии имело вредное влияние даже и на нравственную сторону воспитанников. По крайней мере там мы поневоле приучались пользоваться неправомерием, кулачным правом, равнодушием к нужде ближнего и даже взяткою за место. Известно, что дети всегда стараются подражать во всем старшим” [96].
Учат в гимназии как попало, но бьют исправно. Навестив родные места много лет спустя и побеседовав с одним четырнадцатилетним землячком-гимназистом, Лесков удовлетворенно отмечает, что теперь он “училища не боится, как мы его боялись. Рассказывает, что у них уж не бьют учеников, как бывало нас все, от Петра Андреевича Азбукина, нашего инспектора, до его наперстника сторожа Леонова, которого Петр Андреевич не отделял от себя и, приглашая ученика “в канцелярию”, говорил обыкновенно: “Пойдем; мы с Леоновым восписуем тя” [97].
Еще позже, очевидно по собственным воспоминаниям, эта же формула — “восписуем тя” — применяется в описании воспитательных приемов училища, где фигурирует директор с “тевтонским клювом”, прообразом которого был Александр Яковлевич Кронеберг, и гимназический сторож Кухтин, с подлинной его фамилией, воспетый воспитанниками в стихах:
Как грозный исполин,
Шагал там с розгами Кухтин [98].
Вспоминая, как многолетний орловский губернатор П. И. Трубецкой засекал насмерть на Ильинской площади шпицрутенами лиц, подозреваемых в поджогах, Лесков прибавлял: “Несмотря на всю жуть Ильинской казни, некоторые маленькие ученики гимназии, не особенно секретничая, строчили такие письма (с угрозами поджогов. — А. Л.) “злым” учителям, между которыми, разумеется, были люди совсем и не злые. Так, например, писали директору А. Я. Кронебергу и учителю немецкого языка В. А. Функендорфу “за то, что он линейкой дрался” [99].
К месту сказать, что этот самый педагог, об отсечении которым в пьяном виде линейкою уха одному из гимназистов говорится в “Автобиографической заметке” Лескова.
Будущие московский профессор-эмбриолог А. И. Бабухин, физик К. Д. Краевич, художник Г. Г. Мясоедов, возрастом на два-три года младше, чем Лесков, догоняли и перегоняли его в третьем классе. Никакой товарищеской связи у него с этими “однокашниками” не замечалось, хотя бы и с живущими постоянно в Петербурге. Между тем он всех их помнил и не упускал случая печатно называть.
В 1888 году вышла книга Я. И. Горожанского “Памятная книжка Орловской губернии”. 28 июня появляется зоркий разбор Лесковым этой орловской памятки, озаглавленный “Достопамятные орловцы” [100]. Он переполнен упречными указаниями составителю длинного ряда не внесенных в справочное издание “заслуживающих особенного внимания своих земляков”. Среди них названы: М. А. Стахович. А. Т. Болотов, В. П. Безобразов, Г. А. Захарьин, Марко-Вовчок (М. А. Маркович), К. Д. Краевич… Последнему он в свое время даже написал полный уважения, хотя и холодноватый, некролог, завершенный малоожиданною по отношению к Орловской гимназии теплой признательностью: “Воспитание их (Краевича, Лескова и Мясоедова. — А. Л.) относилось к тому “строгановскому” времени, когда учителя в средних заведениях имели нравственное влияние на своих воспитанников, а в Орловской гимназии тогда был в числе других учителей человек необыкновенной прямоты и чистоты, Валерьян Варфоломеевич Бернатович, которого ученики его поминали и благодарили всю жизнь за то, что он умел дать их характерам известную крепость” [101].
Выходило, что не все было в гимназии безнадежно и духовно убого.
О самом учении в этом рассаднике знаний Лескову было “смешно и говорить”. Родители его, может быть не без помощи многоимущей тетки, ежегодно платят огромную по тогдашней цене денег, сумму в 600 рублей ассигнациями, или около 171 рубля серебром, за “право учения”, которым первенец упорно не пользуется.
В конце концов дело кончается жестоким конфузом: после пятилетнего пребывания в гимназии, осенью 1846 года, одаренный юноша отказывается от переэкзаменовки в четвертый класс и получает поистине жалкую “путевку в жизнь”:
“Предъявитель сего ученик 3-го класса Орловской губернской гимназии Николай Лесков, как видно из документов его, сын надворного советника Семена Лескова; от роду имеет пятнадцать лет, вероисповедания православного, поступил по экзамену в 1-й класс гимназии 29 августа 1841 г. и, находясь в ней по нижеписанное число, в продолжение всего этого времени вел себя хорошо и был переводим по испытаниям в высшие классы, из 1-го во 2-й класс в нюне 1843 г., и в них изучил положенные предметы с следующими успехами, а именно: священную и церковную историю с отличными, языки: русский до словосочинения с хорошими, латинский с хорошими, немецкий с достаточными, французский с посредственными, арифметику с достаточными, географию до подробного описания европейских государств с хорошими, чистописание с достаточными и черчение и рисование с достаточными. Но как он, Лесков, испытанию в предметах 3-го класса не подвергался, то если бы он желал поступить в университет или лицей, то, согласно предписанию господина министра народного просвещения от 16 октября 1841 года за № 10401, не прежде может быть принят, как по прошествии пяти лет со дня удостоения к переводу его в 3-й класс, т. е. с 1 июня месяца 1843 г. Кроме того, он, Лесков, как неокончивший полного курса гимназии, не может пользоваться правами и преимуществами, предоставленными таковым ученикам; при испытании же на первый классный чин он должен быть освобожден от такого испытания книг из священной и церковной истории и арифметики. В удостоверение чего и дано ему, Лескову, сие свидетельство по определению Совета Орловской губернской гимназии, состоявшемуся 20 сего августа. Орел. Август 20-го дня 1846 года” [102].
На горе отцу и матери, на еще большее себе, ставится крест на дальнейшее школьное образование. Пять лет стараний родителей идут прахом.
Своенравный старший сын, пользуясь личной безнадзорностью и явной мягкостью отца, находясь в гимназии, как нельзя более несвоевременно и длительно “учился праздновать”.
ГЛАВА 3. “ПРЕДЕЛ УЧЕНОСТИ”
Невольно возникает вопрос — какие же причины вынудили Лескова оставить гимназию?
Больше всего, кажется, их надо искать в равнодушии, если не отвращении, мальчика с пытливой мыслью и живым темпераментом к мертвенно-схоластической “учености” этой своеобразной школы.
Далее — грубость и бездушие многих насадителей этой учености, или сопутствуемых жестоко “восписующими” сторожами, а то и отсекающих, спьяну, кому-нибудь линейкой ухо.
Затем — полная свобода и бесконтрольность жизни у щедропитательной повитухи или на другой ученической квартире, при полном безразличии хозяев этих квартир к выполнению малолетним их постояльцем своих ученических обязанностей, приготовлению уроков.
Ко всему этому — с детских дней неодолимое влечение к запойному чтению книг, как на грех обильных в “масальской” библиотеке, открытой мальчику расположением Настасьи Сергеевны Зиновьевой. Последняя, как и ее библиотека, не забыта Лесковым, в той или другой мере, в письмах, статьях и беседах до последних лет, в боярыне Плодомасовой в “Соборянах” и в Протозановой в “Захудалом роде” [103]. Иногда она называется Анной Николаевной, иногда Настасьей Сергеевной, как когда вспомнится много лет спустя. Библиотека ее иной раз оказывается в селе Зиновьеве, а другой, что видимо достовернее, — в городе Орле.
Самое важное, биографически, подтверждено Лесковым в одной из самых поздних его бесед:
“ — Мне кажется, я подготовлялся к нему (литературному поприщу. — А. Л.) постепенно с самых малых лет… Началось это с чтения самых разнообразных книг, а в особенности беллетристов, во время моего пребывания в Орловской гимназии. Я в этом городе посещал дом А. Н. Зиновьевой, племянницы писателя кн[язя] Масальского. У г-жи Зиновьевой была богатая библиотека, доставлявшая мне массу материала для чтения, — я перечел ее почти всю… Так началось мое умственное развитие, продолжавшее затем быстро прогрессировать благодаря близкому знакомству с такими личностями, как, например, А. В. Маркович, муж писательницы Марко-Вовчек, и С. С. Громека”[104].
Кроме того — любопытство и восхищение мистическими опытами в наблюдении “зодий” полумифическим Голованом с его оригиналом — другом медником Антоном. Интерес к иконописным работам в ближней церкви, первое, так сказать, знакомство с изографами. Казни на Ильинской площади… Прелесть бесед в семье старого, кроткого “этапного” офицера и рассказы о карах, совершаемых над мелким “духовенным” на соседней с этапом монастырской слободке лютым местным архиереем, “крокодилом Никодимом”. Наблюдение, как “жарит на выскочку” полупомешанный губернатор князь Петр Иванович Трубецкой, которому надо уметь вовремя снять фуражку, чтоб не навлечь его гнева. Необходимость следить за “первым проблеском гласности в Орле, и притом гласности бесцензурной”. Выражалась она в том, что на Полешской площади, в окне квартиры некоего отставного майора Шульца, стояли чучела: “красный петух в игрушечной каске, с золотыми игрушечными же шпорами” и “маленький, опять-таки игрушечный же, козел с бородою”. Они “стояли друг против друга в боевой позиции, которая от времени до времени изменялась… То петух клевал и бил взмахами крыла козла, который, понуря голову, придерживал лапою сдвигавшийся на затылок клобук; то козел давил копытами шпоры петуха, поддевая его рогами под челюсти, отчего у того голова задиралась кверху, каска сваливалась на затылок, хвост опускался, а жалостно разинутый клюв как бы вопиял о защите” [105]. Что могло быть интереснее, особенно когда все знали, что это символизация междоусобной вражды “неуемного” архиерея Смарагда и “умоокраденного” губернатора Трубецкого. Дальше шли, не менее интересные, петушиные и кулачные бои и т. д. Везде столько любопытного, захватывающего, не успеть, кажется, всюду побывать, за всем уследить все пересмотреть, переслушать”.
А тем временем исподволь подкрадывается, особенно опасное в безнадзорности, отрочество… И защитить, оберечь от искушений междоусадебных “задов” и “угородцев”, на которых совершаются грехи всех видов и степеней, некому.
Кругом соблазны… И год от года больше, разновиднее и острее…
В масальской библиотеке он уже, наверно, прочел Фауста и в нем, полный пленительного яда, стих:
Теория, любезный мой, скучна,
А жизни дерево цветисто и прекрасно.
Цветы этого дерева были познаны, по жившим в родстве преданиям, не по годам рано и жадно. Они опьяняли мысль и ослабляли волю.
Живи родители в Орле, а он в своей семье, при властной и зоркой матери, дело шло бы иначе. Но они далеко, в Панине. Отец, видимо, и вправду “не лих” и “не лют”, можно его и не побаиваться. А юноша, как потом писал Семен Дмитриевич о своем первенце Д. Н. Клушину, “с характером сильным”.
Экономические причины исключаются совершенно. О них нет повода и говорить: он прекрасно помещен, накормлен, обслужен. Знай себе учись без всякой о чем-нибудь заботы, да и без особенного труда, так как ученье “смехотворно”. А подготовка к гимназии была обстоятельная: при нем в Панине “состоял” исключенный из семинарии дьяконский сын, ритор, который “учил меня латинским склонениям и вообще приготовлял к тому, чтобы я мог на следующий год поступить в первый класс Орловской гимназии не совершенным дикарем, которого способны удивить грамматика Беллюстина и французская — Ломонда” [106].
Несколько удивляет тут — почему не учил сына латыни, да и всему прочему, сам отменный “классик”, успешно прошедший полный курс семинарии, родной отец? Едва ли это подтверждает большую скудость семьи на пятидесяти пяти десятинах при двадцати двух “душах” и деловитой и умной хозяйке. Дьяконского-то сына ведь приходилось кормить и гривны какие-нибудь ему платить. Но Гораций Флакк, видать, интереснее Беллюстина.
Так или иначе, как сам Лесков писал впоследствии, был положен “предел правильному продолжению учености”. Об этом в тайне сердца своего он потом не раз горько пожалеет.
Для родительского самолюбия и планов это был удар. С отличием окончивший когда-то несравнимо более трудную школу, чем уваровская гимназия, отец был озадачен. Мать корила сына и леностью и безучастием к интересам семьи, как и к своим собственным. Через сорок лет, за полгода до своей смерти, на мой вопрос, в чем тут было дело, она, без тени прощения или забвения давней обиды, жестко отрезала: “не хотел учиться!”
Отсутствие солидного образовательного диплома болезненно уязвляло Лескова всю жизнь. И чем сильнее кровоточила эта рана, тем горячее хотелось убедить не только других, но и самого себя в том, что это результат не личного своеволия, а драматически сложившихся обстоятельств: смерти отца, гибели всего состояния семьи в знаменитом орловском пожаре, необходимости на жалкий оклад канцелярского служителя поддерживать семью, жившую, пусть и на невеликой, но на своей земле, со своими крепостными.
Мощь исключительного дара самовнушения приводит его с годами к почти искренней вере, что и на самом деле все так и было.
В родстве жило другое толкование, и факты говорят иное.
Семен Дмитриевич умирает через два года после выхода старшего сына из гимназии. Оба знаменитые орловские пожара не совпадают с гимназическими годами Лескова: первый был в июле 1841 года, то есть до поступления его в гимназию, второй в мае 1848 года, когда его уже два года в гимназии не было. В оба эти срока Лесковы жили уже в Панине, и никакое имущество у них в Орле не горело. К тому же, даже и после смерти отца двое из младших братьев Лескова пооканчивали и гимназию и университет, а третий — Орловский кадетский корпус.
Нет, не в пожарах и не в нуждаемости или сиротстве тут было дело.
Сторицею покрывает он потом мучительный дипломный изъян огромною начитанностью, но отсутствие полноценного диплома вредит всегда, везде, во всем.
Немало щекотливости вносило оно и в его позднейшее служебное положение неученого члена “Ученого комитета Министерства народного просвещения”, вызывая иногда болезненные уколы самолюбию со стороны некоторых широкодипломированных, но, может быть, узкомысленных товарищей по Комитету и литературных критиков.
Ошибка, совершенная по юношескому легкомыслию, оказывалась непоправимой.
Всю жизнь, кроме разве последних лет, случайно заданный кем-нибудь в оживленной беседе вопрос: “а вы сами, Николай Семенович, ведь тоже Киевского университета?” — был нестерпим и оставался или без внятного ответа, или как бы неуслышанным, заминался сторонней репликой.
Тушевалась эта сторона кое в каких и беллетрически-биографических вещах. К какому, например, выводу, клонили такие строки “Овцебыка”: “меня поучили в гимназии, потом отвезли за 600 верст в университетский город, где я выучился петь одну латинскую песню, прочитал кое-что из Штрауса, Фейербаха, Бюхнера и Бабефа и во всеоружии моих знаний возвратился к своим Ларам и Пенатам” [107]. Как после этого было не спросить об университете?
Не были во многом четки и точны и автобиографические справки. Делалось это преимущественно в более ранние годы по тем же мотивам, по которым большими неточностями полны некоторые автобиографии, писанные для печати.
Картина менялась в беседах или переписке с хорошо осведомленными людьми из литературного мира. Тоже “в науках не зашедшемуся” А. С. Суворину, хорошо знавшему многое из жизни Лескова, удобнее было писать, не чинясь: “Я ведь вполне самоучка и всем что знаю и что усвоил, обязан себе и двум добрым людям, которых нельзя не вспомянуть, давая сведения обо мне как о литераторе” [108].
Такими “добрыми людьми” могли быть некоторые киевские ученые — Н. И. Пилянкевич, И. Ф. Якубовский, И. М. Вигура, С. О. Богословский, “первый аболиционист” Д. П. Журавский… Но кроме них, еще в Орле, огромное влияние на молодого Лескова оказали гимназический его учитель, а позже старший сослуживец, И. М. Сребницкий, и особенно А. В. Маркович, вспоминая о котором, Лесков писал, что “обязан ему всем моим направлением и страстью к литературе” [109].
Об этих “добрых людях” он хранил благоговейную память, считал их своими наставниками, зародившими в нем духовные интересы, жажду знания, обратившими его “к солнцу”, к свету. Возможно, что общение с ними обидно поздно раскрыло ему, чтó он потерял, отняв у себя университет. Это не могло не приходить на мысль, но никогда не вылилось в открытое признание.
Рядом с этим с годами, по мере роста начитанности и углубления знаний, он не задумывался выражать колкое пренебрежение к легковесным, по его мнению, авторитетам, представляющим из себя зачастую не более как “бубен” или “пустой надутый пузырь, в котором гремит сухой горох” [110], прикрывающим свою бездарность и убожество громкими степенями и званиями.
“Удивляюсь, — говорил он уже в поздние годы, — как это среди нас можно говорить, где кто кончил курс наук. Что за департаментская точка зрения на человека! При определении его на службу спрашивают его аттестаты и дипломы; а в литературе нужны только честные и даровитые люди… Литератор — не ученый, а более чем ученый. Кроме ученых знаний, он понимает, куда с этим багажом следует ехать… В этом его преимущество… Я нигде не кончил курса, но не могу сказать, чтобы я не учился, так как до седых волос не расстаюсь с книгой. Можно ли сказать, что я не проходил высшего образования? В литераторе важно личное его настроение и дарование, а не то, где он окончил курс наук” [111].
Даже и здесь, уже в период полного признания его широкой общественностью, звучит больная нотка всегда точащей душу досады. Она сильнее и искреннее, чем попытка уврачевать дух самоубеждением, что и не учась смолоду, можно позже многое наверстать. Иначе почему из всех русских писателей в одном Тургеневе Лесков видел стройно и много учившегося человека.
Знания и школа никогда не вредили таланту. Они его обогащали, придавая глубину, красоту и блеск, как грань алмазу.
На самомнящих, заскорузло-ученых он никогда не уставал ополчаться в статьях с достаточно говорящими заглавиями, как, например: “Ученые общества” [112], “Российские говорильни” [113], “Академический магистр” [114], “Ученое олимпийство” [115] и т. д.
Наоборот, всегда с полным уважением произносил он имена таких, как С. М. Соловьев, П. Н. Кудрявцев, Т. Н. Грановский, Н. И. Костомаров, Ф. И. Буслаев и многих других.
Вопрос об образованности Лескова был через пять лет после его смерти довольно неловко вынесен на столбцы “Нового времени” бывшим его сослуживцем по Ученому комитету Министерства народного просвещения В. Г. Авсеенкой.
Совершенно неожиданно, вместе с третьим его “маленьким фельетоном” на эту тему, в том же номере газеты появился беспощадно сводивший на нет все потуги Авсеенки доказать “худость” Лескова “большой” фельетон, относивший Лескова к образованнейшим людям своего времени.
“Лесков, — писал автор статьи, — это — училище, сокровище ума, образования, размышления, не говоря уже о наблюдательности; он возбуждает бездну теоретических, так сказать “университетских” вопросов, и очевидно чрезвычайно многое для себя “университетски” же, со строгостью профессора, но и еще с прибавкою таланта, разрешил. В невежестве можно признаться, когда это утилитарно, может послужить делу, доказыванию. Итак, сознаюсь, что из печатавшихся теперь о нем заметок я впервые узнал, что Лесков в университете не был, да и вообще нигде не кончил” [116].
“Самоучка” уже не всегда и не всеми чувствовался.
ГЛАВА 4. ОРЛОВСКАЯ УГОЛОВНАЯ ПАЛАТА
Потеряв гимназическую позицию, подросток оказался в трудном положении: что делать, куда идти?
Не в Панино же, где и отцу-то себя применить не к чему! Да там еще и не умиленная происшедшим мать…
Широкие пути, открывавшиеся тогда университетом, закрылись. Горизонт обидно сужен. Приходится искать какого-то устройства в Орле или в Кромах. Благо тут еще есть не совсем заглохшие связи у отца и влиятельное богатое родство, у которого он, случалось, встречал самого “умоокраденного” губернатора Трубецкого. Но все они, по совести сказать, порядочно насолили своим аристократизмом и великолепием. Недаром самолюбивый отец поместил его с первого же класса на наемной квартире, а не нахлебником, из милости, у кого-нибудь из видных “свояков”. Много пришлось хлебнуть горького на родной Орловщине, и в душе всегда мечталось со временем уйти из нее.
Не удивительно, что в начальном писательстве ей отводятся подчас очень “неудобные” строки. Чего стоит хотя бы такое баснословие о разделе земли между Христом и дьяволом. “ — Он хитер, ух как хитер, — говорил речистый рассказчик, имевший самое высокое мнение о чорте. — Он возвел господа на крышу и говорит: “Видишь всю землю, я ее всю тебе и отдам, опричь оставлю себе одну Орловскую да Курскую губернии”. А господь говорит: “А зачем ты мне Курской да Орловской губернии жалеешь?” А чорт говорит: “Это моего тятеньки любимые мужички и моей маменьки приданая вотчина, я их отдать никому не смею…” [117].
Однако не так страшен черт, как его малюют. В этой же “самой воровской и разбойничьей губернии”, населенной “проломленными головами”, стойко жили слышанные Лесковым еще в детстве от тетки Пелагеи Дмитриевны предания о благородных разбойниках, как Кудеяр, а самому выпадало встречать прообразы своих будущих “праведников”, чистых сердцем Котина Доильца, Ивана Флягина, Храпошку, худого дворника Селивана и т. д., “до бесконечности”… В самом “прогорелом” Орле живут такие чудесные люди, как целитель травками купец Крылушкин, низводящий с солнца огонь и наблюдающий вместе с Голованом “зодии” медник Антон, добряки и бессребреники, всех не перечтешь.
Так или иначе — надо было куда-то “поступить”. Но куда? Слишком малый возраст не допускал определения на “коронную” службу. После двух-трех месяцев тяжелого межеумья, в которые Семен Дмитриевич успел списаться кое с кем из старых сослуживцев, Николая Семеновича удается пристроить в уголовную палату, помнившую еще, как успешно подвизался когда-то в ней его отец. Но в какой же роли? О, в самой жалкой — вольнонаемного служителя, одним из писцов, начинавших карьеру где-нибудь в углу, за шкафом, на табуретке, с гусиным пером за ухом и традиционной помадной банкой вместо чернильницы.
Плохо, но все же выход из тупика, выход на какую-то, пусть и ничего не обещавшую в будущем, но дорогу. Конечно, предстоит немало унизительного. Еще бы: между положением воспитанника губернской, по преимуществу дворянской гимназии и вольнонаемного писца какого-то приказа — бездна!
В гимназическом мундирчике можно равноправно чувствовать себя в любой гостиной, в любом “хорошем доме”. Не только можно, но даже должно появляться в указанные дни и у боярыни Плодомасовой-Зиновьевой, и у Страховых, и у Тиньковых, и у Кологривовых, словом, у всех, ревниво державших претенциозный тон родственников и свойственников, принадлежавших к “губернскому свету”. А как там показаться во образе подканцеляриста? Да и гардеробчик небось похрамывает. Не закрылись ли двери их “салонов”? Не осторожнее ли в новом своем звании спуститься в значительно более скромные слои городского населения, в среду мелкого приказничества? Неизбежно так. Какая уж тут светскость и близость с богатеями и персонами! Приходилось кругом смириться.
Первоначальный искус в палате тянется с полгода. Неофиту исполняется, наконец, полных шестнадцать лет. Становится возможным зачисление на государственную службу. Он подает установленное прошение, прилагая к нему любопытный документ;
Подписка
“1847 г. мая 3 дня я, нижеподписавшийся, согласно примечанию к 407-й статье 3-го тома устава о службе и определению от правительства, дал сию подписку Орловской палате уголовного суда в том, что я не принадлежу ни к каким масонским ложам и другим тайным обществам, под какими бы то они названиями не существовали, и что впредь к оным принадлежать не буду. Из дворян Николай Семенов сын Лескова руку приложил” [118].
Четверть века спустя Лесков вспомнит эту подписку в одной из своих статей [119].
При всей безрадостности предстоящей приказной службы на ней ему выпадает серьезная удача попасть под непосредственное начало и руководительство одного из лучших своих гимназических учителей — Иллариона Матвеевича Сребницкого, исполнявшего обязанности секретаря палаты. Становится не так страшно, но сиро в чужой среде и обстановке. Это мягкий, любящий литературу человек, который позже будет давать свои критические отзывы о первых произведениях начинающего писателя, а затем и подтверждать подлинность гимназических сцен, воспроизведенных в “Смехе и горе” [120].
Сребницкий [121] был одним из наиболее любезных Лескову, по воспоминаниям коренных орловцев. С ним он изредка переписывался и посылал ему отдельные свои издания. Несомненно, Лесков видел и помнил в нем первого своего руководителя в чтении более современных литературных произведений, с критическим уже подходом к читаемому. Это была не простая задача, и ученик сохранил заслуженную благодарность учителю за ее выполнение.
Здесь сам собой напрашивается непустой вопрос. Много раз пытался я дознаться о происхождении неблагозвучного, нерусского псевдонима, придуманного в начале литераторства, — “Стебницкий”. Спросить об этом самого отца я так никогда и не решился, так как хорошо знал, со сколькими огорчениями связана была его деятельность, шедшая под этим именем. Ничего не знал тут и кто-нибудь в родстве. На исходе 1920-х годов я много раз навещал в Детском Селе (город Пушкин) покойного библиографа произведений Лескова — Быкова. Сидя с ним как-то летом в парке, я задал ему давно мучивший меня вопрос.
“Да, да, как же! Стебницкий! — всегда готовно и дружелюбно откликнулся уже почти совсем разрушившийся Петр Васильевич. — Как же, помню! Это, видите ли, как говорили тогда, сложилось само собой, вернее переделалось… Он взял, собственно, “Степницкий”, от слова степь, степной, мол, человек. Он ведь долго жил в Пензенской, степной губернии. Ну, вот и выбрал… А потом как-то глухое “п” само перешло в ясное “б”, ну и вышло — “Стебницкий”.
Утомлять переспросами и возражениями вельми дряхлого, начинавшего уже после длинной реплики и напряжения мысли впадать в дрему собеседника я не смел. Однако принять данного мне объяснения не мог. Нет, думаю, не в степи тут дело. Так и остался при прежнем своем домысле: буква-то одна изменена не в “Сребницком” ли? “Рцы” заменено “тако”. Тут и отроческие воспоминания, и литературное просвещение, глубоко запавшая за многое благодарность. С такой догадкой мириться легче, она к чему-то ближе [122].
В июне 1847 года приезжает в Орел высланный туда по известному “костомаровскому” делу А. В. Маркович. Для более удобного наблюдения за ним губернатор Трубецкой назначает его помощником правителя своей канцелярии. Появление этого образованнейшего и преданнейшего литературе молодого еще совсем человека сыграло для многих в Орле, а может быть, всего больше для Лескова, исключительную роль. О том, как она была велика, неопровержимо свидетельствуют два ярких показания самого Лескова.
На шестом десятке лет, выдвинув свои соображения относительно правильности некоторых биографических данных о Марко-Вовчок, приведенных профессором Киевской духовной академии Н. И. Петровым в его “Очерках истории украинской литературы”, Лесков говорил об “Опанасе”: “Афанасий Васильевич сосредоточивал в себе много превосходных душевных качеств, которые влекли к нему сердца чутких к добру людей, приобретали ему любовь и уважение всех, кто узнавал его благороднейшую душу. Литературное образование его было очень обширно, и он обладал уменьем заинтересовывать людей литературою. В общем отношении он принес в Орле пользу многим. Этот-то замечательный молодой человек встретил Марью Александровну Вилинскую, которая, кроме своей несомненной природной даровитости, обладала также и прекрасной наружностью. Афанасий Васильевич полюбил молодую красавицу, и они сочетались браком — девица Вилинская стала г-жою Маркович, из чего потом сделан ее псевдоним Марко-Вовчок. Вскоре имени этой молодой дамы суждено было “расти, а имени Афанасия Васильевича — “мáлитися”, но в сумме влияний, благоприятных раскрытию душевных сил и таланта Марко-Вовчок, Афанасий Маркович, по мнению многих, имел не малое значение. Во всяком случае он значил, конечно, гораздо более, чем орловский институт, который привлечен сюда Н. И. Петровым совершенно напрасно” [123].
На запрос задетого заметкой редактора журнала, публиковавшего “Очерки”, Лесков твердо отвечает:
“Заметка о Марко-Вовчок была моя, и я думаю, что Петров ошибается: М. А. не могла быть в орловском институте, и ее развитие всецело принадлежит ее прекрасному мужу, которого я очень хорошо знал и любил, да и обязан ему всем моим направлением и страстью к литературе. Он давно умер, убитый горем и, может быть, бесславием… Пусть Петров разъяснит: была ли она в институте, и очеркнет характерную и милую личность “пана Опанаса”, которого супруга всегда стремилась стушевать ниже Пассека пли Карла Бенни, иже недостойни быша разрешить ремень у ног его” [124].
Теплая память и глубокая признательность выливаются в массе упоминаний о “милом Опанасе” вплоть до самых предсмертных дней [125].
Приведенные выше строки “Заметки” отведены целиком ему же, но там есть и другие, не менее ценные и характерные:
“В Орле, в этом странном “прогорелом” городе, который вспоил на своих мелких водах столько русских литераторов, сколько не поставил их на пользу родины никакой другой русский город…”
Здесь уже прямая гордость своим Орлом. Это уже не “чортова вотчина” начала литераторствования, а удовлетворенное запечатление огромных заслуг своей земли перед своею родиной.
Но это все пришло, когда за плечами были десятки лет литературной работы, известность, кое-какая удовлетворенность совершенным и вера в дальнейшую возможность “совершать”.
В 1846 году Орел не сулил ничего. Приходилось идти, куда брали. А брали в жестокую школу! Обычаи и нравы в ней царили зловещие, темные… Но они же с беспощадной суровостью обогатят память, опыт и палитру будущего бытоописателя, беллетриста.
Много чудесного в этой области мог слышать Лесков раньше от своего отца. Теперь он будет узнавать уже сам, лично, непосредственно из “дел”, из их течения по темному руслу негласного правосудия, которое на всю жизнь возненавидит и воспоминания о котором будет всегда сопровождать жарким скандированием любимых строк Хомякова (“России”, 1854):
В судах черна неправдой чёрной
И игом рабства клеймена;
Безбожной лести, лжи тлетворной
И лени мертвой и позорной
И всякой мерзости полна!
Из этого судилища выносятся темы не одного драматического произведения, очерков, как “Погасшее дело”, “Язвительный”, “Леди Макбет Мценского уезда”.
Одному тюрьмоведу Лесков писал: “Мир, который вы описываете, — мне неизвестен, хотя я его слегка касался в рассказе “Леди Макбет Мценского уезда”. Я писал, что называется, “из головы”, не наблюдая этой среды в натуре, но покойный Достоевский находил, что я воспроизвел действительность довольно верно” [126]. Иначе, надо думать, он и не поместил бы рассказа в “Эпохе” [127].
Несомненно, что пребывание в орловском судилище привило Лескову незаурядный, как бы профессиональный, интерес к криминалистике. Отдавшись уже коммерческой деятельности, он почему-то в маленьком городишке Пензенской губернии Городище внимательно осматривает местную тюрьму [128]. Через три-четыре года в Петербурге, пожалуй еще пристальнее — знаменитый “Литовский замок”, отводя этому посещению обширные столбцы в номерах газеты [129].
“Я не могу брать фактиком, а беру кое-что психиею, анализом характера” [130], —определял однажды Лесков свои приемы творчества, почему-то забывая о впечатлениях и опыте, вынесенных еще из “полного неправдой черной” губернского уголовного суда, который бросил при первой к тому возможности.
В “Некуда” в одной главе между собеседниками ведется спор — бывают ли у простонародья драмы даже и тогда, когда налицо есть чья-либо гибель или убийство? Напоминается при этом и “Гроза” Островского и “Горькая судьбина” Писемского [131].
В качестве журналиста Лесков давал рецензию и вообще останавливал внимание на книге “Сборник русских уголовных процессов” [132].
И сам он всегда заинтересовывался каждым оповещенным в газетах преступлением и следовавшим затем процессом.
Обнаружение на льду трупа двухлетней девочки вызывает его острую заметку. Следователь просит его дать свое заключение о найденном на ребенке образке. Лесков охотно едет и дает “весьма полезные указания для обнаружения виновных” [133].
В разгар громкого в свое время процесса об убийстве юной Сарры Беккер, в котором поочередно подозревались некий Миронович и “психопатка” Семенова, Лесков пишет в связи с этим “делом” ряд статей и заметок, колко полемизируя в них с “Новым временем”, а отчасти и с “Новостями и биржевой газетой”. Некоторым из них он дает оригинальнейшие заглавия, в некоторых прибегает к мистико-библейскому устрашению убийцы. Не упустил осудить и кое-какие приемы следствия [134].
Почти негодующие и властно делались им указания в статье с зловещим заглавием “Женская тень, преследовавшая Семенову”. В ней были такие строки:
“Встарь подозреваемых в убийстве лиц так не охраняли, и встарь их нарочно приводили в сближение с трупом жертвы и наблюдали за ними при этом, а равно наблюдали и за их чувствами и ощущениями, вызываемыми воспоминаниями.
…Мы не поклонники старого судопроизводства. Мы хорошо помним все его недостатки и злоупотребления, далеко оставляющие за собою промахи и несовершенства нынешнего суда, — во всяком случае гораздо лучшего. Но что смущает общество, то смущает и нас: мы не понимаем целесообразности в тех смешных деликатностях с лицами, на вине которых лежит подозрение в преступлении и душу которых потому надо обнажить до дна, а не разводить с ними финты-фанты, осведомляясь: не угодно ли им не смотреть туда, куда они обязаны посмотреть”. Дальше говорится, что за подозреваемой Семеновой во время содержания ее на экспертизе в сумасшедшем доме неотступно следовала женская тень, и наконец, почти в стиле уголовного романа, применяется острый завершительный эффект: “тень знает того за кем ходит…” (курсив подлинника. — А. Л.).
30 июня 1847 года Лесков “вступил в Орловскую палату суда и причислен Орловским губернским правлением ко 2-му разряду канцелярских служителей” [135].
За истекшие полгода он, видимо, успел ознакомиться с различными законоположениями, в том числе и с тем, по которому дворяне определялись тогда в военную службу капралами, то есть унтер-офицерами, а в гражданскую — канцелярскими служителями первого разряда.
Ну тут-то совершенно некстати и выяснилось, что, поглощенный переводами Ювенала и Флакка, Семен Дмитриевич, получив право на потомственное дворянство еще в 1825 году, двадцать два года не собрался оформить последнее. Это характеризует его равнодушие к некоторым вопросам и беззаботность о правах давно начавших появляться детей. В первую голову это сказалось на Николае Семеновиче, который по образованию прав на канцелярского служителя первого разряда не имел, а документально подтвердить свое дворянство оказалось нечем. Сословное преимущество могло здесь сослужить хорошую службу, но… отец сплоховал! Явно под давлением сына Семен Дмитриевич 10 февраля 1847 года подает, наконец, более чем запоздалое прошение. В результате 11 марта 1848 года состоялось, тоже неторопливое, определение Орловского дворянского депутатского собрания: его с детьми внести в третью часть дворянской родословной книги, а соответствующие акты “вручить согласно прошению г. Лескова сыну его Николаю Лескову”. Сладилось дело едва не в канун смерти нечестолюбивого просителя. Что же касается до утверждения дворянства Департаментом герольдии Правительствующего сената, то таковое последовало уже полгода после смерти Семена Дмитриевича — 28 декабря 1849 года [136].
Получив на руки “определение” Орловского депутатского собрания, Николай Семенович представляет его по месту своей службы и без помехи причисляется “к первому разряду канцелярских служителей 1848 г. июля 28”.
В этом же месяце он теряет отца. Смерть последнего ничем не сказывается на судьбе старшего сына, да и семьи. Николай Семенович продолжает служить в Орле. Мать привычно хозяйствует в Панине. Мелкота при ней. Одиннадцатилетний Алексей Семенович — по определению отца, “юноша с большим талантом” — прекрасно успевает в Орловской гимназии, а летние вакации проводит в Панине же. Все идет как шло, по-прежнему, не возлагая никаких забот и обязательств на старшего из сыновей.
Младочиновные годы Николая Семеновича текут по “.высочайше утвержденному”, так сказать, для приказных тех времен образцу: “забрасываются первые щенята” — читай: оставляется в ближайшем трактирчике первое жалование “во оставление сухомордия и в мочемордство вечное” [137].
Обычные картины провинциально-приказной жизни “глухой поры”.
С трепетом вспоминает о них писатель на закате жизни. Наблюдая, как гибнет искренно ценимый им поэт К. М. Фофанов, с горечью и ужасом проводит он жуткую параллель:
“Это поэт с головы до ног, непосредственный, без выдумок и деланности. Он творит даже против воли. Но и пьет, может быть, против воли. Страшно пьет, как теперь в редкость, но как пивали мы когда-то: целой компанией до бесчувствия; просыпаясь, находили себя в комнате на кровати, на диване, на голом полу, без подушек, без одеял — одетыми, полуодетыми и совершенно раздетыми, с головой на чужих ногах. Страшное было время!.. Да…” [138].
В письме к очевидному былому сподвижнику в подобных молодечествах остаревший писатель элегически перебирает орловских товарищей юных своих лет:
“Помню не только последнюю нашу встречу в Орле… но помню гораздо более раннюю пору — жизнь нашу близ Василия Велик[ого], у Хлебникова; чернокудрого “Евгена” с его “штанинами”, корявого Лаврова, глистовидного Георгиевского в коричневом “франтове” с Ильинки, Жданова с шишкой на скуле и вас, отменно чисто выбритого, в “пальто-греке” летом и в “хорьках” зимою. Помню Журавлева и Марковича и… вот всех их уже нет в том явлении, в котором мы их знали, а остались вы да я… Немного. Мы с вами, я думаю, ровесники, или вы немножко меня постарше. (Я родился 4 февраля 1831 года.) Оба, значит, старики и прожили жизнь совсем на различный манер, но друг друга помним и, надеюсь, рады бы встретиться” [139].
В следующий раз идут дополнительные вопросы: “Эти где? Живы ли и во что произошли? Все это ведь “могикане” приказничества… Теперь ведь и “род сей изъялся”, и чем он заменился? Кажется, все-таки стало лучше того, что было во время оно. По крайней мере так мне кажется” [140].
Впрочем, и в одном из уже “изъявшихся”, в чернокудром “Евгене” признается “широта и размах”, которыми тот отличался от людей скаредной “приказной породы”.
Твердой рукой художника, накоротке, дан сочный “пэозаж” и “жанр” первых дней уже вполне самостоятельной жизни Лескова.
На всходе ее было чего насмотреться, что практически усвоить, на что, частию “с содроганием”, частию с улыбкой и признательностью, оглянуться…
Восемнадцати с половиной лет, 27 сентября 1848 года Лесков “определен помощником столоначальника Орловской уголовной палаты”.
По-своему немалая удача. Она грозила вовлечением молодого чиновника в круговорот узких служебных интересов, местных успехов, а с тем и легко возможным прирастанием к “своему месту”, свычкой с провинциальной “дрязгой”, помянутой уже карьерой статского советника В. Л. Иванова с венком на гроб от губернатора.
Судьба смилостивилась: киевский дядя выражает готовность помочь неудавшемуся племяннику. А о прелестях столицы Украины юноша уже вволю наслушался столько манящего от во всем достоверного Марковича.
7 сентября 1849 года Лесков берет двухмесячный отпуск и едет в Киев на разведку. На месте колебания быстро отпадают, но идут поиски. 28 сентября он подает прошение в Киевскую казенную палату о “перемещении” его “в оную” на службу. 31 декабря он зачисляется “в штат” этой палаты, а 24 февраля 1850 года “определен помощником столоначальника по рекрутскому столу ревизского отделения”.
С Орлом покончено “навечно”.
ГЛАВА 5. КИЕВ
“Перемещение” из глубоко захолустного Орла в университетскую столицу Украины сыграло неоценимую, решающую роль во всей дальнейшей судьбе Лескова.
Положительным “откровением” явился для него уклад общественной жизни, умственный пульс, культура этого, в те годы еще во многом украино-польского, города. Он был ошеломлен и очарован сравнительной мягкостью новых для него “лыцарских” нравов, традиций, характера отношений, живучести исторических преданий, заповедей.
Париж после Петербурга, как и Петербург после Киева не поражали его так, как поразил Киев после Орла, Кром, Собакина…
За десяток лет жизни здесь он жадно прислушивался к украинскому и польскому языкам, хорошо их усваивал и знакомился с их литературами. Однако, с огромным любопытством изучив их и с благодарностью кое-что переняв от них в приемах письма, он сохранял неколебимую убежденность, что родная русская литература была богаче, сильнее и жизненнее польской и тем более “малорусской”.
На протяжении всего литературного своего пути он неизменно черпает материалы для безотрадно-жутких картин — из своих орловских, пензенских, поволжских, вообще великорусских впечатлений и памятей (“Засуха”, “Житие одной бабы”, “Леди Макбет нашего уезда”, “Коровья смерть” в “На ножах”, “Пугало”, “Продукт природы”, “Тупейный художник”, “Юдоль”, “Загон”, “Пустоплясы”), а для “пэозажей” и “жанров”, полных юмора или хотя бы и злой, но веселой, искрящейся сатиры, — из украинских (“Некрещеный поп”, “Путимец”, “След ноги богоматери”, “Старинные психопаты”, “Печерские антики”, “Заячий ремиз”).
Приступая к развертыванию одной из полуапокрифических своих повестей, с детства остро наблюдательный и хорошо памятливый, старый писатель поучительно завещает и исповедует:
“И мне стал припоминаться целый рой более или менее замечательных историй и историек, которые издавна живут в той или другой из русских местностей и постоянно передаются из уст в уста от одного человека другому. Большинство из них пользуется репутацией самых достоверных событий… Между тем все подобные истории должны быть дороги литературе и достойны сохранения их в ее записях. Эти истории, как бы кто о них не думал, есть современное продолжение народного творчества, к которому, конечно, непростительно не прислушиваться и считать его за ничто. В устных преданиях или даже в сочинениях этого рода (допустим, что есть чистейшие сочинения) всегда сильно и ярко обозначается настроение умов, вкусов и фантазии людей данного времени и данной местности. А что это действительно так, в том меня достаточно убеждают записи, сделанные мною во время моих скитаний по разным местам моего отечества. Так, например, в преданиях (или, пожалуй, в вымыслах) малороссийских всегда преобладает характер героический напоминающий сродство здешней фантазии с вымыслами польских сочинителей апокрифов о “пане Коханку”, а в истории великорусских и особенно столичных, петербургских — больше сказывается находчивость, бойкость и тонкость плутовского пошиба. Очевидно, фантазия людей данной местности выражает их настроение…” [141].
В начале другого рассказа, на двадцать третьем году писательства, Лесков дает твердое автобиографическое заявление:
“Меня в литературе считают “орловцем”, но в Орле я только родился и провел мои детские годы, а затем в 1849 г[оду] переехал в Киев” [142].
В Орле, значит, “только” родился да прожил слишком ранние и менее значительные годы, а лета наиболее ценных, сильных и воздействующих на духовное формирование впечатлений как бы полностью отдаются Украине.
Отсюда неизмеримо большая теплота воспоминаний киевских перед орловскими, особая их мягкость, прозрачность.
Переходя дальше в том же очерке к рассказу, каким он “зазнал этот милый город в его дореформенном виде”, Лесков особенно оттеняет: “Но всего более жаль тихих куртин верхнего сада, где у нас был свой лицей. Тут мы молодыми ребятами, бывало, проводили целые ночи до бела света, слушая того, кто нам казался умнее, — кто обладал большими против других сведениями и мог рассказать нам о Канте, о Гегеле, “о чувствах высокого и прекрасного” и о многом другом, о чем теперь совсем и не слыхать речей в садах нынешнего Киева. Теперь, когда доводится бывать там, все чаще слышишь только что-то о банках и о том, кого во сколько надо ценить на деньги… Нравы, собственно говоря, изменились еще более, чем здания, и тоже, может быть, не во всех отношениях к лучшему. Перебирать и критиковать этого не будем, ибо “всякой вещи свое время под солнцем”, но пожалеть о том, что было мило нам в нашей юности, надеюсь, простительно” [143].
Лесков первоначально застает еще тот Киев, о котором с таким увлечением говорил ему Маркович, снабдивший его рекомендациями к ценным людям.
С горечью наблюдал он потом, в какую апатию погружалось киевское общество, чуждое помыслам о чем-либо, кроме неустанного приумножения прибытков. Все остальное сходило на нет.
Грустью напоены его строки о когда-то таком “милом городе”:
“Чудный, странный, невероятный и во многих отношениях невозможный этот живописный златоверхий Киев — сия “мати городов русских”. Город непомернейшей дороговизны среди богатейшей природы и плодороднейшего края; город университетский, но содержащий такой низкий уровень общественного образования, что люди, очутившиеся там из Тулы, Орла, Курска или Воронежа, поражаются мудростью общественной жизни и многостороннею неразвитостью местного населения; город на судоходной реке, в центре свеклосахарного производства, но без сколько-нибудь значительного судоходства и почти без всякой торговли; город с стотысячным почти населением, разбросанным на тридцативерстном пространстве, но без всяких дешевых общественных средств сообщения и без воды, — таки буквально без воды над Днепром! Водопроводов, которыми обладает не только плохой из губернских городов Орел, но даже уездный город Муром, в Киеве нет… для Киева это еще “азиатская роскошь”, ему нужнее европейские монументы!” [144] Тут же говорится, что при приезде в Киев 31 июля 1857 года Александра II на вопрос его, чего недостает Киеву, городской голова скорбно доложил: “триумфальных ворот!”
Голова этот, по фамилии Покровский, полностью назван Лесковым в рассказе “Бесстыдник” [145] как купец, доставлявший умопомрачительную семгу севастопольским “провиантщикам”. Он триумфально разжился на подрядах в армию. Теперь его занимали никому не нужные триумфальные ворота, а не благоустройство города, не интересы его населения…
Это был махровый представитель “дельцов” новой формации. Число их множилось, они успевали во всем, вызывая широкое подражание.
Прежний киевский приятель Лескова, ректор Киевской духовной академии Филарет Филаретов на взволнованные письма его отвечал: “Не дивитеся сему — банковое направление все заело. В Киеве ничем не интересуются, кроме карт и денег” [146].
Как же устроился в Киеве Лесков самое первое время по своем приезде из Орла? Жить, конечно, пришлось у дяди, хотя ему, хорошо хлебнувшему всяческой свободы в Орле, это было и не особенно по вкусу.
“Я, — не совсем полно повествует он сам, — с приезда поселился на Житомирской улице[147], в доме бывшего секретаря комиссариатской комиссии Запорожского (тоже в своем роде антика), но, совершенно одинокий и предоставленный самому себе, я постоянно тяготел к Печерску, куда меня влекли лавра и пещеры, а также и некоторое, еще в Орле образовавшееся, знакомство” [148]
Дядя Сергей Петрович по натуре не мягок, но к судьбам племянников не безучастен. Без него двум из них не видать бы университета. К племяннику-недоучке он не мог питать большого расположения. Того это язвило.
Бесспорно однако, что жизнь у строгого дяди привела Лескова к сближению с рядом молодых профессоров. Это были как бы “университетские” его годы. Но только “как бы”. Беседы с университетскими товарищами дяди не могли заменить правильного прохождения университетского курса, слушания лекций и т. д. Не могли заменить этого и дружеские диспуты до бела света в куртинах верхнего сада.
Более чем апокрифично и упоминаемое некоторыми воспоминателями или биографическими “скорохватами” вольнослушательство Лескова в университете. На это у чиновника рекрутского присутствия под строгим началом сурового А. К. Ключарева, которого “боялись” [149], времени не выкраивалось. К тому же, согласно университетскому уставу 1828 года, вольнослушателями допускались лишь лица с соответственными аттестатами, но и такой допуск иногда, как, например, в 1849 году, совершенно воспрещался особыми распоряжениями Министерства народного просвещения.
В одной статье Лесков прямо заявлял, что “мальчиком приехал из Орла в Киев и поселился у дяди моего, профессора Алферьева. В доме дяди, поныне здравствующего, я встречался почти со всеми молодыми профессорами тогдашнего университетского кружка и, несмотря на мою едва начавшуюся юность, пользовался от некоторых из них благорасположением и даже доверием” [150].
“Приватно”, конечно, кое-что он мог слушать даже и много позже, например, лекции доктора А. П. Вальтера в аудитории университетского анатомического театра, о которых сам оповещал в печати [151].
Раз, говоря о Киеве и явно подразумевая самого себя, Лесков писал, что город этот “в течение десяти лет кряду был моею житейскою школою” [152]. Это бесспорно и не требует подтверждения.
Вперемежку с жаждой восполнения всеми доступными средствами пробелов в образовании обуявала жажда и иного свойства.
Надзирать за племянником дяде было некогда, да и не любопытно. Это позволяло широко платить дань, еще на родине познанным, соблазнам, отдаваться порывам необузданной натуры и ключом бившему избытку сил. Сам он, уже писателем, не раз дает картины грандиозных кутежей в трактире Рязанова на Трухановом острове, за Днепром, или у Круга, Бурхарда и Каткова или гомерических боев студентов, в рядах которых сражался и он сам, с саперными юнкерами в нескромных пансионах, ютившихся по Андреевскому спуску [153].
К чуть более поздним годам должны быть отнесены и другие, с библейской простотой и совершенной “неприкровенностью” дважды печатно поведанные подробности о том, как степенные “добрые люди” хаживали на Печерск [154] в укромные закоулки этой глуховатой части города, где “мешкали бессоромни дивчата”, со своею “горилкою, с ковбасами, с салом и рыбицею”, причем наиболее богомольные из этих “дивчат” позволяли гостям пребывать у себя не позднее “благодатной”, то есть до второго утреннего звона в лавре.
Если в Орле проблеском гласности являлись лишь символические чучела козла и петуха в окне серенького домика на Полешской площади, то в Киеве она, казалось, била ключом. Чего стоили в ее распространении одни “цукерни” с их газетами, непрерывной сменой посетителей, картами, бильярдами, неумолчной болтовней, обменом новостями, слухами, сплетнями; а уличная, уже почти южная, оживленность, особенно яркая на Крещатике или, в другом роде, на Александровской улице Подола; ярмарочная горячка в февральские “контракты”, как назывались грандиозные съезды представителей торгово-промышленного и сельскохозяйственного мира всей “золотой Украины”, сопровождавшиеся широкой ярмарочной торговлей в зоне “Контрактового дома” в глубине Подола?
Сколько оригинальных, иногда карикатурных фигур! Вот каков, например, обычно гордо выступавший по Крещатику чиновник, без тени смущения выставивший на своих визитных карточках: “Статский советник Блюм. Киевский почтовый люстратор” [155]. При встрече с знакомыми он имел милое обыкновение говорить: “А… вы еще живы!” Привычку эту он бросил только после того, как, по словам Лескова, один болезненный и мнительный человек на такое приветствие тут же, на Крещатике, около самой почты, ответил ему несколькими ударами своей увесистой трости.
Отношения и знакомства завязывались и поддерживались тут легко, народ был по преимуществу приветливый и общительный. Служивший у самого Д. Г. Бибикова, “непобедимодерзкий” и развязный В. И. Аскоченский рьяно разносил из Липок самые последние новости и распоряжения генерал-губернаторского “двора” и высшего административного круга.
Жизнь в доме комиссариатского секретаря Запорожского вела к знакомству с родственными Гоголю Чернышами, немало рассказывавшими о великом писателе. В частности, это дало Лескову тему для “апокрифического” сказания “Путимец” [156], городские беседы породили заметку “Кто выгнал на улицу Гоголя” [157].
Тут же своеобычно подвизался в иерейском служении почти легендарный по доброте, самоотверженности и беззаботности “поп Юхвим” Ботвиновский, великолепный танцор, бильярдный игрок, охотник с гончими и вообще “такой человек, каких родится немного и которых грешно и стыдно забывать”. Лесков и не забыл его “многократно и многообразно” [158], вместе с его разучившимся грамоте дьячком Константином Ломоносовым, прототипом Котина Доильца [159].
Водились в Киеве и знаменитые богатыри, в числе которых значился опять-таки “приснопамятный” Аскоченский и особенно отличался торговый человек, Голиаф — “Ваничка” Кассель, чистый, “беспримесный” хохол, “наказанный за какой-то родительский грех иноземною кличкою”. Я лично прекрасно помню эту великолепную фигуру, когда ее обладатель был уже владельцем магазина “офицерских вещей” в Петербурге, в Гостином дворе по Невской линии, и я у него по указанию моего отца не раз “экипировался” [160].
Происходит сближение Лескова и с художественным миром, — в лице И. В. Гудовского [161] и М. М. Сажина [162], — особенно благоприятствующее близкому ознакомлению его с “потаенным” творчеством Шевченко и зарождению в нем глубокого почитания великого поэта украинского народа [163].
Произведения опального поэта прививают юному орловцу интерес к украинской литературе, порождают стремление овладеть языком Украины, ознакомиться с ее историей и судьбой. Мечтается когда-нибудь увидеть и самого “батьку Тараса”, о котором столько нарассказано киевлянами.
В Орле, подростком, Лесков следил за росписью иконостаса церкви Никития. Здесь осматриваются такие исторические памятники зодчества и искусства, как Софийский собор, лавра и другие сооружения. Они ширят знания, укрепляют вкус, интерес к иконографии [164]. Это — семена дальнейшего развития страсти ко всем видам творчества и художества, от древних фресок и икон к полотнам Эрмитажа, а позже и зарубежным галереям. Здесь слагался будущий непременный посетитель всех художественных выставок, ценитель, а иногда и истолкователь появлявшихся на них картин.
Город пленителен везде, во всем…
С восхищением прислушивается он к своеобразию новой для него речи. Позднее вспоминает и записывает образец прелестного юмора и острой находчивости, при великолепном сохранении собственного достоинства со стороны простого старого “дида”, в кратком диалоге его с высокомерным привилегированным юнцом. Чисто фехтовальный “парад” украинца на дерзкий выпад хлыща писатель приводит в опровержение уверений “благотворительной дамы”, что на русском языке чего-то нельзя сказать так, как это удается ей на иностранном. Вот часть едкого, слегка в архаическом стиле построенного наброска Лескова:
“Одна из дам, торговавших “с воза” в зале дворянского собрания, беспрестанно говорила по-французски, меж тем как сама она была русского происхождения, имела очень русскую фамилию, торговала произведениями русских кустарей и отлично владела родным русским языком.
Некто колкого ума, будучи той даме слегка знаком, указал ей на эту несколько смешную несообразность.
— Я знаю, — отвечала она, — но как вы хотите…
— Привычка! — перебил тот.
— Нет, не то, но какие бы вы комплименты ни расточали нашему русскому языку, а вы должны признать тот факт, что по-русски невозможно кратким словом характеризовать лицо или положение так же сильно и метко, как на языке французском.
— Не согласен, — отвечал собеседник и привел два примера из простонародных разговоров в языке малороссийском и чисто русском.
— Однажды, — сказал он, — во время университетского курса в Киеве мы отправились в свободное время за город в Слободку, где была достославная наливка, которую и желали пить, но съедомого при себе не имели. Проходя же по окраине шоссе близ Чертороя, увидели престарелого хохла мужика, который, лежа на животе, держал в одной руке трубочку, а в другой нетолстую веревку, на которой был привязан за ногу живой поросенок, повизгивавший и щипавший травку.
Увидя это употребительное в пищу животное и охранявшего его стража, один из студентов воскликнул:
— Купим, товарищи, этого поросенка, отнесем его и, сварив в укропе, съедим.
Все остальные охотно пристали к этому преднамеренно и спросили у сельчанина, сколько он хочет за своего поросенка.
— Пять злотых, мои добродии, — отвечал крестьянин[165].
Цена поистине была сказана с умеренностью и добросовестностию, к которой малороссийские простолюдины до сих пор сохраняют способность, но один из наших товарищей, родовитый поляк, с презрением взглянул на хохла, оторвав ему:
— Лжешь, хлоп: мой коллега вчера такого же поросенка за три злота.
— Может быть, — отвечал хлоп, — но и я вчера за шесть злотых продал его коллегу, — и при сем он указал на своего привязанного поросенка” [166].
Набросок сделан уже стареющим Лесковым, когда любовно встают милые воспоминания молодости. Он безыскусствен, дышит правдой истинного киевского случая.
Но это шутки, а в серьезные моменты приходили воспоминания, полные строгих признаний.
Случилось что-то тревожное в семье В. Г. Черткова. Лесков пишет ему: “Мы все знаем, что “таков удел всего живого — расставаться”, но “молчание” прилично скорби, вызываемой всяким страхом большого горя, — чем вы и были встревожены, уезжая отсюда. Я видел когда-то какую-то малороссийскую пьесу, в конце которой человека хотят утешать, а он берет утешителя за руку и говорит: “Мовчи, — бо скорбь велыка”. Тем кончается пьеса, и мне кажется, что это верно природе скорби и в высшей степени художественно” [167].
Крепко запомнилась и к месту пришлась сцена из украинской драмы.
По неукротимой живости темперамента, Лесков, случалось, поддавался соблазну подтрунить над претившей ему в определенные годы сентиментальностью и провинциализмом некоторых украинских произведений или подшутить над чрезмерной гордостью особо неистовых украинофильских фанатиков, превыше всего ставивших своих, хотя бы и не слишком известных, писателей.
Так, в одном из позднейших своих, полных “сеничкина яда”, рассказов к воспоминанию о финале той же украинской драмы он дал ему не лишенное озорства развитие “мовчи, бо скорбь велыка!” И после этих слов настала пауза, и театр замер, а потом из райка кто-то рыдающим голосом крикнул: “Эге! Це не ваш Шекспыр!” И мнение о Шекспире было понижено до бесконечности” [168].
Но это уже была беллетристика, в которой не разберешь, где кончается память и начинается творческое ее обогащение. Иное дело “острые моменты”, у которых “никогда не отъемлется их жало” и в которые все вспоминалось и приводилось во всей серьезности и мудрости простоты.
Любовь к Украине Лесков донес до конца дней своих. На рубеже старости, почти тридцать лет как покинув солнечный юг, он примиряюще и заключительно указывает служившему почти весь свой век под Киевом и заскучавшему на новой должности в Витебске мужу своей сестры: “После Украины уже нет равного уголка в России” [169].
А сколько тепла и веселости в таких, полных киевскими воспоминаниями и ощущениями строках его к редактору журнала “Киевская старина” Ф. Г. Лебединцеву:
“Прошу вас покорно сделать Суворину услугу, чтобы и мне иногда было удобно услужить у него вам. Они купили прекрасные доски, изображающие “казнь Кочубея в Борщаговке”, и просят меня сделать “пояснительные подписи борщаговской местности”. А я там был назад тому лет 25, молодой, влюбленный, та ще може и с хересом — без чего Юхвим не ездил, и потому ничего не тямлю: яка там icть Борщаговка [170]. Сделайте милость, напишите писемцо: что это за место и какой там “пэозаж природы” [171].
Жилось Лескову на Украине, видать, в свое время молодо, радостно, “та ще и с хересом”!
ГЛАВА 6. ПЕРВАЯ СЕМЬЯ
Итак, жадно слушавший еще в Орле увлекательные рассказы “о красоте Киева и о поэтических прелестях малороссийской жизни” и ни в чем не разочаровавшийся, а напротив, всем упоенный, Лесков становится заправским киевлянином, преданным его сыном, а в будущем и таким его хроникером и бытописателем, каких мало найдется во всей нашей литературе.
В общем, даже при грозном “Бибике” жилось во многих отношениях достаточно привольно. Лескову же здесь судьба улыбалась, как он и гадать не мог. Для “общества” он был прежде всего племянник известного профессора и популярнейшего практикующего терапевта. Это ставило молодого человека в общем мнении очень выигрышно. Незначительность личного служебного положения этим заслонялась. К тому же он был уже чиновник, а гимназический крах и писцовая захудалость остались в Орле.
Знакомства шли и по кругу блестяще поставленного дяди, и по служебно-чиновному, и по студенчеству. Ширились они быстро, вовлекали в самые разновидные слои, множили впечатления, наблюдения, разнообразили развлечения.
Жизненный пульс получался не только полный, но зачастую приобретал даже рискованную разнузданность.
“Бесцеремонного” и “властного” Бибикова, по свидетельству Лескова, ненавидели все. Полон был “органической ненавистью к его нахальству” и сам юный Лесков, сохранивший эту ненависть на всю жизнь.
По натуре грубый, “Бибик” в киевское свое царствование был холост и не проявлял особых забот по “объединению общества”. Вечера и приемы в генерал-губернаторских хоромах приурочивались лишь к определенным высокоторжественным дням или случаям, протекали без оживления, в атмосфере принужденности и даже некоторой опасливости. На них ездили не по охоте, а заневолю. Хозяин воплощал собою образ неусыпного блюстителя великодержавной внутриполитической напряженности. Говорить на его раутах допускалось только на государственном или на дипломатическом, то есть французском, языках. Случайное произнесение польского или украинского слова каралось тут же беспощадно и глумливо. В неизданной еще заметке Лесков приводит тому два примера.
Однажды некая польская графиня перелистывала в бибиковской гостиной акварельный кипсек художника Михаила Макаровича Сажина. Рисунки изображали древности юго-западной Руси. Каждая акварель была вклеена в альбом с каллиграфическими подписями, сделанными так искусно, что их нельзя было отличить от печатных [172].
Mon général, est — ce que c'est drouqué? [173] — спросила титулованная гостья проходившего мимо властительного хозяина.
Non, madame, c'est pissé [174] — не моргнув глазом, отпарировал последний.
В другой раз какой-то очень светский польский граф, в качестве “души общества” развеселив всех рассказанными им пустячками, при прощании жеманно начал извиняться в том, что слишком много “напшикшал” [175].
— Ничего, — казарменно срезал старого болтуна “Бибик”, — здесь сейчас окна откроют.
Но всему бывает конец. 30 августа 1852 года пятнадцать лет властвовавший над Украиной Бибиков призывается Николаем I на пост министра внутренних дел.
На смену приезжает мягкий князь И. И. Васильчиков со своей “всевластною” супругой, поставившей себе задачу “объединить” и оживить заскучавшее при холостом предместнике ее мужа киевское общество. Создается “двор” со всеми очарованиями и увлекательностями придворных развлечений, благотворительных концертов, балов, маскарадов, лотерей, любительских — тоже благотворительных — спектаклей… Для последних нужны актеры из общества же, нужны люди сколько-нибудь литературные. Их не так много. Их надо подобрать, приручить.
Хорошо начитанный, энергичный и к этому времени уже замеченный в местном “свете”, Лесков, признается достойным и желательным.
Какие именно роли и в каких пьесах, ставившихся “киевской княгиней”, как называли в Петербурге Васильчикову, играл Лесков? Об этом сбереглось его личное указание: “Я тоже всегда читал, по общему мнению, довольно недурно и был удовлетворительным актером, а потому при смете сценических сил, которые должен был сгруппировать и распределить Друкарт (чиновник для поручений при генерал-губернаторе. — А. Л.), явился и я на счету” [176]. Исполнять Лескову на этот раз предстояло в “Ревизоре” роль Добчинского или Бобчинского.
Открыв таким путем себе доступ в высшие “сферы” украинской столицы, Лесков не порывает сложившихся ранее дружественных отношений с людьми, ведущими почти буйную жизнь с “запорожской заправкой”, с “крестовыми дивчатами” и т. д. Словом, живет во всю ширь своей кипучей натуры.
Не было сомнений, что при такой “заправке” он до большой устали и пресыщения еще долго не изменит своим сподвижникам, долго еще “не перебесится”, как говорилось тогда.
И вдруг, на удивление родных и близких, противно всем навыкам и прочно сложившейся репутации пылкого участника многих похождений, — решение остепениться, стать добродетельным семьянином. Все были поражены и озадачены. Советы повременить, оглядеться, проверить себя, лучше узнать избранницу, прочнее устроиться служебно, житейски-впустую.
Избранница была не то однолеткой, не то на год младше или старше. Событие свершилось “на Красную горку”, в апреле 1853 года. Она была дочерью весьма состоятельного, скорее даже богатого, киевского коммерсанта, владельца нескольких домов, городского деятеля. Звали ее Ольгою Васильевною Смирновой.
По дружным отзывам, жившим потом в нашем родстве, в ней не было ума, сердца, выдержки, красоты… Обилие ничем не возмещаемых “не”. При условии, что в дарования Лескова не входили мягкость и уживчивость, удачи ждать было неоткуда. Ее и не было…
На чем же созидался этот для всех сторонних “очезримо” непрочный, в корне необдуманный союз?
Семен Дмитриевич не на ветер завещал первенцу наблюсти осторожность в выборе себе подруги, “ибо от нее зависит все твое благополучие”. Но кто же живет по заветам отцов, а не по восточной пословице, что “каждая голова свой камень ищет”.
Через десятка два с лишком лет сам Лесков, уже во всеоружии личного жизненного опыта, убедительно расскажет о том, как подчас в этой области поступают “самые умные люди”:
“Как иногда люди женятся и выходят замуж? — писал он в одном своем рассказе. — Хорошие наблюдатели утверждают, что едва ли в чем-нибудь другом человеческое легкомыслие чаще проглядывает в такой ужасающей мере, как в устройстве супружеских союзов. Говорят, что самые умные люди покупают себе сапоги с гораздо большим вниманием, чем выбирают подругу жизни. И вправду: не в редкость, что этим выбором как будто не руководствует ничто, кроме слепого и насмешливого случая” [177].
Так называвшиеся “медовые месяцы” оказались кратче возможного. Среди родных и близких знакомых пошли тревожные слухи, начали слагаться почти легенды.
23 декабря 1854 года рождается первенец. В честь мудрого и уважаемого за твердость нрава деда он нарекается Дмитрием.
На втором или третьем году супружества Лесков везет Ольгу Васильевну на показ и поклон к своей матери в Панино. Как молодайка повела себя у свекрови и какою драмой завершилось это злосчастное путешествие, обрисовано, во многом, видимо, очень близко к действительности, в незаконченном рассказе “Явление духа”:
“В К.[178] меня ожидал сюрприз: у мутного, никогда не мытого и засиженного мухами окна, которым заканчивался коридор длинного каменного дома, занятого почтою, я увидел странную, несколько поразившую меня группу, в которой одна фигура показалась мне очень знакомою.
Группа состояла из взрослого человека и больного ребенка. Так, лет около шести. Оба эти существа помещались на подоконнике: взрослый человек сидел поперек окна совсем с ногами, а на коленях у него лежало покрытое пледом дитя и, казалось, не спало, а как будто томилось в каком-то недуге. По крайней мере, когда я проходил в номерок, отведенный мне близ этого окна, мне как будто послышался слабый стон и какой-то болезненный лепет ребенка. Тут же я заметил возле взрослого полоскательную чашку, из которой взрослый вынул смоченный в воде компресс и положил его на головку дитяти.
— Что это за господин? — спросил я проводившего меня в комнату пожилого слугу из крепостных, которые тогда расползлись повсюду и встречались в наших дворянских краях в большом изобилии.
Слуга махнул рукою на соседнюю дверь и отдал шепотом, что это проезжающий, с которым случилось несчастие.
— Вроде вас, — говорит, — тоже здешнего края, к родителям заезжали с супругою и с двумя детьми, да, верно, что-нибудь молодая барыня со старою не поладили, потому что прибыли сюда вдруг с больными детьми и хотели ехать дальше, да вот барчук очень разболелся — и того гляди как бы не помер. Я сейчас в аптеку ходил, там сказали, что лекарь прописал уже последнее средство. Очень жаль, — барин хороший, я его еще барчуком знал, а этакая ему недоля и в жене и в детях.
Чтобы что-нибудь сказать, я спросил:
— Чем же жена плоха?
— А бесчувственная, — говорит, — и капризница. Даже девушка их, и та над этим барином, над Игнатием Ивановичем, изжалелась, а она супруга, — только свою амбицию наблюдает. Как приехала чем-то обиженная, так и слегла и вот третьи сутки спит, а проснется, отдохнет, и опять заплачет, пока сон придет.
— Да чего же, — говорю, — она плачет?
— Кто ее знает: заломит руки да стонет: “Ах, боже мой! Ах, разбойник! Ах, куда он меня завез!” Хозяин даже посылал просить тише, чтобы другие это насчет критики заведению не приняли. Что говорить, разумеется, гостиница не из величественных — в Петербурге и в Москве есть гораздо ликатней, ну а все же: всякий хозяин свое бережет. А у нас такое устройство, что из номера в номер, как труба, — все слышно. Вчера, вот, в этом самом номерке проездом какие-то важные господа остановились, — а эта капризница и разголосилась: “Кто меня избавит из этого вертепа?” Неприятно; а с другой стороны барыня была, так та так взволновалась, что на выручку ей хочет идти, или, говорит, за полициею сейчас пошлите, или я ей гомеопатию дам, чтобы успокоилась. А чего ей гомеопатию, — довольно бы и одного подзагривка было; а барина бедного жаль, так жаль: тут ребенок томится, и он за ним ухаживает, а тут эта досадительная глупость через такую баловную жену.
— Что же он ее не может унять? Лакей понизил голос и отвечал:
— Он ее вчера с отчаяния в подушку бросил, так она ведь на весь дом так зашлась; а потом взвыла, что он ее будто задушить хотел. Ведь даже городничий сюда приходил.
— Это ужасно! — сказал я и по тогдашнему моему малоопытному настроению начал сдаваться на сторону угнетенной женщины.
Но рассказывавший мне все это слуга был других мыслей: он держал сторону барина и сообщил, что за свой собственный двугривенный нанял мужика сходить в Парамоново, чтобы известить о всем старую барыню — Игнатия Ивановича старушку.
“Игнатий Иванович” и “село Парамоново” в общем сочетании склали мне, что я недаром признавал в фигуре сидевшего на коридорном подоконнике человека что-то знакомое.
Я спросил фамилию несчастного путника и получил подтверждение, что это был милый, но злополучный друг моего детства.
Без всяких дальнейших размышлений я оставил слугу и бросился в коридор, чтобы обнять своего приятеля.
Игнатий сидел все в том же положении, только небольшая немножко женственная голова его с прекрасными вьющимися белокурыми волосами опустилась на грудь.
Заметив это еще издали, я удержал свой порыв, с которым хотел его обнять, несмотря на то, что немножко негодовал на него: зачем он бросил в подушку свою капризную жену. Очевидно, он был очень утомлен и заснул, чему, конечно, способствовало забытье лежавшего у него на руках ребенка и хотя неспокойное, но опористое положение, которое он занял в амбразуре окна, упираясь в одну стенку спиною, а в другую ногами.
— Оба уходились и спят, сердечные, — и на каком месте. Эх, жаль, сейчас же их кто-нибудь дверью хлопнет и разбудит, — прошептал появившийся за моей спиною слуга, но опасения его были напрасны: мужичьей работы дверь, на кирпичном блоке, в эту минуту хлопнула, но измученный отец, склонившийся над больным ребенком, не просыпался.
Что же касается до самого мальчика, то он совсем не спал. Когда я подошел к нему ближе, то при слабом свете сгущающихся сумерек увидел, что дитя глядело глазами.
И боже мой, что это был за прекрасный ребенок — больной и истомленный, но очаровательный, как бледный ангел Скиавонэ, с отцовскими светлыми кудрями и с большими темными глазами во впалых орбитах, завешенных длинными и густыми ресницами.
Я боялся, чтобы появление незнакомого лица не испугало его — особенно в его расстроенном горячечном состоянии, но он смотрел тихо, спокойно и, не сводя с меня своих прекрасных глаз, шевелил похуделыми пальчиками своей ручки у запекшихся губок.
— Обирает ротик, это смертное, — прошептал мне на ухо слуга, народная примета которого так и кольнула меня в сердце. — А вот он хочет что-то сказать. Что вам, барчук?
— Апельсин.
— Вот, с утра все апельсина просит, а апельсина нет в городе. — Нет, барчук, апельсина.
— Ну, возьми прочь…
Слуга меня только молча дернул, — я вспомнил, что когда больной что-нибудь отдает, это тоже считается дурною приметою, и он с беспокойством спросил:
— Что барин, взять?
— Мушку.
— Какую мушку?
— Жужжит… чтобы она папá не разбудила.
Но при звуке слабого голоса, произнесшего слово “папá”, отец встрепенулся и несколько раз неуверенно сжал руками ребенка, как будто желал удостовериться: не уронил ли его на пол.
— Я спал, — прошептал Игнатий и, посмотрев на нас без всякого внимания, взял из полоскательницы мокрую тряпочку и переменил компресс.
— Я спал, — повторил он ребенку, — а ты?
— И я… Я видел… апельсин.
Игнатий обеспокоился и повелнанас глазами.
— Неужто нигде невозможно достать апельсинов? — спросил он слугу.
Тот отвечал, что невозможно. Это действительно было такое время, когда апельсины редки даже в больших городах, где есть люди, готовые платить за редкий фрукт дорогую цену; в К. же о них нечего было и думать. Но дитя этого не понимало, и ему, очевидно, очень хотелось освежить приятною кислотою свой смягчущий ротик.
— Видел апельсин, — простонал он, — где же апельсины?
— Нет апельсина, Саша. Ты знаешь, как я люблю тебя, — неужели бы я не купил тебе апельсина, если бы он был здесь?
— Нас нарочно привезли сюда, чтобы всех уморить в этой трущобе, — произнес в эту минуту молодой, но неприятный женский голос.
Я обернулся и увидел молодую блондинку с косым пробором и институтским выражением молодого, но испорченного капризами лица. Трудно было сказать, что ее привело сюда: потребность ли видеть ребенка или потребность сделать сцену мужу. Но дитя при первых звуках материного голоса отворотилось от нее и прошептало:
— Я больше не хочу… апельсина… Только пусть… мама… уйдет. И та действительно ушла, очевидно еще более рассерженная. Мне становилось и тяжело и неловко: по какому праву я делаюсь свидетелем семейного несчастия моего приятеля; я не выдержал и
сказал громко:
— Неужели ты не узнаешь меня, Игнатий?
Он вспыхнул, окинул меня острым взглядом — и быстро встав с места, прижал к груди дитя и назвал меня по имени.
— Да, это я, — отозвался я на его слова.
— Боже мой! Где и когда и при каких обстоятельствах мы встретились! Пойдем ко мне… или…
Я перебил его суетливую путаницу и отвечал:
— Нет, я прежде всего побегу достать для твоего мальчика апельсин; а ты, чтобы не стеснять меня необходимостью входить в квартиру, где твоя жена, — будь добр, перейди с дитятею в мой номер.
Он поблагодарил меня взглядом и сделал, как я просил; но, к сожалению, хлопоты мои были безуспешны, я обыскал весь город и не нашел апельсина.
Когда я возвратился в гостиницу, дитя спало на моей кровати, у которой стоял на коленях, склонясь головою к груди ребенка, Игнатий. Дитя лежало, обвив ручкою отцову шею, и он не шевелился, боясь разбудить сына.
Мы всю ночь не говорили. Дитя спало, но несколько раз просыпалось и всегда с одним вопросом:
— Еще нет апельсина?.. не прислали?
— Еще нет, — отвечал отец.
— Ничего… я подожду, скоро привезут. Игнатий вздыхал и смотрел на меня, а я на него — и все мы снова погружались в дремоту.
Так прошла ночь — и в окне стало сереть, у подъезда гостиницы шел говор. Очевидно, кому-то запрягали лошадей в не совсем обыкновенную упряжь.
Я встал — и перед тем, чтобы задуть догоравшую в тазу свечку, взглянул на спящих; дитя точно почувствовало это и прошептало во сне:
— Посмотрите: не привезли ли апельсин?
Это было очень тяжело слышать, и я поскорее вышел на воздух, чтобы освежиться от тяжелой атмосферы спертого номера.
Утро было морозное, на востоке алела заря, час был седьмой. У подъезда стоял тяжелый дормез, в который был запряжен почтовый восьмерик. Лошади были уже готовы, кучер и форейторы на местах, и лакей с солидными бакенбардами лез в свою заднюю кибитку. Пассажиры экипажа, вероятно, спали: стекла кареты были подняты и даже задвинуты нутреными маркизами; но в ту самую минуту, как выносные натянули постромки и карета уже трогалась, в одном окне опустилась маркиза, потом рама, и чья-то рука выбросила на землю свежую, очевидно только что сейчас сорванную, кожицу с апельсина.
Я, нимало не рассуждая, подскочил к дверце и сказал:
— Бога ради, один апельсин умирающему ребенку. В карете было темно, но мне показалось, что там как будто лежал вдоль всего экипажа больной человек, а с моей стороны сидела молодая женщина, лицо которой я не рассмотрел, но которая в то же мгновение протянула мне руку с очищенным апельсином и сказала одно только слово:
— Последний.
Дормез поехал, а я побежал с апельсином в номер и был чрезвычайно доволен собою, что не потерял времени на размышление и так решительно вырвал апельсин у проезжавшей дамы. Но когда я вернулся в комнату, сцена уже изменилась: мой приятель стоял в ужасе перед сыном, который, весь побледнев, икал и задыхался. Я поднес к его устам апельсин, манящий запах плода еще шевельнул его челюстями: он закусил зубками апельсин, потянул сок и затих… умер.
Я вам не стану рассказывать, как тут что было после этого: довольно того, что милого ребенка схоронили, а супруги разъехались. Она поехала на юг к своему отцу, а он — со мною, на север, “устраиваться” [179].
Картина смерти ребенка и супружеских неладов автобиографична. Частные ее недочеты порождены понятной в известных положениях и настроениях трудностью беспристрастия. Она не проиграла бы в убедительности без Скиавонэ, без жесткого требования ребенка в отношении матери. В общем же она во многом верна. Этому есть подтверждение.
Как-то, когда мне было лет девять — десять, воспользовавшись каким-то упоминанием отца о Мите, я принялся горячо просить его рассказать мне о смерти моего неведомого старшего брата. Отца это тронуло, и он нарисовал мне глубоко взволновавшую меня картину, разыгравшуюся когда-то на глухой почтовой станции Орловской губернии. Она была тождественна той, которую я, очень много позже, прочел в мало кому известном журнальчике. Но была и разница. Во-первых, почти целиком опущена была роль Ольги Васильевны, а затем не было апельсина: подлинный Митя, умирая, запекшимися губами лепетал: “Папочка, аплик, аплик, аплик!..” Он просил яблоко. Иноземный апельсин был введен вместо легкодоступного отечественного плода для повышения затруднительности выполнения смертной просьбы ребенка и драматизма сцены у окна уже трогающегося дормеза. Вышло совсем жизненно, а в сущности было “сделано” по-писательски, мастерски.
Но и яблоко литературно не осталось забытым. В одном из неопубликованных набросков “фантастического рассказа” под названием “Чертовы куклы” [180], не схожего с неоконченным романом того же заглавия, сын бедного ссыльного униатского попа рассказывает: “Раз я стоял на этой галлерее в ужасном волнении: моя маленькая сестренка была больна, и мы с матерью весь день за нею ухаживали, но у нас не было денег не только на то, чтобы позвать доктора, но даже на то, чтобы купить ей моченое яблоко, которым она бредила, прося его в жару горячки. Усталый отец пришел поздно и ничего не принес: богатый купец, у которого он учил сына, не дал ему в этот день денег. Мы легли спать, ничего не евши, сестра снова забредила о яблоке, — усталая мать уже не могла подняться, но отец встал и начал утешать ребенка”.
Факт из личной тяжелой драмы, беспощадно к самому себе, дважды берется рабочею темой.
Полного разрыва в 1856–1857 году в действительности не произошло. На это понадобилось еще три — четыре года. 8 марта 1856 года появился второй ребенок — дочь Вера.
В другом, много более раннем рассказе — “Ум свое, а чорт свое” — Ольге Васильевне были уделены немногие, но выразительные строки:
“А через три года Рощихин сын приехал с молодою женой. Такая-то была, говорят, нравная, что упаси ты, царица небесная! Люди сказывали, что никому от нее не было спуску, ни мужу, ни свекрови, никому, никому. С горя Рощихин сын все с ружьем стал шататься” [181].
Точно желая подчеркнуть, чья эпопея повествуется, автор именует здесь мать героя “Рощихой”, зная, что на Орловщине хорошо помнили, как добрынские крестьяне по-свойски называли Марью Петровну “Лесчихой” [182].
Что же замедляло для всех казавшуюся неизбежной развязку этого незадачливого союза? Вероятнее всего, переезд семьи под Пензу к Шкоттам, где Лескову выпали на долю постоянные отъезды в Пензу и Городище по делам торгово-промышленного товарищества, в котором он работал, а сплошь и рядом долгие и дальние поездки, по тем же делам, по всей России. Недаром, вспоминая эти годы “странствования по России”, он всегда прибавлял: “Это самое лучшее время моей жизни, когда я много видел”.
Допустимо, что некоторое время тут умиряюще действовали на супругов неописуемая кротость тетки Николая Семеновича, Александры Петровны, и подчиняющая себе английская вышколенность “дяди Шкотта”.
29 сентября 1859 года последний пишет племяннику в Москву. где тот выполняет компанейские задания:
“С[ело] Райское. Сижу в кабинете, занимаюсь управительскими делами, обе барыни сидят возле меня, обе очень растолстели, равно и Верочка. Олинька говорит, что вчера тебе писала в Москву, адресуя удержать на почте до требования, посмеялись этому и опять занялись своей работой.
…Насчет твоей семьи ты можешь быть покоен; если что я не сдабриваю, то за грех считаю смолчать, и сейчас все исправляется. вчера я предлагал денег, но в них особой надобности еще нет, потому что 8 р. сер. еще есть от вырученных за солод. Обедаем вместе. хозяйки завели между собой очередь” [183].
С возвращением семьи в 1860 году в Киев и восстановлением постоянной бытовой близости вся рознь натур, вкусов интересов вспыхнула с усугубленной яркостью. Гроза близилась. Наконец грянул гром.
С удивительной прозрачностью, но, разумеется, как и прежде, с неизбежным, может быть даже невольным, смягчением личных шагов, драма раскрывается в романе “Некуда” [184], где автор фигурирует в образе доктора Розанова, а Ольге Васильевне отведено немало самых резких оценок и изменено только отчество — Александровна. Проскользнет что-то схожее в жене Долинского в “Обойденных”, а иной раз мимоходом развернется на ту же тему почти трактат в совсем не обещавшей его статейке:
“Ах, амур проклятый! Какие шутки он шутит со смертными… А сколько честных, рабочих людей, без разгибу гнущих свою спину, которые не встречают от своих законных сопутниц ни ласкового слова, ни привета, ни участия, ни благодарности?.. Сколько людей, работающих только для насущного хлеба семье и не слышащих ничего, кроме капризов, стонов, брани, упреков вроде того, что “я не так бы жила, если бы вышла за другого”, или “ты обязан” и т. п.? Да! Сколько таких людей, которые не жалуются на свое несчастие, а терпят его, как запряженная лошадь, которую кучер хлещет по облупленному кнутом боку и которая не может ни выпрыгнуть из оглобель, ни сломить их?” [185].
Так, с большим резонансом, изливалась именно злоба на нечто, частию уже заслоненное новым складом жизни.
По возвращении Лескова из Пензы в Киев в семье стоит ад. Бежать!.. Бежать из потерявшего былую прелесть “милого города”. Бежать от постылой женщины. К тому же манит уже и журналистика; хочется пошире попробовать свои силы. Взаимное озлобление облегчает соглашение: Ольга Васильевна с дочерью остается, Лесков едет в Москву и Петербург. Свершилось!
Однако, по украинскому присловью, “не так склалось, як жадалось”.
Потерпев с год, Ольга Васильевна мчится в Москву, где Лесков в тот момент работает у Сальяс в “Русской речи”. Начинается новая, на этот раз оказавшаяся последней, до предела терпения наскучившая и истерзавшая, по определению Лескова, Liebesfieber” [186].
Температура достигает каления, при котором все участники драмы совершают немало невообразимого и — в обычных условиях — непростительного.
При дальнейшем развитии событий вступает в их обсуждение ряд лиц из состава редакции “Русской речи”. Рушится с трудом достигнутое рабочее положение в газете. Наживается много врагов. Финал: Ольга Васильевна возвращается с малолетнею дочерью в Киев, Лесков, несколько позже, уезжает в Петербург.
“Разбился на одно колено” — скажет он потом о крушении первой своей попытки найти семейное счастье.
Два года спустя, предприняв намеренно длительную поездку по западным окраинам России и далее за границу, 11 сентября 1862 года он останавливается в Гродно. Останавливается в дрянном, но лучшем в городе “заезде” какой-то Эстерки. Скверно пообедав где-то, возвращается в свой холодный номер и, поджидая, когда за ним зайдет его спутник, польский поэт Вицентий Коротыньский, “завернулся в шинель и лег в постель. По мере того как я, — пишет он в своей корреспонденции в петербургскую газету, — согревался, меня стал одолевать сон, и я проснулся, когда было уже темно. В соседнем нумере налево горели свечи, и свет сквозь дверные щели падал двумя яркими полосами на пол моей комнаты. Я очень люблю сумерки, когда остатки дневного света еще борются с ночною тьмою; спешить было некуда, и потому я не встал с своей согревшейся постели. Szara godzina, серый час, как называют поляки сумеречный час, необыкновенно располагает к мечтам и воспоминаниям. У меня немного воспоминаний, но тем не менее они мне приятны. Под звуки свежих женских голосов моих соседок я вспомнил другой полупольский город, стоящий не в холодной Литве, а в роскошной Украине; вспомнил маскарады, желтый дом, комнатку над брамой (воротами), белокурые локоны на миловидном личике и коричневое платьице на стройном стане. Потом пошли другие воспоминания, розы смешались с шипами; потом розы совсем куда-то запропастились, и остались одни иглы, все иглы, иглы, и вот я, одинокий и разбитый, лежу в холодной комнате литовского заязда и волей-неволей слушаю разговор двух польских помещиц, рассуждающих о приданом. Приданое! Какое это странное слово, думаю я, и снова чувствую, что меня одолевает дремота” [187].
Неотвязано вставали сперва веселые картины почти юношеских киевских лет, а за ними шли горькие воспоминания об иглах неосторожного осложнения жизни на едва зардевшейся ее заре.
В дальнейшем Ольгу Васильевну постигает серьезный удар: киевская банкирская контора некоего де Мезера, в которой была помещена главная часть ее средств, лопается. Назначается конкурсное управление по делам несостоятельного должника. По решению этого правления клиентам выплачивается четыре или пять копеек за рубль.
Разорение окончательно подавляет психику растерявшейся женщины. Год от года она больше сумасбродствует, не находит себе места в жизни, дела, даже постоянного угла. Она тяготится дочерью и временами требует, чтобы последнюю взял к себе отец. Алексей Семенович и Марья Петровна готовы дать ей с ребенком приют, но в последнюю минуту она опять куда-нибудь бросается, чего-то ищет, строит нелепые планы. С возрастом психическое состояние ее резко ухудшается: она мнит себя то миллионершей, то нищей.
Требуется последнее решение. 16 марта 1878 года удается поместить ее в петербургскую больницу св. Николая, на реке Пряжке. Главным врачом ее был известный в свое время психиатр О. А. Чечотт, а попечителем знаменитый С. П. Боткин. Оба были расположены к Лескову.
Злосчастному мыканию больной по белу свету полагается предел. Хорошо или худо — ей дан кров, который ей не суждено уже когда-нибудь покинуть.
В день водворения ее в больницу ей было без малого пятьдесят лет. Время не прошло даром: со многим научило примириться, свыкнуться, притупило взаимное ожесточение, смягчило личные счеты. Расстройство мысли усыпило память…
Лесков, в меру возможного, навещает страждущую. Посещение “сумасшедшего дома”, при содействии Чечотта, дает ему пищу для совершенно исключительных наблюдений. В частности, своеобразный по языку и замыслу рассказ “3аячий ремиз” без всякой беллетристической натяжки начат им так:
“По одному грустному случаю я в течение довольно долгого времени посещал больницу для нервных больных, которая на обыкновенном разговорном языке называется “сумасшедшим домом”, чем она и есть на самом деле. За исключением небольшого числа лиц испытуемых, все больные этого заведения считаются “сымасшедшими” и “невменяемыми”, то есть они не отвечают за свои слова, ни за свои поступки” [188].
Подход редкий, не придуманный, а, по одному из любимых Лесковым выражений, нечто “из самой жизни вывороченное”.
Через полтора года после устройства больной Лесков пишет брату своему Алексею Семеновичу:
“Ольгу Вас[ильев]ну видел в прошл[ое] воскресенье: она все в том же положении, но переменила тон: теперь она бедна, п[отому] ч[то] все миллионы пожертвовала. О Вере говорит порою здраво; ко мне относится как ребенок, и иногда оч[ень] нежно и трогательно: “привезите мне рыбок, мой кормилец” и т[ому] п[одобное]. Оч[ень] рада, что Шкляревского [189] повесили, и обижена, что я этого не знал: неизвестный — это и был Шкл[ярев]ский, и его-то и повесили. Теперь будут вешать проф[ессора] Чечотта, которого она собирается бить металлическим кофейником. Ей дали отдельную хорошую комнату, за ванною. Она оч[ень] ослабела и ничего не ест, кроме фруктов и “рыбок”, т[о] е[сть] жареной корюшки. Состояние ее, говорят, решительно безнадежное. Начальство заведения делают все, о чем только попрошу. — Я спрашивал ее: поедет ли она в гости к Ногам [190], когда они сюда приедут? — Говорит: “нет, я еще посмотрю: какой он, да и вообще мне опасно”. Скажи все это Вере” [191].
Через восемь лет Лесков делится с тем же братом новыми сведениями:
“На сих же днях очень занемогла было Ольга Вас[ильевна] — и, как ни безрадостно ее доживание, однако все-таки это не догорающая свечка, а жизнь человеческая. Тягучая натура ее вытянула, и она опять пошла колтыхать. Чечотт и Ахочинский [192] делают мне большие услуги. Не только Ольга Вас[ильевна] пользуется одна отдельной комнатою, но вот уже 4-й раз было отделение безнадежных за город на Удельную станцию, и О[льга] В[асильевна] все остается здесь. Боткин, как попечитель, тоже это благославляет” [193].
Омраченность сознания неотвратимо растет. Все прежнее выпадает из памяти.
Безумие Ольги Васильевны легло тяжелым камнем на “самоистязующую” душу Лескова. Оно стоило слишком многих “терзательств”, таких многообразных и нестерпимых в прошлом, таких острых и неотступных в воспоминаниях о них до последних не только дней, но даже часов жизни.
Навещать ее становится все тягостнее и, в сущности, бесполезно. Остается только обеспечить ей получение фруктов и “рыбок”. Эту заботу, по просьбе Лескова, готовно берет на себя добросердная больничная надзирательница. Ездить на далекую Пряжку можно, когда на то у самого хватит силы.
В сентябре 1892 года, гостя у меня, Вера Николаевна Нога навестила мать.
Рассказ о свидании был тяжел. Ольга Васильевна почти не признала дочь. Во всяком случае не проявила никакой радости.
Одна деталь остро врезалась мне в память.
На заданный Верою Николаевной матери вопрос, помнит ли она Николая Семеновича Лескова, больная задумалась. После явно больших усилий трудно работавшей мысли, всматриваясь куда-то полуприкрытыми глазами, она едва приподняла разверстые кисти восковых рук и, как бы доискиваясь чего-то в сумраке дальнего прошлого, чуть шевеля концами исхудавших пальцев в ритм раздельно слетавших с уст слов, без интонации прошептала: “Лесков?.. Лесков?.. Вижу… вижу… он черный… черный… черный…”
Напряжение иссякло. Луч сник. Все замкнулось, погрузилось во вновь охватившее больной мозг безмыслие… Глаза закрывались… Больная утомленно умолкла…
Уже значительно позже смерти Лескова осматривавший больницу газетный работник В. В. Протопопов записал: “Я вошел в небольшую комнатку, без всякой мебели, кроме одной простой железной кровати. В этой комнате лежала на подоконнике крошечная старушка, — такая крошечная, что ее исхудалое высохшее тельце умещалось совершенно свободно на узком пространстве. Она лежала, повернувшись лицом к стеклу, и не сделала ни малейшего движения при моем появлении в комнате” [194].
“Тягучая натура” обрекла безумную на более чем тридцатилетнее заточение в крошечной больничной комнатке за ванной.
Только 9 апреля 1909 года дано было ей “доколтыхать” до могилы на Охтенском кладбище.
ГЛАВА 7. СТОЛОНАЧАЛЬНИК
Лесков любил назидательную поговорку: “Гулять, девица, гуляй, а свое-то дело — помни!”
Сам он, особенно в литературные свои годы, держался еще более строгого правила: он отводил “делу” все свое время, почти не зная отдыха.
Но и до писательства велся тот же порядок: работы было досыта. Чтобы вынести об этом верное представление, довольно заглянуть хотя бы в первые главы его рассказа “Владычный суд”.
“Очень молодым человеком, почти мальчиком, я начал мою службу в Киеве, под начальством Алексея Кирилловича Ключарева, который впоследствии служил директором Департамента государственного казначейства и был известен как “службист” и “чиновник с головы до пяток”… А. К. Ключарев, невзирая на мои юные годы, назначил меня к производству набора. Дело это, не требующее никаких так называемых “высших соображений”, требует, однако, много усилий. Целые дни, иногда с раннего утра до самых сумерек (при огне рекрут не осматривали), надо было безвыходно сидеть в присутствии, чтобы разъяснять очередные положения приводимых лиц и представлять объяснения по бесчисленным жалобам, а также подводить законы, приличествующие разрешению того или другого случая. А чуть закрылось присутствие, начиналась самая горячая подготовительная канцелярская работа к следующему дню. Надо было принять объявления, сообразить их с учетами и очередными списками; отослать обмундировочные и порционные деньги; выдать квитанции и рассмотреть целые горы ежедневно в великом множестве поступавших запутаннейших жалоб и каверзнейших доносов… К этой мучительной, трудной и ответственной должности выбирались люди служилые и опытные; но А. К. Ключарев, по свойственной ему во многих отношениях непосредственности, выбрал в эту должность меня — едва лишь начавшего службу и имевшего всего 21 год от роду. Легко представить, какие усилия я должен был употреблять, чтобы вести в порядке такое суматошное и ответственное дело при таком строгом начальнике, как А. К. Ключарев, которого потом сменил благодушный Н. М. Кобылин, тоже удержавший меня на этой должности. Мучения мои начинались месяца за полтора до начала набора по образованию участков, выбору очередей и проч.; продолжались месяца полтора-два во время самого набора и оканчивались после составления о нем отчета. Во все это время я не жил никакою человеческою жизнью, кроме службы: я едва имел час-полтора на обед и не более четырех часов в ночь для сна” [195].
Служба была более чем неприятная: обычаи и предания в области рекрутских операций были глубоко прочны, борьба с ними трудна, картины, проходившие перед глазами, полны ужаса и трагизма. Опыта и впечатлений тут набиралось как редко где на другой работе, но выматывалось много сил. Последних энергичному юноше было не занимать стать.
Приехав из Орла в Киев восемнадцатилетним, не имеющим еще чина “помощником столоначальника Орловской уголовной палаты”, он, как видно, быстро овладел сложной техникой совершенно нового вида делопроизводства и процесса проведения самих рекрутских наборов. Через два месяца, 24 февраля 1850 года, он “удостаивается” определения “помощником столоначальника по рекрутскому столу ревизского отделения”.
Служит Лесков ретиво. Начальство ему верит и неспроста назначает его “к производству наборов” вместо “служилых”, слишком, может быть, “опытных” в подобных делах и операциях.
Благодаря медленности восхождения даже мелких наградных представлений на “высочайшее” утверждение он все еще ходит бесчиновным чиновником. Но вот “высочайшим приказом по гражданскому ведомству” от 11 июня 1853 года за № 113 Лесков производится в коллежские регистраторы, со старшинством в этом первом классном чине “1851 г. июня 30”.
Пусть чин и не велик, а все же — уже настоящий чиновник: вицмундир, кокарда на фуражке уже по праву, а не самочинно, как она носилась до сих пор. Правда, вольнодумные зубоскалы язвят: “коллежский регистратор — чуть-чуть не император!”
Почти сейчас же, 9 октября 1853 года, следует и определение “столоначальником”.
В следующем, 1854 году он командируется в звенигородское уездное рекрутское присутствие письмоводителем к производству XI частного набора и выполняет “возложенную на него обязанность исправно”. Далее, “за успешное и безнедоимочное окончание XIII очередного набора” ему 17 сентября 1855 года “объявлена признательность главного местного начальства в предложении киевского военного, подольского и волынского генерал-губернатора”. Это уже второе отличие в годы войны.
Высочайшим приказом от 7 июля 1856 года за № 130 “произведен в губернские секретари, со старшинством с 1855 года июня 30”.
26 августа 1856 года Лесков получает “учрежденную в память войны 1853–1856 гг. темно-бронзовую медаль на андреевской ленте”. Эта скромная регалия останется единственною за всю последующую его службу.
Рекрутское столоначальничество, да еще в годы серьезной войны, дало молодому человеку много опыта и знаний.
Киев во время крымской эпопеи, благодаря сравнительной близости к театру военных действий, жил несравненно нервнее северных городов империи. Он быстро был охвачен типичною тыловой, главным образом наживной, лихорадкой. Город жил волнующими слухами о военных наших неудачах на юге и сказочных удачах богатевших у всех на глазах местных поставщиков, “работавших” в трогательном единодушии с армейскими “морильщиками”-интендантами. Жизнь била ключом, остро и напряженно.
Лесков проводит один за другим спешные наборы рекрут, сряду же направлявшихся в маршевых командах пополнения на театр военных действий. Контингента сколько-нибудь подготовленного запаса не существовало. Специальных резервных кадровых частей не было. Столоначальнику рекрутского присутствия многое раскрывалось яснее, чем людям других положений.
С юга, через Киев же, вереницей тянулись скорбные обозы с ранеными, валявшимися на грязной соломе в обывательских возах, арбах, длинных досчатых дробинах.
Туда нескончаемо плелись наскоро сколоченные войска, чуть не вилами вооруженное ополчение, шли тяжело груженные обозы снаряжения, припасов, продовольствия, всего, на чем в открытую богатели беззастенчивые “герои тыла”, всемирно прославившиеся “крымске воры”.
Близость через дядю Сергея Петровича к медицинским кругам, обслуживавшим обильные киевские военные лазареты, а через родство Ольги Васильевны к коммерсантам и промышленникам, ведшим дела с казенными “провиантщиками” и “комиссариатщиками”, раскрывала молодому человеку всю жуть военного, как и общего государственного неустройства его родины. С ужасом он начинал представлять себе невероятную отсталость нашего вооружения, неорганизованность врачебного обслуживания войск, постыднейшее хищничество на всем заготовляемом для фронта, изнемогавшего в лишениях и недостачах, мертвенность и равнодушие тыла. Полный развал страны с убитой за тридцать лет “попятного” правления общественностью, с вконец задушенной мыслью… Твердо выдержанная державным фельдфебелем и добровольным “европейским жандармом”, Николаем 1, “глухая пора” приносила свои каиновы плоды…
Лесков заговорит в первое десятилетие своего литераторства об “Изнанке Крымской войны” и о “Параллелях” Полимпсестова, всегда охотно возвращаясь к оставшейся для него близкой, хотя и больной теме и ненавистном по воспоминаниям царствовании [196]. Даже на склоне лет, в рецензии о чужой книге, он не упустил упомянуть, что “война на полуострове” (как выражались в тогдашних газетах) была “вскрытием затяжного нарыва и показала: чем питался организм всей страны и каковы его соки” [197].
В частности самому крымскому воровству в свое время будет отведен, негаданный по развязке, этюд — сперва под заглавием “Морской капитан с Сухой Недны”, а позже — сконцентрированный в своем целевом устремлении “Бесстыдник” [198]. Действие происходит на карточном вечере у прославленного севастопольского героя генерала Хрулева. Центральная фигура рассказа — до пресыщения нажившийся “провиантщик”. Его не уязвляют колкости, бросаемые по адресу интендантов честным черноморским моряком, подлинным героем и бессребреником. В удобную минуту он даже без колебаний укоряет младшего годами защитника Севастополя в несправедливости ко всему русскому народу, цинично утверждая, что при перемене ролей они, комиссариатщики, с неменьшею доблестью воевали и умирали бы, а переведенные на их места строевики — подражали бы им, провиантщикам.
О хлебосольном хозяине вечера, отменном храбреце и мастере меткого и острого слова, Хрулеве, Лесков любил помянуть к месту и часу. В “Смехе и горе” про него говорится: “А этот ведь в такой ад водил солдат, что другому и не подумать бы их туда вести, а он идет впереди, сам пляшет, на балалайке играет, саблю бросит, да веткой с ракиты помахивает: “Эх, говорит, ребята, от аглицких мух хорошо и этим отмахиваться”. Душа занимается! Солдатам-то просто и задуматься некогда, — так и умирают, посмеиваясь, за матушку за Русь да за веру!.. Как хочешь, ведь это, брат, талант!” [199]
В одной из мелких записей, оставшихся после Лескова, какой-то генерал, ведя людей в огонь и видя, что они мнутся, подзадоривает их: чего, мол, боитесь? У меня в Петербурге дом каменный и жена-красавица, да иду, а у вас, кроме блох, ничего за душой, и робеете… [200]
Не прямое ли это хрулевское балагурство с балалайкою и ракитовой веткой от аглицких мух!
А красноречие у Хрулева было отменное, свое, ни у кого не занятое, нравившееся Лескову, без затруднений исчерпывающее какой угодно сложности вопросы, вплоть до отношений России с Германией и ее “железного канцлера”:
“ — Что такое нам этот немецкий Бисмарк? Эка невидаль! Говорят: “умен”. Что ж такое? Очень нужно! — Ну и пусть его себе будет умен — нам это и не в помеху. И пусть он, как умный человек, все предусмотрит и разочтет, а наши, батюшка, дураки такую ему глупость отколют, что он и рот разинет: чего он и вообразить не мог, мы то самое и удерем. И никакой его расчет тогда против нас не годится” [201].
Презрению к “бесстыдникам”, безжалостно и нагло обворовывавшим героически сражавшихся защитников своей родины, образно противополагается благоговейное восхищение бескорыстием и заботой о младшем брате строевого состава, и превыше всего классического адмирала Нахимова. Лесков вспоминает, что когда, уже в семидесятых годах, “пронесся слух, что в морском ведомстве обнаружилось первое большое злоупотребление”, как-то “вбегает торопливой походкой в своем шарфике Фрейганг[202] и говорит с волнением:
— Слышали? Совершилось! Страшное пророчество совершилось!.. Ужас, позор и посрамленье! Наши моряки, наши до сих пор честные моряки обесславлены: среди нас есть люди, прикосновенные к взяткам!.. А он это предсказывал, я это напоминал, я говорил, что это предсказано и это так сделается, вот и сделалось — и исполнилось, как он предсказал.
— Кто предсказал?
— Павел Степаныч!
— Какой Павел Степаныч?
— Как “какой Павел Степаныч”!.. Нахимов!
И Фрейганг рассказал какой-то давний случай, когда покойный Нахимов был недоволен каким-то продовольственным распорядителем или комиссионером и стал его распекать, а тот, начав оправдываться, стал беспрестанно уснащать свою речь словами “ваше превосходительство”. Это так взорвало адмирала, что он закричал:
— Что я вам за превосходительство! Что это еще такое! Вы имени моего, что ли, не знаете, или прельщать меня превосходительством вздумали? У меня имя есть! Это вы ваше превосходительство, а моряков нельзя так звать, они вашим ремеслом не занимаются. Тогда их можно будет “так” звать, когда они этим станут заниматься.
Праведный бедняк адмирал[203] с петербургских Песков [204] глубоко верил, что перестав называть друг друга по именам, а начав величать по титулам, — моряки подверглись роковой порче” [205].
Приведено определенное свидетельство “бедняка адмирала” и в очерке, посвященном Лесковым целиком и полностью столь исключительному в свое время явлению, как “инженеры бессребреники” [206].
Вообще всегда любовно говорит писатель о честных людях и восхищенно о скромных, самоотверженно шедших на подвиг, подлинных героях, беззаветно отдававших жизнь за родину.
Но в то же время, где случится, он всегда готов едко помянуть вконец обнаглевших, надоевших всем “милитеров” [207]. Надо сказать, что еще в кадетских корпусах, лично проправленный самим царем, учебник географии “с особенной серьезностью” разъяснял обучаемым, что “Россия государство не торговое и не земледельческое, а военное и призвание его быть грозою света…” Неудачи паши в Крымскую войну внесли некоторое оздоровление в общее настроение и снизили военный задор, “а то меры не было вздорам… Я сам помню, — продолжал Лесков, — как раз вечерком, на том месте Казанской площади, у садика, где теперь часто стоит тележка чухонца с выборгскими кренделями, иду я домой, а предо мною идут два офицера и говорят:
— Видишь штафирку?
Другой отвечает: вижу.
И указывают друг другу на чиновника, который покупает крендельки и завязывает их в платочек. Верно, человек бедный был, потому что шляпенка на нем рыженькая, и сам он тощий, заморененький, а на нем шинелька суконная, ветхая, подол подтрепан и разрез сзади, — как это делалось.
Один офицер говорит: давай, разорвем его.
Другой отвечает: давай.
И тут же, на моих глазах, взяли его за край шинельного разреза, потянули в разные стороны и располосовали пополам до самого воротника. Только пыль из старого суконца посыпалась, и креньдельки он свои, бедняк, разронял. А все это совершенно ни за что, да и без злобы, а так, можно сказать, по глупой манере носились сами с собой в каком-то священном восторге и как зыкливые телята брыкались. Я же вам об этом упоминаю для того, чтобы показать, какой был дух времени и какое царствовало неблагоприятное для гражданской деятельности настроение — особенно в кругу тесного соприкосновения с людьми военными” [208].
“Дух”, по всему видно, был действительно нестерпимый, подлинно “палкинский”. Военные шли везде и во всем превыше всякого понимания. У нас, мол, отменное “марсово призвание” [209], и равняться с нами некому. “Покоряйтесь, языки, и покоряйтеся нам!” И покорялись… Всё, кроме них, вздор и незначительность. Все невоенные — хамы, “аршинники”, “штафрики”, “рябчики”… Всех их, которые поскромнее и попроще, можно рвать, над всеми можно безнаказанно глумиться и потешаться во все свое удовольствие. Это был непререкаемый стиль и обычай.
В “Печерских антиках” Лесков писал о годах своего столоначальничества:
“Все мы тогда чувствовали себя необыкновенно веселыми и счастливыми, бог весть отчего и почему. Никому и в голову не приходило сомневаться в силе и могуществе родины, исторический горизонт, которой казался чист и ясен, как покрывавшее нас безоблачное небо с ярко горящим солнцем. Все как-то смахивали тогда на воробьев последнего тургеневского рассказа: прыгали, чиликали, наскакивали, и никому в голову не приходило посмотреть, не реет ли где поверху ястреб, а только бойчились и чирикали: — Мы еще повоюем, черт возьми! — Воевать тогда многим ужасно хотелось. Начитанные люди с патриотическою гордостью повторяли фразу, что “Россия — государство военное”, и военные люди были в большой моде и пользовались этим не всегда великодушно”.
Не имея сил справиться с своим негодованием, дальше он перебирал:
“Впрочем, подобное ожесточенное свирепство милитеров тогда было повсеместно в России, а не в одном Киеве. В Орле бывший Елисаветградский гусарский полк развешивал на окнах вместо штор похабные картины; в Пензе, в городском сквере, взрослым барышням завязывали над головами низы платьев, а в самом Петербурге рвали снизу доверху шинели несчастных “штафирок”. Успокоила этих сорванцов одна изнанка Крымской войны” [210].
“Свирепств” Лесков насмотрелся досыта и в Киеве за годы своей службы в рекрутском присутствии, и во многих других городах своего отечества, и в самой столице последнего, где, пожалуй, упорнее, чем в других местах, водились еще “сорванцы” старой выучки и прежних навыков.
Всю жизнь свою он с неослаблявшейся ненавистью вспоминал “ошалелых” плац-парадных хлыщей, твердо исповедуя, что “сила спасения” страны всегда “заключалась в тех, кто, не рисуясь и не бравируя, делали свое дело” [211].
ГЛАВА 8. КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Первого мая 1857 года, с отпускным билетом в кармане, Лесков отправляется не в столицу, куда, должно быть для отвода глаз, просил его уволить, а к “дяде Шкотту”. Хотелось, не порывая пока со старым, ознакомиться с новым видом деятельности — коммерческой. Четыре месяца отпуска позволяли это вполне. Первое выпавшее ему испытание — свод орловских крестьян графа Перовского и Понизовье — заканчивается конфузом, обнажая полную практическую неопытность молодого чиновника в выполнении некоторых неказенных заданий. Под старость он запечатлеет эту назидательную неудачу в потрясающем рассказе “Продукт природы” [212]. Это не обескураживает: все остальные виды предстоящей деятельности ему приходятся по плечу и по вкусу. Он обосновывается в селе Райском Городищенского уезда Пензенской губернии в штаб-квартире английской компании “Шкотт и Вилькепс”. В Киев, в казенную палату 9 сентября посылается свидетельство о болезни, оправдывающее просрочку отпуска и желание быть уволенным “вовсе от службы”. Просьба удовлетворяется. Первый период “коронной службы” кончен.
В 1877 году он, оглядываясь назад, подведет такое объяснение этому шагу: “С прекращением Крымской войны и возникновением гласности и новых течений в литературе, немало молодых людей оставили службу и пустились искать занятий при частных делах, которых тогда вдруг развернулось довольно много. Этим движением был увлечен и я. Мне привелось примкнуть к операциям одного английского торгового дома, по делам которого я около трех лет был в беспрестанных разъездах” [213].
В будущем он горько упрекнет “дядю Шкотта” за соблазн, пожалеет, что поддался последнему:
“Вскоре после Крымской войны… я заразился модною тогда ересью, за которую не раз осуждал себя впоследствии, — то есть я бросил довольно удачно начатую казенную службу и пошел служить в одну из вновь образованных в то время торговых компаний. Она теперь давно уже лопнула, и память о ней погибла даже без шума… Хозяева дела, при котором я пристроился, были англичане… Они еще были люди неопытные, или, как у нас говорят, “сырые”, и затрачивали привезенные сюда капиталы с глупейшею самоуверенностью. Операции у нас были большие и очень сложные: мы и землю пахали, и свекловицу сеяли, и устраивались варить сахар и гнать спирт, пилить доски, колоть клепку, делать селитру и вырезать паркеты — словом, хотели эксплуатировать все, к чему край представлял какие-либо удобства… Из русских высшего по экономическому значению ранга только и был один я — и то потому, что в числе моих обязанностей было хождение по делам, в чем я, разумеется, был сведущее иностранцев” [214].
Операции компания вела чуть не по всей России. “Хождение по делам” не ограничивалось поэтому одной Пензенщиной, а охватывало опять-таки почти всю Россию, вызывая необходимость постоянных поездок в качестве “доверенного” фирмы “от Черного моря до Белого и от Брод до Красного Яру” [215].
В каких условиях, с какими передрягами и медлительностью совершались эти многоучительные поездки и сколько они могли давать молодому наблюдательному человеку — сочно описано самим Лесковым:
“Во Владимире я нашел покинутый мною тарантас, который мог еще сослужить свою службу, так как на колесах было удобнее ехать, чем на санях, — и я тронулся в путь в моем экипаже. Пути мне от Владимира оставалось около тысячи верст; я надеялся проехать это расстояние дней в шесть, но несносная тряска так меня измяла, что я давал себе частые передышки и ехал гораздо медленнее” [216].
Случилось подчас и много труднее и учительнее:
“Лет шесть тому назад я служил в одной торговой компании, имевшей дела по всему Поволжью от Астрахани до Рыбинска и далее по Мариинской и Тихвинской системам до Петербурга. Три года я провел в беспрерывных разъездах по делам моих доверителей, беспрестанно сталкиваясь с различными людьми, между которыми было очень много староверов. Один раз, именно лет шесть или семь назад, я выехал из Москвы в Пензу с двумя попутчиками: саратовским купцом и одною молоденькою провинциальною актрисою. Дело было зимой, так после Николы, а уж были ухабцы. Ехали мы в рогожном возке, купленном нами сообща в Москве. По моим делам и делам купца нам выпадало ехать по Рязанскому тракту, а актрисе было все равно, она с нами не спорила. Мы и поехали на Рязань на вольных… А уж я говорю, местами были ухабцы, и таки раскатисто становилось. В одном таком-то местечке возок наш со всего разбега бух в ухаб, а оттуда прямо в раскат да полозом о мерзлый гребень раската, — так двух копыльев как и не было. Неприятное дело! Дотащил нас ямщик до первой деревни и стой: чиниться нужно. Деревня была раскольничья: жили в ней федосеевцы. Деревенька так не очень большая, и дворов постоялых в ней всего один был, потому что упряжка тут по расстоянию выходила как-то неловкая: оттуда близко, и отсюда недалеко; извозчик все и минует. Остановились мы на квартире: комната теплая, но с угарцем, однако ничего. Я с купцом пошел рядиться в кузницу и с плотником, а попутчица наша стала хлопотать о чае. На дворе был час четвертый утра, и деревня уже встала. Люди древлего благочестия, видя нашу беду неминучую, содрали с нас за копылья и рванку цену христианскую: шесть целковых заломили и на том стали; но обещались к вечеру отпустить в лучшем виде. Дали мы шесть целковых за рублевую работу и начали выгружать возок, который нужно было опрокинуть, чтобы вдолбить копылья, а тем временем и чай поспел у актрисы. Уселись мы и благодушествуем, а за дощатой перегородкой комнаты кто-то все: ох да ах. Голос, слышно, женский…”
Оказывается, терзается в предродовых муках молодая раскольница. По благочестивому обычаю федосеевцев, ей ничем не помогает не только отец ожидаемого ребенка, но даже и ни одна “суседка”. “Нечестивая актерка” сердобольно бежит к страждущей, а подавшая самовар старуха в дальнейшей беседе поясняет проезжим: “У нас, я тебе скажу… мужик баловник, козел-мужик, похотник. Он тебе бабу никогда не сожалеет… В пашем-то звании все, миленький, вот так-то: молода да легка, так все “поди сюда”, а затяжелела, так и милу дружку надоела” [217].
До вечера, пока исправили возок, чего только путники не наслушались, не нагляделись, не изучили, со сколькими самыми “различными” людьми не “столкнулись”, чего не вызнали… Ну, а за три-то года таких поездок по святой Руси как не узнать всю ее “в самую глубь?” И притом именно “от Черного моря до Белого и от Брод до Красного Яру”. Это была жизнью, а не книгой даваемая школа. Ее и хватило на весь писательский век!
Дела компании по началу развернулись, может быть, шире и смелее, чем подсказали бы большее знание страны, общих условий, осмотрительность. Англичане, по мнению писателя, не учли, “что Россия имеет свои особенности, с которыми нельзя не считаться”. В результате более состоятельные компаньоны, Вилькенсы, примирившись с потерями, вышли из дела. “Совсем обрусевшему” и денежно подорванному Шкотту оставалось осесть на кое-как, не без долга, закрепленных за собою клочках “райских” угодий.
Лескову здесь уже делать было нечего. Приходилось покидать Пензенщину. Разлука племянника с дядей не оставила добрых воспоминаний. Отношения не сбереглись ни с самим Шкоттом, ни со “шкоттятами”, как с родственной теплотой называли его сыновей киевские Лесковы.
В ходе лет Николай Семенович отпустит дяде-англичанину его нечаянную вину и заговорит о нем с прежним расположением: “В понизовых губерниях в имениях графов Перовских и Нарышкиных в довольно недавнее время был управляющий некто Александр Яковлевич Шкотт — родом англичанин, по человек совершенно обрусевший, замечательно хорошо знавший русский народ и умевший снискивать себе доверие крестьян, которыми управлял. Он уже умер, но его до сих пор знают и помнят в Симбирске, и в Пензе, и в Самаре” [218].
“Шкоттята” за статьями двоюродного своего брата не следили и чего-то ему по-прежнему не забывали.
В оскудении и захудалости Александру Яковлевичу не пришлось долго ждать смерти.
Всех удалее обернулся во всех совершавшихся событиях предрекавший Лескову писательство сосед Шкотта Ф. И. Селиванов, исподволь благоприобретший чуть не все Райское и выкроивший овдовевшей Александре Петровне Шкотт скромный хуторок, на котором она и свековала со вторым своим, в “науках незашедшимся” сыном, тогда как старший, учившийся в Москве, стал там популярным хирургом.
Хозяйство Селиванов повел кругом и во всем без филантропии предпоследнего владельца, Всеволожского, — он же “Шут-Севатской” [219], — и без всяких “аглицких” затей, по старой русской мере: “Торговый рубль широк, да короток, а земельный — тонок, да долог”. И не прогадал, оставив неплохое состояние и роду своему [220].
Пензенский период отмечен в жизни Лескова и вполне самостоятельной неудачей коммерческого же характера. Я лично узнал об этом впервые от него самого почти ребенком. Жили мы с ним в 1876 году на даче под Выборгом. В одну из поездок “в город”, то есть в Петербург, взял он почему-то и меня. Литейный мост тогда как раз только что строился. С Финландского вокзала ездили через плашкоутный мост, наведенный против Воскресенского, ныне Чернышевского проспекта. Съехал наш извозчик с моста и стал: поперек тянулся длиннейший интендантский обоз, охраняемый конвоем. “Что это везут и так много?” — спросил я. “Муку”, — отвечал отец. Я замолчал. Отец вынул портсигар, закурил и, взглянув раз-другой на кули, неожиданно для меня продолжал: “Да, мука… Давно это было… Взял я раз подряд по продовольствию какой-то инвалидной команды в Городищах… Невелика, казалось бы, хитрость, а сумел и на ней прогореть. Не за свое дело, значит, взялся. На все сноровка нужна, опыт, да и удача… Я ее никогда ни в чем не знал…”
Прошло много лет. Отец уже умер. Я начинал стареть. Сижу в Публичной библиотеке, перелистываю пыльные страницы “Северной пчелы” и вдруг вижу: “Возился я раз в г. Г-ах со сдачей провианта для располагавшейся там провиантской команды. Жду у амбара “коменданта” (так называли там г-ского инвалидного начальника из “сдаточных”) [221]. Ба! — думаю, — да ведь это Городищи, все это то самое, что в детстве привелось слышать раз от отца на извозчике.
Ярким диссонансом осуждению себя за оставление казенной службы ради более живой деятельности являются восторженные строки, написанные два года спустя. Это был горячий отзвук “сложению с себя обязанностей попечителя Киевского учебного округа” знаменитым хирургом и педагогом Н. И. Пироговым:
“Очень недавно в небольшом кружке одного из наших университетских городов носился слух, что почтенный русский ученый, гуманные статьи которого тогда производили сильное впечатление на молодое племя, оставляет службу, уезжает в свое небольшое бессарабское поместье и дает место всем, кто захочет жить около него честным сельским трудом. Боже мой, какое это было время! Какое благородное и честное стремление охватило десятки голов, самых умных, самых мыслящих голов, несмотря на то, что они с самого детства слышали только о необходимости “сделать себе карьеру!” [222]
Покончив с Пензой, Лесков весною 1860 года возвращается в Киев.
Однако что же дальше здесь делать? Снова чиновничать? Упущены три года. Многие товарищи обогнали. Младший на шесть лет брат Алексей уже “удостоен степени лекаря”. Это положение, дорога. Идти “на зов” Пирогова? Но ведь не все, что иногда так заманчиво звучит, оказывается прочным, удовлетворяет, кормит… Только что перенесенная неудача настораживает. Решение принято: 15 сентября 1860 года Лесков вновь “определен” в канцелярию киевского военного, подольского и волынского генерал-губернатора.
Из того, что, несмотря на явленное три года назад “модное” пренебрежение к службе, он опять взят тем же генерал-губернатором непосредственно в “собственную” его канцелярию, надо заключить о полном к нему благоволении державной четы Васильчиковых. Возможно, что не последнюю роль тут сыграли прошлые заслуги молодого чиновника по участию в благотворительных спектаклях “киевской княгини”.
Когда мне доводится перечитывать “Смех и горе”, мне неотвязно представляется, что изображенный там губернатор Егор Егорович и его воплощающая собой “геральдического льва”, со стеклышком монокля в глазу, супруга, не могущая “привыкнуть к этой должности” и несущая отсветный вздор, — что в обеих этих фигурах многое призанято у добродушного Иллариона Илларионовича Васильчикова и его “всевластной” супруги Екатерины Алексеевны, рожденной княжны Щербатовой.
Допустимо также предположение, что была принята во внимание и уже слегка обозначившаяся прикосновенность Лескова к журнализму, пусть пока не выше, чем в обличительно-корреспонденческом жанре, а все-таки — сочинитель.
“Во всяком разе”, по любимому присловию Лескова, перед ним открывалась незаурядная карьера.
И все же, нежданно-негаданно, 29 ноября того же года “согласно прошению”, он снова “по болезни уволен от службы”.
Что-то уже не мирило с канцелярией, чиновной зависимостью, “хомутом” и “ливреей”. Три года вольной работы, богатство встреч и впечатлений, широта личного почина в делах отравили безвозвратно. Вицмундир стал гадок. Он его никогда больше уже и не надел.
В самые последние годы жизни, ошибочно относя некоторые настроения свои к совсем ранней юности, Лесков говорил, что “не знал, к чему себя определить”, что ему “и хотелось и не хотелось служить”, что он “был уже немножко испорчен фантазиями”, что все военные ему представлялись “Скалозубами, а штатские Молчалиными, и ни те, ни другие не нравились”. Далее он писал: “По характеру моему мне нравилось какое-нибудь живое дело, и я рассказал это моей тетке, а та передала своему мужу; англичанин стал мне советовать, чтобы я не начинал никакой казенной службы, а лучше приспособил бы себя к хозяйственным делам. Для того же, чтобы заохотить меня к этому, он сказал мне: “Вот мы теперь переселяем партию крестьян… Отправляйся-ка ты с ними и вникай” [223].
Мы теперь знаем, к чему привело исполнение совета “англичанина”, относящееся к значительно более позднему времени. Знаем, что это было потом оценено как непростительная “ересь”. А в “приказе”, в “палате” тем паче, должно быть, в генерал-губернаторской канцелярии — молчалинство. О военной службе никогда и речи не было.
Шли искания. Они стоили дорого, брали много невозвратного времени, на них, казалось впустую, ушла почти вся молодость. Это приводило в отчаяние.
Но если бы не было исканий, — не было бы и писателя.
На закате дней, подводя “итоги жизни”, Лесков сам признавал, что “ересь” заключалась в предположении в себе способности удовлетвориться прибыльным, карьерным, чем бы то ни было кроме “от сосцу матерне” предопределенного ему — служения литературе.
На рубеже четвертого десятка лет смутно и неуверенно, но уже начинало расти предощущение истинного жребия.
Он сулил много трудностей, требовал во многом разобраться, многое преодолеть, минутами страшил, но “поглощенность литературою” уже неосилимо влекла.
В конце концов жизнь властно сказала: “прирожденный писатель!” [224]
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ПИСАТЕЛЬСТВО 1860–1864
На тихоньких бог нанесет, а резвенький сам набежит.
ПословицаГЛАВА 1. ПЕРВАЯ ПРОБА ПЕРА
В отличие от большинства русских беллетристов Лесков чуть не полжизни и не помышлял о писательстве. По собственному его показанию, “в литераторство” его “втравили” и “свели” с Краевским и Дудышкиным профессор Вальтер, Громека и другие. Вообще, “писательство началось случайно”.
Все это тем удивительнее, что еще в Орле близость со Сребницким и особенно с Опанасом Марковичем вовлекла его в исключительную заинтересованность литературою.
Почему еще там зародившаяся страсть не привела к хотя бы робкому творческому опыту? Почему так долго не было последнего и позже?
С чего же на тридцатом году жизни начались литературные попытки? По чуть не общепринятому обычаю со стихов? Опять-таки, он их никогда не писал, кроме двух-трех интимных или шутливых четверостиший, да и то уже в пору настоящего писательства.
И начало было свое — необычное.
Общение с передовыми профессорами Киевского университета привело к знакомству со статистикой[225], с социологией, философией, политической экономией.
Трехлетние деловые странствия по родной земле ознакомили с экономикой и бытовыми условиями всех слоев населения в самых различных участках России, со всем многообразием отраслей промышленности в каждой отдельной местности. Все это приковывало к себе жадное внимание любознательного, молодого наблюдательного и хорошо подготовленного жизнью Лескова. В нем вырабатывался экономист — этнограф. Одновременно закладывался грунт, полезный и необходимый для заправского беллетриста, для художника, пробудившегося и выросшего в нем с огромным, по сравнению со многими, опозданием, но зато на тучной почве большого опыта и огромных практических знаний.
В 1859 году на глазах у него прокатилась волна “питейных бунтов”, захлестнувшая Пензенскую губернию с Городищенским ее уездом. Лесков хорошо знал положение винокуренного дела в данной местности и, впервые в жизни, решил взяться за перо.
В апрельской книжке журнала “Отечественные записки” за 1861 год появляется статья — “Очерки винокуренной промышленности. (Пензенская губерния)”. Она занимает страницы 419–444. Подпись — “Николай Лесков”. Дата: “Г. Одесса. 28 апреля 1860 г.”.
В печати ее, правда, обогнали десятка два небольших статеек, корреспонденцией и мелких заметок.
Первой задуманной и написанной для печати работой Лескова, бесспорно, является именно эта статья, и именно такой признавал ее и сам Лесков.
На хранимом мною ее оттиске, точнее вырезке из журнала, выше заглавия стоит чернилами сделанная собственноручная мета Лескова:
“Лесков
1-я проба пера.
С этого начата литер[атурная] работа
[1860 г.]”.
Один из двух эпиграфов к статье взят из статьи Щедрина “Скрежет зубовный”: “Урожай у нас — божья милость, неурожай — так, видно, богу угодно. Цены на…” и т. д.
Основная мысль статьи — общая несправедливость и убыточность винокуренных привилегий, предоставляемых помещикам и дворянству. Тенденцию и стиль ее в основном выражают следующие строки:
“Винокурение предоставлено правительством только известному сословию помещиков — землевладельцев, свободно от всяких налогов и пользуется кредитом от казны. Мы должны полагать, что правительство, обусловив винокурение таким образом, желало не только обеспечить себя необходимым для потребления количеством вина, но видело еще в этой промышленности средство к достижению других целей; иначе правительство не имело бы нужды делать винокурение привилегиею одного сословия, по большей части не владеющего денежными капиталами, необходимыми для такого производства. Ему стоило только сделать эту промышленность доступною лицам всех сословий, и нет сомнения, что не встретилось бы недостатка в людях, которые, обеспечив правительство залогами, произвели бы это дело своими средствами, не требуя от правительства никакого содействия и кредита, без чего не обходятся нынешние винокуренные заводчики из лиц привилегированного сословия”.
Далее автор обнажает чудовищное преувеличение Пензенской казенной палатой производительных сил местных помещичьих заводов, облегчающее заводчикам преувеличенные же заподряды, особенно таким господам, как губернатор, предводитель дворянства и т. д.
Два года спустя, направляясь через всю Белоруссию за границу, он еще яснее оттенил хорошо памятные ему потворства, повсеместно оказывавшиеся привилегированным предпринимателям и винокурам:
“Имея в виду, что уездный город Пинск не только имеет городничего, без которого не бывает города, но даже частных приставов, да еще не одного, а двух, я уж не хочу говорить, что Пинск нимало не напоминает ни Кром, ни Малоархангельска, ни Борзны, ни Черни, ни (спаси господи!) Городищ, устроенных собственно для выдачи пензенским винокурам свидетельств на несуществующую на самом деле запасную медь, ради получения под нее денег” [226].
В самом “очерке” подальше двусмысленно говорится:
“Уверенные в том, что винокурение есть могущественнейший рычаг, с помощью которого возвышается земледелие, а через него и народное благосостояние целого края, мы сказали, что правительство, предоставляя это дело сословию, занимающемуся землевозделыванием, вероятно, имело в виду дать помещикам средство возвысить свое хозяйство и тем содействовать общественному благосостоянию…
Мы нимало не ошибемся, если причину всех этих неблагоприятных явлений будет полагать в преизбытке того спекулятивного характера, который усвоен здешнему винокурению. Пензенские помещики, владеющие винокуренными заводами, смотрят на винокурение как на независимую самостоятельную промышленность, а не как на прибыльную отрасль сельского хозяйства, которая, видоизменяя главный продукт местного плодородия, кроме денежных прибылей от самого фабриканта, дает средство к возвышению местного хозяйства. Этот взгляд помещиков заставил их ввести производство значительного, как мы видели, винокурения на относительно малом числе огромных заводов; и в нем лежит коренная причина того, что здешнее винокурение мало содействует или, вернее, вовсе не содействует ни скотоводству, ни земледелию…”
Желчно смеется Лесков над “вдохновенными” надеждами и соображениями пензенских горе-винокуров, доходящих до “милого обычая спускать барду в реки”, вместо того чтобы скармливать ее скоту, “пометом которого” при других порядках люди “утучняют свои поля и рачительно обрабатывают их с помощью здоровых и сильных животных, улучшают свой быт и быт своих крестьян”.
Ближе к концу статьи автор как бы подводит итог:
“Нам кажется, что этот пример ясно говорит, что покровительственные меры правительства, вверившего винокурение помещикам, здесь не достигает своей цели и что земледельческие интересы края более выигрывали бы, если б винокурение предоставлено было не одному привилегированному классу, а вообще, без различия сословий, всем лицам, владеющим землею и занимающимся возделыванием ее: от этого вино, как нужный для правительства продукт, нимало бы не вздорожало, а земледелие заметно улучшилось бы”.
Чисто земельному, экономическому вопросу посвящает свою первую литературную работу Лесков. Он возмущается в ней многовидными льготами, предоставляемыми лицам привилегированных положений в ущерб людям других сословий. Им осуждается вся система покровительства многоимущим, выгодно поставленным особам, вроде губернаторов и предводителей дворянства.
С опубликованием такой во многом щекотливой, если для некоторых издателей не одиозной, статьи пришлось помытарить. Немудрено, что ее и опередила разная малозначительная мелочь, но остается непреложным, что именно прежде всего хотел сказать начинающий публицист.
Пока здесь виден только знающий землю и страну экономист. Его сменит бойкий корреспондент — минутами безудержно смелый, даже дерзкий по отношению к противникам, публицист. И только после многого пережитого станет проглядывать будущий “волшебник слова”, который “писал непластически, а рассказывал и в этом искусстве не имеет равных себе” [227].
Что же именно опередило в печати эту “первую пробу пера” Лескова?
По-видимому, прежде всего была напечатана в № 181 журнала “Указатель экономический” от 18 июня 1860 года бесподписная корреспонденция о продаже в Киеве, у книгопродавца С. И. Литова, Евангелия на русском, а не на славянском, как издавалось оно до тех пор, языке, по сорок копеек вместо выставленной на обложке книги цены в двадцать [228].
Через три дня, в № 135 “С.-Петербургских ведомостей” от 21 июня, появилась по тому же вопросу корреспонденция, датированная 20 мая 1860 года и подписанная — “Николай Лесков”.
Дальнейшими ближайшими публикациями Лескова были написанные по предложению издателя киевского журнала “Современная медицина”, профессора Киевского университета А. П. Вальтера, острые статьи: “Заметка о зданиях”, “О рабочем классе”, “Несколько слов о врачах рекрутских присутствий”, “Несколько слов о полицейских врачах в России”, “Полицейские врачи в России” [229], а также ряд характерных корреспондентских заметок и статеек в “Указателе экономическом” по неблагоустройству Киева, об открытии там абонемента на книги, о приватных популярных лекциях профессора Вальтера в анатомическом театре университета, “О трудности не из-за прилавка пристроиться в коммерцию или к ремеслу”, “Несколько слов о местах распивочной продажи хлебного вина, водок, пива и меда”, “Несколько слов об ищущих коммерческих мест в России” и т. д. [230]
Итак, Пенза продиктовала Лескову тему для первой его статьи, а вся работа у Шкотта неоценимо сказалась на подготовке его к писательству, щедро обогатив воспринятое и накопленное на Орловщине и Украине.
Детство в непосредственной близости к народу остерегло от ошибок в изображении народных образов и жизни. Привольная гимназическая и приказная жизнь в Орле обеспечила сближение с городским населением всех его слоев и разновидностей, облегчило изучение его языка, нравов, нужд, обычаев, помыслов. Киев обострил и повысил наблюдательность. Трехлетние торгово-промышленные разъезды широко раздвинули ее рамки.
Школа была пройдена богатая впечатлениями, исключительно счастливая для создания писателя, про которого величайший знаток русской жизни, Горький, уверенно скажет: “Но он, Лесков, пронзил всю Русь” [231], да еще прибавит: “Великий сочинитель!” [232]
На литераторскую арену ощупью выходил человек яркой самобытности, “насквозь русский”, больших знаний, сразу же признанной огромной одаренности.
Вскоре он утвердился в вере в свои силы: “Я смело, даже, может быть, дерзко, думаю, что я знаю русского человека в самую его глубь, и не ставлю себе этого ни в какую заслугу. Я не изучал народ по разговорам с петербургскими извозчиками [233], а я вырос в народе на гостомельском выгоне с казанком в руке, я спал с ним на росистой траве ночного, под теплым овчинным тулупом, да на замашной панинской толчее за кругами пыльных замашек, там мне непристойно ни поднимать народ на ходули, ни класть его себе под ноги. Я с народом был свой человек, и у меня есть в нем много кумовьев и приятелей, особенно на Гостомле… Я был этим людям ближе всех поповичей пашей поповки, ловивших у крестьян кур и поросят во время хождения по приходу… Я не верю, чтобы попович знал крестьянина короче, чем может его знать сын простого, бедного помещика” [234].
Через шестьдесят лет это подкрепит опять-таки Горький: “Он взялся за труд писателя зрелым человеком, превосходно вооруженный не книжным, а подлинным знанием народной жизни” [235].
Основой всех основ в писателе Лесков всегда полагал знание родины, ее людей, всего больше — крестьянства, простолюдина.
Не подлежит сомнению, что одиннадцатилетняя служба в Орле и Киеве дала Лескову много жизненного опыта, однако опыт, вынесенный им из поездок по коммерческим заданиям, он ценил всего выше. Уже стариком, на полные восхищения и удивления вопросы — откуда у него такое неистощимое знание своей страны, такое богатство наблюдений и впечатлений — писатель, немного откидывая голову и как бы озирая глубь минувшего, слегка постукивая концами пальцев в лоб, медленно отвечал: “Все из этого сундука… За три года моих разъездов по России в него складывался багаж, которого хватило на всю жизнь и которого не наберешь на Невском и в петербургских ресторанах и канцеляриях”.
На эту тему он не только говорил, но и писал. И притом всегда охотно и образно, подкрепляя личные взгляды чужими заключениями.
Тут он любил помянуть старшего своего собрата по перу, усматривавшего оскудение содержания, образов и языка у новых писателей в невозможности что-либо наблюсти и воспринять из окна железнодорожного вагона, заменившего неторопливую езду на лошадях.
“Теперь человек проезжает много, но скоро и безобидно, — говорил Писемский, — и оттого у него никаких сильных впечатлений не набирается, и наблюдать ему нечего и некогда, — все скользит. Оттого и бедно. А бывало, как едешь из Москвы в Кострому “на долгих”, в общем тарантасе, или “на сдаточных”, — да и ямщик-то тебе попадет подлец, да и соседи нахалы, да и постоялый дворник шельма, а “куфарка” у него неопрятище, — так ведь сколько разнообразия насмотришься. А еще как сердце не вытерпит, — изловишь какую-нибудь гадость во щах да эту “куфарку” обругаешь, а она тебя в ответ — вдесятеро иссрамит, — так от впечатлений-то просто и не отделаешься. И стоят они в тебе густо, точно суточная каша преет, — ну, разумеется, густо и в сочинении выходило; а нынче все это по-железнодорожному — бери тарелку, не спрашивай; ешь — пожевать некогда; динь-динь-динь, и готово: опять едешь, и только всех у тебя впечатлений, что лакей сдачей тебя обсчитал, а обругаться с ним в свое удовольствие уже и некогда” [236].
Любопытно и много более раннее собственное свидетельство Лескова: “Извозчик для едущих на протяжных это совсем не то, что кондуктор для нынешнего путешественника, несущегося по железной дороге. С извозчиком седоки непременно сближались и даже сживались, потому что протяжная путина — это часть жизни, в которой люди делили вместе и горе, и радость, и опасности, и все его досады! “Вместе мокли и все сохли”, как выражается извозный люд” [237].
Случилось однажды Лескову выслушать от Суворина укор в разбрасывании своих заметок по разным газетам, иногда достаточно досадительных другим. Пришлось изъяснять мотивы: “Прожив изрядное количество лет и много перечитав и много переглядев во всех концах России, я порою чувствую себя как “Микула Селянинович”, которого “тяготила тяга” знания родной земли, и нет тогда терпения сносить в молчании то, что подчас городят пишущие люди, оглядывающие Русь не с извозчичьего “передка” (как мы езжали за 3 целковых из Орла в Киев), а “летком летя”, из вагона экстренного поезда. Все у них мимолетом — и наблюдения, и опыты, и заметки… Всему этому так и быть следует, ибо “всякой вещи есть свое время под солнцем”, — протяжные троечники отошли, а железн[ые] дороги их лучше, но опыт и знание все-таки своей цены стоят да и покоя не дают. То напишу я заметку вам, то Нотовичу, то Худякову, и они, кажется, везде читаются и даже будто замечаются и, б[ыть] м[ожет], отличаются от скорохвата. С. Н. Шубинский говорит, будто он везде меня узнает, а Худяков говорит, что “простые читатели” меня одобряют” [238].
Удивительно созвучны многому из приведенного здесь строки письма Л. Толстого из Женевы к Тургеневу в Париж от 9 апреля 1857 года: “Ради бога, уезжайте куда-нибудь и вы, но только не по железной дороге. Железная дорога к путешествию то же, что бордель к любви. Так же удобно, но так же нечеловечески машинально и убийственно однообразно”.
Лесков органически не терпел “коекакничества” в чем бы то ни было, и уж, конечно, всего больше в литературной работе. Его гневили и раздражали “литературные приживалки”, искавшие в писательстве материальных прибытков и удовлетворения мелкого тщеславия. При случае он разражался жестокими упреками “кидавшимся по верхам журналистики верхоглядам и скорохватам”.
Сам он, уже на двадцатом году своего литераторства, писал Шубинскому: “Голован” весь написан вдоль, но теперь надо его пройти впоперек… Надо бы его хорошенько постругать. Не торопите до последней возможности” [239].
“Недоструганную” работу сдавать в печать не умел.
ГЛАВА 2. ПУБЛИЦИСТ ОБЕИХ СТОЛИЦ
С возвращением в Киев возобновляются отношения с кружком молодых университетских профессоров. В их числе доктор медицины А. П. Вальтер, с которым по старой памяти, как бывший киевский же профессор, не терял связи видный экономист И. В. Вернадский, с 1857 года издававший в Петербурге “Указатель экономический, политический и промышленный”.
Это предопределяет русло первых публицистических попыток Лескова, приводит его к графине Е. В. Сальяс де Турнемир де Турнефор, собиравшейся издавать в Москве умеренно-либеральную газету “Русская речь” и обращавшейся к видным киевлянам с просьбой указать ей молодых корреспондентов и сотрудников для ее газеты.
Все складывалось как бы органически, само собой, без трудных поисков и гаданий о том, как, где и к кому пристать.
Видимо, в декабре 1860 года Лесков пускается в путь. К добру ли покидался, в недавние еще годы такой “милый”, а сейчас ничем к себе уже не влекший, Киев для холодного, загадочного севера? А что было беречь здесь? Семья развалилась. К чиновничеству вкуса нет. Негоциация не оправдала себя. Пустое место! А сознание предназначения к чему-то иному, новому, волнующему, пусть и опасному, растет, говорит: дерзай! Хотелось больше видеть, полнее чувствовать, острее жить. И Лесков дерзает…
Едет он не вслепую, а по во всем обеспеченной трассе: в Москве его ждет “Русская речь”, в Петербурге — “Указатель”. Сразу два рабочих очага.
После свидания с Евгений Тур он, не теряя времени, уже в качестве штатного корреспондента “Русской речи”, в конце декабря 1860 или начале января 1861 года приезжает в Петербург.
Здесь исключительное радушие со стороны И. В. Вернадского и его жены, “приючающих” у себя “киевлянина”. Нет одиночества и растерянности в чужом городе. Напротив, создается бытовой уют, жизнь в высококультурной семье не слишком много старшего, но много более просвещенного ученого, неизбежно становящегося поначалу руководителем первых шагов новичка. Одновременно, у Вернадских же, живет и любопытный во многом А. И. Ничипоренко, два года спустя трагически погибший в зловещем Алексеевском равелине Петропавловской крепости за сношения с лондонскими пропагандистами — Герценом и Огаревым.
Глубокий провинциал, недавно еще колесивший в возках по дебрям своего необъятного отечества, окунается в водоворот ключом бивших политических событий, столичных публицистических течений, борьбы разномысленных лагерей, взглядов, стремлений.
Было от чего закружиться голове.
Могли ли не влиять на политически очень еще сырого Лескова Вернадский, Усов, Дудышкин и прочие, близкие им по взглядам, маститые петербургские деятели, в среду которых он вошел с самого своего приезда.
Вернадский — воплощение благомыслия, закономерности, равновесия. Это противник и неустанный полемист по отношению к “Современнику” времен Чернышевского.
Лескову это представляется непогрешимо верным. Покоренный авторитетом журналистов, круг которых его обласкал, Лесков утверждается в верности их доктрин и ошибочности, даже опасности взглядов инакомыслящих.
Уверовавший в эту позицию, Лесков неминуемо вовлечется в полную вызова и пыла полемику [240] и даст повод укорить его за “беспардонные приговоры”.
Вернадский, отечески пестуя своего пансионера, вводит его в “Политико-экономический комитет императорского Географического общества”, в “Комитет грамотности при третьем отделении Русского вольно-экономического общества”, знакомит с массою значительных лиц, издателей и т. д.
С головокружительной стремительностью развертывается публицистическая и общественная деятельность еще вчера никому не известного человека от недр земли. Он усердно посещает всевозможные заседания, уверенно выступает на них по ряду земельных, крестьянских и экономических вопросов, навещает смертно больного Шевченко, закрепляет о днесь цитируемое описание картины его угасания, его похорон, шлет бойкие корреспонденции в “Русскую речь” о столичных событиях и настроениях, сотрудничает в “Указателе экономическом”, а в марте 1861 года уже дебютирует сразу тремя статьями в “толстом” журнале Краевского и Дудышкина “Отечественные записки” [241].
Это ли не успех! Было отчего и опьянеть, потерять самообладание даже и не при таком, как у него, темпераменте. О чем только ни писал он: о борьбе с народным пьянством, о торговой кабале, о раскольничьих браках, о колонизационном расселении малоземельного крестьянства, о поземельной собственности, о народном хозяйстве, о лесосбережении и о дворянской земельной ссуде, о женской эмансипации, о народной нравственности, о привилегиях, о народном здоровье, об уравнении в правах евреев и т. д.
В своем постепеновстве он резко осуждает привилегии дворян, противостоит аксаковскому “Дню” по национальному и иным вопросам, не говоря уже о Каткове или Аскоченском.
В один зимний полусезон он выдвигается в ряды заметных публицистов, общественных фигур Петербурга и Москвы.
Не уклоняется он и от непосредственного обучения взрослых людей в широко развернувшихся “воскресных школах”. Корреспондируя о заседании Комитета грамотности при третьем отделении Русского вольно-экономического общества 28 мая 1861 года, он называет “учредителем” первой из таких школ в России бывшего профессора Киевского университета П. В. Павлова, а о своей практике в них говорит:
“Передавая читателям “Русской речи” сущность этого заседания с точностью, возможною для моей памяти, я позволю себе высказать несколько собственных мыслей, не оставлявших меня ни в самом заседании, ни по выходе оттуда.
Я не считаю себя достаточно опытным, чтобы опровергать мнение гг. членов комитета о необходимости ограничиваться только начальным обучением народа грамоте, устраняя из первоначальных школ распространение других научных познаний, необходимых в смысле общечеловеческого развития; но я могу по собственному опыту свидетельствовать, что при самом обучении чтению и письму есть некоторая возможность сообщить ученикам много интересующих их общественных сведений. Такой смешанный метод обучения я попробовал ввести в одной из с. — петербургских школ, где, обучая чтению и письму фабричных работников и работниц, я освободил мой кружок от употребления литографированных прописей и начал учить их письму, приучая списывать себе в тетради то, что я писал для них крупно мелом на черной деревянной доске. Опыт мой совершенно удался и принят в этой школе другими преподавателями. Выгоды этого письма главнейшим образом заключаются:
1) в уничтожении расходов на покупку прописей; 2) в возможности обучать разом большее число учеников, занимаясь исправлением их почерка во время списывания ими с доски, и 3) в том, что у каждого из учеников и учениц остаются тетради, в которых их собственною рукою записаны более или менее необходимые в жизни сведения. Таким образом, я полагаю, что полезнее стремиться соединять с обучением грамоте распространение некоторых научных сведений, а не стараться вовсе изгонять, последние из круга первоначального обучения. Здесь есть возможность всегда действовать так, что одно не будет идти в ущерб другому” [242].
Первые заседания Политико-экономического комитета вызывают его горячее одобрение. Ему кажется вначале, что этот комитет “в течение нынешнего сезона сделал очень много. Он решил немало общих жизненных вопросов и решил их так верно, так правильно, как едва ли они когда-нибудь были бы решены иным путем. Он раскрыл такие тайны общественного организма, которые до сих пор не были никому известны; он убедил нас, что и мы можем решать вопросы, требующие глубокого и всестороннего обсуждения, не истратив ни одного листа писчей бумаги; он, наконец, видимо содействовал выработке во многих его посетителях здравых политико-экономических понятий” [243].
Он сетует на неприглашение на эти заседания женщин, мимоходом, не без колкости, упоминает о неприбытии приглашенного комитетом на одно из заседаний Муравьева-Амурского. К декабрю 1861 года, после годичного опыта и пристального наблюдения, тон его отзывов о работе комитета заметно снижается: “Но я далек от мысли безусловно отрицать относительную пользу прошлогодних заседаний комитета и разделяю сожаление многих о том равнодушии, с каким прошла их наша периодическая литература… Ему[244] можно пожелать и еще очень многого, а главное того, чтобы некоторые ораторы не смотрели на залу комитета как на арену для ломания копий цветословия и шли бы к решению вопросов путем более положительным и ясным, без уносчивости в пространные области всеобъемлющей науки и без неудержимого желания давать концерт на своем красноречии” [245]. Рикошет не минует и Вернадского, у которого Лесков уже не живет и академизмом которого, как экономист-практик, видимо успел несколько пресытиться.
Попозже, почти не чинясь, недавний апологет выступает с ясной, в одном своем заглавии полной яда статьей — “Российские говорильни в С.-Петербурге” [246]. Тут уже именословно говорится о самом Вернадском, а его “говорильня” безаппеляционно признается вполне бесполезной.
Приговор этот выносится, однако, лишь через два года от начала посещения первоначально так пленивших Лескова заседаний. По первому впечатлению эта форма столичного парламентаризма очаровала не знавшего ничего подобного провинциала. Завяли, само собой разумеется, и личные отношения этих двух во всем различных людей.
Успехи публициста не заглушают, а последовательно даже будят в Лескове беллетриста. Уже в таких статьях, как “О русском расселении” и “О переселенных крестьянах” [247], даются жизненно-теплые зарисовки, представляющие нечто весьма близкое к картинам, развернутым через тридцать лет в рассказе “Продукт природы” [248].
Видевший Лескова, вероятно в конце 1861 года, выходящим из кабинета Вернадского в редакции “Указателя экономического” будущий библиограф его произведений, П. В. Быков, записал за ним: “Сейчас я стремлюсь показать людям жизнь, какова она есть, а скоро выступлю и как “изящный словесник” [249]. При этом он высказывал уверенность, что будет замечен по манере письма и по отблеску знакомства его с некоторыми из даровитых польских беллетристов. Недаром в бумагах Лескова оказался рукописный список “нравоописательных очерков” Иордана — “Заметки ценовщика”, с которых он собирался делать “вольный пересказ”. Набросав к нему коротенькое вступление, — “От переводчика”, — он признавал, что в авторе “преобладает здоровое стремление и склонность передавать современные жизненные явления своей родины без сентиментальностей и без традиционных прикрас” [250].
К весне 1862 года Лесков, выполняя свое намерение, выступает как заправский словесник и знаток быта сразу с тремя небольшими рассказами: “Разбойник” [251], “Погасшее дело” [252] (впоследствии “Засуха”) и “В тарантасе” [253]. При неизбежных в первинках недочетах, все они заставляли задумываться.
В 1861 году в Москву посылаются “Письма из Петербурга” для “Русской речи”, в которой происходит реорганизация: с 39-го номера газеты от 18 мая 1861 года Евгения Тур, оставаясь издателем, слагает с себя редакторские тяготы, перелагая их полностью на своего сотрудника Е. М. Феоктистова. К названию органа прибавляется еще — “Московский вестник”.
К лету, с замиранием “сезона”, со снижением пульса политической и общественной жизни в столице, материалы для корреспонденции оскудевают. Лесков направляется к “своему” журналу в “первопрестольную”. Здесь его помещают во флигельке усадьбы, нанимаемой Сальяс, где-то на Большой Садовой, “против Ермолова”, как означал не раз Лесков. Сама издательница проводит летние месяцы в Сокольниках[254]. Лесков часто навещает патронессу и охотно гащивает у нее.
По первым приметам все сулит дружество и теплоту отношений и с графиней и со всем ее семейно-приятельским окружением, с новым редактором, с сотрудниками.
При почти ежедневных встречах ведутся бесконечные горячие дебаты на общеполитические и литературные темы с хозяйкой и ее близкими, в числе которых небезызвестная писательница “Ольга Н.”, то есть С. В. Энгельгардт, рожденная Новосильцева.
Волею владелицы газеты Лескову поручается ведение “внутреннего обозрения”, с окладом 1200 рублей в год при особой оплате личных статей и заметок. Отношение к нему хорошее, как к вполне оправдавшему свое назначение, полезному и желательному сотруднику, интересному собеседнику, живому человеку. Опять, как начиналось и с Вернадским, не одиноко и не без уюта.
Конечно, есть кое-что и смешное, почти комичное, минутами, пожалуй, жеманное, даже докучливое. Может быть, не одинаково приятны и все сотрудники, но добрые предпосылки преобладают. Выдается встретить кое-где и простодушное женское внимание и ласку.
Но вот к осени, “в одно подлейшее утро”, с “последними запоздалыми журавлями”, приезжает “скоропостижная дама” — казалось, навсегда освободившая, всячески нежеланная и непереносимая Ольга Васильевна.
О том, в каких тонах каких тонах, напряженности и темпах протекают супружеские интетермедии, — уже говорилось. К сожалению, в них вовлеклось много совершенно стороннего элемента. Главарями азартного вмешательства явились: сама “Сальясиха”, как будет потом долго называть ее Лесков; сестры Новосильцевы, которых он перекрестит в “углекислых фей Чистых прудов”; Феоктистов, в “Некуда” — Сахаров, а в беседах и письмах — “подлый и пошлый человек, стоящий на высоте бесправия” [255]. К ним, в той или другой мере, примкнет кое-кто из сотрудников, в том числе и недавно приехавший из Воронежа А. С. Суворин, в конце концов разделивший взгляды главарей, не пожалевший самых поносительных отзывов о Лескове в письмах, посылавшихся им в эту пору воронежскому приятелю М. Ф. де Пуле [256], а затем очень долго сколько мог и как умел вредивший Лескову и полемически бесславивший его.
В итоге — полный и злой разрыв со всей редакцией, с изданием, к которому “приткнулся” и с которым начал свыкаться. “И зачем ехала? — Чтобы еще раз согнать меня с приюта, который достался мне с такими трудами; чтобы и здесь обмарать меня и наделать скандалов”. Такие, чисто личные слова вложит он через три года в уста доктора Розанова в “Некуда”. Но причем тут “еще раз”, “обмарать”, “наделать скандалов”? Не с ее ли помощью пришлось уйти и из киевской генерал-губернаторской канцелярии? Легенд в Киеве жило много.
По каким-то, вероятно, договорным и гонорарным условиям, как ни тягостно, Лесков еще около двух месяцев ведет “внутреннее обозрение” и только с конца ноября, с 96-го номера “Речи”, вести его начинает Суворин.
С “сальясихиным кружком” порвано. Лесков полон гнева на всех, а наипаче на “злорадного” Феоктистова-Сахарова. Врагов нажито богато! Не совсем открыто, но убежденно в их рядах и Суворин, будущий хлесткий фельетонист “академических” “С.-Петербургских ведомостей”, писавший там под псевдонимом “Незнакомец”, по лесковской терминологии — “академический скандалист”, а по Салтыкову впоследствии — “Пятиалтынный Третий”. Затем Феоктистов, со временем достигший степеней известных и, заняв пост начальника Главного управления по делам печати, ревниво припомнивший все выпады по его адресу Лескова в печати и рассчитавшийся за них “мерою полною и утрясенною”, вплоть до сожжения целого тома в общем собрании сочинений врага.
Покончив с “белокаменной”, Лесков окончательно переселяется в Петербург.
Московские события стоили ему крови…
Под их впечатлением он не удержался от мстиво-памфлетного пересола в главах “Некуда”, о чем потом будет вспоминать с досадою и самоугрызением.
“В моей лит[ературной] деятельности я знаю два поступка, за которые краснею, — этот вывод на сцену “углекислых фей” да некоторый портрет в рассказе “Островитяне”. Это дурные поступки, но они были сделаны давно, в молодости, да и кто из писателей не грешен точно такими же грехами… С тех пор я никогда, ни одного раза не подпал подобному исключительному соблазну” [257].
Так думалось двадцать лет спустя.
По приезде зимой, на исходе 1861 года, в Петербург Лесков опять посещает различные заседания, клубы, собрания, работает в журналах “Время”, “Книжный вестник”, “Век” и становится одним из наиболее значительных сотрудников газеты “Северная пчела”, несмотря на то, что там было достаточно матерых и более опытных журналистов. Следом идут и первые опыты словесного изящества — беллетристики.
Положение в либерально-журналистических кругах складывается довольно благоприятно. Когда Н. Курочкин по ряду соображений не нашел возможным продолжать заведовать редакцией “Иллюстрации” после перехода ее в руки некоего иностранца А. Баумана, о чем заявил письмом в “Северную пчелу” от 7 февраля 1862 года, № 37, на другой же день в № 38 той же газеты появилось заявление многих столичных литераторов и об их нежелании сотрудничать у названного издателя, причем в их число входил и Лесков.
Для освещения, с чьими именно именами стояло его имя, с кем он оказывался в то время в большей или меньшей рабочей близости, дословно привожу все это заявление:
“К издателю “Северной пчелы”
По случаю перехода журнала “Иллюстрация” под заведование другой редакции, нижеподписавшиеся долгом поставляют довести до сведения читателей этого издания, что они прекращают в нем всякое дальнейшее сотрудничество:
В. Пеньков, В. Толбин, А. Ушаков, П. Мельников (Андрей Печерский), А. Потехин, Н. Потехин, И. Пиотровский, Э. Крупянский, Н. Кроль, П. Боклевский, В. Курочкин, А. Ничипоренко, А. Апухтин, Г. Жулев, Г. Елисеев (Грыцько), С. Максимов, Г. Руссель, Д. Минаев, И. Чернышев, А. Витковский, И. Горбунов, М. Семевский, И. Яфимович, А. Майков, Н. Лесков, М. Стопановский, В. Елагин, К. Бестужев-Рюмин, М. Хмыров, В. Крестовский, Н. Соколовский, А. Афанасьев (Чужбинский), П. Лавров, Н. Альбертини, П. Якушкин”.
Работа есть, но ее не столько, сколько жаждет творческий темперамент. Статьи и рассказы редакциями принимаются и печатаются, публикою читаются, а такой уверенности, чтобы целиком и исключительно отдаться литературе, не думая ни о каких других видах труда, — нет! Лесков точно оглядывается, присматривается — не подкрепить ли еще чем-нибудь свое жизненное положение?
В то же время, увлеченный работами Географического общества, он, как “действительный член” последнего, делает в начале 1862 года заявку о желании совершить большую поездку по юго-востоку России.
Императорское Русское географическое общество сношением от 3 апреля 1862 года за № 610 просит министра внутренних дел П. А. Валуева “почтить… уведомлением, не встречается ли со стороны Министерства внутренних дел каких-либо препятствий к выдаче от Общества гг. Кулишу и Лескову просимых ими письменных рекомендаций к местным властям”[258].
20-го того же месяца Лесков, в письме к В. П. Безобразову, сообщая о своем намерении “нынешним летом сделать этнографические и статистические исследования по низовьям Волги и на восточном берегу Каспийского моря”, просит его “заявить Совету Географического общества мое намерение и принять на себя ходатайство перед ним по моей просьбе”.
Там же он просит, если возможно, “примкнуть” его к “экспедиции, снаряжаемой в Азовское море для исследования его глубины”, уверенный, что “один человек, посланный кстати, а не нарочно”, не обременит эту экспедицию. Дальше он говорит: “Я буду вести мой походный журнал живыми сценами, как пишу свои рассказы (псевдоним М. Стебницкий). Опыт убедил меня, что у нас это самый удобный способ описаний. Он не исключает возможности научного метода в исследованиях и даст произведению тот характер, к какому привыкли наши читатели, убегающие от книг, писанных в виде чистого исследования. Я надеюсь доказать, что в заключениях моих нет ошибки”.
Поездка выполнялась бы в качестве корреспондента газеты “Северная пчела”, характеризуя неутолимую жажду Лескова как можно больше видеть, узнавать, наблюдать, накоплять впечатления.
Это тот самый путь, который он до последних своих лет будет указывать всем тяготеющим к литературе: “дальше от Невского!”
Пока идет переписка, в конце мая разыгрываются события, которым посвящается очередная глава.
События эти заставляют его, хотя ненадолго, покинуть Петербург, чтобы в родной глуши, у матери в Панине, несколько успокоиться, собраться с мыслями [259].
Вопрос о поездке на юго-восток России пока не вырешается.
Так или иначе, а служит он своей новой, публицистической профессии пылко, все безогляднее увлекаясь борьбой со “всеотрицающим направлением”. По поводу же встречных выпадов и рикошетов он, с неколебимой верой в правоту своих слов, всегда будет говорить: “с тех пор, как я пишу, меня только ругают” [260].
Так ли? Не бывало ли и иначе?
Бывало! По отношению к нему делался шаг глубочайшего значения, удивительный, истинно дружеский, никем другим, как именно “Современником”.
Обреченно отозвавшись о безнадежно-определившемся авторе нижних столбцов “Северной пчелы”, то есть о П. И. Мельникове-Печерском, журнал делал крутой поворот:
“Если бы мы были уверены, что желчные и грязные статьи против “Современника” принадлежат Павлу Ивановичу Мельникову… то мы не сказали бы ни слова. Павел Иванович — человек с дарованием, но с дарованием вполне сложившимся и вполне высказавшимся. Последние письма его о расколе показывают, что от него более ждать нечего… Нам жаль верхних столбцов “Пчелы”. Там тратится напрасно сила не только не высказавшаяся и не исчерпавшая себя, а может быть, еще и не нашедшая своего настоящего пути. Мы думаем, по крайней мере, что при большей сосредоточенности и устойчивости своей деятельности, при большем внимании к своим трудам она найдет свой настоящий путь и сделается когда-нибудь силою замечательною, быть может совсем в другом роде, а не в том, в котором она теперь подвизается. И тогда она будет краснеть за свои верхние столбцы и за свои беспардонные приговоры de omnibus et quibusdam [261]. Веяние кружка, интересы минуты настраивают часто вопреки нашей воле каким-то странным образом наши взгляды. Особенно вредно в этом случае действует петербургский климат. Говорят, стоит только переменить климат, уехать за границу, особенно в Лондон, — и можно в месяц, даже менее, получить совсем другое настроение и воззрения. Были, дескать, и опыты такие” [262].
Так не ругают. Это полный доброжелательства, скорбью дышащий терпеливый ответ на ряд далеко не безупречных, не всегда выдержанных выпадов противника, в котором с горечью отмечается расходование силы по недостойному назначению. Это был мост, опускавшийся из цитадели “нетерпеливцев” талантливому заблудившемуся “постепеновцу”.
Это был зов. Мало того — это оказалось и пророчеством.
Такая глубокая, спокойная и уверенная оценка силы, такой полный признания и дружества призыв политического противника могли зажечь желание пересмотреть свои установки, проверить безошибочность личных взглядов, умерить напряженность вражды и в итоге, может быть, даже привести, без потери ценных лет, к много более раннему преображению.
Но… “веяние кружка” и “интересы минуты” превозмогли…
Отвечая “Современнику” в передовой “Пчелы”, Лесков упорно подчеркивает полную независимость и неизменность своих умозрений:
“Сотрудник, которому Современник сделал некоторые замечания за его “верхние столбцы”, принял эти замечания с искренней благодарностью и очень рад опытным указаниям, по которым он может проверить свои убеждения. Ему нечем обижаться. Со дня появления в Современнике “полемических красот” журнал этот ни с кем из несолидарных с ним писателей не обходился с такою мягкостью и вниманием, какое выражено им автору наших передовых статей по русским вопросам. Такими замечаниями не оскорбляются, а ими люди незаносчивые и несамонадеянные пользуются для проверки своей деятельности. Сотрудник наш, благодаря редакцию Современника за сделанные ему замечания, конечно, не соглашается с тем, что его взгляды выработались под влиянием нашего кружка. Он пришел к нам, в наш кружок, с теми самыми взглядами, которые постоянно приводил и приводит в своих статьях у нас и в других периодических изданиях, где встречается его имя. Он не отрицает пользы, которую ему могла бы принести рекомендуемая поездка в Лондон, и готов с особенною тщательностью видеть там всех и вся и воспользоваться всем, чем полезно там воспользоваться, но не полагает, чтобы знакомство с Лондоном могло перевернуть его коренные убеждения… Мы имеем право сказать, что солидарный с нами во всех основных убеждениях сотрудник наш, которому сделано Современником замечание, никогда не будет “краснеть” за написанные им в нашей газете статьи, ибо мы твердо уверены, что когда-нибудь споры наши станут выражаться точнее и определеннее, и тогда само общество своим сочувствием докажет, мы ли с нашими “единомышленниками” или Современник с его плеядою чутче понимали желания общества и верное шли к тому, достижение чего нужно обществу в настоящую минуту… До времени нам, право, лучше было бы оставить очистительную критику каждого из лиц нашего кружка. Что за прок ронять друг друга в общественном мнении?” [263]
Протянутая рука как будто пожата, но не без строптивости и условности.
На другой день в “Пчеле” появляется передовая Лескова же о петербургских пожарах.
Буря, вызванная ею в наиболее влиятельной части столичной прессы, сметает все.
Едва начавшая казаться возможной, взаимно терпеливая полемика не может иметь дальнейшего развития. Разобщение усугубляется. Корабли сожжены.
“Ошибки были неизбежны” [264], — говорит в беседах старый Лесков.
“Я не видал, “где истина”!.. Я не знал, чей я?.. Многое мною написанное действительно неприятно… Я блуждал и воротился, и стал сам собою — тем, что я есмь”. Это писано в годы, позволявшие критически обозреть весь пройденный путь ошибок и достижений [265].
Чтобы стать самим собою, надо было освободиться от многого, воспринятого в своем родстве и быту, как говорилось, “от сосцу матерне”, а потом подтвержденного “веянием”, наследственно предуготовленного, постепеновского окружения.
В начале тысяча восемьсот шестидесятых годов Лескову до грядущего обращения из Савлов в Павлы было еще не близко.
ГЛАВА 3. КАТАСТРОФА
На третьем десятке литературной своей работы Лесков с полным сочувствием и духовной удовлетворенностью скажет о букете живых цветов, смело брошенном девичьею рукой к позорному столбу, у которого 19 мая 1864 года на Мытной площади Петербурга стоял приговоренный к каторге Чернышевский [266].
Еще позже он скорбно напишет Толстому: “Вы не ошибаетесь — жить тут очень тяжело, и что день, то становится еще тяжелее. “Зверство” и “дикость” растут и смелеют, а люди с незлыми сердцами совершенно бездеятельны до ничтожества. И при этом еще какой-то шеренговый марш в царство теней, — отходят все люди лучших умов и понятий. Вчера умер Елисеев, а сегодня лежит при смерти Шелгунов… Точно магик хочет дать представление и убирает то, что к этому представлению негодно; а годное сохраняется…” [267]
Так чувствует и смотрит стареющий писатель. Начинавшим журналистом он не мог разглядеть и вернее оценить “людей лучших умов и понятий”.
Благожелательное и дружественное движение “Современника”, дышавшее искренним сожалением, что молодой даровитый журналист “Северной пчелы” идет недоброю дорогой, в 1862 году не успело победить полного еще ранних “одержаний” Лескова.
13 мая князь В. Ф. Одоевский после беседы с ним записывает в дневнике: “Толковали о глупых прокламациях и нелепостях нашего социализма. “Северная пчела” начинает поход на социалистов” [268].
Раз взятый курс остается неизменным и даже явно утверждается.
А следом над Лесковым разражается катастрофа, вызвавшая новые ошибки, трагически подорвавшие литературное положение писателя почти на два десятка лет, да и едва ли всеми забытые ему до конца его жизни.
В “Духов день” 28 мая 1862 года, по стародавнему порядку весь крупноторговый мир столицы наводнил Летний сад. Это были традиционные показ и смотрины купеческих невест. Любопытное зрелище привлекало внимание людей и не одного торгового положения.
День выдался, как на заказ, погожий. Народу ко второй половине дня в саду тьма. Кто чопорно-важен, кто весело-шутлив, и уж во всяком случае все как нельзя более праздничны. И вдруг, в шестом часу вечера, как гром среди ясного неба, страшная весть — горят Апраксин и Щукин дворы, рынки!
Все бросаются к экипажам, к выходам, к домам. Сад как вымело. Пожар бушует, разрастается, угрожает соседним кварталам, чуть не всей центральной части города. Справиться с ним в один день никакой надежды! В толпах, запрудивших ближние к нему улицы, смелые догадки, подозрения, обвинения…
Все они разносятся с невероятной быстротой по всему городу. С азартом и озлоблением подхватывается всегда легкое на помине острое слово — поджог! Кто же, кто поджигатели-то? Улица решает быстро и просто: вернее всего — “поляки”, они ведь “всегда бунтуют”, либо те, что в мягких шляпах, очках да пледах ходят, они везде “мутят”! К ним же мелкий городской люд относит и всегда волнующуюся молодежь, студентов, как, впрочем, и вообще всю “протерть горькую” из так называемых “господ”.
Поиски “поджигателей” идут с упорством и нарастающей раздраженностью и в других слоях населения столицы. Конечно, делается это келейно, не в печати, со стороны которой требуется исключительная осторожность, особенно в отношении отражения уличных толков, о которых всего благоразумнее не поминать.
В “Северной пчеле” не было недостатка в умудренных многолетним опытом публицистах. Тем непонятнее представляется — как в такой острый час писать “передовицу” на такую острую тему было предоставлено или поручено менее других испытанному, заведомо небогатому выдержкой полуновичку? Еще непостижимее — в чем выразилась, необходимая для боевой статьи, “правка” ее заправилами газеты?
Привожу наиболее значительные выдержки из этой бедоносной для Лескова статьи, навлекшей на него жестокие гонения и обвинения в преступлении, которого он не хотел совершить. Опущены здесь перечисление улиц и кварталов, охваченных пожаром, и предложения о сформировании пожарных команд из волонтеров, о мероприятиях по оказанию материальной и продовольственной помощи пострадавшим, по облегчению скорейшего возобновления торговли и т. п.
“С.-Петербург, среда, 30 мая 1862 г.
Среди всеобщего ужаса, который распространяют в столице почти ежедневные большие пожары, лишающие тысячи людей крова и последнего имущества, в народе носится слух, что Петербург горит от поджогов и что поджигают его с разных концов 300 человек. В народе указывают и на сорт людей, к которому будто бы принадлежат поджигатели, и общественная ненависть к людям этого сорта растет с неимоверною быстротою. Равнодушие к слухам о поджогах и поджигателях может быть небезопасным для людей, которых могут счесть членами той корпорации, из среды которой, по народной молве, происходят поджоги… В огромных толпах стоявшего на пожарах народа толки о поджогах шли вслух. Народ нимало не скрывал ни своих подозрений, ни своей готовности употребить угрожающие меры против той среды, которую он подозревает в поджогах. Во время пожара в Апраксинском дворе были два случая, свидетельствующие, что подозрения эти становятся далеко небезопасными. Насколько основательны все эти подозрения в народе и насколько уместны опасения, что поджоги имеют связь с последним мерзким и возмутительным воззванием, приглашающим к ниспровержению всего гражданского строя нашего общества, мы судить не смеем. Произнесение такого суда — дело такое страшное, что язык немеет и ужас охватывает душу… Но как бы то ни было, если бы и в самом деле петербургские пожары имели что-нибудь общее с безумными выходками политических демагогов, то они нисколько не представляются нам опасными для России, если петербургское начальство не упустит из виду всех средств, которыми оно может располагать в настоящую минуту… Потом, для спокойствия общества и устранения беспорядков, могущих появиться на пожарах, считаем необходимым, чтобы полиция тотчас же огласила все основательные соображения, которые она имеет насчет происхождения ужасающих столицу пожаров, чтобы вместе с тем тотчас же было назначено самое строгое и тщательное следствие, результаты которого опубликовывались бы во всеобщее сведение. Только этими способами могут быть успокоены умы и достигнуто ограждение имущественной собственности жителей!.. Скрываться нечего. На народ можно рассчитывать смело, и потому смело же должно сказать: основательны ли сколько-нибудь слухи, носящиеся в столице о пожарах и о поджигателях? Щадить адских злодеев не должно; но и не следует рисковать ни одним волоском ни одной головы, живущей в столице и подвергающейся небезопасным нареканиям со стороны перепуганного народа. Мы не выражаем всего того, что мы слышали; полиция должна знать эти слухи лучше нас, и на ней лежит обязанность высказать их, если она хочет заслужить себе доверие общества и его содействие” [269].
Удивляться вызванному статьей взрыву не приходится. Строки: “чтобы присылаемые команды являлись на пожары для действительной помощи, а не для стояния” — вызвали гнев самого царя. Прочитав их, Александр II написал: “Не следовало пропускать. тем более, что это ложь” [270]. “Высочайший гнев” для газеты был тоже не радость.
В самооправдательных стремлениях растерявшаяся “Пчела” не раз попадает из огня в полымя [271]. 7 июня она с воплями и аффектированным негодованием принимается опротестовывать, пока только в воздухе носившиеся, слухи о причастности к поджогам “студентов”. Это слово впервые читается в печати. Этим губится в раскаленном общественном мнении газета и автор определенных ее статей…
Личные “терзательства” Лескова были беспредельны. Они “засели” у него “в печенях” на всю жизнь. Он положительно трепетал всегда при воспоминании о них. Это была незаживляемая, неослабно кровоточащая рана. Она была тем больнее, что упорно почиталась им незаслуженной.
Проходит двадцать лет. Уже “генералом от литературы” задумывает он очерк, которому, по обычаю, примеряет несколько заглавий: “Кустарный пророк”, “Религиозные мечтатели и нововеры”, “Фабричный пророк” и в конце концов — “Обнищеванцы” [272].
Ни одно из этих заглавий не предвещает, что рассказ коснется в своем развитии уже хорошо призабытых апраксинских событий. Но Лескову забыть их не по силам. Может быть и не без натяжки, не упускается случай осветить — был ли поджог, кого больнее всех он обездоливал и чьим интересам отвечал. Там говорилось:
“Но беды ходят толпами: едва Исаич наработал товару и сдал в рынок, как случилось большое и до сих пор не определенное по своему значению для петербургских рабочих событие: сгорел торговый Апраксин двор. Памятный пожар этот, причина которого так и осталась необнаруженною, был первым общественным бедствием, которое молва стала приписывать умыслу людей, желавших произвести смуту в народе, но до сих пор, кажется, никто не осведомился у рабочего народа: кому привелось пострадать от этого бедствия? Полагали, что более всех понесли убытки одни торговцы этого рынка, тем более что у большинства из них — если не у всех — товар был не застрахован, и потому недоумевали: что же за цель могла быть у них, кому нужным казалось истребить этот рынок? Говорили: “если бы хотели создать затруднения в продовольствии бедного класса и тем вызвать беспорядок, то надо бы сжечь Сенную площадь, а не Апраксин двор. Тогда, говорили, вздорожали бы продукты, а бедный народ назавтра же встретился бы с дороговизною, а может быть даже с совершенным голодом, который бы непременно вывел рабочих из терпения и легко мог сделать их игрушкою в руках “специалистов”. В Апраксином же дворе сгорели изделия, а не корм. Истребление изделий потребует возобновления их и тем самым даже увеличит задельную плату, — следовательно, этот пожар наказал только капиталистов, а рабочим это истребление товаров простонародного рынка, так сказать, даже будет выгодно”. Такие вполне ошибочные выклады выкладали как официальные, так и вольнопрактикующие наши экономисты и имели успех у послушенствовавших им государственных людей, но на самом деле все эти рацеи были чистейший вздор… Огромное количество рыночного товара тогда производили для рынка мелкие фабриканты, то есть кустари, работающие свое производство у себя на домах, иногда в одну руку, иногда всем семейством и реже при содействии одного или двух рабочих. Все эти мелкие производители разного рыночного товара — люди почти бескапитальные. Две — три сотни рублей, которые они имеют и ими “оборачиваются”, постоянно находятся у них “в материале”, из которого идет производство… В этом же положении застал их и пожар, истребивший апраксинские лавки, в которых, таким образом, сгорело не столько товара, принадлежавшего самим торговцам, сколько принадлежавшего производителям, кустарям, которые снесли его туда на распродажу, но денег за него еще не получили. А в этом товаре у кустарей было затрачено все, что они имели, и они буквально оставались нищими… Следовательно, если пожар был делом чьего-либо умысла и расчета, то эти люди знали положение дела лучше, нежели экономисты, и хорошо знали, во что метили. Проникновения же на это с другой стороны не было никакого: на убытки торговцев, которые сейчас же после пожара явились на виду, обратили какое ни есть внимание, а на круглое разорение несравненно большего числа производителей-кустарей — никакого… Эти остались в полной беспомощности и имели самую настойчивую причину считать себя больше всех обиженными”.
Взгляд на возможность поджога не меняется, однако высказывается он уже с некоторою условностью.
Об апраксинском, как о всяком чудовищно большом, пожаре ходило много взаимно противоречивых версий. Непогрешимо-уверенные обвинения и домыслы шли по самым различным направлениям и адресам.
Без большой сторонней о том заботы мог в любой день гореть и Апраксин двор, представлявший собою готовый костер, сплошное нагромождение деревянных лавок, ларей, закусочных и всевозможных балаганчиков, в которых день-деньской копошились, толкались, ели, пили, курили крайне разношерстные представители городского и пришлого люда.
Нет основания обходить вниманием также и одну дневниковую запись Одоевского: “Говорят, что поджог в Апраксином дворе был произведен некоторыми купцами, чтобы избавиться от подходящих к Макарьевской ярмарке расчетов. Свидетели видели, что три лавки были заперты, хозяев не было, пожар приближался, — сломали двери, — лавки оказались пустыми, следственно, хозяева их приготовились к пожару” [273].
Такого рода операции были у нас в большом ходу. Тринадцать лет спустя купец-миллионер С. Т. Овсянников, “влетев” в 1875 году утром, “на масляной”, в кабинет дельца-миллионера В. А. Кокорева и не заметив стоявшего в глубокой оконной нише Лескова, “был нескромно весел” и воскликнул: “А мы нонче блины пекли!” [274] Другими словами — сожгли огромную, хорошо перестрахованную паровую мельницу около Александро-Невской лавры. Не побоялся и новых судов. Однако сорвался и только во внимание к большим годам угодил не на каторгу, а лишь на поселение в Сибирь.
Ни один из упорно живших слухов не нашел себе ни вполне убедительного подтверждения, ни бесспорного опровержения.
Июнь 1862 года весь проходит в тяжелом пожарно-полемическом угаре. На столбцах “Пчелы” появляется малоуспокоительная статья, говорящая о “Колоколе”, “желчевиках”, “демагогах”, о грядущей терпимости свыше к расколу [275].
2 июля министр внутренних дел сообщает управляющему Министерством народного просвещения свое заключение о том, что разговоров о “терпимости” к расколу “вовсе не следовало бы допускать”, так как они содействуют “кривотолкам раскольников” [276]. Новая неудача!
28 июля на Украине арестовывается А. И. Ничипоренко, только что побывавший у Герцена. Его привозят в Алексеевский равелин Петропавловской крепости. Тут же, в бесподписной статье, “Пчела” опять заговорила о Герцене [277]. Ответчиком снова мог быть принят автор пожарного письма.
Поднимаются разговоры о показаниях Ничипоренко, как и И. И. Кельсиева. С первым Лесков жил в зиму 1860–1861 годов и В. В. Вернадского, со вторым встречался в “сальясихином кружке” в Москве. Можно ли поручиться за то — что, когда и как говорил с ними по-приятельству? Как угадать — что именно любознательному Третьему отделению покажется особенно значительным и заслуживающим дальнейшего доследования по опросе этих лиц?
Положение осложняется. Поездки в поволжское понизовье нет. Не толковее ли на некоторое время все же оказаться подальше, не быть в Петербурге, а то и в России? Мысли далеко не безосновательные и сами собой рождавшиеся.
Медлить нечего. Редакция не то полупредательской, не то преступно беспечной “Пчелы”, может быть не без искупительной предупредительности, придумывает своему слишком пылкому, но несомненно ценному сотруднику длительную и дальнюю командировку в качестве корреспондента газеты. Маршрут интересный: Литва, Белоруссия, Украина, Польша (австрийская), Чехия, в завершении пути — Париж, а пожалуй, и Лондон. Последний не исключался неспроста: помнилось благожелательное указание “Современника” на вредное для некоторых журналистов влияние петербургского климата и на благотворное иногда воздействие на их “настроения и воззрения” климата лондонского [278].
Исход найден. Поездка обещает уврачевать “смятенный дух” потрясенного сотрудника, оживить столбцы газеты любопытными, живыми письмами о положении дел и настроениях западных окраин, об отношении к России зарубежной Украины, чехов, поляков, о возможности достижения “slawjanskoj wzajemnosći”, о луи-наполеоновской Франции, а может быть, даже привести к встрече с самим Герценом. Программа увлекательна. Горизонты широкие. Есть где обогатить впечатления, во многом по-новому разобраться, может быть многое переоценить, перестроиться. Лишь бы уехать… Это свершается беспрепятственно.
“Будь медлен на обиду, а на прощанье скор”, — стоит в одном из его писем ко мне [279].
Учительно мелькает этот совет в его обращениях и к другим близким и неблизким.
Удавалось ли его применение самому Лескову?
Не раз, даже в минуты исключительной умиротворенности, в сумерки (“szar godzin”, как любовно называл он эти часы по-польски, по-мицкевичски), в дружественной беседе многозначительно скандировался им по какому-нибудь поводу любимый стих любимого поэта:
Забыть! забвенья не дал бог,
Да он и не взял бы забвенья [280].
Не брал его и Лесков.
ГЛАВА 4. БЕГСТВО
Шестого сентября 1862 года Лесков выезжает по строившейся тогда Варшавской железной дороге.
Первым пунктом назначения является столица Литвы, Вильно.
Путешествие дает благотворное рассеяние, отодвигает, заслоняет огорчения, которого столько было перенесено за последние месяцы.
С дороги посылаются в “Северную пчелу” любопытнейшие письма, печатающиеся под общей рубрикой “Из одного дорожного дневника”. Подписи под ними не ставится вовсе. Признается благоразумнее несколько повременить с упоминанием на газетных столбцах имени автора бедоносной “пожарной” статьи.
Оторвавшись, наконец, от места стольких переживаний, полный сил и кипучей энергии, Лесков начинает оживать, воспрядать духом.
“Орлу обновившася крыла и юность его”, — любил говорить он. Подъем настроения чувствуется с первой же корреспонденции. Более сочную и жизненно яркую хронику всей поездки, чем оставил ее нам Лесков, трудно себе представить. Это не помешало ей до сегодня остаться почти неведомой, никогда не переизданной и со времени печатания ее на столбцах “Пчелы” прочно забытой. Сейчас воспользоваться выдержками из этого “дорожного дневника”, по его живости и искренности, несомненно, как нельзя более ценно.
7 сентября путешественник заносит уже полный биографического букета курьез: “В Динабурге пиво особенно вкусное; я его рекомендовал генералу, который сидел около меня за столом…
— А как вы хорошо говорите по-русски! — заметил генерал после того, как я заявил свое удовольствие, что динабургское пиво нравится его превосходительству.
— Неудивительно, — отвечал я, — тридцать годочков живу на русской земле.
Генерал посмотрел на меня инспекторским взглядом и с видимым недоверием спросил:
— Да вам всего-то сколько лет?
— Да тридцать лет.
— Так вы в России родились?
— В — ской губернии.
— Да, но все-таки вы ведь француз?
— Происхожу от бедных, но честных родителей, вышедших из благословенной семьи православного духовенства.
Генерал хлебнул пиво, затянулся папироскою и повернул голову в сторону.
— А ваше превосходительство отчего думали, что я француз? — решился я побеспокоить генерала.
— Как-с? — спросил он меня, обратясь как бы с испугом. Я повторил вопрос. Генерал потянул верхнюю губу, обтер ус и сказал:
— Так, право, и сам не знаю, показалось что-то.
Сколько уже раз я был оскорблен таким образом! Еще недавно один дворник в Петербурге три месяца уверял моего слугу, что я француз и с известной стороны субъект весьма подозрительный. В Орловской губернии, назад тому года три, бабы тоже заподозрили меня в иностранстве. Ехал я домой на почтовых, одевшись как следует, то есть “по-немецки”. Подошла большая гора, “дай, думаю, пройдусь под гору”. Схожу с горы, а под горой, около мостика, три бабы холсты колотят. Только что поровнялся с ними, гляжу, одна молоденькая бабочка и бежит; в одной руке валек, а другую паневу на бегу подтыкает.
— Ей ты! слышь, ей! постой-кась! Постой-мол, говорю, — кричит баба.
Смотрю, никого, кроме нас двоих, на мосту нет. “Какое, думаю, дело до меня бабе?” Остановился.
— Постой-мол, — кричит баба, совсем приближаясь ко мне.
— Ну, стою, чего тебе?
— Ты чего покупаешь?
— Я-то?
— Да, чего покупаешь: не пьявок, часом?
— Каких пьявок?
— Известно каких: хорошие есть пьявки.
— Да на что мне твои пьявки?
— Аль ты не жид? — спрашивает меня баба, глядя подозрительно.
— Какой жид? С чего ты выдумала?
— Ой!
— Какой жид? Бог с тобой!
— И пьявок тебе не требовается?
— На что мне твои пьявки?
— Поди же ты! — Баба огорчилась, бросила валек на мост и, шмыгнув рукою под носом, сказала с сожалением: — А тетка Наташка байт: “Беги, баит, Лушка, швыдче, вон тот жид идет, што пьявок покупает”. Экое горе! — добавила баба с горьким соболезнованием, что я не жид и не покупаю пьявок”.
П. В. Быков, совсем незадолго до бегства Лескова познакомившийся с ним в приемной Вернадского, записал: “Вышел среднего роста, плотного сложения, красивый молодой человек, лет тридцати” [281].
Наружность Лескова была характерна и впечатляюща, но “красивым молодым человеком” называть его было невыразительно.
Раз как-то он собирался на какой-то большой вечер. Глядя, как он опрыскивается духами “шипр” забытого уже Пино, я, семнадцатилетний юноша, неожиданно для самого себя, произнес: “Какой вы красивый, папа!” Отец повернулся ко мне, окинул меня спокойным взглядом человека, которому предстоит что-то развлекательное, а не обременительное, медленно ответил: “Красив?.. Нет! И не был… И ты не будешь. Но… любим будешь. Пожалуй, даже больше, чем это впору серьезному, трудовому человеку”.
Он уехал. Опустелая квартира погрузилась в мертвую тишину. Возвратясь к развернутому на моем столе “курсу” тригонометрии, я задумался: какие из глядевших на меня “кривых” даст мне жизнь в смутно предощущаемой, загадочной, только что затронутой отцом области…
В тридцать лет Лесков не был “плотен” или хотя бы особенно широк в плечах. Напротив, он был еще худощав, порывист, быстр в движениях. Все это неопровержимо подтверждается фотографическим снимком как раз тысяча восемьсот шестидесятого года.
Знавший его рановато отяжелевшим, Антон Павлович Чехов метко писал брату Александру: “Этот человек похож на изящного француза и в то же время на попа-растригу” [282].
Встречавший Лескова многие лета И. К. Маркузе оставил весьма достоверный портрет: “Николай Семенович Лесков сохранял в позе и в разговоре некоторую сановитость и торжественность, сознание возвышенной миссии никогда его не покидало и как бы отмечало его полную в то время фигуру, с грузною, прочно покоившеюся на широких плечах и короткой шее головою, над которой вздымалась гуща всклокоченных темных волос, печатью известности, или “генеральства”, как принято называть теперь эту черту в манерах некоторых литераторов с именем или весом” [283].
Я бы заменил слова “всклокоченных” и “темных” словами — назад зачесанных и иссиня-черных. Остальное — хорошо.
К старости он давал достаточные основания видеть в нем Ивана IV, Аввакума, расстригу.
Но это все дела поздние, а в 1862 году сам, начинавший уже воскресать, М. Стебницкий рассказал о себе с неподражаемой веселостью и “пэозажностью”.
Приехав 8-го вечером в Вильно, Лесков “немного не застал похорон Сырокомли, любимого из современных польских поэтов… Сырокомлю знают не только в Литве и Польше, но и вообще во всех славянских землях… У него было очень много общего в характере и нраве с покойным Тарасом Григорьевичем Шевченком”.
В библиотеке Лескова стояли издания сочинений Мицкевича и Сырокомли-Кондратовича. Он был прекрасно знаком с их произведениями и некоторые из них читал наизусть, по-польски. Он очень ценил противошляхетскую “притчу” его “О Забдоцком и мыдле”, мастерски акцентируя, как уже в прах разорившийся на мыловарении, когда-то зажиточный шляхтич стариком побирается на рынке, причем:
На ним торба, з пшипасем
И пас з хербем на бляше.
Этот пояс нищего с непременным гербом на бляхе восхищал Лескова меткостью иронии автора поэмы над неистребимой гоноровостью прогоревшего шляхтича.
Высмеивая вспыхнувшее одно время и у нас стремление к аристократизму, Лесков писал: “Польская шляхта, не доказавшая своего дворянства, всегда жалуется, что у них “герольд спалён”, то есть сгорел; а у наших он всегда “сопрел” [284]. В беседах на эту тему он вспоминал о шутовских потугах мелкой шляхты — даже и при “спаленном”, а может быть никогда и не существовавшем, “герольде”, — придумывать себе самый трескучий “nomen gloriosum” [285], претенциозно удваивая свои коренные, простодушно-крестьянские прозвища — Дробыш-Дробышевский, Плющик-Плющевский, Лукаш-Лукашевич, Борщ-Борщевский и т. д.
“Наши, даже при “несопрелом герольде”, до таких “выкрутасов” этих. Враль-Вралевичей не простирались”, — прибавлял он с усмешкой.
Сырокомлю он любил и чтил не только за теплоту и блеск его таланта, но и как “сельского лирика”, как чистой воды демократа, врага крепостничества, как поэта, писавшего о темных, забитых белорусах, способствуя пробуждению в них национального чувства.
Два вечера, вернее, может быть, ночи, проводятся в обществе радушных виленских литераторов. Не обходится дело даже без тостов за русских писателей, знакомство с произведениями которых, однако, как оказывается, невелико: “Из уст здешних литераторов я слышал имена Пушкина, Лермонтова, Кольцова (!), Гоголя, Шевченко, Герцена, Кохановской и Чернышевского. О других ни слова: ни Тургенева, ни Белинского, ни Некрасова, ни Островского, ни Марка Вовчка здесь не вспоминают, а о людях, занимающих второстепенное амплуа в нашей литературе, — и говорить нечего. Впрочем, поляков упрекать тут не в чем. Если взять в расчет знакомство русских с польской литературою, то верх все-таки останется за поляками. Из русских периодических изданий наибольшим почетом здесь пользуется “Современник”. Это я могу сказать утвердительно, потому что сочувствие к приостановленному журналу слышал от людей самых различных общественных положений”.
От Гродно Лесков едет на лошадях через массу попутных городишек, селений, ночуя подчас в крошечных деревушках.
Хорошо приглядевшись за десяток лет, прожитых на Украине, к ее земельнохозяйственным и экономическим особенностям и к быту ее “хлопов”-крестьян, он остро всматривается по пути во все стороны жизни местностей, которые проезжает теперь по своему, как он его называл, “странному и смешному” маршруту.
Побывав в “литовском Манчестере”, то есть в Белостоке, он добирается до знаменитой своими зубрами Беловежской пущи. Здесь как бы мимоходом, но не без “сеничкина яда”, описывается, как в 1860 году, во время царской охоты, Александр II, стоя в крытом рубленом павильоне, самолично застрелил 28 из 32 всего убитых при этом зубров, выпускавшихся из загона по прямолинейной аллее, ведшей безобидных животных прямо к павильонам, занятым “охотниками”. Далее высказывается, что “Беловежский зверинец, собственно, не зверинец, а, так сказать, садок, в который загоняется зверь для царских охот”. Выходило, что в один прием царь “забил” в этом “садке” третью часть всех “современников мамонта”, которых во всей Европе, мол, всего 97 экземпляров!
Наибольшею достопримечательностью стоявших на очереди Пружан отмечено наличие в них мостовой, а потом следовала десятидневная остановка в Пинске, именовавшем себя литовским Ливерпулем, а Лесковым, по географическому положению этого города, оцененном скорее как “литовская Москва”.
“Тогда время было еще тихое, — писал в других корреспонденциях Лесков, — и даже в воздухе не пахло разразившимися через полгода событиями (польское восстание 1863 года. — А. Л.). Предчувствие близости революции на всей Литве мне выразил ясно только один человек: это был старый крестьянин, взявшийся провезти меня с моим товарищем, польским поэтом В. Кор[отынь]ским, из Пинска в Домбровицу. Едучи пустынной болотистой дорогой, старик часто вступал с нами в некоторые собеседования и однажды обратился к Кор[отынь]скому с вопросом:
— А скажите, будьте любезны, пане: чи не знаете вы чего, от се нам по селам казакив понаставляли?
— Того понаставляли, — отвечал мой спутник, — что вы все с своими папами (то есть против своих панов) бунтуетесь, оброков не платите, на панщину ходить не хотите.
Мужик подумал, почесался, перевалил с плеча на плечо свой колтун и заговорил:
— Нет, се здаетця, пане, щось буцим-що не так.
— А как же? — запытал поэт.
— Як? А ось воно як: се наши паны по костелах бог зна що спивают, нарочито на нас жалуются, що мы бунтуемось, а у Москви, дила того не разобравши, нам казакив ставят, щоб последнего прося або курку у мужика спонивадили.
— Але даремна та пратца (напрасный труд), — продолжал с энергией старик, оборачивая к нам свое лицо. — Не треба сюда нияких казакив, ни гармат (пушек); тылько нам цыкнули бы, мы бы сами всих сих панов наших в мешки бы попаковали, да прямо в Москву або в Питер живых и представили. Нехай их там в образцовый полк або куда знают и определят”.
Поэт-поляк сделал вид, что он этих слов не слышал. Но Лесков их не забыл, как характерное определение отношения “хлопов” к польскому панству. Остановился он на этом вопросе и еще раз:
“Сельский народ по эту сторону Пинны говорит совсем не так, как придорожные крестьяне от Гродно до Пинска. Там народ легче всего понимает польский разговор, а сам говорит каким-то испорченным и бедным польско-малороссийским наречием; здесь же, наоборот, редкий понимает по-польски, а каждый как нельзя более свободно разумеет разговор великорусский, а сам между собою говорит на малороссийском языке с руссицизмами, как, например, говорят частию в Севском, частию в Грайворонском уездах (Орловской и Курской губернии. — А. Л.) …В здешних крестьянах мне не удалось заметить ни симпатий, ни антипатий к польскому или русскому элементу. В них есть какой-то странный индиферентизм, как бы следы апатии, заносимой из Литвы с северным ветром. У пинчуков, наоборот, апатии этой не заметишь. Там польский элемент, благодаря панам и ксендзам… я, разумеется, говорю о панстве, потому что полячество пинчуками не понимается отдельно от панства и панство отдельно от полячества. “Cazeta narodowa” и некоторые другие заграничные издания ищут причин некоторых столкновений народа с панами в разных подстрекательствах, производимых людьми, враждебными польской народности. Конечно, трудно разуверить кого бы то ни было в том, что крепко засело в голову; но если бы польские органы вникли в дело поближе, побеспристрастнее, если бы они дошли до спокойного состояния, в котором русский народ и его настоящие отношения к полякам сделались им ясными, то они поняли бы, что не враги польской народности вооружают против нее крестьян, между которыми живут католические помещики, а что дело это — творение рук приятельских, рук, которые еще памятны “хлопам”.
1(13) октября, замешкавшись в дороге с случайным разгоном почтовых лошадей, путники только к вечеру добираются до пограничного пункта Российской империи — Радзивиллова.
“Обыкновенно думают, что нет хуже езды, как между Тамбовом и Воронежем или между Уманью и Одессою, — заносит в свой “дневник” Лесков. — Напрасно так думают… От Пинска до Домбровиц набрались мы горя до бород, а от Домбровиц к Корцу и до усов хватило” [286].
Таможенные и пропускные операции проводятся только до захода солнца. Приходится ожидать его восхода. Останавливаются путники у “пожилого человека с южнославянским лицом”, пана Михола. Почтенный шляхтич дает им “свежий, вкусный ужин”, в результате которого им остается лишь почить после всех мытарств и невзгод преодоления “странного и смешного” маршрута и способов передвижения сплошь на лошадях, в невероятнейших повозках и условиях.
Итак, завтра — заграница!
Таково ли в ней многое, как приводилось о том читать и слышать с чужого голоса, с чужого глаза? Любопытно…
ГЛАВА 5. ЗА РУБЕЖОМ
Утром 2(14) октября, напившись у пана Михола кофе, Лесков и Коротыньский сели в экипаж и направились к пограничным шлагбаумам и рогаткам, у которых проверялись паспорта и ожидался сугубо строгий досмотр чемоданов и чуть ли не карманов пальто и платья. Наслушавшись от назойливых советчиков всяких страхов об этих операциях, Лесков, в предвидении неисчислимых опасностей, доверчиво поуничтожал на ночлеге все рекомендательные письма, открывавшие ему пути к доверию очень ценных ему потусторонних деятелей. В действительности все затруднения по паспортно-таможенной процедуре предотвращались вручением каким-то унтерам или услужливому фактору-еврею полтинников, злотых или крейцеров, а личный досмотр полностью был исключен. Пришлось горько пожалеть о доверии, оказанном советчикам, но писем уже не было.
Самый момент переезда государственной границы совершился проще простого: “Мы дали полтинник, и еврей юркнул в мазанку. Через четверть часа он выскочил, махнул в воздухе документами, отворявшими нам двери в Европу… За желтым шлагбаумом стоит австрийский часовой, в огромных сапогах, дающих ему вид тонконогого аиста. “Не имеете ли табаку?” — спросил он нас тоненьким голоском. “Имею”, — отвечал я. “Нельзя везти. Сколько у вас?” — “Три сигары”. — “Дайте ему два злота”, — сказал по-польски еврей, державший в руках наши паспорта. Мы дали”. Все по строго выработанному расписанию.
“Вот я и за границею. Мук-то. Мук-то зато натерпелись!.. — восклицает Лесков. — Вот они, Броды! — первое место полицейско-конституционного государства, благоденствующего под отеческим покровительством габсбургского дома. Шум, крик, движение, немножко грязновато, как вообще в торговых городах, но жизни так много, что людей на улицах как будто больше, чем габсбургских орлов, торчащих чуть не каждом доме”.
Дилижанс на Львов по расписанию, измененному как раз с этого дня, уже ушел. Поехали в наемной карете.
До сих пор Лесков знал одну Русь, но зато в самую ее глубь и от Черного моря до Белого и от Брод до Красного Яра. Теперь открывалась Европа от Брод до Парижа. На первых шагах большого отличия от нашей Украины не замечалось. Любуясь великолепными видами, развертывавшимися на пути ко Львову, седоки вышли из кареты и пошли пешком поразмяться.
“Спускаясь помаленьку, записывает Лесков, — мы поравнялись с кучкою крестьянок, которые шли, весело болтая между собою. “По-нашему говорят”, — сказала одна из них, когда мы подходили к группе. Я читал моему товарищу одно место из стихов Шевченки. Женщины оглянулись на нас и сказали: “Добрый день панам!” — “Добрый день”, — отвечали мы, обгоняя крестьянок”.
Приезд во Львов состоялся около 11 часов утра 15 октября. Здесь сразу развертываются обширные литературные знакомства.
Посетив по приглашению львовских литераторов местное “русское казино”, автор дневника пишет: “В главной комнате, на самом парадном месте, где в некоторых странах обыкновенно вешаются портреты Наполеонов да Фердинандов, висит в вызолоченной рамке портрет Тараса Григорьевича Шевченки. “Любый кобзарь Украины” здесь еще в большем, кажется, почете, чем у нас в Малороссии и Украине”.
Устанавливая, в какой мере русины не желают иметь своими покровителями поляков, то есть польскую шляхту, Лесков восклицает: “Непонятно мне это стремление поляков претендовать на владение подвластными Австрии и России малороссиянами по праву давнего владения! Что же это за крепостное право! Что за народная кабала!”
Из Львова Лесков, уже по железной дороге, поехал в Краков. “Кракусы” с их “толеранцией” пришлись ему очень по сердцу.
“У кракусов, впрочем, вообще резонно говорят о русском народе (то есть о москалях) и никогда не усиливаются выдвигать на сцену вопросы племенные и религиозные: … “это ксендзовские шутки, — говорят кракусы, — нам какое дело, кто как молится”. Мне кажется, что оснований краковской толеранции можно искать и в особенностях занятий краковского поляка. Поляк с Волыни, Подолии или восточной Галиции — по преимуществу пан, обыватель, помещик; краковский же поляк — ремесленник, купец, торговец. У первого живут традиционные остатки какого-то католическою рыцарства, польского шляхетства; у второго торговые сношения сгладили традиции аристократисма, приучили делать дела, а не споры… Вообще народ в Кракове мне показался очень добрым и толерантным. В нем живы все хорошие характеристические черты польского духа, кроме аристократизма и некоторой узости племенных или религиозных понятий”.
Некраткое пребывание в Кракове ознаменовалось для Лескова двумя далеко не однородными событиями.
Первое, по его писанию, заключалось в следующем: “Вошли ко мне утром в нумер гостиницы три человека: двое стали у дверей, а третий предъявил мне разграфленную книжку, в которой было написано: “№ 9-й (это был нумер, в котором я жил) платит десять злотых”. Я спросил: за что это? — “Так следует”, — коротко отвечал мне стоявший предо мною гайдук. Я подумал, что это требуется по какому-нибудь городскому положению, и заплатил. Гайдук вырвал мне из книги листочек, на котором значилось только одно слово: “Zaplacono”, и со всею своею командою удалился. По удалении этой честной компании, на досуге, я рассмотрел на обороте оставленного мне листка синий штемпель: “Rzad Narodowy”, и понял, что с меня взяты podatki на “Sprawe polską”.
Второе, тоже сбереженное его “дневником”, было для него столь неожиданно и курьезно: Лесков — в первый и последний раз в жизни — танцевал! Да еще как: всенародно, на рыночной площади, с задорной кракуской, под шарманку, самого заправского “мазура”, по-нашему — мазурку!
“Краковский рынок уже был полнехонек народа. Рынок здешний необыкновенно оригинален. Это не деревенская ярмарка не губернский базар, не петербургская толкучка. Это огромная площадь, буквально залитая людьми, которые очень покойно продают и очень покойно покупают. Полиции нет; по крайней мере так называемой наружной полиции не видно. Только рослый тонконогий австрийский гицель, с тонким длинным шестом, на конце которого прилажена веревочная петля, хватает собачек. Площадь, на которой собирается краковский рынок, обставлена необыкновенно красивыми историческими зданиями. С одной стороны вы видите известный великолепный Kosciof panny Maryi, с другой — огромное старинное строение, называемое здесь “Sukiennicy”, а за ним упраздненную ратушу города Кракова. В галлереях сукенницы теперь сидят кракуски с молоком и овощами, а около ратуши помещается австрийская гауптвахта. Дамы в Кракове также носят траур, но этот траур здесь нельзя назвать сплошным: он пестрится яркими нарядами кракусов, которых бездна на базаре. Говор кругом, но крика и брани, отличающих русские торжища, нигде не слышно. Здесь, на базаре, утром я в первый раз видел настоящую польскую мазурку. Из-за угла улицы (Florjańskiej) раздались звуки шарманки, а вслед за тем показался и шарманщик. Он играл на своем инструменте “мазура”, а около него пар двадцать отхватывали отчаянную мазурку. Кованые каблуки кракусов звонко отбивали такт по каменной мостовой, а маленькие ножки полек в белых чулочках и краковских сапожках подлетали на воздух, едва прикасаясь к земле. Восхитительно танцуют! В несшихся за шарманщиком парах было несколько пар, составленных необыкновенно оригинально: так, я помню маленького мальчика лет 14, который неистово несся с стройной, высокой девушкой в красной юбке и черном спензере. Одна ее рука была в руке мальчика, а в другой она держала корзину, из которой выглядывали красные хвостики моркови, помидоры и кочан капусты; другая пара — старая дворничиха с метлой на плече, в огромном белом чепце. Она танцует лучше всех и как-то так грациозно кидается к своему кавалеру, высокому, стройному кракусу в расшитом синем кафтане с красными выпушками, что ей все закричали: “brawo, stara! brawo, stara!” При входе на площадь мазурка увеличилась. Несколько торговок, несколько кухарок, несколько молоденьких кракусок поставили на мостовую свои корзины, схватили за руку первого попавшегося им на глаза человека и пустились в танец. Тут со мной произошел казус. Дьявол надоумил какую-то задорную черноглазую кракуску, в зеленой юбке и белом переднике, лишить меня приятного положения зрителя и сделать действующим лицом. Она схватила меня за руку и, крикнув: “Taniec, chfopiec!” — швырнула меня в свою бешеную мазурку — меня, человека, привыкшего к самым чинным движениям на Невском проспекте! Господи! Что я только вынес, проклиная мою бесцеремонную даму. Атта-Тролль стал бы тут в тупик, не только я, русский человек, которого вертит краковская полька, да еще и не хочет выпустить; не хочет верить, что есть на свете люди, не умеющие танцевать мазурки. Сначала я было попробовал упираться, но задний кракус так ловко поддал меня сзади своим коленом, что я налетел на переднего танцора и уж решился прыгать. В мазурке я ничего не понимал, но русская сметка спасла меня. Мне показалось, что если я стану подражать русской пристяжной лошади, то я еще могу быть спасен и выйду целым из моего плачевного положения. Я взглянул на мою мучительницу, дернул ее за руку, загнул голову в сторону и понесся московским пристяжным скакуном так, что задний кракус уж не догонял меня и не дал мне больше ни одного стречка. Сколько кругов я прогалопировал — уж не помню, но помню, какой радостию исполнилось мое сердце, когда скачка моя прекратилась. Все пошли выпить по кружке пива в погреб между улицами Florjańskiej w Szpitalnej у всех лбы были мокрые, и всякий вел свою даму на кружку пива. Я тоже пригласил мою даму и предложил ей две кружки: но она, однако, более одной пить на стала. “Надо, — сказала она, — днем дело делать”.
До Праги Лесков едет в обществе одного приятного поляка, а там, благодаря ему же, знакомится с редактором газеты “Narodni listy” Грегором, редактором газеты “Pozora” и целым рядом чешских литераторов.
“Обжился я здесь очень скоро, — вспоминал он в следующем году, — ходил пешком в горы с Тонером, редактором “Oswiaty” (которого фамилию теперь забыл) и молодым князем Кауницем, который в это время был искреннейшим чехом и молодецки осушал с нами кружки вкусного чешского пива, восклицая: “Niech žyje mater nasza Slawa!” Демократизм чешский — истинный демократизм, и притом чехи — демократы, которые, по гейневскому выражению, уже успели “вычесаться и сходить в баню”, а это, как известно, весьма много значит… Они не боятся ни чистых рук, ни длинных женских волос, ни криво сшитых платьев, ни отвлеченных наук”.
Настроение повышается: пиво в Динабурге, невольная мазурка в Кракове, молодецкое осушение вспененных кружек в Праге — “niech swiata Slawiansczyzna!”
“Я ехал в Париж около трех месяцев, — подытоживал позже Лесков. — При существующих теперь путях сообщения, когда из Петербурга в Париж ездят в два дня, это довольно долго” [287].
Да, но зато, в полное подтверждение совета Писемского, впечатлений — на весь век, и каждое из них — “точно суточная каша преет”, оттого — “густо в сочинениях выходило”.
ГЛАВА 6. ПАРИЖ
Хорошо погостив у ласковых чехов в Праге, заботливо переданный их письмами расположению чехов и даже некоторых наиболее “толерантных” парижских поляков, Лесков направляется к конечному пункту своего затянувшегося “ваяжа”.
Швабские земли не манят. Их впору проехать транзитом, обозрев по-современному — из окна вагона.
В результате этих забот Лесков, не блуждая ощупью, с первых же дней оказался в новом Вавилоне удобно устроенном, ознакомленным с хорошими и недорогими ресторанами, с кафе, в котором имелось много русских газет, вплоть до “Колокола” и даже его собственной “Северной пчелы”. Сразу создалось приветливое окружение, общность духовных интересов, уютность жизни.
Было у него письмо Артура Бенни к брату его — “очень молодому господину” — Карлу, тогда медицинскому студенту в Париже [288], но, может быть по разнице лет и настроений, сближения, видимо, не сложилось и ценных воспоминаний не осталось. Сохранился, например, много более поздний, не дышащий теплом отзыв Лескова о нем, проскользнувший в горячем заступничестве за всегда милого Лескову “пана Опанаса”, то есть А. В. Марковича.
Совсем иначе развертывалась общность с “милыми чехами”.
Тепло и приветливо отнеслись к нему и некоторые из поляков, не совсем оправдываемых молодою польской партией за их сочувствие панславизму. Так, например, почтенный профессор Леонард Ходзько, вообще радушно встречавший сербов, чехов и русских, не считаясь с доходившими уже до Парижа ранними слухами о подготовке восстания, представил Лескова своей жене и дал ему возможность провести “очень приятный вечер в его почтенном и прелестном семействе”. На общепринятую на Западе мерку это являлось выражением особого доверия и расположенности, порождаемых особо же серьезною рекомендацией.
Дальше легко создаются приятельские отношения с поэтом Иосифом Фричем, попозже ставшим противником “славянской унии” с царской Россией, но в то время горевший идеей демократического объединения всех славян, и с целым кружком чешских патриотов, как и с несколькими поляками. Дружество день ото дня укреплялось, и с приближением 1863 года чехи пригласили Лескова встречать Новый год с ними вместе.
“Пир был устроен в двух комнатах небольшого трактирчика в rue Vavin, неподалеку от rue L'Ouest, где жил, а может быть, и теперь живет Фрич, — описывает событие Лесков. — Положено было всем нам сходиться в десять часов вечера”… Чехи назначили складку по пяти франков. Во время ужина “обошла компанию огромная полная братская чаша из чешского хрусталя. Чашу эту первый пригубил Фрич, сказав над нею несколько горячих слов… Обойдя всех присутствующих, братская чаша опять окончилась на Фриче. Были транспаранты с политическими оттенками не в пользу Австрии и юмористические, где “шваб” занимал плачевно-смешную роль”. Были ряженые. Пелись чешские песни, потом польские, и, наконец, дошла очередь и до русского гостя. Выбор представлял немало затруднений. “Но я вспомнил наши великорусские святки с их подблюдными песнями и, зная, что слова, собственно, здесь ничего не значат, а что у чехов часто припевается слава (slawa), запел:
Как идет млад кузнец из кузницы,
Слава, слава!
По второму куплету музыкальные чехи отлично схватили мотив припева и с величайшим одушевлением подхватили: “slawa, slawa!” Выбор вышел пресчастливый. В этой “славе”… чехи услыхали русский отклик на их призыв “russow” к “slovjanskie vzájemnosti”. Пять или более раз меня заставляли пропеть “кузнеца”, получившего вдруг в этот вечер некоторое международное значение”. Состав пирующих был самый демократичный — от ученых и поэтов до десятка самых подлинных рабочих, которые, по словам Лескова, все “были расчесаны, напомажены, одеты в новое платье и вообще являли собой самый пристойный и праздничный вид. Для меня это все были люди большею частью уже знакомые или по чешскому кафе, или по дому Фрича”.
Это было ценное для изучения нации сближение. К польским рабочим он пригляделся и в “zabranem kraje”, как называлась тогда русская Польша, и в Польше зарубежной, австрийской. Случай, в который вскоре сам он попал центральною фигурой, выгодно познакомил его с настроением, правосознанием и политическим темпераментом французских рабочих, горячо взявших на себя задачу быть непосредственными его заступниками и правовыми истцами. Вот как он описал это событие шесть лет спустя в одном из петербургских уже фельетонов:
“Прошлою зимою, в разгар рысачества, когда заявления о людях, раздавленных лошадьми, особенно надокучили и наводили даже некоторый страх, один из русских литераторов, проводивший зиму 1863 года в Париже, рассказывал нам, что бывает с давителями пешеходов в Париже.
Переходил я, говорил наш соотчич, небольшую улицу, выходящую к церкви Магдалины, как вдруг совершенно неожиданно получил не очень болезненный, но сильный толчок в спину и тотчас же упал на мостовую. Я решительно не мог сообразить, что и по какому случаю так толкнуло меня, по, поднимаясь, увидел впереди себя шагах в пятидесяти вздымавшуюся на дыбы лошадь, на удилах которой, как пиявки, висели три блузника. Большая, красивая лошадь эта была запряжена в легкий тюльбюри, в котором сидела молодая дама и мужчина. Полиции в тот момент, как я поднялся, не было видно ни одного человека, и лошадь держали три работника. Никого из полицейских не показывалось и еще с минуту, а около тюльбюри набралась уже целая куча увриеров. Когда я подошел к этой куче, лошадь уже стояла тихо, но трое могучих рук все-таки крепко держали ее за морду: господин, сидевший в экипаже, выскочил и суетился, а дама в перепуге плакала.
— Что у вас болит? Где они вас зашибли? — закидали меня вопросами рабочие.
Я говорил, что удар был совсем безболезнен; меня, очевидно, столкнуло с ног выгибом оглобли, и я упал без всякого ушиба. Так я и отвечал вступившимися за меня и допрашивавшим теперь меня рабочим, но ответ им мой чрезвычайно не понравился.
— Это не может быть, — отвечало мне, в свою очередь, несколько голосов.
— Вы сами теперь сгоряча не чувствуете, но после вам будет больно.
— Вы еще, верно, первый раз знакомитесь с толчками, которые раздают беднякам эти конные шалопаи, — и т. д.
Дама продолжала плакать, ее кавалер продолжал перебраниваться с увриерами и отталкивал их от узды, за которую они, как клещами, держали коня. В эту минуту подбежали запыхавшись два городские сержанта.
— Кто? что? как? в чем дело?
Я опять рассказал, в чем дело, и, конечно, добавил, что я не ушиблен и ни на что не претендую.
Сержанты обнаружили движение почесть все дело ничтожным и отпустить экипаж, а плачущая дама, простирая ко мне руки, заговорила: “Бога ради! Это я, я правила лошадью! Я во всем виновата, я прошу у вас прощения! Имейте снисхождение к женщине, простите меня!”
Я сказал, что охотно ее прощаю и не только не простираю к ней никаких претензий, но даже сам прошу сержанта отпустить ее.
Боже мой! Что же тут началось! Крики, шум, толчки, свистки — и не трое, а уже двадцать рук повисли на упряжи коня и так его осилили, что он было метнулся на дыбы, но тотчас же упал на колени и захрапел.
— Черт вас возьми! — закричали мне, кажется, все одним голосом. — Вы можете прощать все, что вам угодно, ради прекрасных слез этой барыни, но только не то, что она сбивает с ног человека, который идет по тем улицам, по которым мы и наши дети ходим для заработка нашего хлеба. Ведите ее, сержант, сейчас ведите ее к комиссару, и мы все идем туда.
Сержант сказал, чтобы тюльбюри ехало, и я и вся собравшаяся масса народа пошла за ним вслед, причем, ни сержанту, ни комиссару, ни мировому судье и ни одному стороннему человеку из общества не пришло в голову находить поступок рабочих превосходящим их обязанности или их гражданские права.
Так смотрят на эти дела даже во Франции, где общественная самодеятельность и самозащита не пользуются в настоящее время особенно громкою славой” [289].
Находясь в Париже, Лесков не имел причин обходить и “русскую поповку в Париже”, не навестить подчас несколько лет назад приглашавшего его к себе земляка-орловца, ее настоятеля, священника Васильева. Он находил, что “поповка парижская все равно, что поповка рождественская, гостомельская и всякая другая поповка”. Интересного, значит, искать в ней нечего, но через нее открываются новые пути к общению с вольными пли невольными парижанами русской крови, и речи, множатся впечатления, ширится круг знакомств, наблюдений.
Столица Франции кипит, полна слухов, новостей, толков, придворных сплетен, внешнеполитических гаданий. Одни “Тюлерии”, как называют знаменитый медичиский дворец поляки, дают этому неистощимую пищу… Взволнованно следит восторженная польская молодежь Парижа за каждым жестом или улыбкой тюльерийского хозяина, который, по мнению Лескова, “всех приучил беспрестанно ошибаться” в его “расположении”.
“Я видел лицо французского императора два раза, — писал Лесков, — и один из этих двух раз при церемонии, с которою он открывал бульвар принца Евгения, я видел Наполеона III весьма близко. Я не сводил моих глаз с его лица и должен признаться, что никогда не видал ничего столь страшного, как лицо этого государя. Это лицо кадавра с открытыми глазами, которые смотрят устало и в то же время пронзительно. Ни одна тонкая черта этого лица не движется; ни один его мускул не шевелится. По этому-то лицу поляки определяют повороты политики в свою или не в свою сторону, точно Наполеон только о них и думает. Сведения газетные, конечно, бывают гораздо тоще и скромнее устных толков… Судя по этим новостям, несчастная страсть поляков обращать свои взоры на тюльерийский флюгер то разгорается огнем самых пламенных надежд, то раскаливается сдержанною злобою, но никогда совсем не угасает”.
Лондон, климат которого так недавно почти дружески рекомендовался Лескову, здесь чувствуется острее, неотступнее ставя вопрос — ехать или не ехать? А полемическая напряженность прежняя, с неизменной готовностью в любую минуту дать вспышку какой угодно силы. Желчь не унималась. Нельзя упрекнуть в бедности ею и “Письма к редактору “Библиотеки для чтения”, именуемые “Русское общество в Париже”, далеко выходящие за пределы вопросов, касающихся этого общества. В 1863 году в журнале П. Д. Боборыкина, они, может быть благодаря вмешательству редактора, несколько менее уклоняются от основной темы и менее резки. Изданные через четыре и десять лет, они, напротив, были обострены и частично захватили события, происшедшие, позже пребывания автора в Париже [290].
На фоне таких отношений и настроений зреет первое крупное беллетристическое произведение Лескова — “Овцебык”. Оно датировано автором, может быть, и не вполне точно — “Париж, 28 ноября 1862 года”.
Горький говорит: “В рассказах Лескова все почувствовали нечто новое и враждебное заповедям времени… Лесков сумел не понравиться всем: молодежь не испытывала от него привычных ей толчков “в народ”, напротив, в печальном рассказе “Овцебык” чувствовалось предупреждающее — “Не зная броду — не суйся в воду!”… Людям необходимо было верить в свободомыслие мужика, в его жажду социальной правды, а Лесков печатает рассказ “Овцебык”, в этом рассказе семинарист пытается внушить мужикам, что всякий лесопромышленник — враг им, мужики соглашаются с пропагандистом… “Это ты правильно!” И тотчас доносят на него купцу: “Гляди, он не в порядке!” Бедняга пропагандист повесился, убедясь, что “через купца — не перескочишь” [291].
Такова была прелюдия к “отомщевательному” роману “Некуда”.
Кое-что, обрывочно уловленное в Париже от не то побывавших у Герцена, не то, может быть, и не бывавших в Лондоне, “расхолодило мою горячую решимость ехать туда”, заключает Лесков, хотя “с ранней юности, как большинство людей всего нашего поколения, был жарчайшим поклонником таланта этого человека” [292].
В конце концов выполнение одной из главнейших задач всей поездки — снижалось. Была ли, однако, она сызначала безусловно тверда?
Память не уставала подавать: “в “Петропавловке” Д. И. Писарев, Н. Г. Чернышевский, Н. А. Серно-Соловьевич, В. П. Гаевский, — последний как раз за сношения с Герценом. Вспомнилось положение А. И. Ничипорепко и В. И. Кельсиева. Представлялась вся яркость правительства н-ного наступления на “крамолу”. Клонило вслушаться во все суждения и отзывы о Лондоне, хотя бы и малодостоверные, но располагавшие к осмотрительности. Вопрос отпадал не без самоубеждения в бесплодности свидания, да и не без сомнения — пожелает ли Герцен свидеться с автором “пожарного письма”?
В таких настроениях пишутся статьи и корреспонденции, а рядом с ними один маленький, но чрезвычайно автобиографичный, ни разу потом не переиздававшийся очерк “Ум свое, а чорт свое” и, как дань посещению славянских стран, делаются переводы с трех литературных “арабесок”.
Работы хватало. Было во что уйти с головой. Но хватало времени и на развлечения, на отдых. Лескову ведь шел всего тридцать второй год.
Поместился он, может быть даже и не совсем по летам, на “левом берегу”, в прославленном свободой и самобытностью нравов и традиций студенческом “Латинском квартале” (“Qnartier Latin”). Жить начинает здесь в полном смысле “en garçon” [293]. Ольге Васильевне сюда не добраться! Хочется наверстать досадно полупропущенную молодость.
Через двадцать лет, описывая своеобразие нравов старокиевского населения, обитавшего в “удалых Крестах и Ямках” на Печерске, “где мешкали бессоромни дивчата”, Лесков, не обходя памятью свои парижские впечатления, делает любопытное сопоставление: “Теперь этого оригинального типа непосредственной старожилой киевской культуры с запорожской заправкой уже нет и следа. Он исчез, как в Париже исчез тип мюзаровской гризеты, с которою у киевских “крестовых дивчат” было нечто сходственное в их простосердечии” [294].
Возвращаемся к событиям и впечатлениям 1862–1863 годов.
“В латинском квартале города Парижа, — повествует Лесков, — я нахожу самым удобным местом для жизни угол улицы rue de l'Ecole de médecine u Hautefeuille. Здесь на одном углу живет честнейшая старуха в целом Париже, которую называют мадам Лакур. Она замечательна материнскою нежностью к своим постояльцам… Я тут поселился и тут живу, наслаждаясь бездействием и сообществом двух моих соседок по лестнице”.
Затем описывается переполох, вызванный чьим-то самоубийством напротив квартиры Лескова, а еще далее — как одна из соседок, продрогшая Режина, вбегает в комнату очарованного ею московита, видит у него пылающий камин, бросается к нему с радостным воскликом: “А! у него есть огонь. Огонь! Огонь!” — и, подвинув к камину кресла, греет перед ярким огнем свои мокрые ножки в новых (только что подаренных ей ее русским другом. — А. Л.) чулочках” [295].
“О, как хорошо жить в Париже!” — в совершенном восторге заключает свою корреспонденцию Лесков.
ГЛАВА 7. СНОВА НА РОДИНЕ
Что говорить! “Хорошо жить в Париже!” — а не живется дольше. Тянет домой. Там зреют события, бурлит и бьет ключом своя, не чужая жизнь. Там и место сейчас русскому человеку, и всего больше — журналисту.
Парижские бульвары с их перемеживающимися, сомнительными слухами, французская печать с ее уклончивым по отношению к России настроением прискучили, начинают нервировать.
Домой! — в горнило, которое пусть и испепелит, но вне которого нет жизни для человека, отведавшего яды публицистики, захваченного вихрем полемической борьбы.
Возможно, впрочем, что позвала и “Пчела”, переписка с заправилами которой — Усовым и другими, даже и с Бенни — едва ли сбереглась.
Русские газеты в “Cafe de la Rotonde” жгут руки. Скорее, вероятно раньше, чем думалось, без колебаний — назад.
Торопливо прощается он с парижскими друзьями, завязывается “дорожный мешок”, и… в марте Лесков уже в Петербурге.
Первоначально он устраивается на жилье на углу Невского и Литейной, в буквальном смысле слова — на бойком месте. Бойка и смена происшествий, отношений, настроений. Возобновляются и освежаются старые знакомства, завязываются новые: Отдаются в печать готовые небольшие вещицы [296], а дальше пристраивается и “Овцебык” [297].
Проходят два-три месяца. Случайная заминка в уплате А. А. Краевским гонорара вызывает вспышку. Издателю посылается чудовищно резкое, угрожающее письмо:
“12-й день, как вышла книжка “Отечественных зап[исок]”, в которой напечатан мой рассказ “Овцебык”. В течение этих 12 дней я был четыре раза у г. Кожанчикова и видел там очень невежливого господина Свириденко. Невежа Свириденко не дает мне ответа, почему вы до сих пор не платите денег нуждающимся в них сотрудникам, и денег мне не дает. К вам я идти не хочу, потому что вы имеете очень неприятную манеру держать по полчаса в вашей зале, которая для меня не представляет никакого интереса, и я более люблю, залы министра Голов[н]ина, где ожидают не более 5 минут и в том выслушивают извинения. — Я пошел к Дудышкину, как к человеку, в котором скорее, чем в вас, можно дощупаться до мягких сторон (я не говорю — до мягких частей). Дудышкина нет в городе, а то он, вероятно, избавил бы меня от неприятной необходимости писать к вам.
Пришлите мне, Андрей Александрович, деньги сегодня или завтра, т. е. в четверг, по нижеписанному адресу. Я ни к вам, ни к Кожанчикову не пойду, — это мне претит. Но если вы мне не пришлете счета и денег, то я вам не забуду завтра сообщить, как я разделываюсь с теми, которые меня донимают до зла горя.
Мы ведь с вами встречаемся в различных местах, с Невского до Географического общества. Я вас завтра заставлю провесть пренеприятную минуту в вашей почтенной жизни. Мне ведь терять меньше вашего, а я потружусь для других.
Я через вас не исполнил моего слова перед бедным человеком, но уж на вас зато сдержу мое слово.
24 часа перед вами” [298].
На другой день, узнав, что не сам Краевский был виновником “тех неприятностей”, которые пришлось испытать Лескову, он коротеньким письмом выражает владельцу журнала “сожаление” о вчера писанном и даже просит извинить его за этот выпад.
Вне всякого сомнения, однако, последний никогда не мог быть забытым “Пятиалтынным Первым”, как называл в свое время Краевского Салтыков. Лесков терял благоволение издательского туза. Это грозило дорого обойтись нуждавшемуся в журнальных пристанищах писателю.
Но Лескова, как сам он определял в поздние годы, уже “вело и корчило”.
Кое-как полусмягчив свой поступок в отношении хозяина издательства, он бессилен удержаться от резкостей по отношению к доверенному служащему этого хозяина, сочетая эти резкости с очередными “выпадами” против “нигилистов”, в том числе даже и Чернышевского.
Сейчас же в требующую особой выдержанности тона статью “Николаи Григорьевич Чернышевский в его романе “Что делать?” врезывается, наскоро сметанная, отместка Свириденке, хотя и безыменная, но как нельзя более прозрачная:
“Посадите такого господина на какое хотите место, он сейчас и пойдет умудряться, как бы ему побольнее съехать на своего. Сделайте его приказчиком, хоть в книжном магазине, он и там приложит свой нрав. Корячиться станет, едва говорит, и то с грубостью; велите ему двух сотрудников рассчитать: нигилисту даст деньги, а не нигилиста десять дней проводит. Что ему за дело, что человек напрасно тратит рабочее время, ходя да “наведываясь”. Что ему дело до того, что у этого сотрудника жена без башмаков, дети чаю не пили, хозяин с квартиры гонит?.. Познакомьтесь с таким соколиком… то он вам во второе же свидание вместо любезностей дурака завяжет. Это ничего, это все естественно” [299]. В пылу отместки даются рикошеты по всем и вся…
Но и это не дает успокоения. В другую, подготовляемую к печати статью, с неменьшей натяжкой, вводится нечто и по адресу неослабно ненавистного Феоктистова, а по пути уж и Кожанчикова, видимо чем-то прогневившего за стычки с М. Я. Свириденкой.
“Если бы в некотором кружке не разнесся слух, что Д. Е. Кожанчиков, после издания истории греческого восстания, написанной с неотразимой прелестью московским ученым Феоктистовым, не дал торжественного заклятия не издавать более без разбора исторических сочинений наших историков, то я бы непременно дерзнул написать историю раскола. Но как слух, разнесшийся насчет резкой перемены в нраве г. Кожанчикова после издания вышеупомянутой исторической монографии, убивает во мне всякую предприимчивость, то я отлагаю мое намерение до тех пор, пока г. Феоктистов нападет на другого издателя столь же неразборчивого, как г. Кожанчиков, и таким образом покажет новое место, через которое можно валить всякий сор в русскую публику” [300].
Неуспех первой значительной беллетристической работы — рассказа “Овцебык” — остро уязвил автора. Денежная неисправность “Северной пчелы” породила непредвиденные и тяжелые материальные затруднения. За издателем этой газеты накопляется серьезный долг в восемьсот рублей, кстати сказать, никогда Лескову не уплаченный. Все это раздражает, оскорбляет, нервирует. Конечно, при большем самообладании кое от чего можно бы и удержаться. Мягкость и “толерантность” не были чертами натуры Лескова.
Так приблизительно идет по литературной линии с самого приезда.
Как бы в некоторое умаление невзгод и в ободрение духа нежданно-непрошенно приходит заманчивое предложение извне.
“Либеральный” министр народного просвещения А. В. Головнин заинтересовывается вопросом об учреждении особых школ для детей раскольников. На заданный им специально приглашенному П. С. Усову вопрос — кого из сотрудников “Северной пчелы” можно было бы с успехом для дела привлечь к посещению огромных районов страны, заселенных раскольниками, к изучению на месте положения школьного вопроса в старообрядчестве, к составлению затем по этому делу обстоятельной записки, редактор газеты указывает прежде всего на П. И. Мельникова. В силу служебного положения Мельникова, чиновника Министерства внутренних дел, Головнин видит неудобство в его привлечении к выполнению задачи. Вторым Усов называет, неслужащего Лескова. Министр приглашает последнего, объясняет ему предстоящую работу и просит составить план всей поездки.
21 апреля 1863 года Лесков представляет ему следующую записку:
“В течение предстоящего лета и осени я нахожу для себя возможным познакомиться с состоянием учебного вопроса в среде раскольников, живущих в северно-восточной полосе империи.
Я предполагал бы выехать из Петербурга в первых числах мая и возвратиться в октябре 63-го года.
В течение этого времени я намерен быть в Твери, Мышкине, Угличе, Романове, Ярославле, Пошехонье, Костроме, Судеславле, Буе, Казани, Сарапуле, Ачинских скитах, Перми, Кунгуре, на Демидовских и Тагильских заводах и в Тюмени.
Тюмень будет самым дальним пунктом моей поездки.
На обратном пути я буду в Златоусте, на Иргизе, в Вольске, Балашове, Саратове, Хвалынске, Самаре, Сызрани, Симбирске, Алатыре, Палте, Моршанске, на Мещере, в Зарайске, Коломне и, наконец, через Москву возвращусь в Петербург.
Таким образом я буду в состоянии ознакомиться с целою восточною полосою раскола трех наиболее распространенных толков (поповщина, федосеевщина беспоповщинская, молоканство) и надеюсь дать определительные ответы по вопросам, интересующим г. министра народного просвещения.
Для совершения этого путешествия мне нужны деньги и вид, гарантирующий меня от подозрительности должностных лиц.
По моим соображениям, денег мне нужно около десяти рублей в сутки, считая здесь прогоны, содержание, необходимые издержки на поддержание знакомств и все другие непредвидимые расходы.
При выезде я желал бы получить вперед на два месяца, то есть около шестисот рублей серебром.
Видом, способным защитить меня от неприятных случайностей, встреченных, например, гг. Якушкиным и Рыбниковым [301], я разумею открытую бумагу нa мое имя, на министерском бланке и, если можно, за подписью г. министра. Бумагою этою прошу на всякий случай определительно указать предмет поручения, возлагаемое на меня г. министром, — и только. — При общей склонности видеть в каждом путешественнике интересующемся народными делами, человека опасного, политического агитатора, такая бумага делается необходимою даже для человека, далекого от мысли агитации.
Плана своим действиям я изложить не могу. Опыт, которым я руководствуюсь, обдумывая предложенную мне поездку, давно показал мне всю несостоятельность заранее уложенных планов. Я буду вести мое дело, применяясь на всяком месте к обстоятельствам и характерам лиц, с которыми должен буду прийти в столкновение.
Я только смею ручаться, что доверие, которым меня удостаивает г. министр, ничем компрометировано не будет, что сведения, которые я найду, не будут искажены и сделанные из них выводы будут свободны от всякого пристрастия и всякой предвзятой идеи.
Во время дороги я буду вести журнал, вроде журнала, напечатанного мною о моей поездке в Литву; а о месте моего пребывания всегда будут сведения у г. редактора “Северной пчелы”.
Лесков окрыляется широтой задачи. Как год назад, впереди опять интереснейшие впечатления, смена лиц, картин, наблюдений, неисчерпываемый материал для жизнью дышащах корреспонденций в столичные газеты. Что может быть увлекательнее для писателя с кипучим темпераментом, ненасытимой любознательностью!
27 апреля Головнин отвечает писателю вполне во всем благоприятным письмом, но раньше, чем его успевают набело переписать, приходится отменить его отправку по назначению: выясняется необходимость соблюдения крайней экономии до намеченного преобразования министерства. Лесков приглашается пожаловать к министру 1 мая, в среду, к десяти часам утра. Головнин с сожалением объявляет ему, что вынужден воздержаться от выполнения совсем уже предрешенного было плана. Он так и остался без выполнения [302].
Однако связанный экономическими соображениями, министр не отказывается от принципиального решения собрать хотя бы и значительно меньший, но однородный материал по заинтересовавшему его вопросу. На этот раз им намечается другой, более краткий и ближний маршрут обследования. Пока идет подготовка выполнения нового плана, писатель публикует бесподписную предпосылку:
Раскольничьи школы
Стоит только догадаться
За дело просто взяться.
Говорят, что г. министр народного просвещения пришел к мысли, достойной духа настоящего времени. Он намерен содействовать учреждению в раскольничьих обществах первоначальных школ в духе, не противном традициям “людей древлего боагочестия” и сообразном с требованиями здравой педагогии. Приветствуем эту благую мысль и от всей души желаем одолеть трудный вопрос соглашения раскольничьих традиций с воззрениями педагогии. Говоря, что это трудно, мы вовсе не считаем этого вопроса невозможным. Что раскол нимало не страшен государству — это теперь ясно, как солнце. Толки, пугавшие власть расколом, росли от незнакомства с духом и домогательствами раскола. Теперь раскол высказался сам. Стоит найти людей, способных познакомить нас со всеми подробностями раскольничьей педагогии, и она, вероятно, станет страшна менее прошлогоднего снега. Стоит послушать самих раскольников, самих их вызвать на указание путей к соглашению их педагогических желаний с желаниями правительства и сделать дело как можно проще и согласнее с желаниями тех, для кого оно делается. Как бы ни обучен был молодой раскольник, он будет ближе своего отца к современной среде и получит большую охоту к знаниям, в которых лежит сила, долженствующая непременно одолеть заблуждения, устоявшие против петровских крючьев, кнута и плахи” [303].
При первой к тому возможности Головнин предлагает Лескову поездку, в прежних же целях, в Псков и Ригу.
10 июля он пишет рижскому генерал-губернатору Ливену, прося его облегчить Лескову возможность ознакомиться с положением школьного вопроса в местном раскольничестве.
12 июля Лесков выезжает в Псков, а оттуда затем направляется в Ригу. В результате всей этой поездки появляется обстоятельная записка “О раскольниках города Риги преимущественно в отношении к школам. 1863”. Ниже текста стоит: “Николай Лесков. 23 сентября 1863 г. С.-Петербург” [304]. Напечатана она была по распоряжению Головнина в количестве шестидесяти экземпляров, для раздачи министрам и членам Государственного совета. Автор считал, что напечатано восемьдесят экземпляров. Сам он получил от Головнина один, заботливо переплетенный, вернее всего самим Лесковым, в красный сафьян и хранящийся в уцелевшей до наших дней части его библиотеки [305].
“Мысль, достойная духа времени”, не была разделена министром внутренних дел графом П. В. Валуевым и многими из государственных мужей, равно как и влиявшим на многие умы М. Н. Катковым, отстаивавшим в “Московских ведомостях” ту точку зрения, что раскол “можно только терпеть”, чем и достаточествует ограничить весь “либерализм правительства” к нему.
Борьба становилась непосильной. Начинание Головнина получить дальнейшее развитие не могло. Оппозиция держалась взгляда, что пусть, мол, раскольники возблагодарят за невозвращение для них кнутов и плах и условий, ведших к самосожжениям, последнее из которых, к слову сказать, приключилось в Олонецкой губернии всего три года назад.
Вопрос снимался прочно, а с тем закапчивалось и сотрудничество Лескова с Головниным.
Из-под пера Лескова идет ряд статей и небольших рассказов, встречаемых то холодно, то осудительно.
Второй крупной беллетристической его работой был рассказ “Житие одной бабы — (Из гостомельских воспоминаний)”. В дальнейшем, при предположении переиздать его, он был назван “Амур в лапоточках (Опыт крестьянского романа)”, а позже поставлено было как подзаголовок просто — “Крестьянский роман” [306]. И тут не было литургии.
Что же делать, если дух горит, ни с чем не считаясь, кроме собственных велений, неукротимых и бесстрашных.
С января 1864 года в журнале, издававшемся Боборыкиным, идет первый большой роман М. Стебницкого — “Некуда”.
Первая часть охватывала события, развертывавшиеся в буколике глухой провинции, и прошла без нареканий.
С переносом во второй части действия в Москву оценка направления романа и самых приемов письма начинает меняться. В прогрессивных кругах вызывает осуждение портретность персонажей [307] и явная памфлетность романа.
С каждой новой книжкой журнала раздражение растет. Оскорбляет усиливающийся шарж в изображении лиц, за некоторыми из которых признавались определенные заслуги, право на иное к ним отношение.
Одновременно “отомщевательность” опьяняет автора. Не считаясь ни с чем, он все сильнее отдается стремлению как можно шире и злее посчитаться поголовно со всеми, кто представляется ему сколько-нибудь виновным в досаждениях, причиненных ему в пожарный его просак или причастных больной интимной дрязге, разыгравшейся в 1861 году у “Сальясихи”.
Роман, который мог осветить сущность новых общественных движений, настроений, исканий, показать искренно отдавшихся им или только пристегнувшихся к ним литературно-общественных деятелей, начал разбиваться на мало связанные между собой, случайные и бессодержательные эпизоды, заполняясь даже пространными раскрытиями личных семейных передряг. Мельчая в замысле, расползаясь в строении, он не удерживался уже и на линии вкуса. Появляются подчеркнуто вульгаризованные заглавия отдельных глав: “Углекислые феи у Чистых прудов”, “Монтаньяры со Вшивой горки”, “Скоропостижная дама” и т. д.
Во всем, вплоть по этих мелочей, сказывается, что автора, как он часто говорил, “ведет и корчит”, что он теряет самообладание.
В результате — неизбежные “аффектация и пересол”. Отдельные художественно выдержанные главы резче оттеняют порочность остальных. Назревает новая буря.
Сперва начинают жалить юмористические журналы.
Дается ядовитый совет: “Г. Стебницкому. Оставить писание романов, наводящих уныние и сон, заняться изучением брандмейстерского искусства и писать статьи об одних пожарах” [308].
Полгода спустя по адресу боборыкинского журнала появляется не лишенная соболезновательной грусти заметка: “А нам некуда, мы все так же по-прежнему…” [309]
Но это пустяки. А вот младший сотоварищ по работе в “Русской речи” у “некудовской” героини “маркизы де Бараль” (читай — графини Сальяс), в те времена прогрессивный журналист А. С. Суворин, выступает с ужасной статьей, грозясь в качестве “знакомого г-на Стебницкого”, написать и опубликовать “пропущенные” автором дополнительные главы из “Некуда”. Он обещает порассказать в них чрезвычайно значительное из жизни некудовского “доктора Розанова” (читай — самого Лескова) [310].
Такая угроза должна была цепенить душу! Наступают дни трепетного ожидания. В силу чего, по каким побуждениям, по чьему воздействию всенародно обещанные главы, при всей их публицистической заманчивости, остаются ненаписанными или во всяком случае неопубликованными — загадка.
Опасность миновала. У Лескова отлегает на душе. Может быть, под влиянием только что пережитых тревог более поздние главы оказываются значительно утишенными.
При всей остроте осуждения романа прогрессивными кругами [311], дело, казалось, могло еще обойтись без тяжелой драмы, особенно после невыполнения Сувориным его убийственного плана. Требовалось суметь отмолчаться на пока еще терпимые выпады. На что не хватает воли. На собственную пагубу Лесков, на последнем поклоне, портит все дело.
В декабрьской книжке журнала, в которой кончался печатанием весь роман, он выступает с как нельзя более ненужным, почти историческим, по существу ничего не объяснявшим и, что, может быть, всего хуже, не кажущимся искренним “Объяснением”.
Опрометчиво и бездоказательно в нем полностью отрицается памфлетность романа и портретность выведенных в нем лиц от начала его до конца.
Рядом с приемлемыми указаниями на то, что вообще в литературе “нет ни одной повести, ни одного рассказа, в котором не встречалось бы лиц, которых многие видели, знают и узнают в печати”, что, мол, “бывало, и не раз бывало в русской литературе, что такое сходство казалось очень сквозным и подходило к людям, которых узнавал не один какой-нибудь местный кружочек, а целые города, но и это литературными судьями не считалось проступком”, выдвигались слишком рискованные утверждения: “Все лица этого романа и все их действия есть чистый вымысел, а видимое их сходство (кому таковое представляется) не может никого обижать, ни компрометировать”.
Дальше, с подсказанною раздраженностью неразборчивостью, сыпались по адресу живых и мертвых напоенные ядом намеки, и, наконец, бросались уже совсем запальчивые вызовы “гнезду грачей, кричащих громче смысла”.
Клокочущее неукротимым гневом “Объяснение”, уличавшее в чем-нибудь и задевавшее всех, кто только вспомнился и подвернулся под горячую руку его автора, ошеломило.
“Акция” взывала к возмездию. Оно пришло. Возможно, даже превзойдя меру содеянного.
Боборыкин, хорошо знавший всю подоплеку романа, предвидя взрыв большой силы, не упустил оградиться от “Объяснения”:
“Не имея права отказать автору, мы сообщаем его объяснение, хотя далеко не разделяем высказанных в нем мнений. Многочисленные намеки объяснения оставляем на полной ответственности автора. Ред.”
Откликаясь на “Объяснение”, Д.И. Писарев завершает свое выступление беспощадным приговором и властным предостережением всей русской журналистике: “Меня очень интересуют два вопроса:
1) Найдется ли теперь в России, кроме “Русского вестника”, хоть один журнал, который осмелился бы напечатать на своих страницах что-нибудь, выходящее из-под пера Стебницкого и подписанное его фамилией? 2) Найдется ли в России хоть один честный писатель, который будет настолько неосторожен и равнодушен к своей репутации, что согласится работать в журнале, украшающем себя повестями и романами Стебницкого?” [312]
Через четыре года после Писарева скажет свое слово и Салтыков. В своей рецензии о первых произведениях Лескова oн решает, что реакционность романа “Некуда” не отличается устойчивостью, признавая тут же в “одиозном” Стебницком несомненные “наблюдательность” и “дарование”.
Дав в общем отрицательную оценку романа, Салтыков тут же зло говорит о “фарисействе”, с которым в либеральной печати Лескова “ругали огулом “за все”, ругали сплеча, кратко, но сильно, даже с каким-то соревнованием, точно каждый спешил от своего усердия принести свою посильную лепту в общую сокровищницу и только боялся, как бы не опоздать к началу” [313].
Многие из современников отмечали в своих воспоминаниях “фотографичность” большинства персонажей “Некуда”, как и описываемых в нем событий, подтверждая тем самым достоверность последних. Они поясняли, что в момент публикации романа раздражали и возмущали все-таки не столько эти стороны произведения, как общий его тон и приемы письма [314].
Перешагнув на шестой десяток лет, Лесков в не изданной до сей поры интереснейшей статье “О шепотниках и печатниках” с неослабевающей болью в сердце остановился на происшедшем с ним семнадцать лет назад.
“Двадцать лет кряду <…> гнусное оклеветание нес я, и оно мне испортило немногое — только одну жизнь… Кто в литературном мире не знал и, может быть, не повторял этого, и я ряды лет лишен был даже возможности работать… И все это по поводу одного романа “Некуда”, где просто срисована картина развития борьбы социалистических идей с идеями старого порядка. Там не было ни лжи, ни тенденциозных выдумок, а просто фотографический отпечаток того, что происходило. В романе даже самое симпатическое лицо есть социалист (Райнер, которого я писал с Арт. Бенни). Ныне князь Бисмарк говорит, что с социалистами кое в чем надо считаться, а я тогда показывал живым типом, что социалистические мысли имеют к себе нечто доброе и могут быть приурочены к порядку, желательному для возможно большего блага возможно большего числа людей. — В литературном мире, однако, было сложено, что роман этот “писан по заказу III отделения, которое заплатило мне за него большие деньги”. Это испортило все мое положение в литературе, а так как у меня, кроме литературы, никаких других занятий не было, то это мне испортило жизнь на целые двадцать лет. Сбросить гнусную клевету не было никакой возможности, потому что об этом только говорили, а не печатали… В печати ограничивались намеками, вроде намеков кн. Мещерского об усопшем м[итрополите] Макарии, — будто он “церкви нелюбезен”… Обо мне печатали вроде того, что “это, пожалуй, хорошо, но пахнет доносом”. Напрасно я ждал и напрасно жду, чтобы кто-нибудь имел благородство и великодушие напечатать то, что говорилось обо мне по поводу “Некуда” и так и остается на мне клеветою не разъясненною и не смытою. А я бы считал это большим благодеянием, потому что на открытое обвинение мне было бы отрадно и легко рассказать историю печатания этого романа, пока живы свидетели его появления. Но один из них, Н. Н. Воскобойников, уже сошел в могилу, а другой — П. Д. Боборыкин — хранит упорное молчание о том, как этот роман задумывался и писался и какие он мне принес суммы… Такое дело, как оправдание человека, которого напрасно оклеветали и губили, — стоит, как видно, выше нравственных принципов и потребностей Петра Дмитриевича, которому я верил, которым был склонен к писанию “Некуда” и который проводил его через цензурные затруднения, не имевшие себе равных и подобных. Роман марали и вычеркивали не один цензор (Де-Роберти), но три цензора друг за другом, и, наконец, окончательно сокращал его Михаил Николаевич Турунов, ныне престарелый сенатор, стоявший тогда во главе цензурного учреждения в Петербурге. Это лицо, к преклонным летам и доброму прошлому которого я желаю относиться с полным доверием, конечно не станет отрицать, что “Некуда” не только не пользовался никакою поддержкою и покровительством властей, но он даже подвергался сугубой строгости. Единственный и, к сожалению, неполный экземпляр, собранный мною из корректурных листов, может свидетельствовать, что роман “Некуда” выходил из рук четырех цензуровавших его чиновников совершенно искалеченным… Там вымарывались не места, а целые главы, и притом часто самые важные…” [315]
В июне 1882 года, когда Лесков стремился опубликовать эту статью, живы были еще два свидетеля рождения и всех затруднений с печатанием “Некуда” — Боборыкин и Турунов. Любая неточность, недостоверность или предвзятость в статье могла быть тотчас же ими указана и опровергнута. Суворин, в “Новом времени” которого представлялось по некоторым соображениям необходимым напечатать статью, нашел более спокойным воздержаться от этого [316].
В 1881 году, призабывая или пренебрегая уже собственным “объяснением” 1864 года, Лесков дает литературному, мало прежде знавшему его, корреспонденту, И. С. Аксакову, прелюбопытные показания:
“Некуда” частию есть исторический памфлет. Это его недостаток, но и его достоинство, — как о нем негде писано: “он сохранил на память потомству истинные картины нелепейшего движения, которые непременно ускользнули бы от историка, и историк непременно обратился к этому роману… В “Некуда” есть пророчества, все целиком исполнившиеся… Вина моя вся в том, что описал слишком близко действительность да вывел на сцену Сальясихин кружок “углекислых фей”. Не оправдываю себя в этом, да ведь мне тогда было 26-й год, и я был захвачен этим водоворотом и рубил сплеча [317].
Рубил сплеча — это вне спора. По позднейшей редакции второго его письма о русском обществе в Париже, как бы “исповедуя писаревский принцип: “бей направо и налево, — что уцелеет, то останется” [318].
Определение собственного возраста времен “Некуда” умалено на семь-восемь лет как смягчающее обстоятельство. Случилось раз, в переписке с тем же Аксаковым, пораньше, сказать и еще сильнее: “Этого не было со мною даже при юношеском “Некуда” [319].
В прямом значении слова Лесков на тридцать четвертом году, конечно, не был юношей. Но вместе с тем по всем статьям он не был и подготовлен для большого литературно-полемического выступления. Еще за год до начала печатания романа он с нескрываемым раздражением по отношению к некоторым нигилиствовавшим писал:
“Это еще старые типы, обернувшиеся только другой стороной. Это Ноздревы, изменившие одно ругательное слово на другое… Такова в большинстве грубая, ошалелая и грязная в душе толпа пустых, ничтожных людишек, исказивших здоровый тип Базарова и опрофанировавших идеи нигилизма” [320].
Сбереглось еще одно откровение Лескова, хорошо обрисовывающее условия, в которых писался и выходил в журнале роман.
“Роман “Некуда” есть вторая моя беллетристическая работа (прежде его написан “Овцебык”). Роман этот писан весь наскоро и печатался прямо с клочков, нередко писанных карандашом в типографии. Успех его был очень большой. Первое издание разошлось в три месяца, и последние экземпляры его продавались по 8 и даже по 10 р. “Некуда” вина моей скромной известности и бездны самых тяжких для меня оскорблений. Противники мои писали и до сих пор готовы повторять, что роман этот сочинен по заказу III отделения (все это видно из моих парижских писем) [321]. На самом же деле цензура не душила ни одной книги с таким остервенением, как “Некуда”. После выхода первой части Турунов назначил г. Веселаго поверять цензора Де-Роберти. Потом велел листы корректуры приносить от Веселаго к себе и сам марал беспощадно целыми главами. Наконец, еще и этого показалось мало, и роман потребовали еще на одну “сверхъестественную” цензуру. Я потерял голову и проклинал час, в который задумал писать это злосчастное сочинение…
Роман этот носит в себе все знаки спешности и неумелости моей. […] Покойный Аполлон Григорьев, впрочем, восхищался тремя лицами: 1) игуменьей Агнией, 2) стариком Бахаревым и 3) студентом Помадой. Шелгунов и Цебрикова восхваляют доднесь Лизу, говоря, что я, “желая унизить этот тип, не унизил его и один написал “новую женщину” лучше друзей этого направления”. Поистине, я никогда не хотел ее унижать, а писал только правду дня, и если она вышла лучше, чем у других мастеров, то это потому, что я дал в ней место великой силе преданий и традиций христианской, или по крайней мере доброй, семьи. И. Лесков-Стебницкий” [322].
Через несколько лет Лесков скомкает кое-как роман “На ножах” — апогей “злобленья”. В почти смертно-канунные дни, в интервью, он скажет: “По-моему, это есть самое безалаберное из моих слабых произведений” [323].
Свалив с плеч этот “сокрушивший” его самого, опостылевший ему огромный роман, он делился своим настроением с Щебальским: “Я знаю себя и чувствую, что во мне собралось чего-то много, на что-то вроде “Некуда”, и я хотел бы предаться этому с полною отторженностью от жизни, которая здесь на Руси меня все беспокоит, тревожит и манит, волнует и злит…” [324]
Манило — чувство, как он говорил — “влеченье сердца”. Опыт — оберег.
К сожалению, впрочем, не вполне: кое-что, опять-таки по влеченью непримиренного сердца, проникает и в “великолепную книгу” (“Соборяне”), не умножив ее красот.
Всегда готовый вести неустанные разговоры и споры о “Некуда”, но никогда почти не говоря о романе “На ножах”, Лесков давал возможность сделать за ним не одну запись.
“У меня в “Некуда” Бертольди — при всех ее резкостях и экстравагантности — простое и честное дитя. Взяты нигилистические особенности, но не забыт характер человека. Так у меня даны Райнер, Лиза Бахарева, Помада, Бертольди, — и все они — живые люди. А там, где я, забывая это неизменное требование художественного творчества, рисовал одни нигилистические черты и игнорировал обрисовку души человека, там получались односторонние обличительные фигуры, марионетки, а не живые типы нигилистического склада. Это были “заплаты”, и очень досадные и заметные” [325].
У напуганного нигилизмом обывателя роман, во всех его изданиях, имел значительный успех. В 1865 году он вышел отдельною книгой, сброшюрованной из оттисков журнала, в 1867 — тяжеловесным фолиантом в издательстве М. О. Вольфа с аллегорически-примитивным рисунком-обложкой во весь лист. Выполнен рисунок был знаменитым “Михайлой” Микешиным, а придуман самим автором произведения. Об этом он, не без пренебрежительности к композиционной фантазии художников, засвидетельствовал лет двадцать спустя: “Они люди умные! Им и на “Некуда” виньетку я сочинял, им и Лейкин всегда подает идеи… Есть тоже о ком говорить!” [326]
Есть одна не допускающая невнимания деталь. Роману был дан, полный предопределения судьбы некоторых из героев его, вещий эпиграф: “На тихоньких бог нанесет, а резвенький сам набежит. Пословица”. С издания 1867 года он раз навсегда снимается. Больше опираться на такую пословицу не хотелось.
Трудности и цензурные испытания, очерченные в подарочной надписи Щебальскому, находят существенное себе дополнение в одном, сравнительно много более позднем, исповедном письме Лескова:
“Потом соприкосновение с превосходными людьми освободительной поры, которые жаловались, что “им мешали Белоярцевы”. Я верил, что без этой помехи было бы достижимо лучшее. В этом моя ошибка, но не злоба. Райнер не “маньяк”, а мой идеал. Лиза — тоже. Она говорит [после его казни] — “с теми у меня есть хоть общая ненависть, а с вами [родными] — ничего!” “Некуда” искалечено, как ни одно другое произведение. Кроме обыкн[овенной] цензуры (Де-Роберти), корректуры марали Трунов, потом Веселаго и, наконец, чиновник из III отделения; а Вольф при 2-м изд[ании] так обошелся, что хотел восстановить вымарки, но вм[есто] того потерял или, м[ожет] б[ыть], даже скрыл от меня мой единственный экземпляр, собранный из корректорных [полос]”.
ГЛАВА 8. “ОТВЕРЖЕНИЕ ОТ ЛИТЕРАТУРЫ”
В расцвете реакционно-“попятных” мероприятий Александра III Лесков, охваченный тревогой за политическую настроенность русского общества и за будущее своей страны, горестно восклицает:
“Скучно, тяжко и вокруг столь подло и столь глупо, что не знаешь, где и дух перевести”.
А через три дня, на утешения и советы корреспондента, отвечает:
“Вы пишете, что не надо падать духом, а надо бодриться. Слова нет, что это так, но ведь всякие силы знают усталость. Столько лет работы и уныния чего-нибудь да стоили душе и телу. Родину-то ведь любил, желал ее видеть ближе к добру, к свету познания и к правде, а вместо того — либо поганое нигилистничание, либо пошлое пяченье назад “домой”, т. е. в допетровскую дурость и кривду. Как с этим “бодриться?.. Все истинно честное и благородное сникло, — оно вредно и отстраняется, — люди, достойные одного презрения, идут в гору… Бедная родина! С кем она встретит испытания, если они суждены ей?” [328]
В одном “открытом письме” Лесков подчеркивал, что “всегда нуждался в живых лицах”, которые “овладевали” им, что “в основу своих произведений клал действительные события” и что именно так “по преимуществу” написано “Некуда”. Дальше говорилось: “Вы знаете и многим известно, что этот роман представляет многие действительные события, имевшие в свое время место в некоторых московских и петербургских кружках. Я терпел самые тяжелые укоризны именно за то, что списал то, что было… Я ни к чему не тянул. Я только или описывал виденное и слышанное, или же развивал характеры, взятые из действительности. Я даже действовал во вред той тенденции, которую мне приписывают” [329].
Настойчиво отмечает он всегда, что дал в романе несколько нигилистов “чистой расы”, каких не дал никто другой. Его возмущает, что их-то почему-то и не замечают, не ценят даже позднейшие критики. Почти негодующе он пишет М. О. Меньшикову: “Выводя низкие типы нигилистов, я дал, однако, в “Некуда” Лизу, Райнера и Помаду, каких не написал ни один апологет нигилизма. Это нехотя замечали мои клеветники; а вы этих лиц вовсе не отметили” [330].
С горечью и даже отчаянием проводит он в письме к В. А. Гольцеву параллель между наблюдавшимися когда-то и зримым ныне, указывая на явления, беспощадно отражаемые им в “Зимнем дне”, вплоть до “соллогубовского сосьете” [331].
В таких настроениях “по влеченью сердца” тянет снова писать, но уже не “некуда”, а “не с кем”!
“Садись и пиши, — волнуясь, говорил он, — да годы уж не те. Второй раз не вынести всего, что стерпел в силе лет”.
Уже после смерти Лескова стали слышаться голоса, что особо отягчающей ответственности его, — по сравнению с авторами некоторых других, одновременно с “Некуда” появлявшихся и довольно безобидно прошедших, романов, — пожалуй, и не установить. Говорилось, что внешне в романе “все было как будто правдиво, яд клеветы шипел только в тоне изложения да в каких-то неуловимо скользких à part между строк” [332].
До исхода лет, почти в предощущении недальней уже “распряжки”, не ослабевает в Лескове потребность во врачующих дух, не всегда непогрешимых, признаниях.
Газетному интервьюеру больной и сильно остарелый писатель удостоверяет:
“Первый свой серьезный труд — “Некуда” — я написал, повинуясь какой-то органической потребности протестовать против злоупотреблений идеею свободы, что тогда практиковалось многими. Второй — “Обойденные” — появился в Париже, куда я уехал от досаждавшего мне шума, который поднял “Некуда” [333].
В не предназначавшихся к немедленному опубликованию беседах не отвергались и некоторые личные промахи:
“Я, конечно, мог изобразить шестидесятые годы неумело и бестактно… Ошибки были неизбежны, но я не радовался им, как нынешние, и не гордился ими” [334].
Не посягая на литературно-общественный анализ романа, трагически сказавшегося на писательской судьбе Лескова, я ставил своей задачей осветить, как судил о нем сам автор.
Подменять Лескова вольным пересказом собственных его толкований и показаний или стремиться к слишком большому их сокращению я не почел себя вправе.
Напротив, я полагал своею обязанностью не считаться даже с возможностью некоторых полуповторений, а может быть, и длиннот.
Я заботился всего больше об одном: возможно бесспорнее иллюстрировать, как определял на протяжении всей своей жизни литературно-историческое значение своего романа его автор.
Менялись времена и настроения. Менялись и люди. Многие из ярых врагов сошли в могилу. Старел Лесков, последовательно становясь “известным”, “уважаемым”, “маститым”…
Даже “правоверная нигилистка” Цебрикова дает ему индульгенцию за “Полунощников”. Он не только признан, но и признан передовыми журналами.
Все неослабно и до боли остро помнит сам Лесков.
Возникает вопрос о публикации нового, еще только пишущегося романа “Чортовы куклы”, кстати сказать, в самом же начале печатания снятого самим автором [335]. Совсем недавно еще как бы сильно опережавшая Лескова в левизне, “Русская мысль” уже успевает к этому времени приучить былого Савла считаться с ее непостижимой робостью перед цензурой. Особенно страшными ей в этом отношении представляются именно вещи Лескова.
Лескову поначалу его новый роман представляется цензурно невинным. Однако живо помнятся страхи редакции в отношении его произведений, посылавшихся ей ранее. Чтобы успокоить ее, одному из трех ее столпов, не без горькой шутливости, пишется, многоценное для обрисовки собственного настроения Лескова, признание:
“Глубоких или “проклятых” вопросов нет вовсе. “Много бо пострадах их ради” [336].
“Некудовская” катастрофа в своей сокрушительности и бесповоротности писаревского приговора неизмеримо превзошла первую — “пожарную”.
Окончательно утрачивались положение и связи в прогрессивных литературных кругах. Закрывались двери ряда журналов, изданий. Терялись друзья и знакомства. Обида жалила и терзала злее прежнего.
Катков, которого не миновали в свое время такие столпы литературы, как Тургенев, Л. Н. Толстой, Достоевский, берет изгнанника противного лагеря на учет. Это ничего, что тот успел уже не раз достаточно зло обрушиваться на “Московские ведомости” [337]. Озлобленность и оскорбленность этого несомненно даровитого и горячего человека — прекрасные козыри в руках умелого игрока. Конечно, чтобы завербовать Лескова, придется, может быть, и подождать, не упуская его из поля зрения и наблюдения. А там — будет видно.
Поначалу писаревское заклятие жизненно не сказывается с такой силой, с какой было возвещено. В 1865 же году отдельно издаются два выпуска “С людьми древлего благочестия”; сброшюрованный из оттисков “Библиотеки для чтения”, тот же роман “Некуда”; с сентября в “Отечественных записках” проходят “Обойденные”, не лишенные противонигилистических выпадов. 17 марта запродается Вольфу второе, вышедшее в марте 1867 года, грузное издание “Некуда”; в апреле в “Отечественных записках” — почти свободная от счетов с нигилизмом “Воительница”; в июле запродаются Краевскому “Чающие движения воды” и т. д. Но вот 16 сентября скоропостижно умирает расположенный к Лескову С. С. Дудышкин. Это осложняет отношения с “Отечественными записками”, так как с Краевским отношения никогда не были теплы и искренни. Однако журнал продолжает помещать статьи Лескова по театру, повесть “Островитяне”. На 1867 год закрепляются в нем и театральные обозрения Лескова и его “Чающие”, то есть будущие “Соборяне”. Эта “романтическая хроника” гневно изымается автором из редакции журнала после апрельских его книжек. Разрыв с “Отечественными записками” сразу дает себя чувствовать. Замыслов много, а средства к воплощению их снижаются, да и заработок падает. Надо, хотя на время, обеспечить покрытие житейских нужд, чтобы целиком отдаться тому, к чему влекутся дух, помыслы, талант, чтобы что-то “совершить”!
В поисках разрешения узлом завязывающихся затруднений Лесков принимает по-своему героическое решение — обратиться за ссудой к заведомо мало расположенному к нему Литературному фонду. Выше сил волнуясь, а вследствии этого и чрезвычайно сбиваясь с темы просьбы, выходя далеко за ее пределы, Лесков 20 мая 1867 года пишет председателю комитета фонда Е. П. Ковалевскому:
“Ваше превосходительство
Егор Петрович!
Этим письмом я обращаюсь в Литературный фонд с просьбою, для рассуждения о которой гг. членам фонда нужно иметь более или менее подробные сведения; а потому я начну с изложения их и прошу вас выслушать меня. Я, нижеподписавшийся, Николай Лесков, известен в русской литературе под взятым мною псевдонимом “М. Стебницкий”. Существую я исключительно одними трудами литературными. Начал я мои работы назад тому шесть лет в закрытых ныне “Экономическом указателе” и “Экономисте” профессора Вернадского, где напечатан ряд моих экономических статей. Затем я писал критические и экономические статьи в “Отечественных записках”. Статьи эти частию подписаны моим полным именем “Н. Лесков”, частию же буквами “Н. Л.”, и, наконец, есть статьи так называемые редакционные, вовсе не подписанные. Год, целый работал я в газете “Русская речь” Евгении Тур; писал в “Современной летописи” Каткова; потом два года кряду, во время так называемого нигилизма, писал передовые статьи в “Северной пчеле” у г. Усова. Год провел в Париже корреспондентом этой газеты. Потом, оставив публицистику, взялся за беллетристические работы, под псевдонимом “М. Стебницкий”. В беллетристическом роде мною написано несколько мелких рассказов по разным изданиям; а также более крупные очерки Овцебык (напечатан в “Оте[чественных] зап[исках]”), Леди Макбет Мценского уезда (“Эпоха”), Русское общество в Париже (“Библиотека для чт[ения]”), Язвительный (“Якорь”), История одного умопомешательства и Воительница (“Отеч[ественные] зап[иски]”), народная повесть Житие одной бабы (“Библ[иотека] для чт[ения]”), роман “Некуда” (“Библиотека для чт[ения]” и два отдельные издания), роман Обойденные (“Отеч[ественные] зап[иски]” и отдельное издание), повесть Островитяне (“Отеч[ественные] зап[иски]” и отдельное издание). Наконец в марте этого года я начал писать в “Отечественных же записках” романтическую хронику Чающие движения воды. Продолжение этого романа встретило препятствия, которых я не имею оснований скрывать от Литературного фонда, ибо с этим делом связана самая моя просьба.
Хроника Чающие движения воды мной была запродана в “Отечественные записки” в июле месяце прошлого, 1866 года, когда у меня была готова только одна первая часть. Продана она была покойному редактору “Отеч[ественных] записок” Степану Семеновичу Дудышкину по восьмидесяти рублей серебром за печатный лист. Словесными условиями между нами было положено, что редакция “Отеч[ественных] записок”, пока я кончу роман, будет давать мне до нового года по 125 руб. в месяц, с тем что забранные мною деньги будут потом удержаны из моего гонорария. С. С. Дудышкин, как вам известно, в августе месяце прошлого года скончался. Внезапная кончина этого человека поставила меня в самые крайние затруднения, ибо я ничем никогда не договаривался с г. Краевским. В это время редактор “Всемирного труда” доктор Хан обратился ко мне с просьбою о сотрудничестве в открываемом тогда им журнале. Я благодарил доктора Хана за его внимание и отвечал ему, что моя работа и мое время принадлежат уже другому изданию. Затем мы с г. Краевским не умели поразуметься. Доктор Хан, известясь об этом по литературным слухам, прислал ко мне товарища моего Всеволода Крестовского и литератора Н. И. Соловьева с предложением внести за меня г. Краeвскому весь мой долг и заплатить мне за роман “Чающие движения воды” по 150 руб. за лист. Не соблазняясь ни на минуту выгодным для меня предложением, я не дал своего согласия доктору Хану, а написал об этом г. Краевскому, предоставляя это дело его великодушию. Г. Краевский, сообразив сделанное мне предложение доктором Ханом, известил меня через товарища моего литератора Е. Ф. Зарина, что он предлагает мне за роман по сто рублей за лист. Как это ни было невыгодно для меня потерять по 50 р. на сороколистном романе, но я отклонил предложение доктора Хана и продолжал роман для г. Краевского. В декабре 1866 года мы положили начать мой роман не с генваря, а с марта, так как я его еще не совсем окончил, а в руках редакции был роман г-жи Вельтман. В марте начали печатать мою хронику. Первые два куска первой части прошли благополучно. В третьем отрывке вдруг оказались сокращения, весьма невыгодные для достоинства романа. Мне, как и всем другим ближайшим сотрудникам журнала, было известно, кто сделал эти сокращения: их, келейным образом, производит в “Отечественных записках” один цензор и одно лицо Главного управления по делам печати. Этих чиновников г. Краевский уполномочил и просил воздерживать неофициальным образом его бесцензурный журнал от опасных по его мнению, увлечений его сотрудников, и оба эти чиновника г. Краевскому не отказали в его просьбе. Все предназначаемое к печатанию в “Отечественных записках” посылается по заведенному ныне в этой редакции порядку на их предварительный дружеский просмотр, и они в две руки делают произвольные и самые бесцеремонные сокращения, точно так же, как это бывало в доброе старое время при предварительной цензуре. В числе этих сокращений бывают такие, которые не могут не приводить в ужас благонамеренного русского человека: таковы, например, известные нам, сотрудникам, сокращения замечательных статей о Прибалтийском крае. Это поистине сокращения такого обидного свойства, что никто бы не поверил, что их делал русский человек; их мог сделать только заклятый враг русских интересов в Остзейском крае, барон-сепаратист или его форвальтер. Но, однако, их делали не остзейские бароны.
Упоминаю о сокращениях, которые претерпела названная мною статья, не без цели. Они показали мне, что может случиться со всякой печатной вещию, которая прежде своего появления в нынешних “Отечеств[енных] записках” должна пройти через незримую, бесконтрольную предварительную цензуру упрошенных г. Краевским цензоров. Я сообщил г. Краевскому, что роман “Чающие движения воды” есть роман, задуманный по такому щекотливому плану, что с исполнением его нужно обходиться очень осторожно; что я имею в виду выставить нынешние типы и нынешние положения людей, “чающих движения” легального, мирного, тихого; но не желаю быть, не могу быть и не буду апологетом тех лиц и тех принципов и направлений, интересы которых дороги и милы секретным цензорам бесцензурного издания г. Краевского. Я написал ему (и мои товарищи и литературные друзья знают это), что я не могу стерпеть никаких произвольных сокращений в этом романе и что если сокращения действительно окажутся необходимыми, то я прошу сделать их не иначе, как только с моего согласия, с предоставлением мне возможности по крайней мере залатывать ямы, открываемые негласными цензорами. При этом я добавил твердо и решительно, что если такое мое законное требование не будет удовлетворено, — то вынужден буду прекратить продолжение романа. Г. Краевский говорил об этом моем требовании литератору Зарину и другим, а характер, моих предыдущих отношений к этому редактору не оставляют ему никакого права думать, что я не сдержу данного мною слова. Но несмотря на все это, в первой же следующей книжке (2-й апрельской), когда эта книжка уже была отпечатана, сброшюрована и послана к одному из негласных цензоров, удерживающих бесцензурный журнал г. Краевского от увлечений, мой роман подвергся еще большим помаркам. В силу этих помарок одно из лиц романа (протоиерей Савелий, в особе которого, по моему плану, должна была высказаться “чающая движения” партия честного духовенства) вышло изуродованным. Об этих сокращениях мне не дали знать, как я просил. Напротив, их от меня скрыли и начали перепечатывать и подверстывать книжку. Узнав об этом случайно, я простер мою просьбу о том, чтобы роман с сделанными сокращениями не печатали, а дозволили бы мне объясниться с цензуровавшим его негласным цензором, которого я надеялся разубедить в его опасениях за мое легкомыслие и вольнодумство. Не знаю и не ручаюсь, удалось ли бы мне достичь этого, но я надеялся, ибо и опытность и здравый смысл ручались, что вымаранные места совершенно позволительны. Но мне измаранной книжки не дали и объявили, что сокращения будут сделаны, ибо уже таков в “Отечественных записках” порядок, и номер выйдет. Мне оставалось одно средство защищаться — заявить в какой-нибудь газете, что роман выходит не в том виде, в каком он сдан для печати, и что он вдобавок выходит в свет почти насильно, против моего желания. Я не хотел сделать такого литературного скандала г. Краевскому, ибо, вследствие некоторых особенностей нрава и обычаев этого почтенного редактора, такие скандалы для него уже не редкость; а для публики они только открывают язвы нашей и без того много раз компрометированной литературной семьи. Я ограничился одним исполнением моего обещания г. Краевскому, т. е. не дал более присланному им человеку оригинала, и рукопись романа остается у меня, пока я оправлюсь, обдумаюсь и найдусь, что мне с нею можно сделать, после начала романа в “Отеч[ественных] записках”.
Возвращаюсь теперь назад к моей литературной деятельности.
По массе произведенных мною литературных работ, об объеме которых Литературному фонду нетрудно будет собрать сведения, ваше превосходительство и члены Фонда, вероятно, изволите придти к заключению, что я не гулял, а трудился, и трудился прилежно. Получал я гонорарий довольно хороший и, следовательно, мог бы перенесть нынешнюю беду мою. На мою долю, по несчастью, выпали самые странные и несчастливые случайности. Газета “Северная пчела” недодала мне 800 руб., мною заработанных, журнал “Эпоха”, удовлетворив почти всех своих сотрудников, остался мне должен 150 р., “Библиотека для чтения” закрылась, оставшись мне должною 4950 рублей, и все это раз за разом, одно за другим. Долг на “Северной пчеле” я считаю безнадежным и не ищу его на г. Усове, в добросовестность которого глубоко верю, г. Достоевский и г. Боборыкин мне выдали векселя, срок которым давно минул. Векселя своего на г. Достоевского я не представляю, потому что литератор этот нынче, как говорят, сам в затруднительных обстоятельствах; а долг свой с г. Боборыкина я получу только осенью этого года, когда имение его по претензии гг. Печаткиных будет продано с аукционного торга. До тех же пор, пока последует это несомненное, но отдаленное получение, мне буквально нечего есть; у меня нет средств работать новой работы, которая бы меня выручала из беды, в которую меня поставил г. Краевский; мне нечем заплатить полутораста руб. за дочь мою, обучающуюся в пансионе Криницкой, и я не могу отдать 200 руб. долгу г. Краевскому, — что меня стесняет до последней степени.
Утомленный тяжкою работою по сочинению ныне погибшего романа, я тотчас же по его прекращении не дал себе ни минуты отдыха и сел за окончание два года назад начатой драмы Расточитель. Три акта этой пиесы готовы, — два остальные я надеюсь дописать к будущему сезону; в покупщике на нее в журнал не сомневаюсь, в допущении на сцену тоже; но угрожающая привычка питаться, от которой до сих пор меня не отучила жизнь русского литератора, заставляет меня, отложив листы сочиняемой драмы, писать на этом листе к вашему превосходительству это письмо с просьбою помочь мне. Я прошу Литературный фонд обеспечить мне пять месяцев жизни, ссудив меня пятьюстами руб. сереб., которые обязываюсь заплатить к новому году с десятью процентами в пользу сумм фонда. Средства для отдачи этого долга я имею: эти средства — моя драма и получение долга с боборыкинского имения, назначенного в продажу; средства же не умереть с голода и продолжить работу без такого пособия Фонда решительно не вижу.
Ваше превосходительство будете бесконечно милостивы, если предложите мою просьбу членам Фонда в одном из ближайших заседаний и изволите распорядиться почтить меня уведомлением о резолюции, какой она удостоится.
С высоким уважением к вам имею честь быть
вашего превосходительства
покорнейшим слугою
Николай Лесков
(М. Стебницкий)”.
22 мая состоялось очередное заседание комитета в составе председателя Е. П. Ковалевского и членов: П. В. Анненкова, А. Д. Галахова, П. П. Гаевского, К. Д. Кавелина, М. М. Стасюлевича, Б. И. Утина и С. П. Щепкина.
Вынесено следующее постановление:
“8. Читано письмо Н. Лескова (М. Стебницкого) к председателю Общества о выдаче ему ссуды в 500 руб. Г. Лесков начал свою литературную деятельность в “Экономическом указателе” и “Экономисте”, был потом в течение года сотрудником “Русской речи”, писал в “Современной летописи” и в “Северной пчеле” (под редакцией Усова), помещал рассказы и повести в разных периодических изданиях и особенно известен двумя романами, напечатанными первоначально в “Библиотеке для чтения” под редакцией Боборыкина и в “Отечественных записках” и вышедшими потом отдельными изданиями. В последнее время он начал печатать новый роман в “Отеч[ественных] записках”, но разошелся с редакцией и временно находится в весьма стесненном положении.
Комитет, находя, что ссуда не может быть выдана г. Лескову, так как ссуды выдаются лишь за поручительством членов Комитета, желавших же принять на себя поручительство за г. Лескова в Комитете никого не оказалось, но имея при этом в виду, что было бы справедливо оказать некоторое пособие автору, определил: в ссуде отказать, а относительно пособия поручить предварительно П. П. Гаевскому собрать сведения о положении г. Лескова”.
День вручения Лескову этого постановления неизвестен. Ответ на него характерен и быстр:
Ваше превосходительство
Егор Петрович!
П. В. Анненков известил меня, что просьба моя о заимообразной ссуде из Литературного фонда удовлетворена не будет; но что Комитет поручил г. Гаевскому посетить меня и осведомить о моем положении, дабы потом подать мне некоторое безвозвратное вспоможение.
Не имея способности принимать от кого бы то ни было безвозвратных пособий, я тем более далек от желания получить их от членов русского литературного общества, которое отозвалось, что оно меня не знает и в кредите мне отказывает. Прошу ваше превосходительство передать г. Гаевскому мою просьбу, чтобы он не утруждал себя посещением, которого я не приму; а просьбу мою о ссуде считать не требующею никаких последствий.
Я уверен, что вы не изволите встретить препятствий к тому, чтобы о ходатайстве моем в отчетах Фонда не упоминалось даже намеком, и прошу вас принять засвидетельствование моего отличного к вам почтения.
Н. Лесков
(М. Стебницкий)”.
26 мая 67 г. Спб. [338].
А пока Лесков горько и едко жаловался Фонду на Краевского, запрещается “Современник”, и, с Некрасовым и Салтыковым “во челе”, оживают на новом курсе “Отечественные записки”.
Надо спешить с “Расточителем” и, не чинясь, печатать его, как и полемические и театральные статейки, хотя бы в мало заманчивой и едва ли прочной “Литературной библиотеке” [339] Ю. М. Богушевича.
Кругом все какое-то шаткое, мелкое, бесперспективное, какие-то, по лесковскому речению, “трень-брень с горошком” или “pêle-mêle”, вздор!
Но истово литераторский темперамент превозмогает трудности.
1 ноября 1867 года на, сцене Александринского театра, в бенефис К. И. Левкеевой, премьера — лесковский “Расточитель”, а 24 декабря 1868 года, в бенефис Чумаковской, он ставится на Малом театре в Москве. В одной из заметок пьеса глумливо переименовывается в “Раздражитель” [340].
Влиятельная пресса тех лет почти сплошь отнеслась к пьесе отрицательно [341]. Хулы слышалось много. Беспристрастного суда не было.
Оценка публики была совершенно иная, и драма прошла за сезон шесть раз. По-тогдашнему это был почти успех.
Директор императорских театров С. А. Гедеонов предсказывал eй десять лет жизни. Она не сходила с провинциальных сцен полвека и шла еще в 1927 году [342].
Старый и образованный актер М. И. Писарев в начале 1887 года, за завтраком у Лескова, говорил мне о ней как об “актерской пьесе”, в которой “в каждой роли есть что играть”. П. П. Гнедич назвал ее “превосходной пьесой” [343]. А. Блок ввел в репертуарный план [344] Большого драматического театра.
Непосредственно в постановочный период Лесков натерпелся с нею до зла горя всевозможных “терзательств” и интрижных козней.
Одной из александрийских актрис, успокаивавшей и ободрявшей его в этих жестоких передрягах, он со всей горячностью выражает искреннейшую благодарность на своей фотографической карточке:
“Марье Михайловне Александровой на память о том, как она мне сказала доброе слово, когда меня общим собором убивали бесталанные артисты и бесчестные интриганы: “Болезнь сия да не будет к смерти, но к славе божией” и вашей — милейшая из душ, которую я зазнал за изнанкою Александринского занавеса. М. Стебницкий” [345].
С какими зложелательствами приходилось соприкасаться за этим занавесом, может свидетельствовать, например, дышащее ненавистью письмо актера Бурдина к Островскому, в котором он приходит в негодование от одной мысли о возможности назначения Лескова режиссером Александринского театра [346].
Каков же был общий результат постановки “Расточителя” для его автора? Может быть, более неблагоприятный, чем может показаться сначала. Неопытный, но несомненно талантливый автор первой написанной им драмы был сразу же дружно, пожалуй с преступным легкомыслием, “простужен” критикою. Первый драматический блин прошел комом. Это подрывало веру в свои силы.
Года два спустя ему как-то приходит на мысль написать, на этот раз, видимо, легонький, сценический памфлетец на биржевых пройдох, на как грибы множившиеся, дутые, как мыльные пузыри лопавшиеся, разорявшие доверчивых вкладчиков банкирские дома и конторы. Измыслено было пьеске и хлесткое название: “Голь, Шмоль, Ноль и компания”. Мелькнули о ней и оповещения в газете, да, видать, раздумалось [347]. Не осталось ни следа, ни хотя бы схемки.
В более поздние годы два-три раза что-то иногда задумывалось, но дальше начаточных набросков до перечня действующих лиц дело не шло. Драматург в Лескове был потерян. Велика ли оказанная в этом отношении заслуга господ Сувориных и прочих старателей злого вышучивания “Раздражителя”?
Так от “Некуда” идет вообще не критика и не полемика, а прямая свара:
“Милый-кавалер”, “темная личность”, — кричит по адресу Лескова на столбцах “С.-Петербургских ведомостей” Суворин.
“Известный академический скандалист”, бросает ему в ответ Лесков, отмечая в нем “беззастенчивую смелость” разнузданного фельетониста, раскрывающего в печати чужие семейные тайны, псевдонимы, доходящего до площадной брани, неопрятных намеков и т. д.
Заодно уже, в общей свалке, изливает свою ожесточенность Лесков и на других в чем-нибудь проштрафившихся врагов, а то даже и на ни в чем не повинных, старших годами и литературным положением, лично уважаемых писателей.
Схватки не прекращаются… Ничто не позволяет им не только заглохнуть, но хотя бы сколько-нибудь утишиться. Колкости сыплются по всем именам. Боборыкин, без всякой в том необходимости, признается Лесковым “писателем почти без имени” [348].
Доходит дело и до заведомо признанных и самим Лесковым искренно почитавшихся корифеев.
Упрекнув И. С. Тургенева в непростительной обидчивости за “проманкирование общественным вниманием” таких “неудачных” его вещей, как “Собака”, “Лейтенант Ергунов”, “Бригадир” и “Несчастная”, Лесков, с очезримым подразумеванием самого себя писал:
“Те менуэты, которые он начинал было вытанцовывать перед иными из своих противумысленников, ему не к чину и не к летам… Пора в самом деле и не бояться говорить, что думаешь: здесь ведь дома (а не в своем “прекрасном далеко”) есть люди, которые гораздо больше г. Тургенева оттерпели и злых напраслин, и клевет, и самых низких поношений; но они не пятятся от сказанного, они не жалобятся, не дуют губы и не жмутся чужим людям под ноги, как слегка посеченная розгою фаворитная господская амишка… Что делать: “говорить правду — терять дружбу” — это пословица не новая, но тем не менее все-таки надо говорить правду, особенно когда пушистый снег уже успел покрыть все кудри и очам души невдалеке уже зрится берег той страны, “откуда путник к нам еще не возвращался”… Помилуют ли нас или не помилуют, будет ли нам утешением хоть минута раскаяния в тех, кто сторицею облыгал нас всеми лжами и клеветами, — это нам должно быть все равно: на весь мир пирога никогда не спечешь и, угодив одним, опять не потрафишь на других. Всякое подделывание и танцы менуэтов и гавотов бесполезны, а между тем смешная их сторона чувствуется” [349].
Так, хотя и колко, но вежливо укоряются литературные боги. Много более упрощенная участь постигает простых смертных, хотя бы по прошлому и из приятельственных. Автор “Марева”, “Больших кораблей” и “Цыган”, В. П. Клюшников, тут же, без обиняков, именуется “маленьким муликом”, “онагром”, то есть диким ослом, под которым “разъезжаются его неокрепшие копытца”.
В чаду раздраженности и озлобленности, в нарастании литературных и бытовых неудач и затруднений проходит пять мучительных посленекудовских лет. Ни один из избираемых путей ни к чему доброму не приводит. Терпение истощается, негодование растет.
Следивший за сменой расположения фигур, Катков, при благожелательном посредстве А. К. Толстого, А. Н. Майкова и Т. И. Филиппова, делает ход: Лесков привечен, обласкан, приобщен.
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. В ТЕНИ И НЕБРЕЖЕНИИ 1865–1874
Не властны мы в самих себе.
БаратынскийГЛАВА 1. ХАРАКТЕР
Нельзя, не видя океана
Себе представить океан.
[350]
Как сказывался характер Лескова на его отношениях с родными и близкими — уже более или менее ясно. Каков же он был вообще и как влиял на создание тех или иных отношений между Лесковым и собратиями его по перу, а с тем и на положение его в писательских кругах?
В Тургеневе он любовно отмечал “просвещенный и благоустроенный ум”. На том, какими заботами умной и образованной матери даны эти “просвещенность” и “благоустроенность”, он не останавливался.
В Толстом он опасливо видел: в молодом — “своенравную непосредственность” [351], а в старом — “страстность и гневливость”, побеждаемые “ужасною над собою работой” [352].
У самого Лескова, как и у многих других писателей менее счастливого общественного и материального положения, дело обстояло много сложнее и труднее.
Знавший Лескова еще с киевских времен В. Г. Авсеенко писал:
“Лесков любопытен уже тем, что хотя литературный труд являлся для него средством к жизни, но поглощал его всецело, напрягая все его нервы и создавая для него особый мир, органически связанный с его существованием. Ремесленника в нем не было, и не было дилетанта, заскакивавшего в литературу ради тщеславия или ради гонорара… Лесков был настоящий писатель, нервный, страстный, постоянно волнующийся условиями и обстановкой своего авторства, словно перегорающий в нем…
Несмотря на свое злоречие, Лесков в сущности вовсе не был зол…
Помню такой случай. Лесков сидел у меня в кабинете, как вдруг раздался звонок.
— Это Д.! [353], — воскликнул он, назвав одного ныне покойного литератора, тоже любившего пройтись насчет приятелей. — Он как войдет, так сейчас же начнет ругать меня.
И прежде, чем я опомнился, Лесков с необычайной быстротою залез под письменный стол и притаился там. К моему большому смущению, Д., которого я не мог предупредить, действительно тот час же заговорил о Лескове в довольно неблагоприятном тоне. Тогда Лесков с хохотом вылез из-под стола, безгранично довольный сыгранной им шуткой. Но Д. очень обиделся, и с тех пор отношения между ним и Лесковым так и остались испорченными.
Испорченных отношений у Лескова вообще было много, что и немудрено было при беспокойной желчности его натуры. Гораздо удивительнее, что в иных случаях, с иными людьми, он умел сохранить видимую приязнь, очень искусно зализывая, так сказать, наносимые его злоречием раны…
Лесков был непосредственный талант, сырой, неуклюжий, лишенный вкуса и чувства меры, но с большою силою вдохновения” [354].
Ценные по своей живости и убежденности, чисто писательские показания человека, помнившего Лескова почти на протяжении всей его жизни, никогда с ним не сближавшегося, едва ли сколько-нибудь к нему расположенного, тонко циничного и ко всем и многому неуязвимо безразличного.
В частности, сцена с залезанием под стол приобретает особую яркость, если учесть, что Лескову при этом не могло быть менее сорока лет.
В эти же годы, поддавшись своей “нетерпячести”, он накликал себе достаточно “скверный анекдот”.
Показалось ему, что получаемые им письма перлюстрируются и иной раз даже довольно бесцеремонно заклеиваются потом. Раздражение быстро ввергло его в состояние, которое сам он определял словами: “человека ведет и корчит”. Ни слова никому не говоря, он заказывает штамп, который ставит на своих письмах, на заклейной стороне конвертов, — задорный аншлаг: “Подлец не уважает чужих тайн”.
В один из ближайших же дней, утром, в передней загремели “унтерские” шпоры, и вбежавшая в кабинет Паша испуганно доложила:
— Какой-то жандарм вас спрашивает.
— Что за вздор!
Однако приходится выйти. Диалог краток:
— Благоволите, ваше благородие, принять пакет и расписаться в его получении.
— В чем дело? — непроизвольно произносит Лесков.
— Не могу знать. В бумаге обозначено, — поясняет хорошо вымуштрованный унтер-офицер. — Благоволите принять и расписаться, — на прежней ноте вразумительно повторяет он, протягивая разносную книгу с лежащим в ней пакетом.
— Извольте, — говорит, возвращая книжку со сделанною в ней росписью, Лесков.
— Счастливо оставаться, вашебродие!
Поворот кругом, мерный шаг с левой ноги, нарочито жандармский звон шпор, вздох захлопнутой за неожиданным посетителем двери на лестницу, тишина, но не на сердце. А в доме уже всеобщий всполох! Еще бы!
Что же “обозначено в бумаге”? Адресату предлагается в определенный день и час пожаловать для объяснений в Третье отделение собственной его императорского величества канцелярии с выставлявшимся им последние дни на своих письмах штампом.
Ничего устрашающего, конечно, нет, а все-таки… лучше бы и этого не было! Дома идут упреки, укоры, драма. Виновник происшествия успокаивает, но и у самого на душе несладко… Ночь и сон у всех неспокойные. И стоило ли все это затевать, чтобы потом получить такую противность!? Ну да уж теперь делать нечего — придется оттерпеться, но в сущности за что?
На другой день подчеркнуто сдержанный жандармский штаб-офицер объявляет Лескову, что, по просьбе санкт-петербургского почтамта, он обязывается сдать свой штамп и никогда более не разрешать себе никаких отступлений от общеустановленных и для всех обязательных почтовых правил.
— Внутри, — холодно и учительно говорит жандарм старшего ранга, — пишите и ругайте кого вам угодно, но на конвертах ничего, кроме адреса!
Выполнив основную задачу, он смягчается и уже тоном светского, благовоспитанного человека, щегольнув знакомством с литературой вообще и с произведениями приглашенного в частности, распространяется о том, что перлюстрация, как ни неприятна, но необходима и существует во всех благоустроенных государствах, а потому выпады против нее напрасны и недопустимы. Аудиенция завершается галантно-едким извинением за причиненное беспокойство, которое легко могло быть избегнуто при соблюдении почтовых правил.
— Ну и черт с ними и со всеми их правилами! — говорит Лесков, возвратясь домой к завтраку.
— Но и гусей дразнить — не велика забота, — говорит немало пережившая со вчерашнего посещения, повеселевшая сейчас моя мать.
Самому Лескову вспоминать о своей схватке с перлюстраторами и вызванными ею впечатлениями не манулось, но семейные о ней не забыли.
Других случаев непосредственного соприкосновения с “голубыми купидонами” у Лескова, по-видимому не было, хотя сам он, как мало кто, “отображал” их почтенную деятельность.
В “Смехе и горе” одно из первых мест предоставлено пошленькому и подленькому капитану Постельникову [355]. В “Соборянах” помянут “новый жандармчик, развязности бесконечной”, который “все для себя считает возможным” [356]. В “Товарищеских воспоминаниях о Якушкине” свидетельствуется, что он спас от жандармской любознательности девушку, бросившую букет на эшафот Чернышевского во время его гражданской казни на Мытной площади в Петербурге [357]. В очерке “Дворянский бунт в Добрынском приходе” местный, орловский “жандармский полковник” завязывает “бунт”, от которого ничего не останется, когда “прилежная рука историка” достигнет донесений, лежащих в Третьем отделении, и, “пыль времен с доносов отряхнув”, покажет солидность разума иных “охранителей нашего времени” [358]. В статье “Иродова работа” убедительно очеркнуты жандармские преимущества и правомочия [359]. Наконец в написанной в позднейшие годы “Административной грации” обнажается гнусная “грация” губернского жандармского штаб-офицера в деле нежелательного университетского профессора [360], а в “Загоне” гадливо высмеивается усердие “штаб-офицера в голубой форме” дознаться о молоденькой институтке, в экстазе призывавшей на проводах киевлянами уходившего в отставку Н. И. Пирогова быть “нашим президентом” [361] (русской республики. — А. Л.).
Все эти беллетристические “пэозажи” и политические опусы дышат нескрываемым и небезопасным презрением к доблести “лазурной рати” и всем ее подвигам. Частная, но немаловажная черта характера.
В случавшихся иногда спорах с каким-нибудь “трезвомысленным” мужем, вроде “поэта-чиновника” В. Л. Величко, о необходимости жандармов в настоящем состоянии страны Лесков, исчерпав все возможные доводы, восклицал: “А Алексей Константинович Толстой, по-вашему, хуже вас разбирался в этом вопросе, когда писал о своей “Федорушке”:
— На кого же, матушка, на кого, Федорушка,
Рать тебе татарская,
Силища жандармская?
— На себя, родименький, на себе, невпорушка,
Чтобы я приникнула,
Чтобы я нe пикнула,
Чтоб не выла жалобы,
Чтоб ура кричала бы!
[362]
Это, что ли, по-вашему, идеал государственного устройства? По-шевченковски: “мовчат, бо благоденствуют”. Ну и благоденствуйте в таком, как я нарисовал, “загоне”! Далеко уйдете”.
На этом “дискурс” заканчивался до новой схватки.
Ценны духовные самообнажения самого Лескова непосредственно в письмах:
“Одним словом, я дописываю роман [363] с досадою, с злостью и с раздражением, комкая все как попало, лишь бы исполнить программу. М[ожет] б[ыть], я излишне впечатлителен, но тем не менее я ни гроша бы не стоил с меньшею впечатлительностью” [364].
“Это была бы та “радость”, которая, по словам врачей, “одна может меня вылечить”. Чего бы и желать лучшего, но это трудно по очень многим причинам и, между проч[им], потому, что до этого надо дожить, а я болен прескверно и, м[ожет] б[ыть], — безнадежно. Такие нервные потрясения в годы склоняющиеся не проходят даром, и: со мной действительно надо обращаться как с больным ребенком, позволяя мне ломать и портить то, что я сам всего более люблю. Это состояние неописанное и невыразимое словами; лучший ум, замученный нервами, Гейне, называл это “зубная боль в сердце”. Лечение напрасно, — не берет ничего на свете… Мои мысли всегда заскакивают вперед, дальше того пункта, на котором многие успокаиваются и живут счастливо. Я, однако, люблю девиз Гейне “лучше быть несчастным человеком, чем самодовольной свиньей”, и таким я вышел из колыбели, таким же, вероятно, сойду и в могилу. Я знаю, что можно быть без сравнения самодовольнее и спокойнее, и делал к тому усилия, но не могу. “Человек может быть только тем, на что он способен”, я же не могу ни притворяться, ни носить маски, ни лицемерить, ни сдерживать порывов моих чувств, которые во мне никогда не теплятся, а всегда — дурные и хорошие — кипят и бьют через края души. Изменить себя я не могу иначе, как убив себя, и пока я не ничтожество — до тех пор я все буду мною самим. В этом, вероятно, есть что-нибудь не совсем дурное, п[отому] ч[то] люди меня ценят и любят с этой натурой, и я сам не считаю ее наихудшею, но, однако, уживаться с этакою натурою можно только тогда, если она нравится, — иначе же жизнь обращается в унизительную и вреднейшую муку. Братья мои думают, что у меня “тяжелый характер”, — твои же братья над этим смеются и думают иначе; а как ты думаешь — этого я совсем не знаю. Чтобы жить со мною, надо давать мне, как говорят, “женственное равновесие”, и только тогда я становлюсь благодарен за мой покой и предан душою без раздела” [365].
“Подозрительность” во мне, может быть, есть. Вишневский писал об этом целые трактаты и изъяснял, откуда она произошла. Он называет ее даже “зломнительством”, но ведь со мною так долго и так зло поступали… Что-нибудь, чай, засела в печенях” [366].
“Ехать некуда, п[отому] ч[то] всюду придется повезти с собою самого себя, а это для меня — самая противная ноша… Все люди, да люди — хоть бы черти встречались” [367].
“Я не хочу быть для них калекою, а мне молчание обходится дороже гнева, но и тот мне убийственен” [368].
“Я действительно бываю пылок и, м[ожет] б[ыть], излишне впечатлителен, но это и дурно и хорошо: я схватываю иногда в характере явлений то, чего более спокойные люди с “медлительным сердцем” не ощущают и даже отрицают” [369].
Думается — достаточно этих, горечью и болью полных, признаний. Но в них упоминались “трактаты” о “зломнительности”, писанные таким интересным человеком, как остроумный поэт и вразумительно ясный переводчик Шопенгауэра Ф. В. Вишневский. Извлеченные из двух его писем к Лескову, они не займут много места, но ознакомят с своеобразным опытом толкования духовного облика Лескова, к которому Федор Владимирович был ряд лет близок, и притом всегда в позиции равноправного и равносильного, чуждого искательства собеседника.
“Делижан, 52. 1887.
Прошу вас пояснить мою зломнительность примером моего поведения или отношения к людям.
Лесков.
Я взял эпиграфом вашу фразу, которая как раз может служить примером вашей зломнительности, — конечно, не в вашем поведении, об котором я не думал говорить.
Разбирая разлад между моим взглядом на вас и взглядом многих других (конечно, только не гея [370]), я пришел к тому выводу, который и изложил в своем письме. Я не имею привычки перечитывать свои письма, а потому, может быть, в него и вкралась какая-нибудь недомолвка. Придуманное во время изложения я мог считать уже за изложенное, — все это легко возможно.
Но тем не менее объем, в котором вы восприяли мною сказанное, именно подтверждает мое мнение. Судите сами.
Вы восприяли больше и злее, чем у меня сказано. Я мог бы сказать просто, что вы мнительны, но я хотел контрастировать это слово с эпитетом по отношению к тому источнику, который в вас вызывает мнительность. Хотел сказать, что в своем суждении вы не довольствуетесь видимым добрым побуждением в людях и готовы мнить за видимым добром злой умысел. Поэтому я и сказал, что вы зломнительны.
Вы же, по своей мнительности, поняли не так. Вам показалось, будто я говорю, что вы мните зло на кого-нибудь, а не в ком — что сказано мною. Для такого простого качества не требовалось вовсе сочинять нового слова. Злопамятность, Злоумышленность, Злокозненность — это такие же ясные и старые слова, как ясны и стары обозначаемые ими качества. Я бы не задумался употребить их, если бы они соответствовали моей мысли, и не стал бы для смягчения придумывать двузначащего слова.
Напротив, зломнительность качество не часто встречающееся и есть принадлежность преимущественно людей добрых, обжегшихся на молоке и дующих на холодную воду. Она есть продукт раздвоения, рефлекса, образовавшийся из столкновения прирожденной доброты сердца с благоприобретенною недоверчивостью и презрительностью ума.
Сделав с места доброе дело и обсуждая его потом на досуге, они замечают, что многие из этих мыслей совершенно не гармонируют с движением сердца, побудившего их к доброму делу, — и тут начало раздвоения. Они не принимают в расчет, что каждому человеку могут прийти в голову всякие мысли; но реализовать он может далеко не все, а только те, которые совпадают с его прирожденным характером. Им нет до этого дела. Они видят и чувствуют только, что их искренне доброе дело аккомпанируется недобрыми мыслями, и переносят этот процесс мыслей на всякий добрый поступок другого, мня за ним скрытое зло.
Потому-то первый и единственный признак каждого доброго дела тот, если оно сделано смаху, по первому движению сердца, пока голова не успела еще привнести элементов всяческого расчета и умысла…” [371]
Следующее письмо, от 21 февраля 1887 года, начиналось так:
“Многоуважаемый Николай Семенович, надеюсь, что последнее мое письмо разъяснило вам истинный смысл “зломнительного двоесуда”, несмотря, может быть, на сбивчивость и растрепанность изложения, происходящего оттого, что приходится писать под шум и возню двух детишек. Вы убедитесь теперь, что этот эпитет только звучит странно (вроде жупела), а отнюдь не предполагает в человеке злодейства или неистовости. Выражаемое (енное!) им качество, в известной степени, свойственно всем людям; только в вас оно доведено до размеров, отуманивающих ваше суждение и вредящих вашим отношениям к людям. Вы говорите, что часто видите насквозь человека. Но вы забываете, что ум подобен глазу, который видит все, кроме самого себя. А какой-либо слишком субъективный прием в суждении (напр[имер], зломнительность) все равно, что цветные очки для глаза. Все предметы принимают в восприятии умом и глазом известный посторонний оттенок. Для правильного заключения необходимо иметь поправку к восприятию. Я и предложил вам таковую. Не моя вина, если вы станете от нее открещиваться. Но — довольно об этом” [372].
Не сохранившиеся, увы, должно быть, письма Лескова, видимо, начинали убеждать благожелательного автора трактатов в тщете найти им живой отклик и разделение.
Перехожу к другому интересному и ценному суждению о Лескове.
“Умный темпераментный старик с колючими черными глазами [373], с душою сложною и причудливою… Полный бунтующих страстей. Беспокойного, придирчивого и сильного разума. Он никогда не знал душевного или умственного успокоения. Он громил старое, отживающее и высмеивал новое, не дожидаясь, чтобы оно принесло свои плоды, не снисходя к недостаткам, свойственным периоду брожения” [374].
Таким поняла Лескова в последние годы его жизни образованная, наблюдательная, вдумчивая и осмотрительная в отзывах о людях, дружественно настроенная по отношению к нему Л. Я. Гуревич, издававшая “Северный вестник”, в котором охотно работал “мятежный человек”.
Из массы разноречивых характеристик Лескова, от приторно умиленных до злостно хулительных, это, в каждом своем слове взвешенная и прочувствованная, очень многих вернее и тоньше. Спорной в ней, пожалуй, представляется способность смиряться. В годы “маститости” Лесков говорил, что когда-то “злобился”, а потом “смирился, но неискусно”. Ценное признание. С натурой не совладаешь: неискусно выйдет. Мешала память, не позволявшая зарубцовываться ни одной ране. Жила потребность расчесать любую царапину непременно до крови…
Отвечая А. К. Чертковой, пытавшейся примирить его с ее мужем, В. Г. Чертковым, Лесков раскрывает карты: “Можно повелевать своему разуму и даже своему сердцу, но повелевать своей памяти — невозможно!” [375]
Дома безудержные вспышки и бури разражались внезапно, по самым ничтожным поводам, а то и вовсе без них. Царила гнетущая подавленность, напряженная настороженность. Ни музыки, ни песни, ни даже громкого, вольного голоса… На чей-то вопрос — любит ли он музыку — Лесков медленно ответил: “Нет… не люблю: под музыку много думается… а думы у меня все тяжелые…”
И все, прислушиваясь к покашливаньям, доносившимся из писательского кабинета, к тяжелым его шагам, молчало… Казалось, в самом воздухе что-то висит и давит…
В начале писательства Лесков уверенно свидетельствовал, что русский человек многое принимает “горячо, с аффектацией, с пересолом” [376].
Сам он был “насквозь русский”.
Как неотступное правило — любая искра раздувалась в пламя, “пошептом” пущенная сплетня, не проверенный и не подтвержденный еще фактически слух подхватывались как требующие непременного и неотложного гласного разбора, обсуждения или протеста:
“опубликовать во всеобщее сведение результаты следствия”, “убить гнусную клевету”, “бываю излишне впечатлителен”, “несчастно щекотлив” — вот чем горели дух и сердце, вот что “мутило душу”.
Жестоко попав однажды впросак с одним “маленьким фельетоном”, он на раздраженный упрек поместившего этот фельетон в своей газете Суворина, жестко бросает ему в ответ: “Я причинен, — а виноваты вы” [377].
Блестящий диалектический субъективизм безотказно служил искреннему самоубеждению в бесспорности чужой вины. Беспристрастность оценки — кто, чему и в какой мере “причинен” — была невозможна. Отсюда немалые и, что всего обиднее, не неотвратимые “терзательства” свои и не свои.
Он любил и учил всматриваться в характерные черты и поступки окружающих. Он говорил, что, подмечая недостатки и ошибки других, можно выносить очень полезные уроки себе, можно проследить — не совершаешь ли чужих грехов сам. Хорошее правило.
Таким, в общем, представляется Лесков близящийся к старости, по легковерию многих, приносящей усовершение нрава и умягчение сердца.
Каким же он был в первые годы своего писательства, когда сам себе представлялся “аггелом”, когда все чувства “били” в нем “через края души”, с головою захлестывая и его самого и всех оказывавшихся на его пути, в свою очередь отплачивавших ему — в духе того бурного времени — “мерою полною и утрясенною”!
ГЛАВА 2. “ПРЕЛОМИ И ДАЖДЬ”
Облик Лескова был бы односторонен без освещения некоторых других характерных свойств его натуры, сердца, духа, обычая.
На людях, в обществе, он совершенно перерождался, веселел, горел злободневными новостями и интересами, вовлекая в них, заражал своею взволнованностью окружающих, будил и зажигал самые “медлительные сердца”.
Хозяевам домов, в которых он появлялся, не было нужды или заботы “занимать” своих гостей, не приходилось опасаться, что у них кто-нибудь заскучает.
Быстро завоевывая общее внимание кипучестью своего темперамента, самобытностью взглядов, суждений, блеском речи, неистощимостью тем, яркостью набрасываемых картин и образов, Лесков царил и властвовал. Даже за сравнительно многолюдными “столами” общий говор постепенно стихал, работа ножей и вилок приглушалась, всем хотелось не проронить ни одного слова невольно вдохновлявшегося в атмосфере общего восхищения “волшебника слова”.
В общем, это был интереснейший человек в “обществе” и “свете”, ни на минуту не забывавший при этом, что он прежде и больше всего писатель, а писатель должен всегда во всех читающих или слушающих его очищать представления, по-пушкински — пробуждать чувства добрые.
Жило в Лескове еще одно очень ценное, незаслуженно мало отмеченное и едва ли не призабытое свойство — неиссякаемая и неустанная потребность живого, действенного доброхотства.
Здесь он отрешался от своей широко известной суровости, как бы преображался, а случалось иногда — и “возносился”.
Где-то в глубине его непостижимо сложной души таилась живая участливость к чужому горю, нужде, затруднениям, особенно острая, если они постигали работников всего более дорогой и близкой его сердцу литературы, членов их семей или их сирот.
В этой области все делалось без чьих-либо просьб или обращений, по собственному почину, чутью, угадыванию, движению, органическому влечению, нераздельному с большим жизненным опытом, навыками, чисто художественным представлением себе положения человека, впавшего в тяжелое испытание, беду.
Немного знает литературная летопись его времени таких заботников о неотложной помощи нуждающемуся товарищу, каким неизменно всегда бывал Лесков. При этом он шел на выручку и подмогу сплошь и рядом к заведомому былому недругу, а то и прямому, хорошо навредившему ему когда-то врагу.
Но — раз бедовал литератор — колебания не допускались, личные счеты отпадали. Тут в пример брался Голован, который “ломал хлеб от своей краюхи без разбору каждому, кто просил” [378].
Собрать деньги; поместить больного в лечебницу [379]; помирить с редакцией [380] “выправить” или “проправить”, не хуже своей собственной, чужую “работку” и “пристроить” ее в печать; добыть потерявшему место “работишку”; выпросить принятие юноши, исключенного из одной гимназии с “волчьим паспортом”, в другую [381]; выхлопотать в мертвенном Литературном фонде пособие; поместить в богадельню беспомощную литераторскую нищую вдову [382]; уговорить на складчину для взноса за “право учения” исключаемой из последнего класса гимназистки, — на все такие и схожие хлопоты он всегда первый, неустанный старатель. Охотно участвуя почти во всех подписках, он дарит в сборники полноценные свои работы, твердо отказываясь, однако, давать “на камень, когда есть нуждающиеся в хлебе живые”.
Вот, так сказать, его credo [383]. Исповедовал и воплощал его Лесков на протяжении всей своей жизни неотступно.
Всему этому сохранилось достаточно подтверждений в письмах, заметках, статьях и воспоминаниях.
Кому только не выправлял он и в языке, и в строении, и даже в синтаксисе работ? Тут и Артур Бенни с его неудобонаписанной статьей о мормонах [384], и С. Н. Терпигорев, которому он “изметил соответственно не в обиду” своими “нотатками” его рассказ [385], и нетвердый в письме, особенно в борьбе с причастиями и деепричастиями, “МИП”, то есть М. И. Пыляев с его пестро наборными сооружениями — “Старый Петербург” и “Старая Москва” [386], и вдова писателя А. И. Пальма (Альминского) Е. А. Елшина, первый (он же, может быть, и последний) повествовательный опыт, которой Лесков терпеливо преобразил, переозаглавил и под красивым псевдонимом “Антонина Белозор” тиснул в газете [387]. Да все и не перечесть! Всем, всегда литературная услуга оказывалась охоче, деловито, им лестно и прибыточно, себе работно и хлопотно.
Вообще помогать людям надо скоро и споро, — так подсказывала и требовала исполненная “нетерпячести” натура.
“Мистику-то прочь бы, а “преломи и даждь”, — вот в чем и дело”, — писал он как-то, уже на шестьдесят первом году жития своего, не без распространительного двусмыслия Толстому [388].
И сам он “преломлял” — не расточительно, но готовно — “на первое время, пока человек обернется, пока у него что-нибудь “образуется” [389].
Он много раз сурово осуждал Литературный фонд за его бюрократизм, безучастность, неторопливость в помощи, собирался подчас выйти из состава его членов. Не раз случалось, что он опережал этот литературно-сановный орган, лично “снимая шапку перед миром” и прося в печати “добрых людей” помочь такому-то или такой-то. Таким путем ему удалось, например, собрать на воспитание дочери умершего Пальма около четырех тысяч рублей, когда фонд еще и не пошевелился [390].
Обращение к многоимущим не всегда проходило Лескову даром. Миллионеры-золотопромышленники Сибиряковы жестко попросили однажды его никого больше с записочками к ним не присылать. Разжившийся, хорошо когда-то знавший нужду, товарищ первых литературных шагов Лескова А. С. Суворин как-то даже грубо выругался. Лесков достойно ответил ему: “То, что я вам писал о нищете Соловьева-Несмелова, лежавшего в окровавленных лохмотьях, не было “шантаж”. Если бы вы тогда захотели узнать, что это было, — вы бы не сделали одного очень прискорбного дела, о котором надо жалеть. Меня же вы не обидели. Такой укоризной меня обидеть нельзя” [391].
Альтруистические темы затрагивались в кабинетных беседах Лескова не реже, чем смертные или даже чисто литературные. Слово за слово они от более крупного переходили и к самому мелкому виду участливости — к уличной милостыне.
Лично у меня отчетливо сохранилось в памяти приводившееся всегда при споре о том, подавать или не подавать просящим на улице, личное его, связанное с большим литературным именем, воспоминание. На сухое доктринерство, что всякое подаяние развращает, Лесков, дав волю порезонерствовать строгим моралистам и оставляя в стороне оценку их доводов, как бы обращался мысленно к прошлому. Воскресив что-то в его глубинах, он задумывался, а немного спустя спрашивал: “Значит — не давать? Может быть!.. Пройти?.. Пожалуй… Только я всегда вспоминаю покойного Тараса Григорьевича Шевченко. Рассказал он нам как-то, вот при таком же споре, как шел он раз поздним часом, в дождь и непогоду, к себе на Васильевский остров по Николаевскому мосту. Протянул ему какой-то горемыка руку, а Шевченко, поленясь расстегиваться да лезть в далекий карман, прошел… Идет и идет, хотя и не по себе стало, на душе скребет что-то. Однако все идет. И вдруг слышит позади крики, беготню: оглянулся — видит, к перилам люди бегут и в пустое место руками тычут, а того-то, что две-три минуты назад просил, на мосту-то — и нет! С тех пор, говорил он, всегда даю: не знаешь — может, он на тебе продел человеческой черствости загадал… Ну, — примиряюще, мягко оглянув собеседников, заканчивал свое выступление Лесков, — памятуя Тараса, и я — не прохожу…”
Зорко следя не только за всеми “веяниями”, отражавшимися на литературе, но и за всеми бытовыми явлениями в ней, Лесков зло вышучивал в беседах и письмах, во что выродились юбилеи — в большинстве случаев материально необеспеченных писателей, ничем здоровым и трезвомысленным не отличаясь от юбилеев чиновничьих и купеческих. Как только в прессе мельком затронули юбилейный вопрос, Лесков решает горячо откликнуться на него. В архиве покойного писателя нашлась следующая, почему-то не попавшая в свое время в печать, статейка:
О юбилейном посилье
“Позвольте мне высказать одну мысль по поводу неудовольствия, вызываемого изобилием юбилеев. Я разделяю мнение тех, кто находит, что юбилеев у нас очень много и что от них только беспокойство, суета, расходы, расстройство желудка, празднословие и беспорядок в головах, а прибыль только трактирщикам и виноторговцам. Это все правда, и так продолжать дело, кажется бы, не следовало, но нужно ли хлопотать о том, чтобы совсем вывести обычай поздравить человека, много лет потрудившегося и ненадокучившего собою близким людям? Многие понимают замечания о юбилеях в этом именно смысле, а я думаю, что так не надо понимать.
Выразить доброжелательство и приязнь тому, кто честно прожил трудовую жизнь, очень благородно, тем более что для некоторых (например, литераторов) только и есть один день, когда человек слышит себе ободряющее, ласковое слово. Ради этого можно снести и преувеличение заслуги, которое при этом бывает, и не потяготиться хвалами, которые во всяком случае не залечат всех прежде нанесенных ран и уязвлений. Вывести из практики и этот проблеск желания приласкать стареющего товарища было бы несомненно жестокостью: лучше пусть хоть один день в своей жизни человек увидит ласковые лица и услышит добрые слова, чем бы он их никогда не увидал и не услыхал. Но надо ли справлять юбилеи непременно только так, чтобы пить за обедом здравницы и подносить альбомы или бювары, на которые делают такие затраты, которых эти бесполезные вещи не стоят? Я думаю, что это рутина и что продолжать их нет надобности, особенно тем людям, юбиляры которых не пресыщены другими благами жизни. Я думаю, что когда наш юбиляр дострадается до своего старческого дня, нам следует не пропускать этот день без внимания, но надо сделать в этот день то, что юбиляру нужно и полезно.
А что юбиляру всего нужнее, это предусмотрено самыми первыми учредителями юбилеев — ветхозаветными евреями: в юбилейный год земля отдыхала, а раба отпускали на волю. Вот смысл юбилеев, ясно показывающий, что нам делать для своих намученных юбиляров: надо бы отпускать их на волю или по крайней мере хоть давать отдыхать (что, другими словами, значит давать им средства к отдыху). Вот, кажется, что должно бы озабочивать и товарищей и почитателей талантливого человека, проведшего свою жизнь за такою работой, которая хотя и шла у всех перед глазами, но ничего не принесла труженику, кроме насущного хлеба, который съеден тогда же, когда выработан, и ко дню престарения или юбилея у него чаще всего нет ничего…
Мне кажется, мы делаем большие ошибки, что подражаем офицерам, чиновникам и певцам и другим людям видного положения, когда стараемся сравниться с ними в способах чествования живых и усопших людей нашей литературной среды. Мы не можем сравнить себя с ними, к которым приходит большая помощь со сторон, к нам совершенно равнодушных. Это усилие равняться нам тяжело и не нужно. Ни для кого не секрет, что литературные запятая не приносят больших выгод и что писатели должны жить без излишеств, часто даже бывают знакомы с большими недостатками. Скрывать этого и нет нужды: писательская бедность по большей части есть настоящая честная бедность, которой нечего ни перед кем стыдиться. И я хотел бы убедить в этом своих товарищей по литературе для того, чтобы у нас изменилось отношение к празднованию юбилеев наших собратий и чтобы мы отошли в сторону от общей рутины праздновать юбилейные дни едой да здравницами в трактирах, а начали бы заботиться о том, чтобы придти к стареющему другу с тихим приветом, да и с посильем на отдых…
Я не дерзаю указывать способы, как и что надо бы делать, но я указываю направление, в котором полезно переделать юбилейные заботы, а не отменять их, чтобы ничего не было.
Торжествовать на юбилеях наших людей трудно; тем, кто привык вдумываться, на этих торжествах всегда бывает тяжело… Тут бы, кажется, не торжествовать, а разве каяться да просить друг у друга прощенья с зароком не делать того вреда, который многие друг другу сделали. Это было бы гораздо теплее и искреннее, но этому, конечно, теперь еще не бывать… Другое дело заменить чахлое, искусственное “торжество” полезным и живым посильем: это нам стоит только захотеть, и мы можем в значительной мере приспособить юбилейный день к облегчению хоть нескольких впереди стоящих дней его жизни” [392].
Правилу не проходить безучастно мимо чужой нужды он не изменял на всем своем жизненном пути до самых последних лет.
Доходит до него неожиданно весть о горестном положении бывшего гимназического его учителя и старшего сослуживца по Орловской уголовной палате И. М. Сребницкого. Сразу же разворачивается и “акция”.
2 мая 1891 года впавшему в нужду и больному старику посылается страховое письмо:
“Уважаемый Илларион Матвеевич!
Вчера я получил известие о том, что вы тяжело больны и терпите недостатки в средствах. Написал мне об этом человек мне незнакомый, г. Цорн. Мне кажется, что надо, чтобы кто-нибудь из близких к вам людей сделал складчину от людей, готовых помогать вам, и я просил бы его и меня считать в числе одного из таковых. Так это у людей делается, и всем выходит удобно. Постоянная помощь вас бы успокоила. Пока же — позвольте мне послать вам на насущные надобности двадцать рублей. Искренно вас любящий и уважающий Н. Лесков” [393].
Вслед за неизвестным Лескову Цорном пишет ему и призабытый орловский товарищ, заметный губернский чиновник, В. Л. Иванов. В ответе ему, на другой же день, 28 июня 1891 года, Лесков декларативно останавливается на вопросе о Сребницком:
“Об Ил[ларионе] Мат[вееви]че вы пишете верно. У нас не умеют помогать друг другу. Я это знаю, но я насмотрелся, как это делают другие, и все хотел бы это применять!.. Есть простое понятие: когда человек болен, значит, он не может работать, и потому, следовательно, он нуждается. И вот приходящий посетитель его кладет “сколько может”. Наши мужики и теперь это часто делают: они несут кваску, редечки, каши, или баба приходит “потрудиться”. Компанией оч[ень] легко помочь одному, а порознь оч[ень] трудно. О благотворительных обществах я не говорю: это — вздор, и притом, несомненно, очень вредный. Но я верю, что и складчину у нас сделать очень трудно, и, однако, радуюсь, видя из вашего письма, что она у нас все-таки сделалась: вы, да я, да Цорн, да Ветлиц — вот и складчина; все-таки думается, что старик наш будет иметь угол и чай. Я буду присылать вам на надобности Ил[лариона] М[атвееви]ча по 5 р[ублей] в месяц и первый взнос мой пошлю завтра же, когда поедут от меня в Мереккюль, где есть почтовый прием. Я буду посылать за 2 м[есяца] вперед и надеюсь, что это будет идти аккуратно. Более же я ничего сделать не могу, именно по тому самому, что и вы приводите в расчет… На каждом немало разных обязательств. Эту свою должность мы и должны повести, как теперь сами между собой постановили…” [394]
Так, с легкой руки Лескова, эта складчина и выполняла свою “должность” до кончины Сребницкого 6 сентября 1892 года, около полутора лет смягчая тяготы престарелого бедняка.
Призыв старого и обреченного больного Лескова неизменен: прийти к малоимущему с полезным и живым посильем, и в юбилейные, как и во все прочие дни и случаи, — преломи и даждъ!
Надеюсь, что в литературных кругах того времени доброхотство его было достаточно известно, Лесков пишет Суворину: “Меня считают, кажется, не за самого дурного и не за самого злого человека, но зло во мне есть… Это-то и есть, что вы обозначаете словами “подмывает”. Я это чувствую, и приписываю скверным навыкам и примерам, и остерегаюсь, но еще мало успеваю” [395].
“Успевать” в борьбе с натурой, несомненно, нелегко. Во врожденную, органическую доброту Лескова, как и в искренность покаянных его признаний вообще не верили, и Суворин меньше многих. Неизменно продолжавшие и дальше появляться в печати полные яда и неослабного “злобления” выпады Лескова в отношении многих из недавних полудрузей его подтверждали это их недоверие.
И тут же вспоминается, как лет на двадцать раньше Н. Долгорукова горячо благодарила его за письмо, которое ее “воскресило”, а в другой раз без колебаний писала: “Обращаюсь к вам потому, что у вас легче просить вашего, чем у других своего” [396].
Как разобраться во всем этом?
Одно из движений своего сердца или своей впечатлительности Лесков раскрыл в рассказе с подкупающим заглавием: “Скрытая теплота” [397].
Выявлялась иногда теплота и в его авторе, но, может быть, обидно редко и недолго гревшая, торопясь опять стать скрытой, побежденная нагромождениями несчастных настроений. Другие же свойства “били через края души”, тяжко сказываясь на всей судьбе Лескова и щедро умножали писательские его “злострадания”.
ГЛАВА 3. ВТОРАЯ СЕМЬЯ
Бывает, что внешне малозначительный случай негаданно осветит и изъяснит сокровенный смысл значительнейших событий в жизни человека, труднопостижимых решений и движений его души и сердца.
Летние каникулы 1880 года я, тринадцатилетний “военный гимназист”, проводил среди достаточно многочисленного своего родства на Украине.
Ближе к осени туда же ожидался и мой отец. Он уже пятый год не видался со своей стареющей матерью, с братьями, сестрами и, еще немалочисленными: тогда, дружественно расположенными к нему киевлянами.
К этому времени уже и вторая семья Лескова давно распалась, и жили мы с отцом третий год на холостую ногу.
23 июля (4 августа) все, кто случился о ту пору из Лесковых в Киеве, торжественно и радушно встречали на вокзале “старшего в роде”. Всех больше, конечно, была растрогана Марья Петровна, главным образом настаивавшая на непременном свидании с первенцем.
День-два спустя, когда первое возбуждение поулеглось, после обеда отец собрался навестить мою мать, прикованную в это время к городу хлопотами по выполнению больших строительных работ на своем земельном участке.
Алексей Семенович приказал заложить нам свою покойную докторскую пролетку, и мы вдвоем отправились с высокого Старого города по хорошо памятным отцу улицам вниз, к Днепру, на Подол.
Выходя из экипажа у крыльца солидного деревянного особняка на каменном фундаменте, расположенного на широкой и тихой Андреевской улице, упиравшейся в набережную, мы увидали в открытом окне довольно статную еще хозяйку.
Встретив нас в просторной передней, она широким, слегка церемонным жестом указала на настежь раскрытую дверь в большую гостиную, а когда мы вошли, отступила на два-три шага и, глядя отцу прямо в глаза, с едва уловимой улыбкой, тихо продекламировала:
Здесь — “в первый раз,
Онегин, видела я вас”.
Это запомнилось. Вот оно — место первой, как у большинства сильных натур, сразу решающей встречи!
Когда же она произошла? В одно из самых трудных для Лескова времен — в 1864 году, в полосу писания, а затем в разгар неисчислимых “злостраданий”, порождавшихся печатанием “отомщевательного”, кругом злосчастного для автора, романа “Некуда”.
Отцу моему было немного за тридцать. Матери — двадцать пять. Не годы, а апогей жизненных сил, стремлений, взволнованности, возможностей!..
Были ли сходны и соответственные натуры, вкусы, характеры? Но кого это занимает и кем угадывается в пору влюбленности! Всем всегда кажется — да, всецело!
Одно, однако, сразу же улавливалось: сдержанность и самообладание удавались легче моей матери, чем моему отцу.
Среди многого другого в семье жила память о небольшой бытовой картинке из начальной эры знакомства.
Лето 1864 года. Моя мать, с детьми и сестрою Верою Степановной, живет на даче под Киевом, в Китаеве.
Жаркий июльский день. Около полудня, сидя верхом на линейке, запряженной взмыленной лошадью, лихо въезжает во двор и круто осаживает копя у крыльца Лесков. Он в фуражке, пиджачной “паре”, высоких охотничьих сапогах. За спиной у него болтается на широком ремне двустволка.
Привязав к чему-то лошадь, он приветливо улыбается игравшим здесь, но сейчас застывшим в любопытстве детям. На веранде появляются обе молодые и красивые хозяйки. Гость заметно волнуется, то и дело одергивает свое ружье, на широком жесте начинает какой-то веселый рассказ из последних столичных событий и городских киевских сплетен. Женщины смеются. С ним вообще не соскучишься! Не отходят и жадно слушающие дети.
Время незаметно бежит. Пора, пожалуй, и уезжать. Хозяйки просят остаться до хлеба-соли. Лесков благодарит, выпрягает лошадь, со знанием дела водит ее по двору, поит, задает корм и освобожденно снова присоединяется к обществу.
Обед проходит весело. Еще бы! Мастер заговорить кого хочешь! Но вот, вслед за десертом, он вдруг схватывает забытую было в углу двустволку, к ужасу непривычных к оружию дам, прилаживает к воротам сарая вынутую из кармана четвертушку бумаги и, невзирая на мольбы хозяек, зорко окинув глазом весь двор, начинает всаживать один за другим заряды в свою импровизированную мишень. Мальчики в восторге. Мать их и тетка упрашивают прекратить опасный эксперимент, но увлеченный стрелок не в силах остановиться. Наконец, усталый, красный и в испарине, он изнеможенно опускает ружье, одним взмахом вскидывает его опять за спину и гордо подходит к потрясенным зрителям.
Наступает приятная тишина. Хочется отдохнуть от пальбы. Но тут же неугомонный стрелок выдвигает неожиданно новое предложение:
— Катерина Степановна, Вера Степановна! Едем в лес! На моем аргамаке! Едем! Подышим смолой, какой смолой! Янтарь! Что может быть полезнее вдыхания сосновой смолы! — при этом он шумно вдыхает воздух, широко раздувая ноздри, прерывисто закрываемые им ладонями рук. — А уж какая там земляника, — тщетно умножает он соблазны, не зная, что бы придумать еще позаманчивее.
Так доводилось слышать это в бесхитростном рассказе моей матери, человека, органически чуждого дара импровизации в передаче каких бы то ни было происшествий и событий. А уж о том, что каждая мелочь этих дней помнилась хорошо, говорить нет нужды.
Случай невелик, но не беден живописью и притом относится к летам, из которых сбережено о Лескове всего меньше.
Лесков успел уже хорошо натерпеться житейных и литературных невзгод.
В самые эти только что затронутые дни у него в журнале идет острый роман, уже начинающий предвещать новую полемическую бурю, новые “терзательства”. И несмотря на все это, он не в силах, хотя бы ненадолго, урваться из столицы в далекий Киев, где живет овладевшая его воображением женщина, в союзе с которой ему видится верное счастье на всю вторую половину оставшейся жизни. С ней ничто не страшно, все преодолимо, на все хватит сил!
Недаром, вспоминая эти времена много лет спустя, уже вторично одиноким, он признавался в письме к Ф. Г. Лебединцеву: “был молодой, влюбленный…”
Чувство зажглось обоюдно большое, глубокое.
Верилось, что оно уврачует тяжелые неудачи, испытанные в личной жизни обоими и дорого обошедшиеся каждому из них. Каждый успел уже, по любимому Лесковым присловью, “разбиться на одно колено”. Горячо хотелось не разбиться на второе. Опыт был. Был и разум. Выбор взаимно казался безошибочным, чувство проверенным, счастье обеспеченным.
В частности, если в первом союзе, заключенном Лесковым в слишком ранние годы, почти вслепую, ничто не обещало прочности, то во втором опыте найти семейное счастье все предпосылки представлялись исключительно благоприятными.
Но… одно дело, хотя бы и кажущиеся всесторонне взвешенными, предположения, другое — жизнь.
Мать моя, Катерина Степановна Савицкая, родилась в Киеве 24 ноября 1838 года. Родители ее были весьма достаточные потомственные старожилы патриархальной части этого поэтического города — Печерска, изобиловавшей, как известно, воспетыми впоследствии Лесковым “печерскими антиками”. Она получила прекрасное по тогдашним требованиям воспитание: и музыка, и французский язык, и — что всего, пожалуй, удивительнее — исключительное знакомство с родной литературой, с годами воспитавшее в ней горячую любовь к этой литературе, живую заинтересованность ею. Уже на моей памяти она поражала нас, ее детей, безупречным чтением наизусть длиннейших од не только Державина, но и Ломоносова, а то и Тредьяковского или Хераскова. Особенно любила она, не без некоторой восторженности, декламировать нам оды. “На смерть Мещерского” и всего больше — “Бог”. О знании Пушкина и Лермонтова, Фета, Тютчева и позднейших поэтов и говорить нечего.
По строго соблюдавшемуся обычаю, ее рано выдали, судя по свидетельству современников, за неплохого, но заурядного и слабовольного, довольно богатого и подходящего по годам владельца значительного имущества на Подоле М. Бубнова. Родителям казалось, что он представлял собою хорошую “партию”. Но жена была много выше мужа, и супружество не ладилось. Она год от года росла и становилась взыскательнее в вопросах мысли и знания; он стоял на месте, а вернее и опускался.
Первое время шли погодки — три сына и дочь. Муж с друзьями и прихлебателями бражничал, проигрывал в карты и постепенно расточал… Был поднят вопрос об опеке. На шестом году супруги окончательно разошлись.
“Разбилась на одно колено”. Пришлось перейти на вдовье положение, чтобы оберечь детей от разорения. Нужен был характер, воля, чтобы все это пройти и двадцатипятилетнею женщиной взять на свои плечи опеку и все мужские обязанности по ведению больших денежных дел, по воспитанию четверых детей, и все это без помощника, не говоря уже — без заступника и заботника.
В 1864 году мать моя была в полном расцвете красоты. На счету недюженных красавиц считалась она даже в таком богатом ими городе, каким славился Киев. Рослая, стройная брюнетка, с густовасильковыми глазами, умевшими по-украински улыбаться без участия губ, тонкие, так сказать “классические”, черты, деловитая, в беседе самобытная, начитанная, скромная в личных требованиях и совершенно чуждая тому, чему много лет спустя присвоили чужеземное понятие — “флирт”.
Это была натура цельная, стойкая. Это был верный спутник на весь век.
Возможно, что в характере были не одни достоинства. Думается однако, что снисхождение к второстепенным, в каждом живом человеке неизбежным недостаткам, с лихвой искупавшимся первостатейными достоинствами, благоприятствовало бы созданию modus vivendi [398], бережи чувства и отношений. Увы, в буднях повседневности мелкое заслоняет и часто даже побеждает значительное. И притом — насколько всего чаще переоцениваются чужие недочеты, настолько же недооцениваются свои.
Итак, в 1865 году создается новая, вторая, сразу же большая — самшост — семья Лескова, а через год, 12 июля 1866 года, появляется на свет и новый, седьмой ее член — Андрей, в детстве — Дрон или Дронушка, а в старости — летописец дней Лескова.
“Всякий имя себе в сладостный дар получает”, — многократно ставил эпиграфом к своим произведениям и статьям классический стих Лесков, относя его к “Идиллии” Феокрита [399].
Он придавал очень серьезное значение заглавию произведения, статьи и даже заметки, ставя условием соответствие его содержанию опуса и заботясь о том, чтобы оно было выразительно и заманчиво, Он даже немножко гордился своим мастерством “крестить” — не только свои, но и чужие работы.
Помню, я был уже офицером, приехал к отцу; при мне и М. И. Пыляеве С. Н. Терпигорев (Атава) стал читать одноактную веселую шутку, в которой действуют молодожены и мать супруги, которую дочь все время называет “maman”.
Всем пустячек понравился. “Вот только с заглавием у меня не выходит как-то, — сказал автор. — Примерял и “Молодожены”, и “Управительница”, и “Раиса Кильдякова”, и “Раиса Павловна”, да все не по душе…”
Лесков слушал, и я видел, что заглавие у него уже есть.
— Что же ты ищешь! — потомив слегка приятеля, бросил он. — Заглавие у тебя так и мелькает в самой пьеске, так и просится!
— Где же это оно у меня так просится-то?
Подержав Атаву немного под пристальным своим взглядом, он воскликнул:
— Да “maman”!.. Самое институтское слово! Камертон для всей твоей остроумной и милой вещицы! По верному авторскому чувству и пониманию, ты пронизал этим словом текст, дал ему этим прекрасное, колоритное звучание. Им все держится и характеризуется. В нем у тебя весь фокус, “все качества”!
Терпигорев умилился…
— А ведь верно! Ишь ты! И как это мне в голову-то не пришло? Чего лучше! Ну и “креститель”!.. — радостно благодарил он, охваченный удовлетворением и признанием дара товарища по ремеслу.
Так с этим заглавием “вещица” и пошла жить [400].
Крестительские таланты Лескова были хорошо известны. Он ими не таился и не скупился. Напротив.
Устраивая давнему киевскому своему другу одну “работку” в “Исторический вестник”, он пишет ее автору: “Заглавие тоже хорошо, но я бы его несколько изменил, чтобы казалось еще независимее. Почему бы не озаглавить так, например: Византийский отблеск в русском боярстве — опыт бокового освещения к русским фигурам “Боярской думы” [401]? Ко мне частенько “братия” толкаются за заглавиями и, смеяся, “просят наречь имя младенцу”. Я люблю заглавие, чтобы оно было живо и в самом себе рекомендовало содержание живой повести” [402].
Случилось ему раз, едва ли особенно точно, но прелюбопытно, рассказать беседу свою с А. Ф. Писемским, вызванную затруднениями, происшедшими с пьесой последнего “Подкопы” в 1872 году. С ней все шло как будто заклятое, — и даже самое заглавие ее долго не давалось. Писемский это чувствовал и говорил Н. С. Лескову: “Я родил, брат, и умираю. Предаю дух мой. Мне силы нет подумать об имени этого ребенка… Я изнемог в муках рождения… Ты по поповской части очень усерден — нареки сему чадищу имя. Только смотри, чтобы кличка была по шерсти” [403].
Не меньшее значение придавал Лесков и дарованию “пришедшему в мир” имени, с которым тому придется пройти весь свой “путь жизни”.
В молодости первому своему сыну он дал имя своего деда, в котором ценил крепкий нрав и ум. Митя умер ребенком. В вопросе о наречии второго, вероятно, решающим был голос матери ребенка. Она была горячая патриотка, в частности своего родного города.
Киев, по преданиям, был местом апостольского подвига Андрея Первозванного. В его честь как раз над Подолом, на круче Старого города, высился дивной красоты и ажурной легкости собор, построенный по проекту гениального Варфоломея Растрелли в стиле затейливого барокко, почти тождественный Смольному собору, сооруженному этим зодчим в Петербурге.
Впрочем, и отец мой не уставал восхищаться чудесным памятником архитектуры и вдохновенным избранием места для его возведения: “Я пришел в безумный восторг от легкого фасада этого грациозного храма, и особенно от вида, который отсюда открывается на Подол и пологую часть Заднепровья” [404].
При поездках моих с моею матерью на лето на Украину уже от поэтической в своем названии Ворожбы она загоралась трогательным восхищением родными ей картинами. С приближением поезда к Днепру и раскрытием правого берега с самим Киевом волнение ее было беспредельно. “Смотри, смотри, Дронушка, — шептала она мне, — Лавра! Выдубецкий монастырь, здесь киевляне молили брошенного в Днепр Перуна: выдубай, боже, выплывай! А вот правей, правей — Андреевский собор, видишь, совсем в небе, в честь твоего святого! Запоминай все это! Помни, ведь Киев, “сей пращур русских городов”, — колыбель России! Никакой другой город не сравнится с ним в красоте и глубине исторического его значения!” И я не забыл этих новых для меня, подростка, слов.
Но — откуда Дрон, Дронушка? Тут опять мать, с ее обычной литературностью. “Война и мир” читались у нас жадно и ревниво. Отец при появлении пятой части романа посвятил критическому его разбору ряд статей с чисто “лесковскими” заглавиями отдельных глав: “Рассуждающий смертный”, “Выскочки и хороняки”, “Вредители и интриганы”, “Бойцы и выжидатели” и т. д. [405] В свое время появился в романе и чрезвычайно понравившийся моей матери староста Болконских в имении Богучарово, с пленившим ее наименованием Дронушка, Дрон. Ей это показалось очень близким к Андрею, а в уменьшительной, ласкательной форме и совсем однородным. С тех пор во всем родстве меня иначе уже и не звали. Приятно было матери и случайное совпадение моего имени-отчества с молодым Болконским. Но тут уж были лишь вполне беспочвенные, полусуеверные чаяния. Однако и они характеризовали, как интимно воспринималось все читаемое, как охотно переносилось многое из прочитанного в собственные настроения. Такими приблизительно путями избрано было мне имя, а затем и детское прозвище.
Ценности, красоте и непременно национальности имен Лесков уделял не раз внимание и в печати [406]. По совету и указанию его, в исходящем потомстве появилось даже такое богатое исторически-русским звучанием имя, как Ярослав!
Неблагозвучие имен вызывало в нем подчас курьезные взрывы негодования. Однажды А. Н. Толиверова-Пешкова, приглашая его на вечеринку, вздумала соблазнять тем, что у нее будет какой-то Феодосии Аполлосович. Лесков, отвечая на письмо, возмущенно завершал его: “Феодосии Аполлосович!.. Ведь это же ужасно!” [407]
Однако — к теме.
Поселилась семья, или, как называл ее всегда за ее пуританизм сам Лесков, “святое семейство”, в не лишенном поэтической прелести, тихом уголке “столицы многошумной”, в самом конце широкой и малолюдной, тогда еще не бедной деревянными особнячками с садами, Фурштатской улицы, у самого Таврического сада. Воздух и солнце со всех сторон! Это являлось неотступным требованием моей матери.
Сад любили все: матери он напоминал обильный зеленью Киев, особенно Печерск; отцу — родную Гостомлю, Панино, Орел и опять-таки “милый город” — Киев; старшие мальчики в густых зарослях его “гойцевали”, играли в казаки-разбойники; дочь (а попозже с нею и я) чинно гуляла с француженкой. По всему бесконечному его периметру шел широкий и довольно глубокий ров, в воде его водились “колючки”, ловля которых являлась тоже громадным развлечением для подростков. Из самой середины этого водяного рва высился тын из толстенных заостренных бревен. Подлинный стародавний крепостной палисад!
Ни наша мать, да и никто еще тогда не думал, что и этот ров, и все пруды, и едва ползшие, тенистые и зацветшие садовые речки являлись, по позднейшему определению знаменитого Боткина, одним из петербургских очагов малярии. Лет через двадцать, в целях борьбы с нею, ров был засыпан, допотопный палисад заменен ныне стоящею чугунной оградой, пруды и речушки бетонированы.
Значительная, по тогдашним способам сообщения, отдаленность от центра придавала месту полупровинциальный, даже несколько дремотный характер.
Квартира попалась по тем временам отличная: весь верхний этаж хорошего трехэтажного дома. “Ходить по головам”, чего бы не потерпела мать, было некому. Было сухо, тепло, светло. Но планировка по старинке была нелепа: из шести комнат только один небольшой писательский кабинет, прямо из передней, окнами на тенистую, задумчивую “Тавриду”, был непроходной, обособленный. Коридоров тогдашние архитекторы не любили.
По свидетельству Лескова, дом имел свое историческое прошлое считалось, что в первом этаже жил секундант Пушкина Данзас. Позже, в восьмидесятых годах, он принадлежал матери поэта Случевского [408].
Прибавлю от себя: с 1866 по 1875 год в нем жил Лесков, а в начале 1900-х годов он перешел в собственность одного из сыновей знаменитого С. П. Боткина.
Лесков, не без местного горделивства, любил оттенять еще и то, что через два-три дома, на углу Сергиевской (ныне ул. Чайковского) и Таврической (ныне Потемкинской) улиц жил до своей ссылки Сперанский.
В глубине сада цепенел с темными окнами в пренебрежении и забвении, обширный дворец “великолепного князя Тавриды”. Перед его фасадом прошла, сравнительно новая, часть Шпалерной улицы (ныне улицы Воинова), отрезавшая всю дворцовую усадьбу от Невы, на которой в дни “светлейшего” имелась своя, дворцовая же, речная гавань для галер, буеров и шняв. Дальше в струнку вытянулись приземистые казарменные, длинные, охрой выкрашенные флигеля “павловской стройки” с не всем понятными белыми восьмиконечными “мальтийскими” крестами на фронтонах. Это были здания, сооруженные новым гроссмейстером ордена Иоаннитов для приюта изгнанных Наполеоном с острова Мальты родосских рыцарей. И, наконец, вдали — высился растреллиевский красавец — Смольный!
Кругом история, предания, образы, картины…
Отца они волновали. Мать поначалу занимали.
Захваченная бурным круговоротом литературных и общественных вопросов, она приучала себя к во всем новой, ключом кипевшей петербургской жизни, к напряженности ее пульса. Поражали личные отношения, полные неискренности, недоброжелательства, вероломства. Ошеломила неисчислимость писательских испытаний и “терзательств”, тяжело сказывавшихся на всех видах быта.
Воочию, шаг за шагом, Петербург открывался во многом не тем, чем мнился в тихом Киеве…
ГЛАВА 4. НА ФУРШТАТСКОЙ
Квартира у “Тавриды” выдалась на славу, слов нет! Да вот домовладелец попался аспид. Схватки с ним шли, по самым вздорным поводам, одна за другой.
“Милостивый государь, Александр Тихонович, — пишет раз ему мой отец. — Сегодня, собираясь ехать в Москву, я хватился моей бумаги, и тут оказалось, что она у вас. — С какой это, милостивый государь, стати? Что я ваш дворник, слуга или рабочий? Как вы могли себе это дозволить? — Сейчас прошу прислать мне мой паспорт. Н. Лесков”.
Подьячески настроенный самодур вместо извинения огрызается: “Милостивый государь, Николай Семенович. Пачпорты всех живущих в моем доме хранятся у меня, и если кому представится надобность в паспорте тот просит, учтиво разумеется, возвратить и тотчас же получает, с распиской в домовой книге, на тот конец, что в случае потери паспорта не думать, что он остался у хозяина. Паспорт ваш я вам возвращаю, в получении оного прошу расписаться, а на будущее время покорнейше прошу не дозволять себе делать мне дерзкие и неуместные вопросы и приказаний мне не отдавать”. Подпись.
Письмо безотлагательно возвращается его автору с надписанием: “Я вам, милостивый государь, делаю замечания, на которые имею право. — Если вы ими оскорблены, мне будет очень интересно доказать вам, что вам не на что оскорбляться. Н. Лесков” [409].
В другом случае выведенному из терпения неугомонностью придиры приходится писать: “Беспрерывные неприятности эти все мне самому столь надоели, да и столь мне несвойственны, что я вместо продолжения переговоров, которые ни к чему не ведут, желаю знать, что же вам угодно? Мы живем так, как вправе жить всякий, не навлекая на себя никаких претензий. Иначе мы жить не можем, и я не знаю, кто согласится жить, подчиняя себя в своей наискромнейшей жизни ежедневному контролю. Впрочем, это дело ваше. Угодно ли вам нарушить контракт? — Мы, несмотря на неудобную пору для перемены квартиры, не вынудим вас повторять нам об очистке вашего дома. — Более я, к сожалению моему, ничего сделать не могу. Ваш слуга Н. Лесков”.
Ультиматум, угрожавший простоем квартиры пустой, вернее всего до осени, обуздал сутягу. Вскоре же он умер. С наследниками его создаются самые милые и прочно дружественные отношения.
Литературные трудности несравнимо сложнее и неразрешимое. Как вспомнит через два десятка лет это время Лесков, его “топили”…
Дух горит, жаждет творить или, по любимому Лесковым гоголевскому выражению, “совершать”! Замыслы велики, а хлеба ради приходится размениваться на пустяки, пробавляться газетною поденщиной с ее грошевым и крайне ненадежным заработком.
Где же выход? Как добиться условий, в которых можно было бы в виде духовного отдыха — совершать! Поискать казенную службу с ее бесстрастной работой и верной оплаченностью? Пожалуй!
Но, конечно, в сорок лет, с писательским именем, хотя бы и с жалким чином губернского секретаря, идти на чиновничью ежедневную высидку в канцелярии думать не приходится.
Классический и сам уже изрядно чиновный поэт, А. Н. Майков делает некоторый как бы вспомоществовательный жест. 24 марта 1868 года он дает Лескову “паспорт” на соискание расположения Т. И. Филиппова, занимавшего тогда достаточно значительное положение в Управлении государственного контроля.
“Г. Лесков, в литературе известный под именем Стебницкого, гроза нигилистов, предполагает во мне возможность открыть ему путь к вашему слуху. Не разуверял я его в противном потому, что сам питаю эту уверенность, вследствие чего и дан мною ему сей паспорт для свободного пропуска в вашу приемную” [410].
Существенного и тут ничего не выходит. “Терций” восхищается талантом нового знакомого и, может быть не без опасения именно таланта, не решается осложнять приятельские отношения отношениями служебными. Он возит к нам в дневные приезды какие-то по особому его рецепту изготовляемые “варенцы”, прослоенные подрумяненными пенками до самого дна глиняного горшка, умопомрачительные русские кулебяки, ржевские и белевские пастилы, а вечерами “сказителей” и “воплениц”, а пуще всего ведет нескончаемые разговоры на любезные его вкусам темы с увлекательным собеседником. Чего приятнее и осмотрительнее?
Стихийно подготовляется становящееся неизбежным сближение с Катковым. Появляется в печати многозначительная статья Лескова “Большие брани” [411]. Автор ее впервые являет себя апологетом школьного классицизма, внося в проповедь о последнем хорошо оцененную лепту.
1869 и 1870 годы Лесков буквально на своих плечах несет бремя заполнения трубниковских “Биржевых ведомостей”, а попутно и его же “Вечерней газеты”, оживляя оба эти издания своими интересными статьями. Хозяин охотно печатает в обеих своих газетах все, что дает ему его даровитый и острый сотрудник, и еще более охотно не платит ему сплошь и рядом гонорара ни по одной из них. Это создает неисчислимые денежные затруднения, хорошо изматывающие нервы.
Исподволь начинается работа у Каткова. После усовской “Северной пчелы”, трубниковских “Биржевых ведомостей” и богушевичевской “Литературной библиотеки” здесь с гонораром дело поставлено надежно. Сперва идут никому не обидные историко-жанровые “Плодомасовские карлики” [412], а затем пишется для него и последний “отомщевательный” роман — “На ножах” [413].
Отвержение Лескова прогрессивным лагерем неумолимо нарастает. Работать приходится не там, где хотелось бы, а где так или иначе привечают.
Интимная жизнь пока сравнительно лучше, но и на ней все эти незадачи отражаются.
Знакомственный круг все еще держится преимущественно почвенно-наследственный: орловско-пензенски-киевский. Только что перешедшая из Киева на Александрийскую сцену бойкая опереточно-водевильно-комедийная актриса М. П. Лелева, рожденная Лилиенфельд, с мужем Ф. А. Юрковским, режиссером “Александринки”, по сцене Федоровым; В. Г. Авсеенко с женою, теткою “Сени” Надсона; пензенские супруги Е. Ф. Зарин и Е. И. Зарина-Новикова, скончавшаяся ста четырех лет, в 1940 году.
Последние состояли тогда в особых друзьях. Жили они против нас, на Фурштатской же. Цела фотографическая карточка Лескова, которую он подарил не оказавшемуся прочным другу с редкостно трогательною надписью: “Ефиму Федоровичу Зарину, человеку, которого более всех присных и знаемых возлюбила душа моя. Н. Лесков. 2. XI—66 г. Спб.” [414].
К середине семидесятых годов на почве резкого расхождения во взглядах менялись и отношения. Много лет спустя, когда молодой Андрей Ефимович Зарин, начал писать, Лесков как-то коротко бросил: “Он, видать, начинает там, где отец его кончил. Доспеет!” Личные встречи давно отошли в прошлое.
Екатерина Ивановна, уже старухой и вдовой, изредка захаживала к Лескову “за советом”.
В мое посещение ее в 1934 году, в г. Пушкине (тогда Детское село), она рассказала мне, как мой отец, в девяностых уже годах, пробежав какой-то ее рассказ, сказал: “Задумано хорошо и интересно, но подано ниже замысла. Многое остается в тени, неясным. Точно при закрытых ставнях происходит. Откройте окна! Осветите все действие, всю картину, лица! Покажите яснее характеры! Меньше разговоров! Больше движения! Иначе нет образов, фигур, картин, а с тем и впечатлений! Окна, окна настежь!”
Тут же она вспоминала, как непривычны и тягостны были моей матери перебои в денежных поступлениях, случавшихся иногда по неисправности арендатора ее киевских домов и всего чаще издательств, журналов или газет, в которых работал мой отец. Ей все это было слишком неожиданно и, при большой семье, мучительно.
В оставленных ею воспоминаниях она пишет о моей матери: “Екатерина Степановна была поразительной красоты: выше среднего роста брюнетка, с большими, выразительными серыми глазами, очень грациозная и элегантная… Надо сказать, что и Николай Семенович в то время был очень красив. Это была замечательно красивая парочка, обращающая вообще на себя внимание” [415].
За Зариным Лесков числил большой заслугой разоблачение в молодости, в корреспонденциях, бесчисленных гнусностей пензенского губернатора А. А. Панчулидзева и достойного его сподвижника, пензенского губернского предводителя дворянства А. А. Арапова. Зарины упоминаются или подразумеваются не один раз в лесковских статьях и рассказах [416].
От орловских корней продолжаются в Петербурге отношения с Н. М. Фумели, юристом, являвшимся поверенным Лескова в его тяжбе с В. В. Кашпиревым из-за “Божедомов”, и с мировым судьею П. Н. Анцыферовым, товарищем писателя по Орловской гимназии [417].
Новых, чисто столичных знакомых сейчас еще маловато.
В связи с постановкой “Расточителя” появились актеры: А. А. Нильский (Нилус), Н. Н. Зубов и другие.
Сложилось почти сразу же доброе знакомство с целым выводком Дягилевых, имевших большой участок с изрядным домом на Фурштатской же, поближе к Литейной. Из этих домов приходило не мало любопытнейших новостей и ценной осведомленности о разнообразных светских и политических событиях.
11 января 1872 года скончался сорокалетний Г. Д. Корибут, муж одной из Дягилевых.
Не знаю почему, на Волково кладбище в день похорон взяли и меня. Это было мне совершенно внове. За припоздавшим невольно обедом, к которому прихватили кого-то с кладбища, стали сетовать — какое несчастье посетило бедную Марью Павловну.
“Конечно, это горе, и большое, — сказал мой отец, — но у меня оно бледнеет перед тем, что все мы видели сегодня же, на том же Волковом, как перед нашими глазами в какой-то самый дальний его “разряд” пронесли убогий гроб какого-то армейского штабс-капитана, а за этим гробом шла в вытертом пальто вдова, ведя за руки четверых бедно одетых “обер-офицерских” сирот, которые через день-два, может быть, останутся без хлеба и даже без крова! Мария Павловна как-никак вернулась сейчас в свою просторную квартиру, в свой собственный наследственный дом и знает, что и дети ее и сама она кругом обеспечены, на весь век сыты! А куда и к чему повела, поди пешком, своих четверых ребят эта армейская офицерша! Ужас подумать!.. Она стоит передо мной, окруженная держащимися за нее детьми, они не выходят из памяти, они жгут эту память… И сколько такого горя, неотступного и неумолимого! Нищета на долгие, беспросветные годы, нужда во всем — и ниоткуда никакой помощи, кроме грошового пособия на похороны, а дальше — как знаешь! Вот это — настоящее горе!..”
Все удрученно затихли.
Два месяца спустя Лесков писал А. Ф. Писемскому: “Бедняга Корибут таки не вылечился и умер, потеряв здравый рассудок. Врачи говорят какую-то нескладицу, а, кажется, сами во всем виноваты” [418].
В конце того же года Лесков дарит стойко перенесшей свои испытания вдове экземпляр первого издания “Соборян” с полным дружественного участия автографом:
“Уважаемой Марии Павловне Корибут от автора, преисполненного глубочайшего почтения к достоинству ее характера, не изменяющему ей в счастии и в несчастии. Н. Лесков. Рождество И. X. 1872” [419].
Лет через семь-восемь она вышла замуж за репетитора ее детей, чеха Луниака. Сильно охваченный уже церковным еретичеством, Лесков, не осудив движение ее сердца, желчно говорил: “Умная женщина, а вот, подите ж, не хватило мужества обойтись без пошлости! И что это всех их на один салтык, и барынь, как кухарок, непременно “подзакониться” нудит! Не могут без этого. Удивительно!” Не утерпел как-то дать и легкий “рикошет” по ее новому мужу [420].
Дягилевы дали писателю порядочно материала для “Мелочей архиерейской жизни” и других очерков [421].
Мать моя очень дружила со скромной, образованной и премилой Е. С. Ивановой, державшей собственную школу на Фурштатской, в которой я постигал в свое время первую ученость. Невдолге после отъезда моего “дяди Васи” в Ташкент она получила место начальницы какого-то женского училища в Белозерске. Ее отъезд был большою потерей для моей матери, как, впрочем, и для всех нас, искренно любивших ее. По приятельству она не уклонялась иногда выполнять и переписную работу для моего отца, как, например, в период гонки романа “На ножах”.
Слышал я, будто нередко посещал моего отца и прославленный Г. И. Семирадский, но сам свидетельствовать этого не могу. На моей памяти нашими частыми гостями были двое совсем невеликих художников.
Один из них — Я. Л. Филатов — был воплощением любви к “чистому искусству”. Крошечный, слабогрудый, слегка заикающийся, люто бедствующий, но все еще необескураженный жизненными неудачами, “свободный художник второго”, а может быть, и “третьего класса”, как значилось в аттестате, полученном им при окончании Академии художеств. Полный надежд когда-нибудь что-то великое “скомпппонноввать”, жил убого, одними копиями. Трогательный, душою чистый, верящий, что в нем живет невежественно непризнанный гений, это был, пожалуй, по-своему лесковский “праведник”.
Ходил он к нам с Девятой линии далекого Васильевского острова, конечно, пешком, в ветхом пальто, повязанный зимою не то большим шарфом, не то какою-то косынкой, зачастую неся жестоко парусивший на невских ветрах, рогатившийся в руках драгоценный “холст”.
Всякое предложение, казавшееся ему замаскированным воспособлением, отвергал с восхитительною гордостью истинного Дон Кихота. Предпочитал всему бескорыстные длительные беседы об искусстве, о живописи, школах, перебирая с моим отцом, кажется, весь эрмитажный каталог А. И. Сомова, имевшийся в библиотеке Лескова с обильными пометками хозяина [422].
Так шло с ним несколько лет. Но вот в сатирическом очерке “Смех и горе” появляется чудаковатый и прекраснодушнейший становой в таком описании: “Сижу я однажды перед вечером у себя дома и вяжу, что ко мне на двор въехала пара лошадей в небольшом тарантасике и из него выходит очень небольшой человечек, совсем похожий с виду на художника: матовый, бледный брюнетик, с длинными черными прямыми волосами, с бородкой и с подвязанными черною косынкою ушами. Походка легкая и осторожная: совсем петербургская золотуха и мозоли, а глаза серые, большие, очень добрые и располагающие”.
Портретно получалось что-то во многом схожее с Филатовым. Далее к этому святому “становому” применяются понятия — антик, философ, ничем не удовлетворяемый богослов, мыслитель и т. д. “Антиком” и “философом” не раз называли и Якова Львовича в беседах. И в конце концов говорится про него: “а ведь все же он человечишко!” [423]
На несчастье, автор неосторожно дарит художнику экземпляр отдельного издания очерка. Дочитавшись не спеша до злокозненных глав, одаренный признает во внешнем облике станового себя как “натуру”. Прибежав с своего острова к Таврическому саду, художник молча проходит прямо в писательский кабинет, с небывалой твердостью требует объяснений и жестоко корит автора очерка за вероломное нарушение законов истинного дружества. Все попытки отца, как и подоспевшей ему на помощь матери моей, убедить обвинителя в совершенной безобидности для него в данном случае некоторого частичного внешнего сходства с выведенным в рассказе лицом — оказываются бесплодными. Обычно кроткий сердцем Филатов ожесточен и негодующе, даже устыжая писателя, покидает наш дом. И навсегда! Это было больно.
Едва закрылась за ним дверь, мать моя круто переменила фронт на защиту Филатова и полное осуждение моего отца. “Бедный Яков Львович вправе был обидеться и наговорить все, что наговорил сейчас. Надо щадить самолюбие таких горьких неудачников”, — взволнованно говорила мать. Отец был удручен. Его не оправдал никто в доме, корили и многие знакомые. “Маленького художника”, как его всегда называли у нас, все любили и жалели, а потеря нами его всех огорчала.
Пошли пространные беседы и обсуждения происшедшего. Некоторые находили, что беллетрист вправе писать с натуры, тем более не рисуя портрет во всем совпадении черт, свойств и жизненного положения художественного образа и “натуры”.
Радуясь такой трактовке вопроса, Лесков удовлетворенно восклицал: “Напрасно обидевшегося Якова Львовича очень жаль, но прав все-таки не он, а я!”
Помню, как отец мой приписывал этому же “маленькому художнику” такой рассказ об одном оригинальном приключении с ним в стенах Академии. “Сижу как-то и копирую марину. Дело идет к концу. И небо в свинцовых тучах, и бушующее море, и разбиваемый на рифах волнами корабль, и идущий от него к берегу спасательный бот — все верно, на месте и, кажется, неплохо. Не удаются только брызги на прибрежных скалах. Сажаю их точка в точку, как на оригинале, но там живут и блещут, а у меня мертвы. Сниму их мастихином и опять за то же и с тем же неуспехом. А сзади кто-то давно стал и стоит. Хоть бы ушел скорее. И снова вьюсь. “Не выхходдит?” — слышу за спиной. Этого только не хваттало, даже зло взяло. Однако, помня традиции, совладал с собой и, не оглядываясь, отвечаю — не выходит! “Да так никогда и не выйдет”. Ну, думаю, надо обернуться. Кто же это такой? Бритая губа и подбородок, бакенбарды, внушительный нос, совсем не артистическая, а чисто сановническая осанка. Неужели?..
А тот тем временем спокойно говорит: “Позволите?” Как не позволить? “Пожалуйста!” Сам подаюсь от мольберта и подаю ему свою тоненькую кисть… А он, и не взглянув на нее, нагнулся, выбрал большую грубую кисть, разжижил краску, стряхнул слегка кисть-то, повернул ее в левой руке вверх, взял в правую мастихин, поставил впоперек над кистью, присмотрелся к скалам да острым его ребром как черкнет от копии к себе, скалы-то враз живыми брызгами и заиграли. Я и обомлел.
“Иначе, — говорит, — уважаемый коллега, это не сделать”, — и с легким поклоном сановник мой пошел дальше. Ну, тут уж я окончательно уверился, что удостоился указаний самого творца марины — Айвазовского”.
Так приблизительно, подражая местами легкому заиканью “маленького художника”, передавал этот случай иногда мой отец. Апокриф это или быль — не знаю.
Яркую противоположность бессребренному Филатову являл собою второй жрец палитры. Крестьянским мальчиком он растирал краски художнику, выписанному в его рязанскую деревню для реставрирования иконостаса в местной церкви. Живописцу он показался шустрым, и он взял мальца с собой в Петербург. Дальше паренек подучился, патрон устроил его в какую-то школу, а потом и в Академию художеств, которую он окончил без блеска. Таланта не оказалось, но сметки и понимания, где раки зимуют, хватало.
В столице он заменил казавшееся ему оскорбительно простонародным имя Антон на более утонченное Анатолий, а в совершенно неудобном деревенском прозвище переставил некоторые буквы, создав малопонятную, но приемлемую в общежитии фамилию Ледаков [424]. С не слишком звучным отчеством Захарович — примирился.
Приземистый, очень неладно, но и очень крепко сшитый, нос лопатой, он был не только некрасив, но имел в себе что-то отталкивавшее. Сильно глуховатый, он кричал, грубо и противно произнося многие слова. Особенно всем нам, ребятам, не нравилось, как он выкрикивал свои почтительнейшие обращения к нашей матери: “Достоуважаемая Е-ка-те-ри-на Сте-панов-на!” Никто другой из всех бывавших у нас с таким напором на начальную букву имени, обычно вовсе не произносимую, не акцентировал.
Кулак от юных лет, он, путем больших лишений и каких-то операций, к тому времени уже сколотил копейку и беззастенчиво ссужал своих знакомых деньгами на самых беспощадных ростовщических условиях. Разживаясь на лютом дисконте, он стал кредитовать газеты, властно ведя в них “художественную критику”, да и вообще держался в них хозяином.
Бездарность его, как художника, закреплена навечно написанным им в 1871 году “в кредит” масляными красками портретом Лескова, заслуженно не имевшим никакого успеха на современной очередной выставке картин в Академии художеств [425].
Дорого заплатил в свое время за его “выручки” в тяжелые моменты частенько нуждавшийся в известные годы Лесков. Знали цену его услуг и В. Комаров, и В. Крестовский, и М. Черняев, и многие из газетно-писательской братии.
Деятельность этого господина нашла себе небольшое, почти мимоходное, но вполне достойное его подвигов отражение в статьях и письмах Лескова и И. Н. Крамского [426].
Яркой по самобытности фигурой в числе тогдашних наших посетителей являлся С. И. Турбин. Некрупный, плотный, с большою квадратной головой и зычным, “ромового” тембра, гласом, он еще из передней гремел, снимая пальто и калоши: “А этот-то ваш апостол Павел! Вот каналья-то! Нет! Ведь чему учит-то? В чем наставляет: рабы, повинуйтесь господам вашим, несть бо власть аще не от бога. Чего лучше! Это, с позволения сказать, “Благословенный”-то наш с Аракчеевым или Палкин с Бенкендорфом и Дубельтом — от бога! Ах он, простите, дам нету близко?..
Лесков тогда, пожалуй, еще не совсем единомыслил с этим “нигилистом чистой расы”, которого он вывел, значительно смягченным, в романе “На ножах” в лице майора Форова.
Он и в самом деле был человеком чистой души и расы, неизменным в своих, по тому времени очень крайних, взглядах и убеждениях: Форов уходит в отставку, оскорбив “на словах” командира полка, оказавшего неуважение его жене. Сергей Иванович, по словам Лескова, дал командиру полка пощечину за неприглашение на полковой бал его жены, на которой он, как неколебимый атеист и нигилист, еще не был церковно женат. Грозило расстреляние. После многих ходатайств оно было заменено разжалованием в рядовые. Карьера была непоправимо искалечена. Офицерство пришло очень много лет спустя, и служба потом была вскоре же брошена. Это был, как Филатов, бессребреник и тоже в своем роде и “антик” и “праведник”. Солдаты, расставаясь с Форовым, бегут за ним и в виде высшей, какая есть, хвалы и благодарности кричат ему: “Да разве вы похожи на благородных?” [427]
Как и положено праведнику, умер Турбин в нищете, в военной Измайловской богадельне под Москвой, в 1884 году. Лесков не раз помянул его в печати и в письмах [428].
Состоял еще почти в друзьях, хотя уже и не очень прочно, В. В. Крестовский, но о нем речь поведется позже.
В общем, в эти годы литературные связи скорее в упадке; рабочие возможности невелики, их рамки узки; бытовое окружение пестровато и условно.
С какой стороны ни поверни, все какое-то не такое, каким могло бы, да и должно бы быть у писателя огромного таланта, имеющего уже широкую известность, ряд крупных произведений, публиковавшихся и в журналах и отдельными изданиями, стоящего на рубеже второго десятка лет упорного, отмеченного недюжинным дарованием труда.
ГЛАВА 5. КОЛЫВАНЬ
Лесков верил и исповедывал, что впечатления, воспринимаемые мозгом настоящего писателя, болезненно остры, что эхо у него сильнее первоначального сотрясения, сильнее исходного звука. В этом и сила и несчастье даровитого писателя, никогда к тому же не забывающего, что “музы ревнивы” и служить им надо всеми силами и кровью сердца своего. В итоге, искренний и темпераментный писатель-мученик.
Лесков им и был.
За долгие рабочие месяцы ранней осени, зимы и поздней петербургской весны он, со своими “обнаженными” или “ободранными” нервами, совершенно и физически и духовно изматывался, жаждал летнего роздыха, близости к природе.
Астмический и тучный, он с четвертого десятка лет стал плохо переносить жару и не тяготел больше к югу. Напротив, его манила и пленяла, влекла к себе прохлада, свежесть влажных северных широт. Отсюда шла любовь к лесистым побережьям Балтики, к “Озилии”, к Ревелю, Риге, Аренсбургу на Эзеле, а в совсем поздние, сильно недужные годы к более близким к Петербургу усть-наровским дачным побережным поселкам.
Но и в этих, казалось бы таких тихих и благопристойных, старательно к тому времени онемеченных, уголках не всегда и не все протекало идиллически тихо и уютно, или, как он, прибегая в одном из своих рассказов (“Антука”) к немецкой терминологии, писал “gemütlich”, уютно.
В 1870 году, после долгих обсуждений, расспросов и колебаний, для летних морских купаний был избран хваленый ревельский “штранд”.
Следовать туда решили морем. Это обещало столько новых ощущений! Кроме того, это было удобнее, просторнее и дешевле железной дороги. А ехали-то ведь всем домом — с Машей и Пашей, сам-девят или десят! Вещей и клади, само собой разумеется, не перечесть!
Незадолго до поездки зашел как-то к нам на двор матерый матрос с искусно выполненною моделью боевого корабля на плече. Тогда по весне такие матросы с кораблями попадались на улицах довольно часто. Это было в обычаях и даже традициях города и желавших немножко подработать своим рукоделием моряков.
Красивый и внушительный, с поднимающимися и опускающимися парусами, деревянный под медь забронзированными пушечками по бортам и белым, с синим косым крестом, андреевским флагом, корабль вызвал восторг узревших его из окна гимназистов и был куплен Лесковым в дар старшему из них — Николаю. В “Тавриду” с ним сторожа и стоявшие при входе жандармы, благочиния ради, не пускали мальчиков. В канаве с колючками он, по водоизмещению и великолепию своему, не вмещался. Пришлось, скрепя сердце, примириться на том, что сейчас, мол, подождем, но уж зато в Ревеле он совершит не одну славную кампанию! Лишь бы довезти его туда во всей неприкосновенности, не повредив чего-либо, храни бог, в дороге в парусах, в руле и т. д.
Настал день отъезда. Билеты, конечно, были взяты заранее, но все же хлопот и волнений было вволю.
У пристани на Николаевской набережной [429] Васильевского острова пыхтел и посапывал грузный колесный пароход.
Началась выгрузка из огромной четырехместной кареты и с ломового извозчика бесконечного числа вещей и сложная разборка и разноска их по каютам. Часть шла в трюм, часть — в носовые каюты второго класса, к слугам, часть — в кормовые первого класса, к нам. Наконец кое-как разобрались, пароход трижды прогудел и зашлепал красными лопастями колес, спускаясь к устью Невы.
Все поуспокоилось. Пассажиры повысыпали на ют с биноклями, собираясь любоваться окрестностями столицы.
Однако Лесков, с традиционной дорожной кожаной сумочкой через плечо, продолжал озабоченно перебегать от кормовых кают к носовым и обратно, отдавая прислуге какие-то, может быть и не слишком необходимые, распоряжения.
Двенадцатилетний Николай Бубнов, подавленный новизной картин и положений, растерянно стоял со своим красавцем-кораблем на руках на самой “трассе” нервных маршей Лескова, уже не раз бросившего на него на ходу нетерпеливый взгляд.
“Николай Семенович, — в недобрую минуту спросил он главу семьи, — а это куда?” — “Это?.. Куда?.. Давай!” И блеснувший на солнце своим черным лаком корабль, со всеми пушками и андреевским флагом, взмахнув белоснежными парусами, описал через борт большую дугу и погрузился в шедшие от пароходных колес волны. Мальчик остолбенел. Только минуты две спустя из глаз его стали падать крупные слезы. Ближние мужчины взглянули на горячего пассажира холодно, дамы негодующе. Так, много лет спустя, рассказала мне об этом происшествии моя мать, умевшая уже многое вспоминать с примеренной улыбкой.
В древней русской Колывании, в немецком парке Екатеринталь, была нанята прекрасная дача, и “святое семейство” зажило со всеми удобствами.
Сначала в области отношений с местным оседлым населением все шло удоботерпимо: бароны и бюргеры, живо заинтересованные в выгодной сдаче своих вилл и домов наезжим москвичам и питерщикам, держались с русскими хотя и подчеркнуто сухо, но и подчеркнуто же вежливо.
Так прошла половина лета. Но вот, 2(14) июля разражается франко-прусская война. Картина резко меняется. Шовинизм русско-немецких “двуподданных” растет, обгоняя ошеломившие весь мир успехи немецкого оружия. Бароны и бюргеры всех возрастов и мастей пьянеют и распоясываются, разрешая себе день ото дня все более наглые выходки по отношению к людям, осмеливающимся говорить на улицах русского города по-русски. Воздух накаляется. “Меченосцы” теряют всякое самообладание.
Как-то вечерком Лесков заходит в курортный “Салон” пробежать последние газеты. Признав в нем русского, трое хорошо подогретых пивом барончиков и бюргерят с места начинают травить неугодного им писателя, заключая свои выклики “тотальными” выводами, что вся Россия скоро разлетится, как дым, “wie Rauch”. На просьбу прекратить провокацию забияки, учтя превосходство сил, предпринимают обеспеченное в успехе наступление. Писатель был горяч во всем и, упредив “агрессоров”, впечатляюще остужает их пыл тяжелым курзальным стулом.
Утром к нам жалуют два почтенных барона в наглухо застегнутых сюртуках, цилиндрах и корпоративных ленточках, Лескова не было дома: он отправился к ревельскому губернатору М. Н. Галкину-Врасскому, с которым был лично знаком, расказать об отражении им произведенного на него нападения и дальнейшем развитии события.
Парламентеры, крайне неохотно, почти брезгливо, перейдя с нашей Пашей на русский язык, долго и вразумительно изъясняли ей, что им крайне необходимо говорить, “zu sprechen с господин Лескофф, mit Herrn Leskoff, по ошень важний дель…”
Вернувшийся домой Лесков расхохотался: “Дуэль? Подумаешь! Какой вздор! Хватит с них и нескольких добрых ударов стулом!”
Дуэли не вышло, но вместо нее оскорбленное в собственной Остзее ревельское баронство вчинило в эстляндском рыцарском средневековом суде “уголовное дело”. Это судилище угрожало потом в своих вызовах причинить русскому обвиняемому многовидные “законные вреды”.
Шаг за шагом докатилось это “дело” до самого Правительствующего сената. Слушание его там было назначено на 1 декабря 1872 года. В самый канун, 30 ноября, Лесков опубликовал в одной из столичных газет специальную статью с колким заглавием — “Законные вреды” (термин остзейского судебного наречия) [430]. Ею русская общественность широко оповещалась о всех кознях эстляндского суда по отношению к русскому писателю, подвергшемуся наглым действиям со стороны остзейских “двуподданных”.
Это был хорошо рассчитанный шахматный ход — он связывал правительственный орган, ставя его перед лицом всей русской общественности.
Как на заказ, и в сенатском ареопаге председательствовал, точнее “первоприсутствовал”, сенатор А. X. Капгер, заседали — И. И. Розинг, П. Н. Клушин и Н. П. Семенов, при обер-прокуроре бароне Ф. Н. Корфе. Из пяти участников трое оказывались балтийцами. И тут было полное немецкое засилье.
На третьем году своей давности дело закончилось какими-то пустяками, вроде небольшого штрафа, но свою долю нервной трепки стоило.
Эпопея эта, несомненно, должна была найти себе отзвук в чем-нибудь написанном Лесковым. И действительно, в предпоследней главе сатирического очерка его “Смех и горе” стоят строки, совершенно непонятные читателю, не посвященному в ревельское происшествие: “Я утешаюсь хоть тем, что умираю… между тем как тебя соотечественники еще только предали на суд… за недостаток почтения к … немецкому студенту, предсказывавшему, что наша Россия должна разлететься, “wie Rauch” [431].
Это метило не только по заносчивым немцам, но и по русскому по крови эстляндскому губернатору Галкину-Врасскому, не сумевшему или не пожелавшему повлиять на ход дела в самом его начале, пока оно не приобрело слишком большой резонанс в среде эстляндских меченосцев, имевших большие связи и положения в самом Петербурге.
Рассказывала мне моя мать о другом, несколько родственном случае, разыгравшемся в те же годы в Петербурге. Собралось несколько знакомых провести вечерок в популярном тогда увеселительном саду Излера. Приехали. Народу масса. С трудом разыскали кое-как столик, но всего один стул. Мужчины бросились на поиски, а дамы остались стоять около столика и единственного пока стула. Первым вернулся, неся еще один стул, мой отец. В самый момент его подхода какой-то развязный господин задумал было захватить у дам их стул. Последовал краткий диалог, подкрепленный со стороны Лескова per argumentum bacilinum [432]. Стул, принесенный им, опять выполнил ту же службу, как и в ревельском “Салоне”. Но в развитии дела сказалась огромная разница: на столично-отечественной почве никто не предъявил никаких претензий, и все обошлось без разбора дела хотя бы у “мирошки”, как в просторечии называли тогда мровых судей. На этот раз все прошло действительно “gemütlich”.
Ревельское дело раскрыло Лескову многое, нашедшее потом нескудное отражение в его работах.
Шесть лет спустя он дает веселую, но и весьма назидательную повесть о немце, когда-то служившем с ним у “дяди Шкотта” и ехавшем в Россию, чтобы “стать господином для других”, “уже заранее изловчавшемся произвести в России большие захваты”, а в конце концов погибшем мучеником своей нелепо проявлявшейся им к месту и не к месту “железной воли” [433].
Еще через девять лет появляется статья, построенная на документальных данных, о вопиющих наглостях русских немцев, оказанных русскому воинскому знамени и церковному служению. Статье этой автор пригонял несколько не нравившихся редактору журнала любопытных и выразительных заглавий: “Политический гросфатер в Вейсенштейне”, “Площадной скандал”, “Всенародный гросфатер”, “Дурной пример”. Скандал действительно был и площадной, и всенародный, и политический и являл собою весьма дурной пример для других русских немцев.
Суть его такова. В какой-то высокоторжественный день на площади маленького остзейского городка Вейсенштейн был выстроен батальон одного пехотного полка, поставлен аналой, вынесено к нему знамя, и началось служение молебна. Успевшие уже неплохо позавтракать немцы русского подданства высыпали из домов, окаймлявших площадь, и не без любопытства созерцали происходившее. Вскоре это им стало прискучать, и потянуло на шутовство. И вот один из достопочтенных местных бюргеров, выйдя на крыльцо своего дома, высоко поднял встречь солнцу огромную кружку и, как бы определяя на глаз, сколько в ней пива, в полное подражание церковному многолетию, громко затянул: “Многго ли… мно-огго ли этто?” Аппетит, как известно, разыгрывается за едой. Лавры первого шута окрыляют второго: не слишком твердою походкой направляется он через весь плац к стоящему перед аналоем паникадилу, закуривает от его свечей свою гамбургскую сигару и победно отмаршировывает к дико вопящим от восторга своим компатриотам.
В начатом в эстляндском суде деле об оскорблении русского воинского знамени и религиозного чувства производится планомерный подмен виновных, которым и выставляются уже не ученившие бесчинства немцы, а все сваливается на командира батальона, которому уже начинают угрожать многоразличные “законные вреды” [434].
Все это могло происходить в шестидесятых годах в древнерусском городе, именовавшемся когда-то не Вейсенштейном, а Пойдой.
Приходится отметить, что до более пристального ознакомления с положением дел в Остзее Лесков однажды несколько иначе отнесся к этому происшествию, в корне переоценив его характер и значение только в более поздние годы [435].
В свой срок старый чех веще заговорит в лесковском рассказе с подзаголовком “Натуральный факт в мистическом освещении” [436].
А попозже, уже на фоне самого Ревеля и даже именно 1870 года, выводится многодумный предостерегающий рассказ “Колыванский муж” [437], полный недоверия к мудрости славянофилов и горького признания успешности германизаторских приемов и навыков немцев. Под заголовком стояло: “Из остзейских наблюдений”. Чего яснее! Автор не скрывал, что это была “ирония”, и в первую голову на И. С. Аксакова [438]. Какова же канва этой “иронии”?
Простодушный, незлобивый, “насквозь русский”, морской офицер Иван Никитич Сипачев, получив назначение в Ревель, женится там на одной из многочисленных местных неимущих баронесс. Каждый раз, как жене его предстоят роды, он непременно оказывается куда-нибудь командированным, а вернувшись, узнает, что рок дал ему сына, который каждый же раз уже и окрещен, но не в православие, как надлежало по закону о “смешанных браках”, а в “лютарскую ересь” и наречен не Никиткою, как требуют калужские родители моряка, а то Готфридом, то Освальдом, то Гунтером… Каждый раз отец негодует, бунтует, грозит привлечением к ответу, судом и… понемногу “отходит”, смиряется, уповая следующий раз отстоять свое право на русского “Никитку”. Но каждый раз с неколебимой методичностью выполняется тот же маневр с теми же последствиями.
В таком, поначалу кажущимся комическим, ходе событий обозначается неотвратимая угроза: расчет и система превозмогают эпизодические взрывы кипучей натуры простосердечного русского человека, с одной стороны всегда готового на легендарный подвиг, с другой — чисто по-русски — мягкого и отходчивоуступчивого.
Ехавший в древнюю русскую Колывань с крепким аксаковским наказом: “Шефствуйте и утверждайтесь твердою пятой”, обруситель и “стоялец” исподволь обрастает сплошь немецким родством, начиная с собственных детей, а по выходе в отставку перевозится этою роднёю в Дрезден, где, в свой час, находит себе и последнее пристанище на лютеранском кладбище, приумножив всем своим калужским потомством число верных слуг фатерлянда.
Германо-юнкерская угроза была более чем ясна Лескову. Однажды, уже близко к закату дней своих, он горячо отговаривает Толстого от публикации в Германии неудобной к печати в России статьи его, рисуя “яснополянскому мудрецу”: “Но писать прямо одним немцам — это будет в глаза бить всякому простому человеку, который одно держит во лбу и в сердце, что ведь как бы там ни было, а это они все первые похваляются на всех с силою” [439].
Но это все вопросы уже поздних времен и слишком общего порядка, а как же шли наши частные дела на Колывани?
12 июля 1870 года мать моя, по непредвиденным имущественным осложнениям, спешно уезжает в Киев.
23 августа мы возвращаемся в Петербург. Впервые отец почувствовал, в какой мере труднее все это выполняется без руки хозяйки. В сущности особенно больших затруднений не могло создаться: слуги были старые, надежные, условия прежние, привычные. Однако многое досаждало и раздражало. 25-го отец уже теряет терпение и посылает матери торопящую ее с возвращением депешу. На другой же день он шлет ей, против обычая, сравнительно краткое, но многоговорящее одной своей формой, письмо. Привожу выдержки из него:
“26 августа, среда, утром.
Спб. Фурштатская, 62.
…Вчерашний день не принес ничего нового для решения участи Бориса. Бегал я много, но не успел узнать ничего: у Смирнова умирает ребенок, и потому он на даче и не от кого было узнать, может ли Борис быть допущен к экзамену 28-го. Сегодня табель и большое торжество, и нечего и думать искать кого-нибудь, а Смирнов [440] в Парголове у умирающего сына. Во всяком случае не упускается ничего, и ничто не упустится, если мальчик выдержит экзамен и если своевременно получится распоряжение зачислить его полупансионером. В недостатке этого разрешения я встречаю большие затруднения и очень буду рад, когда они разрешатся… А впрочем, я сделал все, что мог, и если дети 30 числа подвергнутся исключению и останутся еще год болтаться, — я уже в этом не виноват…”
Исполняясь далее все большею раздраженностью, письмо замыкалось инициалами “Н. Л.” с “нетерпячим” росчерком [441].
В каждом слове нервическая напряженность. Мать должна выехать из Киева 30-го. Письмо могло прийти в Киев не раньше 29-го, а дойти до квартиры и на сутки позже. Какая могла видеться в нем нужда?
2 сентября старого же стиля мать возвращается. С нею приезжает служившая у ее киевских родственников добрейшая, милая француженка Мари Дюран, прожившая потом у нас три года, вышедшая замуж за нашего доброго знакомого М. А. Матавкина и сохранившая пожизненно добрые отношения со всеми нами.
Для встречи, как всегда, нанимается четырехместная карета. На вокзал едет поголовно вся семья. Произносятся обычные приветствия, выражается взаимная радость, удовольствие. В доме все оживает, расцветает, исполняется благополучием.
Тут же выясняется, что ни один из недавно возвещавшихся страхов ни в чем не оправдался: из гимназии ни один из двух старших мальчиков не исключен, а третий по возрасту, Борис, беспрепятственно в нее определяется.
Под рукою опытной хозяйки бытовые шероховатости быстро сглаживаются. Устанавливается четкий ритм жизни.
В пределах достижимого успокаивается и отец, целиком отдающийся писанию очередных “кусков” романа, которому предстоит идти у Каткова.
Жизнь течет, пусть и не во всем “gemütlich”, но все же еще терпимо.
И встает — в любимом лесковском речении — вопрос: “Чего ради бысть миру трата сия?”
ГЛАВА 6. КИЕВСКИЙ ГОСТЬ
Среди новостей, привезенных моею матерью, была одна очень неприятная: брат моего отца, Василий Семенович, неожиданно потерял хорошо начатую службу, едва избежал худшего и томится без дела в Киеве, на хлебах у братьев.
Безрадостна повесть кратких дней этого самого младшего из братьев Лесковых.
Началась его так много сулившая жизнь в родном Панине 1 августа 1844 года и нелепо рано оборвалась в июле 1872 года, по-тогдашнему — на краю света, в далеком Ташкенте.
Ласковый, добросердечный, одаренный ребенок завоевал сердце матери, полюбившей его едва ли не сильнее всех остальных ее детей и уж никак не меньше самой младшей ее дочери, рано умершей Маши. Отсюда пошло разновидное баловство, печально сказавшееся впоследствии.
В Киеве, в гимназии, живя у дяди С. П. Алферьева, Василий Семенович учится посредственно. Братьям в летние каникулы приходится брать с него своеобразную подписку, начертанную рукою “старшего в роде”, Николая Семеновича:
“1860 года, мая 29 дня. Я, неключимый Искандерка [442], Василий Лесков, даю сию подписку братьям моим Николаю, Алексею и Михаилу, купно с матерью, в том, что, находясь на Панинской почве, я каждый день обязан посвящать три часа в сутки учебным занятиям с 7 часов утра до 10 час. — За несоблюдение сего условия я всякий раз подвергаю себя наказанию от 25 до 50 ударов по мягким частям”. Ниже стоит подпись: “Василий Лесков” [443].
По окончании юридического факультета Киевского университета он, на 23-м году, служит по крестьянскому управлению в Козине, Корсуни, Богуславе, Умани и других пунктах Киевской губернии. Бытовые условия не легки: хлопотно, бесприютно, вечные перекладные… Но уверенный в себе, он бодро пишет матери: “Живу я недурно, занимаюсь своим делом, и дело идет хорошо, ожидаю в июле ревизии и перемены своего положения” [444].
Ничто не пугает. Крестьянские вопросы и нужды хорошо с детства знакомы, правовая сторона усвоена в университете, способности и силы есть, впереди надежда перебраться из захолустья куда-нибудь поближе, а там, смотришь, пожалуй, добраться и до самого Киева. Так рисовалось не одному ему, а и всем близким. Но…
Он был красив, умен, образован, мягок и уветлив в обхождении, обладал прекрасным слухом и таким же голосом, баритоном. Кажется, все для успеха в жизни! На горе ему, в злую додачу ко всем этим данным шло… вино.
Наталия Петровна Константинова, искренно любившая своего многообещавшего племянника, сурово обвиняла сестру Марью Петровну в том, что, не обегая лично, во вдовстве, в глухом Панине чарочки наливки, а то и горькой, она неосторожно рано стала баловать ими и излюбленного сына-подростка, привив ему пагубную слабость.
Как-то летом 1870 года в каком-то большом селе, в престольный праздник, после обедни, перед всею “громадою” Василий Семенович, случившийся не в порядке, влез на дерево и с высоты своей импровизированной трибуны произнес такую речь, что “злякавшийся солтыс” поскакал к исправнику, тот настрочил “донесение”, и подлинно — пошла писать губерния. Потребовалось заступничество ряда благожелателей и поручительство маститого и всеми чтимого дядюшки Алферьева, чтобы кое-как приглушить “дело”. Служба была сорвана, положение скомпрометировано. Пришла безработица. Молодой, полный сил и энергии человек изнывал. В Киеве становилось невыносимо от покровительственных соболезнований, колких шуточек, улыбок. Не в добрый час поделился он своими невзгодами со старшим петербургским братом. С обычной “спешливостью” развернул последний перед ним заманчивые, но едва ли хорошо проверенные возможности в столице. Обескураженный провинциал доверчиво схватился за них с безысходностью утопающего.
Совершается оказавшаяся роковой смена Киева на Петербург.
Сомнения в правильности шага, тягостные предчувствия овладевают Василием Семеновичем уже в пути. Он пишет неосторожно покинутым им киевским своим родным:
“Ночью лил дождь, в вагоне стало душно от печки и табаку, разговор у всех едущих все как-то не клеился, — мне же лично стало грустно так, что я и сказать вам не умею, уж и сам не знаю почему, — рой самых безотрадных дум настолько меня преследовал, что не дал мне заснуть ни на минуту” [445].
В Петербурге его все ждали нетерпеливо, а мать моя — с исключительным сочувствием к постигшей его беде и искренним радушием.
Вообще она никогда не отзывалась о нем иначе, как о человеке прекрасной души и редкого сердца. Отец мой, случалось, вносил тут какие-то непонятные нам условности и недомолвки. Нас это не смущало: мы знали строгость и взыскательность его суда. И братья мои, гимназисты, и совсем еще юная сестра Вера, и хорошо знавшая Василия Семеновича по Киеву кроткая мадемуазель Мари — все радовались предстоящему появлению на нашем часто не безоблачном горизонте нового члена семьи, такого, по словам нашей матери, молодого, доброго, веселого, красивого.
Обо мне уж и говорить было нечего: я знал, чутьем и сердцем брал, что “мой дядя Вася” будет мне в помогу и радость, и буквально горел желанием скорее увидеть первого из всех живущих где-то, в каком-то Киеве, моих дядей.
Лихорадка “ажидации”, впрочем, постепенно охватила вообще весь дом.
Наконец 12 ноября Василий Семенович приезжает.
Пришелся он по сердцу всем. А дальше — совсем завоевал всеобщую любовь и расположение редкостной милотой души и нрава.
Первый день проводит у нас, а на другой нанимает две комнатки напротив.
Идут медовые дни свидания братьев: осмотр города, показ провинциалу достопримечательностей столицы, галлерей, музеев, Эрмитажа.
13-го утром “ездили в омнибусе по Невскому, заезжали к Фумели, ходили по Пассажу”, — пишет он в Киев. Старший брат, не без оттенка снисходительного покровительства, руководит младшим в постижении всех превосходств столичной жизни. Но почему-то слишком как-то рано начинает казаться, что “status” его “до сей минуты — некрасив он незавиден донельзя, а все-таки я в восторге уже от одного того, что я не в Киеве, где мне все надоели и я всем надоел! Чем порадует меня дальше судьба, буду писать. Тебе еще раз спасибо, Алексей, за твое братское добро; шлю тебе глубокий мой привет из моего “прекрасного далека”. Не забывайте меня, — пишите” [446].
Через десяток дней мать, должно быть не без смущения, читает в письме его к ней: “У Фумели учиться, как я вижу, нечему, разве только любезности говорить, но зубы у меня и свои есть”. Выдвигается новая комбинация с присяжным поверенным Г. Добролюбовым, защищавшим Каракозова, но и она оказывается сначала малоосязательной, а потом и вовсе призрачной [447].
Прямого делового устройства нет как нет! Деньжонки на последнем исходе. Заработка нет. Мать посылает к рождеству вторую полусотню. Сын горячо благодарит и пишет ей: “Дела мои идут туго донельзя; до сих пор живу еще лишь одними обещаниями и советами… Буду о вас думать; о себе уже надоело до боли” [448].
Сдвига никакого. Время идет, а с ним растет и нужда. Бесплодно проходит четверть года!
15 февраля Василий Семенович заводит бесхитростный дневничок [449]. Записи его тягостны. Идут упреки себе в “гнусной и угнетающей дух и тело слабости”, отмечается “глубокое уныние”, говорится” что “решительно никогда самолюбие так не страдало (брат Николай)”.
Мечты об адвакатуре развеяны как дым! Что же делать? Чем жить?
И вот впервые произносится — Ташкент! Единственная панацея ото всех бед и зол — сделаться пресловутым “ташкентцем”! 18 февраля заносится в дневничок: “Николай говорит, что поездку эту легко устроить через Философова, от которого можно добыть письмо к Кауфману; дай бог, чтоб это устроилось! Я буду очень рад”. Ставится крест на ни в чем и ни в ком не оправдавший себя Петербург. Спасаться от нужды и унижений. Бежать — безразлично в какую даль и неизвестность, хоть в преисподнюю.
Николай Семенович хорош с Дягилевыми. Одна из них замужем за генерал-прокурором Военного министерства В. Д. Философовым. Его письмо к туркестанскому генерал-губернатору А. П. Кауфману — верное назначение. Но когда оно напишется, когда дойдет, когда ответит такой важный и занятой человек! А ждать уже нет мочи!
24 февраля Василий Семенович “любезно” принят Философовым, обещавшим “содействовать” назначению “письмом к Кауфману”. Дело пошло. Пошли и свидания с менее значительными, но более осведомленными в туркестанских делах крупными чиновниками, “…добыл более подробные сведения о местах… и образе жизни гг. ташкентцев; неутешительно, а все лучше того, что я теперь выношу”, — заносится в дневничок. Приехавший из Туркестана видный работник предлагает “место участкового судьи, — это что-то вроде европейского мирового судьи; содержания 3200 р[ублей] с[еребром]… Жизнь предстоит ужасная, но все-таки жизнь моя собственная, непрошеная… Весь этот промежуток времени не прожил, а буквально промучился и прострадал… Быть далеко от родных и знакомых, — чего еще желать в моем положении?! Время все лечит, авось вылечит и мои горести и стушует мое прошлое, которым меня чуть не ежедневно упрекают в самых грубых формах. Господи! на Валаам решили отправить для исправления!.. Шевелится чувство скверное, а победить его не умею теперь”, — пишет измучившийся владелец дневничка 28 февраля. Но тут же, казалось, всю эту юдоль пронизал луч света, спасения, возможности вернуться в родной Киев, на привычную работу и к жизни среди во всяком случае более радушных людей, чем оказались в Петербурге Фумели, Добролюбов и другие: “От Михаилы Николай получил письмо, в котором он прислал мне указ Киевской уголовной палаты о зачислении меня кандидатом на должность судебного следователя”.
Увы, должно быть из ложного стыда, спасительное предложение отвергается. Мать никогда больше не увидит своего любимца. Свершается вторая и уже последняя, фатальная ошибка.
Марья Петровна, несомненно, уже многое переоценила в петербургских возможностях и подавлена. 2 марта ее горький сын записывает: “От матери получил грустное письмо; буду ли отвечать — не знаю. Говорил немного по этому поводу с Николаем, — он, кажется, во всем считает себя правым, то есть находит, что он поступил относительно меня так, как бы и следовало. Эта всегдашняя его замашка — быть всегда и во всем правым — меня не удивила, но мне сделалось очень тяжело и противно, и я постарался перервать этот разговор в самом начале и ушел в залу читать газеты”.
Разделяют материнские сомнения и братья. Их страшит предложенный Николаем Семеновичем на смену неудавшемуся Петербургу неведомый Ташкент. Три дня спустя в дневничке появляются новые строки: “От Михаилы Николай получил сегодня письмо, в котором он по общему, вероятно, решению просит Николая удержать меня от поездки в Ташкент, п[отому] ч[то] там, мол, его погибель”. Брат — беллетрист, напротив, всегда считал, что молодому человеку надо больше ездить, видеть, узнавать, набираться в ранние годы избытка впечатлений. Киевляне, не слишком доверявшие вызову Василия в Петербург, теперь еще меньше сочувствовали, исходившему опять от старшего брата, плану отправления его на дальнюю окраину, зловеще прославленную ее чиновниками — “ташкентцами”! Новая попытка вернуть брата, достаточно уже натерпевшегося в Петербурге, в привычные бытовые условия, в простодушное родственное и знакомственное окружение остается бесплодною. А бесхитростно пополняющийся жуткими записями дневничок день за днем превращается в страшный “человеческий документ”:
“Заложил мою шубу; дали всего 25 р[ублей] с[еребром] — это горько обидно”.
“С ужасом вижу, что единственная моя обувь — старые ботинки — разваливаются… Платьишко тоже плохо, да уж, видно, Ташкент выручит из этой беды, а пока похожу Любимом Торцовым”.
“Опять в том же положении; делать нечего, идти, как Мармеладову, некуда, да вдобавок нет даже трех к[опеек] с[еребром]”.
“Антон просит завтра дать ему денег к празднику [450], — а где я их достану?”
“Заложил ростовщику кольцо свое за три рубля серебром, из них 2 р. отдал Антону, как месячное жалованье за услуги, а на остальной рубль остригся и думаю еще вымыться”.
“Приходила прачка, принесла белье и просила денег… — 1 р. 75 к[опеек] с[еребром], но, разумеется, я денег не дал, п[отому] ч[то] у меня их нет… получать неоткуда, занять не у кого, продать или заложить тоже нечего; я не могу даже, подобно Хлестакову, спросить себя: “разве из платья, что ли, пустить что-нибудь в оборот?”, п[отому] ч[то] все, что можно было пустить, — пущено”.
Врожденная мягкость и незлобие позволяют шутить над безвыходностью своего положения.
Однако на последней записи, 10 апреля 1871 года, дневничок все же обрывается [451]. Далее вести свой собственный мартиролог не стало сил.
Невзирая на все муки, любознательность и духовные запросы не угашаются, бьются хорошим пульсом. В дневничке мелькает немало заглавий прочитанных и даже изучаемых книг, как, например: “Организация труда” Луи Блана, “История коммунизма” Альфреда Сюдра, “Средняя Азия” Костенко и т. д. Последняя книга рассматривалась как подготовка к жизни и деятельности в Туркестане.
Хочется привести хотя одну полную дневниковую запись, уже из предпоследних, случайно свободную от заклада шубы, развала ботинок и всех прочих “мерзостей жизни”, одолевавших бедного Василия Семеновича в его безысходной петербургской безработности.
“Апр. 8 (четв.). Пробежал случайно попавшуюся под руку книгу Н. Герсеванова “Гоголь пред судом обличительной литературы”. Прочитал и рот разинул! Книга эта вышла в свет в Одессе и печатана в типографии Францова в 1861 году. Написана она с целью доказать, что “Гоголь был нищий, лакей, ненавистник русской женщины, клеветник ее, клеветник России”. Такова формула г. Герсеванова. Исполнение не уступает ни в чем задаче: нет гадкого порока и страсти, в которой бы не обвинялся покойник через 8 лет после своей смерти; даже как писателю ему отказывается в даровании, и он низводится до простого, заурядного писаки. В заключение автор смеется над Москвой, давшей место на своем погосте Юлии Пастране и Гоголю, — по его мнению, двум одинаковым уродам.
Книга Герсеванова замечательна по своим качествам: бездарности, бесстыдству полнейшему, какой-то непонятной, сумасшедшей злобе и ухарству… — Сегодня же я пустился в литературу: составил для “Биржевых ведомостей” небольшую корреспонденцию об Остзейском крае; впрочем, мне т[ак] заколодило, что я и такого рода работу отчаиваюсь получить. Третьего дня Николай вдруг объявил мне, что он уже устроил меня до самого моего отъезда у Трубникова, где я буду получать по 60 р[ублей] с[еребром] в месяц, — разумеется, этого было бы весьма для меня достаточно, т[ак] к[а]к я живу теперь к[ак] птица небесная, не получая ровно ни от кого и ничего, но, видно, от слова до дела у Николая далеко; вот третий день уже к[а]к он отмалчивается на мои вопросы по предложению, им же первым мне сделанному; впрочем, дивиться нечему: Николай всегда был таков. — Дай господи мне хорошенько помнить теперяшнее мое положение и не забывать его, как горький, но полезный урок, данный мне судьбою для руководства на всю жизнь. — Собственно говоря, я не разочаровался в Николае, п[отому] ч[то] ни на что и не рассчитывал, зная, что он за человек и как ведет себя с теми, кто ему в данную минуту не нужен, но тем не менее порою мне очень тяжело бывает, и я с азартом принимаюсь считать дни приближения отъезда в Ташкент. — Да; не следует утешать себя, а нужно прямо согласиться с Продоном, что, в противоположность квиетизму, жизнь есть постоянная борьба; борьба с нуждой, борьба с природой, борьба с своими ближними, следовательно, борьба с самим собою. Дай боже мне сил и терпения; хотя это, говорят, и ослиная добродетель, но в настоящее время я всего более в ней нуждаюсь. — Я не поступил бы с последним негодяем и не держал бы его в таком черном теле, к[а]к меня держат, хотя хорошо знают, что у меня такое положение переходное. — Пора кончить эту иеремиаду, — это слишком мелко и недостойно; да кроме того, по-своему всякий прав”.
На спасение или на пагубу, в октябре приходит, наконец, давно обетованный и долгожданный Ташкент! После года нужды и унижений было отчего воспрянуть духом! Участковый судья по военно-народному управлению. 3200 рублей годовой оклад. Подъемные, прогоны, поток денег после тягучего обнищевания. Своя — “непрошеная” жизнь!
Можно одеться, не ужасаться развалу башмаков, со всею широтой натуры отблагодарить терпеливого Антона, прачку, рассчитаться по мелким займам.
Одновременно более чем заметно изменяется многое и в характере личных отношений, Лесков покупает покидающему его брату старинный шейный крест; по просьбе отъезжающего у фотографа К. Андерсона заказываются “кабинетные” портреты моей матери и “Дронушки”, то есть мой, и “визитного” формата самого Василия Семеновича [452]. Терзаемый мыслью о предстоящей разлуке с горячо любимым мною “дядей Васей”, я нервничаю, плачу. Чтобы развлечь меня, сам он бежит из фотографии на Невский и приносит воздушный шар, с которым я и запечатлеваюсь на карточке. Капризность моя выражена на ней беспорядком моего костюма в области чулок и подвязки. На моей фотографии Николай Семенович делает надпись: Отцу 3 дек. 71” [453]. Мать моя благословляет отправляющегося в сорокадневный путь образом, присланным из Киева матерью, и крестом, даримым старшим из братьев.
Все это, несомненно, очень хорошо и умиротворяюще, даже ободряюще, а все-таки… Ташкент!? И тянет холодком по сердцу. Теперь он уже не отдаленная предположительность, а бесповоротная правда, “ея же не прейдешь”. Что она даст? Не благоразумнее ли было в феврале — марте вернуться в родной Киев, как предлагали братья?
Канцелярские и финансовые оформления, пошивка почти военного обмундирования — поглощают весь ноябрь. Но всему бывает свой срок. Утром 3 декабря Николай Семенович везет Василия Семеновича к “Спасителю”, в “домик Петра Великого” за Невой, у Петропавловской крепости, где, по стародавнему петербургскому обычаю, служатся молебны во всех серьезных случаях жизни. Затем грустный завтрак, а там пора и на вокзал.
Провожали Василия Семеновича все, кто мог. Оплакивали тоже дружно. Он влек к себе сердца людей.
Поскорбели в меру того, кто и что терял в уехавшем.
Как водится, пообещали, для нравственной поддержки изгнанника, частые послания, и, как водится же, немногие нашли на то досуг и волю.
Новый, 1872-й, последний год своей жизни Василий Семенович встречает в дороге. С места он посылает уже четыре письма в Петербург. Первые три не сбереглись. Последнее цело.
“Ташкент, апр[еля] 13-го.
Любезный брат Николай!
Вот уже четвертое письмо я пишу тебе после выезда из Петербурга; первые три были настолько незадачливы, что не вызвали ответа; может быть, и это постигнет та же участь. Я писал по твоему же желанию и не думал, что беспокою или досаждаю тебе. На этот раз я не могу обойтись без твоего посредства и прошу не взыскать мою докучливость: тридцать рублей, к[оторые] ты получишь при этом письме, я посылаю в уплату долга моего В. В. Комарову; при выезде моем ты был так обязателен, что изъявил готовность сам порешить мой счет с ним, а потому я прошу тебя или передать эти деньги ему, если ты еще не поквитался с ним, или взять их себе, если счеты уже кончены. Прими мое искреннее желание тебе всего хорошего.
Василий”.
На трех пятых складного листика почтовой бумаги писать уже не захотелось. Они остались чистыми [454]. Других следов переписки не знаю.
Недели две спустя он получает от сестры Ольги письмо и, отвечая ей, дает любопытные картинки собственного быта:
“Ты прекрасно сделала, что, не стесняясь, сообщила мне все новости: нужно тебе сказать, что при скуке и однообразии жизни все мы, “господа ташкентцы”, так и глядим, как бы кто-нибудь сообщил нам какую-либо новость, и всегда благодарны за нее… Я живу так себе — не хорошо и не плохо, скучно только очень. Общества местного я бегаю сколько могу, хотя и прослыл за это гордецом… дамы здесь “неописуемые”, — так что всяк человек вполне застрахован от опасности влюбиться. Из общественных удовольствий были здесь и спектакли любителей и концерты, но что за спектакли, что за концерты, — и не берусь описывать! Достаточно сказать, что из гг. артистов ни одна каналья читать толком, а не то что играть не умеет. Я завел себе развлечение иного рода — лошадь. Лошади здесь так хороши и дешевы, что решительно нет возможности устоять против соблазна купить хоть одну. Я заплатил за настоящего степного аргамака 80 р[ублей] с[еребром], но в Петербурге или даже в Киеве за такую лошадь нужно дать никак не меньше 300 или даже больше рублей. Алексей наш тут разорился бы на лошадей… Бесцеремонность и простота местных нравов удивительная — купаются чуть не на улицах. Я по утрам пью молоко, раза три в день купаюсь, не злюсь и не хандрю, а потому и потолстел очень, так что китель, шитый л Петербурге, уже не сходится на мне; гремлю шпорами и шашкой, словно царь Ахилл на сцене. Так что если бы теперь Степановна назвала меня воином галицким, то было бы очень кстати. Очень рад, что дом Алексея так удался, а уж в какой мурье я живу, так и сказать трудно: окошки мои такой величины, как были в Панине в Дмитриевой избе; за стеной помещается моя лошадь, рядом с кроватью моей, так что я, лежа у себя в постели, слышу, как она фыркает, топает ногой и отгоняет хвостом мух. На святой неделе здесь было великое множество скандалов всевозможных, всего больше содержания романического и мордобойного. Третьего дня Кауфман назначил меня произвести следствие о незаконных действиях жены здешнего казначея — бабы колоссальных размеров, два раза изгонявшей от себя полицию и избившей собственноручно двух полицейских унтер-офицеров. Вот тебе образчик мужества наших среднеазиатских барынь” [455].
На этот раз бумага исписана вся, на всех четырех ее страницах, охотно, благодарно, тепло и даже шутливо.
Лето мы почему-то оставались в городе. В “Русском вестнике” и “Современной летописи” Каткова идут: роман “На ножах” и сатирическая повесть “Смех и горе”. Было не до переездов на дачу, а отчасти, может быть, и не до родственной переписки. Автор живет “в трех волнениях” и неустанном горении.
Еще около пасхи, раннею весной, к великой радости моей, получается от ко всем заботливого “дяди Васи” посылка, в которой среди нескольких мало интересных мне предметов оказываются, по сей день мило памятные мне, тонкой юфти малиновые с зелеными разводами тюбетейка, куртка и штанишки, а также и нарядные малиновые же чувяки. Я и восхищался и… плакал. Он никого не забыл. Все были растроганы.
К концу лета внезапно приходит смертная весть.
Следом кем-то посылается дневничок покойного и кое-какие реликвии. Было и чье-то письмо, извещавшее, что Василий Семенович, перенеся в своей “мурье” тяжелый тиф, уже поправлялся, но был еще очень слаб. Темный денщик его, из казаков, принес ему ковш местного вина и убедил выпить для подкрепления сил. Томимый жаждой, он выпил его не отрываясь. Подорванное долгой борьбой с высокой температурой сердце остановилось.
Отслужили заупокойную обедню, панихиды. Переслали матери реликвии и дневничок усопшего. Жизнь потекла дальше. Но дневничок исполнил гневом старшего брата. В Киев полетели письма, полные ожесточения. Убитая горем мать просит смирить гнев [456]. Желчь не утишается. При одной из новых, несколько лет спустя разыгравшихся вспышек, вылившейся, должно быть, в особо беспощадных отзывах о покойном, мать не выдерживает.
“Вчера, — пишет она в Петербург гневливому сыну, — получила я, конечно от тебя, книжку (Аз есмъ, не бойтеся). Большое спасибо тебе за внимание. Говорю тебе откровенно, что все эти назидательные книги приносят мне много отрады. Имела от тебя я два письма. Сознаю все невежество долгого ответа, но, как сыну, которого очень люблю, болею за него, молюсь о облегчении его нужды, скажу: тяжел, очень тяжел мне ответ на них сказать. Попрошу, как милости, не тронь прах, мне так дорогой, больной, милый. Я все знаю хорошо: отъезд, жизнь [в] П[етербурге], отправку в Ташкент. Знаю по слуху, соображению собственному и по его же дневнику. Упокой его господь, не щадил себя, за то много и претерпел. Всего досталось: унижения, пренебрежения, нужды, тоски, одиночества. Молюсь, да облегчит господь его страдания. Он был вреден собственно себе. Мать любил. И, кроме своей слабости, которая была не в его власти, ничем не оскорбил. К родным всегда добр, услужлив, внимателен. Пусть почиет прах его покойно. Не говори мне об нем. Не растравляй ран едва-едва затягивающихся, что каждое противное средство возобновляет боль и надолго. Прости за откровенность и исполни мою просьбу” [457].
Старуха, наконец, освобождается от осудительных упоминаний об ее любимце. Но — только она одна. Это найдет себе подтверждение в дальнейшем развертывании семейной хроники.
ГЛАВА 7. ДРОН
На старости я сызнова живу,
Минувшее проходит предо мною.
Пушкин.Мне нет пяти лет.
Позднее утро. Беспечно сижу в материнском “будуаре” у залитого солнцем окна на Фурштатскую. Целиком поглощен расстановкой на подоконнике оловянных солдатиков. Колеблюсь — произвести ли им великолепный парад или ввергнуть их в кровопролитное сражение?
Слышу, как мать отпускает с последними указаниями искусную повариху нашу, польку Машу, и переходит к обсуждению с домашнею швеею, Анастасией Михайловной Борисовой, ряда сложных вопросов в ее области. Изредка легко пробегает, всегда чем-то озабоченная, славная горничная наша Паша.
Отец где-то, в далеком кабинете, “пишет”. Это призывает весь дом к строгой осмотрительности. Я не смею шуметь и возиться в близкой к кабинету просторной зале. Я и не ропщу: солдатики так увлекательны! Мать разговаривает с портнихой вполголоса. Братья в гимназии, сестра Вера занимается с француженкой в детской.
Празден пока один только я — “куцый”, самый и много младший всех остальных в семье.
Царит почти благоговейная тишина.
На душе тепло и радостно: сейчас поиграю, через час-полтора завтрак, за ним прогулка с сестрою Верой и мадемуазель Мари, такой доброй, знающей столько интересных и веселых рассказов, шуток. На улицах или в “Тавриде” так хорошо! Потом все соберутся к обеду с каким-нибудь лакомым последним блюдом! Благополучию не видать конца…
И вдруг из отцовского кабинета доносится растяжный оклик: “Дро-он!” Все рушится! Предчувствуя недоброе, застываю… “Дро-он!” — громче и уже нетерпеливо повторяется требовательный зов. Цепенея, обращаю полный мольбы взор к матери. Ее нет в комнате. Слышны тяжелые, на высокий каблук, шаги отца. Он останавливается в зале против раскрытых настежь дверей.
— Не слышишь, что отец зовет? — бросается мне с обжигающим душу взглядом. — Довольно болтаться! Иди читать!
Так я и знал! Горестно покидаю окно и, заплетаясь ногами, медленно трогаюсь.
— Иди как следует! Что это еще за походка!
Неохотно прибавляя шаг, оробело переступаю порог уже давно покинутого солнцем, выходящего на восток, на Таврический сад, сумрачного сейчас кабинета.
— Садись… — указывает отец на стул сбоку его письменного стола. Передо мною… синодального издания Библия.
— Читай!
Со страхом божиим, но без всякой веры в успех, как удается, начинаю по складам одолевать тяжеловесные строки. Сбиваюсь. Со второй ошибки быстро впадающий в раздражение отец лишается самообладания, а я — последней сообразительности. Ошибки растут вровень росту “нетерпячества” учителя. Вслед за ущемлением уха следуют более впечатляющие меры воздействия на повышение моего, вконец подавленного, усердия. Через несколько минут реву навзрыд.
Появляется мать, молча изымающая меня из кабинета и водворяющая в детскую.
Подошедший вскоре завтрак проходит в молчании. Попытки отца нарушить его не удаются, предлагаемые им разговорные темы остаются без поддержки. Все хмуро расходятся по своим углам. Отец внезапно вспоминает о каком-то деле и уезжает “в город”.
За обедом, по счастью, гости. Это создает беседность, рассеивает тягость утренних настроений.
Должно быть, не без самоочистительного маневра отец заводит разговор о воспитании, а с тем и о наказаниях провинившихся детей. Он смело отстаивает физическую чувствительность наказаний. Мать и гости твердо возражают. Разгорается спор, в который я, надув губы и почти с наслаждением сохраняя оскорбленность, жадно вслушиваюсь.
— Величайший педагог Песталоцци учит, — выдвигает тяжелую артиллерию отец, — что младенцу, укусившему грудь матери, надо сейчас же дать хороший шлепок, дабы его, пусть и бессознательный, поступок навсегда сочетался в его памяти с последовавшим за ним болевым ощущением.
Сыплются протесты, в которых я ничего не понимаю, думая лишь: но ведь я-то сегодня никого не кусал!
Кто-то, не зная о происшедшем у нас утром, строго осуждает необузданную вспыльчивость самого знаменитого швейцарца, щедрого на полновесные плюхи своим воспитанникам. Это сильно снижает непогрешимость выдвинутого отцом авторитета.
Торжествую. Мать, предотвращая дальнейшее развитие прений по достаточно прискучившей с утра теме, отводит разговор в менее извилистое русло. Обед кончается. Все переходят в гостиную.
Победно ликующий, удираю в детскую, благодарно поцеловав руку матери и, как бы в рассеянности, позабыв выполнить это строго неоступное правило в отношении отца.
Кто думает, что дети легко забывают обиды, — тот их не знает.
Скептик по натуре, я плохо верю бесспорности большинства полумладенческих личных “первых воспоминаний”. Больше верю в склонность отдельных лиц щегольнуть или даже поразить ими. Читая их, я “в удивленье онемелом” не один раз смущался смелостью рассказчика и — “не смею следовать за ним” [458].
Сохраняю убежденность, что их подчас трудно допустимая четкость объясняется необычайною же одаренностью рапсода, сумевшего все сохранить в памяти или же многое — вполне искренно — воссоздать в своем всепостигающем представлении. Удел не взысканных ею — держаться неопровержимого, твердо запечатлевшегося, не стыдясь его незатейливости, обыденности.
Сомнительны и многие так называемые “последние слова” умирающих.
“Надежда — последняя покидает человека”. А окружающим не открыто — после какого именно слова наступит смерть. Как тут установишь потом, что именно сказано позже всего. Случается, что кто-нибудь и запишет эти “последние слова”. И все-таки в большинстве случаев они потом оказываются, хотя бы и не предумышленно, усугубленными в торжественности и глубине.
А за воспоминания слишком раннего детства очень часто сходят рассказы матерей, бабок, нянек, свыкаясь с которыми, ребенок постепенно приучается принимать их за нечто свое собственное. Не исключается и иное, но для этого нужны уж действительно выходящие из ряду вон события и происшествия.
У меня таких не было. Завидую тем, у кого они были — яркие, нарядные или в самом деле потрясающие.
Не насилуя и не изощряя память, дал то, что было и как было, во всей его будничной подлинности, со всею искренностию до сегодня живого ощущения рассказанного. Я не преувеличиваю: ощущение никогда не притуплялось.
Воспитательные приемы Лескова были пестры и сбивчивы.
В годы моего детства он, по обыкновению многих русских людей тех времен, не без “аффектации” принимал догмы Песталоцци, едва ли проникаясь ими в душе и отнюдь не принося им в жертву родные предания и навыки. Учение ивердорфского апостола о благотворности любви и нравственного воздействия невозбранно уживалось с древлеотечественными заветами.
Мудрено ли, что и Лесков дома забывал, как за десять лет до собственных педагогических опытов в отношении сына, осуждая принудительные мероприятия по обучению детей крестьян и вообще малоимущих родителей, он убежденно завершал свою горячую статью:
“Ему прилично было бы припомнить себе, что человек, выученный чему бы то ни было подневольно, непременно и сам делается в свою очередь приневолителем других и таким образом упрочивает длинную фалангу принудителей, из которых создаются поколения, неспособные к усвоению себе многих гражданских добродетелей, необходимых для благополучия человеческого общества. Как бы ни мягка была вынудительная мера, она все-таки есть мера, неблагоприятная народному счастию, которое никакой комитет не вправе топтать или приносить его в жертву даже такой благородной цели, каково распространение грамотности. Никакая благородная цель не оправдывает мер, противных принципам человеческого счастья, а законная свобода действий всегда и везде почиталась залогом счастья, и ни один народ никогда не благословлял принудителей; а в то же время и все прививаемое насильственно принималось медленно, непрочно и давало плоды нездоровые” [459]. Концовкой служила собственная переделка последнего куплета стихотворения Д. Д. Минаева “Это ты, весна” [460]: Все мерещились мне последние стишки обличительного поэта (к весне), и сдавалось, что они не полны, что к их последнему куплету еще следовало бы приписать:
Подневольное ученье,
“Домострой”, лоза,
Это ты, мое мученье!
Это ты, весна!”
Теперь в библиотеке Лескова непраздно стояла прелюбопытная книжечка не ахти какой давности — “Юности честное зерцало, или показание к житейскому обхождению. Собранное от разных авторов в Санктпитербурхе лета господня 1719 г. иулия 5 дня”.
В ней было много поучительного:
“Любяй своего сына участит ему раны”.
“Студ отцу не наказан сын”.
“Кто тебя наказует, тому благодари”.
“Когда кто своих домашних в страхе содержит, оному благочинно и услужено бывает” [461].
По неотступному порядку, все сколько-нибудь заинтересовавшее Лескова в жизни находило себе непременное отражение в его статьях, заметках, произведениях. Не мог остаться обойденным в них и “пенитенциарный” вопрос, по которому сохранились, как всегда, очень неоднородные высказывания.
В самом начале литераторства у него прошла статья с мрачным заглавием — “Торговая кабала” [462]. Ей он дал трогательный эпиграф:
Мальчик был он безответный,
Все молчал, молчал;
Все учил его хозяин —
Да и доконал.
А. Комаров.
В много более поздним “Левше” делается полное обиды за своего, русского, сопоставление наших условий обучения с английскими: “работает не с бойлом, а с обучением, и имеет себе понятия” [463].
В совсем поздних “Пустоплясах” горестное подтверждение: “Школы нам, братцы, не было! Бойло было, а школы не было” [464].
В статье с выразительным заглавием “Сентиментальное благочестие”, разбирая благонастроенный, но совершенно нелепый по незнанию русской жизни великосветски-дамский журнальчик “Русский рабочий”, Лесков остается при особом мнении относительно ненаказания детей в гневе и изъясняет его в маленьком трактате:
“Об этом у известных педагогов мнения разнятся, и многие осторожные люди думают, что Песталоцци, не осуждавший иногда наказания дитяти вгоряче, под влиянием оскорбленного им чувства — стало быть, именно в “порыве”, гораздо правее педагогов-резонеров, которые стоят за холодную легальность в системе наказаний. Приведем всем, вероятно, памятный пример из полемики, возникшей по поводу известных “правил” Н. И. Пирогова. Был предложен вопрос: “Что сердобольнее и полезнее выдрать ли с негодованием за ухо мальчика, который украл с дерева вишни, или привязать его к дереву, чтобы он пострадал от унижения, как сознательный преступник, наказываемый беспристрастным законом?” Как ни груб в понятии некоторых наш русский мужик, но он, изловив на бахче ворующего мальчишку, не всегда отпустит его без нравоучения, а иногда стрясет ему вихор, но он, этот грубый мужик, ни за что не привяжет ребенка к столбу с надписью “вор”, как это делают немцы, и не поведет с ярлыком по улице, как это делают иногда англичане. Грубый мужик наш не осрамит мальчонку и даже не вменит его проступка за воровство, а “поучит” его как шалуна за вихор “рукою властною”, “взвошит” и отпустит и простит, сказав: “Это-де дело ребячье”. Пусть посудят господа сентиментальные моралисты “Русского рабочего”: что лучше и добрее?” [465]
Евангельское указание не раздражать детей предвзято принимается тут за что-то сентиментально-великосветское или по крайней мере анонимное по своему источнику. Оставляется не раскрытым, чем именно мог “оскорбить” ребенок чье-то чувство и в каких именно случаях “иногда” может находить себе оправдание “наказание дитяти вгоряче” или в “порыве”. Не слишком убедительными остаются и достоинства “взвошивания”, да еще “рукою властною”, “стрясывания вихра” и всего вообще перечня однородных мероприятии.
Кары за неуспеваемость при неумелом обучении грамоте здесь оставляются вне обсуждения.
По собственным показаниям Лескова, сам он одолел грамоту, не испытав в связи с этим никаких горестей, не зная слез, трепета, почти шутя, без чьего-либо понуждения.
Какой убедительный и какой близкий пример! Почему бы его не помнить?
Стариком он заносит в записную книжку:
Водка — дьявол в жидком виде.
Гнев — глупость в горячем виде [466].
Все это, конечно, было известно и раньше. Однако ничего не изменилось даже и после записи.
Решительный протест матери в конце концов положил предел обучению меня моим отцом. Думаю, что ему это и самому начинало прискучать. Дело шло к весне, лета мои были и в самом деле малы, торопиться было, пожалуй, и не к чему, а досаждений много.
Осенью 1872 года меня отдали в школу нашей знакомой, Е. С. Ивановой.
Бабушка моя, оказывавшая мне, своему единственному внуку, исключительное расположение, озабоченно писала своему сыну по этому поводу: “Дронушку жаль мне, что рано посылаешь его в школу, хотя бы лет 7 начать учить сурьезно, что он еще, крошка, милое дитя мое, так, кажется увез [бы] его от вас и лелеял-лелеял его; но бог делает все по-своему, буду ждать, авось увижу” [467].
Опытная, терпеливая и со всеми ровная учительница; вместо мрачной, в кожаном переплете, скучной Библии, чуть что не Часослова или Полусонника, по которому обучался знаменитый Левша, — легонький на вес, во всем понятный и интересный Ушинский; вместо уединенного кабинета, глаз на глаз с взыскательным и нервным отцом, — приветливый светлый класс, однолетки мальчики и девочки все с Фурштатской же улицы, наполовину уже знакомые по Таврическому саду. Веселые “перемены”, шумное возвращение гурьбой, с горничными или гувернантками, домой. Все на людях, на общих и равных правах… А “Детский мир” и “Родное слово” так занимательны, что вечерком, приготовив нетрудные уроки на завтра, забежишь по этим книжечкам еще и вперед!
Старея, вспоминая свое детство и перелистывая творения моего отца, я не раз задумывался над заповедно-удивительными его строками:
“Живите, государи мои, люди русские, в ладу со своею старою сказкою. Чудная вещь старая сказка! Горе тому, у кого ее не будет под старость!” [468]
“Но что мне, помимо всех шуток, всего милее — это то, что у нас было детство, — была та поэтическая, теплая пора жизни, которой теперь нет у детей, выведенных из вошебного сада фантазии и чуть не с колыбели запертых по отделам “родиноведения” и других мудрых наук” [469].
“И теперь это вспоминается мило и живо, как веселая старая сказка, под которую сквозь какую-то теплую дрему свежо и ласково улыбается сердце…” [470]
Как глубоко почувствовано, с каким мудростию полным предостережением дано почувствовать всем и каждому… [471]
И с болью думалось — как, понимая и чувствуя все это, можно было не щадить “сон разума” ребенка, отнять у него “теплую дрему”, оставить его на весь путь жизни без спасительной сказки детства, без воспоминаний, вызывающих “ласковую улыбку сердца”!
А в Горохове и Панине “сна разума” и “веселых старых сказок” было столько, что до конца трудной жизни могло ласково улыбаться им усталое, но все еще неуемное сердце…
ГЛАВА 8.ЕЩЕ У “ТАВРИДЫ”
Полны незадач, выше сил работно, безрадостно чередуются дни, месяцы, годы…
Время, правда, вносит кое-что новое, свое. Но отвечающее ли первенствовавшему десяток лет назад строению духа и мысли Лескова?
Неотвратимо растет вовлечение его в круг “людей московского [472] уряда мыслей” [473]. С ними приходится есть соль, пока от нее не “стошнит”! [474]
Неизбежно идет умножение новых, якобы одномысленных попутчиков.
К именам В. В. Комарова, Ф. Н. Берга, В. П. Клюшникова, А. П. Милюкова, Б. М. Маркевича и прочих приобщаются имена Я. П. Полонского, А. Н. Майкова, М. Г. Черняева, В. П. Мещерского, Ю. М. Богушевича и т. д.
Наступает катковское “томление духа”. Но болезнь не к смерти, а в дни грядущие, к выздоровлению. Не заставляет долго ждать себя острый пересмотр всего, во всем в сущности чуждого, ближайшего окружения своего, создавшегося в годы лютого безвремения. Этому сохраняется подтверждение в письмах и произведениях.
Клюшников именуется “крохотным дрянцом” [475]. Берг обвиняется в малодушии и слишком большой осмотрительности. Милюков превращается в “даровитого Милючка”, недостойно “блекочущего” что-то о своих чувствах к Данилевскому. Сей последний — уже “Гришка Скоробрешко”, “гусь” или “граф Данилевский”, назойливо домогающийся указания ему достойного места в литературе. “Вися Комаров”, “по рассеянности” женившийся на дочери “Гришки” [476] вместо дочери Каткова, издавая газету “Русский мир”, просит Лескова дать для его органа роман, но “чтобы был совсем не художественный, а как можно базарнее и с похабщиной” [477]. Черняев не без яда возводится в сан древлего богатыря “Редеди”. Князь Мещерский признается “каким-то литературным Агасфером”, и притом “в науках не зашедшимся”, “недоумком консерватизма”, которому незачем еще больше “скверниться”, а лучше “как-нибудь пообчиститься” [478].
О “заносчивом хлыще” или о “честном Марковиче” жестких отзывов Лескова сколько угодно, но есть один и превеселый, жанровый, живописующий не только Болеслава, но слегка и “самого” великомощного покровителя его — Каткова. “К удивлению, в нем [479] действительно всегда замечалось очень странное и подчас очень смешное стремление к аристократизму. Он любил “высокое положение” в людях, особенно — родовое, и благоволил к тем, кто имел знакомства в том круге. С этого, напр[имер], началось и долго на этом, главным образом, держалось его благорасположение к Марковичу, у которого — как это ни смешно — он брал примеры обхождения и старался пришлифовать к себе его, совсем не утонченные, манеры. Это было известно многим, а мне раз довелось видеть пресмешной случай в этом роде. Маркович… имел удивительно округленные окорока, по которым умел при разговоре громко хлопать себя ладонями. Один раз, споря с М[ихаилом] Никифоровичем в своей квартире в доме Зейферта на Сергиевской, Маркович в пылу спора все прискакивал и отлично прихлопывал себя по окорокам, что, видимо, нравилось М. Н-чу и Евгению Богдановичу, который тоже хотел так хлопнуть, но у него не вышло. После этого тотчас Маркович пошел провожать Богдановича, а М. Н. остался один в кабинете, а я в зале, откуда мне было видно в зеркало, что делается в кабинете. И вот я увидал, что М. Н. встал с места, поднял фалду и начал себя хлопать по тем самым местам, из которых Маркович извлекал у себя громкие и полные звуки… У М. Н-ча ничего подобного не выходило, и он, оглянувшись по сторонам, сделал большие усилия, чтобы хлопнуть себя, как Маркович, но все это было напрасно: звук выходил какой-то тупой и плюгавый, да и вся фигура его в этом положении не имела той метрдотельской, величавой наглости, какой отличалась массивная фигура Маркевича. Тогда М. Н. вздохнул, опустил фалду и с усталостью и грустью сел писать передовую статью, в которой очень громко хлопнул по голове Валуева. Но уверяю вас, что эти пустяки совсем мною не выдуманы” [480].
Это заимствовано из переписки. Есть нечто, так сказать, и из домашнего обихода.
Самовлюблённый Маркович, начав седеть, стал краситься. Однажды мать моя с огорчением обнаружила жирное пятно на высокой спинке кресла, на которой перед тем покоилась гордая голова только что ушедшего вельможного сановника. Пришлось развесить на всей мебели немецки практичные, но немножко жеманные вязаные наколки. Много смеялись у нас другому случаю. В пылу какого-то горячего спора мать моя, апеллируя к авторитету Маркевича, вместо “Болеслав Михайлович” воскликнула: “Болеслав Маркович! подтвердите же наконец, что это было именно так, как я говорю!” Напыщенный хлыщ не только не сумел снисходительно улыбнуться сорвавшейся с уст хозяйки дома обмолвки, но даже, совсем не по-великосветски, едва не надулся…
Во второй половине семидесятых годов “пересмотр” своего окружения Лесковым завершен: второстепенные из недавних сопутников брошены, с главарями — открытая, неустанно нарастающая борьба до последнего дня своего.
В “фурштатские” же годы сложились добрые отношения с графом А. К. Толстым и А. Ф. Писемским. Первому из них посвящаются “Соборяне”. Второму выражается исключительное внимание, признание громадности ума, знания России, сочности таланта.
В общем, к обоим этим именам живет неизменное расположение… Иначе шло дело с одним из наиболее близких ему недавно писателей, с которым он был даже “на ты”. Видоизменение этих отношений показательно. Создалась недостоверная, но, как часто бывает, живучая легенда. На этом надо остановиться.
В шестидесятых годах, работая в “Отечественных записках”, Лесков сходится с автором печатавшихся тогда в этом журнале “Петербургских трущоб”, Крестовским. Вместе с “Всеволодом” и известным ваятелем, по приятельству — “Михайлой” Микешиным, Лесков посещает знаменитую “Вяземскую лавру” на Сенной площади. Невдолге пути приятелей начинают расходиться. Однако в годы раннего моего детства отношения были еще достаточно дружественны, “Всеволод” у нас свой человек, частый и всегда желанный гость. Как было не запомнить его и мне!
За обедом упоминалось, что сегодня “милюковский вторник” и что, перед тем как ехать на Офицерскую улицу, условлена деловая встреча со “Всеволодом” у нас на дому. Вся молодежь, вплоть до “куцого”, то есть меня, расцветает! Еще бы! Всеволод Владимирович вносит всегда в наш несколько сумрачный домашний строй столько оживления, шума, впечатлений: невероятной величины и “малинового звона” шпоры, непомерная по росту сабля, которую мой отец, к величайшей нашей обиде, пренебрежительно называет то “валентиновскою”, по герою оперетты “Маленький Фауст”, то “Дюрандалем” — прославленным мечом легендарного “неистового” Роланда; уланский мундир с этишкетом, а иногда, вместо фуражки, даже шапка с султаном! Дух замирает!.. С наступлением сумерек напряженно ждем. Смелый, так сказать “военный”, заливчатый звонок. Конечно, он!? Высматриваем через щелку чуть приоткрытой двери в переднюю. Он! Дружески сбросив радушно приветствующей его нашей милой Паше “николаевскую” шинель с пелериной, он проходит в кабинет. Терпеливо ждем и прислушиваемся. Боже мой, как долго… Наконец, покончив досадные для нас деловые переговоры, он направляется в залу поболтать с хозяйкой дома, пока отец управится с какой-то неотложной работой. Сюда же высыпаем и все мы, сторожа момент, когда мать пойдет одеваться и гость останется полностью в нашем обладании.
Он не строен, скорее приземист. Голова посажена на короткой шее, которую он часто высвобождает из ненужно тесного и ненужно высокого воротника. Это не обличает избытка вкуса. Во всем, начиная с монокля в слегка оплывшей орбите глаза, чувствуется что-то непростое, неспокойное, армейски ухарское… Но нам, ребятам, все рисуется чарующе прекрасным. Сыплются анекдоты, новости, слухи, почти сплетни. Не требуя приглашения, садится за рояль, на котором “жарит” что-то самоучкой, но бойко, и поет. Голоса немного, но экспрессии не занимать стать: “Две гитары зазвенели, жалоббно-о за-ны-ыли-и: сердцу паммятны наппевы — тты-ы ли, друг мой, тты ли?” Припев душераздирающий: “бассан, бассан, бассаннатта — ты другому отдана. Ты друггомму отданна-а-а без возвратта, без возвратта-а!”
Малопреклонный к музыке, особенно к “жестоким романсам”, отец выходит из кабинета и выразительным взглядом приглашает маму начать собираться, затем притворяет за собой дверь в переднюю и снова уходит в кабинет. Этого только мы и ждали! “Всеволод Владимирович, Всеволод Владимирович! Военное, гусаров!” — кричим мы, обступив певца. “Военное? Гусаров? Идет!”
После ряда перезабытых за долгую жизнь “номеров” шли обычно два, до сих пор живо звучащие в моей памяти.
Под легко-лазоревый, “курц-галопный” аккомпанемент, то в теноральных, то в баритональных тонах, местами не без фальцета, раздавалось:
“Трруббят голлубые гуссары, из города едут долой, прощщай же, моя ты голубка, увижусь ли снова с тобой?”
И после этой грациозной гейневской песенки, уже “под занавес”, пройдясь по всей клавиатуре бурным арпеджио и задержавшись в мрачных басовых аккордах, финальный, грозный марш:
“Налливай, разливвай кругговые ччары! Маршш вперед! — Смеррть иддет! — Ччеррны-ые-е гуссары!..”
Напряжение достигает апогея.
“Ну и марш вперед, к Милюковым! Поезжай с Катериной Степановной, а я по пути заеду за Клеопатрой Владимировной”, — раздается возвращающий нас к действительности голос стоящего на пороге одетого уже “по-вечернему”, но “по-штатски” скромно, отца.
Дом пустеет. По плитам ступеней парадной лестницы, через двойные двери, с каждым шагом глуше, еще гремит “Дюрандаль”, а в наших ребячьих ушах неумолчно звучат лихие аккорды грозного марша “бессмертных гусар”.
Мать Крестовского, Марфа Осиповна, весьма свирепого и далеко нe барственного вида, любила рассказывать, как “ее Всеволод” обычно так крепко спал, что даже обливание холодной водой не могло заставить его подняться. И вот как-то, когда он был еще “штатским”, кто-то из семейных, подбежав к окну в зале, крикнул: “уланы!” Все бросились смотреть на шедший по улице полк и, когда тот уже почти целиком прошел, остолбенели: у одного из свободных окон, завернувшись в одеяло, стоял только что непробудно спавший Всеволод, не сводивший жадных глаз с последних рядов улан. Секрет был найден. С тех пор каждый раз, когда необходимо было разбудить сына, Марфа Осиповна вбегала к нему с криком: “уланы!” Успех был неизменен. В 1868 или 69-м году он и сам, писателем с именем, поступил юнкером в 14-й уланский Ямбургский полк.
Постепенно отношения обострились до такой степени, что Лесков нашел себя вправе писать Крестовскому: “А ты в 30 лет, в полном развитии сил, все “трубишь”, вместо того чтобы устроить детей и успокоить семью, да ищешь людей, которые еще более утверждали бы тебя в желании “трубить”… Труби, брат, труби; немного осталось, когда про тебя протрубят и будешь ты курам на смех” [481].
Проскальзывает кое-что и в произведениях. Так, например, в 1875 году в “Блуждающих огоньках” отец говорит сыну: “Учись, братец, всему полезному, а то, если будешь бесполезен, я тебя в уланы отдам” [482]. Это было не в бровь, а прямо в глаз, да еще и всенародно.
Не остается в долгу и Крестовский, пустивший в том же году в оборот акафист, далеко не исчерпанный в своей злобности и хлесткости строфою:
Мир ти, чадо! Проскакав
По Европе много станций,
К нам вернулся цел и здрав
Новый наш Лактанций.
Так постепенно от былой, хотя бы и недолгой, дружбы ничего и не осталось.
Г. П. Данилевский в упоении признательно писал 3 декабря 1869 года М. М. Стасюлевичу: “Вы… отграничили меня от гг. Крестовского и Стебницкого в вашем журнале” [483]. Теперь они отграничивались друг от друга уже сами, и чем дальше — тем глубже.
Однако до последних своих дней Лесков не отнимал у Крестовского прежних его заслуг. В беседах дома он неизменно указывал, что “Петербургские трущобы” в свое время сыграли большую роль как одна из первых попыток заинтересовать общество вопросами социального характера, заставить его читать “книгу о сытых и голодных” и задуматься о доле последних [484].
Насколько мы, мелкота, радовались всегда приходу Крестовского, настолько же боялись появлений Писемского. Нам было строго внушено, что он терпеть не может детей. И нас прятали и держали в дальних комнатах. Рассказывали, будто, когда ему однажды объяснили, почему он нас не видит, он рассмеялся: “И совсем это неправедный поклеп на меня, а я детей даже очень люблю, и всего пуще, когда они заплачут”. — “Полноте, Алексей Феофилактович, ну что же в том хорошего, что плачут-то?” — возразила моя мать. “А их тогда, глядишь, сейчас же и уберут”, — ответил маститый гость. Впрочем, мне почему-то кажется, что такой диалог “имел хождение” применительно не к одному Писемскому.
Собственных чисто “литературных” воспоминаний этой ранней моей поры у меня, естественно, не могло создаваться. Ребячески поражала, всем казавшаяся смешной, напряженная суетливость полненького Данилевского, которого попозже Лесков не раз иносказательно именовал “бойким” или “юрким литератором”. Особенно озадачивала мое детское воображение и любопытство совершенно черная, с горошину, выпяченная бородавка у него на лбу. Запомнился еще высокий, ражий, всегда улыбчивый Ф. Н. Берг, стихотворение которого о заиньке, лапочкой о лапочку похлопывающем и трогательно приговаривающем: “экие морозцы, прости господи!”, Лесков охотно наизусть читывал до последних лет своих, поглядывая в ясные дни в окна на обмерзших людей и лошадей. С тех еще времен и пошло за Бергом прозвище “Заинька”. Пожалуй, и все.
С концом 1870 года связано мое первое, счастливо для меня начатое знакомство с моим родством: приехал дядя Вася. Ему отведена глава 6 в четвертой части этой книги. Ему я обязан до сих дней согревающими дух и мысли воспоминаниями об обидно краткой, но полной неувядаемой прелести поре моего раннего детства.
И все-таки приходится сознаться, что и это такое милое мне тогда имя, в смену лет, постепенно оказалось “забытое давно в волненьях новых и тревожных”, переставая служить источником “воспоминаний пылких, нежных”. Но внутреннее, хорошо залегшее в душу чувство, хотя бы годами и приглушенное, не омертвевает совершенно, пока жив человек. В свой срок прошлое воскресает… Многое тут бывает страшно, но многое и умиляет. И сейчас, три четверти века спустя, Василий Семенович мог бы продолжить допущенное здесь пользование прекрасным стихом, сказав: “Есть память обо мне, есть сердце, где живу…” и не ошибся бы: живет!
Не смею утверждать, что я сохранил безупречно четкое, живое, не по фотографиям, представление внешности покойного. Но я полон чувствованием его всегда бледного, задумчивого лица, какой-то, может быть только в условиях петербургских незадач возникшей, робости выражения синих глаз. Хорошо помню высокую гибкую фигуру, легкую поступь, спокойные движения, мягкий жест, приветность речи. Без затруднений представляю, ощущаю зимние вечера, в которые мы сиживали с ним на большом диване в полутемной угловой нашей зале, ведя бесконечные, едва ли многозанимательные для него, но восхитительные для меня, тихие беседы, исподволь прислушиваясь к покашливаниям и нервным передвигам рабочего кресла в кабинете.
Таким рисуют мне Василия Семеновича моя память, чувство… Этого, конечно, мало.
Как уже известно, он оставил дневничок — подлинный “человеческий документ”. Он был начат, веден и брошен строго по интимным побуждениям и потребностям. Этим утверждается бесспорность его искренности. Им сбережены простосердечные свидетельства о жизненной и рабочей обстановке Николая Семеновича в те времена. Небольшие извлечения из него, несомненно, кое-что осветят. Итак — к ним, к дневничку, к “человеческому документу”!
“За обедом между Николаем и Ка[териною] Степ[ановною] произошла какая-то вспышка, в которой Николай, по моему мнению, не виноват. Смотрю я, смотрю на сию… Катерину Степановну и никак не могу уяснить себе, что “оно” такое? По-своему добрая, довольно последовательная в том, что себе зарубит (упертая), и всячески бестолковая… Это тип малороссийской “жинки”, которая не боится своего “чоловша”. Особенно интересна она с своею манерой говорить “высоким слогом” и пускаться в рассуждения… Но тем не менее, в ней есть стороны, которых нельзя не уважать: она прекрасная (по-своему) мать, хорошая и заботливая хозяйка, что тоже не вздор; и потом она очень правдива…” (26 февраля 1871 года.)
Милый, не искушенный еще жизнью со всеми ее противоречиями, старовер и правдолюбец! После кромских, уманьских и киевских “дам”, чуждых многим интересам, женщины столичных литературно-артистических кругов были ему слишком новы, неожиданны, странны и непонятны.
Внешне провинциальные “жинки”, может быть, и больше считались со своими “чоловiками”. Но являлось ли это истинною панацеей супружеского благоденствия? Не подменялась ли в ней искренность житейскою сноровкой?
Отвергал он и власть соблазна, овладевающего человеком, исполненным речевого мастерства, безотступно подсказывающего всегда новую, блестящую импровизацию вместо безупречно достоверного, но и бесцветного доклада о том или ином событии. Здесь совершенно исключалась какая-нибудь “нужда” или “цель”. Здесь не было ничего, кроме неодолимо властного “влеченья духа”, неосилимой потребности обогатить фабулу, утончить узор, оживить расцветку.
Беллетрист до мозга костей, неподражаемый рассказчик, Лесков тепло и любовно говорит о легендарном киевском “антике” Кесаре Берлинском:
“Соображал он быстро и сочинял такие пестрые фабулы, что если бы он захотел заняться сочинительством литературным, то из него, конечно, вышел бы любопытный сочинитель. Вдобавок к этому все, что Кесарь раз о себе сочинил, это становилось для самого его истиною, в которую он глубоко и убежденно верил. Вероятно, оттого анекдотические импровизации “печерского Кесаря” производили на слушателей неотразимо сильное впечатление”.
Дальше, передавая рассказ Берлинского о совершенно невероятном способе его делать у людей верхние больные зубы нижними, примененном им якобы к “Бибиковой теще”, автор “юношеских воспоминаний” восхищенно свидетельствует:
“Но чуть к нему [485] коснулся гений Берлинского, — произошло чудо, напоминающее вмале истечение воды из камня в пустыне. Крылатый Пегас — импровизатор ударил звонким копытом, и из сухой, скучной материи полилась сага — живая, сочная и полная преинтересных положений, над которыми люди в свое время задумывались, улыбались и даже, может быть, плакали” [486].
Чувствуется не только полное оправдание, но и признание художественной артистичности и в речи и в смелости создания пленительной “сочной саги”.
Вдохновенность ошеломительных импровизаций исполняла восторгом слушавшего их юношу. Берлинский поражал, запечатлялся, жил в памяти, как бы побуждал “дерзать”.
С началом “сочинительства”, среди многих профессиональных советов, познается и мнение Вольтера, что все виды литературы хороши, кроме скучного. Закон принимается всем сердцем: раз он хорош для calami [487], чего ради не следовать ему и в lingua [488]?
И Лесков не мог два раза рассказать о чем бы то ни было, не привнося каждый раз непроизвольных вариаций, в которые тут же сам начинал “глубоко и убеждение верить”. Незыблемая точность тяготила. Даже в цитатах он не был строг, приводя их по памяти и сплошь да рядом — в отвечающей его задачам редакции. Раздражал и педантизм библиографов, которые подчас казались ему даже “противны” [489].
Близких повествовательные вариации главы дома повергали подчас в большое смущение. Наиболее строптивые, хотя бы и неправомочные, решались бросать ему, украдкой от посторонних слушателей, негодующие взгляды. В творческом порыве рассказчик холодно отводил глаза.
Представляло ли, однако, это собою редкое явление? Кто сейчас не читал, как и сколько корил себя в ранних своих дневниках в кое-чем схожем Л. Н. Толстой?
Как не вспомнить рядом, с какой всеоправдывающей, если не поощряющей, весёлостью писал 7(19) ноября 1856 года И. С. Тургенев А. Н. Островскому об экспромтных увлечениях в беседах А. А. Фета: “Это человек душа — милейший поэт, врет иногда так мило, что расцеловать его хочется”.
Василий Семенович и моя мать не читали ни толстовских дневников, ни тургеневского письма. В простоте своих неискушенных сердец они, несомненно, все равно остались бы в протесте. Это вопрос натуры. Им она не позволяла постигать трудность совмещения в себе то виртуозного сочинителя, то скучного правдослова. И они искренно страдали.
Возвращаюсь к дневничку:
“Николай мечется еще и до сих пор, и когда остановится — бог знает. Какая это богатая и способная натура, а жизнь свою не умел сберечь!” (28 февраля 1871 года).
“Обедал, по обыкновению, у Николая и вечером ходил к нему, но во все время не перемолвился с ним ни одним словом, потому что он молчит и хмурится, как бирюк: я, мол, сердит сегодня. Ну и бог с ним! Причудливее человека редко можно встретить, тем более что я по крайней мере не умею себе объяснить многих его выходок и капризов, истинно недостойных сорокалетнего умного и развитого человека. Порой он даже просто смешен бывает с своими мгновенно сменяющимися порывами строгости и ласк относительно Дрона, которого, по моему мнению, он только пугает и вместе балует таким способом обращения, но уж никак не “воспитывает”, как ему это кажется… А Дрон очень нуждается в том, чтобы им занялись как следует, иначе все хорошие задатки, которые теперь в нем замечаются, могут при мало-мальски неблагоприятных обстоятельствах дать плохие плоды. А жаль, — мальчик очень хороший и разумный!” (20 марта 1871 года).
“Вечером у Николая собрались знакомые: жена и сестра Турбина, М. П. Лелева с мужем, К. С. Иванова и Н. М. Фумели, было шумно и весело без принуждения, — танцевали и даже пели все, кто что умел: М. П. Лелева спела первую арию “Елены”, Marie свою шансонетку, а я, по общему настоянию, последнюю арию Сусанина “Чуют правду”, и, сверх всякого моего ожидания, весьма недурно, так что вызвал в слушателях одобрения и шутливые аплодисменты. — За ужином пошла речь о спиритизме (инициатива подобных разговоров вечно принадлежит Николаю) сравнительно, или, лучше сказать, сопоставляя его с христианством; весьма немногие, конечно, могли принять в нем участие, а потому и скучали, слушая, а что всего хуже, так это то, что разговор этот кончился пикировкой между Ник[олаем] и Екат[ериной] Степ[ановною]”. (29 марта 1871 года.)
“Вечером у Николая А. П. Милюков читал свою повесть из времен И. В. Грозного “Царская свадьба”, — дело идет о третьей женитьбе его на Собакиной. Вещь эта хорошо выработана и полна интереса как по предмету, так и по подробностям; видно, что на нее затрачено много труда и времени. Из литераторов на чтении присутствовали Богушевич, Скавронский, С. И. Турбин и Боборыкин; из простых смертных: Фумели, актер Федоров и я. Мне особенно не понравился Боборыкин, — кричит громко, много, дерзко и с ужаснейшими жестами и кривляньями, — знай, дескать, наших. Мне невольно вспомнились стихи, сказанные ему С. И. Турбиным:
Посмотреть на вас поближе,
Так, ей-богу, даже жаль, —
Вот что значит жить в Париже
И ходить в Пале-рояль!
И какая разница между тем и другим! В Боборыкине так и видишь хлыща, довольного собой, барчонка, которому хочется и полиберальничать и не хочется от своих отстать: я-де все-таки un homme de la société! [490] Он именно “штатский юнкер”, по его же выражению”. (1 апреля 1871 года.)
“Прочел новое, еще нигде не напечатанное стихотворение графа А. К. Толстого “Песня о Потоке богатыре”; рукопись его принес Николай от автора и списал себе; по форме оно напоминает дневнерусские былины и представляет аллегорически народ русский; в нем много ума и ядовитости, несколько напоминающей его “Целителя Пантелея”. (6 апреля 1871 года.)
“Вечером просидел до 10 часов у Николая, видел там жену Вс. Крестовского, — очень показалась антипатична эта барыня — что можно отчасти объяснить и моим предубеждением на ее счет, так как я давно уже знаю кое-что из ее вертепных похождений, тем не менее я не могу скрыть досады, когда ее сожалеют и оправдывают… Кроме ее, был А. П. Милюков и проф[ессор] Предтеченский; беседа шла умно и занимательно”. (7 апреля 1871 года.)
В 70-м году каким-то образом становится вновь возможным общение со “скандалистом академической газеты”, А. С. Сувориным, круто оборвавшееся десяток лет назад в Москве у “Сальясихи”. Сближение с этим быстро выдвинувшимся популярным и опасным публицистом, в тайне помыслов, давно представлялось желательным и … недостижимым. Трудности здесь преодолеваются, вероятно, обращением Лескова к многолетнему врагу за посредничеством в разборе тяжбы с В. В. Кашпиревым из-за “Божедомов”, закрепленным эпистолярно [491]. Такой демарш ломал многолетний лед, неизбежно несколько связывал враждебность “Незнакомца”. А ведь в каждом деле всего ценнее первый шаг. Он был сделан. “Лиха беда — начало”, — говорит народ.
Год спустя ему посылаются уже главы романа “На ножах” и очерка “Смех и горе” с прямою и полной доверия просьбой: “Прочтите, судите и “ругайте”, если добрая совесть ваша укажет вам, за что “ругать” следует” [492]. Переписка оживляется, становится более приятельской, обоюдно нимало не убеждая “противумышленников”. Не торопясь, с перебоями, дело все же движется.
В 73-м году Суворин признает необходимым получить от Лескова автобиографические данные, намереваясь включить их в затевавшийся им справочный сборник. Лесков охотно приступает к выполнению заказа, привнося в ответное свое письмо уже некую дружескую увещевательность: “Благодарю и за искреннее мнение обо мне и моей деятельности. Как быть? Все мы люди, все человеки, — существа плохие и несовершенные перед идеею абсолютного разума и справедливости. Может быть, и я во многом виноват, может, и вы в чем-нибудь не безгрешны… Кто из нас в чем был правее другого, то решать не нам… В заключение скажу вам: вряд ли многие из нас теперь в существенных вопросах так противумысленны друг другу, как это кажется. А подумайте, что впереди? Если мы поживем, то не придется ли нам повоевать заодно против такого гадкого врага, который мужает в меркантилизме совести? За что же мы унижаем друг друга? И перед кем? — Перед людьми, которые всех нас менее совестливы… Распря наша часто держится характера чисто сектаторского… Это худо; но помочь этому могла бы только одна талантливая критика, а ее нет…
Наши люди как-то более умеют щадить самолюбие и человеческое достоинство своих противников, и по крайней мере они едва ли на десять оскорблений отвечают одним, и то всегда гораздо более умеренным. Как хотите, а это несомненный признак порядочности, который нельзя не уважать в самом противумысленном нам человеке. Вот вам мой болтливый ответ на ваше доброжелательное письмо, за которое еще раз благодарю вас; вполне вам верю (как и всегда верил) и желаю вам от души наилучших во всем успехов и наилучшего счастья” [493].
А следующее, очередное из сохранившихся, письмо заключается совсем приятельской приписочкой: “Р. S. Не случится ли быть в Петергофе? Заверните, пожалуйста. У меня такой простор, что запоздавший гость и ночует, нимало меня не стесняя, а напротив, даже обязывая” [494].
Чувствуется почти удовлетворенность совершившимся, наконец, полупримирением. Одним из самых лютых врагов из сверстников, с которыми начата была литературная жизнь, меньше!
Вражда успела хорошо измотать. Чего только не наговорено было на столбцах печати друг на друга! Сдвиг! Довольно “великих браней”! Намечается взаимная благонастроенность, признание права на разномыслие.
Большой прочности во всем этом, конечно, не оказалось. Не такие были темпераменты. “Одержимости разными одержаниями” хватало в каждом.
Не лучше, если не хуже еще, идет и со многими другими. Одобрения и хвалы “благоприятелей”, изрекаемые “пошептом”, — раздражают. Открытого признания нет.
Каковы же общие итоги и уровень личных дел и положения? В литературе — без ободряющего изменения. Дома — “вспышки”.
Было над чем задуматься.
ГЛАВА 9. “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ КНИГА”
Сильно ожегшись, а затем немного и поостыв, Лесков отходит от напряженно полемических романов, от слишком острых счетов с нигилизмом.
Значительно позже сам он скажет: “Я сначала злобился, а потом смирился, но неискусно” [495].
В чем же выразилась эта неискусность, и в чем видел ее сам Лесков?
Не в неровности ли самоусмирения, перемежающегося с внезапными новыми взрывами злобленья?
Каков же в общем путь от “Некуда”?
В следующем за ним году появляется “Леди Макбет нашего уезда” [496]. В тогдашнем своем тиснении рассказ почти полностью свободен от каких-либо с кем-нибудь счетов. Чистый, художественно данный быт.
Дальше — “Обойденные”, с противопоставлением рабоче-экономического опыта здешних героинь опыту Веры Павловны Лопуховой в романе “Что делать?” Н. Г. Чернышевского [497].
Затем “Воительница” [498] — кроме легких, по лексике Лескова, “намеков на то, чего не ведает никто”, почти неполемична, как и следующие за нею “Островитяне” [499].
Обозначаются будущие “Соборяне”, пока в их первоначальном плане и с точно выражавшим основную их идею заглавием — “Чающие движения воды”. Здесь уже не обходится без “рикошетов” по противникам. Задача — показать превосходство перед нетерпеливым зовом “в топоры” мирного чаяния целительного “возмущения воды”, которое будет произведено самóю благонастроенною властью, изготовляющею уже благие реформы.
Пишется, публикуется и ставится на Александрийской сцене пьеса “Расточитель” [500]. Цель — убедить в ужасе старых бытовых и общественных взаимоотношений, обрекаемых на гибель введением “нового суда”, гласного судопроизводства, вынести бесповоротный приговор “ума и совести народной расточителям”.
Печатается чисто исторического характера бытовой очерк — “Старые годы в селе Плодомасове” [501].
Это все, в той или другой мере, отвечает или не противоречит готовности автора утишить в себе “злобленье”. Но рядом с этим им овладевает “влеченье, род недуга” поддать жару, и какого!
Публикуется, по собственному его определению, “вещь пряная и забористая”, которая “шуму может возбудить множество” [502]. Именуется она — “Загадочный человек”, а подзаголовок ей ставится призанятый у Н. Ф. Щербины: “Эпизод из истории комического времени на Руси” [503].
Вся “вещь” до отказа насыщена острыми выпадами по адресу некоторых, своими именами названных, деятелей “нетерпеливого лагеря”. Это как бы “эпизоды”, случайно или по несовпадению во времени с выходом романа не нашедшие себе места в “Некуда”.
Исключительная “забористость” нового выпада поднимает новую озлобленность на автора. “Шуму” действительно возбуждается “множество”.
С декабря 70-го года начинают выходить главы “сокрушившего” в конце концов самого автора романа “На ножах” [504]. Он тянется почти весь следующий год. Новые бури!
Чуть начинавшие было заживляться раны открываются сызнова. Так шли и обстояли дела вообще. В частности, “Соборяне” испытывали неисчислимые затруднения.
В шести книжках последнего квартала “Отечественных записок” оповещается о предстоящем печатании в них “романической хроники “Чающие движения воды” господина Стебницкого.
И действительно, со второй половины марта 1867 года это печатание начинается, но на второй апрельской книжке обрывается.
Исчерпывающее объяснение этому дается Лесковым в его обращении за ссудой в Литературный фонд.
Это было уже полное прекращение какой-либо связи Лескова с “почтенным редактором”, для которого, “вследствие некоторых особенностей нрава и обычаев” его, литературные “скандалы не редкость”.
В том же году определенные куски хроники включаются в выпущенную книжку произведений Лескова уже под заглавием “Старогородцы. (Отрывки из неоконченного романа “Чающие движения воды”)” [505]. В конце этой публикации автор объяснял, что “роман”… “начат был при непростительном забвении” всех цензурных “терзаний”, испытанных при печатании им своего романа “Некуда”, и “при еще более непростительном заблуждении, что все нынешние наши, бесцензурные по имени, издания бесцензурны и на самом деле”.
В очередной стадии своих мытарств многострадальное произведение печатается под третьим заглавием — “Божедомы” — с января 1868 года в журнальчике, умирающем на февральской книжке [506].
Новое злоключение! Опять надо искать издательство радушия!
8 августа 1868 года “Божедомов” приобретает В. В. Кашпирев для учреждаемого им журнала “Заря”. Гонорар сто рублей лист. Пятьсот рублей задатка.
Как водится, сперва идут взаимные любезности. Издатель успевает выдать автору еще тысячу рублей. Постепенно возникают неудовольствия, переходящие в прямую “дрязгу”, а там доходящие и до тяжбы.
Кашпирев предъявляет иск в 1800 рублей. Поверенный Лескова, орловский его приятель Н. М. Фумели, подает встречный в 700 рублей.
12 августа 1869 года Петербургский окружной суд, заслушав стороны, отказывает обоим в их исках и возлагает судебные по ведению дела издержки на обоих поровну.
Постановление небывалое! По существу в выигрыше ответчик, а не возбудивший дело истец. Рассчитаться с ним все-таки надо. И хронику опубликовать тоже необходимо. Все это заботит, тяготит, раздражает…
Возвратясь из суда, Лесков пишет в газету “открытое письмо”, в котором сочно обрисовывается суть дела с открытым признанием, что в определенный момент он взял у Кашпирева “роман для поправок и объявил, что затем без письменного условия” рукописи не отдаст.
Дальше, в доказательство неосновательности претензий противной стороны, Лесков объяснял, что предлагал последней получить и от него “в возврат свой задаток в два срока с обеспечением его моими изданиями, хранящимися у Базунова, или векселями на неплатящих мне за старые работы редактором гг. Боборыкина и Достоевского. Я не 12 августа заявил это на суде, как сообщает “Судебный вестник”, а я с прошлой осени ищу такой развязки и не мог ее найти потому, что г. Кашпирев до сих пор, пока нас с ним рассудил суд, все стремился продать мой письменный стол и табуретку” [507].
Не удовлетворяясь судебной победой и газетным уязвлением противника, Лесков переходит в наступление, перенося все дело в область чисто литературных счетов. Он признает себя тяжко оклеветанным и оскорбленным Кашпиревым на суде утверждением последнего, что прошедшие за время ссоры в “Русском вестнике” главы о “Плодомасовских карликах” составляют существенную, неотъемлемую часть полностью приобретенного им у автора романа.
Поднимается новая “свада”, но на этот раз по строго принципиально литературному вопросу, разрешить который в силах только третейский суд профессионалов.
Лесков, не без побочных соображений, вовлекает в дело заведомо враждебного ему А. С. Суворина, несомненно нерасположенного к нему М. М. Стасюлевича. Предположительно называются тут и граф А. К. Толстой, и А. П. Милюков, и А. П. Скабичевский, и Н. Н. Страхов.
Задумывается и сооружается нечто выше нужды громоздкое. 8 апреля 1870 года днем он получает испрошенную ему Сувориным аудиенцию у Стасюлевича.
Последний, с профессорской методичностью, выдержкой и авторитетом лет и опыта, видимо, доказывает пылающему не слишком обоснованным негодованием Лескову призрачность клевет и оскорблений, усматриваемых им со стороны Кашпирева. Создается положение, при котором можно удовольствоваться оглаской своих попыток и, внемля старейшему, как бы из уважения к его авторитету, утишить гнев свой. Буря стихает [508].
“Хроника” по-прежнему не пристроена! Заколдованность ее судьбы удручает. Столько затрачено трудов, столько было ожиданий.
Раздосадованный Лесков пишет в Москву незнакомому еще ему С. А. Юрьеву, собиравшемуся редактировать нарождавшийся журнал “Беседа”. Предлагая своих “Божедомов”, он говорит, что его герои “несколько необыкновенны, — они церковный причт идеального русского города. Сюжет романа, или, лучше сказать, “истории”, есть борьба лучшего из этих героев с вредителями русского развития. Само собою разумеется, что ничего узкого, фанатического и рутинного здесь нет. Детали романа нравятся всем и, между прочим, Мих[аилу] Ник[ифоровичу] Каткову, но в общей идее он для некоторых взглядов требует изменений, которых, по-моему, он вовсе не требует” [509].
Завязывается переписка, как будто что-то сулящая.
9 марта 1871 года Лесков везет своих “Божедомов” в Москву в предположении отдать их Юрьеву. Тот, видимо, мнется, тянет, а Катков, обласкав автора, приобретает “старогородскую хронику”, которая получит потом свое последнее заглавие — “Соборяне” — и посвящение — “графу Алексею Константиновичу Толстому”.
Со слов вернувшегося 19 марта брата, Василий Семенович заносит в свой дневничок: “Сегодня утром приехал из Москвы Николай, где поместил, наконец, своих “Божедомов” у Каткова в “Русском вестнике”… Я душевно радуюсь тому успеху, которым, по его словам, пользовались в Москве в этот приезд его произведения и он сам. От “Божедомов” я жду много хорошего. Дай бог счастья и доли Николаю, — работает он страшно, подчас даже не по силам своим” [510].
С продажей романа не только нравственно, но и материально гора сваливается с плеч. Катков дал не сто, как давал Кашпирев, а полтораста рублей за лист. Это облегчает погасить долг Кашпиреву, возросший с процентами до тысячи девятисот рублей. Одной обузой стало меньше.
В апреле приезжает в Петербург Катков. Лесков делится с П. К. Щебальским сведениями о своих свиданиях с приезжим и об общем положении издательских своих дел: “На сих днях ко мне обратился книгопродавец Ваганов с просьбою продать ему право на “Полное собрание” моих сочинений, — я отказался. По-моему, это еще рано и невыгодно для меня до тех пор, пока будут напечатаны “Божедомы”. Здесь я вошел с Михаилом Никифоровичем несколько в иной тон отношений. Не знаю, чему это приписать? Начальное внимание его ко мне, верно, кроется в столь зримой интриге моей в пользу классического образования — интриге непредосудительной и, смею думать, даже честной… Надо же было хоть один орган удержать в пользу этого вопроса, и тут мы, разумеется, “поинтриговали”. Что делать? Но потом Мих[аил] Никиф[орович], верно, нашел, что меня пустым мешком же били, и обласкал меня, как никогда не ласкивал” [511].
Идет благорастворение воздухов… Однако вслед приходят и будни: обычная, мучительнейшая для авторов, редактурная пытка, нравственная дыба, волокита, требование ненужных изменений, подправочки, усмирение или усиление тех или других мест и т. д. “до бесконечности”. Переварить весь этот, по-нынешнему говоря, “принудительный ассортимент” бывает труднее, чем написать работу.
Усовершателем “великолепного” творения и судьей, утверждающим окончательный его текст, а частью даже форму, становится П. К. Щебальский, человек без сколько-нибудь значительного положения в литературе.
Порядочный, воспитанный и благожелательный, он несопоставляем с автором в мере литературной одаренности. Спасибо, что приятен в обхождении и обычае, что Лесков, чувствующий, что “это, может быть, единственная моя вещь, которая найдет себе место в истории нашей литературы”, — жертвенно идет на уступки с трогательной покорностью року и даже с ясно улавливаемой радостью, что ментором ему дан уважаемый им Щебальский, a нe иной кто из катковских препараторов.
Он пишет своему редактору: “Я уполномачиваю вас, однако, сделать в нем те сокращения, какие вы признаете полезными, но непременно вашей рукою, осторожною и доброжелательною… Хроника же такая, как “Божедомы”, должна быть строго верна правде дня, и я возмущаюсь против вас, мой благороднейший руководитель” [512].
Но так или иначе, а мало кому ведомый сейчас Щебальский руководствует Лескова!
Постепенно автор начинает изнемогать и пишет своему наставнику:
“О себе вам скажу вот что: я некое время сам не знаю, что о себе думать: мне как-то все жестоко надоело, то есть так надоело, что я все держусь плана вашего: хочу на год спрятаться в Веве, или еще лучше в Сорренто, и что-нибудь “совершить” (как говорил Гоголь). Мне все кажется, что все, что я пишу, вовсе не то, что я хочу и могу написать, — могу, ибо ощущаю, что
Жизнь хороша, потому что искусство прекрасно […]
Возлюбите, ради любви к искусству и идее любви, моих “Божедомов” и соблюдите их. Я на них возлагаю большие мои надежды, и по иx поводу, вероятно, придется договориться до дела: будет или не будет выходить в 1872 году “Р[усский] в[естник]”? Если не будет, то, я полагаю, надо будет передать роман в “Беседу” или, может быть, напечатать в “Совр[еменной] летописи” [513].
Новая угроза: не придется ли снова переустраивать свое творение к Юрьеву или спускать его в газетку, в которой, по выражению Лескова, раз уже “кокнуло, как яйцо в яишнице”, его “Смех и горе”. Тревогам и опасениям нет конца, и в них тянется бесконечная мука мученическая!
Где тут было “совершать”, когда после трехлетних “терзательств” пришлось самого Савелия отпускать “в горняя” утишенным и примиренным, а не опаленным и негодующим на неоправдание ни одного из “чаяний”.
Предлагая роман Юрьеву, Лесков подчеркивал необыкновенность своих героев. Роман был необыкновенен весь, во всем своем строении, этот единственный и первый “роман без любовной интриги”, как его характеризовал автор [514].
Что же могло внушить мысль дать героями романа людей, которые в этих ролях так “необыкновенны”?
В этой области есть ценное показание писателя.
Рисуя “кромешный ад, который представляла собою орловская монастырская слободка” с благостно резидировавшими в ней “лютыми крокодилами” архиереями и “ужасными”, ненасытными их секретарями Бруевичами, с “многострадальными” священно- и церковнослужителями, вызывавшимися туда “под начал” или “ожидавшими резолюции” преосвященных, Лесков, от сердца болезнуя о последних, открывает душу:
“Они располагали меня к себе их жалкою приниженностию и сословной оригинальностию, в которой мне чуялось несравненно более жизни, чем в тех так называемых “хороших манерах”, внушением коих томил меня претензионный круг моих орловских родственников. И за эту привязанность к орловским духовенным я был щедро вознагражден: единственно благодаря ей я с детства моего не разделял презрительных взглядов и отношений “культурных” людей моей родины к бедному сельскому духовенству. Благодаря орловской монастырской слободке я знал, что среди страдающего и приниженного духовенства русской церкви не все одни “грошевики, алтынники и блинохваты”, каких выводили многие повествователи, и я дерзнул написать “Соборян” [515].
“Дерзал”, надеялся, даже, можно сказать, — уповал…
После, по счету Лескова, четырехлетнего “лежания”, или “спанья” [516], “Соборяне” увидели, наконец, свет [517]. Но пройдя через какие испытания и редакционные застенки!
Успех старогородская хроника имела односторонний. Многие органы остались холодны. Любопытная частность: И. Е. Репин писал В. В. Стасову: “Соборяне” Лескова действительно ретроградных тенденций полно, но очень художественно и верно изображает среду, хотя семинарским слогом. Впрочем, тенденции его чисто московские” [518].
Невелик был и житейный прибыток: из четырех тысяч гонорара за двадцать пять листов почти две ушли Кашпиреву, а остальное прожито, пока в слишком долгих муках родилось детище.
Однако надо воздать заслуженное издателю. Лесков, уже в годы полного разрыва с ним, вспоминает: “Катков… платил мне по 150 р., когда мог платить, подобно Кашпиреву, по 50 и мне “некуда” было деться!.. А он еще мне подарил издание “Соборян” [519].
Кашпиревская полистная плата вполовину умалена не то по давности событий, не то для усугубления картины “злострадательности” посленекудовского своего положения.
Лескова всегда горячо захватывали разговоры о положении и условиях работы и жизни наших и иноземных литераторов.
“Что тут сколько-нибудь схожего, общего? — восклицает он. — Первая, не совсем бездарная работишка француза привлекает к себе внимание критики и читателя. Вторая — дает постоянного издателя, возможность работать уже не спеша, не ради хлеба на сегодня, не размениваясь на поденщину! А уж мало-мальски интересный или оригинальный роман — приносит все: окрыляющий дух и дарование успех, известность, серьезную оценку критикой, загородную виллу, яхту на Средиземном море, дающие отдых и обновление сил, рвущихся к новым трудам, углубленному творчеству! Как тут не работать, не вырабатываться дальше, не расти, не “совершать”! Что же вместо всего этого видит наш необеспеченный, хотя бы и бесспорно талантливый, литературный труженик? — негодующе развивал он дальше. — Брань и травлю вместо учительной критики, каторжную зависимость от кулаков-издателей, от службы, без которой одним писательством не прокормишься, нужду, мелочную, чуть не построчную, спешную работу ради покрытия кругом обступающих нужд. Вот и твори в такой обстановке и совершенствуйся в своем многотрудном искусстве!”
Не лучше вышло в свое время и с “Соборянами”. Далеко оказалось до возможности “спрятаться на год в Веве, или еще лучше в Сорренто”, и там что-то “совершить”!
Годами вынашивавшаяся под сердцем работа не разрешила ни одного из вопросов, не оправдала ни одной из надежд.
Положение в литературных кругах не улучшилось. Рамки журнальных возможностей не раздвинулись. Достаток не освободил от поденщины.
А ведь именно про это произведение через полустолетие Горький сказал: “В семидесятых годах, когда Лесков написал великолепную книгу “Соборяне”…” [520]
Долго довелось ей ждать такого признания.
Что же принесла эта романическая хроника своему творцу при своем появлении в печати?
По любимому Лесковым мицкевичскому выражению — горькое wielkie nic! [521]
ГЛАВА 10. В ХОРОШИЙ ЧАС
Как правило, барометр на Фурштатской, у Таврического сада, стоял на “переменно”, с ясно выраженным стремлением в любой момент перейти на “бурю”.
Конечно, это не исключало возможности иногда н безоблачных, солнечных дней или хотя часов, и притом восхитительных!
Они приходили с тою же неожиданностью, с какою уступали место ненастью.
В такие дни все в доме оживало, расцветало, лица горели радостью, слышался звонкий смех, царило весельем дышащее настроение.
“В добрый стих” предпринимались прелестные прогулки, придумывавшиеся самим Лесковым и выполнявшиеся под непосредственным его руководством. Они были разнообразны.
30 августа, в “Лександров день”, смотрели на Невском проспекте крестный ход с хоругвями и иконами из Исаакиевского собора в Александро-Невскую лавру, в котором обязательно шествовал один из сенаторов в ярко-красном, золотом шитом мундире. Затем шли на Марсово поле, иначе Царицын луг, на устраивавшееся там “народное гулянье”.
Чего тут не было! Катались на каруселях; взлетали под небеса в люльках перекидных качелей; смотрели, как бьют “турку”, то есть человекообразный чурбан с циферблатом, на котором означалась сила удара; как лазают по высокой мачте, намазанной маслом, к висящему наверху ведерку пива или водки; как бегают на нехитрые призы в мешках, одетых на ноги и завязанных у пояса; как на запряженной лошадью платформе проносятся, под висящим на перекладине большим ведром с водой, удальцы с шестом в руках, которым надо угодить в дыру полукруга, прибитого впоперек ко дну ведра. Лезущие по мачте, обессилев, комично съезжают наземь, бегущие в мешках падают и барахтаются в тщетных попытках встать, ведро почти поголовно всех окачивает с головы до ног. Публика грохочет, мы, молодежь, вместе с нею. Писатель всматривается в “толпучку”, прислушивается к ее “словечкам”, острым шуткам…
Удовольствие повышается поглощением грубоватых, но казавшихся неизъяснимо вкусными, лакомств, под которыми ломились дощатые ларьки и разносные лотки.
Если не ошибаюсь, в тот же день традиционно публика допускалась до заката солнца на валы Невской и Екатерининской куртин Петропавловской крепости и ближайших к ним бастионов. Здесь стояли старинные чугунные пушки, из которых давался сто один выстрел в высокоторжественные дни, Новый год и пасхальную ночь. Одна из этих пушек стреляла ежедневно в полдень, возвещая населению так называвшийся “адмиральский час”, то есть ранний военный обед и водку. Питерщики поверяли по ней свои часы.
На Троицкой площади и у Иоанновских крепостных ворот учреждался бойкий базар со всеми видами невзыскательных яств, питий и сластей.
Кроме этих сухопутных экскурсий бывали и водные, предпринимавшиеся, как и первые, по возвращении нашем с дачи. Мать моя очень не любила их и никогда не участвовала в них. Это развязывало руки отцу. Она брала всегда с него слово, что в Неву мы выходить не будем.
Наняв четырехвесельную лодку на пристани у Летнего сада, мы тотчас же брали под Цепной мост, поднимались по Фонтанке и под Прачешным мостом выходили на Неву. “Только не проболтаться, смотрите, маме”, — говорил конспиративно отец. В этом было заговорщическое озорство, льстившее нашему самолюбию.
Но еще большим отклонением от просьб и даже мольбы мамы являлось дальнейшее поведение отца, а с ним и наше.
Едва выйдя на невские просторы, наш кормчий, впадая опять в конспирацию, испытующе говорил: “А не забыли, чем замечателен дом у пристани, с которой мы взяли лодку?” Шло оскорбленное возражение — конечно, мол, твердо помним. “Ну, в таком разе запевай!”
Три гимназиста, гимназистка, я и сам на руле сидевший отец затягивали:
Что это за здание
У Цепного моста?
Выйдет приказание,
Выпорют — и просто.
У царя у нашего
Все так политично:
Вот хоть у Тимашева —
Выпорют отлично!
Так был почтен министр внутренних дел А. Е. Тимашев, некогда начальствовавший в известном III отделении. Затем сюжеты уходили в глубь времен. На маршевом темпе шел новый опус:
Царь наш немец прусский,
Носит мундир узкий,
Ай да царь, вот так царь,
Провославный государь!
Царствует он где же?
Целый день в манеже.
Ай да царь…
Прижимает локти,
Забирает в когти.
Ай да царь…
Росту три аршина,
Сущая скотина!
Ай да царь…
Пелось еще на заунывный мотив детской французской песенки “Au clair de la lune…” [522] нечто на смерть Александра I и воцарение Николая I:
Русский император
В вечность отошел.
Ему оператор
Брюхо распорол.
Плачет вся Россия,
Плачет весь народ.
Едет к нам на царство
Константин урод.
Но творцу вселенной,
Богу вышних сил
Царь благословенный
Грамотку всучил.
Манифест читая,
Сжалился творец:
Дал нам Николая.
Сукин сын, подлец!
Тексты приведены такими, какими слышаны мною много раз в чтении их Лесковым. Они не во всем совпадают с опубликованными [523].
Последняя песенка, написанная В. И. Соколовским, отнесена была у нас к творчеству Рылеева. Концу ее было дано тоже недопустимое по действительному ходу дел толкование, якобы Николай спросил Рылеева: “К кому относятся последние слова вашей гнусной песни?”, а тот колко ответил: “К богу, но никак не к вашему императорскому величеству, примите это как смягчающее вину обстоятельство” [524].
Мудреного в таких ошибках и смешениях нет. Архивы были недоступны. “Потаенные” издания доходили трудно, а легенды создавались легко, не боясь очевидных нескладиц.
Мне было лет шестнадцать, когда мой отец, не без особой тайности развернув принесенный им сверток, многозначительно сказал мне: “Вот Суворин дал на недельку прелюбопытное лондонское издание. Будет свободное время — посмотри. Положу в спальне у кровати”. Это как раз и был том “Русской потаенной литературы XIX столетия” с предисловием Н. Огарева, вышедший в Лондоне в 1861 году. Возможно, что это был первый случай, когда Лесков имел возможность не спеша проштудировать издание вдоль и поперек. Со временем большинство апокрифов нашло свое место и оценку.
Возвращаюсь к нашим навигационным экскурсам. Для разнообразия иногда мы от той же пристани брали менее опасный курс — по Мойке, по Екатерининскому каналу. С приближением к Невскому отец настораживался и внушительно объяснял нам опасность водного туннеля под невероятно широким Казанским мостом. Особенно опасной представлялась возможность встречи там другой лодки и трудность разминуться с нею. Старшие мальчики не очень верили всем этим затруднениям, а я немножко трусил. Но все шло гладко, и сам Лесков, на самой середине, начинал произносить какие-то звучные слова и фразы, внимательно вслушиваясь в их отражение нависшими над водой каменными сводами.
По строго установленному моим отцом образцу, все прогулки завершались покупкой в попутных лавчонках печеных яиц, особо любимых им кругленьких румяных саек, выпеченных на прилипшей к ним соломе, широченной, крепко прокопченной углицкой колбасы, яблок и тому подобного. Все это поедалось на неторопливом марше к дому и во вновь попадавшемся по дороге ларьке запивалось различными квасами, вплоть до знаменитых в свое время “кислых щей” — три копейки бутылка.
В таких обычаях ярко сказывалось что-то неистребимо гостомельское, орловское и ни в какой мере не столичное для людей определенного круга и положения.
В весенние или осенние приезды кого-нибудь из киевлян Лесков ревниво брал на себя роль столичного чичероне и исполнял ее рьяно.
Он любил “Петра творенье”, гордился им.
В исключительных красотах Петербурга не допускалось ни малейшего сомнения.
В 1875 году, при посещении с эмигрантом князем И. С. Гагариным парижских иезуитских школ, Лесков с глубоким удовлетворением прочел на французском букваре: “Les environs de Saint-Pétersbourg sont admirables!” [525]
Он твердо запомнил это заслуженное признание и не упускал вспомнить его в беседах со скептиками, находившими, что смешно искать что-либо доброе на ингерманландском болоте!
В невской дельте “бегали” синенькие катерки “Финляндского легкого пароходства”. Совсем маленькие перевозили за две копейки через Неву, на которой было маловато мостов, а несколько покрупнее совершали рейсы от Летнего сада до Крестовского острова, проходя всю Большую Невку.
Последний маршрут входил в непременную программу ознакомления провинциалов с красотами ближних петербургских окрестностей. Когда с пароходика открывался Каменный остров, Лесков маестозно простирал руку и чеканно декламировал стихи К. П. Масальского:
Возможен ли поэзии резец
Изобразить Елагинский дворец,
Когда он, месяца лучами освещенный,
В кристалл Невы глядяся голубой,
Любуется собой?
В зимней обстановке хорошее настроение выливалось, конечно, в иных формах. Здесь первенствовало посещение театров, а на масленой даже и балаганов, строившихся довольно долго на Адмиралтейской площади, а потом переведенных на Марсово поле. Превыше всего уделялось внимание литературе. Здесь в разнообразных жанрах выступал и сам мастеровитый чтец, Лесков.
Придав своему подвижному лицу умильно-плотоядное выражение, а голосу то грубоватую нетерпеливость, то лукавую смиренность, он со смаком читал притчу П. В. Шумахера:
Монах стучит в ворота рая.
Апостол Петр ему в ответ:
— Куда грядешь, не разбирая!
Здесь вашей братьи духа нет!
Вы все печетесь о житейском.
Вишь! словно боров разжирел.
Должно быть, в чине архирейском
Ты всласть курятинки поел?
— Апостоле! не осудиши!
У всякого свои грехи!
Да говори про кур потише,
Чтоб не запели петухи.
И на этот раз Лесков не вполне тожественен опубликованному тексту или автографу, хранящемуся в альбоме М. И. Семевского.
При сборе некоторых знакомых и приятелей устраивались инсценировки. В одной из них длинный режиссер Александрийского театра, Ф. А. Федоров-Юрковский, с медною полоскательницей на голове и палкой от половой щетки вместо копья в руке, въезжал из передней в залу верхом на детской палочке с лошадиною головой. Сопровождавший его “маленький художник”, Я. Л. Филатов, в какой-то цветной скатерти-епанче, с собственною своею, традиционно художническою, широкополою шляпой на голове, тоненьким фальцетиком возвещал: “Вот, наконец, достигли мы Мадрида!” Тотчас же появлялся со своим “Дюрандалем” в руке Всеволод Крестовский. Происходил горячий поединок, в котором оба противника проявляли великолепный комизм и смешили своими “антраша” до слез. Дон-Кихот и Санхо-Панча уступали место балету, но “Всеволод” и тут играл чуть ли не самую видную роль дирижера. За рояль садилась моя школьная учительница Е. С. Иванова. Вслед за этим, для развлечения утомившихся и отдыхающих танцоров, М. П. Лелева вытаскивала меня, ставила на медный лист у большой кафельной печки (иначе я не соглашался выступать) и заставляла петь партию Вани из “Жизни за царя” (“Иван Сусанин” Глинки) — “Как мать убили” и “Бедный конь в поле пал…”
Не только балаганы, но даже и последний мелкий, лично мой номер не забыт писателем, и много лет спустя, в “Полунощниках”, появилось некоторое, хотя и сильно видоизмененное, его применение — подвыпивший герой женским голосом поет: “Медный конь в поле пал! Я пешком прибежал!” Ничто никогда не оставалось без отзвука, хотя бы и в новой “интерпретации”.
Всего живее воспринимались, конечно, сольные “эстрадные” выступления самого Лескова. Темы для них почерпались из разнородных личных его памятей, накопленных за богатую встречами и былями жизнь.
Одно из хорошо запечатлевшихся еще в детстве происшествий разыгралось, по его словам, на родных стогнах, когда ему было всего десять лет.
“Везла меня матушка, — не спеша начинал он повествование, — из Орла домой на первые гимназические мои рождественские каникулы. На какой-то почтовой станции недоступный никаким увещеваниям и просьбам смотритель коротко и бесповоротно отрезал: нет лошадей — и безучастный углубился в лежавшую перед ним, будто бы занимавшую его книгу. Мы были в отчаянии. Это явно доставляло ему особое наслаждение: знай, мол, наших и чувствуй, какая во мне сила! Приходилось смириться, и мы, с сопровождавшими нас слугами, занялись чаем.
Невдолге к станции подкатили большие сани, и в комнату вошел отменно пристойный молодой человек, предъявивший подорожную на пять лошадей.
— Нет лошадей, — не взглянув на нее, оторвал смотритель и снова уставился в свою книжку.
Молодой человек молча взял подорожную и вышел. Смотритель окинул всех победным оком. Восхищенно переглянулись и наши слуги: вот как отбрил барина в еноте! Безнадежность нашего положения получала новое подтверждение.
Но тут же неожиданно послышались тяжелые шаги, распахнулась входная дверь, в комнату ввалилось что-то в огромной медвежьей шубе и, подойдя к столу, рыкнуло:
— Читал, мерзавец, подорожную?
— Неет-с, — потеряв все недавнее величие, отвечал смотритель.
— Не читал? Небось, четырнадцатым классом, каналья, пользуешься?
— Пользуюсь, ваше высокопревосходительство!
— Чин “не бей меня в рыло” имеешь?
— Имею-с.
— Избавлен по закону от телесного наказания?
— Избавлен-с.
— Так не уповай на закон!
И весь разговор пересыпался оглушительными затрещинами, дававшимися шубой смотрителю, то валившемуся с ног, то снова встававшему для получения новой оплеухи.
Шуба вышла. Смотритель выбежал распорядиться лошадьми строгому сановнику. Сани ушли. Смотритель вернулся и удрученно сел на свое место. Мы все оставались в оцепенении. Но душевное состояние потерпевшего требовало излитий и сочувствия.
— Вот, изволите видеть, — грустно обратился он к моей матушке, — какие у нас в России бывают по службе неприятности. Это еще хоть большая персона, а то другой раз какой-нибудь прапорщик или корнет к рылу лезет, так это уж совсем противно.
И с этим, отойдя сердцем, приказал подать нам лошадей. Домой мы добрались без дальнейших приключений, сочельник встретили в кругу родных, очень смеявшихся рассказанному матушкой случаю на станции, а я лично навсегда уразумел силу закона и несравненное превосходство над ним в моем отечестве властей предержащих, поучающих не уповать на закон, а почитать только начальство”, — заканчивал Лесков [526].
Изображался, случалось, киевский кривоносый, почти неграмотный пономарь Константин Пизонский (он же Ломоносов) на испытании в чтении духовных книг. Преобразясь в жалкого церковнослужителя, не раз изобразивший его в своих произведениях писатель начинал: “И пливедоща тлех отлоков, отлоков! Имя же пелвому Мисс… Мисс… Миссааах, Миссах! Имя же втолому Сид… Сидд… Сиддлааах, Сидлах! Имя же тлетьему Ав… Авв… Аввденагогого… Тай казав же, що не выговолю!..” — с отчаянием бросал книгу и махал руками псевдоиспытуемый под всеобщий хохот [527].
“Заглянул будто как-то в начале лета, — начинался новый художественный артикль, — в свое любимое детище, в Училище правоведения, на Фонтанке, против Летнего сада, Николай Палкин. Время вакационное. Воспитанники за городом, на даче. Идет ремонт помещений. Парты из классов вынесены и навалены где попало. Заставлена ими и парадная лестница от самого входа.
Окинув наводящим ужас свинцовым взглядом беспорядок, царь грозно спрашивает выбежавшего навстречу директора:
— Это что?
— Мело маста, ваше императорское величество!..
— Что-о?! — еще строже переспрашивает гордившийся даром ошеломлять верноподданных Николай.
— Маста мело! — лепечет потерявший голову генерал-лейтенант А. П. Языков.
— Ду-урак! — всемилостивейше бросает ему величество и, повернув к своей пролетке, мчится дальше. На высочайшем челе проступает удовлетворенность: мимоходом свершен акт государственного управления…”
И принимаемая Лесковым при рассказе осанка, и властно указующий на подразумеваемые парты державный перст, и августейший опаляющий взгляд — все, вплоть до заключительного оклика, потрясает…
Жизненность приведенных картинок убеждала, что в молодых сценических опытах Лескова в спектаклях “киевской княгини” Васильчиковой ему не трудно было щегольнуть даром и перевоплощения и творческой импровизации.
Случилось как-то, в зиму 1867–1868 годов, нечто никем не чаянное и ничем не предусмотренное.
Поздний фурштатский вечер. Чай давно отпит. День закончен. Старшие “дети” еще с чем-то возятся по своим углам. Столовая и угловой зал уже темны. Мать у себя не то читает, не то что-то мастерит: у хозяйки забот и дела много. В обособленном на краю квартиры кабинете, не счесть уже который раз, “перестругиваются” отдельные “куски” будущих “Соборян”.
Один за другим гаснут в комнатах огни. И прекрасно, никто не помешает “совершать”! Хороший творческий пульс, настроенность, подъем. Поработаем!..
Увлеченность трудовой задачей разгорается. Дом исподволь засыпает.
Но вот невдолге среди мертвой тишины откуда-то доносятся непостижимо громкие протяжные восклики, в которых не сразу, с трудом постигается: “уй-яз-влен, уй-яз-влен, уй-яз-вленн!” — и снова “до бесконечности”, как говорила старогородская просвирня Препотенская.
Первой выбегает в зал еще не успевшая лечь моя мать. Затем, накинув на себя что попало, появляются гимназисты.
Не обращая ни на кого внимания, по темному залу ходит взад и вперед творец “Соборян” и неукротимо, сейчас уже для всех явственно, продолжает деланным басом во всю силу возглашать: “и скорбьими уй-яз-вленн, и скорбьими уйязвлен!”
Ничего страшного. А сразу, да еще спросонья, не знать что в голову шло! Теперь все стало смешно, хотя по-прежнему непонятно.
— Что? — остановясь наконец, спрашивает Лесков. — Похоже? На дьякона Ахиллу похоже? Мог он, увлекшись так, вопить в соборе?
— В соборе, днем, в исступлении, вероятно, и мог, — говорит успокоившаяся уже мать, — но не в спящем доме, не в пустом зале…
— Нет, по совести, не скажут, что авторская выдумка, невероятно, искусственно? Для первозданной натуры-то!
— Думаю — не должны сказать, — продолжала мать, — однако очень необычайно, как и разыгранная сейчас импровизация.
— Ну и спасибо, пусть и необычайно, но ведь не невероятно! А разве Киево-Печерской лавры знаменитый дьякон Антоний, “переложив” меру вина накануне какого-то торжественного служения, не грохнул что-то несуразное, вроде “анафемы” вместо “многая лета”, да с повторением. Едва убрали с солеи от срама. Я с него и взял для Ахиллы и даже много смягчил случай!
В общем, поверочный опыт удался. Удовлетворенный им автор возвратился к своему алтарю, остальные, позевывая, “во-свояси”.
О другой, сколько-нибудь схожей с этой, самопроверке не слыхал.
Чрезвычайно нравился нам, пожалуй, самый большой немножко рискованный, из шутливых рассказов отца, носивший торжественное название: “Три генерала от литературы в интимно-затруднительных положениях” — о Тургеневе, Гончарове и Писемском. Это трилогия о “литературных генералах” довольно пространно сбережена Дудышкиным, на которого и ссылался всегда, разворачивая ее, Лесков.
Из достаточно обильного материала памятей Лескова об Алексее Феофилактовиче Писемском представляется нигде как будто не повторенным рассказ об одном трагикомическом происшествии, разыгравшемся с ним как раз в Ингерманландии. Повествовал его Лесков, по обыкновению, в лицах, ссылаясь на то, что слышал сию повесть от самого ее героя.
В период участия Писемского в этнографических работах, организованных в 1856 году по инициативе великого князя Константина Николаевича, пришлось писателю отправиться на каком-то военном корабле или яхте не то в Выборг, не то в Ревель.
Приезжает он с необходимыми в пути вещичками, занимает отведенную ему каютку и снова выходит на ют оглядеться. Все ново, необычно, пожалуй интересно, хотя как-то и неспокойно. Напряженно ждут самое высочество. Наконец прибывает с пышной свитой и оно. Раздаются команды, играют “встречу”, все почтительно застывает, взвивается брейд-вымпел “августейшего”.
Остановив “слабым манием руки” гром “музыки боевой”, генерал-адмирал здоровается с “людьми”. Отвечают — “как орех раскусили” — дружным пожеланием здравия. Команда распущена. Становится как-то легче и свободнее.
Отыскав себе где-то местечко, Писемский присаживается, вынимает книжку и принимается читать. Углубляется. Время идет, и яхта, шлепая колесами, уже выходит из Невы в “Маркизову лужу”. Слышатся голоса, шарканье ног по палубе. Поднимает глаза — невдалеке князь в великом искательном окружении. Делать нечего, встает, книжку в карман. Тот, бросив в его сторону быстрый взгляд, говорит накоротке что-то ближним и, отделяясь от них, подходит в одиночку, благосклонно приветствует, задает несколько вопросов, на которые невымуштрованный писатель отвечает на своем “акающем” чухломском наречии, едва ли безупречно соблюдая все требования этикета и титулования.
Князь начинает дергать углом глаза и щекой. Остро следящая за поведением двух неравных собеседников свита неспокойна. Для милостивого завершения начинающего, должно быть, утомлять разговора высочество бросает: “Я очень люблю этот ваш сочный московский говор. Вы ведь москвич?” Это произносится тоном отпускного комплимента, требующего признательного согласия, облегчающего счастливое, обоюдно приятное, окончание аудиенции.
Но в тот момент, когда августейший адмирал готов “лечь на обратный курс”, неуемный писатель, в нарушение всякого благоприличия, твердо акает: “Никак нет, ваше высочество, я кастрамич!” Это долетает до свиты, подающей недогадливому литератору “штормовые” сигналы. “Да? А я почему-то считал, что вы москвич!” — рассеянно повторяет, несколько сильнее уже дернув глазом и щекой, высочество. “Не могу знать, почему это вам так казалось, а только я кастрамич”, — продолжает Писемский. “Ах, так?” — “Точно так — кастрамич”, — не унимается Феофилактович. Утомленный необычными поправками, генерал-адмирал с полупоклоном оставляет ненаходчивого собеседника и, встреченный застоявшейся в ожидании свитой, направляется куда-то в другую часть судна.
Едва группа эта достаточно отдалилась, как на Писемского вихрем налетает какой-то свитский и засыпает его горячими упреками за неловкость возражений высочайшему собеседнику. Встречный протест выводит блюстителя этикета из пределов сдержанности. “И не все ли вам, наконец, равно — москвич вы или костромич! Его высочество, в своем лестном к вам внимании, изволил сказать “москвич”. — “Так точно, ваше высочество, москвич”. И делу конец. И коротко, и почтительно, и всем приятно! А вы заладили: кастрамич, кастрамич! Да и что в том за заслуга, что вы костромич? Одна для всех неприятность и, если хотите, даже неуважительность…
Но тут возмутился духом уже сам писатель: “Ну уж коли так, так желаю вам всем счастливого плавания, а я с утра себя не в порядке чувствую, и мне на берег надобно. Всепокорнейше прошу, где можно будет, спустить меня, потому что я человек этим вашим обстоятельствам непригодный”.
Перестаравшийся свитский струхнул и забил отбой. Но не тут-то было: Писемский уперся, и не сдвинуть. Налетевший на него угодник побежал за командиром яхты. Стали уговаривать вдвоем. Не берет! “А как же мы его высочеству-то доложим, что вас нет?” — “Скажите — животом захворал”.
На счастье, в Петергофе еще какое-то олимпийство на борт брать предстояло. Писемский сошел, и больше в Балтике о нем слышно не было.
Сколько в этом рассказе Писемского и сколько Лескова, сопоставлять возможности нет.
Конечно, в репертуаре Лескова не мог отсутствовать Толстой. И при этом — самый апокрифичный, но увлекательно изъяснявшийся и чрезвычайно нравившийся в лесковском оформлении.
Артиллерийская бригада, в которой служил Лев Николаевич, возвращается из-под Севастополя. Люди оборваны, лошади плохи, упряжь и сидельный убор изношены. На пути получается извещение, что великий князь Михаил Павлович будет “смотреть” бригаду под Курском, куда он сам прибудет тогда-то. Времени мало, получить что-либо из интенданства невозможно. А предстать перед грозные очи прославленного своею грубостью и ответным сквернословием высочества — страшно. Командир и офицеры собирают, какие можно, деньги. Нанимаются вольные портные, шорники. Сидят, не разгибаясь, и свои, бригадные. Кое-как удается изготовиться к сроку. Утомленное ездою высочество вылезает из экипажа, садится на лошадь и едет вдоль фронта в грозном чине. Все трепещет. — Писатель придает своему достаточно всем известному, взгляду такое выражение, что слушателей дерет мороз по коже. Зная ход событий, я проворно бегу в прихожую и молча сбоку подаю отцу его трость. — Все трепещет, — повторяет рассказчик… — Впившись глазами в одного фейерверкера, князь останавливается и резко бросает: “Пуговица!!” Общее смятение. “Болтается пуговица”, — кричит еще громче фельд-цейхмейстер и, протянув руку, дергает фейерверкерский погон. — Лесков делает великолепный рывок в воздухе. — Пуговица летит. Князь дергает несчастного за борт мундира. Все восемь на живую нитку прихваченных пуговиц летят. Высочество рвет мундиры еще двух-трех фейерверкеров, налетая дальше на Толстого. “А у тебя так же?” — спрашивает оно, простирая руку. Тут Лесков, как бы сидя на лошади, сгибает колени, искренно бледнеет и, набирая левой рукой поводья, чтобы вздыбить подразумеваемого коня, гневно смотрит в лицо воображаемому военачальнику и, опуская поданную мною, заменяющую саблю трость, жестко чеканит: “Ваше высочество, я ще-кот-лив!” Взбешенный князь скачет дальше, сыпя: “Сапожники, скверно, мерзко”, — и уносится вовсе с поля. Вернувшись со смотра, Толстой, ни минуты не медля, подает прошение об увольнении его в отставку и вручает его, по команде, своему батарейному командиру. Через час к командиру бригады приезжает адъютант августейшего ругателя с приказанием Толстому уйти в отставку. Бригадный показывает ему толстовское прошение.
Утомленный рассказчик умолкает. Все зачарованы. Все слышанное так образно, интересно, жизненно убедительно, что в голову не приходит усомниться в его исторической достоверности. Да и кто помнит, что Михаил Павлович умер за шесть лет до Севастополя, а Лев Толстой, в офицерском образе, пожинал плоды своих первых литературных успехов в Петербурге, посланный туда курьером.
Значительно удивительнее, что И. А. Шляпкин в своей непостижимо краткой и не слишком точной поминке Лескова привел без всякой оговорки свою гимназическую дневниковую запись о таком именно рассказе покойного и ему лично [528].
Сам Лесков иносказательно не раз пользуется этою темой [529], или как и выражениями о щекотливости дерганьи пуговиц [530]. Где и когда все это применено с большим правом на бесспорность — секрет автора.
Сейчас, может быть, всего ценнее, как горячо и мастеровито подавалась любая “лыгенда”.
“Тьмы низких истин нам дороже…”
А нам, мирно подраставшим у Таврического сада, самым дорогим был — тоже почти легендарный для нас — хороший час!
ГЛАВА 11. ВНИМАНИЕ “СФЕР” И ВЕЛИКОСВЕТСКИЕ ПОЧИТАТЕЛИ
“Леса рушатся, спадают, и из-за них высится в своем роде чудесное и совершенно своеобразное сооружение, уника в русской литературе до той поры и одинаково с той поры, как бы какой-то Василий Блаженный в письменности, — великолепный “Запечатленный ангел”.
Трудно сказать лучше, чем это сказано А. А. Измайловым в его неопубликованной работе о Лескове.
Нельзя не вспомнить рядом, что много раньше писала о “только что скончавшемся” Лескове Л. Я. Гуревич: “Вся его обстановка, его язык, все, что составило его жизнь, было пестро, фантастично, неожиданно и цельно в самом себе, как единственный в своем роде храм Василия Блаженного” [531].
Было ли тут заимствование? Не думаю. Верю, что это было даже не слепое, а закономерно логическое совпадение мысли и представления людей, искренно любивших талант Лескова и вдумчиво всматривавшихся в него.
“Ангел” появился в печати в 1873 году [532].
Чем же было навеяно желание развернуть на иконописной канве уникальную повесть, чем было порождено увлечение Лескова изографией, где заложено было основание этому “сооружению”, кто являлся, пусть и непроизвольным, пособником и вдохновителем в его создании? На это, в свой час, дал ответ сам автор.
“Когда, в довольно долголетнее отвержение от литературы… меня от скуки и бездействия заняла и даже увлекла церковная история и самая церковность, я, между прочим, предался изучению церковной археологии вообще и особенно иконографии, которая мне нравилась” [533].
К этому есть еще что добавить.
Жил-был во граде святого Петра “художный муж” Никита Савостьянович Рачейсков, он же Савватиев или Саверьянович Рачейский. Одно из этих отчеств, как и редкое простосердие сего мужа пришлись впору великому землепроходцу российскому — “очарованному страннику”, Ивану Северьяновичу Флягину, он же и Голован.
Откуда повелось знакомство “изографа” с писателем, не умею сказать, но помню его с самых детских лет моих.
Обитал этот служитель хитрого искусства в одной из самых неприглядных в то время улиц столицы с подходившим к ее достоинствам названием — Болотная, ныне Коломенская. В приземистом двухэтажном каменном доме под номером восемь (как и сейчас), когда-то крашенном охрой, в низку, вровень с тротуаром, находилась незатейливая его мастерская в два окна на улицу. Здесь он и “таланствовал”, и почивал, и вообще вел простодушное холостое житие свое. Дом принадлежал староверу Дмитриеву. В нем же помещалась и филипповская раскольничья моленная.
Зимой отец любил прокатиться на санках к Никите и всего чаще прихватывал, для компании, и меня. Мне эти поездки нравились, но иногда они уж очень затягивались в непонятных и неинтересных мне разговорах отца с редкостно благообразным искусником. Помню, что со свежего морозного воздуха дух, стоявший в его горнице, в первую минуту положительно ошибал. Сомневаюсь, чтобы он много уступал “потной спирали”, в которой тульские мастера, с знаменитым Левшою во главе, “аглицкую” блоху подковывали.
Сам Никита Савостьянович был стилен с головы до пят. Весь Строганова письма. Высок, фигурой суховат. В черном армячке почти до полу, застегнут под-душу, русские сапоги со скрипом. Картина! За работой в ситцевой рубахе, в серебряных очках, с кисточкой в несколько волосков в руке, весь внимание и благоговейная поглощенность в созидании деисусов, спасов, ангелов, “воев небесных” и многоразличных “во имя”.
Отец, бывало, как выйдет из саней, прямо к окну — и залюбуется на него через какую-то снизу подвешенную дырявую завесочку.
Всего лучше была голова: лик постный, тихий, нос прямой и тонкий, темные волосы серебром тронуты и на прямой пробор в обе стороны положены; будто и строг, а взглядом благостен. Речь степенная, негромкая, немногословная, но внятная и в разуме растворенная. Во всем образе — духовен!
Таким вспоминаю его, когда самому мне было уже под двадцать. Приходил неизменно по черному ходу. Без доклада и приглашения в комнату не шел, дожидаясь зова в кухне. В кабинете отцовском держался спокойно, с достоинством, своей огромной дланью жал руку дружески, но мягко.
Многие, начиная с моего отца, дивились — как этакими ручищами иконописную мелкость выписать можно. А он простодушно отвечал: “Это пустяки! Разве персты мои могут мне на что-нибудь позволять или не позволять? Я им господин, а они мне слуги и повинуются” [534].
Когда он умер на побывке у отца в Самарской губернии, Лесков написал как бы некролог под выдержанным заглавием — “О художном муже Никите и о совоспитанных ему” [535]. Здесь, между прочим, говорилось: “По выходе в свет моего рождественского рассказа “Запечатленный ангел” (который был весь сочинен в жаркой и душной мастерской у Никиты), он имел много заказов “Ангела”.
Достаточно серьезную “акцию” выполняет в этом рассказе и списанный во многом с Никиты “изограф Севастьян”. Рассказывается в некрологе с большою теплотой о скромной трудовой доблести Никиты, а также и о том, как изредка, разогнув могучую, над деисусом или Илией согбенную спину, он, бывало, “возжелает сделать выход”, то есть чисто по-русски на несколько ден “загравировывал”.
В покаянные минуты с детской кротостью раскрывался в своих похождениях с каким-то “гравэром” смущенный Никита Лескову. Писатель слушал, утешал н не забывал. А в свое время в “Очарованном страннике” появляются и запойные “выходцы”, и “отбытие своего усердия”, и “магнетизер”, и многое из исповедно рассказанного о себе Никитою [536], но, конечно, творчески щедро приумножено. Поминался художный муж писателем не один раз в статьях с заслуженным признанием и сердечностью. Людей такого рисунка и духа я уже не видывал. Лесков любил говорить:
Что ни время — то и птицы,
Что ни птицы — то и песни.
Думать надо, давно уже и в Палехе, и в Мстерах, и в Холуе, и в Шуе с Кинешмой “род сей изъялся”. Всему свое время под солнцем. Но не все достойно забвения. И Никита Рачейсков тем паче.
Кроме живой “натуры”, при письме “Ангела” понадобилось исключительное знакомство с русской иконописью [537]. В частности, оказал большую услугу и “Иконописный подлинник” профессора С. К. Зарянко, список которого лежал в письменном столе Лескова [538] и о неиздании которого не раз скорбел писатель [539].
Нерасположенной к нему критике показалось всего благоразумнее не замечать упрямо высившееся художественное “сооружение”.
Равнодушие критики и предубежденность ее были автору не в диковину. С этим он свыкся, и это уже не трогало.
Но вот совсем с другой стороны, от старшего возрастом и положением писателя, охотно поместившего в своем журнале “Леди Макбет нашего уезда”, привелось выслушать нечто, глубоко оскорбившее и выведшее из всякого равновесия.
Приходится несколько отступить во времени назад.
После напечатания в январской книжке “Эпохи” 1865 года “Леди Макбет” очень нуждавшийся тогда Лесков не раз просит — и непосредственно и через Н. Н. Страхова — выдать ему, до последней крайности необходимый, гонорар. Уплата отлагается, время тянется, нужда растет. Но самого Достоевского не достигнуть. В конце концов вместо необходимых на житье денег выдается вексель на полтораста рублей.
А. А. Краевскому, за несравнимо меньшую неисправность, Лесков менее двух лет назад счел возможным и заслуженным послать жестко-угрожающее письмо. На этот раз он беспредельно терпелив, почти робок… Однако “в печенях”, несомненно, “что-нибудь да засело”. Уязвляло равнодушие, высокомерие. Было от чего начать и “злобиться”. В итоге: рабочая общность отпала, отношения замерли, обиженность мутила. Это обещало недобрые плоды.
Через пять лет в одном из своих фельетонов он уже запальчиво пишет: “Начни глаголать разными языками г. Достоевский после своего Идиота или даже г. Писемский после Людей сороковых годов, это, конечно, еще можно бы, пожалуй, объяснять тем, что на своем языке им некоторое время конфузно изъясняться; но г. Тургенев никакой капитальной глупости не написал, и ни краснеть, ни гневаться ему нечего” [540].
Достоевский, живший в это время за границей, вероятно, этих строк не видал. Через год, оттуда же, сам он пишет А. Н. Майкову: “Читаете ли вы роман Лескова в “Русском вестнике”? [541] Много вранья, много черт знает чего, точно на луне происходит. Нигилисты искажены до бездельничества, — но зато — отдельные типы! Какова Ванскок! Ничего и никогда у Гоголя не было типичнее и вернее. Ведь я эту Ванскок видел, слышал сам, ведь я точно осязал ее! Удивительнейшее лицо! Если вымрет нигилизм начала шестидесятых годов, — то эта фигура останется на вековечную память. Это гениально! А какой мастер он рисовать наших попиков! Каков отец Евангел! Это другого попика я уже у него читаю. Удивительная судьба этого Стебницкого в нашей литературе. Ведь такое явление, как Стебницкий, стоило бы разобрать критически, да и посерьезнее” [542].
Прочитав эти строки уже только после смерти пожизненного недруга, Лесков писал Щебальскому: “В изданном томе писем Ф. Достоевского он говорит даже о какой-то моей “гениальности” и упоминает о “странном моем положении в русской литературе”, а печатно и он лукавил и старался затенять меня” [543].
Какой же суд нашел себе любовно вычеканенный Лесковым “Ангел” в сердце собиравшегося “посерьезнее” заняться Стебницким Достоевского?
Уничижительная снисходительность, сухое наставительство, даже прямое обвинение в “неловкостях”, к которым, мол, “г. Лесков способен”. Двусмысленно взято в заглавие критической статьи Лесковское же выражение из рецензируемого рассказа — “Смятенный вид” [544].
Ужаленный в самую глубь авторского самолюбия, Лесков торопится расквитаться с обидчиком не очень серьезными, но достаточно досадительными указаниями на мелкие ошибки последнего. Названия выпадам придумываются колкие: “О певческой ливрее” и “Холостые понятия о женатом монахе”. Злосчастно к заметкам, обличающим церковное невежество врага, ставятся не свои подписи, а прикровенно-анонимные — “Псаломщик”, “Св. П. Касторский” [545].
Взбешенный Достоевский разражается жестокою отповедью, беспощадно выявляя “ряженого” автора обоих выступлений [546].
Казалось, разочлись на весь век.
Но… не истек и год, как Лескова “подмывает” уже на новую “загвоздочку”: “Достоевский обидел их [547] в “Гражданине” и назвал “светскою беспоповщиною”. Что делать? Простите. Он не сообразил, что людей, крещенных в церкви и исполняющих ее таинства и обряды, нельзя назвать беспоповщиной. Это с ним хроническое: всякий раз, когда он заговорит о чем-нибудь касающемся религии, он непременно всегда выскажется так, что за него только остается молиться: “Отче, отпусти ему!” [548]
Спасибо, на этот раз “отпустил” и сам оплошавший.
В полной взаимной отчужденности протекают три года, почти раззнакомились.
И вдруг, прочитав в “Дневнике писателя” статью Достоевского о романе Л. Толстого “Анна Каренина”, Лесков, отметая все личное, пишет восхищенное письмо ее автору [549].
Горячее движение, видимо, осталось без отклика. Может быть, даже было встречено не без пренебрежительного недоумения. Невольно встает в памяти, как три года назад на полях рукописи “Подростка” творец этого романа, вспомянув Лескова, почувствовал потребность написать:
Описывать все сплошь одних попов,
По-моему, и скучно и не в моде;
Теперь ты пишешь в захудалом роде;
Не провались, Л-в
[550].
С 1877 года выдерживается последняя, обоюдно-спасительная пауза.
Достоевский умирает.
В канун похорон появляется крайне неловкая и злонастроенная по отношению к покойному бесподписная статья — “Ф. М. Достоевский” [551].
Не разобравшись в явно нелесковском ее строении и языке, в нововременской редакции “шмели загудели” — это Лесков!
Возмущенный быстро долетевшей до него вестью, он гневно пишет Суворину: “Значит, вы считали возможным, что я, написав статью против покойного, потом пришел к нему в дом и шел за его гробом… Это ужасно! Зачем вы сочли меня способным на этакую низость?.. О Достоевском я имею свои понятия, м[ожет] б[ыть] не совсем согласные с вашими (то есть не во всем), но я его уважал и имею тому доказательства. Я бывал в критических обстоятельствах (о которых и вы частию знаете), но у меня никогда не хватило духу напомнить ему о некотором долге, для меня не совсем пустом (весь гонорар за “Леди Макбет”). Вексель этот так и завалялся. Я знал. что требование денег его огорчит и встревожит, и не требовал. И вот, едва он умирает, как мне приписывают статью против него” [552].
Широкая известность вражды двух “жестоких талантов” благоприятствовала смелым домыслам.
Достоевского схоронили. Неприязненность в живом не умирала.
В беседах, письмах, статьях и заметках Лескова о Достоевском. под тем или другим впечатлением или настроением, говорится то с признанием, почитанием, даже заступничеством [553] как о прозорливом, полнодумном и любимом писателе, о его многострастном пере, то — правду говоря, чаще — едко [554].
Собеседнику или читателю неизбежно въедаются в память выражения: “вещал”, “великие учителя”, перед которыми “кадили” и “приседали”, а теперь “втихомолку смеются над юродствами, до которых ими были доведены люди действительно даровитые, но исковеркавшиеся в “экстазах” [555].
Незадолго до собственной смерти, тяжело больной, он дает убежденное заключение о вредности и опасности политической настроенности Достоевского. Вспомнив, как “часто путались, а иные и совсем запутались (напр. Писемский, Достоевский, Всев. Крестовский и еще кое-кто)”, Лесков завершает мысль: “Но если бы Ф. М. Достоевский пережил событие, случившееся вскоре после его смерти [556], то этот, в своем попятном движении, был бы злее и наделал бы огромный вред по своему значению на умы, покорные авторитету и несостоятельные в понимании “веяний” [557].
Так судил Лесков на ущербе лет, не слишком примиренным, но все же временно охлажденным.
Возвращаюсь к “Ангелу”. В 1872 году он, как в свое время и “Божедомы”, первому предлагался С. А. Юрьеву, и снова, не без опасностей для идеологической независимости, попадает в “Русский вестник”. Уступки становятся неизбежными.
Должно быть, в 1884 году, в беседе с издательницею журнала “Собрание иностранных романов”, Е. Н. Ахматовой, Лесков сказал, что иначе кончил бы теперь рассказ [558].
И. А. Шляпкин, посетив Лескова 19 марта 1892 года, записал за ним: “Долго-де я был под влиянием Каткова: в окончании “Запечатленного ангела” и в “Расточителе”. Много-де глупостей написал… “На краю света” мне и теперь нравится, только бы причину поездки выставил бы я не ту. “Соборян” бы не написал” [559]. По совести — скуповато и не язычно записано.
Может быть, по не остывавшей никогда досаде на делившиеся когда-то уступки, достаточно неожиданно приметывается к “Печерским антикам” не очень требовавшееся “последнее сказание”. Начинается оно с нарочитого упоминания, что “Запечатленный ангел” был напечатан в “Русском вестнике” М. Н. Каткова. Далее утверждается, что “такого происшествия, какое передано в рассказе, в Киеве никогда не происходило, то есть никакой иконы старовер не крал и по цепям через Днепр не переносил”. Было, мол, лишь то, что “один калужский каменщик… сходил во время пасхальной заутрени с киевского берега на черниговский по цепям, но не за иконою, а за водкою, которая на той стороне Днепра продавалась тогда много дешевле” [560].
Созданная писателем англичанка не посягнула запечатлеть сургучом ангельский лик Севастьянова письма.
“Последнее сказание” к “Печерским антикам” бестрепетно упраздняло самого ангела. Бесшабашная и беспредельная удаль подтверждалась со всею бесспорностью. Духовный подвиг смывался с литературной иконописи… водкой.
Лесков восьмидесятых годов был уже неукротимым “ерисиархом”.
Когда возник вопрос о переиздании рассказа в “Дешевой библиотеке” Суворина, автор писал заведовавшему этой издательской серией: “По моему мнению, “Запечатленный ангел” есть такой рассказ, в котором не должно быть никаких исключений… Сделанные вымарки глупы, беспричинны и портят рассказ” [561].
Простосердечные читатели всегда восхищались рассказом. Более искушенные и требовательные частию умилялись, частию оставались холодны, но всех без изъятия поражало писательское мастерство.
Не остался равнодушным и сам Зимний дворец. Внимание голштинского русского царя и его гессенской супруги выразилось в приезде к Лескову генерал-адъютанта С. Е. Кушелева с выражением удовольствия, вынесенного от прослушания рассказа в умелом чтении Б. М. Маркевича.
Искательному по натуре человеку это открывало величайшие возможности. Намекалось на благорасположение императрицы Марии Александровны прослушать “Ангела” в чтении самого автора. Последний сумел во всем этом ничем не воспользоваться, может быть даже не без некоторой неловкости в области этикета. Великолепный Болеслав Маркевич находил это непростительною беззаботностью к известного рода карьере.
Непосредственно с благовестником Кушелевым и его семьей создаются сразу же самые дружеские отношения. Сергей Егорович был прекрасный миниатюрист и человек с настоящею художественною жилкой, чарующе мягкий и сердечный.
В тысяча восемьсот восьмидесятых годах Лесков писал Шубинскому: “Мои “Соборяне” переведены [562] и вышли в “Универсальной библиотеке”. Это был мне совершенный сюрприз… Ахилла открывает мне двери в европейскую литературу” [563].
В 1873 году “Ангел” настежь открывал ему двери самых головокружительных аристократических гостиных. Им заинтересовывается не совсем отвыкшая читать по-русски часть петербургского beau monde'a [564].
Приглашения на обеды, вечерние собрания, чтения, рауты и прочее сыплются без конца. Писатель превращается в светского человека. Все это делают “Ангел” и его верный чтитель Сергей Кушелев.
Такое обновление знакомств щедро обогащает наблюдения, впечатления, палитру писателя, дает осведомленность, приходящую с недоступных для простых смертных вершин.
Очень вскоре Кушелев возвращает Лескову какие-то “листы” последнего, “которые залетели так высоко” [565], а в конце года пишет ему с неослабным горением: “Начал день с вами, и как хорошо начал, и кончил день с вами же, и тоже хорошо. — Сейчас уехали от нас Степановы, которым я читал вашего “Ангела”. Вот третий раз мне приходится читать… его не только с большим удовольствием, но, могу сказать, все с большим наслаждением. В особенности сцены англичан и Памвы производят на слушателей самое отрадное действие — и мне приятно становится за автора, который может в наш век возбуждать самые лучшие движения души в людях… Скажу вам откровенно, вы напишите еще много хороших книг, — но вряд ли что-нибудь лучше “Ангела” и дневника Протопопа, это две жемчужины ваши… Это потому мастерские вещи, что чем более в них всматриваешься (как в картины мастеров), тем более наслаждаешься ими… Пишу вам сегодня же, чтобы всецело принадлежал вам один из лучших дней моей тревожной жизни” [566] Не оставался в долгу и Лесков. Прошлым еще летом он совершил небольшую прогулку по Ладожскому озеру, посетив Карелу, Коневец и Валаам. Результатом поездки явились, очень нелюбимый им потом, очерк “Монашеские острова на Ладожском озере” и, до последних лет ценившийся им, широко эпопейный рассказ “Черноземный Телемак”. Тот и другой были посланы в Москву. С “Островами” дело затянулось, отлагаясь на несколько месяцев печатанием, а о рассказе “правая рука Каткова”, Н. А. Любимов, писал автору:
“Многоуважаемый Николай Семенович, Михаил Никифорович прочел “Черноземного Телемака” и после колебаний пришел к заключению, что печатать эту вещь будет неудобно. Не говоря о некоторых эпизодах, как, наприм[ер], о Филарете и св. Сергии, вся вещь кажется ему скорее сырым материалом для выделки фигур, теперь весьма туманных, чем выделанным описанием чего-либо в действительности возможного и происходящего. Передаю вам, конечно, не в полной точности, что говорил Михаил Никифорович, а в самых общих выражениях. Он советует вам подождать печатать эту вещь, самый мотив которой может, по его мнению, выделаться во что-либо хорошее” [567].
Задетый таким отзывом, Лесков делает на этом письме сопоставительную мету: “Получено 10 мая 873 г. Спб. Отзыв о Телемаке, сделанный редакциею “Русского вестника” через месяц после напечатания там Ваала”.
Хозяина журнала коробило раскрытие в самом начале произведения черствости и жестокосердия прославленного ритора и иерарха, митрополита московского Филарета Дроздова, как бы призывавшегося к милосердию преподобным Сергием, а также и невыгодное освещение дворянских фигур по сравнению с нравственным обликом крепостного землепроходца Ивана Флягина, он же Голован. Деть повесть было некуда. Пришлось пустить в газету “Русский мир”, где она и прошла с 15 октября по 23 ноября с посвящением ее С. Е. Кушелеву.
“Острова” проходят еще раньше в той же газете, с 8 августа по 19 сентября того же года.
Великосветские восторги немножко льстят сердцу, ласкают самолюбие, согревают, но и очень отрывают от работы, от “вытачивания ангелов”, которые “достаются кровью и нервами, а оплачиваются, как мочала” [568].
А писать по-базарному не позволяет искренность “служения литературе”, искренность, с которою в России даже и при несомненном таланте будешь жить только впроголодь. Базарных же предложений, сулящих полную сытость, сколько угодно.
Нет! Уж лучше запрячь себя в служебный хомут и, при сносном окладе, несколько спокойнее отдаваться литературному труду. Но как и где найти эту хотя бы отчасти обеспечивающую службу?
Доброжелательный Кушелев быстро постигает бытовые затруднения творца “Соборян” и “Ангела”. Ободряя почитаемого литературного “изографа”, он пишет ему на первых же порах: “деньга будут”, будет служба, и принимается за хлопоты.
Мобилизуются все средства, связи и возможности. Положение близкого царю генерал-адъютанта, только что выполнившего исключительное поручение царицы в отношении писателя, позволяет играть на этом. Широкий резонанс события облегчает маневрирование. Лишается возможности остаться безучастным к просьбам властный министр народного просвещения, граф Д. А. Толстой, которого просит о том же даже Катков! Энергично вовлекается в кампанию только что назначенный товарищ министра этого же министерства князь А. П. Ширинский-Шихматов. Приобщаются к ней поэт А. К. Толстой, которому были посвящены “Соборяне”, и все могущие быть полезными.
Сергей Егорович — хотя и простой души человек, но и хорошо вышколенный смолоду царедворец. Он знает ходы и нити, к кому, с кем и как подойти. Устраивается вечерний прием Шихматовым Лескова на дому сановника. Упоминается уже и председатель Ученого комитета министерства А. И. Георгиевский. Несомненно плохую услугу оказывают здесь недочеты в вопросе об “учености” кандидата в члены “ученого” подразделения просветительного министерства.
Высокодипломированные сановники морщатся… Но, как-никак, приходится считаться с литературным именем и, всего больше, с “всемилостивейшим” вниманием, оказанным свыше.
В результате — 1 января 1874 года отдается приказ министра за № 1 о причислении Лескова к министерству — “с назначением членом Особого отдела Ученого комитета сего Министерства по рассмотрению книг, издаваемых для народного чтения”. Оклад убогий — тысяча рублей в год. Будущего — никакого. Не повышается заметно даже прожиточный бюджет. В общем, опять почти что — nic!
— Ну-с, Николай Семенович, — руководительно говорит превосходительный Маркевич, когда дело близится к своему концу, — поезжайте на Васильевский остров к Досу и заказывайте вицмундир. Он в этом великий художник. Сами себя не узнаете, какой он даст вам вид! [569]
— И не подумаю, — озадачивает ответом своенравный писатель, — я не в департментские чиновники иду, а в члены Ученого комитета.
— Знаю, знаю, но представиться-то министру придется?
— Ну и представлюсь, по вольности писательской, в том, что дома есть: в обыкновенном фраке.
— Воля ваша, — несколько обиженно отвечает камергер, — но мой совет — сделайте, как учу.
— Спасибо, но только я уж отвык от ливреи и снова рядиться в нее не собираюсь. Обойдемся авось и без нее!
Маркевича покоробило.
— Как знаете… Только я предупреждаю вас не зря — это вам может дорого обойтись: граф Дмитрий Андреевич приметлив и памятлив…
Совет обсуждался со многими, и почти все, начиная с Данилевского до наших милых друзей Матавкиных, соглашались со всеми указаниями Маркевича. Переубеждать Лескова была задача тяжелая, вернее безнадежная. Он не послушался. Друзья огорченно пожимали плечами.
В своевременно указанный день Лесков вошел в своем черном фраке в кишевшую уже вицмундирами приемную министра.
Дежурный чиновник, услыхав фамилию, искоса взглянул на новичка и холодно спросил:
— По случаю причисления к министерству?
— Да.
— И назначения на должность?
— В Ученый комитет! Все?
— Не совсем. Ваш чин?
— Губернский секретарь, — не без нотки раздражения отвечал Лесков.
Чиновник подтянул губы, занес все, что следовало, в подаваемую министру памятную записку и определил мелкочиновному литератору и человеку не молодых уже лет очередь почти в самом хвосте представлявшихся.
Внутренне надменнейший и черствейший сердцем, но утонченно светский Толстой, как говорится, глазом не повел… Он уделил своеобычному новому своему подчиненному довольно времени для приветливой беседы и отпустил его с безупречно любезным пожеланием.
Дежурный чиновник, который, вероятно, успел что-то уловить в замкнутом лице министра, простился с новым своим сослуживцем по министерству с ни в чем не смягченною сухостью. Несомненно, он постигал расположение или предубежденность своего шефа вернее Лескова, которому казалось, что прием был почти тепел, как бы благожелателен и что во всяком случае все протекало благополучно и беспоследственно.
Время дало возможность не раз усомниться потом в безошибочности такого предположения.
Два зимних “сезона” проходят в изучении столичного “большого света”. Меняется состав знакомых и посетителей. Скромная по натуре мать моя невольно становится хозяйкой “салона”, в который приходят и из которого исходят животрепещущие новости, сведения о политическом, внешнем и внутреннем, курсе правительства, слухи, анекдоты…
Все это доставляется приезжающими иногда прямо с “высочайших выходов” или “приемов” и “эрмитажных” балов “метрдотельски наглым” Маркевичем, тихим Корфом, уютным Кушелевым.
Не обходится дело и без собственных анекдотов, и однажды даже довольно скверного. В разгар вечера и оживленной беседы довольно большого общества входит, во всем камергерском великолепии, “с ключом” и в белого сукна брюках, Болеслав Маркевич. Целует руки дамам, благосклонно приветствует мужчин и, как бы случайно, не здоровается с стоявшим несколько в стороне в скромном сюртуке генерального штаба генерал-майором А. П. Щербатовым. “А вы разве не знакомы? — Александр Петрович Щербатов — Болеслав Михайлович Маркевич!” — произносит моя мать общеустановленную для таких случаев формулу.
“Ах князь, простите, я вас было не заметил”, — рассеянно бросил упоенный своей блистательностью царедворец и, полуоборотясь, милостиво протянул Щербатову два пальца.
Заведомо бывший у царя Александра II в большой опале, материально захудалый “рюрикович” побледнел. Почтительно склонясь и приняв двумя же пальцами у самого ногтя только один палец Марковича, он приподнял всю его пухлую руку и, слегка покачивая ее в воздухе, самоуничижительно произнес: “О, вы слишком щедры! Такому маленькому человеку, как я, и одного вашего пальца слишком достаточно!” С этим он полубрезгливо отстранился, оставив опешившего “шамбеляна” с все еще висевшей в воздухе пустой рукою.
Через два десятка лет писатель, никогда не забывавший этот “пассаж” у Таврического сада, вложил в уста дошлого петербургского иерея твердое научение, даваемое им его собеседнику:
“Есть чем стесняться? Суньте два пальца вместо руки, — вот и сановник. Неужели у вас на это образования не достанет?..” [570]
Чтобы кончить с Маркевичем, приходится немножко забежать вперед.
В начале 1875 года над ним стряслась беда: он был уличен во взятке, или, как острили некоторые, “в братке”, с арендатора “С.-Петербургских ведомостей” Ф. П. Баймакова, молниеносно лишен придворного звания и вынужден подать в отставку как член Совета министра народного просвещения [571]. Все рухнуло сразу, погиб камергерский “ключ”, белые брюки, шляпа с плюмажем… Отказался принимать его, пока он не “обчистится”, и Катков. Величие с заносчивого хлыща сошло. Опешив, он в первые дни трескуче разыгравшегося скандала бегал к нам и вел взволнованные самооправдательные беседы с моим отцом, запираясь в его кабинете.
Полгода спустя, в статьях по поводу кончины поэта А. К. Толстого, он скорбно и горько корит жестокого издателя “Русского вестника”, хотя и не называя его по имени, но прозрачно, в непостоянстве и дружбе, в которой стоек был покойный граф [572].
Но “печали вечной в мире нет и нет тоски неизлечимой”: погоревав и осмирнев, он, по выражению Лескова, “поправился и духом и брюхом” [573].
1875 год, против строгого старого обычая, встречался главою семьи не дома. Он встречался Лесковым в просторных покоях Засецкой, в доме ее на шумной perspective Nevsky 88, appartement 101 [574], как означалось на ее письмах. Встречался, пусть и безуповательно, но оживленно и уютно, в беседе с единомышленниками, за радушною хлеб-солью восхищенных “творчеством ума” писателя аристократических его поклонниц…
Жили ли еще какие-нибудь упования в семье, встречавшей в те же часы десятый год своей давности на отдаленной фурштатской, у дремавшего в глубоких сугробах темного Таврического сада?
Личные перспективы Лескова — и по службе, и в литературе, и в области чувства — становились все безотраднее. Всего болезненнее переносилось все-таки тяготевшее над ним “отвержение от литературы”, вне которой для него не было жизни.
Наступал пятнадцатый год многострастного служения ей. Шел пятый десяток от роду. Лучшая часть лет была уже позади, а жизнь до сих пор ни в чем не устроена! Родные говорят, что он все еще “мечется”. Ни одна из ставившихся целей не достигнута. Бесконечная цепь неудач…
Не сделали весны многоработные “Соборяне”. Со всеми его “изяществами”, ничего не принес и полгода вытачивавшийся, якобы “скоропомощный”, “Ангел”!
Писательский горизонт неуклонно мрачнеет. Кольцо литературных “терзательств” суживается, грозя окончательно замкнуться. Создается представление полной безнадежности…
Какое требовалось мужество для перенесения такого положения долгие годы! Какие силы, воля и вера в свой талант нужны были, чтобы все это превозмочь!
ЧАСТЬ ПЯТАЯ. ЕРЕТИЧЕСТВО 1874–1881
Мы не сектанты, а еретики.
Беседный ответ Лескова ВеселитскойГЛАВА 1. ВТОРАЯ ЗАГРАНИЦА
Ничто не радует. Дома нелады неудержимо растут. Комитет “мерзит”. Восемьдесят три рубля в месяц жалованья — “на кота широко, а на собаку узко”. Такой заработок не оплачивает труда по усердно “всучаемым” Георгиевским “щетинкам” [575], требующим заключений, заведомо неприятных министру. О литературе и думать больно. Один Катков что крови портит!
Теряя последнее терпение, Лесков, при содействии А. Н. Аксакова, вступает в переписку с И. С. Аксаковым в надежде найти через него сколько-нибудь достаточный заработок в каком-нибудь крупном коммерческом деле.
16 ноября 1874 года он пишет последнему: “Р[усский] в[естник]” был последний журнал, которого я мог еще как-нибудь держаться, терпя там постоянно значительное стеснение, — теперь и это кончено, а ни плодить материалистов других “Вестников”, ни лепить олигархов “Русского мира” я не могу” [576].
Совершается нечто поистине полное драматизма и оскорбительности. Не так давно Александр Аксаков, прочитав в “Соборянах” “моление на бахче” [577] кривоносого старика Пизонского, восторженно писал автору: “Откуда износите сие? Вот уж подлинно дух идеже хощет дышит!”
Теперь он старается сосватать творца этих “Соборян” и “Ангела” с бывшим винным откупщиком, сейчас нефтяником, директором и учредителем “Волжско — Камского банка”, В. А. Кокоревым.
Иван Аксаков подхватывает идею и “лбом бьет”, чтобы осуществить ее.
Но около Кокорева пригрелся хваткий делец, горный инженер К. А. Скальковский, впоследствии директор Горного департамента, про которого академик А. Н. Крылов, с неизменной для него ясностью, в свое время помянул: “Про Скальковского не только говорили, но и писали, что он первый взяточник в мире” [578], а академик Е. В. Тарле, останавливаясь на феноменальном взяточничестве Талейрана, привел сочное подтверждение беззастенчивости недавнего мздоимца: “На слова подрядчика: “Я дам вашему превосходительству три тысячи — и никто об этом н знать не будет”, стал возможен переданный потомству директором Горного департамента К. А. Скальковским классический ответ его превосходительства: “Дайте мне пять тысяч и рассказывайте кому хотите” [579].
После месяца какой-то малообещающей неопределенности Кокорев почему-то просит Лескова разобрать и оценить чисто специальную работу по нефти именно Скальковского.
Лесков затрачивает месяц кропотливого труда и сдает законченный разбор работы.
27 января 1875 года он рапортует Аксакову:
“В. А. Кокорев вчера с вечерним поездом уехал в Москву и теперь должен быть там. В Москве он пробудет дня три. Перед отъездом его мы с ним виделись два раза, и он обещал мне какую-то работу. В чем эта работа будет заключаться — не знаю; но во всяком случае, если бы вам довелось с ним видеться и заговорить обо мне, — порадейте за меня немножечко. Судя но тому, что он платил за работы “некоему” [580], я признаю эту плату несоразмерно щедрою (напр., 4 т[ысячи] за компиляцию о нефтяном промысле), и вообще я работе рад, но мне было бы вдвое милее, если бы он платил мне не сдельно, а вообще взял бы меня для своих работ, — чтобы я делал все, что потребуется ему и что мне по силам. Это бы нас сблизило гораздо более, и бог весть, может быть и я бы ему пригодился, как он теперь не думает. Во всяком случае: не найдете ли возможности бросить ему эту мысль?” [581].
На дружеские призывы Аксакова к осмотрительности [582] Лесков отвечал: “Только хотел писать вам… как получил ваше письмо, с которым не только вполне согласен, но даже уже и поступил таким образом. Кокорев приглашал меня на днях написать статью о СПб. ж[елезной] дороге по северному направлению (в пользу сего последнего). Я взял бумаги, перечитал и убедился, что северное направление имеет за себя довольно много, но писать статью не стал: 1) потому что о сем уже слишком много написано и пришлось бы только компилировать да рекламировать, а во 2) потому что К[окорев] хотел напечатать статью непременно в “Отеч[ественных] зап[исках]”, в коих я участвовать не хочу, особенно же нахожу недостойным снабжать их моею работою под сурдинкою.
Я обо всем этом отписал Кокореву откровенно и получил от него письмо тоже очень теплое и задушевное, в котором он просит меня не прощаться. Я его благодарил и ответил, что очень рад его знакомству; рад буду и работе, которая может случиться (особенно сопряженной с поездкою в описательной цели), но ни на что не напрашивался и отошел, как говорят, с “достоинством”. На том дело наше и кончено. Я на него ни в малой претензии и думаю, что вы не ошибаетесь: он мне даже желает пригодиться, но ему не до меня… За совет и отличное истолкование моих опрометчивых слов усердно вас благодарю и повторяю: я уже так и сделал, как вы пишете. Делать “все, что потребуется”, я разумел о роде занятий, т[о] е[сть] ездить, писать, с людями говорить и т[ому] п[одобное], но слава богу, что и я ему этого не сказал, и вы тоже…” [583]
За разбор нефтяного проекта Скальковского Кокорев, видимо уже ближе к концу 1875 года, прислал Лескову 300 рублей без пояснений о возможности чего-либо в дальнейшем.
Скальковскому близкое сотрудничество с зорким публицистом-обличителем не могло улыбаться, как, должно быть, и его принципалу.
Обеспечить Лескову неудачу у Кокорева для Скальковского не составляло труда: довольно было указать несколько персональных “персиков” в произведениях соперника. Например, хотя бы такие:
“А винище откупщик Мамонтов продавал такое поганое, как и десять лет назад было при Василии Александровиче Кокореве” [584].
“Сколько, говорю, за водку с меня? — Все, что есть, у нас дорогая, брат, кокоревская: с водой, да с слезой, с перцем, да с его собачьим сердцем” [585].
Да мог помнить кое-что и сам охотно почитывавший и пописывавший коммерсант. Например, хотя бы из хорошо нашумевшего в свое время романа “Некуда”, в первой части которого крестьяне выезжали на санях из города, “распевая с кокоревской водки” [586].
Финансисту, старательно подчеркивавшему “общественную полезность” своей “деятельности”, напоминания, что разжился он с водки, были солоны.
И, может быть, думалось ему: хорошо, как гладко пойдут дела с “сочинителем”-то, а как разладятся? Нет, уж лучше по старинке: береженого и бог бережет, поостеречься.
В беседах Кокорев иногда делился с Лесковым интересными воспоминаниями, одно из которых позже пригодилось как “прекрасный материал” для характеристики одной из главных фигур рассказа “На краю света” [587]. Об этом автор твердо заявил в первой главе своего рассказа “Владычный суд” [588], отдав должное “почтенному и всякого доверия достойному лицу В. А. К-ву”.
Искать жизнью требуемого приработка вообще не сладко, а при все яснее обнажавшейся бесплодности всех стараний Аксакова и лично сделанных уже шагов становилось и совсем нестерпимым.
В конце концов пришлось на все поставить крест, невольно унеся что-то “в печенях”.
Посылая Суворину рассказ “Рождественский вечер у ипохондрика”, Лесков писал издателю: “Теперь переделал, как хочется вам. Главное: картина хлудовского кутежа, который был в прошлом году и на нем Кокорев играл. Это живо прочтется” [589].
Рассказ читается живо до сих пор. Но, несомненно, особенно живо прочитался при его появлении здравствовавшими участниками знаменитого кутежа, и, может быть, всех живее Кокоревым.
22 августа 1882 года в родственном письме, отвечая на вопрос о возможности устройства одного незадачливого свояка в кокоревский банк, Лесков писал: “…речь о Волжско — Камском банке мне представляется несбыточною. Эти службы ведь начинаются с писаря, то есть с 8 — 10 [рублей] жалованья при полной подчиненности и такой зависимости от произвола старшего (бухгалтера или контролера), что никакая казенная служба не может идти в сравнение. На казенной службе нельзя никого отставить по произволу и ни за что, а тут полный произвол и все решается в одну минуту, да и жаловаться некому: “вы нам не нужны” — и все кончено. Притом же Кокорев держал откупа… По-моему, всякая казенная служба (особенно военная) имеет перед этим все преимущества” [590].
Изменились времена и положения, а с ними и оценки и суждения.
Меньше, чем через полгода, 8 февраля 1883 года, Лескову приходится на себе испытать прочность “казенной службы”. Мимоходом упомянуть, что пять лет спустя мне начали предъявляться требования “снять ливрею” и бросить, признававшуюся прежде имеющей все преимущества, именно военную службу.
В очень веселом и в общем безобидном рассказе “Путешествие с нигилистом” [591] помянулись 500 рублей, посланные в 1876 году Кокоревым восставшим болгарам через генерала Черняева. Подальше появилась пространная статья с острым заглавием — “Пресыщение знатностью” [592]. В ней отводилось внимание кое-каким мыслям и предложениям Кокорева. Завершалась она двусмысленным сопоставлением тепла и уважения в приветствии Толстому со стереотипно-суховатым прощанием с миллионером: “А потому, может быть, несколько правы те, кому кажется лучше всего говорить просто: “здравствуйте, Лев Николаевич”, “прощайте, господин Кокорев”.
Досадная страница из жизни закрывалась. В свое время она стоила крови и досаждений.
Не ладилось ничего и с Катковым. Вслед за “великолепною” хроникой “Соборяне” и всепризнанной уникой “Запечатленный ангел” владелец “Русского вестника” уклонился от публикации “Черноземного Телемака”, как первоначально именовался автором “Очарованный странник”.
Это была уже не первая кошка в отношениях с московским журналом. Потянулся потом в нем “Захудалый род” и на третьей книжке брошен незаконченным [593]. 5 декабря 1874 года Лесков сообщает И. С. Аксакову, что продал это произведение для печатания отдельной книгой издателю А. Ф. Базунову, и 23-го числа того же месяца поясняет: “Захудалый род” кончать невозможно, даже несмотря на то, что он почти весь в брульоне окончен. У меня руки от него отпали, и мне сто раз легче и приятнее думать о новой работе, чем возвращаться на эту ноющую рану. Это выше моих сил! Пусть пройдет время — тогда, может быть, что-нибудь и доделаю, а теперь… от этого много черной крови в сердце собирается” [594].
Через четыре месяца на указания И. Аксакова в письме от 21 апреля 1875 года об этой вышедшей уже книге Лесков тотчас же, 23-го числа, откровенно отвечает:
“Благодарю вас за ваше приветствие и ваше откровенное письмо, которое мне вдвойне дорого: как доказательство приязненных ко мне отношений и как вполне правильное критическое указание моих ошибок. Последнее я всегда умел принимать без малейшего раздражения и сожалею только о том, что подобные откровенные и доброжелательные указания встречал слишком редко. Вам, может быть, известно, что в печати меня только ругали, и это имело на меня положительно дурное влияние: я сначала злобился, а потом смирился, но неискусно, — пал духом и получил страшное недоверие к себе, импонирующее всякое начинание. То самое было и с “Захудалым родом”, с которым я спутался… и в самом деле пошел выводить fantaisie по полотну, довольно правильно разостланному. Этого не было со мною даже при юношеском “Некуда”, не было, кажется, ни в “Зап[ечатленном] ангеле”, ни в “Соборянах”. Критика ваша вполне справедлива, и все, что вы мне написали, я не только приемлю, но и сам так чувствую. Роман стал путаться в голове моей, и его надо было бросить. Но отчего же это случилось? Перебираю все мои муки с ним и останавливаюсь на одном, что меня путало то виденье, которое неотразимо стояло передо мною с тех пор, как я отдал в редакцию 1-ю ч[асть] романа: это видение был сам редактор, который стоял передо мною и томил меня своими недомолвками, своими томными требованиями, в которых я ничего не мог разобрать… Я не виню его, но виню себя — мою болезненную впечатлительность: меня никогда не портило доверие к моим силам (даже излишнее), но я оробеваю и путаюсь при всяком знаке недоверия и усиленных наблюдений за каждым моим словом. Это точно ошибает мне крылья, и я уже только дрыгаю, сам не зная зачем и как. Пожалуйста, не заподозрите меня в желании сваливать с своей головы на чужую; нет, я действительно запуган, и довольно чего-нибудь в этом роде еще, чтобы я совсем никуда уже не годился. Я ценю многие заслуги Каткова и за многое ему благодарен, но лично на меня как на писателя он действовал не всегда благотворно, а иногда просто ужасно, до того ужасно, что я мысленно считал его человеком вредным для нашей художественной литературы. Одно это равнодушие к ней, никогда не скрываемое, а, напротив, высказываемое в формах почти презрительных, меня угнетало и приводило в отчаяние. Отчаяние здесь имело свое место потому, что я мог трудиться только с этим человеком, а не с кем иным. Критика могла оживить мои изнемогавшие силы, но она всего менее хотела этого… Попытки Щебальского и Полонского сказать хоть что-нибудь в ободрение меня были обкорнованы рукою, которой, кажется, это даже было самой невыгодно; но все это так шло и дошло до того, что я совсем опешил, утратил дух, смелость, веру в свои силы и всякую энергию. Душевное состояние мое самое мучительное (о другом я не говорю): печатать мне негде, — на горизонте литературном я не вижу ничего. <…> Вот и все! — Что же впереди?.. Неужто уже конец?! Двенадцать лет тому назад, написав “Некуда”, я очутился в самом невыносимом положении, среди терзания четырех цензур (оно шло, кроме обыкновенной цензуры, через руки Веселаго и Турунова, а сей последний еще передал в III отдел[ение]) и самого неистового воя и клевет: я был тогда очень молод и по впечатлительности своей пришел в состояние крайней нервной раздражительности и бежал из России: Прага и Париж помогли мне забыть домашние невзгоды — я вылечился; но тогда было иное: меня ругали и мучили, но я мог работать, а теперь меня уже, кажется, совсем дошли. Около 15 мая хочу уехать за границу: хочу хоть на время не видеть всего того, что лишило меня сил и действия. Думаю пристать к какой-нибудь партии французских паломников и сходить с ними в Лурд. Может быть, это религиозное возбуждение людей, известных мне со стороны их нерелигиозности, займет меня, и я не буду думать о том, о чем думы так мучительны и так бесплодны. Далее не знаю даже: зачем я еду, но только потребность уехать чувствую неодолимую и по возможности на срок должайший. Благословите ли вы меня на это или осудите мое малодушие? Хотелось бы знать: где вы будете летом и куда написать вам, если душа того сильно попросит”.
Бегство в Прагу и Париж отнесено здесь к посленекудовскому времени неверно. Это или ошибка памяти, или — как и снижение своего возраста в некудовские дни — некоторая композиционная предвзятость.
По миновании многих лет, пытаясь переиздать хронику Протазановых в “Дешевой библиотеке”, “Лесков писал Суворину: “Я люблю эту вещь больше “Соборян” и “Запечатленного ангела”. Она зрелее тех и тщательно написана. Катков ее ценил и хвалил [595], но в критике она не замечена и публикою прочитана мало… Это моя любимая вещь” [596]. И через год опять: “Мне это дорого, как ничто другое, мною написанное, и я жарко хотел бы видеть этот этюд распространенным как можно более… — Вы издавали несравненно слабейшие мои работы, — не откажите же мне, пожалуйста, в большом литературном одолжении — издайте “Князей Протазановых” в дешевой библиотеке!.. Ведь они же этого стоят!.. А я вас прошу, понимаете, — не из-за чего-нибудь мелкого, а этого жаждет и алчет дух мой” [597].
Впрочем, со временем, когда алкание духа утишилось и в памяти все стало на свое место, критику М. А. Протопопову писалось опять так, как когда-то Аксакову: “Катков имел на меня большое влияние, но он же первый во время печатания “Захудалого рода” сказал Воскобойникову: “Мы ошибаемся: этот человек не наш!” Мы разошлись (на взгляде на дворянство), и я не стал дописывать роман. — Разошлись вежливо, но твердо и навсегда, и он тогда опять сказал: “Жалеть нечего — он совсем не наш”. Он был прав, но я не знал: чей я? “Хорошо прочитанное Евангелие” мне это уяснило, и я тотчас же вернулся к свободным чувствам и влечениям моего детства… Я блуждал и воротился, стал сам собою — тем, что я есмь. Многое, мною написанное, мне действительно неприятно, но лжи там нет нигде, — я всегда и везде был прям и искренен” [598].
Этим подтверждается суть творческой драмы и степень раздраженности, снова вызывавших желание бежать от кольцом замыкавшихся досаждений. Чем дальше и чем на “должайший” срок — тем спасительнее.
А пока это осуществится, в совершенно незначительной “Ниве” А. Ф. Маркса с начала 1874 года дробными порциями подается “Павлин”, а с начала следующего года “Блуждающие огоньки”. Мелковато и неудовлетворяюще по сравнению с настоящими, “толстыми” журналами, имеющими определенный политический облик, да что же делать, если они недоступны. Лишь бы дотянуть до лета, до отпуска месяца на четыре и укрыть ото всего терзающего “ободранные” нервы и истомленный дух.
Наконец приближается миг целительного самоустранения на какой-то срок и от литературно-служебных и, как это ни больно признать, от семейных огорчений.
8 мая 1875 года излагаются Щебальскому общие предположения о поездке:
“Все вынесенное, как и все выносимое, так тяжело и обидно, что и говорить хочется, и боишься начать, потому что, кажется, никогда не кончишь, а между тем слушать, пожалуй, будет нечего. Тоска бездействия снедает и точит, а на литературном горизонте и просвета нет… Нет; do naszego brzegu nie pynie nic dobrego. Остается сложить ружья в козлы и дремать, если тощее брюхо будить не станет…”
Дальше Лесков сообщал, что Данилевский являлся приглашать его сотрудничать в “С.-Петербургских ведомостях”: “Я отказался. Эти бедные люди думают, что образ мыслей человека зависит от Каткова или от Некрасова, а не проистекает органически из всех чувств и понятий” [599].
Конечным пунктом, может быть по старой памяти, избирается Париж. Предварительная программа: свидание с И. Аксаковым в Москве; побывка в Киеве для свидания с братьями, у одного из которых гаснет в скоротечной чахотке молодая и милая жена, с матерью, с сестрами. Петербург покидается со вздохом облегчения, видимо, десятого числа. Одиннадцатое проводится у Аксакова в Кунцеве: “И здесь Аксаков сказал мне, что я сделал бы ему удовольствие, если бы побывал в Париже у иезуита Гагарина и написал бы потом, как я найду его”. Этим предрешалось появление впоследствии ценной статьи Лескова “Иезуит Гагарин в деле Пушкина” [600].
Прислушиваясь к живущим еще где-то старым, веселым впечатлениям, Лесков поселяется сначала опять в легкомысленном студенческом Латинском квартале.
“Честнейшей старухи в целом Париже мадам Лакур”, у которой он квартировал тринадцать лет назад, уже нет.
Он устраивается почти рядом со старым своим пепелищем, около Люксембургского же сада, на Rue monsieur le Prince, 9.
Не видно черноокой Арно, нет белопепельной Режины. Должно быть, состарились уже в нужде и тяжелой доле мастериц, а то и совсем ушли из суровой жизни при помощи Сены или газа, через морг. Обычный путь нищеты!
“О себе пока ничего не могу сказать, — пишет он А. П. Милюкову, — кроме того, что болтаюсь по городу; ем где попало и, возвращаясь к ночи домой, засыпаю, едва упаду в постель. Париж, однако, правится мне гораздо менее, чем в первое мое здесь пребывание: этот неумолчный шум и крик утомляет мои совершенно испорченные нервы…” [601]
Надо думать, что Quartier Latin и новые, юные гризеты живут, как жили прежние, но для человека пятого десятка лет, особенно же русского обычая, “резвый круг” отошел, как вообще “ушла пора веселости беспечной”. В свое “первое здесь пребывание” Лесков не без успеха, даже азартно, догонял полупропущенную молодость. Увы!..
Время уж не то же:
Уже не вы душе всего дороже,
Уж я не тот…
[602]
Несомненно — не тот. Влечет тишина, покой, благоприятные для работы условия. 13(25) июля совершается переезд в строго семейный пансион на правом берегу, в Елисейских полях, rue Chateaubriand, 5, в котором живут знакомая петербургская чета журналиста Монтеверде, две ученицы парижской консерватории Левины, мечтающие о Мариинской сцене, и, что всего более ценно, — Ф. И. Буслаев! В общем — удобная ритмичность дня, мягкость вечерне-камерных звучаний, насладительные беседы с большим ученым о всем сердцем любимом русском слове! Это ли не духовная полнота и уют!
Признательным отзвуком сему явится посвящение описания “невероятного события” под смелым заглавием “Некрещеный поп”:
“Посвящается Федору Ивановичу Буслаеву. Эта краткая запись о действительном, хотя и невероятном событии посвящается мною досточтимому ученому, знатоку русского слова, не потому, чтобы я имел притязание считать настоящий рассказ достойным внимания как литературное произведение. Нет; я посвящаю его имени Ф. И. Буслаева потому, что это оригинальное событие уже теперь при жизни главного лица, получило в народе характер вполне законченной легенды; а мне кажется, проследить, как складывается легенда, не менее интересно, чем проникать, “как делается история” [603].
Этим творческое внимание уважающемуся филологу не исчерпалось. Лет через десять, возможно в 1887 году, написан Лесковым другой, до сего дня не нашедший себе места в печати, рассказ, в начале которого говорится:
“Стал я читать чудную книгу Ф. И. Буслаева “Мои досуги”, где великий знаток лицевых Апокалипсисов и иконописных школ так мастерски разобрал перехожие повести, тонко осветив нити, связывающие во единое целое сказания самых отдаленных времен и народов.
Прочел я эту статью и устыдился, поняв, что, видя сучок в глазу молодого газетчика, не приметил бревна в своем глазу! Напечатав не один десяток пересказов древних сказаний, я лишь на закате своего писательства удосужился прочесть исследования великого знатока, совсем по-новому осветившего то, над чем я кустарно работал, доходя до всего, наподобие приснопамятного Кифы Мокиевича, “своим умом”, который людей и покрупней меня чаще всего заводил лишь в дебри суесловия и праздномыслия” [604].
Первоначальное знакомство началось, очевидно, в 1861 году при одновременном сотрудничестве в “Русской речи”. Лесков, дебютант и дилетант в повседневной журналистике, едва ли вызвал особенное внимание к себе уже маститого филолога. Не был и он подготовлен еще к постижению значительности трудов Буслаева. Все это обоюдно пришло с годами, закрепилось сожительством в Париже и в Лескове уже не уставало расти и дальше, не раз отразившись в его статьях.
Но это лета поздние. Под каким же знаком текли дни второй заграничной поездки Лескова? Под напряженно-мрачным. Переписка ведется с И. Аксаковым, Милюковым, Щебальским, живущим с нами на одной лестнице, посвященным во все тайны наших семейных незадач М. А. Матавкиным и даже со мной и другой семейной мелкотой. Исключена переписка только с моею матерью.
Первое полученное мною из Парижа письмо помечено 11/23 июня:
“Мой милый сын!
Вот уже полтора месяца, как я тебя не вижу, и еще долго не буду видеть, и мне о тебе тяжко соскучилось: все ты мне снишься во сне, и хочется знать о тебе что-нибудь. Я уже два раза просил Протейкинского написать мне о тебе, но он, вероятно, не знает, как отцу бывает скучно о детях, и не спешит отвечать мне. Более я не хочу никого затруднять этим и пишу к тебе самому: возьми бумажку и напиши мне, как идет твое время: что ты делаешь и прочее. Я уверен, что при божией милости и внимании твоей мамы тебе хорошо, но все-таки хочу иметь от тебя слух, тем более что увидимся еще очень не скоро. Письмо свое попроси Веру надписать так:
France
à Paris
Monsieur Nicolas Leskow
Rue Chateaubriand, 5.
Я совсем было разболелся и хотел было уехать из невыносимо шумного Парижа к чехам, в тихую Прагу, а оттуда в Мариенбад, но доктора, с которыми я советовался, говорят, что это надо отложить на август, и я снова остаюсь в Париже, только переменяю квартиру: из шумного Латинского квартала перехожу сегодня же в гораздо более тихие Елисейские поля, где мои здешние русские знакомые устроили мне комнату окнами в старый, тенистый сад. Надеюсь, что мне здесь будет легче и несносное мое нервное страдание будет послушнее. Тут я буду жить с семьею моск[овского] профессора Буслаева, которым интересуется Коля; с г-м и г-жою Монтеверде, которых знает Ледаков, и с двумя сестрами Левиными, которые учатся в здешней консерватории и будут зимою петь на Мариинском театре. Так у нас своя русская компания и даже превеселая: мы вместе обедаем и вечером имеем даровую музыку и пение. Я ездил в Лонгшанское поле на большой парад, — видел все французские гвардейские полки и самого Мак-Магона, с которым совсем случайно минут пять стоял плечо о плечо. Вспоминал при этом случае тебя: как бы ты посмотрел на чужих солдатиков… По мундирам мне больше всего нравятся их драгуны и кирасиры; лошади у них жиже наших, но необыкновенно легки и проворны. В пехоте люди очень мелки, и строевые передвижения мне не особенно нравятся, а музыка без всякого сравнения хуже нашей. Вот тебе мой рапорт по твоей военной части. Скажи Вере, что я и ее вспоминаю и часто думаю: будь она со мною, как бы мы с нею до упаду ходили по этому городу, на который, кажется, никогда не насмотришься! Теперь бы ей и весело было, потому что у нас в куче три молодые дамы и две девушки, и все премилые. Запечатай-ка Веру в пакет да пришли ко мне! Как она тут навострилась бы по-французски! (и каким бы гримасам выучилась!) — Впрочем, я всех вас вспоминаю и всеми интересуюсь, — интересуюсь знать: каково бабушке Александре Романовне и есть ли у нее место? Пусть бы написал мне — я, может быть, и отсюда что-нибудь сделал бы. — Прощай, мое дитя: будь умен и послушен маме. — Детям скажи мой дружеский привет.
Отец твой Николай Лесков” [605].
Дальше шли два письма обобщенного назначения:
“Paris, 12 июля 1875 года
Rue Chateaubriand, 5.
Мои добрые друзья Боря и Вера,
и ты, мой милый сын Дронушка!
Я очень вам благодарен за письмо, которое вы мне прислали: оно было для меня большою радостью на чужбине, где я скитаюсь уже два месяца, не имея никаких вестей ниоткуда, точно я нигде с людьми не жил и никому во всю мою жизнь ничего не значил. Вы меня обрадовали, и я много, много раз перечитывал ваши коротенькие строчки — особенно Верины, так как она написала всех больше и всех обстоятельнее. Не отвечал я вам до сих пор потому, что ждал от вас ответа на мое письмо, которое вы должны были получить до 15 июня, — мой же ответ не мог прийти к вам ранее 20-го числа, а вы писали, что 15-го уезжаете в Ревель, чему я, по правде сказать, плохо верил и думал, что это вы сами сочинили, — какие нынешний год поездки к морям, когда и на юге, в затишье, холодно и всякий день дожди! Так я и не знаю наверное, где вы теперь, и это тоже длится уже целый месяц. Протейкинский мне не отвечал на 4 письма, Милюков, для которого я делал здесь довольно трудные розыски, даже не сказал “спасибо”; и тоже не ответил; писал теперь Матавкину, чтобы узнать: где вы и куда вам писать, и тоже нет ничего. Вот я как живу, без всяких вестей о тех, с кем сжился и сросся. Если можете понимать это, то не ограничивайтесь одним пониманием, а будьте внимательны к отсутствующему и пишите. Здоровья мое все худо; неудачи идут во всем до смешного: Лурд, куда я хотел идти пешком через всю Францию, во время самых моих сборов залило водою разлившейся реки Гаронны. Это ужаснейшее народное бедствие всполошило всю Францию, и вы, может быть, слыхали о нем по газетам. Женеву разорила буря. Теперь же только стал собираться ехать лечиться на воды в Мариенбад, как получено известие, что главный мариенбадский источник Крейцбрун стал давать воду крайне вредную, а не полезную. Тем не менее я все-таки еду послезавтра в Мариенбад, чтобы там выискать другой источник, более подходящий к моему состоянию. Так, как видите, и самая поездка, на которую я собирался с такими усилиями, мне самым невероятным образом не удается, а между тем деньги тратятся, и их жаль, а болезненное состояние духа не позволяет ничего работать. Прошу вас всех написать мне теперь уже не в Париж, а в Мариенбад, адресуя так:
В Австрию
Autriche, à Marienbad
Monsieur Nikolas Leskow
Poste restante.
Надписанное таким образом письмо удержат на почте, пока я приду за ним, и, получив его, напишу вам тогда свой мариенбадский адрес. Лечиться водами я должен никак не менее шести недель, а потом уже не знаю, что сделаю. Так как при лечении всякое спокойствие становится вдвое необходимее и дороже, а оно у человека отсутствующего всегда связано с добрыми вестями от милых, то и прошу вас, мои милые, пишите мне не один раз в два месяца, а один раз в неделю, — чего я и буду ждать с большим нетерпением. На этих днях я ездил в Версаль и был там в Национальном собрании, во время заседания депутатов республики. Это очень интересно. Вопрос шел об участии духовенства в учреждении высших школ, и говорили разные люди и монсиньор Дюпанлю. Я слышал Гамбетту, который действительно схож со мною, в доказательство чего посылаю вам его карточку. — Из театров хожу в Comédie Française, где дают классические пиесы и играют удивительно, а музыки нет вовсе, и дамы в кресла не ходят. На театре же Porte St. Martin дают “Путешествие вокруг света” Верна. — Это удивительно сделано, и корабли рушатся, и льды валятся, и дикие сражаются. Посылаю вам кусок афиши. — Боря по ней поймет все, что делается. Это такое представление, что глаз не отведешь. — До свидания же, мои милые, обнимаю вас и целую. Всею душою вас любящий
Н. Лесков.
Марок на письма не надо никаких, — я заплачу при получении, а вам это легче” [606].
“13/2 июля 1875 г.
Paris,
Rue Chateaubriand, 5.
Мои дорогие и милые дети
Вера и Дронушка!
Сегодня я получил ваше письмо, писанное в Ревеле 26-го июня русского стиля, и был, по обыкновению, очень обрадован вашими детскими строчками. Вы, вероятно, помните, как во всякую минуту жизни я любил, чтобы вы пришли ко мне и поговорили со мною. Так и теперь в моем отдаленном одиночестве мне кажется, будто я слышу ваши родные голоса, и мне от них и тяжело, и грустно, и отрадно. Благодарю вас, что вы меня помните и любите, — верьте, что и я не только дня, но и часа не провожу, всех вас себе не вспоминая; а в том, что я вас люблю, вы, конечно, и не сомневаетесь. Хотел бы благодарить вас и за то, что вы обо мне скучаете, но это было бы с моей стороны большим эгоизмом, а его и без того на свете много. Что делать: не всем жить так, как хочется: надо это принимать с покорностью воле божией и учиться безропотности и терпению. Бывает на свете и худшее, и, по-моему, лучше, не видясь, знать, что мы любим друг друга, чем видеться и не любить. Думайте обо мне, молитесь за меня: бог может услышать ваши молитвы и дать мне свою помощь, которая столь нужна мне. Посмотрите вдвоем при восходе луны на ее светлое яблоко, куда я так часто смотрю, сидя где-нибудь под деревцем Булонского леса, а теперь стану смотреть с Богемских гор, и глаза наши там встретятся, и я узнаю, любите ли вы меня, а вы почувствуете, легко ли мне и весело ли. Вот и забава и свидание, пока о другом еще ничего нельзя знать, и я сам о нем ничего не знаю, и вы меня об этом не спрашивайте. Прежде чем вы получите это письмо, Матавкин должен переслать вам мой ответ на первое ваше письмо. Я запоздал ответом, потому что не знал, где вы, и мало верил, чтобы вы на самом деле поехали в Ревель в такое холодное лето. Здесь невозможно купаться: холодно и дождь каждый день. Послезавтра я уезжаю из Франции в Австрию, в маленький и очень тихий городок в Богемских горах, в Мариенбад, где буду шесть недель пить железные воды, на которые много надеюсь, по совету дяди и профессора Меринга, а также и двух парижских докторов. Вы бы меня теперь не узнали, как я похудел и изменился, — худо ем и еще хуже сплю. В Мариенбаде надеюсь дописать повесть, которую начал и которая будет называться “Соколий перелет”; а чтобы мне было веселее, здоровее и спорее работалось, вы не ленитесь и почаще мне пишите, — это моя потребность, и удовлетворение ее укрепляет меня на все лучшее, что могу делать” [607].
И в заключение последнее письмо снова одному мне, утратившее упоминаемую в нем картинку и с нею несколько строк текста:
“Marienbad, den 22/11-ten
июля 1875.
Casino Hotel, 22.
Мой “любяшей” сын!
Сегодня я получил письма ваши и очень вам всем за них благодарен. В Мариенбаде я уже сегодня ровно неделя и лечусь аккуратно: встаю в 5 ч. утра и иду к источнику Крейцбруну, который ты видишь здесь на картинке. Там все подходят по очереди, делая “хвост” как в театрах при покупке билетов. Это берет время до 9 часов, пока выпьешь свои три стакана и 4-й ст. козьей сыворотки. Вода Крейцбруна довольно при…[608], что для слабых подбавляют гретого Крейцбруна, а на вкус похожа немного на зельтерскую, только как будто с запахом заржавевшего ножа, — это от огромного количества железа. Зубы от нее ужасно чернеют, и дамы пьют воду через стеклянную трубочку, чтобы пропускать воду мимо зуб. В 9 ч. я пью чашку бульону и ем бифштекс или 2 яйца и гуляю до 11-ти по горам; в 11 иду к источнику Вальдквеле, вода которого сернистая, но вкусная, — пью ее два стакана и иду опять на гору в императорский тиргартен, где много оленей и всякой дичи; в 1 час весь Marienbad обедает, опять бульон, ростбиф, дичь и компот. От 2 ч[асов] до 5 отдых и свобода. — Это единственное время что-нибудь написать и прочитать. В половине 6-го ванна в 26 град. из Мариенквеле, — вода почти как зельтерская, но тоже с железом. В ванне она все время играет и немножко колет своими пузырьками. В 7 ч. иду на горы до 9 — в 9 пью чай на горах и схожу в долину домой, где сейчас же и засыпаю. Позже 9 час. во всем Мариенбаде нет огня — все спят, а в 5 все дамы уже разодеты и пьют воду. Выйти из этого порядка невозможно. Мариенбад крошечное местечко, — даже не городок, — в нем всего 150 домов, расположенных на ребрах гор, из-под которых бьют источники. Местность удивительнейшая: из окон моей комнаты вид на 30 верст, и в бинокль я вижу дальние горы, вершины которых выше облаков; лес высоты невероятной, и все сосны прямы, как свечи. Теснота в Мариенбаде теперь большая, что и понятно, потому что до 6 тыс. приезжих, из которых чуть ли не половина русских. Мы здесь все говорим по-русски. Дороговизна изрядная, — все вдвое дороже Парижа, особенно квартира, — впрочем, меня знакомые русские дамы устроили в одном с ними, лучшем во всем Мариенбаде, отеле так дешево, что я еще не могу жаловаться. О здоровье моем пока ничего не могу сказать: доктор говорит, что идет хорошо, а я вижу только одно, что желтизна стала проходить и нервы без сравнения спокойнее. Через три дня начну мазаться целебными грязями, что очень неприятно, но очень полезно, а там что бог даст: теперь вся моя забота о том, чтобы вылечиться от разлившейся желчи. Нюрнберг стоит на дороге из Парижа в Мариенбад, и я его уже проехал, да и неудобно и нерасчетливо было бы выходить там для покупки солдатиков. Даст бог силы работать, так будут у тебя солдатики те же и по дорогой цене. — Прощай; целую и благословляю тебя.
Отец твой Николай Лесков” [609].
Прочитав все эти едва не столетие счастливо сохранившиеся листки нельзя не задуматься: для восьми ли летнего мальчика или несколькими годами старших сестры и брата его говорилось в них о неведомом этим детям Буслаеве, каких-то консерваторках, Монтеверде, о нервных страданиях, о том, что не всем жить как хочется, что бывает и худшее, что мало верилось в явно неодобренную поездку семьи на купанье в Ревель, о задуманном литературном произведении, о милых русских дамах, каким-то образом сумевших устроить дешево помещение в лучшем отеле Мариенбада, и т. д…
Характерны некоторые места и из других писем, например к А. П. Милюкову:
Из Парижа, 12 июня: “Нервозность моя, слава богу, облегчается и успокаивается, но мысль о возвращении на родину вдруг посетит и всего как варом взварит. Не знаю, как я оттуда уехал, но чувствую, что если бы еще не уехал, то последний ум мой сбился бы с толку. В Лурд я не пойду, как потому, что это стоит очень дорого, так и потому, что вполне ясно вижу и понимаю, что такое эти пелеринажи” [610]. Упоминавшаяся выше угроза разлива Гаронны здесь позабыта.
Невольно возникает вопрос — не был ли летний Париж, которого не рисовал себе Лесков по своей прежней побывке здесь, в полную событий зиму 1862–1863 годов, большой ошибкой? Что дал сейчас, ничем не вызванный, приезд сюда? Как были богаты впечатления и ярки корреспонденции тогда — и как скудно все теперь. Если бы не Гагарин и Буслаев — и помянуть было бы нечего. Один полуапокрифический “Шерамур” да серебряная коническая пуля с золочеными ребрышками и надписью “Metz” на часовой цепочке. Брелок этот, по словам отца, подарила ему как сувенир какая-то парижанка, у которой отец, муж, сын или брат был убит в 1870 году под Мецем. Точно мотивы дара не объяснялись, но носился он до последних лет неизменно.
И думается — не лучше ли было вместо изнемождающего хождения по раскаленным тротуарам или сидения под хорошо запыленными деревьями парижского бульвара, после совета с дядей и Мерингом, начать сразу лечение в Мариенбаде, а затем спуститься на юг и, помянув Торквато Тассо Пушкина, погрузиться в “адриатические волны” или, как мечталось в дни трудного тиснения “Соборян” в катковском журнале, поселиться в Веве или Сорренто, где, может быть, удалось бы что-нибудь и “совершить” или хоть действительно отдохнуть и оздороветь.
3 августа Лесков пишет Милюкову уже из Мариенбада, причем к прежнему сообщению об обмороке добавляется: “Я вспотел желчью (курсив подлинника. — А. Л.) и с тех пор стал цветнеть и поправляться” [611].
Это уже что-то недалекое от “кровавого пота” несчастного еврея “интролигатора” [612] из рассказа “Владычный суд” (гл. 1).
Здесь же его гневит “коллекция” лечащихся русских редакторов министерского циркуляра “о борьбе с революционной пропагандой в мужских и женских гимназиях” (от 24 мая 1875 года), ректоров и профессоров. “Эти тупицы, — пишет он Милюкову же, — наполовину льстецы, сладострастно рассказывающие, как они в день Кирилла и Мефодия “графу[613] депешу поздравительную послали”. — С чем же, спрашиваю, вы его поздравляли: разве он Кирилл или Мефодий? — Нет, говорят, а так… он доволен был: отвечал “благодарю, что в этот день обо мне вспомнили”… Они мне и здесь и воду и воздух гадят, и на беду их тут много собралось… В заключение скажу, что вся эта пошлость и подлость назлили меня до желания написать нечто вроде “Смеха и горя” [614].
Памфлет написан не был, а колкость относительно поздравительной телеграммы графу Д. А. Толстому легко могла достигнуть до его тонкого министерского слуха.
Всего безудержнее в отношении домашних дел прорывалась раздраженность в письмах к Матавкину [615].
От 22/10 июля: “Вы просите меня извинить вас за слова о каких-то “скрываемых чувствах и, может быть, слезах”… я, впрочем, далек как нельзя более того, чтобы радоваться этим “скрываемым чувствам”, ибо добрых чувств скрывать незачем, а если же что-либо скрывается, то это чувство досады; а слезы могут существовать разве в вашем воображении… Вашим письмам всегда буду рад и всегда на них отвечу, а переписка с Дронушкой едва ли может долго длиться. Заключая в себе нечто анормальное, она, вероятно, не будет входить в планы, которых я никаким образом нарушать не стану. Дитя же само еще мало и не может ни судить, ни понимать того, что происходит. Ему во всяком случае нужно спокойствие, и я себя много виню уже и в том, что в посланных к нему письмах не умел скрывать своих чувств моей тоски и обиды”.
От 29/17 июля: “Когда скончался Виктор Петрович Протейкинский? Мне очень жаль, что он так рано умер, не исполнив ни одного моего поручения и не ответив мне ни на одно из семи писем… Лечение меня радует, и я вижу, сколь оно мне существенно было необходимо: воды хороши, а грязи просто божественны. Можете себе вообразить, чтó мне было накладено в печени, если я потел желчью. Теперь мне значительно и даже без всяких сравнений легче, и я, по-видимому, улизнул от угрожаемой мне “мрачной меланхолии”, а вы, я думаю, знаете, что маскируется этим медицинским термином”.
Приходится разъяснить Протейкинского, которому некоторыми, например Веселитской, присвоивалось нимало не заслуженное им звание “брата милосердия”, будто бы “разгонявшего назойливых посетителей” Лескова. Дягилевский отпрыск, что-то вроде двоюродного брата А. П. Философовой и М. П. Корибут-Лунияк, он, очень молодым человеком, от них прижился и к нам. Мари Дюран сострадательно говорила про него: “Бедный молодой человек, как он дурен. Это настоящий Квазимодо!” И вправду — он был не лучше этого героя знаменитого романа В. Гюго. К лицу, сплошь покрытому багровыми угрями, венчавшемуся огромным горбатым костистым носом, надо было привыкнуть. Нелепо оригинален был во всем. Лесков уверял, что, окончив Петербургский университет, он всю жизнь не мог собраться взять оттуда свой кандидатский диплом. Одинаково вероятно — нашлось ли у него время держать кандидатские экзамены?
В семидесятых годах он был у нас своим человеком, от него не было тайн.
Между прочим, он готовил старшую меня на пять лет Веру в институт. Не было случая, чтобы он не опоздал на час-два к условленному времени урока. Девочка томилась и даже плакала, досадуя, что сбивается весь дневной ее распорядок. Извиняясь, он вытаскивал из кармана пальто смятый и явно умаленный в первоначальном своем объеме пакетик с каким-нибудь желе-рояль, пастилой или халвой — в дар доведенной до слез ученице. Лесков, язвя “Протеку” (он же “Витька”, “Долгонос”), напевал на мотив “Чижика”:
Витя, Витя, где ты был?
Я к Глушкову1 заходил,
На двугривенный купил,
Чуть все сам не проглотил![616]
С годами отношение к “Витеньке” приобрело суровый и даже недоверчивый характер. В первой главе “Зимнего дня” по отношению к “Олимпии”, под которой прозрачно подразумевалась известная Ольга Новикова, вспоминается “предостережение, которое Диккенс делал против всех лиц, живущих неизвестными средствами”. В минуты раздраженности Лесков говорил о “Протеке”: “Изболтался. Ни к какому делу не способен. За пятьдесят лет жизни своей не знал, что такое обязанность. Поэтому никогда не держит своего слова. Скажи ему, что я умираю, и пошли его в аптеку — он по дороге заговорится с встречным знакомым и опоздает. Скажет — придет завтра, придет через неделю… Его помощь словами в горе и затруднениях очень дешева: слова не помогают, а он садится пить чай и читать “Новое время”. И скажите мне, пожалуйста, — уже строго спрашивал Лесков: — чем он живет? Всегда очень важно знать источник средств человека!” И вслед непременно приводился совет Диккенса.
Но этот суд пришел не скоро: к старости Лескова и полустарости былого когда-то наперсника.
Следующее письмо к Матавкину от 22 июля (3 августа) безнадежно не менее предыдущих:
“Доктор мой говорит, будто “дело идет отлично”, но я сомневаюсь: мне все кажется, что я еще и теперь не мог бы слышать похвал ни Авсеенке, ни Гундольфу[617] , и при воспоминании о них уже волнуюсь и сержусь, — не на них, а на насмешку судьбы. Я написал Ахиллу и сочинил, что тот страдал “в пользу детских приютов”, а сам между тем перепортил бог весть сколько крови в пользу этой сволочи, которой на пороге своем не хотел бы видеть… Много раз брался за перо, но бросал: не вяжется ничто в голове, и давно, давно уже не вяжется, ибо и во сне и наяву все мое горе на уме; но авось же это когда-нибудь пройдет… Я уже потерял всю энергию, всю смелость и фантазию и все вращался только на одной печальной мысли о своей доле. Сострадания же я не мог и не могу ждать, как меду от мертвого улья. Стало быть, “беги, мой брег, несись, мой челн”, куда вынесет волна. В Россию я не в силах вернуться: это было бы очень, очень мучительно, — на чужбине легче. Мои милые чехи устраивают меня с любовью: я надеюсь жить удобно и дешево: народ хороший, литераторов много, и язык мне доступен; а надоест, — пущусь далее искать по свету, где оскорбленному есть чувству уголок. В Прагу я выеду 8-го русского августа… Протейкинскому скажите, чтобы ни о чем уже не беспокоился. Я сам внимателен со всеми просьбами и не люблю, если данные мне обещания вменяют ни во что”.
Наконец несколько строк из последнего из известных писем к Матавкину, от 30/18 августа, уже из Дрездена. На этот раз, как часто случается в жизни, тягостное и драматичное малоожиданно сближаются на одном почтовом листке с анекдотически смешным.
“Не хочу отстать от компании русских, с которыми отправляюсь пешком в Саксонскую Швейцарию, а вещи мои сегодня же посылаю в Берлин, потому что хочу видеть и сию форменнейшую столицу… Из Праги я ехал по жел[езной] дороге до Аубига, а оттуда по Эльбе, местностями столь очаровательными, что просто дух захватывает. Особенно хорошо возделаны эти дивные берега, то горы до неба, то цветущие гроздьями виноградники. Я был очарован и весел. Дрезден не велик, — он даже менее Праги, но хорошо обстроен на парижский манер — есть часть города совсем как Париж, но зато: “Куда ни глянешь — красный ворот” или гвоздь на каске. Не будет никакого преувеличения, если я скажу, что здесь 5-й человек в форме, — кучера и те в военных фуражках, и девки в особых мундирах. Таковы-то эти наши “культуртрегеры”. В Берлине этого добра еще более…
Здоровье мое ничего себе, но чем ближе я приближаюсь к России, тем становлюсь беспокойнее. Отсюда я уже в 2 днях расстояния и поеду на Гамбург, который хочу посмотреть; но к 24-му непременно буду в Варшаве, где сам не знаю, что делать. Знаю, что мне нужно спасти себя от осуждения погибнуть в мстительной дрязге неведомо за что; но мысль оставить дитя и все, чем жив, — просто убивает… Время может все изменить, но тут и оно, как сами знаете, оказалось бессильно: ста дней мало вышло, чтобы пришла добрая мысль поправить зло, причиненное человеку самыми несправедливыми и тяжкими обидами… На что еще надеяться… Будь, что будет, куда бог примостит” [618].
В Варшаве происходит несколько охлажденное уже свидание со старым приятелем Щебальским. Тут же лично знакомится Лесков с председателем “Главной дирекции Земского кредитного общества Царства Польского”, бароном В. М. Мегденом, которого влиятельные московские славянофилы усердно “вдохновляли” устроить Лескову пристойно оплаченную и недосадительную службу. Всерьез ли думал Лесков перебраться из литературного Петербурга в безлитературную для русского писателя столицу Польши?
Шла какая-то примерка того, по чему в глубине души перекраивать свой быт отнюдь не хотелось и чем люди его запросов, влечений и одаренности заведомо не могли быть “живы”.
Пока, не разрешив ни одного из мучивших вопросов, надо было возвращаться в Петербург, к успевшему стать ненавистным Ученому комитету с его Авсеенками и Гундольфами, к неосилимой литературной отверженности, к безработице, к омертвевавшему семейному улью…
ГЛАВА 2. “В СОМНЕНЬЯХ ИЗНЫВАЯ”
Четырехмесячное пребывание за границей дало на этот раз резкий поворот в некоторых прежних, с детства усвоенных, взглядах и всего больше в области религиозных воззрений.
“Вообще, — писал Лесков Щебальскому из Мариенбада, — сделался “перевертнем” и не жгу фимиама многим старым богам. Более всего разладил с церковностью, по вопросам которой всласть начитался вещей, в Россию не допускаемых. Имел свидание с молодым Невилем[619] и… поколебался в моих взглядах. Более чем когда-либо верю в великое значение церкви, но не вижу нигде того духа, который приличествует обществу, носящему Христово имя… Но я с этим так усердно возился, что это меня уже утомило. Скажу лишь одно, что прочитай я все, что теперь мною по этому предмету прочитано, и выслушай то, что услышано, — я не написал бы “Соборян” так, как они написаны, а это было бы мне неприятно. Зато меня подергивает теперь написать русского еретика — умного, начитанного и свободомысленного духовного христианина, прошедшего все колебания ради искания истины Христовой и нашедшего ее только в одной душе своей. Я назвал бы такую повесть “Еретик Форносов”, а напечатал бы ее… Где бы ее напечатать? Ох, уж эти “направления”! [620]
Таково начало разномыслия с церковью, которому суждено было неустанно и неуклонно расти все грядущие годы, наполняя все произведения и статьи нового “ересиарха”, начиная с вызывавших негодование правоверных, вроде И. С. Аксакова, “Мелочей архиерейской жизни”, переходя к неизданному еще “Клоподавию”, к оглушительным “Полунощникам” и завершительному “Заячьему ремизу”.
Какой путь! Какая смена умозрений!
В Горохове бабушка возила внука по монастырям и пустынькам. В Панине наставлял добрейший попик-запивушка Алексей Львов. В Орловской гимназии мальчик поучался “у лучшего и в свое время известнейшего из законоучителей, отца Ефимия Андреевича Остромысленского, за добрые уроки которого” Лесков “долго был ему признателен” [621].
В своей автобиографической заметке он говорит: “Религиозность во мне была с детства и притом довольно счастливая, то есть такая, какая рано начала во мне мирить веру с рассудком”, а с тем, думается, обрекала ее на неизбежность отхода от церковности, на сомнения, искания.
Уже в сравнительно раннем “Овцебыке” есть восклицание: “Неужто же, думал я, ничто не переменилось в то время, когда я пережил так много: верил в бога; отвергал его и паки находил его; любил мою родину и распинался с нею и был с распинающими ее! Это даже обидно показалось моему молодому самолюбию, и я решился произвести поверку, — всему поверку, — себе и всему, что меня окружало в те дни, когда мне были новы все впечатления бытия”.
И он пользуется случаем, чтобы побывать на родных стогнах, навестить все чем-нибудь памятные уголки и в их числе Плащанскую богородичную пустынь. Без тени осуждения вспоминает он бывших веселых “слимаков”, ходящих сейчас уже солидными иноками. С особенной теплотой описывает совсем одряхлевшего прежнего “отца казначея”, доживающего последние дни свои “на покое”, почти умиленно рисует всех пустынножителей. Оно и понятно: несмотря на ряд колебаний, он все еще, “идя с народом, в храм, одним с ним кланялся богам”.
Самому ему в описываемую им пору все тридцать. Никакой критики ни на что не изливается. Так называемого “сеничкиного яда” ни признака. Пока — полное в вопросах веры сыновнее покорство духа и понимания. И притом не преемственно-поверхностное, а истекающее из личного ознакомления с основами исповедания и догм своей церкви, как и ее служителей, их быта, нужд, характеров и речи.
Откуда же все это пришло и как постигалось?
Вопрос не мог не занимать следящих за творчеством писателя читателей и еще острее, конечно, интересовал литературные круги.
“Графиня Толстая[622] говорила мне, — пишет Лесков 27 ноября 1874 года И. С. Аксакову, — что вы ее спрашивали: почему я знаю духовенство? Откровенно вам отвечу: я сам этого не знаю”.
Пожалуй, оно почти так могло и быть: все слагалось исподволь, неощутимо нарастая и укрепляясь.
В доме человека, решительно, как бы брезгливо отвратившегося от рясы, всю жизнь проведшего в служилом кругу и женатого на женщине общедворянского воспитания, нетерпеливого богоискательства не чувствовалось. В этой области там удовлетворялись выполнением установленных обрядов и соблюдением исстари заведенных обычаев. Так прожили жизнь родители Николая Семеновича, как и братья и сестры, не исключая и монахини, всех меньше расположенной к каким-либо исканиям.
В таких условиях, как он писал в рассказе “О квакереях” [623], в семью легче “проникал немножно дух английской религиозности”, шедшей от Шкоттов, чем обрядово-мистический дух православной церковности, влияние которой праздно стремились найти в Лескове биографы — “скорохваты” (Фаресов и др.).
Большая заинтересованность отечественным правоверием пришла не в благостной закономерности, не наследственно или преемственно, не с детства, а с возрастом, после многих борений и колебаний, с пытливым углублением религиозной мысли. С ним последовал поворот к еретичеству, в ожесточении своем много превзошедшему пассивное отвращение отца к рясе. С этого пути сворота уже не было.
Внимание к церкви начинается с гимназических лет, не без участия случая. Это запечатлено самим писателем и уже приведено нами в главе “Великолепная книга”, в строках о добрейшей семье орловского этапного офицера, примчавшей многострадальных “духовенных”, с детства необыкновенно заинтересовавших Лескова [624].
Здесь зародились любопытство и сострадание, перешедшие затем в горячее желание познать жизнь этих “приниженных” и обездоленных страстотерпцев, теснимых жестокосердыми “святителями” типа Никодима, Смарагда и пр. Дальше интерес шел ввысь — от бытового и материального к духовному, к высшим вопросам веры.
Вспоминается, как еще ребенком, в Панине, Лесков был охвачен горячим сочувствием к другим мученикам из орловского крестьянства, гонимым властями, разоряемым и ссылаемым только за то, что молились не так, как разрешалось властью.
“Гостомельские хутора, — писал он в статье “С людьми древлего благочестия”, — на которых я родился и вырос, со всех сторон окружены большими раскольничьими селениями. Тут есть и поповщина и беспоповщина разных согласий и даже две деревни христовщины (Большая Колчева и Малая Колчева), из которых лет около двенадцати, по распоряжению тогдашнего правительства, производились бесчисленные выселения на Кавказ и в Закавказье. Это ужасное время имело сильное влияние на мою душу, тогда еще очень молодую и очень впечатлительную. Я полюбил раскольников что называется всем сердцем и сочувствовал им безгранично. С этого времени началось мое сближение с людьми древлего благочестия, не прерывавшееся во все последующие годы…” [625]
А десяток лет позже, в статье “О сводных браках и других немощах”, опять звучит та же нота: “Я сам, будучи ребенком, не раз тайком бегал на маслобойню нашего старосты Дементия смотреть, как там какой-то заезжий поп, раскинув свою “шатровую церковь”, служил в ней обедню… Мне очень нравилось, как мужики молились с своим попом, и я не только хранил их тайну от своих родителей, но даже сам имел сильное желание с ними молиться” [626].
В “Автобиографической заметке” Лесков говорит, что в нем с детства была “счастливая” религиозность, рано начавшая “мирить веру с рассудком”.
Не принимал ли он сначала за нее простую богомольность, перенятую ребенком от ветхозаветной бабушки Акилины Васильевны?
То, что определяется понятием “религиозность”, — требует не детского мышления. В Орле эта богомольность легко заслонилась новизною гимназических и городских впечатлений. Затем подошло полное искушений отрочество, а дальше уже и совсем бурная молодость, со всеми ее увлечениями, признаниями, отречениями. Избыток сил и кипучесть темперамента одолевали и властвовали. Хаотически поглощались Фейербах, Бюхнер, Молешотт, Прудон, Вольтер, “потаенный” Шевченко… Шла азартная переоценка многого из ценившегося раньше. Все мешалось, бродило… Старое отмирало. Новое не отстаивалось. Наступали годы, в которые “творилось” такое, “чего никто не знает”. Было не до религии.
К в детстве чтимым алтарям потянуло очень не скоро, когда жизнь уже успела не раз “тронуть”, принести не одно испытание, когда захотелось найти какую-нибудь опору для преодоления обильных ее трудностей. Вот тут-то стали воскресать давно похороненные чаяния. Потянуло к “положительным верованиям”. Какого же толка? Где можно счастливее мирить веру с рассудком? Англиканство, при всех хваленых его достоинствах, — протестантски черство. Католичество со своими догмами всегда было чуждо. Как бы там ни было, а свое — роднее, теплее, уповательнее.
Решение было принято. Началось “дерзание”. Пошли “Соборяне”, “Запечатленный ангел”, “На краю света”… Но вскоре же “рассудок” начал разлагать с таким трудом восстановленную “веру”. Познанное за минувшие годы уже подвергалось беспощадному разбору, анализу, отвержению. Верить более хочется, чем удается на самом деле.
Горький писал о Льве Толстом: “Он всегда весьма расхваливал бессмертие по ту сторону жизни, но больше оно нравилось ему — по эту” [627].
Вне сомнений, так же с этим было и у Лескова.
А в общем — цепь противоречий, “томленье духа”. Оно чувствовалось в произведениях, статьях, и особенно — в письмах.
“Он[628] говорит весело об умерших, — пишет Лесков Суворину 12 апреля 1888 года. — Они, правда, не страдают уже… Им ничего не страшно, — терять больше нечего. “Покой небытия”, “нирвана”, “блаженны умершие”, “иже не суть”… Вот и все, что есть. Один мужик говорил: “Слава те г[оспо]ди, что он (сын) теперь отстрадамшись, а то бы еще надо терпеть”… Я, признаться, всегда думаю так, как этот мужик, но я верю в бессмертие духа и даже убежден, что это так. Тут — школа, которую надо пройти, а потом будет перевод в другой класс, — мож[ет] б[ыть] высший, а м[ожет] б[ыть] в низший… Это видно “как зерцалом в гадании”, но видно, и видят это люди оч[ень] дальнозоркие: Сократ, Сенека, Платон, Христос, Ориген, Шопенгауер, Л. Толстой. Как хотите, а компания завлекательная…” [629]
Случился у меня в семье смертно больной. “Мужество возможно только при хорошей уверенности в нескончаемости жизни, — пишет мне ободряюще отец. — Это достигается трудно, но — достигается, и по достижении “возрастает, как зерно, из которого выходит тенистое дерево, под которым есть покой”. Помогают к этому великие люди — “светочи человечества”. Теперь их можно купить всех (в “Посреднике” на Лиговке) за 30 копеек. Это: 1. Сократ, 2. Диоген, 3. Паскаль, 4. Марк Аврелий, 5. Христиане 1-х веков и 6. Эпиктет. Все эти 6 брошюр стоят 30 к., и ты их купи, и непременно купи, и непременно имей этих советников при себе, несмотря на то, что тебе теперь не до премудрости. Захвати их с собою, — они тебе принесут много радости и силы. Мы вечны, — мы назначены не для уничтожения. Бог есть, но не такой, которого выдумала корысть и глупость. В этакого бога если верить, то, конечно, лучше (умнее и благочестивее) — совсем не верить, но бог Сократа, Диогена, Христа и Павла — “он с нами и в нас”, и он близок и понятен, как автор актеру, исполняющему роль в пиесе. (Это удивительно ясно у Эпиктета.) “Автор твой знает, какую тебе роль назначил: ты же ее только выполни артистически старательно и с честью”. В “другой обители” (по Христу) тебе дадут роль еще более трудную. Так и будем, сын мой, выручать нашего всемогущего автора, давшего нам такие непостижимости, как “разумение” и “жизнь” и “познавание неосязаемого в жизни”… Понимай бога Павлова. “Не спорь глина с горшечником: он лепит из тебя тот сосуд, какой в эту минуту нужен в его хозяйстве: ты хочешь быть кабинетною вазою, а в хозяйстве его нужен ты на горшок, чтобы щи варить или выносить помои”. А ты и этому послужи и увидишь, как это тебя утешит и укрепит на путь, в котором “нет конца” [630].
И уже в предсмертный год, как бы самоободряюще, утверждается М. О. Меньшикову: “Но гибель нас не ждет! Я этого принять не в состоянии и твердо верю, что будет “миг перерождения” и дух наш для чего-то здесь воспитывается и “усовершается жизнию земною”; или гадится ею” [631].
Хороши слова, но какие-то не свои, а занятые… Не дышат они неколебимой личной убежденностью и не убеждают.
Выдалось однажды нечто и совсем негаданное. В статью “Русские деятели в Остзейском крае” оказался введенным Лесковым прямой пиетической гротеск: автор, без запинки, предложил вспомнить какой-то не указываемый им, возможно апокрифичный, рассказ о “неверующем немце”, который после изучения догматических и философских наук пришел к убеждению, что “бога нет”. Что же он сделал с этим убеждением? Во-первых, из осторожности, он перевел это убеждение в категорию сомнений, а потом все-таки продолжал утром и вечером молиться — такою осторожной молитвой: “Господи! — если ты есть, — помилуй душу мою, — если она есть”. Властвующий над ним культ перешел в натуру, которая сама по себе бережет от всего, что не будет благоприятствовать “тихому и безмятежному житию” [632].
Солидная богословская и мистическая начитанность служила Лескову великолепным оружием в часто возникавших у него, главным образом по его же почину, горячих прениях по вопросам о бесповоротности смерти или преодолении ее духом. Приводились положительные утверждения ряда величайших древних и новых мыслителей, в красоте, глубине и тонкости которых всего легче было завязнуть, утонуть.
В последние годы особенно радует Лескова уверение Толстого — “у нее кроткие глаза”. Он горячо благодарит Толстого за дарование этого совершенно нового, художественно ценного представления “ее”, смерти. Письмо, в котором оно было дано, принесло Лескову “то, что было нужно”, — ободрило. “Вы ее уже не пугаетесь и с нею освоились, — продолжает он. — Это имеет много успокоительного. Думать о “ней” я привык издавна, но с болезни моей овладел мною ужасный гнетущий страх, — я, кажется, просто боялся физических ощущений оттого, что “берут за горло”, — писал он Толстому 10 января 1893 года [633].
Слышалось приписывавшееся Лермонтову стихотворение, в котором смерть приходила “неслышимо, незримо” и говорила “с тоской невыразимой”: “Пора!” Смерть, которая “тихонько навсегда мои закроит очи — и в путь! И в жизни той она меня разбудит”. Но как эта новая жизнь ни беспечальна и ни хороша, а неизвестный поэт кончал тем, что прежний “жаль мне будет. Да, жаль!” [634]
Везде, у всех все то же: как где-то там ни хорошо, а остаться здесь было бы лучше.
Вспоминалось нечто и свое. Незаконченному рассказу “Явление духа”, имевшему выразительный подзаголовок “Открытое письмо спириту” [635], был избран эпиграф:
Что будет жизнь духа
Без этого сердца.
Кольцов
Вконец утомленный воспоминаниями и бесплодностью усилий убедить других, начиная с меня, а может, быть, в тайниках мысли и самого себя, Лесков с кроткой примиренностью малоожиданно заключает: “Ну что ж! В путь, так в путь! На Волкове, на Литераторские мостики! Как писал Курочкин:
Я в этот мир пришел пешком,
Но на свиданье к деду
Хоть и на дрогах, хоть шажком,
А все-таки поеду”
[636]
Тут разномыслить не о чем! С этим, как бы сняв епитрахиль наставника, он умолкает. Молчат и собеседники.
По обычаю в минуты большой напряженности мысли или взволнованности он отходит к окну. Тишина… Но вот слышится знакомый напев:
Прости, моя родная,
Прости, моя земля,
В сомненьях изнывая,
Лечу-у далеко я!
Но и на небе чистом
Твои поля, луга
Роскошно-золотисты,
Не по-о-забуду я…
Чей это тихий голос, что это за грустью дышащие стихи?
Не пришел ли “неслышимо, незримо” загадочно умерший, когда-то жизнерадостный, Иван Петрович Аквиляльбов, прозванный “Белым орлом” в “фантастическом рассказе” того же именования?
Нет!.. Вполголоса, поет сам создавший его, старый, “в сомненьях изнывающий” Лесков. Поет тихо, раздумчиво, пытливо всматриваясь в потемневшее небо, в начинающие мерцать звезды, поет, не находя ни на что ответа…
Да… себя не обманешь: земное, знаемое дороже призрачного, робко чаемого “по тот бок сени смертной”.
ГЛАВА 3. БЕЗРАДОСТНОЕ НОВОСЕЛЬЕ
Сумрачный, ни в чем не излечившийся, ни с чем не примирившийся, едва ли кем в чем оправданный, по-видимому никем и не встреченный, почти неожиданный, числа 27 августа 1875 года возвращается Лесков к старым пенатам у Таврического сада.
Холодновато в “улье”, сухо в Комитете, бесприютно в писательстве.
Кульминационно злосчастные годы жизни. Все ее узлы затягиваются мертвыми петлями. Развязать их не видится возможности. Разрубить? Пожалуй! Но как? Хватит ли сил, решимости?..
О пережитом в эти годы достоверно свидетельствуют ужасом и растерянностью дышащие письма. Но о них позже. Прежде всего выдвигается вопрос о квартире. Высказывавшиеся предположения о зимовке в Праге и вообще долгом нахождении за границей привели мою мать к решению не отдавать больше старших двух мальчиков на предстоящий учебный год полными пансионерами в гимназию, а сделать их приходящими. С 16 августа классы уже начались, и всякие перемены, за отсутствием пансионерских вакансий, оказывались невозможными, да и никого к себе не манили. Таков был один из бытовых результатов упорного письмового разобщения глав дома. Милая, солнечная и тогда еще очень богатая садами Фурштатская, с ее любимой всеми “Тавридой” и дружественными соседями Матавкиными, перестала отвечать многим требованиям. Все приводило к необходимости переезда.
Квартира подвернулась, много более удобная, на Захарьевской (ныне ул. Каляева), д. № 3, второй от угла Литейной. Напротив Окружной суд. Конки по Литейной до Технологического института, а по Захарьевской и Знаменской (ул. Восстания) — до Невского и Николаевского (Московского) вокзала. Молодежи ходить в гимназию к Пустому рынку на Гагаринскую втрое ближе. Хозяйке удобен самый этот рынок. Хозяину во все редакции полпути против прежнего. Кругом выгоды. Одно нехорошо: четвертый этаж! Теневая сторона науличных комнат не смущала: столовая, детские и все вообще внутренние комнаты — на юг и запад, на солнце. Стали готовиться к скорейшему переезду.
Сознаюсь, что я лично еще не постигал глубины росшего между моими родителями разлада. Должно быть, его до времени старались не раскрывать. Но как это случается в жизни, что-то очень большое и значительное раскрылось чьею-то пустою, мимоходом оброненною фразой. При одном из бесчисленных в те дни обобществленных обсуждений преимуществ и недостатков предстоящего места жительства всепримиряющий “Витенька” к многим уже перечисленным им добрым качествам последнего прибавил: “Швейцар, подающий письма и газеты! Теплая, освещенная газом парадная лестница! на улице звонки конки, движение, оживление, смотришь — бог даст, повеселее пойдет!”
Почему же это от звонков конки будет веселее? Разве сейчас у нас, без этих звонков, уж очень скучно, нехорошо? Странно…
И первый раз в своей короткой еще жизни я глубоко задумался над чем-то, над чем прежде не останавливался. “Звонки” сели глубоко и разбудили спавшие до того мысли, стали воскрешать и по-новому окрашивать впечатления, мимо которых до сих пор проходил ребячески безмысленно… Первая капля яда запала в душу. Родились воспоминания, улавливались не оценявшиеся раньше интонации, движения, молчаливости, краткость ответов и многое, многое, одно за другим. День от дня отрава разливалась и углублялась, заставляя во все всматриваться, вдумываться, оценять настоящее, пытливо угадывать дальнейшее… Внезапно пришли первые душевные муки, с которыми нелегко справляться и в поре полной возмужалости и искушенности жизненными испытаниями. Рано…
Между первым и четвертым числами октября 1875 года происходит наше переселение на новую квартиру. Меня поразила ее обширность, паровое отопление науличных комнат, подъемник для дров на черной лестнице, кстати сказать, через две-три недели оборвавшийся и заброшенный. Произвел впечатление и швейцар в ливрее и фуражке с галунами. Это был добродушнейший “николаевский” солдат, с которым я быстро свел дружбу. Из всех его рассказов я никак не мог постигнуть, как это он умел в многочисленных походах спать на ходу, во всей амуниции, с ружьем на плече, чувствуя локтем локоть соседа справа и слева. Я очень любил послушать его, но, увы, эта дружба была очень мало похожа в своей поучительности и интересности для меня на панинскую дружбу моего отца с неиссякаемой прелести мельником “дедушкой Ильёй”. Не те были времена, не то приволье условий жизни и положений!
Покои были мерные, красивые, прекрасно расположенные. Стала задача о “мебели”.
В глубине гостиной была удивлявшая меня арка во всю тыльную стену комнаты. На нее, окна и двери были повешены подзоры и портьеры из толстого штофа темного бордо. Красиво расставлена была модная резного ореха полная “гарнитура”, обитая тем же штофом. Заняло свое место высокое, от полу до потолка, трюмо. Подавляла детское воображение двухместная “козетка”, то есть “беседница”, в форме латинской буквы “S” или вопросительного знака.
В кабинет были заказаны две турецкие тахты. Словом, вся квартира обставлена почти заново. Скромные вещи фурштатских времен пошли в дальние комнаты. Рояль был поставлен не в смежной с кабинетом гостиной, а в отдаленной от него столовой, чтобы не мешать творческой работе хозяина.
Внешне, на мой по крайней мере детский взгляд, атмосфера как будто разряжалась, общее положение крепло. Но я не знал, чем были полны письма отца ко всем, с кем он мог переписываться. Я их прочел только много лет спустя после его смерти. Они поистине страшны. Для оценки их остроты достаточно пробежать не слишком много строк, написанных, например, уже после возвращения из-за границы П. К. Щебальскому:
“…Изнемог я, Петр Карлович, и ничего более не жду… К тому же все уже и поздно: мне буквально нечем жить и не за что взяться; негде работать и негде взять сил для работы; а на 1 т[ысячу] р[ублей] с семьею существовать нельзя. Ждать я ничего не могу и, вероятно, пойду к брату в его деревеньку в приказчики, чтобы хоть не умереть с голоду и не сесть в долговую тюрьму. Положение без просвета, и дух мой пал до отчаяния, препятствующего мне и мыслить и надеяться. Если со мною случится что худое, то бумаги мои будут присланы вам, и вы из них многое извлечете для характеристики литературного быта, зависящего от столь известной вам “обидной рассеянности и капризов”[637], — прибавлю от себя — пошлых и грубых…” [638]
“…Где взять, Петр Карлович, “ослиного” терпения, — и именно ослиного, а не человеческого, потому что человеческое тут никуда не годится… Разве вы не знаете клеветы, которые нес я и которые так и присохли ко мне и мешают мне беспрестанно?.. Ведь это, пожалуй, и смешно, только когда бы тот же Катков не отшиб последней способности сложить уста в улыбку… Аксаков просил за меня Кокорева, — не вышло ничего, несмотря на то, что Аксаков лбом бил, а не только попросил… Притом же “странноприимный” Георгиевский ко мне так странно приимен, что я, право, даже ума не приложу, как с этим быть. Благочестивый вельможа этот забывает, что такой или сякой мой талантишко открывал мне двери, куда действительных статских советников не всех пускают, и что я приучен уже к некоторой деликатности и вниманию. Я чувствовал бы большое счастие не видать его, потому что я человек вспыльчивый и масса неудач сделала меня раздражительным… Вот вам моя ситуация, как я сижу. Добавить разве к этому огорчения сторонние и иные, так как “враги человеку домашние его” — и они не столь в этом виноваты: что им за дело до моих убеждений, до несчастных стечении обстоятельств и проч. и проч. И они “друзья минутного, поклонники успеха”, а от всего этого… хоть в воду!.. я болен припадками, никогда со мной не бывавшими: я стыну и обливаюсь холодным потом, и несколько раз в день я теряю сознание, при неотвязной мысли — что у меня нет работы. Я это вижу во сне; с этим пробуждаюсь, с этим хожу и брожу, наводя на всех постылое чувство при виде беспомощной неудачи” [639].
Человеку, доведенному или дошедшему до такого состояния, приходится извинить преувеличенность меры и материальной нуждаемости и бесповоротности каких-то фатальных относительно себя намерений, как, может быть, и жалоб на “домашних”.
Однако литературное положение, несомненно, было нестерпимо. В этой области отчаяние находило себе полное оправдание.
Итак, новоселье было безрадостно. Зимний сезон уже вступил в свои права. В квартире все было подготовлено для возобновления приемов, оживленных вечеров с переполненным интересными людьми залом. Но… нарядная гостиная стоит темная. Хозяину бывать дома недосужно. Он находит отдых только в великосветских гостиных. В своей он боится встретить Гундольфов, Авсеенок и прочую “сволочь, которую на пороге своем не хотел бы видеть!!!”
Часто нет его и за обеденным столом.
В общем, эти годы отец как бы на отлете. Это никому не вредит, даже вольнее всем…
Самодовлеюще совершается подбор или разбор знакомых и еще заметнее друзей по сродству вкусов и требований.
Превосходительно-невыносимый А. И. Георгиевский с крошечною супругой Марией Александровной, перед которой сей важный сановник превращался в кроткого агнца, тощий В. Г. Авсеенко с своей дородной женой, Маркевич и т. д. переходят на дневные визиты, так как Лесков перестает посещать их вечерами.
А. П. Милюков с 3. В. Нарден, Матавкины и другие более близкие из фурштатских знакомых ездят вечерком, но сидят не в строгой гостиной, а в радушной столовой, около рояля, на котором дает камерные концерты, по лесковскому наименованию, “Нарденша”, поет и аккомпанирует кому-нибудь из мужчин или своей жене Матавкин; ведут “простоплетные” приятельские беседы за стаканом чая и легкой закуской. Это уже целиком материнские друзья и, видимо, сторонники.
Отцовские литературные знакомые проходят из передней прямо в кабинет, куда подается им чай.
Он часто ездит на два-три дня в Царское Село к поселившимся там Кушелевым. В свою очередь Сергей Егорович частенько заночевывает у нас, в писательском кабинете на одной из турецких тахт. Тут же ночует иногда заговорившийся с хозяином далеко за полночь книголюбивый гимназический товарищ Николая Бубнова Илья Шляпкин, впоследствии известный профессор-литературовед.
Тяжесть нрава отца, под влиянием непрерывной раздраженности, углубляется, гнетет дом.
Однажды днем мать моя принимала в гостиной приезжавшую с каким-то приглашением чету Ледаковых. На несчастье, вскоре вернулся откуда-то отец. Услыхав непомерно громкий голос литературно-художественного ростовщика, он стремительно вошел в гостиную, поздоровался с женой Ледакова, а протянувшему ему руку “Антошке” бросил в лицо: “Я мерзавцам руки не подаю” и прошел дальше.
В эту минуту я готовился к поступлению в “милютинскую” военную гимназию. Учительница моя, Лидия Степановна Мамонтова, тетка Надсона по матери, завела в своей школе вечерние занятия для приготовления уроков. Возвращался я с них часов около девяти. Войдя в переднюю, я бросал первый взгляд направо, и если темный кабинет отца зиял растворенной дверью, — с ликующим взбрыком несся по комнатам. Иначе шло дело, если отец был дома. Присутствие или отсутствие его сказывалось на всей домашней погоде, и подчас самым неожиданным образом.
Уже с начала ноября я высмотрел в календаре, что в текущем году день всехвального апостола Андрея Первозванного приходится в воскресенье. Это наполняло мое девятилетнее сердце восторгом: я знал, что, случись он в будень, — отец неизбежно пошлет меня в школу не только днем, но и вечером. В школьных делах он был неумолим. А вышло само собой, что в свои именины я буду свободен весь день. Жил, считая дни. Наконец пришло и само “тезоименитство”. С утра пошли поздравления, подарки домашних, попозже зашли кое-кто из материнских друзей. Дары росли. Отца весь день не было дома: приехал часу в восьмом. Я был поглощен любованием подарками, раскладкой и перекладкой их с места на место. В разгар этих увлекательных занятий шустро вошла Паша и скороговоркой сказала, что меня зовет к себе отец.
Наверное — сюрприз! — мелькнуло у меня в голове, и, обнадеженный этой мыслью, я рысцой вбежал в кабинет. Однако при взгляде на отца у меня сразу захолонуло сердце.
— Иди к маме и попроси ее собрать нам белье: мы с тобой едем сейчас в баню.
Остолбенев, я не шевелился.
— Что же ты стоишь?
— Ка-ак… в баню?!. Я же сегодня… именинник!
— Вот и прекрасно — чище в день своего святого будешь. Ступай!
Привезшая мне большую коробку нюрнбергского изделия оловянных солдатиков “Нарденша” сделала круглые глаза. Мать, стараясь не встречаться с нею взглядом, сдвинула брови и, извинившись перед приятельницей, собрала и вручила ковровый сак прибежавшей за ним Паше.
Ребячий праздник был сорван.
Через десять минут мы уже ехали в санках на Знаменскую в баню купца Сорокина, против Манежного переулка.
Обида жгла. Душа кипела горькими, опасливо, через силу сдерживавшимися слезами…
ГЛАВА 4. ПИКРУКИ
Во всесторонних настроениях протекает зима, и близится лето. Возникает дачный вопрос.
При одном из вечерних обсуждений друг друга сменяющих планов отец мой неожиданно, с не совсем искренней беззаботностью, выдвигает заранее разработанное им предложение: живописнейшее местоположение, купанье, лодка, рыбная ловля, сосновый бор, изобилие прогулок, грибы, ягоды, просторное и обособленное помещение, всего три часа железнодорожного пути, а там — десять минут пароходиком до места!
— Где это? — коротко и малодоверчиво спрашивает мать.
— Под самым Выборгом, на берегу знаменитого своими красотами Сайменского канала! Юлия Денисовна (Засецкая. — А. Л.) в виде одолжения ей, просит занять любую из двух ее, оставшихся неснятыми, дач, присмотрев за другою…
Передавая отцу налитый стакан чая, мать, с холодком дышащей рассеянностью, отклоняет явно нелюбезную ей комбинацию.
Отец оскорбляется и, может быть излишне ультимативно, заявляя, что во всяком случае проведет лето именно там, демонстративно уходит со своим стаканом в кабинет.
Вопрос снимается с дальнейшего обсуждения. Мать нанимает дачу в тихом тогда Лесном, удобном по положению и хозяйственным условиям. Летом снова порознь, но на этот раз в эту рознь включаюсь уже и я, которого отец берет с собою в Выборг.
Дачи Засецкой оказываются довольно нелепыми. Очевидно, эту простосердечную и доверчивую женщину с ними хорошо обвели. Сперва в расстоянии трехсот — пятисот шагов, стояла лесопилка, лязг “рам” которой неустанно слышался у нас весь день. Впереди стояла чья-то большая прекрасная тенистая усадьба, спускавшаяся прямо к Сайме и полностью отгораживавшая от нее лысоватый и кургузый участок Засецкой, выкроенный в невзрачном глухом тупичке, запиравшемся лесопильней. Вдоль правого фаса закрывавшей от нас залив нарядной виллы шел узковатый коридористый проход к нашей купальне и лодке, почему-то носившей имя польского воителя — Сапега.
От вокзала было километра четыре. Пароходик бегал от городской пристани проворно и часто, останавливаясь близко, у лесопильни. Близок был и прекрасный парк баронов Николаи “Монрепо”.
Мне эти Пикруки хорошо сели в памяти. Я оказался средоточием всех педагогических устремлений моего, не новичка в таких делах, отца. Тут шли почти ежедневные раздражавшие отца открытия. Выявлялось, что, считавшийся до того самым ловким в семье, как и в школе, я ровно ничего не умею, даже хотя бы ходить так, чтобы не изнашивались на каменистом финляндском грунте подметки.
Началось коренное мое перевоспитание и переобучение всему: как правильно идти, как кланяться, шаркать ножкой, спрашивать и отвечать, пить чай, есть за обедом, раздеваться, одеваться — словом, жить и дышать все двадцать четыре часа в сутки под неусыпным и быстрым в исправлениях и карах надзиранием.
Сознаюсь — я растерялся и пал духом. А он и так был жестоко угнетен — с конца апреля я нетерпеливо ожидал, когда меня, прекрасно подготовленного у Мамонтовой, поведут на вступительный экзамен в милютинскую военную гимназию, и… не дождался. Говорилось — осенью. Но почему? И кто же будет заниматься со мною летом, чтобы не перезабыть к конкурсному испытанию то, что так живо и твердо сейчас в голове! Сверстники уже были приняты весной в те или другие среднеучебные заведения, а я, так сказать, начинал жить с отставания. Я не мог примириться с такой обидой.
Правда, отец сначала очень строго задавал мне по утрам какие-то уроки, требуя их приготовления к обеду. Но я видел, что он совершенно незнаком с существующими программами и требованиями и никакой не руководитель в сбережении мною уже усвоенных знаний. Наоборот, я понимал, что его вмешательство может меня только сбивать и путать в том, в чем я был уже надежно подкован. Остро вспомнились первые эксперименты с обучением меня грамоте чуть не по Часослову, но, увы, изымать меня из вновь выпавшей мне выучки здесь было некому.
Обед с глазу на глаз был сплошным испытанием. После небольшого отдыха следовала прогулка в Монрепо. Я знал, что название это обозначает “мой отдых”, — и горько вздыхал. Началось привитие мне новой, отвечающей каким-то особым требованиям, поступи.
Я должен был идти по дорожкам парка в четырех шагах впереди отца и, как-то не касаясь земли, переступать и двигаться вперед. Ко всему, при встречах с дачниками приходилось, пересиливая себя, делать беззаботно-веселое лицо, но так, чтобы такое выражение не было замечено отцом и принято им за дерзость или фронду.
Repos, отдых, выдавался только с понедельника до вечера вторника, когда отец уезжал на заседания в Ученый комитет. Тогда у нас с приветливой нашей служанкой-финкой Минной шли смешливые беседы на взаимно не вполне понимаемых языках, пелись песни каждым по-своему, сыпались шутки, наступало полное приволье!
А в общем жилось невообразимо тоскливо. Молодежь наша вся перебывала у нас, и никто долго не загостился. Кругом непостигаемо чужой говор. Кроме Монрепо, ходить некуда. Грибы и ягоды — только на базаре, дороже Петербурга, так как на русских деньгах есть потеря при размене их на финские марки и пенни. Мать моя протестационно не посетила владений Засецкой ни разу, хотя мы раз провели два дня в Лесном. Отец воспринимал здесь все в пренебрежительном молчании, как ни в какой доле не сопоставляемое с Пикруками. Это никого не огорчало. Ему показывали достопримечательности: место дуэли Новосильцева с Черновым с круглыми плитами, определявшими места противников, погибших на этом жестоком поединке; Новосильцовскую церковь; эффектный, по тогдашним представлениям, безостановочный проход мимо полустанка Ланская вечернего “курьерского” поезда… Ничто не тронуло и не ущербило ревниво отстаивавшегося превосходства Саймы. Отец не откликнулся даже на упоминание о том, что секундантом Чернова был писательски чтимый им Кондратий Рылеев. Оставалось вяло повернуть домой, к раннему ужину, к ночлегу.
На другой день мы вернулись в свое немотно-отшельническое Монрепо. И снова прежнее томленье…
Но вот однажды, в предвечерние часы, в нашем тупичке показались два легких тильбюри [640]. Наверное, ошиблись, подумал я. Однако оба они продолжали приближаться и, наконец, остановились как раз против меня. Одним экипажем правила элегантная дама, другим — очень благопристойный офицер, рядом с которым сидела маленькая блондинка. Они приехали посмотреть для каких-то своих, откуда-то переведенных среди лета, друзей запустовавшую большую дачу, о которой узнали от кого-то на вокзале.
Вышедший по моему докладу о происшествии отец преобразился. Дача не понравилась, но случайные гости уже не торопились, весело болтая с чарующе любезным хозяином, предложившим отдохнуть за чашкой чая.
— Manon Lescaut, Манон Леско! Ах, как это мило! — русская фамилия, звучащая как имя очаровательной героини прелестного романа Прево! Нет, это восторг! — щебетала правившая лошадьми дама, снимая черные лайковые перчатки с крагами. — Вы мне позволите вас так называть, снисходя к моей дамской непосредственности и болтливости?
Расстались уже совсем друзьями, взяв с Лескова слово завтра же обедать у них запросто на Петербургском форштате, и непременно со мною, так как и мне найдется соответствующее общество, — “а держать мальчика в одиночку в этой глуши — преступление! Ему нужны сверстники, простор, смех, игры, солнце, воздух. Нет, нет, нет… и не пытайтесь возражать! Ничего и слышать не хотим! Это преступление! И вы должны быть за него наказаны — непременно ждем вас к по-деревенски раннему обеду в два часа, а дальше будете отпускать Дронушку к нам каждый день. Что ему здесь делать одному без товарищей!” — вперебой сыпали обе бойкие, сразу что-то чутьем взявшие женщины.
Все изменилось для меня, как по волшебству. Но всего удивительнее было — с каким явным удовольствием стал дружить с новыми знакомыми успевший стосковаться по обществу, без возможности очаровывать других своей беседой, сам Лесков, уже больше месяца не слышавший русского слова и объяснявшийся даже со служанкой наполовину пантомимой. Видно было, что точно камень свалился у него с плеч, а с тем свалились и с меня почти все ничему не служившие его школьные занятия со мной, как и унылые прогулки в парке, заменившиеся играми с детьми Павла Гавриловича Кандиба, его жены Надежды Николаевны и его кузины Веры Тимофеевны Райко. Дружба со всеми ними, в виде редкостного исключения, сохранилась на весь век каждого.
Я воскрес. Отец отвлекся от педагогии и целиком отдался работе, о которой я узнал многие годы спустя.
Но нет вечного счастья. Наступила половина августа. Кандибы и Райко вернулись в Петербург. Начинался учебный год. Об экзамене для определения меня в гимназию уже и не говорилось. Это точило мне душу, будило мучительную зависть к знакомым однолеткам. Возобновление заведомо бесцельных уроков, отчеркивавшихся по какому-то непостижимому плану отцом, иссушало душу… Становилось свежо. Вместо возвращения домой мы почему-то перебрались в большую дачу, комнаты нижнего этажа которой были оштукатурены и имели печи. Ничего не понимая, я приходил в ужас: неужели мы так тут и зазимуем? Конечно нет! Но чего мы медлим? Небо темнело, вечера день ото дня становились длиннее, тоскливей. С лесной биржи доносился удручающий визг пил. Опустела и соседняя нарядная вилла. Купанье, доведенное отцом до 11-градусной температуры воды по Реомюру, составлявшее подлинную муку, пришлось-таки бросить. Пошли холодные беспросветные дожди. А мы все не двигались. Отец безотрывно писал и неуклонно мрачнел. Росло отчаяние. Наконец перестала терпеть неизвестность и наша Минна, которой надо было идти куда-то на зимнюю работу. Приходилось уезжать. Но куда?
В чем же было дело? Что отняло у меня год гимназии? Что додержало нас до сентября в кругом заглохшей уже пикрукской берлоге?
Ответы пришли, когда уже ни моего отца, ни матери не было в живых, а я десятки лет собирал и открывал растерянного, забытого и безвестного Лескова, знакомился с его перепиской, многое вспоминал, сопоставлял, связывал, работал над “лесковианой”.
Начну с литературной причинности.
Уже с 1874 года Лесков начал следить за аристократическим религиозным нововерием, апостолом которого являлся многократно приезжавший в Россию английский лорд Гренвиль Вальдигрев Редсток. В ряде лесковских газетных заметок и журнальных статей говорилось об его “еретическом вздоре”, что он несет “ахинею”, что, “кажется, у нас ему ничто не мешало быть умнее”, что “искать Иисуса в людях” надо не так, как это он делал; на вопрос, где же Христос у этого лорда, давался точный ответ: “несть зде”, что наших “апостольских дам и кавалеров” он “не надолго разогревает”. Но этого всего становится мало. Тянет дать круглый, сочный и законченный очерк всего этого “салонно-кенареечного” движения, пусть даже с слегка памфлетным, но жизненно убедительным портретом самого пророка в центре.
Мысль эта дозревает именно в Пикруках, в гостеприимных владениях убежденной редстокистки, в состоянии, исключающем возможность отдаться большому “совершению”, но позволяющем заняться чем-то злободневным, местами почти юмористическим.
Правда, с одной стороны, личная дружба с Юлией Денисовной связывает, но, с другой, как ничто другое, и благоприятствует выполнению плана. Вставала маккиавеллистическая дилемма: чему чем пожертовать?!
Колебания не были долги. Решение было принято, а с ним овладела уже врожденная “нетерпячесть”: Засецкой телеграммой посылается челобитная, на которую она откликается со всею своею простосердечностью:
14 июня (1876 г.)
“Ваша телеграмма очень меня обрадовала, добрейший Николай Семенович! Я ничего не поняла, исключая того, что вы бы мне не предложили ничего, кроме хорошего. Скажу более, вы мне показались одним из добрых чародеев в волшебных сказках для детей, который хочет убедить человечество в детском возрасте, что даже малейшее одолжение не остается без награды. И потому я согласилась немедленно на ваше предложение, но в чем оно состоит — не понимаю.
Я не то что затрудняюсь писать подробно о всех воззрениях Р[едсто]ка, но не могу себе уяснить вполне, имею ли я на то право, так как многое было сказано мне, но не публике. Я в их семействе, включая его недавно умершую мать и сестру, проводила дни, я у них бывала как у себя, часто затрагивала вопросы, о которых он не говорит никогда, и, бывало, он мне скажет: понимаете — я это говорю вам, другие могут ложно перетолковать мои мысли. — Рассудите сами.
Впрочем, вот что я сделаю. Напишу вам все, вроде письма, и что мне покажется опасным для него и неделикатным с моей стороны, отмечу крестиком…”
Со всей природной искренностью зажегшись желанием всемерно помочь человеку, восхищавшему ее “плодами творческого ума”, она от сердца шлет все, что в силах.
“Я исполнила ваше желание и посылаю вам речь, как говорил Ред[сток], почти всегда одно и то же, при некоторых вариациях и других текстах. Но суть одна — необходимость духовного возрождения человека верой во И[исуса] Х[риста]. Потом уже нужны дела и святость в жизни, но это приходит без труда — сам господь указывает и принуждает действовать по его указаниям.
В другое время я бы написала лучше, но теперь куча дела и забот. Уж извините шероховатость слога — еле успела прочесть один раз”.
В разгаре работы писатель уже не был в состоянии считаться с какими-нибудь ограничительными условностями и “крестиками” Засецкой в отношении переданного ею материала. В творческом увлечении темпераментный публицист думает об одном: дать более яркие картины, сочные диалоги, колоритные образы, хотя бы и немного карикатурные, но хорошо запоминающиеся и впечатляющие. Как тут остеречься от “exuberance”!.. [641]
Очерк разрастается, грозя занять свыше семи листов. И вот к осени уже настолько готов, что с сентября можно начать его печатанием [642].
Редстокисты негодуют. Пашков, Пейкер, Корф, вся Сергиевская улица, переименованная Лесковым в “Семиверную” по обилию в ней “нововеров” различных толков, великолепные особняки на Набережной и Конногвардейском бульваре, все “кенареечные” христоискатели потрясены.
Засецкая убита: она виновата в безумышленном предании на поругание того, кого она так чтит и ценит! Ее утешают тем, что она не более как жертва писательского вероломства. Это не смягчает ее угрызений. Подавленная, она пишет:
“Николай Семенович!
Евангелие учит нас воздавать добром за зло и прощать обиды. Вас не стану упрекать…
Учителя нашего, сына божия, называл мир сатаной и помешанным — чего же должны ожидать его последователи? Если кто вас и не знает, но судит вас обоих по вашим писаниям, достаточно может убедиться, что: “вы от мира и говорите по-мирски, и мир слушает вас”. Удивительно ли, что вы насмехаетесь над теми, которые вовсе не от мира, и над тем, что для вас пока недосягаемо”.
Автор “Раскола”, оправдываясь, ссылается на широкое одобрение его “очерка” прессой, на что получает как бы заключительное отпущение:
“Николай Семенович, я получила вашу приписку и вырезку из журнала. Но могу вас уверить, что я журнальные мнения не признаю за авторитет и позволяю себе иметь личные воззрения. Совершенно согласна, что вы могли бы описать в тысячу раз хуже человека, которого я ставлю в нравственном отношении выше всех мне известных людей. Разве Мещерский не описал его как последнего мерзавца? Когда цель книги позабавить публику, а главное, дать успех книге во что бы то ни стало, литераторы, вероятно, без сожаления жертвуют всем: дружбой, мнением и доверенностью таких скромных личностей, как я. Виновата я, что вообразила, что вы ко мне питаете некоторое чувство дружбы, которое не дозволит вам осмеять (и для этого еще избрать меня орудием) человека, которого я безгранично уважаю. От избытка ли воображения, но я до глупости доверчива.
Вас же можно поздравить: цель ваша вполне достигнута. Я нимало не сердита на вас, я ошиблась, и это сознание на некоторое время уничтожает меня в собственных глазах.
Опять кончу словами, которые когда-то вам писала: “Вы от мира и говорите по-мирски, и мир слушает вас”.
Помоги вам бог прозреть вовремя…” [643]
Упрека нет. Встречи тяжелы: “я ошиблась”… Казавшейся возможной дружбе держаться не на чем.
Еще за полгода до “Великосветского раскола” появился в печати “критический этюд” Лескова под пренебрежительным заглавием “Сентиментальное благочестие. Великосветский опыт простонародного журнала. Разбор ежемесячного религиозно-нравственного издания “Русский рабочий” [644]. Издавала его, тогда еще незнакомая с Лесковым, сильно обангличанившаяся редстокистка М. Г. Пейкер, рожденная Лошкарева, со своею взрослою дочерью.
Как известно, всего страшнее сделаться смешным. А “разбор” обнажал смехотворную редакторско-издательскую немощь обеих этих “апостолических дам” и совершенное невежество их в отношении всех сторон русского быта и жизни русского рабочего. Попавшие впросак “словесные овцы” редстоковского духовного стада “взъегозились” и стали искать помощи. Вероятно, она пришла от Засецкой, познакомившей издательниц с автором неприятного “критического этюда”. В лице матери, Марии Григорьевны, писатель встретил умную и острую русскую кровную барыню, сумевшую, как многие дамы ее круга, превосходно узнать Англию, в той же мере забыв свою Россию, а может быть, никогда не знав ее и прежде. Такою же вырастила она, подолгу живя в милой нашей аристократии Британии, и дочь Александру Ивановну.
Непосредственные отношения показались взаимно столь приятными и простыми, что в зиму 1878–1879 годов даже я, двенадцатилетний мальчик, стал непременным гостем тихих пейкеровских субботних вечеров, проходивших в мягких беседах, в которых весьма часто видное участие принимал и мой отец. Здесь я, под покровительственным руководством двадцатилетней Александры Ивановны, знакомился с Евангелием, вырезал, наклеивал и раскрашивал медовыми красками избранные тексты для раздаривания их менее меня просвещенным, пел с ее голоса изданные ею же “любимые стихи” на тот или иной евангельский стих или псалом и даже играл на английском концертино. Дружба наша так росла, что весной Пейкеры начали просить отца отпустить меня вместо Киева на все лето к ним в их имение, село Ивановское, в сорока верстах от Череповца, с тем, что в конце лета за мной заедет сам отец. Здесь я еще более окреп во всех перечисленных занятиях, знаниях и искусствах, отнятых у меня моим отцом в рассказе “Юдоль” и совершенно бесправно и беллетристически закономерно подаренных им достаточно апокрифичной англичанке Гильдегарде, нежной подруге не более достоверной в данном случае “тети Полли”.
Сближение с Пейкерами, как, должно быть, и личная переоценка некоторых своих шагов в отношении их общего с Засецкой пастыря не замедлили принести свои плоды. В очередной своей статье, в полудуховном, полусветском журнале, Лесков сильно изменяет отношение к Редстоку и даже признает в “Великосветском расколе” целых три своих ошибки в суждении о нем. В итоге признается, что интеллектуальные способности проповедника не ниже его апостольского рвения; что лингвистические силы его велики и он в одно лето, самоучкой, усвоил русский язык, с которого переводит, на котором читает и даже “немножко объясняется”; что в разговоре “с глазу на глаз” он “производит такое приятное впечатление, какое может внушить человек не только очень искренний, но и глубокий; что знание им священного писания “довольно замечательно”, и т. д. [645]
Тут же в бесподписной сочувственной заметке “Новая назидательная книга” сообщается Лесковым, что “Юлия Денисовна Засецкая (дочь приснопамятного партизана Отечественной войны Дениса Давыдова)” перевела сочинения Джона Буньяна с тою теплотой, “которую женщины умеют придавать переводам сочинений, пленящих их сердца и производящих сильное впечатление на их ум и чувства”.
Такие строки предназначались главным образом для смягчения обиженности и горечи женщины, о которой их автор никогда не говорил иначе, как о человеке большой доброты и исключительных достоинств.
Должно быть, в середине 1880 года она покинула Россию, поселилась в Париже. Скончалась, вероятно, в первой половине 1883 года, завещав “не перевозить ее тела в Россию” [646], дабы не дать возможности господствующей церкви совершить над ним установленные обряды. В архиве Засецкой могли сохраниться прелюбопытнейшие письма Лескова. Пока о них слышно не было.
Дружество с М. Г. Пейкер с 1880 года тоже потеряло прежнюю живость. В смерти она опередила Засецкую, скончавшись 27 февраля 1881 года.
Так сошли в могилу две наиболее близкие Лескову и чтимые им редстокистки. О самом “нововерии” Лесков оставил достаточные, не менее уважительные свидетельства, чем о двух исповедницах этого учения [647].
“Великосветский раскол” читался бойко, выдержав подряд журнальную публикацию и в один год два отдельных издания. Это был по тому времени изрядный успех. Читался одними с осуждениями, другими с одобрением и всеми с неослабным любопытством.
Не одинаково безупречным показался он и князьям церкви. Духовник и отчасти воспитатель царя Александра II, богослов, член святейшего Синода, протопресвитер В. Б. Бажанов, вникнув в очерк, без колебания определил: “Сия книга прехитростная” [648]. Он прозрел, что автор ее всего больше сам уже “свободный христианин”, влекущийся написать еретика Форносова или по крайней мере праведного Голована, казавшегося всем “сумнительным в вере” и принадлежащим к своеобразному “приходу творца-вседержителя”, а не к церковно определенному.
В общем, Лесков опять едва ли сумел, или захотел, кому-нибудь понравиться.
Вторая причина затяжного сидения нашего с отцом в опустевших Пикруках была глубже и болезненнее: отец и мать мои не решались каждый в отдельности первым сказать последнего, рокового слова — прощай!
У обоих оно уже давно жило в уме, подсказывалось всеми соображениями, принималось сердцем, до дна обнажившейся безнадежностью воскресить когда-то яркое и вконец потухшее уже чувство. Но воли произнести его вслух — не было.
Терзались оба безмерно и тяжко. Свершить последний акт недоставало мужества. Чаша горечи казалась еще не допитой до дна.
Не легко было и мне, почти ребенку. Все висело в воздухе, в томительной безвестности, неопределенности, выжидании.
Наконец все как бы нашло себе какой-то исход. Глухой лизис еще раз был предпочтен открытому кризису. Мы вернулись в город на старое пепелище. Время осенних экзаменов было упущено.
Я еще на год остался в частной подготовительной школе. Паны, говорят, не ладят — у хлопцев чубы болят. Хлопец потерял год.
Жизнь на Захарьевской потекла по-прежнему хмуро.
ГЛАВА 5. НА ИСХОДЕ ТЕРПЕНИЯ
“Я тяну полосу тяжелую и давно отвык от всякого участия”, — писал Лесков И. С. Аксакову [649].
И действительно, начавшаяся с писаревского приговора и год от года становившаяся злее, полоса была ужасна.
Довольно перелистать его письма семидесятых годов, чтобы представить себе муки, испытывавшиеся им больше шестнадцати лет, в самую силу сил, когда было что сказать, а приходилось молчать “с платком во рту”, “завивая махры в парикмахерской у монаха”. Вычеркнута была половина лет, отданных литературе.
Доходя до исступления, он пересыпает свои письма к доброжелательствовавшему ему Щебальскому прямыми воплями:
“Где тут взять бодрости и энергии? В литературе за мной признают силу и с каким-то сладострастием ее убивают, если уже не убили…
Талантливый Усов получает 7 т[ысяч]; даровитый Милюков 4 т/ысячи/; честный Маркович 5 т[ысяч] у Баймакова, и газета все падает, и читать в ней нечего; а у меня работы нет…” [650].
“Что делать? Не спросите ли: почему я сам об этом не говорю? Почему? — потому, что мне уже срама не имут отказывать, и я не могу ничего сказать без проклятого предубеждения, что из этого ничего не выйдет. Я как столб, на который уже и люди и собаки мочатся” [651].
Под знаком такой же неодолимости незадач идет и дальше. Угнетают не только нравственные угрызения, но и материальные затруднения, однако далеко не такие крайние, какими они рисовались письмами, особенно к Щебальскому.
Несомненно, никогда не угрожало самоубийство человеку такого жизнелюбия, каким был исполнен Лесков. В такой же мере неправдоподобны были и опасения возможного чуть не подлинного сумасшествия по намекам заграничных писем его к Матавкину о “черной меланхолии”. Во всем этом говорила обычная, и очень многим свойственная, наклонность к преувеличениям в целях вызвать к себе, в сущности бесплодные, соболезнования. Давно им самим отмеченное в некоторых характерах стремление к пересолу.
Сошлюсь хотя бы на запись И. А. Шляпкина, сделанную в январе 1875 года:
“Познакомился с Лесковым… Смотрел библиотеку: около тысячи томов. Много запрещенных, полученных с разрешения М. Н. Лонгинова (главноуправляющий по делам печати). Есть и старопечатные: “Небо новое”, “Ключ разумения”, “Требник Петра Могилы” (120 р[ублей] заплатил). Большое собрание справочных книг и словарей. Уютный кабинет с темно-красными обоями увешан картинами, бюст Сенеки, множество безделок, высокие гнутые стулья. Просил достать Гоголя: “Размышления о божественной литургии”… хвастался 450 р[ублями] золотыми в копилке…” [652]
Бюджет семьи имел основу в аренде с материнской киевской недвижимости в сумме 3 тысяч рублей в год. Тогда это было не плохо. Отец получал тысячу рублей жалования и, как бы там ни было, не меньше, если не больше, прирабатывал литературою.
“Великосветский раскол”, например, прошедший в 1876 году сперва по 20 рублей за лист в журнале и выдержавший сряду в один год два отдельных издания, должен был дать свыше тысячи рублей. А ведь кроме него тогда же появились: “На краю света”, “Три добрых дела”, “Железная воля”. Шла и статейная мелочь.
Обычно бюджет петербургской интеллигентной семьи считался здоровым, если квартира обходилась не выше одной пятой его части. Так у нас и выходило, так как квартира стоила тысячу рублей.
Но нужно ли говорить, что писатель такой силы, как Лесков, вправе был иметь широкий рабочий размах, а не оказываться осужденным сотрудничать где случится, лишь бы хоть что-нибудь под его именем появлялось в печати, чтобы хотя как-нибудь подтверждалось, что он не вконец выброшен из литературы.
Суворин однажды грубовато укорил Лескова в том, что тот когда-то сотрудничал в духовных журналах.
За живое задетый Лесков взволнованно отвечал:
“Замечания ваши о моих силах и ошибках во многом очень справедливы и метки. Одно забываете, что лучшие годы мне негде было заработать хлеба… Вы это упускаете… Что только со мною делали!.. В самую силу сил моих я “завивал в парикмахерской у монаха” статейки для “Провославного обозрения” и получал по 30 р[ублей], изнывая в нуждательстве и безработице, когда силы рвались наружу… “Надо было продолжать”, — пишете вы. Спрошу: “где и у кого?” Надо было не сделаться подлецом и тунеядцем, и я об этом только и заботился, “завивая махры в парикмахерской у монаха”… Что попало — я все работал и ни у кого ничего не сволок и не зажилил. Вот и все. Не укоряйте меня в том, что я работал. Это страшная драма! Я работал, что брали, а не что я хотел работать. От этого воспоминания кровь кипит в жилах. Героем быть трудно, когда голод и холод терзают, а я еще был не один.
Я предпочел меньшее: остаться честным человеком, и меня никто не может уличить в бесчестном поступке” [653].
А “завивать” что попало, кроме “Православного обозрения”, приходилось и в “Страннике” и в “Церковно-общественном вестнике”. Писать, что примут, за нищенский гонорар в 20–30 рублей за лист.
Автор таких художественных произведений, как “Соборяне”, “Запечатленный ангел”, “Очарованный странник”, был осужден писать “Чужеверие петербургских дам”, “Педагогическое юродство”, “Патриаршие повадки”, “Священники, врачи и казнохранители”, “О погребении дамы под алтарем” и тому подобные статейки и заметки [654].
Хотелось писать задуманного еще за границей “Еретика Форносова”, но печатать его было негде.
Разве не “страшная драма”!
Надо прибавить, что она же привела Лескова к четырехлетнему сотрудничеству в “Гражданине” Мещерского, где, кроме статей, близких к проходившим в духовных изданиях, печатались такие вещи, как “На краю света”, “Пигмей” [655], “Некрещеный поп”.
Безработица, дошедшая в 1874 и 1875 годах до публикации всего полудюжины статей и трех беллетристических произведений, мало смягчается и в следующие два года. Писатель изнемогает в ней.
Дело доходит до перевода с польского романа Крашевского “Фаворитки короля Августа II”, изданного в 1877 году в бесплатную премию к дамскому журналу “Новый русский базар”.
Случается, что незадачи в одном сменяются счастьем в другом.
Так показалось и моему отцу, когда он встретил мою мать. Вышло иначе.
Л. Н. Толстой через два дня после женитьбы, 25 сентября 1862 года, записал в дневник: “Не она”. Верный своему credo: “кто с кем сошелся — тот с тем и живи” [656], правилу, в соблюдении которого он видел борьбу с соблазнами, ведущими к разврату, — сам он стоически принимает жизненный факт, исключает какие-либо поправочные искания другой, новой “ее”.
“Вместить” это по силам не каждому.
Моя мать оказалась не тою женщиной, с которой мог быть счастлив мой отец.
С какой именно он мог быть счастлив — осталось неразрешенным.
Она обладала натурой во многом очень противоположной отцовской.
Крайности соприкасаются, то есть будто бы счастливо восполняют друг друга, едва ли безошибочно говорят французы.
Она выдерживала жизненные испытания, не ища праздного сочувствия, не допуская никого в свой внутренний мир, не раскрываясь в своих невзгодах и огорчениях. Но об этом уже говорено выше.
Сам мой отец, уже много позднее, говоря о ней, многозначительно читал некрасовский стих:
В беде не сробеет, спасет…
С такою же убежденностью относил он к ней и строки особо чтимого им поэта, посвященные украинке же, М. А. Щербатовой:
От дерзкого взора
В ней страсти не вспыхнут пожаром,
Полюбит не скоро,
Зато не разлюбит уж даром.
Это в устах Лескова являлось высшим признанием.
Но совершенство не удел смертных. По всей вероятности, могла быть обойдена некоторыми достоинствами или талантами и она.
Отец, когда я уже подрос, не раз говорил: “У нее нет фантазии. Это ужасно — человек без фантазии! Он не представляет себе, какое впечатление производят его поступки, слова, что он заставляет ими переживать других! Не рисует картин и потому сам не впечатляется! Это страшно!!!”
Было ли это вполне так в отношении моей матери? Не думаю. “Фантазироватости” в ней действительно не было. Это порождало резкие разномыслия и большие “при”.
Рядом невольно хочется пожалеть, что только на исходе лет своих Лесков с горечью признал, что всю жизнь излишне сурово судил “других людей вместо того, чтобы себя смотреть строже” [657]. Но ведь и это покаяние приносилось Толстому, а не “простой чади”.
О мягкости нрава н обычая Лескова и благоприятности их для сбережения семейного счастья говорить не приходится.
На чем же могла держаться семья?
На инерции прожитых лет, на свычке? Но не со всем можно свыкнуться. На ничего не обещающих отсрочках открытого признания?
Со страхом вспоминая первую неудачу, полный надежд на второй опыт, он прочувствованно писал в 1866 году почти переводно-шекспировским размером:
“А жить вдвоем и врознь желать и порознь думать, и вечно тяготить друг друга, и понимать все это — еще тяжелее. Союз хорош, когда одна душа святит собою другую”.
И немного дальше там же:
“Жить порознь, хоть и всякий день видеться, не то, что вместе жить. Надо очень много деликатности… чтобы жить вместе” [658].
Тогда, должно быть, верилось, что в моей матери он нашел душу, способную “святить” его.
Теперь, в 1877 году, мы все, хотя пили и ели вместе, жили уже врознь.
Все чаще в письмах и беседах с пера или уст Лескова слетает скорбный стих:
В одну телегу впрячь не можно
Коня и трепетную лань.
Забылся я неосторожно:
Теперь плачу безумства дань…
Это писалось и в Киев, распространялось, рикошетировало, оскорбляло.
У ненавистных Лескову Георгиевского, Авсеенки, Данилевского и многих других — семьи за их плечами не знают никаких тревог. Его семья не имеет экономической устойчивости. Он это сознает. Это точит ему душу и терзает всех в доме без изъятия. Личные его муки и день со дня растущая раздраженность неудачами нервирует всю семью. Она ими измотана. Растет всеобщая усталость.
Всех тяжелее она подавляет мать. Больше других ей нужно коренное переустройство, облегчение жизни. Нет, нет, а начинает тянуть назад, под синее небо и горячее солнце родного Киева, ошибочно покинутого для ни в чем не оправдавшего себя Петербурга с его испепелившей душу драмой, всем так обильно и тяжко пережитым в нем. Мысль зародилась и живет. Сейчас это полностью еще не выполнимо: слишком велика была бы ломка для учащихся в столице детей. Но явно нужен уже первый шаг, пока не станет возможным покинуть столько горя давший Север.
Весной 1877 года происходят какие-то осложнения с арендатором. Матери приходится надолго уехать в Киев для устранения своих имущественных дел. О даче некогда было подумать. Мы застреваем на все лето в городе.
В отличие от предыдущих двух летних разобщений, на этот раз переписка между отцом и матерью ведется.
В одном из вообще желчных писем отца между прочим сообщалось:
“У меня теперь много хлопот с Дронушкой, которого … 26-го [мая] вести на экзамен, в 3-ью воен[ную] гимназию. По многим соображениям я стою на этом плане.[659] Если же он 26 здесь не выдержит (на 93 вак[ансий] 460 просьб), то придется держать 15 авг. в 1 или 2-ую, — которые обе на Петер[бургской] стороне. Тогда придется и жить там, поближе” [660].
26 мая отец ведет меня на экзамены в Третью военную гимназию, временно помещавшуюся в историческом деревянном особняке, принадлежавшем Аракчееву и составлявшем его резиденцию. Ныне на этом месте стоит здание Дома офицеров. На противоположном углу стоял, сохранившийся до сих пор в полной неизменности, дом Главного государственного казначейства. Уже тогда мало кто помнил зловещее прошлое этого здания — Департамент аракчеевских военных поселений.
Экзамены заняли дня два. Родители были допущены в большой зал, в котором выходили двери классов, где производились испытания. До предела волновавшийся отец, почти в страдальческой растерянности, прислонясь к притолке, не сводил с меня глаз. Я всеми силами старался не встречаться с ним взглядом, чтобы не поддаться его нервозности. Выдержал я все прекрасно, был принят, зачислен и отпущен до 16 августа, день, в который тогда начинались занятия во всех средних учебных заведениях.
Одна из наименее трудных, но все-таки волновавших задач была разрешена. А сколько их, друг друга сложнее, стояли еще на очереди.
ГЛАВА 6. ВТОРАЯ “РАЗВЯЗКА”
Светлым майским вечером отец захотел отвезти меня, героически преодолевшего жестокий экзаменационный конкурс, к своей двоюродной сестре Марии Луциановне, рожденной Константиновой. Муж ее, полковник Павел Александрович Алексеев, был инспектором Пажеского корпуса. У них тогда гостил ее отец, смолоду елисаветградский гусар, в летах — орловский помещик и земский деятель либеральной складки.
Алексеев только что определил уже второго сына в Шестую классическую гимназию.
За чайным столом красивый старик обратился к зятю и племяннику:
— Объясните мне, пожалуйста, как это — ты, полковник и военный педагог, отдал сыновей в гражданскую школу, а ты, работник Министерства народного просвещения, — своего в военную?
— Да это, дядя, вполне естественно: каждый побоялся отдать своего в ту, которую он лучше знает, — отвечал Лесков.
— Ну, разве что так! — улыбнувшись, согласился Луциан Ильич.
Так был решен жизненный мой путь: воитель. Мать глубоко не сочувствовала такому предопределению, находя его суживающим дальнейшие возможности и выбор профессии по окончании среднего образования, но отец “стал” на милютинской школе реального склада и не уступил.
Не могу вспомнить, по каким соображениям, в первых числах июня мы почему-то спустились из четвертого этажа в первый, в квартиру одного плана с нашей, но на ширину парадного вестибюля уже, на одно окно на улицу меньше. Самым неприятным в ней была тьма. Окна, смотревшие из четвертого этажа в небо, поверх соседних строений, здесь выходили в колодезный двор или на теневую сторону улицы. Вся она была мрачная, даже какая-то зловещая.
В таких условиях особенно тяжело переносилось лето без дачи, переезжать на которую отцу было некогда. Он был в каких-то волновавших его заботах и хлопотах, нервничал, часто куда-то уезжал.
Последнее нам, мальчикам, было на руку: создавалась полубезнадзорность, которою мы пользовались, как могли и умели.
Я лично свел обширное знакомство со многими, тоже скучавшими мальчиками нашего же большого дома, самых разнообразных общественных положений. Среди них были, как и я, уже принятые в различные учебные заведения. Вечерами мы собирались в нашем импровизированном клубе — на заднем, “черном” дворе, где никто не ходил и не мог мешать нашим сборищам. Играть там, разумеется, было негде, да нас это и не огорчало. В положении гимназистов многие из нас сверх меры умничали и разыгрывали из себя “больших”.
Раз как-то, конечно когда отца не было дома, в сумерки пошло у нас с чьей-то легкой руки соревнование на страшные рассказы. Стали взапуски привирать и хвастать потрясающими событиями якобы из личной жизни. Как-никак, а начинало пробирать. В конце концов захотелось про всякий случай осмотреться. Как бы вслушиваясь в очередную “лыгенду”, я повысвободил шею, незаметно оглянулся и… обомлел: в углу зыблилась блеклая фигура с мягко колеблющимися крыльями и грустью повитым ликом, обрамленным длинными прядями слегка развевавшихся светлых волос…
Ангел! как есть — ангел!
И впрямь, привидевшееся очень походило на хорошо тогда всем приглядевшееся изображение воинов рати небесной.
Видение длилось секунду-две. Под повторным, смелее брошенным взглядом даже в полутьме все обособилось, определилось: овчиной вверх с вывороченными рукавами тулуп, мочалки, бельевая дворницкая мелочь, вывешенные на просушку на почти незаметных сейчас веревках… Ничего больше!
Из опасения насмешек я подавил в себе и первую ошеломленность и просившуюся затем на уста улыбку.
Кстати вбежала на двор наша Дуняша и не без драматизма передала, что “папаша приехали и спрашивают вас”.
Я струхнул, но войдя в кабинет, сразу понял, что отец расстроен чем-то нимало меня не касающимся, но очень значительным.
— Посмотри, — сказал он мне, протянув депешу.
Она была из Москвы от Веры Николаевны, которая телеграфировала отцу об отчаянном своем положении, могущем побудить ее на последнее решение.
Я знал, что известия от нее всегда исполняли его тревогой, но на этот раз потрясение было исключительное.
Меня тронула его растерянность и явное ожидание от меня, почти ребенка, помощи, поддержки. И я от всего детского сердца его пожалел, а с тем вдруг точно стал на несколько лет старше.
— Сколько у нас денег сейчас, папа? — деловито начал я.
Отец ответил.
— Выходит, рублей тридцать ей послать можно?
— Да!
— Напишите телеграмму, что завтра вышлем. — Я умышленно применил обобщенную формулу, чтобы дать ему почувствовать, что он не одинок. — А я сейчас сбегаю напротив и пошлю телеграмму. Отец благодарно кивнул и сел за письменный стол. “Напротив” был окружной суд. Внутри огромного здания был огромный же двор с садиком, в котором я не раз сиживал с книгой или играл с товарищами. Здесь же помещался телеграф, работавший круглые сутки.
Через десять минут я вручил отцу квитанцию. Он курил, уже не чиркая ежеминутно спичками и не бросая едва закуренных папирос. Надо было дальше выровнять пульс. И прежде всего отвести мысли от так взволновавшей телеграммы. Тут меня осенило развлечь его, а может быть, заставить и улыбнуться, рассказав о том, как я только что принял тулуп за ангела.
Я искренне намеревался подать все именно как забавный курьез, но так не вышло. Едва я дошел до “ангела”, отец мистически так зажегся, что я растерялся и уже не решился низвести “возвышающий обман” к разрушающей его скромной истине. Так оно и осталось, а лично мною скоро и надолго позабылось.
Но настроение отца в те годы, особенно в то лето и в тот вечер, благоприятствовало иному отношению к моей детской повести, приняв ее как бы за откровение.
Прошло много лет. Отец умер. Мне шло под тридцать. Перелистываю я однажды толстый, увы, погибший в двадцатых годах, каталог отцовских книг и глазам не верю: на одной из пустых страниц стоит собственноручная запись отца: “Дрон сегодня у помойки видел ангела”. Даты не было. Мне она и не нужна: все сразу стало в памяти.
Надо сказать, что записные книжки Лесков завел лишь в самые последние годы жизни. Но тут, видимо, он захотел сейчас же где-нибудь да записать недорассказанный мною случай.
Невдалеке же мы вернемся к нему, а пока остановимся на переписке, ведшейся между моею матерью и моим отцом.
Она могла бы привести к смягчению розни. Увы, она пошла по другому руслу.
Ни одного из писем моей матери не сохранилось.
Из отцовских дошло до нас два [661]. Несомненно, их было больше. Судить, чьи были суше и нетерпеливее, чьи более устремлялись к разрыву, — нет возможности, так как слышен только один голос. Звучит он жестоко, почти ультимативно. Резкость писем отца необходимо помнить, читая даваемые ими оценки действий и характеристику расположения фигур уже почти завершившейся драмы. Они говорят о его личных служебных делах, об имущественных делах моей матери, о бытовых соображениях и о многом ином. В них нет ни слова о сбережении или воссоздании духовного единства. Они не идут дальше допустимости продолжения жилищной общности.
В увлечении черствостью тона одно из них доходит до пояснения легкости “сделать развязку”.
Впервые не только сказано, но и написано незабываемое.
Читались и перечитывались эти письма после многозаботного дня, в тиши опустевшей к вечеру большой усадьбы, в комнатах, в которых четырнадцать лет назад произошла первая встреча, где “в первый раз, Онегин, видела я вас”.
Воскресали памятные образы, картины. Слышались признания, бдение собственного сердца. Шло горькое сопоставление былого и ожидавшегося когда-то с настоящим, подсказывавшим безнадежные выводы, неизбежность решений.
Последние колебания отпадают. Ценного уже нет. Сберегать одну видимость семейственности? Цельному человеку это не нужно.
Развязка легка? Что же делать: всему есть мера и предел!
В начале августа мать возвращается. Может быть больше торопливой, чем глубоко взвешенный, вызов отца принят.
По раскольничьему выражению из “Запечатленного ангела” “началась и акция”.
Как она протекала, есть — пусть и иносказательный и во многом предвзятый, и сильно беллетризованный — набросок самого Лескова.
Уже после смерти отца, перебирая его бумаги, я с особым вниманием стал вчитываться в саморучно взятую им “на нитку” тетрадку. Оказалось, что это часть недописанного рассказа “Явление духа. Случай. (Открытое письмо к спириту)”.
Четырнадцать исписанных ее страниц не являлись, к сожалению, непосредственным продолжением опубликованного и приведенного уже в главе “Первая семья” начала рассказа, обрисовывавшего первое семейное крушение автора.
Несохранившийся промежуточный кусок рукописи, очевидно, был отведен описанию того, как, “разбившись на одно колено”, герой рассказа Игнатий, то есть Лесков, сумел затем “разбиться и на второе”, вторично потерпев неудачу в поисках семейного счастья.
Куда же могло деться это описание? Всего вероятнее, оно было уничтожено самим автором, почувствовавшим, что в нем слишком прозрачно засветили достаточно хорошо известные в литературных кругах события личной его жизни. Надо было многое смягчить, затушевать слишком большую фотографичность собственных, едва не вчерашних еще, переживаний.
Это требовало времени, настроения… А пока последнее приходило, давно агонизировавший журнальчик “Кругозор”, выйдя последний раз 21 февраля 1877 года, прекратил свое существование.
Тогда все само собою отложилось, а затем исподволь и вовсе отдумалось.
Однако, как видим, часть рукописи осталась не уничтоженной, хотя вкус к мистической таинственности явно остудился и заканчивать рассказ не стало охоты.
Автограф помещаемых ниже строк почти не имеет помарок. Это верный признак, что данные главы были написаны, по выражению самого Лескова, только “вдоль”, без правки их “впоперек”, без “выстругивания”, “выглаживания” и т. д.
Начинается он на полуфразе.
Попавший в Москву приятель (все тот же) Игнатия узнает от общего знакомого, художника, о только что перенесенном его другом крушении второй его семьи. Приятель и художник идут навестить пострадавшего. В ведущейся ими по пути беседе они доискиваются причин этой новой житейской незадачи их знакомого и истинных виновников ее.
“И тогда-то, — в первый раз, когда он разлучился с своей дикой женою, он бог весть как трудно с собою боролся; но тогда у него была еще молодость, — были, хотя, быть может, и легкомысленные и обманчивые, надежды на новое счастье. Это все-таки греет и утешает; все равно: сбудутся или не сбудутся, а Пушкин недаром сказал, что
Тьмы низких истин нам дороже
Нас возвышающий обман.
Надежда на возможность счастия, хотя бы и маловероятная, все как-то бродит дух, а уж как и она скроется, то остается пожелать человеку одного — терпения, много терпения. Это одно, что остается человеку, который осужден сказать: “здравствуй, одинокая старость”, но терпением-то мой приятель, как большинство нервических и добрых людей, и не обладал. А потому я шел к нему, в сопровождении общего нашего знакомого, с самыми грустными на его счет мыслями…
— В самом деле, — говорил я художнику, — не виновата ли она во всей этой истории?.. Где в этой женщине жалость к человеку и даже к собственному дитяти…
— А какое дитя! — похвалил мой сопутник.
— Хорошее?
— Дивный, — говорит, — мальчик, — и с этим начинает мне рассказывать разные подробности о привязанности ребенка к отцу и об удивительном его умении владеть собою и скрывать собственные муки от разлуки с матерью.
Словом, — так заинтересовал меня этим ребенком, что я стал скорбеть о нем почти столько же, как и о его отце; а между тем мы подошли к дому, где приютились наши изгнанники, и позвонили у двери.
Нам отворила небольшая, средних лет женщина с остреньким приветливым лицом и, ласково приветствуя художника, сказала, что Игнатия Ивановича нет, но что он сейчас вернется.
— А Егорушка?
— Егорушка дома, — учит уроки.
Мы вошли. Квартирка была маленькая, из разряда тех коробочек, какие нынче строят в новых домах, но ничего себе — довольно чистенькая и приютная. Одно, что несколько не гармонировало с нею, — это крупная мебель, перевезенная из большой квартиры. Она была не по размерам комнат и казалась не на своем месте.
Это было повсюду так: и в кабинете, и в спальне, где стояли две кровати — отца и сына, и в столовой, и в четвертой крошечной комнатке, где был устроен кабинетик ребенка.
Мальчик был здесь. Ему уже шел одиннадцатый год, но на вид ему казалось не более девяти, — так он был миниатюрен, хотя, впрочем, имел вид довольно здоровый и очень умненькое и одухотворенное выражение. С лица он был похож на отца, но в чертах его было больше энергии и твердости, а большие, почти синие глаза его смотрели решительно.
В нем было очень много приятного — свежего, детского и в то же время самостоятельного. В первых его ответах, которые он дал нашему знакомому об отсутствующем отце, слышалась нежная сыновняя преданность и в то же время какая-то покровительственная заботливость о нем, как бы о существе, в каком-то отношении значительно его слабейшем, которому он, дитя, знает, как помогать и покровительствовать.
— Что же, ты не скучаешь, Егорушка? — спросил его художник.
— Я?.. Нет, — чего же? — отвечал мальчик и, как бы спохватясь, чтобы ему не пояснили: чего он может скучать, добавил: — Мне некогда, — я почти весь день в школе, а там не скучно.
— То учитесь, то бегаете.
— Да; — мало бегаем.
— А папа не скучает?
Дитя вскинуло своими большими ресницами на художника и, уронив с видимым неудовольствием: “не знаю”, — сейчас же отвернулось к своему шкафчику и стало что-то пересматривать в своих тетрадках.
Он, очевидно, боялся всяких вопросов на известную тему о своем горе и не хотел разговаривать.
Положение это было прервано приходом Игнатия, который, на мой взгляд, очень переменился: он не столько постарел, сколько по его лицу точно что-то проехало и оставило след горя. Но он, однако, не обнаруживал никакого острого страдания, — ни на что не намекал, не жаловался и не волновался, а напротив, был даже спокоен, как человек, для которого сам рок решил выбор между надеждой и волненьем иль безнадежностью и покоем.
Он, очевидно, имел привилегию последнего выбора, столь несносного для человека, еще не умаявшегося, и столь удобного для того, у кого в погоне за счастьем уже износилось тело и устала воля.
Мы провели вечер втроем и говорили о всякой злобе дня, о делах житейских и политических — о войне, о дороговизне, литературе, о старых друзьях и о прочем. Егорушка все был в своей комнате и занимался уроками. Я видел его только за чаем и потом в десять часов, когда он пришел в кабинет отца пожелать ему покойной ночи и при этом положил ему на письменный стол тетрадку, в которой его детскою ручонкою был записан дневной расход по дому.
Около полуночи мы с художником стали прощаться, но Игнатий упросил меня остаться у него переночевать, на что я и согласился. И вот тут-то я услыхал от моего приятеля о странном событии, которое касается двух детей: того ребенка, двенадцать лет назад умершего на далекой почтовой станции нашего родного городишки, и этого, нового сына того же самого человека, несчастной судьбы которого я поневоле касаюсь в этом рассказе.
Когда художник ушел и мы, немножко поговоря, стали укладываться спать, Игнатий подсел ко мне на диван, на котором мне была приготовлена постель, и, вздохнув, говорит:
— Ну вот, брат: и опять я один.
— Скучно? — отвечал я вопросом.
— Да, очень тяжело; впрочем… мы расстались без всякой ссоры…
— Tихо?
— Да; очень тихо. Это редко случается, но я даже не знаю, лучше ли это или хуже, чем расстаться поссорясь. По-моему, это еще тяжелее: это не больше как жертва для людских глаз, а для себя все та же, та же горечь и та же тоска.
— Но ты не совсем одинок, — с тобою дитя, и, кажется, прекрасное дитя, которое может тебя утешить, тем более что бедный мальчик, кажется, понимает…
— О, да; он все понимает, — живо перебил мой приятель, — и я откровенно тебе скажу: я боялся этого его понимания… то есть боялся, что он будет все это переносить тяжелее, чем я. А более всего мне было страшно, что он на нее озлобится… Это было бы для меня ужасное горе, что в молодую душу закралось бы такое чувство против матери; а между тем я ничего не мог с этим сделать, именно вот по милости этого его понимания… Он удвоил свою ласковость к ней и между множеством сочиненных для нее ласкательных имен стал звать ее: “моя Консуелля”, — имя, которое бог его знает когда и от кого он мог услышать и которое показалось ему почему-то необыкновенно нежным. А между тем все это дела не изменяло: она принимала ласки ребенка с видимым удовольствием, но продолжала стоять на своем, что мы должны разойтись, и искала себе квартиру… С тех нор он стал очень задумчив и даже как будто озабочен… и все что-то мурлыкал, напевая, как напевают дети, входя в темную комнату, где они чувствуют страх, которого не хотят обнаружить. А по вечерам, когда мы оба укладывались в постели, он сам расспрашивал: сколько нам будет стоить отдельная жизнь, не должен ли я кому-нибудь, и вдруг, помолчавши немного, говорил приблизительно весь наш бюджет, приблизительно очень точно высчитанный им в уме. Все это тебе показывает, как он был занят тем, что с нами происходило, и как сильно работал его умишко, но никто не мог видеть, как горело в нем сердце. А оно горело таким пламенем, которое, как сейчас покажу, было в состоянии осветить предметы по тот бок сени смертной.
Настал день развязки… Помню этот день — холодный, сиверкий, но ясный и суровый. Мы встали часом ранее обыкновенного и всею семьею пили вместе наш последний общий утренний чай. Я был в каком-то одеревенелом состоянии: в душе моей было холодно, — сердце ныло; но я был крепок… А что будет потом — впереди? — об этом я не хотел, да и не мог думать. Счастье мое было разбито, а затем мне было все равно, что даст бог. Пришли от Сухаревой рабочие, нанятые переносить мебели… Они должны были разнести по разным домам вещи, которые, мне казалось, состоялись вместе, как сживаются люди, и теперь должны были разлучиться: “это туда — это сюда”. Такие указания делала она, я не мог их делать и даже был очень рад, когда рабочие уносили ту или другую из моих вещей в ее квартиру: пусть она идет туда, думалось мне, и казалось, что в каждой этакой, мною нажитой и сбереженной, безделушке там останется какая-то частичка моей души. Наконец это кончилось, — нас разнесли, квартира опустела. Я должен был побывать на часок по одному безотлагательному делу, а потом вернуться, чтобы пообедать в последний раз у нее на развалье. Надел шляпу и только что стал выходить в широко растворенные настежь двери, как вспомнил: а где же мой мальчик? Скучно по нем стало и захотелось с ним проститься. Вздумалось, что мне тяжело, да и ему, пожалуй, тоже не легко. Как-то на него этот разгардьяж [662] действует?
Вернулся, прошел по всем главным комнатам нашего общего опустелого жилища, — нет тут моего хлопца. Я на ее квартиру, — и там его не видали. На дворе и в садике — нигде его нет, а за суматохою некого и посылать его разыскивать. А мне вдруг что-то сделалось и загадочно и тревожно: где он бегает? Не отправился ли он на улицу, не изобидели ли его уличные мальчишки, — чего доброго — не попал бы под лошадь! Совсем я встревожился и еще пуще заметался, — заглянул и на двор, и на улицу, и наконец, уже значительно встревоженный, забежал опять в пустую квартиру и, выглянув в одно из открытых надворных окон, услыхал голосок своего мальчишки. Он что-то пел; а надо вам сказать, что у него очень милый голосок и то, что называют “музыкальное ухо”. Все, что слышал спетое, — он необыкновенно легко перенимал и потом мурлычет, а иногда и громко поет, и очень изрядно. А перед этим незадолго я его отдал в школу, где учеников, между прочим, учили петь, и он еще более в этом искусстве навострился, — стало быть, пение его меня удивить не могло. Но вот что было удивительно: как он пел? Это было то пение — крик, которым себя осмеливают робкие люди, проходя жуткою порою по беспокойному месту. Человек поет только для того, чтобы совсем не потерять остатка, смелости. Это своего рода певучий крик отчаяния, и им-то и выкрикивал мой мальчик что-то скорое, недурно скомпонованное и бойкое. А помещался он на подоконнике в пустой комнате, где жила прислуга, и свесясь головою за окно.
Я не хотел его окликнуть, чтобы он не испугался, а взошел наверх и, остановись у двери, слушаю: что такое он так странно, с азартом, даже с злобою выпевает? И слышу, он отчеканивает:
Ах ты, зверь ты, зверина!
Ты скажи твое имя!
Ты не смерть ли моя?
Ты не съешь ли меня?
И потом, переменив темп и голос, добавляет:
Смерть твоя, — съем тебя!
А сам все смотрит в сторону, держа перед собою свою ручонку. Я побоялся его окликнуть, потому что он, мне казалось, слишком уже свесившись, и подкрался потихоньку и сразу его обнял. Он быстро встрепенулся у меня в руках и, оборотясь назад, уронил картинку, которую держал. И что же это была за картинка? — Это был вынутый из альбома кабинетный портрет его матери…
Я побледнел: я понял все, — все его ужасное душевное состояние, которое довело его до обращения к лицу, изображенному на этом портрете, с грубым вопросом:
Ты не смерть ли моя?
Ты не съешь ли меня?
И он не был непроницателен: он прочел в моих глазах, в моем изменившемся лице, что я его понял, и быстрым движением обеих рук с невероятной для него силою обнял мою шею и зарыдал…
Мы… разошлись: он прошептал мне на ухо обещание не петь более этой песни и терпеливо ждать моего возвращения, — после чего мы пообедаем здесь и уедем к себе на свою изгнанническую квартиру.
Возвратясь через час домой, я опять не нашел мальчика в комнате ее новой квартиры. Его долго искали к столу и нашли в каморке у швейцара — отставного солдата, с которым он всегда водил детскую дружбу. На мой вопрос: что он делал? — он сказал, что читал, и в самом деле показал захваченную им при укладке книжку Вагнера “Сказки кота Мурлыки”. Мне ясно было только одно, что томящие его чувства не облегчаются и что он ищет уединения…
Это так и было: не успели мы отобедать, как мальчик исчез снова. Уже начинало вечереть, и нам пора было ехать, — а его опять не могли отыскать. Такая шутка с его стороны уже представлялась весьма предосудительно грубостию по отношению к матери, и я был этим очень недоволен. Особенно, когда разыскивавшая его горничная принесла весть, что он на черном дворе и не хочет возвращаться оттуда.
Черный двор этот, далекий и глухой, как колодезь, с окружающими его со всех сторон высокими каменными стенами, был постоянным сборным местом всех детей: оборвыши подвалов и мальчики достаточных семей все сбегалися сюда, чтобы тут, без надзора старших, на всей свободе порыскать по темным углам и, следуя теперешнему военному настроению, поиграть в “казаки-разбойники”. Очень просто было, что мой мальчик, не раз участвовавший в этих играх, захотел распроститься с товарищами и напоследях еще раз с ними порезвиться. Худого в этом, разумеется, не было, но мне, однако, было досадно, что он это удовольствие поставил выше желания провести с отцом и с матерью последние минуты. Досадно, что легкомысленная жажда игр оказалась в нем сильнее скорби, которой он не мог не чувствовать. Я этого от него не надеялся. Зная его восприимчивую, чувствительную натуру, я был уверен, что он страдает не менее меня, и… вдруг я в этом ошибся… Но ошибся ли?
Я хотел сделать ему самое резкое замечание, но, увидав его, остановился. При первом взгляде на него я заметил, что он был бледнее обыкновенного и очень растерян, — глазки его блуждали, в движениях было заметно беспокойство, а в волосах его головы торчали стебельки сухой соломы и колоски. Такие же стебельки и колосья пристали и к его платью. Он был как маленький Лир, только что переживший грозу и впечатления непонятного видения, сильно отразившегося в его душе и истолкованного ею в особенном, свойственном ее настроению смысле.
Я посмотрел на него и значительно смягчил тон своих замечаний, огранича их простым вопросом:
— Где был ты?
— Там, — отвечал он глухо и потерянно, кидая в уголок на стул свою шляпу.
— Неужто тебе хотелось играть?
Он в ответ только покачал головою и тут же сразу стал прощаться с матерью.
Оба они не оказали никакой тревоги, и мне было больно, больно…
Мы уехали.
Это был уже вечер; солнце совсем садилось; вечер был тихий” на душе у меня была тоска невыносимая.
На повороте из улицы, в которой мы все вместе так долго прожили, ребенок оглянулся, снял шляпу и сказал:
— Прощай!
И с этим он схватил мою руку и крепко, крепко ко мне прижался как бы хотел этим сказать, что теперь мы только двое.
Вещи наши были уже на дворе у нашей одинокой квартиры, — началась вноска, и мы оба приняли в ней самое живое участие, — оба старались этой работою заглушить снедавшую нас тревожную тоску.
Наконец все было кое-как установлено; люди отпущены, служанка нам поставила чай, и мы двое сели к столу.
Это был уже совсем вечер, требовавший огневого освещения, которое и было устроено кое-как. Служанка зажгла наскоро в разных комнатах два свечные огарка в разнокалиберных подсвечниках да свою кухонную лампу с небольшим остатком керосина и пошла за своею кумою — звать ее, чтобы она пришла помочь нам завтра убраться. Пошла на минуту, но, как водится, застряла: мы отпили чай, а ее не было, а между тем лампа наша вдруг стала гаснуть. Я встал из-за стола, чтобы взять из другой комнаты свечу, но, к удивлению моему и неудовольствию, увидел, что обе свечи, освещавшие комнаты, еще ранее догорели и погасли.
Были ли у нас в запасе другие свечи и где их искать — я решительно не знал. А на дворе было очень темно: ночь хоть была и лунная, но небо было заволочено облаками и едва серело.
Сын мой дремал. Я хотел его тихо перенести на руках в кресло на приготовленную для него постель, но он проснулся, удивился, что мы в темноте, и пошел за мною за руку.
Мальчик шел за мною тихо и молча — как бы во сне или дремоте, но вдруг, только что мы прошли ощупью среднюю комнату, заваленную разными вещами нашего багажа, и вступили в спальню, как вдруг в угле на полу что-то сверкнуло, раздался слабый треск, и комната на минуту осветилась слабым голубоватым блеском, который направился на нас как бы рефлексом и сейчас же погас”.
Здесь, на середине оборотной стороны 15-го листа, рукопись остановилась, оставив шесть с половиной больших пронумерованных страниц чистыми.
Необходимы хотя бы небольшие пояснения к приведенному творчески свободному описанию и освещению некоторых частностей.
Ответственность за гибель семьи определяется здесь, конечно, односторонне. Объективность явно принесена в жертву личному. Чья мера вины и причинности оказалась бы большей на весах нелицеприятного суда — останется, как в подавляющем большинстве супружеских счетов, навсегда неразрешенным.
Молчаливое в апогее драмы появление Егорушки “с черного двора” — под сильным впечатлением, вынесенным от “непонятного видения”, — прямая предпосылка к долженствовавшему последовать “явлению духа”.
Постепенно в собственной душе многое воскрешается, слагается в почти физически ощутимое представление, в яркие образы, картины. Мысленно, воедино сопрягаются и недавнее летнее “видение” второго сына, и свершившаяся утрата так долго державшейся кое-как последней семьи, и давняя смерть на глухой кромской почтовой станции первого сына…
Родится желание и мнится возможным дать рассказ только что пережитого с завершением его целительным явлением духа забытого, но не забывшего своего отца, ребенка.
Повесть начата. Пока она рисует события, схожие с действительностью, развертывание ее идет незатруднительно. Но вот, с исчерпыванием вещественного и обстановочного, на очереди дать сверхчувственное, “потустороннее”, непостижимое и не бывшее. Овладевает раздумье, смущенье…
ГЛАВА 7. ВДВОЕМ
После общего обеда у моей матери на новой ее квартире отец и я, не выходя из рамок повседневности, простились с нею с тем, что в следующее же воскресенье обедаем у нее.
Самый обед тоже прошел чинно, в беседе о мелочах и в обходе совершающегося: по старинному завету — в комнате повесившегося не говорят о веревке.
Не было весело, но точно легче, чем пока все это назревало без веры в возможность разрешения.
Ранним вечером воскресного дня мы ехали вдвоем на довольно далекую новую, “холостую” нашу квартиру, в доме купца Семенова, угол Коломенской и Кузнечного переулка. Вещи Дуняша за два или три оборота уже все перевезла и ждала нас там.
Это было почти напротив старой квартиры “художного мужа Никиты”, изографа, сыгравшего видную роль в создании рассказа “Запечатленный ангел”.
Место было малоприглядно, дом наполовину стоял еще в лесах, квартира оказалась во дворе, с одним ходом, совсем плохонькая. Везде пахло известкой и клеем. Я растерялся и готов был расплакаться.
Хотя исподволь я и был подготовлен ко всему и успел почти свыкнуться с тем, что останусь при отце, но еще не мог да и до сих пор не могу разобраться, как это так вышло. Особенно это начало удивлять меня, когда, уже после смерти и отца и матери, довелось прочесть многие письма и узнать, как опасался отец неизбежно грозившей ему при разрыве разлуки со мной. Затрагивать этот вопрос я никогда не решался. Он был всем нам троим слишком больным, незаживляющеюся раной, касаться которой всегда было страшно. Ключ к нему потерян, взят могилой.
Уступила ли мать настояниям отца, испугавшегося на пятом десятке лет нового, полного одиночества, или, истратив все, когда-то большое, чувство к отцу, оскудела им и к ребенку? У нее оставалось еще четверо уже подрастающих детей, от человека, не давшего ей счастья, но и не проведшего через испытания последних двенадцати лет. Борьба, очевидно, шла сыздали. Но она раскрылась мне, когда уже и сам я, матримониально, “вкушая, вкусил мало меду”.
Выяснилось, что все родство, начиная с первой молодой жены Алексея Семеновича, Елены Францевны, уже в 1874 году пыталось извлечь меня из петербургского горнила и принять в лоно младшей ветви рода Лесковых.
“Теперь не к чему входить в разбор тех мотивов, — писал мне Алексей Семенович 25 января 1908 года, — которые руководили твоим отцом и побудили его решительно отклонить это предложение женщины[663], которую, конечно, ничто другое, кроме чисто родственных и гуманных побуждений, руководить не могло, конечно, при осуществлении этого Ник[олаю] Сем[еновичу] пришлось бы официально отказаться от всяких прав на тебя, а тебе пришлось бы фигурировать не в качестве представителя старшей ветви семьи Лесковых, щедро награжденной непомерным самолюбием и гордостью, да и не лишенной известной доли эгоизма, а сделаться членом второй ветви, на долю которой пала вся черная работа и вся забота о устройстве материального быта не только своей матери, сестер и братьев, но даже и просто в хлопотах и известных расходах по устройству свадьбы Веры” [664].
В 1877 году, мальчиком, я ничего этого, разумеется, не читал и ни в чем разобраться не мог, безропотно принимая происходящее во всей его тягости как неизбежное. Ни о какой борьбе за меня или мероприятиях со мной я, конечно, не подозревал.
Вечер новоселья сколько-нибудь чрезвычайных событий в моей памяти не оставил. Помню самовар, чай, ветчину и принесенное Дуняшей из мелочной лавки для себя брусничное варенье, с которым она любила попить чайку “всласть”. Помню, что оно почему-то очень понравилось нам самим и мы оказали ему усердное внимание. Вот и все. Никакой мистики, ничего “спиритического”, не говоря уже о “сени смертной”.
Однако на другой день произошло нечто, принятое не за простую случайность. “Слетавшая” зачем-то на Захарьевскую, Дуняша привезла полученное ею от нашего бывшего швейцара почтовое извещение о денежном письме из Москвы на тридцать или сорок рублей. Это был запоздавший гонорар за какую-то статью из “Православного обозрения”. Сумма небольшая, но пришлась ко времени. Отец признал в ее получении милость проведения и вспоминал этот случай с трогательным волнением. Была ли уж действительно такая затрудненность в деньгах эти дни — неизвестно, по в беседах он уверял, что была, а однажды подтвердил это и в письме ко мне, упомянув тут же и лошадь (масть ее бывала и белой и серой) домового извозчика, перевозившего вещи с Захарьевской на Коломенскую: “а у нас денег было на белую лошадь да фунт ветчины с бутылкой пива” [665].
Так помнился ему день второй “развязки” через восемнадцать дет, и на этот раз о нем говорится просто, без тени мистики.
Начали жить по-холостому. Вскоре подошло 16 августа и началось ежедневное хождение в гимназию, переехавшую уже в повое, специально построенное для нее здание — угол Большой Итальянской и Малой Садовой (Ракова и Садовая) улиц.
Квартира оказалась столь сырой, что пришлось, едва прожив месяц, бежать. Как можно было ее нанять — непонятно. Новая была немногим лучше: на Невском, дом № 61 (ныне 63), кв. 17, против Надеждинской и, кстати помянуть, против Засецкой. На улицу был двухэтажный дом, в котором помещался какой-то “подземельный” банк, а во дворе стоял главный, четырехэтажный корпус. Квартира была “фонарь”: слева холодная лестница, справа ворота на “черный” двор, две комнаты на первый двор, одна проходная и темная, с окном в подворотню, одна комната и кухня на второй двор. Внизу нежилой подвал. Кругом ветер, холод, нигде ни луча солнца, да в сущности и света. Но все же получше первой и ближе к гимназии.
Много иначе вышло дело у матери. Она заняла квартиру № 28 в том же доме, где мы прожили два года, во дворе, в четвертом этаже, пять комнат, почти все комнаты на юг. Солнца и воздуха в жилых комнатах вволю. Отец еще в мае писал ей об этой квартире в Киев, называя переезд в нее переводом “из гвардии в гарнизон”, то есть с парадной лестницы со швейцаром на черную. Но “гарнизон” был и сух, и светел, и во всем удобен.
В воскресенье 21 августа мы, как было условлено, отправились обедать к матери. Я остался вечеровать, а отец уехал, но часам к девяти вернулся, а часов в одиннадцать мы поехали “домой”. Так оно с воскресеньями и повелось, и не на один год.
Появились опять у матери Милюков, Нарден, Матавкины и другие знакомые материнского дружества, у нас с отцом не бывавшие. Стали приходить студенты, товарищи Николая. В годы жизни Веры Николаевны в Петербурге — обедала и музицировала тут в свободные от службы воскресенья и она. Пели, играли, шутили. Чопорные знакомства сами собой сошли на нет. Дом опростился, омолодел. Меньше стали нервничать и старшие.
Я начал задумываться и даже как бы обижаться за отца: значит, всегда все могло быть иначе, все было в нем? Но ведь сейчас и он сам со мной другой: ласковый, печальный, но мягкий, не властный, даже какой-то точно беспомощный. Навсегда это или…? Но пока надо ему помочь. Надо было найти новую линию поведения и даже отношения к нему, не скрою, невольно за счет приглушения некоторых чувств к матери. Но с ней я уже только виделся, а с ним жил.
Я без колебаний взял на себя ведение расходов по дому, прием сдачи с выданных Дуняше денег, придумывание обеденного меню, расчеты с прачкой и т. п. Отца это трогало, меня исполняло сознанием высоты своего значения в доме.
Учился я хорошо. Во всяком случае за первую четверть оказался десятым учеником из сорока двух в классе. Принимая во внимание, что у многих богатых гимназистов дома были гувернеры и репетиторы, — это был серьезный успех.
Шли мы раз вечером с отцом и двоюродным братом матери из поминаемой в “Мелочах архиерейской жизни” и нескольких статьях семьи Сотничевских, мимо огромного дома некоего Ротта. Невесть зачем мне вздумалось сказать, что это дом отца нашего первого ученика.
— Вот, — откликнулся отец, — есть же счастливцы, у которых и домов много и сын идет первым, а не десятым учеником.
Я обиженно прикусил губу. Ротт! Но разве у него не пять учителей на дому? В гимназию он не ходит пешком, а приезжает с гувернером на великолепной пролетке. Все ему сделано, подано, уроки разжеваны, и в рот положены, только проглотить. А я все сам, один, и у отца ничего спросить не могу, так как наши “реальные” предметы не те, какие проходились в старых губернских гимназиях. Отец едва ли заметил горечь моей обиды.
В общем, впрочем, жизнь пошла не плохо. Кабинетика, подаренного Егорушке в “Явлении духа”, мне в нашей темнушке не выкроилось, и столик мой стал в спальне, где я с пальмовою свечой, которая была дешевле стеариновой, готовил уроки, а потом, если еще оставалось время до одиннадцати и отец был дома, — шел в кабинет, и тут наступало уже чистое умиление.
Отец брал второй том Шекспира некрасовско-гербелевского издания 1866 года и, как бы сближая читаемое с только что лично им пережитым, на низких нотах скандировал:
“Внимай! внимай! Я твоего отца бессмертный дух… Я начал бы рассказ, который душу твою легчайшим раздавил бы словом, охолодил бы молодую кровь… и каждый волос вьющихся кудрей поставил бы на голове отдельно… Внимай! внимай! внимай!.. Но твой отец убит бесчеловечно… Я утренний почуял ветерок… Прощай, прощай! и помни обо мне”.
По-военному остриженный, я начинал чувствовать, что каждый волос моего невьющегося “ежика” становится отдельно.
Программа была неисчерпаема.
То могучий барс едва не одолевал полного прелести Мцыри, то мелькали шиллеровские образы Лионеля, рыцаря Бодрикура из Вокулера, самой Жанны из деревни Домреми, то Порция из Шейлока, и т. д. “до бесконечности”. Едва ли не в самом торжественном стиле распевно читался толстовский Дамаскин:
Любим калифом Иоанн,
Ему, что день, почет и ласка…
Иногда, напротив, в тихой задумчивости декламировался тот же А. К. Толстой в стихотворении, полном мистицизма:
Все это уж было когда-то,
Но только не помню, когда…
Одно другого интереснее! Но особенно нравилось мне, когда отец брал старенькую книжку Никитина и медленно читал, точно расстилал передо мною, если не еще больше перед самим собою. одинаково пленявшую нас обоих картину жестокой зимы, лунной ночи и мерно идущего обоза:
Далеко, далеко раскинулось поле,
Покрытое снегом, что белым ковром,
И звезды зажглися, и месяц, что лебедь,
Плывет одиноко над сонным селом.
Бог знает откуда, с каким-то товаром
Обоз по дороге пробитой идет…
По-моему, он читал это лучше всего.
О трехлетней разъездной его службе у “дяди Шкотта” я тогда не имел еще никакого представления. Но чувствовал, что ничто из всего читанного им ему так не близко, как эта зима, скрип полозьев, великолепный в своей крепости говор и степенный обычай извозчиков — все, все, вплоть до хрюкающего в кухне больного поросенка и завершительных слов крутого постоялого дворника:
Уж мне не учиться, кого как принять.
Все это было моему отцу так знакомо, что он видел и слышал всех действующих лиц своими глазами и ушами и не мог тут сбиться ни в одной интонации.
Познавая его литературное наследие, я не раз вспоминал чтение им никитинского “Ночлега извозчиков” и не сомневаюсь, что он любил это произведение за правду художественной картины и, вспомнив ее, повел сказ о своем “ангеле” с постоялого двора, под Васильев день.
Подростком я смотрел на кончавшего читать эту поэму отца, веря, что и ему “не учиться, кого как принять!”
Я целовал отца и, завороженный, шел спать, а он, ободренный и согретый сыновней лаской, принимался за работу. Шла пленительная идиллия…
На одном из уроков французского языка я засмотрелся на одну из развешенных по стенам гравюр на исторические сюжеты.
— Лесков! — услышал я как сквозь сон резкий оклик огромного, жирного француза Гоппе, сильно смахивавшего на южного немца, — повторите, что я сказал!
Вскочив, я виновато молчал.
— Как же это так — хороший воспитанник и вдруг — невнимание в классе.
Извинения не помогли.
В субботу предстояло получить свой “дневник”, в котором выставлялись полученные за неделю отметки и помещались “особые замечания”. Воспитатель, вручая его мне, покачал головой.
— Как же это так — хороший воспитанник и вдруг — невнимателен в классе?
Я, чуть не расплакавшись, искренно объяснил дело и просил не вносить замечания в дневник.
— Этого я не могу. Ну, до четверти еще загладите и получите опять одиннадцать, а то и все двенадцать за поведение. Только не зазевывайтесь в другой раз.
Домой я шел смущенным. В субботу вечером дневника отцу на подпись не подал, как и в воскресенье, благо он, забыв, не спросил его. На душе скребло, но я утешал себя надеждой, что в понедельник утром второпях попрошу подписать и все как-нибудь сойдет. Я ошибся.
С полным доверием обмакнув перо, чтобы подписать всегда благонравную во всем тетрадку, отец вдруг резко вскинул голову и, пронзив меня гневным взглядом, жестко бросил:
— Это что? Невнимание, бездельничать в классе! За этим тебя отдавали в гимназию? Дуняша! Дуняша! Сбегайте к дворникам и принесите из метлы пучок прутьев. Только скорее…
Я был грубо наказан. Обида залила душу.
Сдерживая рыдания, стараясь не встретить кого-нибудь на дворе, выбежал я на Невский и, чтобы не опоздать в гимназию и не схватить новой записи, нанял на последний собственный двугривенный извозчика.
21 декабря 1888 года Лесков, ища выход из одной неловкости, писал Суворину:
“На сих днях мне все приходил на память один текст из Писания, котор[ый[ очень прост и обыкн[овенно] никем и никогда не цитируется, а меж тем его содержание ужасно! Он говорит: “Человек! когда ты стоишь — смотри, чтобы ты не упал” [666]. Ничего более! Меня это исполняло ужасного страха: “Думаешь, что ты стоишь, — а глядь — уже и упал” [667].
Мне начинало казаться, что в отношениях с отцом я уже “стою”. И… “упал”.
ГЛАВА 8. ПЕРЕЛОМ
“Чредою всем дается радость” — верил Пушкин. Начинал улавливаться некоторый сдвиг в делах и литературном положении и у Лескова.
Усилиями неусыпно заботливого С. Е. Кушелева достигается расположение лично грешившего пером министра государственных имуществ П. А. Валуева. Лесков зачисляется чиновником особых поручений при нем с 1 ноября 1877 года с окладом в одну тысячу рублей в год и, видимо, без угрозы большого обременения трудновыполнимыми поручениями.
Вместе с жалованьем по Ученому комитету служебная оплаченность удваивалась, достигая тех двух тысяч, ради которых он будто был готов ехать в Варшаву, но не мог их добиться даже с такою ломкой всех бытовых условий.
Одновременно стал ощутительно возрастать не только литературный, но и драматический прибыток. Изруганный и раскритикованный когда-то “Расточитель” проходит в 1877 году на провинциальных театрах не менее восемнадцати раз; а в следующем, 1878 году снова ставится на сцене Малого театра в Москве. Какое нравственное удовлетворение автору!
Материальная сторона, при незначительности семьи и скромности личных требований, выпрямляется, приобретает устойчивость.
Приходят предложения сотрудничать в полуприобретенном уже Сувориным “Новом времени”, в робко либеральных “Новостях” Нотовича, в мелкообывательской, но бойкой и денежной “Петербургской газете” майора Худякова.
Горизонт ширится, но все это не то, чего жаждет дух, куда влекут веления сердца. Тем не менее проблески света становятся заметнее. Тяжкому безвременью, мертвому затенению, обреченности — близится конец.
25 сентября 1878 года редактор “Церковно-общественного вестника”, А. И. Поповицкий, в письме к Лескову скорбит, что “проворонил живые и высокоталантливые” “Мелочи архиерейской жизни” [668].
Но Лесков уже освобождается от горькой необходимости продолжать “завивать махры” в монашеских парикмахерских. С 1877 года он уже простился со “Странником” и с “Православным обозрением” (позже переименованным Лесковым в “Православное воображение”), и даже в общественно-духовный вестник полудуховного издателя после 1878 года только изредка даются кое-какие пустячки. Боевым вещам, как “Мелочи”, уже обеспечен широкий газетно-читательский резонанс. Этим нельзя не пользоваться.
19 декабря 1879 года С. Н. Шубинский приходит приглашать работать во вновь учреждаемом журнале “Исторический вестник”, а десять месяцев спустя Лесков уже пишет этому прижимистому редактору:
“Но на работу у меня действительно есть спрос по условиям для меня более выгодным, только это не в “П[етербургской] газ[ете]”, а в “Р[усской] речи” и в “Руси” [669].
Через два года дружеские укоры Аксакова уже вынуждают исповедоваться:
“За мною действительно немножко ухаживают, но не то мне нужно и дорого. Имя мое шляется везде, как гулевая девка, и я ее не могу унять. Я ничего не пишу в “Новостях” и не знаю Гриппенберга, но когда мне негде было печатать, — я там кое-что напечатал, и с тех пор меня числят по их департаменту. Не отказать же Татьяне Петровне Пассек, которая в 72 г[ода] без хлеба; не откажешь своим киевлянам, трудно отказать и Лейкину, который всегда был ласково услужлив, а теперь ему это будто на что-то нужно. Но вы очень проницательны и отгадали мое состояние: я сам испугался этой раскиданности и невозможности сосредоточиться. Еще год такой работы, и это меня просто убило бы. Вот почему я и схватился за большой труд как за якорь спасения и очень рад, что так сделал. Фавор, который выпал мне после долголетнего преследования, меня не увлек и не обманул, а напротив, я понял его вредную сторону и избегаю ее. Суворин действительно запасся от меня маленьким пустяком, озаглавленным “Иллюстрация к статье Аксакова об упадке духа”. Гатцуку я написал давно обещанный рассказец рядового святочного содержания. Конечно, все это не “Левша с блохой”, которые очень и очень замечены. Постараюсь вам написать и пришлю, что напишется, если напишется хорошо…” [670].
Шестнадцать лет тяготевшее заклятие меркнет. Отдельные выпады непримирившихся зложелателей не страшны.
Истосковавшийся в многолетней немоте “с платком во рту”, Лесков неудержимо спешит нагнать потерянное время. Он не в силах победить соблазн как можно чаще и шире появляться в прессе и журналах со статьями, как по серьезным вопросам, так подчас и по малозначительным предметам и поводам. Его положительно обуревает жажда говорить после слишком долгого, слишком измучившего его молчания.
Раздраженный И. Аксаков без стеснения пишет ему несколько лет спустя:
“В последнее время вы совсем опохабили вашу музу и обратили ее в простую кухарку, стряпающую лишь то, “что в приспешню требуется”, по вашему выражению, да приспешню еще “базарную”… С вашим дарованием вы могли бы себе “буар и манже” добывать более достойным образом… Тем приятнее узнать от вас самих, что в вас не заснули позывы в другую, лучшую сторону, что потягивает вас подчас, говоря стихами Шиллера, “in die scönen Regionen” [671].
Строго осуждал его за разбрасываемость Суворин, осторожно упрекал за “малую прессу” мягкий П. В. Быков, и, что всего, может быть, неожиданнее, надув губы, обиженно доказывал отцу несовместимость с его талантом и именем сотрудничество в “Петербургской сплетнице”, а позже и в “Осколках”, я, подросток, которого положительно оскорбляло появление его подписи рядом с Лейкиным, “Амикусом” (Монтеверде), “Русланом” (И. А. Баталиным) и тому подобными литературными величинами.
— Это совершеннейший вздор! — отвечал мне отец. — Мне нужно расширение рамок работы. Имя мое от места публикации моих статей и произведений умаляться не может, а диапазон его звучания этим ширится, приучая к нему читателя.
Возможно, что без лет затенения и отвержения угол зрения его был бы иным.
Рамки “Исторического вестника” становятся тесны. “Всего вам доброго желаю и рад, что вы меня теперь оставили с приставаниями о “маленьких статьях”, которые отрывают от большого и портят дело”, — пишет он через несколько лет Шубинскому [672].
Хочется “совершать”, вступать в борьбу “с дьяволами”, с “попятным” движением государственной и общественной мысли, с покровительствующей всему этому “господствующей” церковью.
Время, неустанная работа, пересмотр многого в самом себе, могучий талант — делали свое дело. Избирается путь, на котором создадутся самые противокрепостнические, открыто “потрясовательные” произведения — “Тупейный художник”, “Зверь”, “Человек на часах”, “Чортовы куклы”, “Полунощники”, “Загон”, “Зимний день”, “Заячий ремиз” и так далее.
Пусть и медленно, но к концу семидесятых годов литературное положение начинало улучшаться.
Как же стояли и разрешались ли вопросы личной жизни? Как все пережилось и во что вылилось?
В рассказе “Явление духа” высказывается мысль, что второе одиночество смягчалось, чуть не сглаживалось присутствием сына, еще даже не подростка, будто бы являвшегося панацеей в выпавших переживаниях.
Первопричина тому, что Лесков потом оставался одинок уже всю свою жизнь, лежала, думается, в его поглощенности любовью к литературе. Отсюда шло твердое осуждение всего, в какой-либо мере стесняющего свободу таланта, свободу его служения литературе.
Тот стой один перед грозою…
Две неудачи укрепили веру в неопровержимость тезиса.
Прежде, больше и выше всего надо беречь талант, ограждать его от всего, могущего стеснять рабочий его простор и независимость, от всего, мешающего творчеству.
При создании таких условий надо неотступно учитывать свойства собственного нрава, личные вкусы, привычки, потребности.
По одному случаю — в первые же годы второго и последнего одиночества — Лесковым было дано субъективно образное определение:
“Я гостям сердечно рад, но равноправных хозяев в одной берлоге не люблю, а я уже настолько стар, что мне применяться к чьим бы то ни было характерностям трудно и бесполезно” [673].
Признание вырвалось, что называется, из самого нутра, вырвалось после двух жестоких семейных катастроф, на исходе пятого десятка лет. Оно в сущности противоречило всю жизнь высказывавшейся убежденности во врожденной мягкости своей натуры и особой личной предрасположенности к семейной жизни.
Последняя, в наиболее излюбленном представлении, олицетворялась вечерним сбором всех членов семьи для мирной беседы или чтения за круглым семейным столом и тихой семейной лампой, льющей ровный свет из-под абажура, сделанного женской рукой.
Так говорилось и неоднократно рисовалось и в письмах и в литературных произведениях.
Но в жизни… довольно было кому-нибудь уронить чайную ложечку, капнуть вареньем на скатерть, задеть сапогом ножку стола, как разражались гром и молния. Разгневанный глава семьи, взяв свой стакан чая, оскорбленно покидал стол, лампу, всех собравшихся за ними и удалялся в свой давно манивший его уединенный кабинет.
За столом все оживало…
“Свежий мартовский ветер гулко шумел деревьями большого Таврического сада в Петербурге и быстро гнал по погожему небу ярко-красные облака. На дворе было около восьми часов вечера; сумерки с каждою минутой надвигались все гуще и гуще, и в небольшой гостиной опрятного домика, выходившего окнами к одной из оранжерей опустелого Таврического дворца, ярко засветилась белая фарфоровая лампа, разливавшая тихий и ровный свет по уютному покою” [674].
Так начиналась повесть, писавшаяся в 1870 году, когда сам автор жил у Таврического сада, а его семейной лампе выпадало уже временами освещать не одну тихость.
Проходит десять лет. Семьи уже нет. Полное колкостей письмо к моей матери завершается упреком в неуменье сидеть у объединяющей семью лампы: “Добро, как сила, развивается от упражнений души в добродействе людям, а к этому надо иметь вкус, а вкус (душевная эстетика) развивается примером, “растет в атмосфере доброты”. Но ведь этого же ничего не было, — откуда же было ему явиться[675] в той мере, в какой вам теперь хочется? Но, повторяю, они ничего себе ребята, и расти они в Киеве, — конечно, они были бы без всякого сравнения хуже. Теперь же они только грубы и порою малоприличны, но первое, может быть, есть и от природы, а второе, вероятно, мало-помалу будет улучшаться, т[ак] к[ак] у них много самолюбия и боязни быть смешными. Горевать по поводу их еще нечего: нет ни одного негодяя, а уж “кто волком здесь родился — тому лисицей не бывать”. Лишь бы эта грубость не повредила им в жизни, а теперь пока это пустяки: кто же у вас в роду мягок, не исключая ни сестры вашей, ни вас самих. “Яблоки от яблони недалеко катятся”. Может быть, теперь о том порой и жалеете, а переделать себя не можете, и так того гляди и старость нахлопнет, а стола с лампою и с простою дружною речью как не было, так и не будет. Ну вот и подите же: а у других все это есть, хотя и нет философской складки” [676].
Пять лет спустя, уклоняясь от приглашения на обед, Лесков противопоставляет более любезную ему форму свидания: “Если у вас когда-нибудь пьют чай у семейной лампы, — позовите меня, и я приеду” [677].
Подступом к одному, может быть уже намечавшемуся, рассказу служит непоявление в февральской книжке 1885 года журнала “Русская мысль”, по цензурному запрету, статьи Л. Н. Толстого “Так что же нам делать?”, которую Лесков жаждал прочитать “вместе с добрыми людьми за их круглым столом и у их тихой, домашней лампы” [678].
В 1890 году набрасывается не то полупролог, не то первая, по лесковской манере, вступительная часть остро психологического опуса “По поводу Крейцеровой сонаты”, по другому наименованию — “Дама с похорон Достоевского”.
Написанное пока только “вдоль”, возможно, представляло собой подход к самым интересным раскрытиям со стороны мужа только что трагически погибшей женщины.
В беседе со своею взволнованною посетительницею, верный себе, Лесков, между прочим, говорит: “Вот — стакан чая, самовар и домашняя лампа — это прекрасные вещи, около которых мы группируемся” [679].
И наконец, в заключение, даже в позднейшем из законченных и опубликованных при жизни писателя рассказе — “Дама и Фефела” — некий поляк-писарь, “Апрель” Иванович, полюбивший скромную героиню-прачку, “завел” у нее “вечерний кружок у чайного стола и всем здесь читал Телемака” и другие наставительные книги [680].
В итоге создается впечатление, даже ощущение, так называемой “навязчивой идеи” или “психологической иллюзии”.
С переходом нашим в 1877 году на холостое житье в кабинете появился перед диваном круглый стол, а на нем высокая фарфоровая лампа с толстого стекла молочно-желтоватым круглым колпаком, лившим приятный, ровный, “солнечный” свет. Абажуров, сделанных женской рукой не было.
Не знаю, насколько тяжело свыкался отец со вторично постигшим его в 1877 году одиночеством и смягчалось ли оно сколько-нибудь присутствием сына, одиннадцатилетнего мальчика.
Жизнь сама слагалась в новые формы. Малоожиданно они своею тихостию, упрощенностью и отсутствием чьей-либо, кроме собственной, воли оказывались во многом рабочеудобнее. Это, должно быть, скоро же начало примирять и даже подкупать. С этим начало приходить успокоение и почти удовлетворенность совершившимся.
Печали вечной в мире нет,
И нет тоски неизлечимой, —
внушительно и четко читал, бывало, Лесков в поэме “Иоанн Дамаскин”. А натура, вероятно, подсказывала: без равноправных в берлоге покойнее…
Оскорбленный жестоким наказанием, расцвет моего чувства к отцу оборвался. Запись учителя Гоппе о моем невнимании в классе и все ею вызванное исполняли гневом почти детскую еще душу. Однако постепенно чувство обиды начало заживляться. И много ли нужно отроческому сердцу?
К лету отец подыскал, в первый раз, хотя и очень скромную, но сухую и светлую квартирку в до сих пор сохраняющем претензию на мавританизм фасада доме миллионера и византийского князя Мурузи, по Литейной улице, № 26, кв. 44. Жилье было небольшое — три комнаты, четвертый этаж, окна на просторный двор, лестница приличная, со швейцаром. Не широко, но удовлетворительно.
Лето 1878 года мы жили в Сестрорецке, в доме какого-то оружейного мастера, из молодых. Добираться туда было сложно: финляндским поездом до Белоострова, а оттуда узкоколейной кукушкой.
Мать опять жила в Лесном. Молодежь наша навещала нас. Гостил у нас один мой товарищ по классу. Бывал и юный Шляпкин, сын белоостровского крестьянина, проживший в Белоострове всю свою жизнь.
20 июня 1878 года он шутливо занес в свой дневник: “Гостил в Сестрорецке у Н. С. Лескова. Он игумен, братья Бубновы послушники”.
Раз как-то к вечеру, именно при нем, отец громко читал тургеневские рассказы “Собака” и “Стук, стук, стук”, а когда, после гречневого кулеша со свиным салом и чая, все поразлеглись в двух смежных комнатах, начались довольно долгие перемолвки по поводу прослушанного, пока один за другим не заснули.
Жилось этим летом в общем не плохо.
Приключился тут и анекдот. В Сестрорецке же живет на даче, на Канонерской улице, М. Г. Саввина, выразившая через кого-то непременное желание познакомиться с известным писателем. Лескову не до новых знакомств, особенно с требующими большого к себе внимания именитыми актрисами. У него завал срочной работы. Он пишет оскорбившие многих правоверных “Мелочи архиерейской жизни”. Это поглощает его целиком.
На смену братьям приехала раз и Вера. Ожидали кого-то из города к обеду. Я с нею встречал гостя в Белоострове. На обратном пути, когда “кукушка”, скрипя старыми рессорами, приближалась к Сестрорецку, приехавший спросил, много ли у Николая Семеновича здесь знакомых. На это Вера звонко и неудержимо посыпала:
— Ах, могла бы быть масса! Но он ужасно занят, избегает всяких знакомств! Ужасно хотела познакомиться с ним Саввина, она тут же живет, но он отклонил и это знакомство. Говорят, она ужасно обиделась!
Я сидел как на иголках. Мои толчки ей под локоть не производили никакого впечатления. Замялся и наш гость. Сидевшая наискосок у окна нарядная дама, не узнать которую могла только институтка, быстро оглянула говорливую девушку и, отвернувшись к окну, стала собирать свои пакеты.
— Ах ты, “ужасный” Фрейшиц, и тут отличилась! — смеялся, слушая нас, мой отец. — Это тебе, Верочка, урок — в толпе имен не называть, иначе когда-нибудь попадешься, говоря на вашем институтском языке, еще “ужаснее”. Запомни на всю жизнь.
Знакомство так и не состоялось.
За все лето Лесков вел знакомство только с одним помощником начальника местного ружейного завода полковником Н. Е. Болониным, школьным товарищем П. А. Алексеева, соблазнившего моего отца тишиной и дешевизной Сестрорецка.
Николай Егорович, большой специалист, водил нас по всем цехам, объяснял работу всех станков и водяных двигателей. Завод выпускал вводившуюся тогда во всей армии 4-линейную “берданку”. Отвоевали мы с Турцией в 1877–1878 годах, имея ее только в гвардии и отдельных стрелковых батальонах.
Вечерком Болонин заходил за отцом, и мы втроем шли в Дубки, к морю. Лесков не раз и у него и вообще у кого только было можно доискивался корней ходившего присловья о том, как англичане стальную блоху сделали, а туляки ее подковали да им назад отослали. Все улыбались, подтверждая, что что-то слышали, но что все это, мол, пустое.
Так “Левша” и остался ничем не обязан лету, проведенному в оружейном поселке, на даче у оружейника. Не было там и никакого “старого тульского выходца” [681].
Но беседы с Болониным не пропали даром. Николай Егорович на наших вечерних прогулках рассказывал об оружейном искусстве, о варварском обращении с огнестрельным оружием при “Павловичах”, когда пушки отчищались с неумолимой тщательностью так ярко блестели на солнце, что надо было жмуриться, глядя на них [682], а ружья чистились толченым кирпичом или песком и снаружи и снутри. Все винтики в них держались слегка отпущенными, чтобы при выполнении ружейных приемов, особенно при взятии “на караул” при встрече начальствующих лиц, ружья “стонали” от четкости артикула.
Все это пригодилось самому “Левше”, в патриотической горячности до последней минуты жаждавшему довести до царя, чтобы ружей кирпичом не драли, а берегли бы их смазанными.
Наступил 1879 год, оказавшийся особенно богатым внутриполитическими событиями, выступлениями, актами протеста, гнева и мести снизу и встречными репрессиями сверху. В одном Петербурге — 13 марта происходит покушение Л. Р. Мирского на шефа жандармов А. Р. Дрентельна; 2 апреля на Дворцовой площади А. К. Соловьев стреляет в прогуливавшегося пешком Александра II; 20 апреля на валу Петропавловской крепости, обращенном к Александровскому парку, вешают за вооруженное сопротивление жандармам при аресте прапорщика 86-го пехотного Вильманстрандского полка В. Д. Дубровина; 28 мая на Васильевском острове повешен Соловьев.
К Лескову приходят волнующиеся студенты, товарищи Николая Бубнова и совсем почти незнакомые. Двери кабинета таинственно запираются, слышны возбужденные голоса, споры, убеждения. Раздаются частые звонки. Одни уходят, другие приходят. Волнуется даже наша спокойная по натуре Анна Францевна Борцевичова, давно сменившая почему-то “с остреньким приветливым лицом”, любившую брусничное варенье Дуняшу.
Расстроенный отец отпускает меня с вразумляющим наказом от всего детского сердца помолиться перед сном о даровании мужества и крепости духа тому, кому предстоит сейчас истома предсмертной ночи и ужас казни завтра. Он пишет Пейкер: “Простите, что вчера я не пришел. Невозможно было: много горя, много опасности у людей, и надо быть с теми, кого можно еще успокоить и удержать, — сберечь кормильца “старой бабке” [683].
После экзаменов я с Пейкер и нашей Анной Францевной еду до Рыбинска по железной дороге, оттуда по Шексне до Череповца и затем сорок четыре версты на лошадях по направлению к городу Кириллову, в село Ивановское.
Мать моя в Киеве с дочерью Верой.
Отец заканчивает срочные дела и берется редакционно подтянуть и выпустить впрок летние номера пейкеровского журнальчика “Русский рабочий”, от апрельского до июльского. Затем 15 июня он с Николаем и Михаилом Бубновыми отплывает в Ригу на местный “штранд” [684]. Поселяются они в самом тихом из всех здешних пунктов, с самым громким названием — Карлсбад, в скромнейшем пансионе отставного прусского унтер-офицера Регезеля. Владелец исполняется восторгом, узнав из рижской газетки, что у него живет “известный” писатель. В Дубельне уже был возвещен известный писатель и действительный статский советник И. А. Гончаров. Теперь есть такой же писатель и в Карлсбаде, в его, Регезеля, пансионе “Акцен-Гауз”.
Как Лесков готовился уехать, как плыл и устроился по приезде на штранд — лучше всех расскажет он сам в немногих строках своего первого обширного письма с места к М. Г. Пейкер.
“Я виноват, что не ответил путем на ваше последнее письмо, но дело было слишком второпях и наскоро. “Мудрые заботы” мои о вашем издании были уже все закончены, — хорошо или худо — это вам судить. Конечно, я хотел сделать хорошо или как можно лучше, но трудно, и даже не трудно, а вовсе невозможно сделать что-нибудь живое в этом мертвенном, чисто буддистском настроении притупления ума, воли и всех высших способностей, которыми “дитя света” может проявлять “свет, во тьме светящий”. Недаром и английская литература этого направления также немощна и безжизненна, как и наша. Из всех материалов вашего портфеля я выбрал только глазного доктора, который, впрочем, немножко сплетник и страдает водяною. Я его немножечко усмирил, немножечко подживил да значительно поспустил у него водицы, и он пошел. Вторая половина, где я более злился и стругал его со всех боков, — вышла совсем недурна и похожа на живую повесть о живых людях, а не о марионетках с религиозным заводом. Беда с этим искусственным зданием: тут машинка, там пружинка, и все одно за другое цепляется и путается само, и пряху путает, и в конце концов — рвется… Теперь о себе: я поселился, согласно совету Эйхвальда, на берегу моря, в 1 1/2 версте от Дубельна, в местечке Карлсбад. Место тихое, обитаемое “литератами” — людьми, мне не известными. Все дачи в сосновом лесу; грунт песчаный; море мелкое и малосоленое; живу в Акцен-Гаузе. Это длинный, как фабрика, дощатый сарай с окнами. Посередине идет коридор, а по обеим сторонам кельи, из которых из одной в другую все слышно, так что надо чихать и сморкаться с осторожностью, которой немецкие “литераты”, к сожалению, напрасно не соблюдают. Живу я “на харчах у немца”, и харчи эти очень плохи. Прислуга не говорит ни на каком человеческом языке, а только издает какой-то утиный шелест вроде “туля сэя сипу липу како пули мостэ пай”. Лихо их ведает: что это значит. Скуки здесь вдоволь, а грубо-циничного немецкого разврата еще более. Немецкие Дианы охотятся по лесам, поражая грубый пол своими стрелами, а людей бестолковых бьют зонтиками, что ужо и со мною случилось…
Работы у меня много, и не знаю: как ее приделать. Желаю все это кончить здесь, до 20–25 июля, а к 1-му августа быть у нас и обнять моего сына, о котором очень, очень сконфуженно скучаю. Пожалуйста, ласкайте его, и пусть он больше бегает, больше играет с простыми ребятками, купается и трясется на лошади. Целую вашу руку. Душевно преданный
Н. Лесков
Да пишите же мне побольше! Что вы заленились” [685].
В Дубельне дописываются “Архиерейские встречи”, подправляется неточно датированный отправленный Суворину “Этюд из культа мертвых”, под заглавием “Честное слово” [686], сберегший несколько любопытных петербургских бытовых литературных сведений шестидесятых годов и спиритуаоистически повествующий о как бы “видении” Лескову Артура Бенни в момент его гибели в Италии в 1867 году. Здесь же подготовляются “Однодум” и “Шерамур”, в намечавшейся серии “типических разновидностей” — “Дети Каина”, сложная записка для Ученого комитета — “О преподавании закона божия в народных школах” [687] — размером свыше девяти печатных листов, и т. д.
В одно из посещений Лесковым с его великовозрастными воспитанниками Дубельна он, после беседы с сидевшим “на музыке” Гончаровым и с его разрешения, повел их представиться знаменитому писателю. Михаил Бубнов так вспомнил этот своеобразный момент его отроческих дней:
“Наша группа шла между полукругом поставленными скамейками, причем мы продвигались по тому ряду их, в котором сидел Гончаров, а Николай Семенович двигался по предыдущему ряду, чтобы не мешать нашему уходу в тесном коридоре скамеек. Подходя, мы увидели очень пожилого человека, среднего роста, довольно тучной комплекции, одетого в темную крылатку, с черным “котелком” на голове. По своей наружности он был похож на культурного коммерсанта или на отставного, немного опустившегося крупного провинциального чиновника. Лицо у него было одутловатое, серое, с оттенком желтизны и почти совершенно безжизненное, неподвижное. Седые закругленные бакенбарды обрамляли его на щеках, а усы и подбородок были выбриты. Он сидел без движения, как будто и не замечал нашего приближения к нему”.
Гончаров, вяло улыбаясь, протягивал каждому представляемому руку, не произносил ни слова, предоставляя этим каждому, не задерживаясь, продвигаться дальше. Тем весь “чин” представления и исчерпался.
Это воспоминание нимало не расходится с тем, что говорил сам Лесков, если не подтверждает его своим полным созвучием с ним:
“Гончаров весь тут: сидим мы с ним за столом в гостинице, и вдруг он начинает прятаться за меня и шепчет: “Загородите меня, загородите меня собою… вон идет сюда господин, мой знакомый. Терпеть не могу, если меня беспокоят, когда я ем”.
Вот он, Гончаров, — “не беспокоите меня!”
Отношение Лескова к Гончарову было всегда безупречно почтительным. При памятных мне случайных встречах с ним на Литейном, около дома Мурузи, отец мой держался в затягивавшихся беседах подчеркнуто внимательно к каждому произносимому им слову, к каждому его жесту и движению. Если я, стоя сбоку в холодных сапогах, без запретных для кадет калош, начинал переминаться с ноги на ногу, отец искоса бросал на меня взгляд, требовавший терпения и выдержки.
Есть и документальный след взаимоотношении, существовавших между этими различными по возрасту и положению писателями.
Старший, даря оттиск из “Вестника Европы”, пишет:
“Николаю Семеновичу Лескову — в знак искреннего уважения к его истинно-русскому, симпатичному таланту от автора, февраль 1888”.
Младший благодарно принимает и бережно хранит дар, а через четыре года, уже по смерти дарителя, сам уже “маститый”, берет перо, чтобы благоговейно начертать:
“Драгоценно по собственноручной надписи Ивана Александровича Гончарова, с которою этот оттиск мне от него прислан. Н. Лесков, С. П. Б. 1892 г.” [688].
1877 год принес, пусть и нерадостное, но давно ставшее неизбежным, разрешение безысходных семейных неладов.
1878-й дал хотя еще и небольшие, но все же обнадеживающие проблески изменения писательского жребия.
Полтора десятка лет спустя Лесков поучал:
“Каждому человеку суждено погибнуть так или иначе: одному от денег, другому от безденежья, третьему от жены, четвертому от любовницы и т. д.
Забот слишком много у людей. Каждый думает обеспечить себе старость, а ее-то у него, может быть, и не будет; обеспечить детей, а из них, может быть, выйдут негодяи, которых и обеспечивать или поддерживать не стоит.
Надо жить для самого себя, то есть для идей, которые есть в тебе и которые ты считаешь лучшими. В этом смысле в себе самом домогаться счастья, а не в жене, не в детях, не в богатстве и во всем прочем” [689].
Так говорила старость. Когда до нее было далеко — личное счастье виделось в ином.
ГЛАВА 9.ДОЧЬ
В один из первых дней августа 1879 года я с утра сидел в Череповце на пристани, вглядываясь — не задымит ли ниже на Шексне пароход, на котором плыл мой отец.
Обоюдно желанная встреча прошла тепло и радостно.
И могло ли быть иначе! Из рижского Карлсбада он писал М. Г. Пейкер:
“Родная Мария Григорьевна! Сегодня получил ваше письмо от 18-го июня, прервавшее мою скуку и тяжкое томление от неизвестности о сыне, которое длилось целых десять дней (с 14 июня). Разлука с ним меня просто пересиливает до того, что я уже стараюсь о нем не думать. Не только верю, но знаю, что вы и дочь ваша чувствуете, что в руках ваших все мое земное счастие; знаю и то, что мальчику моему весело и полезно быть с добрыми, христианскими и благовоспитанными женщинами, которых я и он любим, несмотря на упорное притворство одной из них в злосердечии, но… все-таки сердце ноет и тоскует по хлопцу” [690].
И мне в те добрые годы не было человека дороже отца.
Чувство с обеих сторон крепло, обещая неустанный его рост в глубину.
Сели в просторную старинную пейкеровскую коляску и на хорошо отдохнувших за ночь и охотно побежавших домой лошадях покатили по довольно исправному шоссе большака.
Отец, уже побывавший по пути с рижского взморья у себя на дому, рассказывал последние петербургские новости, о своем комитете, о Николае и Михаиле Бубновых, Протеке, о том, как сам он хорошо и отдохнул, и поработал, и поздоровел от любимого им морского купанья, и т. д. И вдруг, ударив себя по лбу, воскликнул:
— Постой, постой, столько наговорил, а ведь о самой главной новости, да еще такой, о какой ты и не думаешь, и позабыл: на-ша Ве-ра вы-хо-дит замуж! Каково?
Я смотрел на него восхищенными и действительно полными удивления глазами.
— За офицера, улана. Будет полковою дамой! — продолжал он.
— Ах, как хорошо! А наверно?
— Чего вернее: письмо от дяди Алексея. Сам знаешь — мужик серьезный. А устроила все это Клотильда Даниловна, помнишь — приезжала с ним? Вот это тебе новость так новость!
Я был в восторге, от всего сердца радуясь и за нее и всего, может быть, больше за отца.
— Пишут — молод, поручик, шестьсот десятин земли в Каневском уезде Киевской губернии пополам с братом. Имение, говорят, прекрасное. Близко к Ржищеву, к матушке Геннадии и к Каневу, к Крохиным…
— Вот хорошо! — радовался я.
— Да, только фамилия немножко смешная — Нога!
— Нога? Разве бывают такие фамилии?
— У хохлов и не такие случаются. И не у них одних. Припомни Яичницу, Дырку, Землянику…
Родилась Вера Николаевна в Киеве 8 марта 1856 года.
Доля ей выпала горькая: взбалмошная мать; отец еще с “райских”, пензенских лет дома редкий гость, а вскоре его уже и вовсе нет. На шестом году она переживает тяжелые семейные события, разыгравшиеся в Москве у Сальяс в Сокольниках.
В 1862 году в газетной корреспонденции отец еще довольно тепло вспоминает о девочке с “умненьким личиком” [691]. Два года спустя в “Некуда” доктор Розанов, то есть сам автор романа, уже находит, что дочь его — “изнеженная, слабая, — вдобавок с некоторыми весьма нехорошими наклонностями”. Оценка идет на снижение, чувство — на убыль.
В свое время подошел Киевский институт — лучшие годы ее начинающейся жизни. Но вот он, видимо с грехом пополам, окончен. Опять — невменяемая, шалая мать, вечные ссоры с ней, сцены, драмы, ожесточение. Подруги выходят замуж или живут в радушно встретивших их семьях. У нее тоже есть и мать и отец, но семьи у нее нет. Вчерашняя институтка с ужасом видит впереди полное одиночество, жуткую, беспросветную бесприютность. Девушка теряет голову, мечется. То схватывается за занятие музыкой, фортепиано, то пытается поступить на какие-нибудь курсы, собираясь, по колкому выражению ее отца, “работать над Боклем”. В Москве Николай Рубинштейн признает в ней способности, но она вдруг бросает занятия у него. Кидается в Петербург, оттуда назад в Киев и снова в Москву.
Здесь, в особо трудные минуты, ей приходят на выручку мягкосердые, зло вышученные ее отцом в “Некуда”, “углекислые феи”.
Лесков был склонен видеть во многом, хотя бы и с натяжкой, вмешательство “Nemesis”. Трогательная участливость и помощь, явленные его дочери памфлетно осмеянными им Новосильцевыми, оказавшимися добрыми феями для Веры Николаевны, не могли не заставить отца почувствовать всю остроту и тонкость как бы провиденциального отмщевания ему добром за незаслуженную обиду.
Много позже его охватывает потребность признать в письме к Суворину, что он “краснеет” за своих “углекислых фей” [692].
Отвечая в 1875 году старшему брату на его запрос об отношениях, существующих между Верой Николаевной и ее матерью, Михаил Семенович с грустью завершал свое донесение:
“…Жаль мне бедную Веру — вся жизнь ее прошла под влиянием безумной бабы, которая колыхала ее то в ту, то в другую сторону совершенно бесцельно, и она привыкла к этим волнам, и трудно — трудно будет ей удержаться в должном направлении. Главнее всего с нею, мне кажется, надо быть ровным и выдержанным. — С какими средствами она добралась до Питера и есть ли у нее что-нибудь теплое? Говорят, что все, что было, все заложено” [693].
Предпринимаются опыты самостоятельной трудовой жизни в роли домашней учительницы музыки. В Петербурге, у богачей Конради, ее игру слушает и одобряет мягкость ее “туше” П. И. Чайковский.
И опять метанье из стороны в сторону, из города в город, с места на место.
Отцу жестоко наскучает это видеть и слышать. Особенно обостряется его раздражение в периоды пребывания ее непосредственно в Петербурге.
Как-то вечерком, в воскресенье, у моей матери, в уголке гостиной Вера Николаевна вступает в ожесточенный диспут со студентами, товарищами Николая Бубнова.
— Нет, нет, нет! Что там ни говорите, а Смайльс прав, говоря, что надо всегда и во всем быть искренним, что надо всегда быть правдивым и вообще надо жжить хорошшо! — сыплет она со всем азартом молодости.
И вдруг замечает, что оппоненты ее, перестав улыбаться и возражать, с тревогой посматривают куда-то мимо нее. На пороге стоит отец, издали уловивший характерную ее дикцию и подошедший из других комнат. Он вынимает из жилетного кармана черепаховое пенсне на широкой черной тесьме, методически, двумя руками, вздевает его и, вперя уничтожающий взгляд в говорящую, застывает в грозном выжидании.
Захваченная врасплох, хорошо знающая этот взгляд, девушка растерянно осекается на полуслове. Короткая пауза. Вслед за ней слышатся чеканно произносимые слова:
— Что ты там чекочешь? Когда и что такое ты вычитала у Смайльса? Что ты лотошишь?
Создается тяжелая неловкость.
— Вера Николаевна, боюсь забыть, потом передать вам выкройку, которую вы просили, — раздается разряжающий напряженность положения голос моей матери. — Пойдемте ко мне, я вам ее отдам: сейчас.
Так кругом и повелось: лотоха и чечотка! Чего тут ожидать?
Слова, надо признать, “липкие”. Лесков им знал цену. “Чекочут” у него и в “Воительнице” [694], и в “Смехе и горе” [695], и Ахиллова Эсперанса в “Соборянах” [696], и в “Русских демономанах” [697], и в позднейшем “Загоне” [698]. Грешила, сказать правду, и Вера Николаевна.
Вообще она говорила на чисто киевском наречии: “я приехала бричкой, уеду извозчиком; шла сюдою, вернусь тудою; скучаю за детями; играйся сам; кто-то звóнит” и т. д. Сейчас уже и северяне “звóнят”, а в те времена так говорилось не выше Курска, а вся северная Россия звонúла: позвони, звонят, идя от глагола звонúть, а не от односложного существительного звон.
Зиму 1878–1879 годов Вера Николаевна, снова замечтав о курсах, оказалась в Петербурге. Жила уроками музыки, в комнате, нанимавшейся пополам со знакомой студенткой-медичкой.
Ознакомившись с горечью положения племянницы Алексея Семеновича, участливая Клотильда Даниловна к весне вызывает ее к себе в Киев. Не имея ничего другого впереди, Вера Николаевна радостно откликается на ласковый зов и, всему казавшемуся возможным вопреки, — “делает партию”.
Что такое сам жених — на этом особенно не останавливаются: добрый малый, да и Бурты… Это впору и не для бесприданницы по двадцать четвертому году, без тени красоты, да еще с матерью в сумасшедшем доме… О чем тут думать? Улан?! Ну что же делать, но с бархатным черноземом…
Забыв и “лотоху” и “чечотку”, Лесков пишет брату Алексею Семеновичу:
“Много благодарю тебя и Клотильду Даниловну за Веру. Да воздаст Клотильде Даниловне за добрые ее заботы небо “мерою полною и утрясенною”. Добро иногда не гибнет и воздается дивно, а то, что ею сделано, — истинное добро и заслуга перед любителем всякого добра. Вера такая беспомощная, что ее устроить — это все равно, что душу от смерти спасти. Без Клотильды Даниловны все шла бы одна распроклятая критика, в которой все вы, как черви в земле, уже и света невзвидели. “Наши-де всех хуже, — куда нашим! Из наших один я-де только и стою высоко”. “А самый высший, — я говорю, — на двухвершковой высоте”.
Чья это ярость речи и наставительства? Чья жестокость метафор, властность осуждений?
Начав письмо в честь, хвалу и благодарение, старший в роду негаданно опаляется неосилимым гневом.
“Глупцы! От гордости, что черви капустные, пропадаете”, — пишет знаменитый предок наш, неукротимый расколоучитель Аввакум в семнадцатом веке.
Едва не однословные выражения слетают с уст “ересиарха Николая” в конце девятнадцатого.
Сменялись поколения. Отдельные образы не преодолевались временем.
Дальше идут уже дела житейские: “Сегодня я послал Клотильде Даниловне вторую сотню рублей, вещи пришлю к 28-му, — жду образа, кот[орый] перечищается у Сафронова”. И завершалось это письмо предостерегающе-требовательным указанием: “Да пожалуйста, умоляю тебя[699]: не справляй свадьбы пиршественно, а сделай ее просто, с чаем. Николай” [700].
31 августа, прямо из-под венца, “молодые” свадебным путешествием прибывают в Петербург.
Дмитрий Иванович Нога без труда определяется как зоологический примитив, редкий даже для армейского улана тех времен. Не говоря об образованности или начитанности, о какой-нибудь внутренней содержательности, нет даже добропорядочной внешней светскости.
Вскоре же он опаздывает на полчаса к нашему обеду. Тесть этого не терпел. “Встретил боевого товарища”, — говорит “Митенька” в свое оправдание. Лесков слушает извинение с полупренебрежительной рассеянностью. Говорить этим двум людям совершенно не о чем. Общего — ничего. Ничто и не клеится.
Вера разыскивает одну институтскую свою подругу. Муж ее — начальник Артиллерийской технической школы на Шпалерной, полковник Сарандинаки. Это человек труда, учившийся, читающий, интересующийся… Нога, во многом неумело, устраивают у себя в “номерах” вечеринку. Наличие посторонних обеспечивает беседность. Бойкая и бывалая мадам Сарандинаки, проявляя актерский темперамент и наблюдательность, рассказывает, как последней зимой ездила на святки по узкоколейке к родным в Старую Руссу и какой-то желчный господин на все уговоры взять с сиденья его чемодан, коротко бросал: “Не желаю”. В Руссе его собирались привлечь к какой-то ответственности, но тут он был почтительно встречен местными чиновниками. Оказалось, что это большая персона, а чемодан не его. Через три года тема вспоминалась и в искусной обработке воплотилась в хорошо развернутый веселый рассказ “Путешествие с нигилистом” [701].
Больше приезд Нога помянуть нечем. Отпуск “Митеньки” истекал, и они поехали в Киев, а оттуда в глухое местечко Подольской губернии Ярмолинцы, где стоял 12-й уланский Белгородским полк.
В Петербурге Дмитрий Иванович был дружно взят в обработку и уезжал уже почти уговоренным выйти в отставку и “сесть на землю”. Через год истекал срок аренды Бурт, красивого имения братьев Нога, с каменным домом, великолепным фруктовым садом и редким для Украины по величине рыбным прудом.
Вера Николаевна рьяно поддерживала эту мысль. Привычно хлопая глазами, соглашался со всем и сам “добрый парень”.
Родственности и теплоты в Петербурге не создалось. Но так или иначе, а “беспомощная” Вера “устроена”. Примутся за хозяйство на своей земле и проживут свой век в добром достатке. В какой мере эта чета подготовлена к выполнению агрикультурных задач — никого не тревожило. Подумаешь, велика хитрость! А она во всяком случае была много большей, чем верченье на плацу в уланском взводе.
Осев в Буртах, ни один, ни другая ничему не учились, ничего не узнавали, “убивая время” в лютой тоске неизменного “неделания”.
В период полевых работ Митенька, рано вставая, ездил в поле. Что он там усматривал, какие мог давать указания — неизвестно. С глубокой осени начиналось подлинное “томленье духа”. Он слонялся по саду, стрелял галок, дразнил дурачком хромого ворона, сидевшего в большой клетке, оставшейся от какого-то доисторического попугая, шел на кухню, набирал полчумички борщовой гущи, подливал уксусу, щедро подсыпал перцу, нес все это в левой руке через все комнаты в “кабинет”, раскрывал правой рукой “книжный” шкафик, наливал убористый литого зеленого стекла шкалик, “повторял”, нес пустую чумичку назад старому повору и, блаженно посвистывая, растягивался, положив ноги в огромных сапожищах на спинку своего ложа. Час, а то и меньше спустя выполнялась та же программа.
Если случавшиеся иногда гости-соседи просили меня спеть, он непременно пристраивался ко мне и тянул козлом в унисон, стремясь так подразделить слоги некоторых слов романса, чтобы достигалось непристойное значение, многозначительно подталкивая меня при этом в бок. Слушателям скоро наскучало его кривлянье, и, подчиняясь их просьбам, он, шутовски раскланявшись, бежал к заветному шкафику “пропустить” не в счет ужина.
Веру было жаль. Если она и не успела “поработать над Боклем”, то хотя собиралась. Связать после этого жизнь с человеком Митенькиных жизненных запросов было, несомненно, мучительно.
В киевском родстве его окрестили простодушным и добрым пареньком “Митенькой”.
Говорится — хитрость есть низший вид ума. Ею не всегда обделены очень недалекие люди.
Влечения к злу у Митеньки не было, но всякое бытовое или деловое сближение с ним обходилось дорого. Семью первее всех разорил он. И кормилица его Одарка, и старый буртянский повар Александр, и кучер улан Михаиле Болкотун, и лучшие свои годы провозившаяся с его детьми бедная девушка Анна Павловна — все потом оказались брошенными ни с чем на волю рока. Много ли во всем этом того, что имеет право называться добротой? Он был убог, но и опасен.
В пять лет сидения в деревне имение было прохозяйствовано. Марья Петровна уже 16 февраля 1886 года писала дочери, Ольге Крохиной:
“Вы, конечно, уже знаете, [что] Нога продал Бурты А. В. Тарновскому и сами же будут арендовать у него 6-ть лет. Аренда, знаю, в год 4500, а за сколько продал, верного не скажу, но Вера очень довольна этой сделкой, а то, говорит, трудись, работай, и все на одни проценты” [702].
Почему неумелым, нетрудолюбивым и невежественным хозяевам казалось, что в роли арендаторов они успешнее справятся, чем это удавалось в положении владельцев, — мало понятно.
Митенька, из всех видов письменности бойчее всего постигший писание векселей, исподволь научил этому и Веру Николаевну, которой — а не ему — отдал в аренду Бурты Тарновский.
Летом 1885 года Бурты пошли прахом. Разорение арендаторов шло с прежнею неуклонностью. Учащались займы у родных, а с тем и ссоры.
За четыре недели до своей смерти Марья Петровна выносит безнадежный приговор внучке в письме к Ольге Семеновне: “…Об Нога говорить более не станем. Счастливы, и слава богу, тетку в бережливости [упрекая? — А. Л.], конечно, она брала тебя. Знаешь, на мой взгляд Вера grand parleuret petit foiseur [703], но дай им бог успеха” [704].
Получив телеграмму о смерти бабки, ни внучка, ни ее муж в Киев не приехали. Это было осуждено.
Осенью этого же года отец пишет мне в Киев: “Я получил письмо от Веры Нога, где она трубит с чьего-то голоса о “наемных людях”… Господи помилуй! И наемные помешали! Каких же надо? Что это за дрянь такая там еще про меня чекочет, и чего им еще хочется?” [705]
Не помню почему, но ближе к концу того же года она все же была приглашена в Петербург. Впервые, может быть, ей был предоставлен тихий приют и радушие непосредственно в доме отца. Разговоры на больные темы исключались. Три-четыре недели она нежится в незнакомом ей “приятстве”. Однако дети-то в Буртах на руках у бонны, при отце, больше всего поглощенном вниманием к шкафчику с посудинками. Неспокойно становится. Надо ехать. Пора!
Учреждаются проводы, на которые посылается зов “названой дочке”, Вере Бубновой, впоследствии Макшеевой:
“15 нбр. 86.
Милый друг мой Вера!
Вера Николаевна уезжает завтра, в воскресенье, 16-го ноября. Сегодня, 15-го н[оя]бря, по этому поводу у меня в доме будет расстанная вечеря: пшеница, вино и елей. Сторонних никого. Если бы ты захотела прийти, — ты бы сердечно обрадовала любящего тебя отеческою любовию старика. Если же ты, по каким бы то ни было соображениям, найдешь это неудобным для себя, то, само собою разумеется, я пойму это как следует и не сочту себя вправе иметь на тебя какое бы то ни было неудовольствие. Мне только было бы неприятно не сказать тебе, что при всякой из ряда выходящей минуте моей жизни я тебя помню и считаю тебя мне близкою, больного и родною моему сердцу. Дружески тебя обнимаю.
Твой Н. Лесков [706]
“Неудобность” могла быть усмотрена только в том, что в письме ни словом не упоминалась ее и моя мать, с которой она жила в 8—10 минутах ходу от нас. Очевидно, в это время существовало какое-нибудь неудовольствие по отношению к ней. Все к периодическим опалам привыкли и умели ими не огорчаться.
Вечеря состоялась in quarto: отец, две Веры и я.
Собравшаяся в путь растрогалась… Пшеница была радушна, вино, как всегда, веселило, а елей беседы умягчал сердца. Уезжала она, завороженная лаской и теплом, усыпившими память, притупившими ясность представления возможного и невозможного.
Прошло недели три. Была суббота. Часа в четыре-пять, придя из Константиновского училища и переступив порог, я остановился в полном недоумении: вся передняя была завалена чемоданами, баулами, картонками, портпледами и даже самыми первобытными узлами. Вешалка ломилась под массой дамских и детских пальто, шубок и т. д. В столовой слышались возня, детский визг, смех, беготня. Горничная, снимая с меня шинель, молчала, ожидая неминуемого моего вопроса и, видимо, желая поразить разъяснениями. Надобность в них отпала сама собой: двери столовой распахнулись, и, с пустым молочником в руках, появилась буртянская бонна, Анна Павловна. В ту же минуту, увидев меня, с шумом и криками “дядя Андрей, дядя Андрей!” выбежали и Верины дети.
Вера, показавшаяся мне сильно смущенной, сидела за самоваром. Обменявшись с нею несколькими обычными при встрече воскликами и общими фразами, я через загроможденную прихожую прошел в кабинет.
Отец был в полном расстройстве.
— Видал?!. — сказал он полным отчаяния голосом. — Они окончательно разошлись, и она примчалась сюда сама — четверт, со всем скарбом, с какими-то деньгами, ни с кем в Киеве не повидавшись и не посоветовавшись, без всякого плана в голове. Что они будут делать, где, как и чем жить!.. Сплошное безумие! Час назад явились как снег на голову. Но моя слишком стара и утомлена для таких внезапностей. Шум, гвалт, дети распущенные. Где тут работать! Как их разместить? Это сумасшедший дом!
— Успокойтесь, папа. Что-нибудь сообразим сейчас. Вызову старшего дворника, передам ему их паспорта и потолкую насчет помещения. Он у нас толковый.
— Пожалуйста, я совсем потерял голову.
На кухне я обсудил с кухаркой мероприятия по расширению обеда на утроившийся состав семьи. С подошедшим “старшим” дело сладилось, как и не ждалось: по общей с нами черной лестнице вчера освободились две комнаты, которые, наверное, отдадут хотя бы и на две-три недели, так как дело идет к святкам, когда скорее уезжают, чем приезжают. Я поднялся с ним на второй этаж, договорился, отдал ему паспорта Веры Николаевны и ее бонны и вернулся к отцу с неплохим докладом.
Сейчас же все, конечно кроме отца, авралом принялись переносить вещи, перевели детей. Сени и столовая разгрузились, хлопанье дверями и детская беготня прекратились, а затем доспел и усиленный обед. Прошел он не ахти как складно, но в значительно освоенном уже настроении. Дети после сладкого заклевали носами и были уведены. Мы перешли в кабинет. Я видел, что у Веры пелена с глаз уже спадает, что она постигает громадность своей ошибки. Не оставалось сомнения, что она скоро дойдет до решения, диктуемого всеми условиями. Утомленная дорогой и подавленная начавшимся уже прозрением, она вскоре же отправилась “к себе”. Проводив ее и посидев с нею, я убедился в верности моего прогноза. С этим я вернулся к отцу, чтобы утишить его взволнованность.
Высказанные мною предположения были им выслушаны с явным одобрением. Тяжелый день к своему исходу смягчался надеждами на недальнее разрешение принесенных им затруднений.
Прожив недели полторы, Вера Николаевна собралась, с расчетом к рождеству быть дома, в Буртах.
Возобновляется все старое, давно постылое.
Ноги неотвратимо катятся под гору. Лесков терзается их уделом. 15 апреля 1888 года он заканчивает одно из писем ко мне в полк, в Новгород:
“Из Киева вести оч[ень] неутешительные: они могут разориться, и тогда векселя Веры и проч[ие] стоят 0. Это не преувеличение. “Добились-таки англичане” [707].
И в самом деле добились. Крохины хорошо поплатились на займе племяннице, векселя которой — ноль.
Осенью 1892 года мне захотелось приласкать Веру, предложив ей вволю погостить у меня лично в Петербурге, с полной свободой неосудительно делать, что понравится, ездить, куда захочется, к себе звать, кого вздумается. Написал об этом ей и одновременно дяде Алексею Семеновичу. В ответном письме от 17 сентября последний, между прочим, остановился и на этом моем зове.
“…Искренно рад твоему сердечному отношению к сестре Вере. Она так много вытерпела горя за свою жизнь, так мало избалована вниманием и ласками, что глубоко и сильно чувствует всякое доброе слово, ей сказанное. Я не желаю и не имею права входить в суть таких сухих и безучастных отношений к единственной дочери, какие я вижу, но знаю, что это ее глубоко огорчает, тем более что она бьется как рыба об лед и лично своим трудом кормит и держит семью. Она ничем не заслужила той холодности и даже более, которую ей оказывают” [708].
Помещена Вера Николаевна у меня была просторно, удобно, досмотрена внимательно, погостила хорошо. Все, что захотела, видела, отдохнула и в полном благорасположении со всеми уехала. Пребывание ее в Петербурге вызвало интересные и характерные отзвуки в письмах отца к юной его племяннице и к сестре:
“…Вера Нога и у меня бывала все наспех — на короткие минуты, и мы очень мало с нею говорили. Также и рассказов от нее я ни о ком не слыхал. В Киеве, кажется, боятся говорить и почитают рассказы за сплетни… Если это там так, то те, кто ничего не говорит, — очень хорошо делают. Впрочем, обо мне она вам, конечно, и не могла бы сообщить ничего интересного, так как она не могла и вникнуть в мою жизнь (курсив мой. — А. Л.), да и жизнь моя не дает большого материала для сообщения. Все, славу богу, так хорошо, как я того совершенно не стою” [709].
А через месяц в письме к матери этой племянницы опять заговорил о своих впечатлениях в отношении своей дочери:
“…Верочка Нога оч[ень] полна и благочестива: она ездила в Кронштадт к попу и в часовню к образу. О вас ни о ком она не говорит ни слова. Это у вас называется “делать сплетни”. Что ни спросишь о ком, — она все отвечает: “Не знаю, не знаю, я боюсь делать сплетни”. Такой у вас дух, а чем он порожден — не знаю” [710].
Здесь помянулись буртянке и “пэр-Жан”, как именовал Лесков кронштадтского “чудотвора” священника Ивана Ильича Сергиева, и икона в часовне у Стеклянного завода с прилипшими к ней при ударе молнии монетами. Такие дела никому не прощались. Еще раньше самой Ольге Семеновне писалось: “Этого не поправят ни панихиды, ни молебны, ни попы, ни доски с влипшими в них грошами (как гроши Костика на Панине влипли в спинку стоявшей в сарае коляски)”, а ты, мол, “кланяешься доскам”, и т. д. [711]
Проходят еще два года. Смерть не устает косить близких и “по плоти” и “по духу”. Невольно задумываешься над очередностью ее избрания. Писать в Киев становится почти некому, слышать о киевлянах не от кого, а знать хочется все острее… Отчужденность, порожденная упорными личными усилиями, томит и гложет день за днем злее. Неучительно, в простоте сердца заговорить с последним из братьев, Алексеем Семеновичем, нет уменья. Воскрешается переписка с последней сестрой, Наталией.
В письмах к ней можно негодовать и на свою дочь за ее ссору с последней ее теткой, на упорное уклонение этой дочери от переписки с ним самим, ее отцом. Эти письма полны осуждением того, что вообще многие отношения “дервенели”. Наконец, едва не за две недели до смерти, в одном из них говорится, что “десять раз” писал Вере Николаевне об опеке Ольги Васильевны — “но она ни разу не ответила. Теперь я написал Клотильде Даниловне, а потом Андрей, а потом опять я написал Вере, и все понапрасну: ни от кого ответа нет!!” [712]
Нога доразорялись. Лесков хворал и слабел. Обострялись тревоги его за капитал Ольги Васильевны. Он настоятельно просит меня принять опеку над ее тысячами. Зная, как это уязвит Веру, я решительно уклоняюсь. Это вызывает поиски нового надежного опекуна. За две педели до своей кончины он торопливо пишет мне по городской почте:
“7/II, 95. Спб.
Если ты еще не успел отвечать в Киев, то к тому, о чем мы вчера говорили, есть нечто добавить; а если уже написано, то вновь написать.
Пользуясь сегодняшним сравнительным теплом и влагою в воздухе, я съездил в клинику и просил Кат[ерину] Егор[овну] Гульельми [713] поехать в больницу Николая чуд[отворца] и сделать все покупки чтобы экипировать больную. При этом я застал дома и ее мужа и сказал ему об опекунстве, и он на это сейчас же согласился, но как он уезжает оч[ень] надолго в Азию, то опеку принимает сама Катерина Егоровна Гульелъми, — что еще удобнее. А потому в Киеве теперь надо написать рапорт об отказе и послать его сюда, известив о том единовременно нас, чтобы в то же время, как оттуда придет отказ, — здесь г-жа Гульельми подала заявление о ее готовности принять опеку. Этим все и кончится. Но надо непременно, чтобы мы знали, когда будет послан отказ, пот[ому] что иначе опека может назначить казенного опекуна, который мож[ет] б[ыть] человеком неудобным и нежелательным. Все это и надо бы обставить так, чтобы оно произошло в аккуратности, а ты постарайся об этом просить, чем и доставишь мне облегчение.
Н. Л.
Отказаться, разумеется, чем скорее, тем лучше. Билеты, вероятно, надо будет переслать из Киевск[ого] отдел[ения] Г[осударственного] банка прямо в Госуд[арственный] б[анк] в Петербурге. — Вере этого очень не хотелось, и для того она писала мне, будто А[лексей] С[еменович] отказался, а опекуном вызвался быть Тарновский. Я думал, что это давно так и сделано, но положительного ответа никогда не мог добиться” [714].
Смерть Лескова опередила осуществление плана. Деньги безумной в опеке миллионера Тарновского сбереглись до ее смерти в строгой неприкосновенности.
На погребение отца Вера Николаевна не приехала. К весне, после сообщения ей об участии ее в наследовании, она прибыла в Петербург и даже почему-то снова с “Митенькой”.
Полученных в общем в течение двух лет тридцати с лишним тысяч ей хватило лет на пять. И снова нуждаемость. И тут, уже окончательно порвав с мужем, она тянется с дочерью в Петербург: там — не без служебного положения брат Андрей, Суворин, Шубинский, Фаресов, уже все выплативший, но все-таки богатый, А. Ф. Маркс. Есть к кому толкнуться, у кого призанять. В Киеве такие возможности уже исчерпаны до дна. А Литературный фонд разве пустяки! Для кого же он и существует, как не для нуждающихся писательских вдов и дочерей! Ничего этого в Киеве не найти. Да и лучше подальше от двоюродных сестер Крохиных, просящих вернуть взятое у их родителей; от ставшего менее терпеливым и тороватым дяди; ото многих…
В трехлетнее отсутствие мое из Петербурга в конце девяностых годов происходят какие-то “сепаратные” соглашения Ног с душеприказчиком по завещанию Лескова. Дальше появляются обрывочные, неряшливые публикации Фаресовым литературных писем к Лескову, хранившихся, как общее достояние всех трех наследников, у душеприказчика — Захара Андреевича Макшеева.
В 1909 году, за смертью Ольги Васильевны, освобождаются наконец нетерпеливо ожидавшиеся четыре с половиной тысячи рублей. Года три-четыре, при некотором приработке дочери, можно бы пожить поспокойнее. Это противно естеству и вкусам. На шестом десятке лет обуявает жажда повидать Европу, поездки куда признавались непосильными при прежних несравнимых достатках.
Из головокружительных курортов и столиц летят письма и ослепительные открытки, а с ними летят и последние материнские тысячи.
С возвращением в Петербург — неизбежное возвращение к прежней, становящейся раз от разу трудновыполнимее, программе: Литературный фонд и все прочее.
Нужны новые источники.
Судя по сохранившимся письмам, утомленный и в пределах возможности исчерпанный Фаресов проявляет вспыльчивость в раздражение.
Повышение затруднений повышает предприимчивость. Отыскиваются пути к искренно ценившему и серьезно интересовавшемуся литературным наследием Лескова А. А. Измайлову. У него большие литературные связи и несомненная возможность быть действенно полезным. Это не “скорохват” и не “приживалка” в литературе, а горячо любящий ее и преданный ей человек. Естественно, он предполагает знание дочерью своего отца. Я на войне. И он доверчиво слушает дочь.
Дело доходит до “развесистой клюквы”. Вера Николаевна бесстрашно свидетельствует, что старый Лесков, проезжая мимо Александро-Невской лавры, со скорбным умилением думал о том, какой духовный покой и умиротворение он мог бы найти за стенами этой тихой обители…
Это автор-то “Некрещеного попа”, “Мелочей архиерейской жизни”, оглушительных “Полунощников”, потрясовательного “Заячьего ремиза”, смело и стойко идущий “на дьяволов”, на всех князей церкви и всю церковность вообще, вдруг встосковался о монастырях, в которые заклинал сестру Ольгу не пускать гостить летом дочерей к родной их тетке Геннадии.
У Веры Николаевны не хватило мужества сказать литературоведу, что отца она не знает и ничего достоверного дать о нем не может. Отсюда пошли подлинно мемуарные чудесии, досадно снизившие солидность некоторых страниц добросовестной работы Измайлова о Лескове.
Сама она, давно забыв “Бокля”, усердно кланяется “доскам с прилипшими медяками” или без них, ездит к “отцу Иоанну” в Кронштадт, а после его смерти — к какой-то мирской “сестре Варваре” в Любань, куда досужие люди паломничали уже и пешими.
Что мог сказать человек таких влечений об “ересиархе ингерманландском и ладожском”?
ГЛАВА 10. ПОСЛЕДНИЕ ПОЕЗДКИ В КИЕВ
Давно не бывал Лесков на Киевщине! С 1875 года не видал стареющую мать, сестер, братьев. Марья Петровна пеняет сыну: все мы, мол, “под богом ходим”, того гляди и не свидемся, грех забывать ее.
И в самом деле, отчего не посмотреть, как в замужестве живет дочь в своих Буртах, как томится в Канаве у Крохиных мать, каково векует в Ржищеве обойденная долею сестра-монахиня. Решено: лето, может быть и не целиком, но на Украине.
Зима 1878–1880 годов протекает в избытке литературной работы, в уже вполне сложившемся холостяцком порядке.
Но вот, должно быть в марте, неожиданно появляется вторая служанка, Прасковья Андреевна Игнатьева. Это человек во многом другого склада, чем уже успевшая хорошо сжиться с домом, несколько сумрачная, прямодушная Анна Борцевичева. Создается какая-то неясность в распределении прав и обязанностей этих двух лиц.
В самом начале мая 1880 года Лесков внезапно заболевает “невероятным бронхитом”. В письме его к С. Н. Шубинскому раскрывается картина посерьезнее:
“Посылаю вам, уважаемый Сергей Николаевич, беллетристику, в размере 3/4 листа. Она не худа, или по кр[айней] мере — весела. Писал ее не только больной, но почти не живой. Мой 1-й доктор действ[ительно] сплоховал, и когда я, возвратись от Суворина, слег и у меня началась лихорадка с обмороками, то был призван Майер и нашел у меня, каж[ется], воспаление легких. Вот вам и сюрприз. С этим-то — в промежутки между леденящим знобом и 40-градусным жаром и написал вам “Мелочи арх[иерейской] жизни”. Их так любят, что все прочтут не без удовольствия. — Кажется, я был кроток и цензурен.
Вам не грех было бы меня навестить. Знаю, что “некогда”, но страшно скучаю. Преданный вам
Н. Лесков
4 мая.” [715]
Воспаление охватывает оба легких. Положение серьезно. У меня, тринадцатилетнего мальчика, экзаменационная страда. Да я и не имею никакого опыта в уходе за больным. Его умело и безотходно выполняет новая Паша. Свернувшись калачиком на разостланном на полу коврике, она проводит ночи около постели больного.
Во мне растет признание, что она буквально выходила моего отца, и одновременно живет какая-то не определяемая еще ясно предубежденность по отношению к ней.
Рекомендованный Шубинским доктор, Александр Леонтьевич Майер, ставит Лескова на ноги.
К концу мая, хорошо выдержав экзамены, я перехожу в четвертый класс.
Решается, что сперва отправлюсь на Украину я один, а во второй половине лета приедет туда и отец.
Давно мечтая об “отдельном кабинетике” и помня не раз высказывавшееся отцом желание переехать летом в квартиру окнами на улицу, я пускаюсь на поиски квартиры в четыре комнаты. Удается найти сразу две, на пустяки дороже и с обособленными комнатками для меня. Одна оказалась совсем рядом с нами, на площади Спаса преображения, а вторая, особенно заманчивая по своему плану и приближению к моей гимназии, у Цепного моста, у Летнего сада, окнами на Фонтанку и Инженерный замок, во втором этаже, с нарядной старинной парадной лестницей, прямо игрушка. Вечером удалось уговорить отца осмотреть их. Обе ему понравились, особенно вторая, но ни с одной из них он не кончил, объявив мне, к ужасу моему, что вчера видел где-то Рубана, в доме которого мы жили в 1875–1877 годах на Захарьевской, сказавшего ему, что в отстраиваемом им доме в конце Сергиевской, у самого Таврического сада, есть очень хорошая холостяцкая квартира в три комнаты с людской, ванной и т. д.
Так оно и вышло: отец на другой день законтрактовал рубановскую квартиру. Моя игрушка была потеряна! Я опять оставался без “кабинетика” Егорушки из “Явления духа”, да еще и ходить в гимназию мне становилось в два с половиной раза дальше: полных три версты. Зимой выходить надо будет затемно, так как в восемь с половиной производился уже утренний осмотр в строю.
Никакие дипломатические мои шаги и доводы, что сразу после воспаления легких селиться в едва достраиваемый, сыростью дышащий дом крайне опасно, что четвертый этаж будет вызывать мучительную одышку, что место ото всего удаленное и сильно повысит расходы на извозчиков, — ничего не помогло.
Тут же пришло и второе огорчение: мне было поручено объявить Аннушке об ее увольнении. Она встретила смущенно переданное мною заявление с достоинством, как хорошо предвиденное. Молчаливо и спокойно собрала свои убогие пожитки и на другое утро коротко, но тепло простившись со мной, покинула незаслуженно обидевший ее дом, чтобы дальше мыкать горе бесправной и бесприютной “прислугой”. Мне было больно, но я был бессилен. Много лет спустя, прочитав в дневничке дяди Васи о том, “как ведет себя [его старший брат. — А. Л.] с теми, кто ему в данную минуту не нужен” [716], — я вспомнил позабытое, так огорчившее меня в отрочестве происшествие.
Потерпев поражение на всех фронтах и зря потеряв в борьбе за квартиры не меньше недели вакационного времени, я безнадежно махнул на все рукой и торопливо собрался в путь.
В Киев из Петербурга идут ко мне, уже с новоселья, письма, рисующие течение отцовских дней первой половины лета. В некоторых из них ярко сказывается писательский дух их автора и мелькают биографические данные о нем.
“Вот уже пять дней, — стоит в первом из них, — как ты уехал, а я по тебе скучаю. В доме все еще приводим в порядок, — повесили новую лампу, обрядили окно в твоей комнате. Кенарейки гуляют и поют хором, а солиста нет… Работа у меня идет, но должна идти еще прилежнее. Вчера ездили с Витей[717] в “Ливадию” и в “Славянку” [718], — ели твой любимый “немецкий салат” и пили пиво. Витя выпил три огромные кружки и до того напьянился, что пел с немцами, угощал их и потом шатался и всю дорогу шумел. Он кланяется тебе, Вере, дяде Алексею и тете Клёте, которая вчера с пьяных глаз у него сделалась уже “Данилой Клотильдовной”… Непременно побывай у дедушки Алферьева (утром) и у Алексеевых (лучше с тетей Клетей). Помни, что это необходимо, чтобы не делать отношений неприятными для всех родных. Долго же у них не гостюй, чтобы опять не вышло недоразумений” [719].
В следующем, между прочим, писалось:
“26 июня 80, четверг. Спб. Сергиевская, № 56, к. 14.
Дорогой мой хлопчик!
Вчера, возвратясь из Старой Руссы, я нашел дома твое письмо, посланное из Киева 16-го числа. Все, что ты пишешь насчет своих намерений, — мне нравится и кажется основательным. Конечно, тебе лучше всего жить с кузинами и поехать с ними в Тимки. Это лучше и здоровее Киева, да, пожалуй, попей и кумыс. Это чистит кровь. В Каневе, как я и ожидал, тебе будет мало пищи для твоих желаний порезвиться — скверный городишко хуже хорошего, — это я еще раз видел в Руссе, откуда не знал, как выбраться к Таврическому саду [720]. Нового у нас то, что лестницу раскрасили; квартиры уже все заняли, а нам на нашу тумбу Радонежский подарил огромный бюст Пушкина, “на новоселье”… Больше всего прошу тебя, не спорь с спорщиками и не поддавайся на задор. Всей неправды своей правдивостью не исправишь, да и сам не всегда бываешь прав. Преимущественно водись более с дочерьми Клотильды Даниловны: они, говорят, очень милые, и притом старшая тебе почти или даже совсем ровесница. Это тебе самая подходящая и самая добрая компания, и я не только рад, но даже счастлив, что ты сам это так обдумал и решил для тебя… Опиши, что было в Каневе и что такое Тимки? Мне хочется (очень хочется) узнать сравнение твоих впечатлений от деревни южной и деревни северной, в какой ты жил в Череповецком уезде. Гуляй, пей, ешь и набирал силы…” [721]
В посланном на следующий день читалось:
“…Общество твоих кузин тебе самое наилучшее, да и в деревне летом лучше, чем в городе Киеве, который очень пылен. Притом же тебе хорошо узнать настоящую малороссийскую деревню и посравнить ее с севернорусской, какую ты видел в прошлом году, и ты этим пользуйся и мне опиши. Меня ведь это радует, что ты замечаешь и каких набираешь в душу запасов на жизнь. Теперь весна твоей жизни, и запасай цветки полей; а скоро летняя страда усилится, а потом и осень с ее непогодами. Пользуйся — смотри природу и людей разного пошиба и склада. Я очень рад, что мог доставить тебе эту поездку, которая, судя по началу, кажется, обещает быть удачною, т. е. довольно теплою, полною ласки и привета; приятных знакомств и содружеств; разнообразия мест, лиц, обычаев, нравов и впечатлений… Я, думаю, приеду после 15-го июля. написавши работу для “Историч[еского] вестника” [722]. Иначе ее не сделаешь ко времени. Здоровье мое служит, но ноги иногда побаливают… Прасковья наша служит хорошо: сшила мне халат и теперь шьет жилеты…” [723]
И, наконец, в последнем намечается близкое свидание:
“…Светик мой Дронушка! …15-го я выехать не могу, но непременно выеду 20-го, т. е. в воскресенье, с почтовым поездом в 3 часа; а 23-го в среду должен быть в Киеве. Очень, очень рад, что тебе весело и привольно и что тебя любят. Ничего столько я не желал от этого лета, как того, чтобы ты нагулялся и отгулялся вволю. Так и вышло, и я очень счастлив и доволен за тебя. Выехать ранее 20-го я не не хочу, а не могу, — но 20-го выеду непременно (если бог позволит) и желаю застать тебя в Киеве, потому что оттуда мы должны будем предпринять вместе родственные визиты в Ржищев и в Канев, да и бабушка хотела к тому случаю приехать, и у дяди будет обед для всей семьи. Следовательно, и ты должен быть, и потому старайся приехать в Киев к 22-му числу июля. Вместе мы пробудем там еще три недели и поедем в Петербург 16-го августа… А лето-то как летит, — счастливые дни как бегут, и вот издали уже машет сухою рукою опять возвращающаяся школьная страда… Нагуливай, брат, силы и приступай снова мужествовать. Скоро, 12-го июля, в следующую субботу, тебе минет 14 лет. Дай бог тебе здоровья и рассудка, чтобы сознавать условия своей пользы и иметь силу их достигать… Прасковья очень благодарит тебя за приписку и просит написать ее поклон. Она непременно хотела посылать тебе какую-то ложечку, что тебе нравилась, но я не взял. Она служит хорошо, но сама болеет. Теперь шьет тебе теплое одеяло…” [724]
Лесковское племя частично в междоусобном ожесточении, частью в межеумье. В Киеве обновление семьи фактического столпа всего рода сего Алексея Семеновича. В Каневе неуемная оппозиция этой новой семье в лице матери, сестры Ольги, поглуше со стороны зятя Крохина. В Ржищеве монашески осмотрительное выжидание. Бурты полны признательности к тете Клёте. Михаил Семенович тоже уже передался на ее сторону.
Сочетать, согласовать, умиротворить здесь что-нибудь ко всеобщему благу едва ли кому под силу. А снизить тонус настроений надо. Необходимо убедить хотя в бесполезности продления, дальнейшего культивирования распри, всего более болезненной и неделикатной по отношению к всегда всем служившему Алексею Семеновичу.
“О Каневе, — писал мне отец из Петербурга, — твое описание очень грустно: я так и думал, что они не примирились, а притворились… Бедные люди! они, верно, и не думают, что это ничего не стоит и этим ничто не достигается. Притом же к чему это осуждательство, когда все члены семьи — на стороне тети Клёти, и она это получила не как дар за “прекрасные глаза”, а как заслугу за ее милое, доброе и в высшей степени похвальное поведение против всех. Она именно имеет право сказать, что она всех заставила изменить о ней мнение и потом полюбить ее. Чего же им с нее доискиваться? Как это жалко и в то же время недостойно. Значит, они так никогда и не помирятся…” [725]
С таким, во всем верном, представлением о распределении ролей и характере настроений около 23 июля приезжает в Киев “старший в роде”.
Марья Петровна для встречи своего первородного сына и для участия в устраиваемом в его честь общесемейном торжестве — уже здесь. Николаю Семеновичу отводится отдельная квартирка, и приставляется к нему для услуг шустрая “Хашка”. Он может располагать собой, как ему захочется.
В Киеве живет еще кое-кто из старых друзей, и в числе их Ф. А. Терновский. Есть с кем повидаться, перемолвиться. Затем предстоит ряд интересных поездок по Днепру в Канев, Ржищев, в Бурты.
Встречи проходят везде дружественно, родственно-тепло. Давно не видались. Лесков не спешит и уделяет “несравнимой Украине” почти полный месяц.
16 августа мы выезжаем домой. Мать и все, начиная с тети Клёти, берут с Николая Семеновича торжественное обещание больше не скрываться от своих и непременно провести все следующее лето где захочет: в роскошных и просторных Тимках у сестры Клотильды Даниловны — Адели Даниловны Кринской, в Буртах у дочери, в Каневе в тенистом флигельке у сестры. Выбор велик. Прискучит одно — есть чем и сменить.
На таких условиях и расстаемся.
19 августа утром мы сходим в Петербурге с Николаевского вокзала. “Счастливые дни” остались позади. Вплотную подошла “школьная страда” у меня, неизбывная, скудно оплачивавшаяся работа — у отца.
Новая наша квартира стала мне поперек горла. Рабочий мой стол в углу столовой. Сплю я в ней же на диване. Мечты о “кабинетике” увяли. Отдаленность от гимназии гнетет. Учебный год начат в подавленном настроении. Зима в холодной комнате с огромным венецианским окном, смотрящим на север и на виднеющуюся. льдом скованную Неву, тянется беспросветно тоскливо. В гимназии леденящая душу черствость начальства, педантизм преподавателей, суровость военной дисциплины. Хмуро на душе и сердце.
У отца за “Несмертельным Голованом” появляется в рождественском номере “Нового времени” [726] полуфантастический, очень замеченный рассказ “Белый орел”, стоящий в каком-то соотношении с чем-то, может быть, частично и происшедшим когда-то в Пензе, в годы подвигов там пресловутого губернатора Панчулидзева и его достойного соратника, губернского предводителя дворянства А. А. Арапова.
Наступает 1881 год, встреченный нами у моей матери, на Сергиевской же, но на версту ближе к центру, у самой Литейной, рядом с угловым Сергиевским “всей артиллерии” собором.
Скорее бы весна! экзамены! а за ними солнечная Украина! Но выдавать эти желания опасно. Их надо носить, хорошо замкнувшись, в тайниках души. Отец что-то ни разу не обмолвился о лете!
28 января умирает Ф. М. Достоевский. Смерть этого человека вызывает цепь тяжелых воспоминаний, будит сложные чувства, поднимает со дна души много “сметья”. Отношения с покойным с их начала не были ни удобны, ни легки, ни просты, ни дружественны. А дальше стали и открыто враждебны. Но об этом уже говорилось.
Едва пережилось это событие, как со всею неожиданностью на смену ему пришло новое.
После неторопливого воскресного завтрака, около второго часа дня, ввиду мягкой погоды отец пожелал пройтись. Двинулись мы медленной его поступью, с разговорами и остановками, в направлении к Литейной. Не шли, а топтались. При приближении нашем к Воскресенскому проспекту (ныне Чернышевского) в воздухе что-то не очень громко, странно ухнуло. Не обратив на это внимания, мы продолжали путь. Но вот вскоре же снова рвануло.
— Что это, выстрелы? — спросил, остановясь, отец.
— Не похоже: не круглый, а какой-то рваный звук, — с апломбом почти военного человека определил я.
Повременив немного, потекли дальше, шаг от шагу замедляя начинавшую уже утомлять отца ходьбу. Когда таким темпом стали мы, наконец, приближаться к Литейной, во весь опор пронеслись глубокие ковчегообразные сани.
— Что такое! Ведь это протопресвитер Бажанов, — бросил, встрепенувшись, отец.
— Здравия желаем, Николай Семенович! — раздалось справа взволнованное приветствие бросившегося нам навстречу швейцара моей матери. — Изволили слышать? Царя, говорят, убили!
— Где?
— На Екатерининском канале, у Марсова поля. Духовника видели? Сейчас промчали в Зимний.
Сев на первого попавшегося извозчика, мы устремились к месту происшествия.
У так называвшегося Театрального моста, на ответвлении Мойки от канала, стояла пока еще небольшая толпа. Сойдя с извозчика, мы перешли мост. Путь был прегражден оцеплением от Павловского полка, казармы которого находились в нескольких шагах. Остановились. Вскоре я убедился, что военных пропускают дальше. Меня осенило. Шагах в десяти впереди стояло несколько павловских офицеров. Разобравшись по погонам в их чинах, я, не сказав ни слова отцу, внешне сохраняя самообладание, хотя внутренне н волнуясь, размеренным шагом подошел к старшему, отчетливо остановился в трех-четырех шагах от него, одновременно пружинисто вскинув правую руку в белой замшевой перчатке к кепи, и застыл.
— Вы ко мне;
— Так точно, господин капитан.
— Что скажете?
— Господин капитан! разрешите мне провести за оцепление моего отца, члена Ученого комитета Министерства народного просвещения?
Личное право пройти ставилось мною вне сомнения. По серьезным лицам офицеров скользнула улыбка.
— Разрешаю. Пропустить! — несколько громче сказал он, повернув голову к “людям”, как называли тогда в обиходных случаях солдат.
— Покорно благодарю, господин капитан, — отчеканил я и строго по артикулу повернулся кругом.
Проходя мимо этой группы, отец признательно поклонился, а офицеры, все враз, учтиво откозырнули.
За оцеплением было довольно свободно. Убитых и раненых людей и лошадей уже не было. Глазам нашим предстало грязноватое месиво: подтаявший, затоптанный, местами зловеще розоватый снег, обломки и мелкая щепа от разбитой кареты, клочья военной и “вольной” одежды, обуви, осколки стекла, обнаженная и разрытая булыжная мостовая, густые кровавые пятна на ней… Ближайшие дома конюшенного ведомства удивленно смотрели с другой стороны канала пустыми глазницами окон.
Непосредственно на месте происшествия не чувствовалось планомерности в сбережении его во всей неприкосновенности. Все было предоставлено воле божией. Немногочисленная публика расхаживала на полной свободе. Более любопытные копались в кучах самых разнообразных предметов или в снегу. Некоторые брали какие-то лоскуты или обломки “на память”. Одна довольно элегантная дама, взяв сгоряча что-то, оказавшееся, или показавшееся ей, оторванным пальцем, дико вскрикнула и зашаталась. Ее заботливо подхватили и бережно увели.
Наглядевшись на все и многого наслушавшись, мы выбрались назад к Мойке и поехали на Дворцовую площадь. Она была залита народом. Говорили, что царь жив, и, может быть, еще и поправится. Кто верил, кто качал головой.
Ближе к четвертому часу большой желтый императорский штандарт стал медленно сползать с флагштока, стоявшего на фронтоне дворца, против “Александрийского столпа”.
Все стало ясно.
Через минуту-две раздался первый негромкий перезвон с маленькой дворцовой звонницы.
Добравшись до Невского, поехали за последними сведениями в редакцию “Нового времени”, находившуюся тогда над знаменитой булочной Филиппова, угол Невского и Троицкого переулка (ныне ул. Рубинштейна).
Около Гостиного двора с нами поровнялся некий А. А. “Радонежский-Солнечный” [727], как называл Лесков этого окололитературного чиновника, числя его позже уже прямо в “не совсем тщательно отобранном кружке своих знакомых” [728].
— On dit, que l'empereur est mort! [729] — торжественно-конспиративно возвестил нам сей и благочестивый муж, и успешливый чиновник, и предусмотрительный супруг денежной вяземской купчихи.
Но мы это уже знали наверно, как, не сомневаюсь, и наши извозчики, от которых Александр Анемподистович оберегал полишинелевскую тайну глубоко обдуманной французской конспирацией.
Проезжая мимо Аничкова дворца отец спросил:
— Какой полк в карауле?
— Павловский, — отвечал я, взглянув на недвижимых парных часовых у ворот в остроконечных гренадерках.
— Вот то-то! Не вышло бы и все царствование гатчинским?.. — сказал отец.
В “Новом времени” сведения были невелики. Уточняли, что более часа состояние царя допускало надежды, что в одну из лучших минут Бажанов приобщил умиравшего и что, несмотря на все усилия Боткина и других, в три часа тридцать пять минут “дыхание замерло”. Всего больше интересовало всех, что будет дальше: оставит ли новый царь у кормила правления “Лориса” (то есть Лорис-Меликова) и выполнит конституционные намерения своего отца или… Большими надеждами не обольщались.
Начинало смеркаться. Пора было ехать обедать к моей матери.
— Огромной важности событие, — говорил за столом отец. — Сколько будет жертв, сколько самоотверженного мученичества! Но верна ли сама тактика? Устрашает ли, вразумляет ли кого-нибудь террор? Не порождает ли он ожесточение, не вызывает ли усиление реакции, репрессий, мести, по которым расплачивается вся страна? Едва ли уцелеет Лорис… Вернее, все пойдет вспять… Приближенные к необразованному царю — люди невежественные. А тут еще его наставник и учитель, ученейший, умный и злонастроенный Победоносцев! Я его хорошо знаю. Он этому царю мои ранние произведения дарил [730]. Это опасный, закостенелый враг всему живому, передовому. Для в науках не зашедшегося человека, как новый царь, — это кладезь государственной мудрости, оракул… Вот где огромная опасность.
К тому времени прежние отношения Победоносцева и Лескова выродились в неустанно росшую непримиримую вражду [731].
Столица, как и вся страна, жила в домыслах — чего же ждать дальше, каково будет новое царствование, пойдет вперед или попятится, в какую сторону повернется руль государственного корабля? На Лориса надеялись, но каково собственное его положение?
Общественный пульс бился напряженно.
Слухам, версиям, новостям не было конца и меры, причем обычно одни из них коренным образом опровергались другими.
Прогрессивные круги возлагали все надежды на М. Т. Лорис-Меликова, Д. А. Милютина, А. А. Абазу, А. А. Сабурова и немногих других из правящих лиц.
Им ожесточенно противостояли яро реакционно настроенные влиятельные мужи: К. П. Победоносцев, старый граф С. Г. Строганов, львояростный московский оракул М. Н. Катков и прочие, им же несть числа.
С. Н. Шубинский торопит Лескова со статьей на внутриполитическую тему для апрельской книжки “Исторического вестника”. Лесков 12-го числа отвечает:
“Уважаемый Сергей Николаевич!
Два дня писал и все разорвал. Статьи написать не могу, и на меня не рассчитывайте. Я не понимаю, что такое пишут, куда гнут и чего желают. В таком хаосе нечего пытаться говорить правду, а остается одно — почтить делом старинный образ “святого молчания”. Я ничего писать не могу. Всегда вам преданный
Н. Лесков” [732]
Поведение газет, “гнувших” невесть куда, особенно суворинского “Нового времени”, “мерзит” Лескову. Он отдыхает сердцем, слушая о горячем выступлении В. С. Соловьева 13 марта на Высших женских курсах с призывом властей к милосердию по отношению к “первомартовцам”. Совершенным восторгом исполняется он от второго, еще более смелого, уже широко публичного выступления этого философа в зале С.-Петербургского общества взаимного кредита на площади Александрийского театра 28-го числа. На этот раз блестящий молодой ученый высказывался о совершенной несовместимости смертной казни с исповеданием всей страной христианской религии и прямо апеллировал к помилованию фактически уже почти приговоренных подсудимых.
После второй речи Соловьеву были запрещены какие-либо публичные выступления и сам он был отдан под усиленный надзор полиции [733].
Лесков в это время хотя и был с ним знаком по сослужению в Ученом комитете Министерства народного просвещения, но близки они не были еще долго.
3 апреля на Семеновском плацу, ближе к железнодорожному полотну и сажен тридцать — сорок от казарм Семеновского полка, совершена казнь, при выполнении которой огромный и тяжелый Михайлов дважды сорвался, сильно разбившись.
Вечером, выслушав взволнованные рассказы об этом посетителей, Лесков молча раскрыл, видимо с утра вынутую из шкафов, книгу [734] и строго прочитал:
“Когда столкнули[735] скамейку, то тела Пестеля и Каховского остались повисшими; но Рылеев, Муравьев и Бестужев испытали еще одно ужасное страдание. Петли у них не затянулись, они все трое свалились, и упали на ребро опрокинутой скамейки, и больно ушиблись. Муравьев со вздохом заметил: “И этого у нас не сумели сделать”.
— И о сю пору не научились. А практики, кажется, было довольно, — заключил чтение Лесков.
Свыше полутора месяца царит тяжелое межеумье.
Наконец российскому Торквемаде, как называл Победоносцева Лесков, удается убедить напрасно робевшего бывшего своего ученика, что оснований к сколько-нибудь серьезным опасениям нет и можно действовать твердо и уверенно.
29 апреля, минуя занимавшего еще пост министра внутренних дел, но уже не воплощавшего “диктатуры сердца” Лориса, обнародуется написанный Победоносцевым манифест об укреплении самодержавия, в котором выражается решимость “стать бодро на дело правления, с верою в силу и истину самодержавной власти, которую мы призваны утвердить и охранять для блага народного от всяких поползновений”.
Курс был взят круто.
— Мой несчастный дар пророчества не обманул меня, — говорил Лесков. — Я видел, к чему все клонится и чьи силы восторжествуют.
Он покупает кабинетный портрет низведенного с исторической сцены Лориса, вставляет его в рамку и ставит на письменный стол как память о едва не проведенной им реформе государственного управления. Так и простоял этот портрет до кончины писателя [736].
— Да ведь конституцию-то, Николай Семенович, он проводил “куцую”! — не раз язвят его посетители.
— А победоносцевское правление лучше? — гневно отвечал Лесков.
В голове и сердце у него уже зрели дерзкие статьи, вроде: “Великопостные аферы”, “Святительские тени”, “Бродяги духовного чина”, “Райский змей”, “Вечерний звон и другие средства к искоренению разгула и бесстыдства”, “Граф Л. Н. Толстой и Ф. М. Достоевский как ересиархи”, “Золотой век” и т. д. до “Полунощников” и “Заячьего ремиза” или и посейчас еще неопубликованных вещей включительно.
Ничто не ускользало от зоркого глаза “Лампадоносцева”, вызывая жестокие репрессии, нимало, однако, не укрощавшие “еретические” и “потрясовательные” выпады Лескова.
Проходит не один год. Получив от тюрьмоведа Д. А. Линева (Далина) его книжку “Среди отверженных”, Лесков пишет ему:
“Дмитрий Александрович
Я получил от вас любезное письмо и книгу вашего сочинения. Искренно благодарю вас за память и доброе внимание. Книгу вашу я прочитал и сохраню… В осторожных типах самое интересное было бы изобразить палачей… Что это за люди — каковы их нравы, сердца, понимание и пр. и пр. — ничего живо и просто рассказанного о них нет, а м[ежду] тем это оч[ень] любопытные люди. Я давно говорил о них Никитину [737], но он по-видимому, мало о них знает. Неужто “день жизни Фролки” не стоит внимания или стоит его менее чем анекдотические проказы арестантов?.. Меня это оч[ень] удивляет, когда я просматриваю сочинения наших тюрьмоведов. Если кто-нибудь из вас возьмется за описание этих людей, до сих пор не описанных, — тот найдет для себя живое и интересное занятие и несомненно заставит людей обратить внимание на его труд. Я не знаю — почему бы вам не попробовать этим заняться. Желаю вам доброго успеха.
Николай Лесков” [738]
Семь лет не усыпляют памяти писателя. Он не может забыть палача Фролова, “приводившего в исполнение” приговор, вынесенный судом первомартовцам.
После всех больших событий зимы подошла весна. Я перешел в пятый класс, отец поразвязался с первоочередной работой, и мы, по обещанию, отправились на все лето на юг, остановись по пути по делам на недельку в Москве.
Впереди рисовались мне два с половиной месяца блаженства на Украине, под ее стройными тополями, среди приветливых родных. Какое сравнение с петербургскими дачами или, говоря откровенно, с унылым имением Пейкер в глухом Череповецком уезде!
Увы, не все удающееся раз удается вторично. Дни, проведенные отцом с приезда в самом Киеве, заполняются встречами с продолжающими редеть старыми приятелями и знакомцами из не захваченных обуявшим весь, когда-то “милый”, город “банковским направлением”. Посещаются лавра с ее пещерами и “гроботочивыми главами”, Михайловский златоверхий монастырь, Софийский собор. Штудируются производившиеся в них открытие древних фресок, реставрирование иконописи. Навещаются на Подоле библиотека духовной академии при Братском монастыре и сидевшие вокруг него знаменитые букинисты. С грустью слушает Лесков жалобы книгопродавца Оглоблина на Крещатике на мертвенность города и на полное отсутствие в нем интереса к книге. Ездит в Выдубецкий монастырь. Любуется видом с могилы Аскольда и Дира и… быстро начинает исполняться протестом и негодованием. Почти всегда сопровождая отца в его хождениях по всем этим, столь памятным и любезным ему смолоду, местам, я с трепетом наблюдаю, как быстро иссякает ныне его интерес к ним и терпение к пребыванию вообще где-нибудь, кроме “самого умного города в стране” — Петербурга.
Он раздраженно и, может быть, не всегда во всем заслуженно обрушивался даже на местных ревнителей сбора старины, резко высказываясь в статьях с глумливыми заглавиями, вроде “Заметка по хламоведению” [739]. Киев уже не влечет, а только гневит. Не спасают дела и родственные чувства. Старое увядает. Новому расцветать не по летам.
Не трогает и провинциальная идиллия завершения трудового дня в доме брата, хотя в ней есть много напоминающего “круглый семейный стол”, объединяющий персонажи некоторых рассказов писателя.
Вечереет. Алексей Семенович возвращается с вторичного объезда пациенток, надевает холщовый балахон, берет увесистую лейку и принимается за поливку цветов в его небольшом, но прекрасно подобранном и содержащемся садике-цветнике. Жена и Михаил Семенович, тоже не последние цветоводы, охотно помогают. Хлопает калитка. Это заходят ближайшие соседи обменяться “простоплетными” новостями, соображениями. Поливка сменяется подстриганием стеблей, ветвей, укреплением жердочек и т. д.
Многозаботный день уступает место заслуженному отдыху. Хозяйка с террасы зовет к легкой закуске и чаю. Всё полно бережи отношений, мира, тишины.
Чем не буколика? Сколько уюта, теплоты, мягкого речевого “тихоструя”…
Вот, думалось мне, сиротливому подростку, кто умеет собираться за “семейной лампой”, о которой я столько слышал, а позже и читал, но никогда ее не знал в своей успевшей уже развалиться семье.
Вот оно — нестерпимое “болтовство” и “слонянье” людей, которым и сказать-то путаного друг другу нечего, — в эти же минуты, казалось мне, думал мой отец. Нет! Всего этого довольно! Домой, скорей домой, в умный и трезвый город с его редакциями, издательствами, журналами, газетами, литературными “трех-волнениями”, пусть и “терзательными”, но ничем не заменимыми.
По завершении паломничества по всем родным углам и возвращении в Киев вопрос о немедленном отъезде в Петербург ставится ребром. Лескова, по его лексике, уже окончательно “ведет и корчит”. Да! — “кому судьбою…” Хватит! К своему письменному столу, к своей “берлоге”! Семейные лампы хороши только в повестях. В жизни рабочего человека им места нет. Писателю всего ценнее — “большие брани” [740], а не мертвенный покой и невозмутимое благополучие.
Как случилось при вторичном посещении Парижа, и здесь — “уж я не тот” и “уже не вы душе всего дороже”…
Пока все это вызревало, я гостевал у новой своей “тети Адели” в очаровательных Тимках. И вот, при поздравлении меня с днем рождения, в безоблачный день ударяет гром.
“8 июля, среда. Киев.
Поздравляю тебя, мой сын, со днем твоего рождения, с которого ты начинаешь 16-й год твоей жизни. Молю св[ятое] провидение дать тебе разума и доброты. Скучаю я ради тебя ужасно и томлюсь без дела, в то время как другие работают. Лето это считаю пропавшим и для себя, и для тебя, и для общего нашего благосостояния. Это глупость непростительная для нас, особенно для меня, который поддался твоей безумной жадности хохлацкого болтовства и безделия. Пусть хоть это будет тебе наукою вперед, а потерянного уже не воротишь. Надоело, однако, слоняться без пристани по чужим домам и пора спешить к дому и к занятиям, чтобы не совсем одуреть. — 20-го мы будем в Тымки [741], а 23 я желаю уехать в Петербург. Надеюсь, это будет и для тебя не только одною покорностью моей воле, но и твоим желанием. Хочу думать, что и тебе кое-что стало понятно и надоело.
Н. Л.” [742]
Виновник найден или создан. Не все ли равно! Предопределяется немедленный выход. Есть на кого возложить и искупление всех бед, вызванных напрасным свиданием с “иже по плоти”. В результате безо всякой в том нужды, да, пожалуй, и без какой-либо моей вины, у меня отнимается чуть не половина вакационного отдыха в деревне. Горькое вышло поздравление. Тетя Аделя и все новые родственники с Клотильдовой стороны утешают, что отпросят меня у отца до 20 августа. Я знаю, что будет так, как написано.
Через пять дней этому приходит новое подтверждение.
“13 июля, понедельник. Киев.
Мы приедем в Тымки 18-го числа, в субботу; пробудем там до 21-го числа утра, т. е. до вторника. Во вторник все выедем вместе, с тем, чтобы быть к 2 часам дня в Бобровицу, где сходятся курьерские поезда киевский и курский. Тут мы разделимся: дяди поедут в Киев, а мы с тобою в Петербург. Это избавит нас от напрасного проезда взад и вперед 75 верст и от 12 р[ублей] напрасных расходов, всего на один день. К тому же, кажется, уже всего довольно, и пора думать о том, чем питаться и к чему себя готовить. — Еще раз поздравляю тебя со днем твоего рождения и привезу тебе три рубля. Арсенал твой укладываю в ящик и посылаю через контору транспортов в Петербург. Вера завтра приезжает ко мне проститься, а мать твоя уезжает в Строков. Остальное расскажу при свидании.
Отец твой Н. Л.” [743]
Нужно ли говорить, что покорность воле отца не очень сочеталась во мне с личным моим желанием не спешить в душный каменный город.
В субботу в Тимки приезжает отец, Алексей Семенович, Михаил Семенович и старый приятель киевских Лесковых инженерный капитан Запорожский, должно быть сын упоминаемого в “Печерских антиках” комиссариатского “антика” Малой Житомирской улицы, близкий родственник семье Чернышей, да как будто в какой-то степени и Гоголю.
Размещены все мы были скопом в необъятном, в одну комнату, мезонине, где стоял чуть не десяток огромных кроватей для гостей. Самый интерес начинался, когда после хорошего ужина все шли наверх, медленно раздевались, закуривали и начинали делиться воспоминаниями из старого житья, из младших своих лет. Рассказы шли один другого любопытнее, и спать долго никому не хотелось, даже мне.
Иван Степанович Запорожский рассказывал о мальчишеском озорстве, учиненном на его глазах у гроба директора Военно-инженерного училища генерала Ломновского, о киевской старине, о Гоголе. Ничто не пропало даром. В ближайшие же годы появились рассказы Лескова: “Последнее привидение в Инженерном замке” [744], апокрифическое сказание о Гоголе [745], и т. д. Михаил Семенович вспоминал свои орловские кадетские и молодые офицерские годы. Алексей Семенович черпал немало любопытного из своей широкой акушерской практики. Было что послушать вообще, а писателю тем более.
Поездка в Канев принесла преинтересные статейки “Забыта ли Тарасова могила?” [746] и “Вечная память на короткий срок” [747] и вообще по меньшей мере не прошла даром.
Дали ли десятки летних поездок Лескова за границу, под Ригу, на Эзель, на Наровское побережье и на подгородние петербургские дачи такое освежение впечатлений и столько тем, как дали два коротких посещения Украины?
21 июля в двух экипажах, тепло напутствуемые всеми, мы с дядями и Запорожским отправились на станцию Бобровицы. Первым должен был прийти наш поезд, на Курск и Москву. Все немного сомлели в колясках, и разговор не вязался. Я изо всех сил старался не выдать своей удрученности, которая могла быть принята за фронду. Это было опасно.
Подошел поезд. Наскоро перецеловались, обменялись обоюдно малоуверенным “до свидания”, сели. Выглянув из открытого окна вагона, я ясно уловил у моих дядей выражение, которое много лет спустя, уже в положении влиятельного столичного штабного работника, не раз читал на лицах провинциальных командиров при проводах инспектировавших “вверенные им” части: “слава тебе господи, хорошо ли, плохо ли, — пронесло, “отбывает”…”
Короткий свисток “обера”, густой, с оттяжкой, ответ паровоза, — поехали…
Поразобравшись с вещами, отец сел, вздохнул, вынул из небольшого кожаного портсигара папиросу и затянулся во всю душу…
“Сюда я больше не ездок” — говорило дышавшее пришедшим, наконец, удовлетворением его лицо.
Матери, скончавшейся через пять лет, видеть сына больше не пришлось.
Побывка 1881 года явилась своего рода квитом Лескова с Киевом, когда-то таким дорогим и милым. Больше ноги его здесь не было. Другие свидетельства — или легкомысленны, или непостижимы в их вымышленности [748].
Через год Лесков пишет В. М. Бубновой, в замужестве Макшеевой:
“О Киеве говорить не стоит: я это всё давно знаю и твердил 15 лет кряду, но вы, к сожалению, этому не верили. Говорю “к сожалению”, — потому что всего испытать самому нельзя и чужой опыт людей, сколько-нибудь стоящих веры, — всегда выгоден. — Чем далее, тем Киев будет тебе более и более враждебен, и ты должна иметь это в виду, чтобы не сделать иногда роковой ошибки” [749].
Не менее выразительны и строки, писанные в следующем году С. Н. Шубинскому из Шувалова: “Действительно, дача измучила. Это не отдых, а терзание, а в городе тоже несносно. Все нам худо. И в Киев ездить — тоже тяжело. Что и природа без людей, с которыми можно хоть потосковать вместе!” [750]
Наступает новое лето. Я на Украине, отец в Мариенбаде. В одном из писем ко мне, без непосредственного повода, он загорается старыми обидами, возлагая ответственность за гибель нашей семьи на мою мать и обвиняя братьев в малосочувственной ему позиции, негодующе утверждает он, что Алексею Семеновичу “нравилось, что он так хорош”, что он уже тогда говорил о Николае Семеновиче как о человеке “несносного характера”.
От строки к строке, умножая вины братьев, как и моей матери, он доводит себя до раздраженности, погашающей какую-либо объективность в освещении и оценке своей или чужой неправоты.
“Теперь они нечто прозрели, — пишет он, — но для нас это уже не имеет значения. — То, что мы пережили, — было ужасно… Но во мне эта кровная обида не уснула никогда и ни на одно мгновение… Но видеть их мне действительно нестерпимо тяжело. В Киев я не поеду. Это решено” [751].
Оставалось удивляться уже не бесповоротности квита, а тому, как не пришел он еще в семидесятых годах.
Как видно из позднего письма Лескова к сестре Ольге Семеновне, даже в близком ожидании смертной “трубы”, воспринятое и, хотя бы и предвзято, усвоенное сердцем нимало не укрощалось.
“Видеть тебя и Веру я желал бы, — пишет он ей, — но я ведь оч[ень] болен, и дальние поездки мне не по силам. К тому же в Киеве для меня оч[ень] много тяжелого и досадительного, а это мне все уже не годится. Придется — увидимся, а не придется — и так обойдется… Настало время не обременять себя заботами, а “ждать трубы”. Н. Лесков” [752].
Еще позже он заносит в записную книжку:
“Из Талмуда. Одного мудреца спросили: — Кого ты больше любишь, своего друга или своего брата? Он отвечал: — Я склонен больше любить своего брата, который сделается моим другом” [753].
Неплохо звучит. Но… не теплее ли, когда братья простосердечно берегут дружбу, как сумели сберечь ее всю жизнь Алексей и Михаила Лесковы?
ГЛАВА 11. “ВРАГИ ЧЕЛОВЕКУ ДОМАШНИЕ ЕГО”
Чрезвычайно выразительны изменения отношений Лескова с его братьями и сестрами. Более других теплы они были у него в свое время с ближайшим к нему по возрасту Алексеем Семеновичем.
Но вот, уже в 1871 году, и им дается своеобразнейшая иллюстрация в подарочной надписи на “разнохарактерном попурри из пестрых воспоминаний полинявшего человека”, под заглавием “Смех и горе” [754].
“Достолюбезному старшему брату моему, другу и благодетелю Алексею Семеновичу Лескову, врачу, воителю, домовладыке и младопитателю от его младшего брата, бесплодного фантазера, пролетария бездомного и сея книги автора. 7 июля 71 г. Спб.” [755].
Она совсем не так весела, простодушна и шутлива, как может показаться с первого взгляда.
Родившийся 9 июня 1837 года, Алексей Семенович в действительности был на шесть лет моложе дарителя.
В “друге” и особенно в “благодетеле” таится немалая ирония. Дружба между двумя старшими из братьев жила когда-то, но с годами и с жизненным разобщением давно поблекла. Ходовое в былое время, искательно-почтительное наименование “благодетель”, давно выброшенное из жизненного и бытового обихода, отдает скорее смешливым умалением, чем простосердечным признанием многоразличных услуг и заслуг одаряемого.
“Врачевание”, являясь подлинной профессией последнего, помянуто законно.
А почему “воитель”? Алексей Семенович страстно любил лошадей и по своему положению бойко практикующего врача находил необходимым держать хороший выезд. Требовались, значит, и кучера, которые зачастую оказывались хорошими пьяницами, склонными во хмелю к буйству. Приведение их к порядку в некоторых случаях брал на себя сам могучего сложения хозяин, выросший в привычных традициях “доброго старого времени”. Укрощение строптивых производилось из собственных его рук, отрезвляюще и незлобиво.
В начале 1871 года он приобрел приветливый каменный розовый особнячок с мезонином и деревянными флигельками, с изрядным местом и прекрасным садиком, в самом верху Михайловской улицы, под номером семнадцатым, у площади “Присутственных мест”, почти рядом с златоверхим Михайловским монастырем и близко к знаменитому историческому Софийскому собору. Отсюда — “домовладыка”.
Остается еще — “младопитатель”. Но это уже шло изо всего образа жизни и ведения себя этим “старшим братом” по отношению решительно ко всему ближнему, дальнему или и вовсе призрачному родству или свойству, не считаясь с возрастом питаемых и призреваемых.
В области “родственности” два старших брата являлись воплощением двух взаимно противоположных начал.
Алексей Семенович исповедовал центростремительность. К нему лепилось, около него кормилось и ютилось и свое, и женино, и невесть чье и до какого колена родство или свойство. Это был собиратель рода своего и добровольно сопричислявших себя к таковому. Здесь вечно одни приезжали, другие уезжали, третьи прочно селились по флигелькам и мезонинам. И все это всегда безотказно и радушно им “пропитывалось”.
Николай Семенович с гимназических еще лет, год от года неотступнее, действенно являл центробежность. Останавливаясь на распре, жившей в родстве Надсонов и Мамонтовых, он 7 февраля 1887 года писал Алексею Семеновичу: “Зачем это необходимо, чтобы всегда и везде было так, что “враги человеку домашние его”? Из всех слов Христа — эти слова с детства моего казались мне самыми ужасными и безотрадными, пока открылось мне, что составляет полное возмещение этой утраты” [756].
В год поднесения брату книги автору ее исполнилось сорок лет. Он поторопился бросить гимназию. “Старший брат”, родившийся значительно позже, оканчивает ее с золотою медалью. Николай Семенович служит мелким чиновником; бросает службу, меняет ее на коммерческую деятельность; бросает и ее; снова делается чиновником и опять уходит в отставку; наконец к четвертому десятку лет стремительно отдается литературе, которая приносит ему много бед; приобретает в ней имя, не приобретя не только особнячка, но хотя бы сколько-нибудь верно обеспечивающего заработка. Отсюда — во всем “младшее” бытовое положение; отсюда — “бесплодный фантазер” и “пролетарий бездомный”.
“Фантазер” пущен в родство давно. Есть слова, которые, как говорил Лесков, “липнут”.
Блестяще окончивший университет по медицинскому факультету, оставленный секретарем университетской гинекологической клиники, быстро приобретший великолепную докторскую практику в городе, занявший заметное положение в городском самоуправлении, Алексей Семенович со своей стороны начинает признавать в старшем брате своем фантазироватость. Это ему никогда не прощается.
Подчеркнуто, не без горькой усмешки уступает Николай Семенович свое первородство, вынужденный признать первенствующее положение в родстве младшего брата.
Болезненно самолюбивый, не переносит он хотя бы и незлобивой шутки по отношению к себе, не извиняет кажущегося ему колким отзыва о ном. В итоге в письмах и беседах все чаще прорываются с его стороны по отношению к Алексею Семеновичу едкие характеристики и клички.
Это доходит до брата из третьих уст, а вгоряче бросается ему и в лицо. Мало того — эти же термины мелькают в произведениях, воскрешая в памяти киевлян, к кому именно и с какою легкостью они примерялись в жизни.
Начинает злобиться и добродушный брат. Отношения стынут год от года больше. И неудивительно. Даже в самой подносимой книжке, повести “Смех и горе”, в главах 79-й и 82-й пестрят многие из этих слишком хорошо памятных словечек.
“Фантазер”, в свою очередь, так уязвлял Николая Семеновича, что не забывался никогда никому.
С течением лет братья совершенно разобщаются. Младший жалеет, но мирится, свыкается с создавшимся положением. Старший старательно культивирует в себе ощущение пренебреженности, оскорбленности. Прививается потребность засыпать кого только можно, вплоть до юных и робких племянниц, гневом дышащими жалобами на невнимание, а то и прямое презрение, якобы являемые ему братом Алексеем. Эта самоистязующая работа ведется с удивительным усердием.
В отроческие годы я смущенно читал в отцовском письме жесткие строки о всегда таком радушном и ласковом ко мне дяде моем: “Будь он скромен и не обижайся за то, что не все разделяют его любовь к ничтожеству и невежеству, — он все-таки прекрасный человек. Доля его в будущем, без сомнения, не обещает хорошего, но и это он сам устроил опять в пику образованности и возвышенности ума” [757].
Чем дальше, тем оценка становилась безнадежнее и обреченнее.
Так ли сильно был привержен невежеству Алексей Семенович, как и неразлучный с ним всю жизнь Михаил Лесков?
Нечего и говорить — они не жили в той напряженности работы мысли, в той остроте исканий, в которых горел их из нервов сотканный знаменитый брат. Однако по-своему, по провинциально-киевскому, оба они были любознательны, начитаны, выписывали столичные газеты и “толстые” журналы, покупали у Оглоблина на Крещатике последние книги. Конечно, это не был пульс особо требовательного ума, но и в пику уму здесь, пожалуй, ничего не чинилось.
В 1879 году вдовый Алексей Семенович встречает новую избранницу сердца, Клотильду Даниловну.
Мать и сестра Ольга Семеновна яро противятся этому браку. Они свыклись с мыслью, что сын и брат создан для их удобства и не должен иметь личной жизни.
Даже никогда ничего не искавший от брата Михаил Семенович шлет в Петербург не ахти сколь восхищенное по отношению к будущей невестке письмо, отмечая, что “она человек не злой, не умный, не красивый, не молодой, не здоровенный и пр. и пр. “не” — так что ею навряд ли кто поинтересуется, кроме его, а сживутся они на радость себе и никому на горе” [758].
Но матери и сестре это было именно горе.
Нe особенно выиграшное впечатление произвела она и в Петербурге в приезд свой туда с “женихом” в январе 1879 года.
Однако всесильная мягкость характера, удивительная сердечность и готовность служить всем и каждому чем только можно быстро располагают к ней все сердца. Через какие-нибудь полгода даже сам Николай Семенович в письме к брату Алексею от души приветствует ее приход словом, полным добрых надежд и благопожеланий.
Сменяет свое первоначальное равнодушие вскоре и младший из братьев, Михаил Семенович. Духовно согретый, он искренно привязывается и к невестке, и к двум ее девочкам, и даже к дефективному, но, как мать, беспредельно доброму ее сыну. По собственному предсказанию — сжился “на радость себе и никому на горе”.
От петербургского брата идут хвалы и благодарения новому “доброму человеку” за ряд серьезных услуг, которые он успевает оказать па первых же шагах.
В общем же отношения с Киевом все-таки продолжали глохнуть, лишь временами оживляясь при очередной желчной вспышке. Такими и дотянулись они до самой кончины Николая Семеновича.
Много пережив старшего брата, Алексей Семенович скончался 10 декабря 1909 года.
* * *
Следующим братом, родившимся 1 ноября 1841 года в Панине, был Михаил Семенович, единственно определенный на казенный счет в Орловский кадетский корпус. Немного послужив офицером, он перешел в акциз.
Холостяк, он весь век прожил с братом Алексеем, всегда в составе его семьи, в разделении с ним всех его интересов. Жили действительно по-братски. Он искренно горевал о чахотке и смерти первой жены брата, потом двухлетнего сына их Юры и не очень радовался предстоящей новой женитьбе на Болотовой. Но и на этот раз опять слился всею душой со всем составом новой семьи брата, полюбив невестку, лаская ее детей.
До конца семидесятых годов переписка между ним и старшим петербургским братом кое-как велась. В восьмидесятых — следов ее нет. На моих глазах он отдалялся от моего отца, не спрашивал о нем, молча смотрел куда-то мимо, вдаль, когда заходила о нем речь за обеденным или чайным столом.
Рано утром 16 августа 1889 года, лелеявший мысль вскоре выйти с прискучившей разъездной акцизной службой на пенсию и покойно доживать дни в лоне родной ему братниной семьи, Михаил Семенович вышел из своей комнаты, схватился в буфетной обеими руками за большой посудный стол, залил его хлынувшей из горла кровью и упал бездыханным.
Полетели телеграммы. Вспыхивает обмен письмами Петербурга с Киевом и еще много более оживленный с Витебском, где к тому времени жила сестра Ольга Семеновна с мужем Крохиным.
“Сейчас получил из Киева депешу от Алексея, что “брат Миша скончался”. Депеша послана утром сегодня же в 7 часов, сегодня же он и отошел. Вероятно, и вы тоже получили такое же извещение, но на всякий случай пишу вам об этом. Я вчера вспоминал о Мише и имел предчувствие, что его не увижу более в земной оболочке. Сейчас послал Алексею ответ по телеграфу, заключающийся в следующих словах: “Давно был лишен общения с ним, но вчера имел это предчувствие. Усопшему и живущим неизменная любовь”. Дух мой смутился этою вестью, и жаль мне, что брат, к которому я питал живую любовь, уклонялся от общения и довел это до конца. Надо это простить ему и любить его. Он, без всякого сомнения, был человек из рода людей добрых, честных, сострадательных и благородных. В том, что он нас оставил и избегал, — надо искать причин в самих себе. Это еще может на что-нибудь годиться, ибо так можно в себе что-нибудь поправить. Если есть иная жизнь вне земного тела (во что я твердо верю), то дух брата Михайлы был благороден и благожелателен, — следовательно, он пойдет вверх, а не вниз — к лучшему, а не к худшему. “Кончен труд жизни, и он возвратился к богу — отцу духа”. Ему благословение — живущим мир. Искренно желаю, чтобы никто ничего не распытывал и не подал бы ни малейшего подозрения в намерении во что-нибудь вступаться. Надеюсь, что таково же на этот предмет и ваше желание. А потому думаю, что всякие осведомления и расспросы должны быть крайне умеренны, а может быть лучше, если их вовсе не будет, потому что узнавать уже не о чем и не для чего иного, как для одного любопытства. Без сомнения, за Мишею был и досмотр и попечение в доме брата Алексея, который его любил, и все его там любили и имели все причины желать ему здоровья и продления его дней. Я не буду ничего писать, потому что не хочу рисковать быть оставленным без ответа и тем внести в собственную душу чувство обиды, о которой, против желания, будет жить воспоминание. Вы, разумеется, “поступайте как хотите — все равно будете раскаиваться”. Но если не утерпите и станете справляться и что-нибудь узнаете, то сообщите мне только то, что касается болезни и кончины брата. Ни о чем ином мне знать не нужно и не полезно… Продолжайте жить, укрепляя себя во всем, что делает жизнь на земле исполнением воли божией, — “в правде и в истине”.
Н. Лесков” [759]
Напряженность предостережений о непроявлении излишнего любопытства прекрасно характеризовала горделивость писавшего. Она полна опасений об усмотрении в таком любопытстве заинтересованности наследовательского порядка. Это почти брезгливая щепетильность вскоре же нашла себе достаточное оправдание.
Прочитав какой-то, не сохранившийся, ответ от витебского зятя, Лесков пишет ему:
“Любезный друг Петрович!
Пусть так: когда получите известие о Мише — сообщите мне. Думаю — что он умер в доме брата и своею, естественною смертию. Впрочем, депеша была нарочито кратка, а случаи возможны самые непредвидимые. На этот счет, вероятно, были бы пространнее. “Горем” смерть одинокого человека называешь напрасно. Что такое смерть — никому не известно. Во всяком случае в ней есть покой от земной жизни, — а это одно уже есть благо, а не горе. Сказано так: “тяжело умирать, но хорошо умереть”. Умереть, не оставляя беспомощных сирот и общественного дела, которому горел желанием служить для торжества правды и добра, — да это никакое не горе, а это “окончание экзамена”. Миша уже свой экзамен выдержал, а у нас он еще впереди, и сколько ни живи — он все еще впереди будет… Вот это страшно, а “умершие блаженны”. Миша, надеюсь, не оставил ни кого в таком сиротстве, и нечего об этом событии говорить лишнее. Смерть дело общее, окладное, которого избежать никто не может и с которым надо одумываться и свыкаться, а не бояться слуха о смерти. Это постыдно и вредно для взрослого человека, который не может не знать, что все мы смертны и “думы наши за горами, а смерть за плечами”. У китайцев есть много умного и хорошего, чему Грибоедов советовал нам “поучиться у китайцев”, а у них дети дарят родителям гробы и желают “скорой и легкой кончины”. Мне это всегда казалось умно и прекрасно. На что мне “многия лета”? Это чтобы все шлепать губами, чавкать пищу и слушать одни и те же слова глупости и притворство… То ли дело искреннее желание “скорой и легкой кончины”!.. “Окончить тысячи терзаний”. А ты говоришь: “Горе”… Совсем это не горе. Статистика доказывает, что умирает “определенное количество”, — все равно как определенное количество билетов выходит в тираж. Вышел человек в тираж, да и все тут. Ни вдовы, ни сирот, ни общественных дел, которым он был предан… О чем же слова печали? — Я оч[ень] нездоров; вчера в 1 ч. ночи посылал за Бертенсоном. При моей любви к врачам и доверии к их науке — это может тебе сказать, что мне оч[ень] не легко. Обнимаю вас.
Н. Л.”
Итог подведен: жизнь, пройденная без служения широким интересам и задачам общества, — не имеет оправдания.
Проходят две недели. Киев не спешит. Приходится опять писать в Витебск “Петровичу”.
“О смерти брата Михаилы до сих пор еще не знаю никаких подробностей. Жду, что вы об этом доведаетесь и мне напишите. Все-таки хочется знать: как оборвалась его земная жизнь и как он встретил переход в иное положение — сознавал это или нет, оробел или имел мужество подчиниться неминуемому, сохраняя возможное достоинство духа? Пожалуйста, напишите, что вы узнаете.
Я совсем потерял нити общения с Киевом и боюсь отыскивать их концы и начала, чтобы не усиливать в себе тяжелых ощущений. На сих днях меня просили дать рекомендацию к брату Алексею, и я — грешный человек — отказался, ибо боялся, что причиню этим человеку не пользу, а скорее вред” [760].
В середине сентября Алексей Семенович приезжает в Петербург и останавливается у брата. Цель приезда и течение дел явствуют из нового письма Лескова в Витебск: “Теперь справляю Алексеево поручение, состоящее в моем отречении от наследства по оставшемуся имуществу брата Михаила… Денег осталось что-то около 4 1/2 т[ысяч], и не все в наличности. Впрочем, я и не осведомлялся и, как ты знаешь, ранее решал это для себя в том смысле, как оно делается. Унаследовав все, брат Алексей с тем вместе принимает на себя уплату Геннадии той самой суммы, какую давал ей покойный Миша… У брата Ал[ексея] Сем[еновича] есть какая-то записочка руки покойн[ого] Миши, что он желает, чтобы “все” принадлежало Алексею. Стало быть, “все” и надо вручить ему. Геннадия, б[ыть] м[ожет], этим обидится, но я не мог и не должен был поступить иначе, т[ак] к[ак] у Миши сказано: “все Алексею”. С моей стороны всякое самомалейшее вмешательство было бы неуместно, и притом Геннадия будет получать столько же, сколько получала, — стало быть, никакой денежной потери она не претерпевает” [761].
В этот приезд Алексей Семенович пробыл четыре дня как бы на ходу. В Москве его ждала жена, предпочевшая остановиться там у каких-то друзей.
Со стороны создавалось впечатление, что братья боятся сбиться с тона. Темы для бесед подыскивались опасливо, ощупью. Все говорило о том, что оба они жаждут как можно скорее, и может быть, и прочнее прежнего, разобщиться. Мне, двадцатитрехлетнему человеку, посвященному обеими сторонами во все тайны их взаимных неудовольствий, выпадала невеселая и нелегкая задача рассеивать тяготу.
* * *
Жила еще под Киевом сестра Наталия Семеновна, в монашестве Геннадия, родившаяся в Орле 7 июня 1836 года и скончавшаяся 28 апреля 1920 года в Ржищевском монастыре.
Как мы уже знаем, Семен Дмитриевич, не слишком бесповоротно собравшись как-то умирать, внушал старшему своему сыну, Николаю Семеновичу: “Нет жалчее существа, как в сиротстве девица”. Для дочери слова его оказались вещими: жалчее ее в родстве не было — ее невзлюбила мать. Жилось постылому ребенку горше горького. Не обошлось и без такого толчка девочки о кованый сундук разгневанною чем-то матерью, после которого она почти перестала расти и сгорбилась.
Защита не игравшего большой роли в доме отца не смягчала положения. Со смертью его стало и того хуже.
По достижению пятнадцати лет забитая девочка видит единственное спасение в послушничестве. С трудом устраивается в Орловский монастырь. После подвизается в Киевском и, наконец, в Ржищевском, где и кончает свои безрадостные дни, на четверть века пережив своего именитого и “сурьезного” брата.
Какую образованность дали ей родители и какою грамотеей пустили ее на свет божий — убедительно скажут строки из письма ее к Николаю Семеновичу, писанного ею двадцати шести лет. Это уже прямое обвинение не только светски воспитанной матери, но и переводившему Ювенала и Флакка отцу. Завершается оно, буква в букву, так: “если взтумаеш ко мне писат то пиши на почту переяславскую а атуда на ржищевская станцию с пиридачию игумени марий она пиридаст мне ево. я буду утешана твоими писмыми и глядет как на тепе прощай брат чалую тепе крепко и прошу незабыват ничтожную систру тваю послушничу многа грешную наталию Лескову” [762].
Удивляться ли, что весь интерес, смысл и вкус жизни свелся у нее к кипению в котле монастырских дрязг, борьбе мелкого честолюбия, зависти, интриг, поклепов, доносов друг на друга и т. д.
Киевские братья вообще терпели от сестры немалую докуку.
Какая-нибудь беседность с нею не на ржищевские темы — исключалась. Общению в сущности держаться было не на чем. Отношения с всесторонне далеким петербургским братом давно отмерли, переписка не велась.
Но вот, раннею весною 1886 года, по зову жившей тогда в Петербурге Ольги Семеновны Крохиной, сестра Геннадия, конечно с келейницею Феоною, приезжает повидаться, погостить, посмотреть столицу.
По первым вестям в Киев об ее встречах со старшим братом Марья Петровна приходит к безошибочному выводу: “а матя, вижу, плохо сошлась с Николаем Семеновичем” [763].
А последний вскоре же пишет брату Алексею: “Сестра Геннадия, как я вижу ее, — крайне недалека и бестолкова, но при этом упряма и глупо надменна. Убеждения на нее не действуют. Чего нечем понять, того и не поймешь. Лучшего и более достойного, чем соревнование в монастырской сваре, она не видит в жизни” [764].
Личное свидание в 1886 году не только не сблизило, но скорее еще внятнее раскрыло полное разобщение рживщевской сестры с петербургским ее братом. О переписке вопрос и не возникал. Расстались отчужденнее, чем свиделись.
Через два года, услыхав об угрозе нового свидания сестер, Лесков желчно пишет мужу Ольги Семеновны: “Не знаю, для чего они желают развозить свои особы! Что такое они друг другу могут сказать в совет, в поддержку или во вразумление?.. Надоедят друг другу с рыбкой да с маслом [765] — только и всего удовольствия. Пора и сестре Ольге стать посерьезнее и отказаться от привычки “родственную жвачку жевать”. Есть дочери, — они тоже сродни ей приходятся. Надо следить за раскрытием их душевных способностей. И за этим трудно уследить, а не то чтобы монашеское паскудство слушать или родственные пересуды разводить. Всего этого уже было довольно и принесло плод обилен… Хороша беседа с тем, расставшись с кем человек чувствует себя хоть несколько успокоенным в своих сомнениях и вразумленным в своем неведении, но искать беседы, с кем и говорить-то не о чем, — это дело достойное сумасшедшего дома, а не семейного дома. Если уж оч[ень] скучно, — возьми резинку, напиши на ней имена, да и жуй… Вот и все равно, что “родственная жвачка”, с тем преимуществом, что не выйдет новой сплетни и нового ожесточения бабьих сердец, которым Фетюки — мужья с одной и с другой стороны не умеют сказать мудрое и спасительное “цыц!” [766]
* * *
Приговор, вынесенный сестрам, строг. Не мягче он и в отношении братьев.
Надежды преодолеть родственный квит — никакой.
ЧАСТЬ ШЕСТАЯ. НА ПУТИ К МАСТИТОСТИ 1881–1889
Думы окрепли, созрели
В опыте, в бденье, в борьбе;
Новые грани и цели
Жизнь призывала к себе.
ВяземскийГЛАВА 1. ПОКОЙ ПРИ “ЖЕНСТВЕННОМ РАВНОВЕСИИ”
Возвратясь в июле 1881 года из Киева, снова зажили мы у “Тавриды”. Ценя ее тишину и свежесть, Лесков уже никогда не изменял ей.
Настроение отца поднялось, как только поезд помчал его от Киева к “милому северу”, давно вытеснившему из его сердца “сторону южную”.
Меня, школьно замуштрованного, как говорили военные — “зацуканного”, дичившегося юношу, поражала общительность отца, легкость, с которой он находил неисчерпаемые темы для бесед со спутниками любых общественных положений, званий, профессий, лет.
Убеленные сединами, строгие обликом, длиннобородые купцы, корректные сановники в бакенбардах, петушливые военные генералы, духовенные всех иерархических степеней и исповеданий, мелкая приказная сошка и даже начавшие подсаживаться от Москвы армейские лихие юнкера Тверской кавалерийской сморгонской академии, попросту “сморгондии” [767], — все быстро очаровывались богатством опыта и знаний блестящего собеседника.
Так протекло двое с половиной суток тогдашнего пути в почтовом поезде от Киева до Петербурга с пересадками в Курске и Москве.
На Сергиевской нас ожидал безупречный порядок, тишина и ровность домашнего ритма. Мельчайшие требования отца выполнялись, вкусы учитывались, желания угадывались.
В сумме — воплощалось “женственное равновесие”, о котором позже грустно писалось одному родственному лицу со знаменательным заключением: “тогда я становлюсь благодарен за мой покой и предан душою без раздела” [768].
Мелковатая, щуплая, узкогрудая, должно быть чахоточная, с бледным непримечательным, но неглупым лицом, Паша говорила негромко, двигалась бесшумно, работала умело и неустанно. Оценка ее достоинств росла, положение укреплялось. Она это знала. И все-таки в ее лице не виделось удовлетворенности, с него не сходило месяц от месяца становившееся более заметным приглушенное раздумье.
К концу 1881 года она начала часто проситься “со двора”. Это было ново. Замкнутая замкнулась еще крепче.
В первых числах января следующего года она, не без смущения, коротко, но твердо заявила: не взыщите, ухожу, иду замуж.
Декларация была принята как бедствие. Женственное, а с тем и рабочее равновесие шло прахом. Трудно перенося какую бы то ни было неприятность в самом себе, Лесков делился происшедшим почти со всеми без разбора. В адресной его книжке появилась собственноручно сделанная им запись:
“[Паша] Пр. Анд. Игнатьева, Фонтанка, № 132, кв. 281” [769].
Будущий ее муж служил или работал в знаменитой “Экспедиции заготовления государственных бумаг”, где печатались государственные кредитные билеты, то есть бумажные деньги, гербовая и вексельная бумага и т. д. Служащие и квалифицированные рабочие имели там квартиры, неплохо оплачивались, получали медали “За усердие”, при большой выслуге — почетные звания, а то “выходили” даже и на “классный чин”.
В новой жизни все, начиная с служилого положения мужа и казенной квартиры, — устойчиво, складно да ладно. “Со двора” отпрашиваться уже не придется: сама хозяйка! Чего краше.
С годами я отвык вспоминать, по правде сказать, не лишенную замечательных достоинств Пашу. Но вот, почти в канун смерти отца, появился боевой его рассказ с едким и вызывающим заглавием — “Дама и Фефела” [770]. Дан был ему и подзаголовок — “Из литературных воспоминаний”. Последний оказался далеко не отвечающим действительному содержанию этого частию полемического, частию беллетристического и всего менее мемуарного произведения.
В писателе-критике, терпевшем семейные невзгоды, с которых начинается повествование, между строк предлагается видеть Н. И. Соловьева. Но он умер 4 января 1874 года в Москве, куда переселился за несколько лет до своей кончины. Ни о какой “фефеле”, оставшейся с ребенком от него, у нас никогда не поминалось. Во всяком случае, если она и существовала, все противоречило ее появлению в Петербурге. Это надо было обойти. Воспоминания невольно перестроились в свободное творчество. Так было удобнее и для завязки, и для гибкости композиции, и для умножения лиц, положений, событий. В основе была задача противопоставить зловредной “даме” добросердечную, пусть и апокрифичную, “фефелу”. В лепке последней неожиданно я узнал кое-что, взятое от полузабытой уже Паши. Героине дается памятное имя — Праша. Ей присваивается Пашин говор: “слов нет, я примеров воспитания не получала”. Как та — она рассудительна: “во все вдумывалась”, и т. д.
До сильно поспешившей старости жил образ, звучала речь. Захотелось литературно их сберечь, хотя бы придав и другому лицу.
Дальше почти автобиографично рассказывается фактически о собственной болезни по весне 1880 года, о том, как при заботливом уходе сам автор “пошел на поправку”. Отсюда шла глухая благодарность, легко переходившая в преданность душою без раздела. Воспоминания претворялись в трактат на острую и живую тему, поставленную в первых строках рассказа: “какие подруги жизни лучше для литератора — образованные или необразованные”. Любопытно, что почему-то завершается он неожиданным полуисповедным предположением: “Если бы писатель жил долго, я думаю, что он бы ею (Прашею. — А. Л.) наскучил и oнa окончила бы свою жизнь гораздо хуже”.
Так писалось на краю жизни, когда давно прошедшее виделось яснее, освобожденное от отмерших уже личных счетов, когда движения прошлого оценивались шире и мягче.
“Ступает старость осторожно”, — любил цитировать Лесков. И сам он уже иногда пытался “ступать” осторожнее.
“Фефела” — Паша, конечно, не знала концовки рассказа, но в свое время могла “презирать” возможность для себя и такого оборота.
Творческая производительность лет “равновесия” достаточно велика и ценна. Сюда входят: “Несмертельный Голован”, “Белый орел”, неувядаемый “Левша”, “Штопальщик” и другие, менее значительные рассказы. Кроме того, помещена масса газетных статей, статеек и совсем мелких заметок. Поработано.
Без хозяйки, говорит народ, дом сирота. С уходом Паши у нас наступило смутное время. Горничных — домохозяек, экономок в русских городах не было. Напасть на толкового или хорошо подготовленного человека было трудно. Шла непрерывная смена самых разнородных типов, один другого малонадежнее.
Вопрос оставался неразрешенным, дом необслуженным, беспризорным. Как тут было работать! И опять шли жалобы, просьбы ко всем знакомым опытным хозяйкам помочь.
Только к весне 1882 года появилась некая эстонка Кетти Кукк, о которой не избежать говорить, но подальше. Здесь достаточно сказать, что так или иначе она продержалась до октября 1885 года, когда было признано необходимым ее удалить.
Сообщение об этом, полученное мною от отца в Киеве, в своем конце вылилось в полное драматизма воспоминание.
“В доме у меня все продолжаются нестроения… Здоровье мое неважно, усталость — безмерная, радости в жизни никакой; в доме все кое-как и нет даже отдыха. Найти подходящего человека вести дом — даже отчаиваюсь. Что ни перемена — все хуже, и о Паше вспоминаю как о моем ангеле-хранителе. Ничего равного ей не вижу и не знаю — как мне жить в доме моем” [771].
Давняя утрата была так тяжела, что с упоминания о ней начиналась впервые задуманная автобиографическая документация всей жизни, увы, не развернувшаяся.
Во всю эту жизнь от “дам” шли одни “Liebesfieber' ы” [772], оставившие воспоминания, полные отравы. Умиротворяющее, благотворное “женственное равновесие”, к несчастию обидно краткое, пришло раз — с “Фефелой”. Память о ней жила не увядая и как будто “без раздела” с другими образами и представлениями.
ГЛАВА 2. ОТСТАВКА
Нам по службе нет счастья в роду
[773].
Служебный путь Лескова, случайный и прерывистый вначале, в последней его фазе был полон прямого трагикомизма, разрешившегося в конце концов беспримерным апофеозом.
Оппозиционность Лескова год от года росла. Его статьи, как и беллетристические произведения, вызывали негодование властительного Победоносцева [774], “смиренных” членов “святейшего правительствующего синода”, величайшего лицемера и ханжи государственного контролера Т. И. Филиппова и многих других, вроде “картинно пламеневшего” [775] в славянофильстве московского публициста И. С. Аксакова, не говоря уже о всем лагере “львояростного кормчего” влиятельных “Московских ведомостей” и “Русского вестника” М. Н. Каткова.
Почему-то сам он, как это ни странно, точно не задумывался над тем — совместимо ли с занимаемым им служебным положением, год от года становившееся все менее “благонамеренным”, если не “потрясовательным”, направление всей писательской его деятельности? Почему-то не собрался пересмотреть вопрос — нужна ли ему вообще нa что-нибудь эта нудная служба с ее жалким окладом, отнимающая так много рабочего времени от писательства, со всеми ее досаждениями! Что могла она сулить в будущем, если до сих пор приносила только одни уязвления, недвижимо держа его на самой низшей оплаченности в восемьдесят рублей в месяц, не повышая в чинах даже “за выслугу лет”! Шел планомерный измор. Как можно было его не замечать и терпеть! Положение тем более удивительное, что, как уже упоминалось раньше, весь этот “Комитет мерзил” Лескову еще с 1875 года, а ученого председателя его Лесков, опасаясь своей вспыльчивости, почитал за счастье “не видеть” вовсе.
Он хорошо помнил, что при определении его на службу министр обещал просившим за него дать ему должность чиновника особых поручений с окладом в две тысячи рублей в год. Помнил и то, что “по радению” того же председателя, Георгиевского, место это “было передано Авсеенке, жена которого умеет вести дела своего мужа” [776].
Авсеенко, несравнимо превосходя Лескова в области дипломов, далеко не был сравним с ним в одаренности, знании России и ее народа. Ни “Соборян”, ни “Запечатленного ангела”, ни “Очарованного странника” за ним не числилось, и ничего равного им не ожидалось. Не вызывали его произведения и ничьего восхищения и благодарности за них. Но Георгиевский безошибочно понимал, что никто из слишком “высоких”, а с тем и далеких, не станет следить, сколь он фактически ублагоустроит служебно навязанного ему сотрудника с большим литературным именем. Чиновному сердцу безукоризненно выдрессированный и почтительный Авсеенко был, конечно, неизмеримо любезнее журналиста, позволившего себе, кстати сказать, не так давно вышутить внешность будущего председателя Ученого комитета. Сделано это было в статье, посвященной разносу В. П. Авенариуса, под заглавием “Литератор красавец”, где походя был упомянут “недавний случай с сотрудником Московских ведомостей г-м Георгиевским, которого туркофил Лонгворт нарочно поставил лицом к лицу против хорошо сложенного турка и сделал между ними двумя сравнение, довольно невыгодное для России, имевшей, к несчастью, на этот раз своим представителем не бойкого г. Авенариуса, а скромного г. Георгиевского” [777].
В свое время профессиональный фельетонист, критик и полемист едва ли помнил, когда, где, кого и чем задел под горячую руку. Это случалось часто и не казалось сколько-нибудь значительным. Напротив, мнивший себя уже совсем значительной персоной Георгиевский едва ли забыл оцарапавшее его перо.
Обход Лескова обещанным министром местом и окладом знаменовал явное нерасположение к нему Георгиевского. Сразу же ни в чем не оправдывались ожидания, связывавшиеся с возобновлением государственной службы: вместо сколько-нибудь ощутительного укрепления бюджета и выполнения иногда любопытных, живых служебных заданий предстояло полустариковское сидение за рассмотрением книг, издаваемых для народа под нестерпимым гнетом “благочестивого вельможи”, — он же “верующий мирянин”, — явно относившегося к Лескову более чем “странно приимно”.
Вот, например, как он приглашал к себе достаточно известного уже писателя на литературное чтение:
“Милостивый государь,
Николай Семенович!
По странной забывчивости, которая объясняется до некоторой степени вчерашним болезненным моим состоянием, я не просил вас сделать мне честь пожаловать ко мне сегодня часов около девяти:
А. Н. Майков обещал прочитать свой перевод Эсхилова Агамемнона. Искренно преданный
А. Георгиевский
Воскресенье.
3-го марта 1874 г.” [778].
Почти официальное вступительное обращение, напряженно-изощрённая формула “сделать мне честь пожаловать”, весь тон и стиль записки нарочито сух. Невольно начинает казаться, что хозяин первоначально “не просил” к себе приглашаемого не по одной “забывчивости”. Возможно, что А. Н. Майков, ценивший большую литературность Лескова, обмолвился желанием иметь его своим слушателем, после чего пришлось исправлять “забывчивость”. Кого искренно хотели видеть у себя по какому-нибудь случаю, того приглашали за несколько дней. Так почиталось и радушнее и… вежливее.
Оказывалось, что на то же самое чтение и в тот же самый вечер, но, по обычаям дома видимо, в более ранние часы, Лесков был зван и И. А. Гончаровым. Здесь с ним познакомился А. В. Никитенко [779]. Майков, следовательно, читал 3 марта 1874 года свой перевод сперва у Гончарова, а затем и у Георгиевского. Присутствовал ли на втором чтении Лесков — не знаю. Вероятно, да. У Гончарова не засиживались.
С конца 1885 года Лесков стал дарить известному коллекционеру рукописей и документов П.Я. Дашкову кое-какие автографы. В их числе оказалось и приведенное выше письмо, на котором даритель сделал красными чернилами пояснение:
“Георгиевский Александр Иванович. Экс-либерал из Одессы. “Рука Каткова” и “подобие Бисмарка в России” по определению Делянова”.
12 июля 1875 года Лесков писал из Парижа киевской старушке А. Р. Сотничевской о своих знакомых аристократах, через которых надеялся пристроить ее на службу в Петербурге: “Люди, опять повторяю, несравненно приятнейшие, чем всякая провинциальная шушера и чиновная шишмара, взросшая в пресмыкательстве и добивающаяся его от других” [780].
Какую надутую “чиновную шишмару” мысленно видел писавший — ясно.
В связи с крушением в 1877 году семьи знакомство его с Георгиевским сходит на нет. Видаются они теперь исключительно в Комитете, в строго служебной обстановке. Это продолжает ухудшать достаточно сухие отношения.
В марте 1878 года каким-то образом в “Русском вестнике” — после четырехлетней мертвенной паузы — проскальзывает “Ракушанский меламед” Лескова. Затем наступает уже окончательное разобщение с Катковым, закономерно переходящее вскоре в непримиримую вражду.
Георгиевский по-прежнему неизменно близок с “трибуном Страстного бульвара”. Хорошо помня значительность роли последнего в принятии Лескова на службу в Министерство народного просвещения, “рука Каткова” всесторонне учитывает свершившееся изменение расположения фигур на шахматной доске. Сообразуясь с ним, Георгиевский усугубляет холодность к Лескову. Никогда не дышавшие искренностью встречи становятся едва выносимыми. Выгода в создавшемся положении, несомненно, на стороне начальствующего.
Легко представить себе, с каким усердием принялась дальше эта “чиновная шишмара” отравлять жизнь пылкому подчиненному!
Забывая повышать оклад Лескова, Георгиевский не забывал “всучать” ему многотрудные “работки” или щекотливые в разрешении “щетинки”.
Довольно упомянуть хотя бы один доклад Лескова, потребовавший для его заслушания нескольких заседаний: четыре вторника подряд [781]. Тут разбирался всесторонне острый вопрос о допущении к преподаванию в народных школах “закона божия” недуховными лицами. Один такой труд, в шесть печатных листов, изданный по распоряжению министра [782], казалось бы, мог вызвать внимание к работнику, упорно выдерживаемому в “черном теле”. Но у Георгиевского не могло лежать сердце к человеку, чуждому раболепия.
Случалось, и не один раз, что министр, через директора Департамента народного просвещения Э. Г. Брадке, просил Лескова дать свое заключение о какой-нибудь лично заинтересовавшей его книге или по какому-нибудь вопросу, даже выходящему за пределы ведения Министерства народного просвещения. Это тоже не повышало благорасположения ревнивого Георгиевского.
Лесков задыхался. Его возмущало в этом человеке все: напускная церковная религиозность, упоенность своим положением, торжественность его появления на заседаниях Комитета непременно последним, дабы иметь возможность благосклонно принять почтительное приветствие всего состава возглавляемого им органа и, первым опустясь в председательское кресло, милостиво пригласить всех занять свои места. Это пышное “сретание”, повторявшееся каждый вторник, мутило дух уже отвыкшего от многого литератора. Чтобы не вставать при появлении его превосходительства в распахивавшихся курьером дверях, Лесков никогда не садился до появления последнего. Мелочь? Пожалуй. Но ценная для постижения болезненности самолюбие одного и опьяненности своим величием другого.
С своей стороны Лесков точно торопился, чем был в силах, вызывать неудовольствие и самого министра. На исходе первого же года службы под началом Д. А. Толстого, занимавшего одновременно и “пост” обер-прокурора святейшего Синода, в газете князя В. П. Мещерского появилась бесподписная статья Лескова “Об обращениях и совращениях” [783], явно сочувственная противному церкви штундизму и даже раскольничеству, заканчивавшаяся едким указанием на мертвенность работы синодальной книжной лавки. Это не могло нравиться Синоду. В иерархической последовательности чувствует себя задетым и сам обер-прокурор, он же министр просвещения. По его требованию в княжьей газете помещается синодское “опровержение” [784]. Сиятельный редактор и сиятельный же министр, встретясь в “свете”, вероятно одинаково улыбаясь, обменялись несколькими словами о не совсем благоправной статье, но, несомненно, неодинаково отпустили этот грех ее автору. Лесков собирался было возражать на “опровержение”, но увидал, что затею эту надо оставить [785].
“Уважаемый Иван Сергеевич, — пишет он через несколько лег Аксакову. — …Есть в моей жизни такой анекдот: Катков, в заботах обо мне, просил принять меня чиновником особых поручений (2000 р[ублей]), но у меня оказался “мал чин”, т[ак] как я был тогда губернский секретарь в 40 лет. Можно было это обойти назначением к исправлению должности, но решили, что довольно с меня и меньшего жалованья, — назначили членом Уч[еного] комитета (1000 р[ублей]), и с тех пор я здесь 8 лет “в забытьи”, хотя Толстой знал меня хорошо, считая по его словам (Кушелеву и Щербатову) “самым трудолюбивым и способным”, и лично интересовался моими мнениями по делам сторонним (напр[имер], церковным). Наконец, им стало стыдно не давать мне ничего, и Георгиевский лет через пять после моего поступления сделал представление о награде меня за многие полезные труды и “за прекрасное направление, выраженное в романе Некуда…” — чем бы вы думали? — чином надворного советника, т. е. тем, что дается каждому столоначальнику и его помощникам. Мне это испрашивалось в числе 20 человек, назначаемых к особым наградам к новому году. И что, вы думаете, последовало? Толстой на обширном и убедительном докладе Георгиевского надписал “отклонить”, а из числа 20 чиновников одного меня вычеркнул… И это всякий чиновничек Д[епартаменепартамен]та видел и хохотал над тем, “что значит быть автором Некуда”. “После того и деться некуда”, — острил в сатире Минаев… Чем же эта молодежь напоевалась, видя такое усердие меня обидеть, признаться сказать, в таком деле, которое мне и не интересно, п[отому] ч[то] быть или не быть “надв[орным] советником” уже конечно — все равно. — Мне кажется, что это стоит рассказать, и если придет к слову, я против того ничего иметь не буду” [786].
В чем же разгадка такого упорного отклонения даже по существу смехотворного служебного повышения Толстым? Кара за своевольную явку при определении на службу не в ведомственном вицмундире, а в черном фраке? За неприятную статью в “Гражданине”? Допустимо.
Лесков не раз рассказывал о таком случае. На каком-то аристократическом рауте [787] несколько особенно расположенных к нему дам засыпали Толстого упреками за невнимание его к талантливому подчиненному, автору стольких превосходных художественных произведений. Дав им полностью разрядиться, граф с непревзойденной предупредительностью ответил: “О, mesdames, вы несправедливы в ваших обвинениях меня. Как раз напротив: я чрезвычайно ценю ум, опыт, глубину знаний и исключительную даровитость вашего рrоtégé [788] и широко пользуюсь ими для разрешения многих неясных мне вопросов. Этим я перед всеми отличаю исключительную ценность этого удивительного работника. Чего же больше? И, смею вас уверить, пока я министр, это так и останется, без малейшего изменения”.
М. И. Кушелева, Мокринские и другие великосветские болтуньи передавали этот “дискурс” Лескову как нечто очень веселое и грациозное, видимо не постигая цинизма толстовского решения.
Но это из области гостиных causeries [789], по-нашему, пустомельства, а есть ключ к объяснению поразительных незадач Лескова в Министерстве народного просвещения повернее.
“А. Толстой со мною был превосходен… — раскрывал положение дела И. С. Аксакову Лесков, — он меня больного просил, напр[имер]” пробежать вовсе не касавшиеся М[инистерства] н[ародного] п[росвещения] доносы по Синоду, желая моего чутья, “где тут правда”, но он не любил людей с своим мнением” [790].
Высокомерие не прощало самобытности в подчиненных. Успех снискивала “умеренность и аккуратность”, искательная почтительность, прекрасно уживавшаяся в Георгиевских, Марковичах (“Лакевичах”), Авсеенках и “совоспитанных им” с надменностью по отношению к младшим по рангу. Такие продвигались легко и успешно без проявления ими слишком большого усердия. Среди книг, вручавшихся Лескову Георгиевским на разбор, бывали “прехитростные” и во всяком случае требовавшие большого извития мысли и формы в заключениях об их забраковании, особенно если они поступали в Комитет из уже одобривших их учреждений, вроде Цензурного комитета Министерства внутренних дел или духовной цензуры. Довольно двух примеров.
“Святость царского имени”, изделие некоего “крестьянина” Ивана Савченкова. Одно заглавие, казалось, предопределяло и обеспечивало успех книги во всех ведомствах и инстанциях. Лесков дает заключение, выдержанное по редакции, но убийственное для судьбы этой тошнотворно верноподданнической, глубоко невежественной и пошлой стряпни.
“Венок царю — великомученику, государю императору Александру II Благословенному”, сочинение “простолюдина” Г. И. Швецова. Опять — все от первого слова уверенно забронировано от какой-либо критики, и опять полный лесковский разгром.
Кому из высокопосаженных приятны такие “особые мнения” неуемного, в сущности едва принятого, члена Комитета! Тем паче при условии, что одобрение бракуемых им изданий было министром почти обещано каким-нибудь светским ходатаям с весом.
Но за Лесковым в ходе лет накоплялись и другие вины. К несомненному неудовольствию не только “Гундольфа”, но и самого графа, в нарушение традиций строгого охранения от огласки всего ведомственного, он находил, что из протекавшего в комитетских заседаниях “нечто может быть рассказано” в печати и, исходя из такого предположения, делился многим с читателями “Исторического вестника”. Время от времени здесь появлялись статьи, одними своими заглавиями внушавшие подозрения и опасения: “Заказная литература” [791], “Благонамеренная бестактность” [792], “Венок царю великомученику…” [793] и т. д.
В статье с хлестким заглавием “Литературный разновес для народа”, помещенной в распространеннейшей столичной газете, он зло высмеивал чтиво, которым насыщают простолюдинов некие бойкие издательства, в то время как казенное, по распоряжению бывшего министра народного просвещения и обер-прокурора Синода графа Д. А. Толстого закрыло даже свою лавку на Литейной улице, потому что заведовавший ею синодский чиновник “прокинулся на счетах” [794], читай — проворовался.
Это был не первый выпад по адресу недружелюбного в прошлом министра.
Несколько раньше, вслед за его отставкой, в другой столичной газете, в статьях, объединенных названием “Духовный суд” (позже “Епархиальный суд”), Лесков писал: “Лучшие люди в пашем духовенстве, не стоя на стороне графа Д. А. Толстого, — который сделал” кажется, все от него зависевшее, чтобы его не укоряли в искании людского расположения, — в этом деле глубоко сожалели о том, как далеко зашла враждебность, какую возбудил против себя этот сановник, говоря о котором, можно было припомнить пословицу: “гнул, не парил — сломал, не тужил” [795].
Полгода спустя в рассказе “Дворянский бунт в Добрынском приходе” говорилось еще сильнее: “Успеху статьи высокопреосвященного Агафангела, конечно, много содействовало то, что она метила против нынешнего московского митрополита Макария Булгакова и тогдашнего “полномочного мирянина” св[ятейшего] Синода Д. А. Толстого, который умел стяжать себе общее нерасположение всей страны, но по св[ятейшему] Синоду едва ли не сделал, в ряду ошибок, много хорошего” [796].
Каждое новое отражение в печати чего-нибудь, связанного с должностной осведомленностью или с личными счетами по службе, раздражало министерских зубров. Морщился уже и когда-то так расположенный к Лескову, сейчас министр народного просвещения, И. Д. Делянов.
А из-под пера писателя шли статьи одна другой еретичнее и “потрясовательнее” [797].
В январе 1883 года, заведомым усердием Лескова, в нескольких номерах “Нового времени” проходит смелая и прелюбопытнейшая статья его киевского друга профессора Ф. А. Терновского — “Столетний юбилей митрополита Филарета” [798]. Ею с беспощадной убедительностью развенчивался, едва не приобщенный к лику святых, прославленный митрополит московский Филарет “мудрый”, Дроздов, из глаз которого, “яко мнилось”, “семь умов светит” [799], автор знаменитого православного катехизиса, жестокосердный крепостник, выведенный Лесковым, в частности, в лице архиерея, оправдывающего жестокое телесное наказание благородного рядового Постникова в рассказе “Человек на часах”.
Статья вызывает взрыв гнева всех высших правителей и одновременно самое горячее сочувствие ее автору и признание ее исторической правды и ценности в кругах свободомыслящих читателей.
В том же году указом Синода, но распоряжению Победоносцева, Терновский лишается кафедры в Киевской духовной академии. Грозит ему, в заботах о нем Делянова, потеря кафедры н в Киевском университете, но смерть его весной 1884 года опережает это мероприятие. Возмущены даже славянофилы.
10 ноября 1884 года Лесков писал И. С. Аксакову: “Не знаю, в милости я у вас ныне или в немилости? Со дня памяти митрополита Филарета Дроздова вы лишили меня “Руси”. Гнев оный ощущаю, Филарета же чтить не могу” [800].
Едва верховные властители стали оправляться от ошеломившего их выступления Терновского, как новая разрывная бомба — пространная статья Лескова с говорящим за себя заглавием: “Поповская чехарда и приходская прихоть” [801].
В конце этого дерзкого вызова тому, в чем виделись сила и крепость царства Александра III, в примечании давалось якобы редакционное, но явно лесковское, многозначительное обещание: “В одной из ближайших книжек “Исторического вестника” мы дадим полный абрис вероотступнических заблуждений графа Л. Толстого и Достоевского в соответствии с идеями призвавшего их к ответу г. К. Леонтьева”.
Терпение власть предержащих иссякает. Создается мощный враждебный Лескову комплот. В него входят по преимуществу былые чтители его таланта, когда-то пленявшего их своими произведениями. Во главе становится Победоносцев. Единодушны с ним министр внутренних дел, Д. А. Толстой, которому сейчас уже есть за что лично посчитаться с язвительным журналистом, затем государственный контролер Т. И. Филиппов, про которого Лесков позже смастерит эпиграмму:
Хоть у гроба у господня
Он зовется эпитроп.
Но для нас он мерзкий сводня,
Льстец презренный и холоп
[802].
Обложение, угрожающее затянуться мертвою петлей.
По служебной подведомственности Делянову поручается обуздать и направить литературную деятельность состоящего в его министерстве писателя или, еще лучше, просто спустить с рук вредного служащего.
Помнящий прежние дружеские отношения Делянов мнется, не решается пригласить Лескова для щекотливого увещания. Ждет случая. Невдолге последний создается. 8 февраля 1883 года, в один из вторников, день обычных заседаний Комитета, выпадает встреча в прохладном круглом зале.
Вот как, под свежим еще впечатлением, описал ее сам Лесков одному из немногих своих друзей, Ф. А. Терновскому: “Дело рассказывать долго нечего: оно произошло 9-го [803] февраля — с глазу на глаз у Дел[яно]ва, который все просил “не сердиться”, что “он сам ничего”, что “все давления со вне”. Сателлиты этого лакея говорили по городу (Хрущов, Егорьевский и Авсеенко), будто “давление” идет даже от самого государя, но это, конечно, круглая ложь. Давителями оказались Лампадоносцев и Тертий [804]. Прошения не подал и на просьбу “упомянуть” о прошении — не согласился. Я сказал: “Этого я позволить не могу и буду жаловаться”. Я хотел вынудить их не скрываться и достиг этого. Не огорчен я нисколько, но рассержен был очень и говорил прямо и сказал много горькой правды. На вопрос: “Зачем вам такое увольнение” — я ответил: “Для некролога” и ушел. О “Комаре” [805] не было и помина, а приводились “Мелочи архиерейской жизни”, Дневник Исмайлова[806] и “Чехарда”, в которой мутили не факты, а выводы об уничтожении выборного начала в духовенстве. Припоминалось и сочувствие Голубинскому[807], и намекалось на вашу статью о Филарете. Доходило до того, что я просил развить: слышу ли это от министра или от частного человека? Он отвечал: “И как от министра и как от вашего знакомого”. Я сказал, что это мне не удобно, ибо, по-моему, “до министра это не касается, а моим знакомым я не мешаю иметь любое мнение и за собою удерживаю то же”. И вот вообще все в этом роде. “Новости”, выгораживая меня от Марковича, дали мне возможность написать “объяснение”, которое вы, чай, читали. — Сочувствие добрых и умных людей меня утешало. Вообще таковые находят, что я “защитил достоинство, не согласясь упомянуть о прошении”. Не знаю, как вы об этом посудите. Я просто поступил по неодолимому чувству гадливости, которая мутила мою душу во время его подлого и пошлого разговора, — и теперь не сожалею нимало. Мне было бы нестерпимо, если бы я поступил иначе, — и более я ничего не хочу знать… Если вас может интересовать сочувствие и отношение ко мне товарищей, то прилагаю вам записочку Аполлона Майкова (которую прошу и возвратить) — увидите, чтó это была за комедия и что сочувствие умных людей со мною. Посетили меня и сочувствовали и председатель судебной палаты Кони и светила адвокатуры, — словом, думаю, что я, значит, поступил как надо. Но я вас люблю, вам верю и хочу слышать ваше мнение. Вы знаете: это нужно человеку раздосадованному. Других дурных чувств у меня, слава богу, нет, и “ближние мои” это те, кто понимает дело умом и сердцем” [808].
Месяц спустя после события Лесков мог вполне искренно писать, что он “не огорчен нисколько”, но в первые дни переносил происшедшее со всею остротой своего “нервического” темперамента.
Сон был потерян. Презреть обиду не было уменья.
Он охотно рассказывал навещавшим его паломникам о своем разговоре с рыхло-крупным “Меделяновым”, удовлетворенно слушал соболезнования, выражение сочувствия, возмущения, признания верности и достоинства его поведения на протяжении всей интермедии.
Это несколько успокаивало. Однако острая взвинченность нервов и никогда не покидавшая истерия приносили свои плоды.
В частности, в темных проемах дверей или в их фрамугах начала появляться “серая женщина”. Неясная в очертаниях, она недвижно смотрела на поддававшегося галлюцинированию расстроенного Лескова. Вечерами отец выбегал из кабинета ко мне, а ночью, захватив подушку, покидал свою спальню, чтобы лечь на мой диван, за моей спиной.
Пришлось посоветоваться со старинным знакомым, медицинским светилом Э. Э. Эйхвальдом. Тот рекомендовал взять четыре-пять сотен рублей и поехать на недельку-другую в Москву “рассеяться”.
Спасибо, раньше, чем Лесков собрался последовать этому указанию, наступило облегчение, сник серый призрак, возвратилась способность спокойнее все воспринимать, работать, написать Терновскому. Все начинало входить в норму.
Но в первые дни говорилось много, подробно, образно, с живой инсценировкой и с точным приведением еще хорошо звучавших в собственных ушах заключительных реплик. Эти рассказы прочно запомнились и мною.
Быстро оценив праздность диалога, Лесков в один из сочтенных им удобным моментов встал с намерением уйти. Встал и Делянов, продолжая какие-то оправдательные изъяснения мотивов своих предложений, в которых завяз. Почему-то оба они оказались около одного из окон. Вынужденный слушать его, Лесков “нетерпяче” сел на подоконник, предоставив министру завершать свои декларации стоя, Делянов, проявляя великолепную чиновничью выдержку, что называется, вида не подал и продолжал уговоры. Убедясь, наконец, в неодолимости собеседника, категорически запрещавшего упоминания в увольнительном приказе о прошении об отставке, Делянов растерянно восклицает:
— Но зачем же это вам нужно, Николай Семенович, непременно без прошения-то?
Полный презрения к беспомощно запутавшемуся министру и гордый сознанием себя представителем родной литературы, писатель сходит с подоконника и жестко бросает представителю власти:
— Нужно! Хотя бы для не-кро-ло-гов: моего… и вашего!
С этим он покидает опешившего сановника и, не заходя в Комитет, оставляет негостеприимное министерство.
Час назад запинавшийся перед Лесковым и, может быть, действительно лично не искавший разрыва с ним, Делянов теперь уже озлоблен.
Впрочем, когда-нибудь да надо было кончить с этим. Лишь бы не нашумели газетчики или литературщики. Но в сущности и это не страшно.
Бюрократическая машина приходит в движение. 9 февраля подписывается “определение” министра народного просвещения за № 1878, коим совершается “отчисление” Лескова от министерства, а 21 февраля приказом министра за № 2 оно закрепляется. Все просто: и без прошения, и без объяснения причин, и без рубля пенсии за двадцать лет “беспорочной” службы отечеству, но с великодушным упоминанием, что права на получение знака об этой беспорочности в случае соответственной выслуги в будущем — не лишается.
Туго затянувшийся узел разрублен. Но дело этим не кончается. 1 марта в № 29 “Церковно-общественного вестника”, в разделе “Внутренние известия”, среди назначений по Министерству народного просвещения стоит: “отчислен” от министерства “коллежский секретарь Лесков (известный наш писатель) с 9-го февраля”.
Это первая ласточка.
8 марта в № 63 сравнительно либеральной газете “Новости и биржевая газета” появляется редакционная заметка об увольнении известного писателя Н. С. Лескова “без прошения от службы”. Говорится, что известие это “произвело некоторую сенсацию, что “решительность формы” увольнения “не могла не удивить”. Далее вспоминалось, что лет десять назад “тоже был уволен” Б. Маркович [809], “но тогда были на то и достаточно веские поводы. Что же касается увольнения г. Лескова, то оно просто является каким-то вопросом и во многих возбуждает недоумение”.
Лесков получает возможность гласно разъяснить “недоумение” открытым письмом, помещаемым этою же газетой в ее № 65 от 10 марта 1883 года:
“Малозначительное событие — оставление мною службы в ученом комитете Министерства народного просвещения неожиданно для меня сделалось предметом разнообразных толков, которые частию проникли в печать и, как у вас сказано, “возбуждают недоумение”, которое я имею побуждение разъяснить.
Я отчислен от министерства “без прошения” по причинам, лежащим совершенно вне моей служебной деятельности, которая в течение десяти лет признавалась полезною и никогда не привлекала мне никакого упрека и ни одного замечания при трех министрах: графе Д. Л. Толстом, А. А. Сабурове и бароне Николаи. — Для оставления службы мне не вменено никакой вины, а указана только “несовместимость” моих литературных занятий с службою.
Ничего более.
В том, что я отчислен не по прошению, а “без прошения”, тоже нет ничего меня порочащего или обидного. Мне была предоставлена полная возможность отчислиться по той форме, которая обыкновенно признается удобнейшею, но я сам предпочел ту, которая, на мой взгляд, более верна истинному ходу дела.
Этим, я надеюсь, могут быть разъяснены все “недоумения” моих ближних и дальних друзей и недругов”.
С “Новостей” перепечатывает это письмо, без всякого комментария, “Новое время” в № 2526 от 11 марта, а 12 марта московская небольшая, очень распространенная в провинции “Газета А. Гатцука” в № 10.
Лесков вздохнул: ни передернуть с причиной отставки, ни втихомолку сбыть ее с рук — не удалось. Дело приобрело широкую огласку, вынесено на суд общественности. Предотвратить или пресечь это не оказалось возможным. Неудовольствие верхов было значительно, но бесплодно.
Не стремясь к тому, гонители оказали неоценимую услугу изгнанному.
На пятом десятке лет Лесков снова, как когда-то на исходе третьего, но уже бесповоротно, целиком отдается литературе, не отнимая у нее ни часа времени на служебные доклады, заключения, записки. Выходило по пословице: “не бывать бы счастью, да несчастье помогло”. Да еще и как вовремя раскрепостив писателя — за одиннадцать лет до смерти.
Совершенно неожиданным для очень многих явился язвительный отклик на открытое письмо Лескова “Вестника Европы” [810]. Оставаясь безразличным к самоуправству, учиненному в отношении писателя с большим уже именем, К. К. Арсеньев наивно, но и зло недоумевал — как это, мол, человек, удовлетворявший своей работой подряд трех министров, не сумел поладить с четвертым. Получилось вроде косвенного оправдания административного произвола при одновременном наведении какой-то тени на потерпевшего от него.
Прочитав статью, Лесков пишет ответ и шлет его 11 апреля С. Н. Шубинскому при строках:
“Наконец я дочитался до того, что мне было нужно для ответа на каверзу Арсеньева в “Вестнике Европы”. Посылаю вам мою заметку с покорнейшею просьбою непременно поставить ее в майскую книгу. По существу она касается сколько меня, столько же “Исторического вестника”. — Если же вы не можете ее напечатать в майской книге, то возвратите ее немедленно: я ее напечатаю в “Новостях” [811].
Она попадает в майскую книжку “Исторического вестника”, в раздел “Заметки и поправки”, под заглавием: “Коварный прием (два слова “Вестнику Европы”)”. Эпиграф взывает к справедливости: “Аще зле глаголах, свидетельствуй о зле; аще же добре, что мя биеши”. В автографе зачеркнуто другое заглавие — “Каверзный прием” [812].
Заметка завершается словами: “Но притягивать человека [813] к ответственности за то, в чем он не виноват, — это совсем недостойно литературной критики и напоминает коварные приемы “крючков двуконечных” [814].
Этим схватка оказалась поконченной.
Любопытно, как, в противовес претендовавшему на особый либерализм “Вестнику”, отнесся к событию духовный журнал. И притом тогда, когда оно уже начинало призабываться.
После различных общих сведений о писателе в конце не без сочувствия говорилось: “Само собой разумеется, что для такого писателя, как Н. С. Лесков, подобная неудача не может иметь существенного значения, но как карьерный случай по службе — это едва ли не единичный в своем роде пример, который в другой раз, может быть, и не повторится” [815].
А вот суворинский “Исторический вестник”, не на шутку смущенный гневом на Лескова сильных мира, потерял охоту дать в “ближайших” или в дальнейших своих книжках обещанный “абрис” вероотступничества Л. Толстого с Достоевским и правоверия К. Леонтьева.
Лесков не сдался и, в разнобивку, жертвуя целостностью впечатления, а может быть, и глубиной разработки темы, но выигрывая в расширении аудитории, перенес борьбу с К. Леонтьевым и могущественными его покровителями на газетные столбцы, горячо ратуя там за Льва Толстого, как, в известной мере, и за Достоевского [816].
Еще десять лет спустя, уже больной и старый, он взволнованно писал М. О. Меньшикову по поводу статьи последнего “Работа совести” [817], ошибочно объединяя на этот раз “Поповскую чехарду” с одновременно писавшейся и оповещавшейся в примечании к “Чехарде” полуготовой своей статьей, фактически появившейся в “Новостях” только 1 апреля того же года, и отсюда ведя свое “изгнание из Министерства народного просвещения” [818].
Навсегда расставшись с Деляновым, Лесков не забывает его в приятельских беседах, письмах и даже в некоторых статьях, увы, не узренных автором в печати, а частию никем и до сего дня.
Бесхитростная издательница детского журнала “Игрушечка” А. Н. Толиверова додумалась однажды, еще в дни службы писателя, искать через него протекции у Делянова. Лесков отклонил просьбу.
Два года после отставки писателя она просит его чем-то поддержать вступающую на стезю искусства какую-то совершенно неизвестную ему девицу. Письмо ее застает его не в духе. У меня идут волнующие отца серьезнейшие экзамены. Просительница попадает, как говорится в пьесе Сухово-Кобылина “Дело”, в “содовую”. Ответ получен потрясающий.
“Немилосердная Александра Николаевна!
Прошу меня извинить, что я отослал к вам обратно ваше письмо и билет. Это было в такую пору, когда я ничего не видел от боли головы — после целой ночи чтения. Я не мог читать весь вчерашний день — и письмо ваше мне читал Дрожжин. Билет мне ни на что не нужен. Просить за девушку, начинающую свою артистическую карьеру исканием реклам и протекций, я ни для кого и ни за что не стану. Я удивляюсь — как вы меня странно и обидно понимаете и как вы понимаете чистоту поведения в литературе?! Раз вы меня просили о ходатайстве у Д[е]л[яно]ва, к которому я питаю только презрение, вполне им заслуженное; а теперь вы желаете меня употребить на послуги девчонке, которая столь шустра, что начинает с устройства себе реклам… Если бы я мог что-либо сделать ей с чистою совестью, то это я бы хотел ей как можно чувствительнее повредить за ее пакостное направление, столь гадкое в ее молодые годы… Она мне не внушает ничего, кроме отвращения и презрения. И так, конечно, отнесется к ней всякий опрятный в душе человек. Прошу вас на меня никогда не смотреть как на пешку, которую можно двинуть без разбора во всякий след. Это всегда будет ошибочно и мне несносно. — Притом, — позвольте вам сказать, — вы не только крайне неосмотрительны, но вы также женщина и без сострадания к людям, имеющим право на сострадание… — Вы забываете, что я сам — человек, и человек замученный, — и что мне нет отдыха с своими собственными делами; — что я кроме того — отец и переживаю в это самое время роковые минуты в жизни самого близкого мне существа… Где же ваше сердоболие?.. Что мне такое до какой-то девчонки и до ее пустых происков?
Н.Л.” [819]
Чувствуется большая раздраженность. По применявшемуся иногда Лесковым выражению, она, видимо, “подняла со дна души все сметьё”, включив в него и Делянова.
20 июля 1887 года умирает Катков.
Живущий на даче на острове Эзеле, в Аренсбурге, Лесков сейчас же пишет умопомрачительную статейку, без заглавия, начинающуюся вводными выражениями из церковных песнопений: “Память праведного с похвалами”, “Честна пред господом смерть преподобных его”. В тексте ее говорится: “Сказалась его смерть и на работе железных дорог: из Петербурга в осиротелую Москву не потяготился проехать сам И. Д. Делянов, чтобы над свежей могилой лейб-пистуна и гоф-вдохновителя министра народного просвещения пролить слезу благодарности от муз российского Парнаса… Что вспомнит каждый из литературного наследия Каткова при первом же упоминании его имени? Конечно, классицизм, ради торжества которого он не только создал на весьма сомнительное приношение Полякова особый Лицей, столь же далекий от афинского, насколько П. М. Леонтьев был не похож на Аристотеля, как бы на этот счет ни судил осиротелый ныне А. И. Георгиевский, но и всю русскую школу от Ревеля до Иркутска и Оренбурга под единообразный колер греко-римского тонкословия…”
Заканчивался этот поразительный некролог строками: “Кто по намекам наших беглых строк с достаточной ясностью сообразил, во что России обошлись и еще обойдутся в грядущем эти дары Каткова, тот, пожалуй, подумает, что И. Д. Делянов обнаружил бы большую прозорливость, если бы смирно сидел на паперти армянской церкви и не утруждал себя поездкой в Москву на похороны Каткова”.
Статья была послана в “Новое время” и даже набрана там в отсутствие Суворина, но, попав ему на глаза, была, по его приказанию, разобрана. Увидеть свет ей привелось только через 47 лет [820].
В 1893 году Лесков заносит в записную книжку:
“На смерть М. Н. Каткова
Убогого царя советник и учитель,
Архистратиг седой шпионов и попов
И всякой подлости ревнивый охранитель,
Скончался Михаил Никифорыч Катков.
Над свежей падалью отребий олимпийских
Слился со всех сторон в гармонию одну
Немолчный плач и вопль мерзавцев всероссийских,
Гнетущих бедную и рабскую страну.
Танеев” [821]
Неделю спустя после смерти Каткова обычно осторожная “Петербургская газета”, или, как ее называли, “Петербургская сплетница”, неожиданно отшлепала у себя [822], во всей его первородной красе и греховности, циркуляр, до которого доспел “пастух российского юношества Меделянов” [823], прозванный затем “деляновским циркуляром о кухаркиных сыновьях” [824].
Неизбежная для Лескова “взрывная реакция” торопит его сейчас же откликнуться в печати на новый подвиг всемерно тормозящего просвещение министра. Статья получает сперва название “Гимназический крах”, а затем переименовывается в “Темнеющий берег” [825].
Пометив статью 16 августа и возвратясь 20-го числа на зимовку в Петербург, Лесков тщетно пробует напечатать ее. Уклонился от публикации и мудро-осмотрительный Суворин, которому Лесков писал: “Ивана Делянова с его последним распоряжением, кажется, дозволяется сажать на кол тою частию тела, которая у него более прочих пострадала” [826].
Так до сих пор, кроме статьи К. И. Чуковского[827] к 50-летию этого циркуляра, другие материалы о нем остаются под спудом.
Через три года случайную заметку свою “Об одной прачке” [828], воспитавшей на свои рабочие крохи дочку умершей своей соседки по больничной койке, Лесков закончил обращением, направленным прямо в глаз измыслителям пресловутого циркуляра и равноценных ему просветительных мероприятий: “Не может ли этот случай послужить сколько-нибудь к смягчению и умилостивлению тех людей, которым противно видеть стремление прачек и кухарок к образованию своих детей? Не совестно ли им будет предоставить этой прачке превосходить их в великодушии и заботе о просвещении чужих беспомощных детей?”
Наконец во второй половине 1893 года, прожив лето на Усть-Наровском побережье в Меррекюле, Лесков написал едкий опус “Административная грация (Zahme Dressur… в жандармской аранжировке)”, пролежавший втуне сорок один год [829].
Помянулось здесь, как “рукою властною” современный “просветитель России” Делянов изверг из Московского университета профессоров Муромцева и Ковалевского, и сопоставилось это, с каким безупречным макиавеллизмом был “убран” один неприятный властям профессор Харьковского университета, И. И. Дитятин, при графе Дмитрии Андреевиче Толстом.
Заключался рассказ выводом, что для воскрешения “грации прежних административных приемов по устранению нежелательных деятелей необходимо, чтобы новый “пастух русской молодежи”, то есть Делянов, “или сам обладал умом графа Дмитрия, или обращался к таким умным и тонким помощникам”, каким в свое время явился для Толстого “владыка”, выученик знаменитого митрополита московского Филарета Дроздова, харьковский архиерей Савва Тихомиров.
Нечего и говорить, что и это произведение не могло найти себе места в печати при жизни его автора.
Незадолго до своей отставки Лесков распоряжением Делянова был назначен членом комиссии для рассмотрения сочинений, представленных на соискание премий имени Петра Великого. Председатель ее, А. Н. Майков, просил его закончить взятый на себя урок по этой “Петровской” комиссии. За труды вознаграждение здесь не предусматривалось, а участникам в них выдавалась специальная золотая медаль.
31 марта Лесков пишет Шубинскому: “Доклад Майкову исполнил то же с усердием, а золотую медаль, мне следующую, просил прямо из министерства отослать в Орловскую гимназию на помощь беднейшему ученику, отправляющемуся в университет” [830].
Когда-то, в начале государственной его службы, он получил темно-бронзовую медаль “в память войны 1853–1856 годов”. Теперь ему предстояло получить золотую.
О первой он давным-давно забыл и у себя ее не имел. Вторую не взял вовсе.
7 апреля он пишет директору Орловской гимназии о предоставлении ее в распоряжение этой гимназии. 21 апреля, видимо начитанный и благовоспитанный, педагог благодарит известного русского писателя и орловского уроженца за дар, извиняясь, что во вступительной формуле письма мог означать только его имя, так как отчества не знает. Сам он, подвизаясь на воспитательном поприще в Орле с 1850-х годов и зная поголовно весь город, не затруднил себя спросить об этом “отчестве” Страховых, или послать в очень близкий к его гимназии “Дом дворянства”, или заглянуть в адрес-календарь. Стоит ли такого внимания писатель, уволенный со службы без прошения из того же просвещенского министерства! Есть с кем стесняться! Сам он того гляди уже статский советник, давно застыдившийся носившейся им смолоду украинской фамилии Гриценко, переустроившийся в великорусского А. В. Гриценкова. Все учтено. Пусть изгнанный вольнодумный литератор и Гриценково копыто знает.
За год до смерти учительно укажет Лесков сотоварищу по перу: “Ужасно видеть: для чего ты всегда гадишь роль “резонера”, в которой выводишь себя!.. “И истину царям с улыбкой говорить” уже стало пошло; а у тебя твой резонер уж и с исправником зубы точит… Неужто ты думаешь, что при каком-нибудь уважении к себе неглупый человек станет хихикать с таким исправником, а не поставит его просто на пристойное от себя расстояние… “Истины” пора говорить без улыбок, и это можно, а еще более — это должно. Писатель не должен подавать пример отсталости в отношениях” [831].
В вопросе о подчинении чему-либо своей литературной деятельности Лесков был непреклонен. С этим было покончено после разрыва со ставшим ему ненавистным Катковым и “литераторами московского уряда мыслей”.
Гневно, не задумываясь, отверг он всякий компромисс с приспешниками Победоносцева.
“Без улыбки” высказал, что сказать почел должным, твердо поставив своего министра “на пристойное от себя расстояние”.
“Писатель не должен подавать пример отсталости в отношениях” — оставил он заповедь “роду грядущему” и сам дал образец ее выполнения.
ГЛАВА 3. ВЛЕЧЕНИЕ К ИСКУССТВАМ И ЛЮБОВЬ К КНИГЕ
“Во мне всегда была — не знаю, счастливая или несчастная, — слабость увлекаться тем или другим родом искусства. Так я пристращался к иконописи, к народному песнотворчеству, к врачеванию, к реставраторству и пр[очему]. Думалось мне, что это уже и прошло, но я ошибся: разговоры с вами и ваша книга о “драгоценных камнях” потянули меня на новые увлечения, и как из всякого такого увлечения я всегда стремился создать нечто “образное”, то и теперь со мною случилось то же самое. Мне неотразимо хочется написать суеверно-фантастический рассказ, который бы держался на страсти к драгоценным камням и на соединении с этой страстью веры в их таинственное влияние. Я это и начал и озаглавил повесть “Огненный гранат” и эпиграфом взял пять строчек из вашей книги, а характер лица заимствовал из черт, какие видел и наблюдал летом в Праге между семействами гранатных торговцев. Но чувствую, что мне недостает знакомства со старинными суеверными взглядами на камни, и хотел бы знать какие-нибудь истории из каменной торговли… — Укажите мне (и поскорее, пока горит охота) — где и что именно я могу прочитать полезное, в моих беллетристических целях, о камнях вообще и о пиропах в особенности. Пиропов я насмотрелся вволю и красоты их понял, усвоил и возлюбил, так что мне писать хочется, но надо бы не наврать вздора”, — писал Лесков к автору книги “Драгоценные камни” М. И. Пыляеву [832], приступая к созданию рассказа “Александрит. Натуральный факт в мистическом освещении” [833].
В приведенных строках весь Лесков: у него всегда “горит охота” ко всем искусствам. Его властно захватывает интерес к театру к живописи, к иконописи, к скульптуре, к гранению драгоценных камней, к хитростям и точности часового мастерства.
Увлечение театром не ограничивается личным участием в Киеве в благотворительно-любительских спектаклях, устраивавшихся “всевластной киевской княгиней” Е. А. Васильчиковой, или неустанным посещением его в Москве и Петербурге. Оно находит себе во второй половине шестидесятых и первой семидесятых годов яркое выражение в хватких, а то и задорных отчетно-критических статьях. Ими пестрят газеты и журналы ряда лет [834]. В них иной раз колко задеваются такие крупные фигуры, как В. В. Самойлов и даже А. Н. Островский, о которых позже, уже в период собственной “маститости”, не говорится иначе, как с искренним уважением и признанием.
Пишет он преимущественно о драматическом театре, но однажды заговорил даже о парижской опереточной диве Гортензии Шнейдер, беллетристически озаглавил порядочного размера статью — “Вавилонская дочь” [835].
Даже уже отойдя от театрального рецензирования, Лесков, вероятно в конце семидесятых или в восьмидесятых годах, набросал, но не закончил статейку, названную им “Эволюция дикости” [836]. В ней он возмущался неуважением к заслугам старых людей вообще и знаменитого баса О. А. Петрова в частности. Он обвинял газетных рецензентов в стараниях выжить престарелого артиста со сцены, не дав этим сбыться заветной его мечте — пропеть партию Сусанина триста раз. Двести девяносто шесть или семь им уже были исполнены. Старику, с которым Глинка “ставил” эту оперу, не дали допеть его коронную партию каких-нибудь три-четыре раза!
Вот в чем дикость нравов и обычая, атавизм съедания своих стариков.
Под веселую руку Лесков, не обладавший слухом, как и голосом, охотно напевал арию Фарлафа “Близок уж час торжества моего…”, а иногда даже имитировал знаменитое контральто Е. А. Лавровскую, исполняя арию Вани “Как ма-а-ать убили у ма-а-алого птенца…”, по подмеченной у нее привычке часто поднимая и опуская веки [837].
Чтобы почувствовать, как любил он свою, русскую народную песню, довольно прочитать трогательный эпиграф: “Ивушка, ивушка, ракитовый кусток!”, поставленный им к своему “опыту крестьянского романа”, а еще больше, как поют там сами “песельники”, горькие герои этого трагического романа, Настя и Степан, и как искренно восхищается их голосами и исполнением слушающий их простой крестьянский люд [838].
В столице Лесков был не только в драматическом, но и в оперном театре свой человек; усердно слушает русскую и итальянскую оперу, всех мировых знаменитостей, делится, под свежим впечатлением, образными заключениями.
“Патти, — пишет он однажды Щебальскому, — слышать невозможно: кресла доходят до 80 р., а по 20 р. платят стоять в проходах. Раек весь абонирован, и “стойка” в оркестре закуплена. Я, однако, с помощью знакомых артистов пробираюсь за кулисы и слушаю в сообществе театральных плотников. Патти, по-моему, несравненно хуже Лукки. Лукка — душа и человеческий голос, а Патти — это инструмент, правда, страшный, звучный и прекрасный, но совершенно бездушный. У нее в горле точно серебряные струны, а одухотворения звука — никакого” [839].
К балету, можно сказать, Лесков был довольно холоден: он не учит, а только тешит пресыщенных.
— Но ведь красиво! — говорили ему Величко, Толиверова, В. Бибиков и другие “эстеты”.
— Красиво, но и только! Театр — школа! А что вынесут массы поучительного из балета, насмотревшись, как кто-то “резвой ножкой ножку бьет”? Сравните публику на “Корсаре”, “Пахите” и прочем, хотя бы в них блистала легендарная Эльслер или позднейшая Цукки! И на “Грозе”, “Горькой судьбине”, не говоря уже о “Горе от ума” или “Ревизоре”! А самый зал? В балете только и видишь “золотую молодежь”, великих князей в левой полуприкрытой ложе бенуара, разжившихся дельцов, биржевиков и вообще беззастенчивых господ вроде Скальковского. Нечего сказать — общество! “Сосьете”!
Из всех видов искусств превыше всего Лесков всю жизнь любил, ценил и постигал, конечно, искусство речи. Оно должно художественно, образно и верно отражать и выражать все другие искусства, помогать их чувствовать, понимать, любить и постигать… Отсюда — писательская ответственность за каждое слово, страх — “не наврать бы вздора!”
В самые последние свои дни, радуясь успехам, выпадавшим на долю литературной молодежи, он не без тревоги писал: “Одна беда, что наши молодые писатели не заботятся подготовиться и проверить то, о чем они пишут. Посмотрите на такого великого художника, как Лев Николаевич Толстой. Он может дать отчет в каждой написанной им строке — и ошибкам там нет места” [840].
И сам он, задумывая какое-нибудь произведение или статью, прежде всего старательно изучал все, относящееся к теме предстоящей работы.
Об его увлечении иконописью уже говорено выше. О живописном изображении некоторых “ликов” дан им знатоцкий трактат во вступительной части рассказа “На краю света”. В нем из целой галлереи “Христов” предпочтен всем прочим “мужиковатый”, у которого “взгляд прям и прост”, “в лике есть выражение, но нет страстей”, изображение которого “просто — до невозможности желать простейшего в искусстве; черты чуть слегка означены, а впечатление полно” [841].
О кабинете Лескова верхоглядными репортерами и посетителями наговорено много.
“Одной из характерных черт Лескова была его страстная любовь к собиранию разных редкостных автографов, образков, старинных гравюр, в особенности богословских книг, карманных часов, статуэток и пр. и пр… Весь кабинет Лескова был убран всевозможными редкостями, и Лесков часто говорил, что ему было бы решительно невозможно работать в “комнате с голыми стенами”. Так вспоминал некий книгоиздательский работник [842].
К счастию, тут же он поместил и фотоснимки кабинета Лескова, каким он был в середине восьмидесятых годов. Сами о себе говорят, хорошо видные на них, три стула из более чем скромной “гарнитуры”, покрытый простенькой скатертью легонький ломберный столик, такая же складная табуреточка, крытое зеленым репсом кресло перед небольшим письменным столом с низенькой, малоудобной для работы лампой. Обыденны висящие в багетных рамках фотогравюры, фототипии, фотографии. В подавляющем большинстве незамечательны масляные картины всевозможных сюжетов, от высоко-религиозных до буднично-жанровых или изображающих малоприглядных домашних животных, от довольно значительных до самых мелких по размеру, от немногих ласкающих глаз до сильно преобладающих жестких, сухих, ничем не радующих. Словом: два-три полотна неплохой кисти; одна маленькая, на кронштейне над зеленым репсовым креслом, очаровательная итальянская терракота — низверженный с небес дьявол, подарок А. Н. Толиверовой; недурная акварель — амуры на дельфинах — копия с Ватто работы княгини М. Н. Щербатовой; две-три неплохие миниатюры и множество вещей и полотен, не представлявших никакого интереса. К последним относятся два бисквита — сфинксы на черных деревянных кронштейнах; два неприятного жесткого письма Христа, под которыми малоожиданно висят свинья и теленок под Теньера; дальше горничная с военным писарем и кухарка с прославленным “кумом пожарным”, висящие под снимком с богоматери Васнецова; безжизненный пейзажик под Клевера и т. д. до персидских и турецких ружей, подаренных мне в 1881 году киевскими моими дядями. За рабочим креслом шаткая стоячая этажерка. Правее правого окна, в глубоком углу, едва видна кагарлыкская богоматерь в темной дубовой раме с висящей на трех цепочках медной лампадкой.
Это самая выигрышная, главенствующая стена кабинета до 1885 года. Немногим отличался кабинет и на двух последних квартирах Лескова.
Общее впечатление: случаен и пестр.
И мудрено ли? Хозяин больших затрат обегал, а бродя по Апраксину или Александровскому рынкам, брал что приглянется, не отягощая бюджет. Это отвечало и заповеди, которой сам он держался всю жизнь, заповедывая ее и всем современным ему литературным собратьям:
“Единственное средство писателю остаться честным в наше трудное и нелитературное время — это быть скромным в своих требованиях к жизни… В России литературою деньги добываются трудно, и кому надо много — тому приходится и писать много: направо и налево, не разбирая ни направления, ни редакций, ничего, лишь бы больше выработать на жизнь. Все это приводит к невольному многописанию, которое отражается гибельно как на содержании и продуманности произведений, так и на их форме” [843].
А россказни шли одни других краше, создавая легенды, которые всегда живучее правды.
При посещении своем 23 апреля 1892 года тяжело страдавшего грудной жабой Лескова Ф. Ф. Фидлер не без экзальтации развернул вынесенные впечатления:
“С изумлением я остановился в его кабинете, не зная, куда взглянуть. Я находился в целом музее раритетов… направо и налево, сверху донизу — старые картины и старинные образа, оружия, статуэтки, часы-куранты, фолианты и всевозможные курьезы, вплоть до “зуба Бориса и Глеба” (как шутил Атава Терпигорев) — в таком изобилии и в такой нагроможденности, что взор терялся, не будучи в состоянии фиксировать отдельные предметы…” [844]
Несомненно, семь лет не прошли даром. Появился громадный дубовый письменный стол, на нем тяжелые английские часы с курантами, другие — “кабинетные”, в кожаном футляре, “с репетиром”, и третьи — на небольшом книжном шкафу, посмирнее. Позавесились плотнее и стены, но в основе дело не изменилось и в антикварности невесть сколь усугубилось и повысилось.
Но вот через два с небольшим года в газетном интервью по-репортерски старается В. В. Протопопов:
“В комнате масса книг, картин, статуэток… Книги грудами навалены на трех больших столах. Стены завешены картинами почти вплотную; между ними резко выделяется огромный образ мадонны работы Боровиковского… На письменном столе, за которым занимается г. Лесков, стоят портреты Л. Н. Толстого, Гладстона и силуэт ручной работы Бема “Оскорбленная Нинетта”. Силуэт изображает молодую, стройную женщину, в отчаянии простирающую руки к небу… Около чернильницы, прислоненная к стене, красуется большая акварель—копия с Ватто “Амуры на дельфинах…” [845]
Записной театрал, автор “Черных воронов” и усердный посетитель кафе-шантанов, он не слыхал, что Лесков давно пишет повесть из римской жизни времен Тиберия под заглавием “Оскорбленная Нетэта” [846]. Его слуху были ближе “Нинетты”. Не подозревал он и того, что автор силуэта не мужчина, а достаточно известная художница Елизавета Меркурьевна Бем.
И в довершении всего еще одна, для Лескова уже посмертная, но, к сожалению, не менее прежних вспененная, реляция:
“В… комнате, увешанной со всех сторон разностильными картинами, портретами, с оригинальным образом Мадонны посреди стены, с бесчисленными тикающими и поющими старинными часами и массой характерных и редкостных безделушек на столах, — все было по-прежнему: пестро и шумно” [847].
Спасибо, враждебная преувеличениям и недостоверностям, наблюдательная, много видевшая и во многом разбиравшаяся, Л. И. Веселитская с достойной хвалы простотой рассказала о первом посещении ею Лескова.
Вот несколько ее строк: “Я вошла в комнату, которая сразу показалась мне похожей на Лескова. — Пестрая, яркая, своеобразная… Мерно тикают часы. Их что-то много, и, тикая, они переговариваются между собой… Я оглядывала комнату. И казалось мне, что стены ее говорят: “Пожито, попито, поработано, почитано, пописано. Пора и отдохнуть”. И часы всякого вида и размера мирно поддакивали: “да, пора, пора, пора…” А птица в клетке задорно и резко кричала: “Повоюем еще, черт возьми…”
Я оглядывала комнату… На стене, за спиной сидящего за большим столом, среди картин и портретов висело узкое и длинное, совершенно необыкновенное, видимо старинное, изображение божьей матери…
Над [848] столом висело изображение Христа, тоже старинного письма… Справа лежали два Евангелия, слева Платон, Марк Аврелий и Спиноза” [849].
Все метко и верно: напряженность убранства, излишек (но не нелепая “бесчисленность”) часов, обилие богородиц, спасов, иногда в странном соседстве и чередовании с картинами резко иного характера. Все такое, какое было.
Доверяясь упрочившимся все же легендам, плохо осведомленный некомпетентными лицами, лично никогда не бывший у Лескова, А. А. Измайлов ближе к 1920 году писал: “Хорош лесковский кабинет на Фурштатской, с богоматерью Боровиковского, бронзовым Толстым и дорогим Буддой…”
Бронзового Толстого не было. Был небольшой гипсовый “пишущий Толстой”, небольшой же гипсовый же его бюст, да в марте 1894 года появился еще настольный бюст Льва Николаевича, отлитый из металлической композиции, на дубовом постаменте, подаренный издателем “Всемирного обозрения” С. Е. Добродеевым. Изделие было массовое. Лесков, поблагодарив дарителя, посоветовал ему послать в Ясную Поляну два таких бюста дочерям Толстого — “помогающим графу в его работах” [850].
Не было и дорогого Будды. Был маленький из кости, стандартной резьбы. Были маленькие же, не имевшие художественного значения, золоченые бюстики Гете и Сократа, на мраморных розеточках.
Хорош был, с детских лет мне памятный, пожелтевший от времени и от того ставший теплее и выразительнее, мраморный, хорошего резца, бюст Сенеки, сантиметров в 25–30. Его-то, конечно не забывая и терракоты во прах поверженного Сатаны, усердные ценители и обозреватели “раритетов” Лескова и не приметили… Не разобрали в висевшем около дверей в переднюю “оружии” непонятно заблудившихся в кабинете двух солдатских ружей Пибоди и Генри-Винчестера — трофеи войны 1877–1878 годов, подарок мне моих киевских дядей.
Один узрел “Нинетту”, другой учуял в комнате даже что-то “шумное”… Недаром Лесков не жаловал скорописных репортеров.
Одна Веселитская по-писательски дала почувствовать и кабинет, и прошлое и настоящее его хозяина, и неукротимость творческого его темперамента.
Обстановка спальни, она же и библиотека, состояла из беспретенциозных книжных шкафов, комода красного дерева, маленькой ширмочки, не поместившегося в кабинете дивана от “гарнитуры”, двух столиков с лекарствами и божнички с небольшим, но недурным иконописным собранием. Картин здесь совсем не было, если не считать хромолитографии “Пашущий Толстой”, нескольких портретиков родных и портрета “яснополянского мудреца” почти над изголовьем старого, с шестидесятых годов жившего в доме дивана с ящиками, на котором последние двенадцать лет спал и скончался хозяин.
О столовой говорить уже и совсем нечего: стенная лампа над узким и маленьким раздвижным столом, гнутые и от времени шаткие стулья, крошечный дубовый полубуфетик, ясеневый, с жесткими сиденьем и спинкой, узенький диван, служивший мне пристанищем в мои приезды из подгородних казарм. На стенах что-нибудь уж невтерпеж наскучившее или вытесненное чем-нибудь новым из кабинета.
В старину жилые комнаты именовались покоями. Прекрасное, величавое, толковое слово. Где и поразмыслить и поработать, как не “в покое”.
Сплошная завешанность и заставленность, не делая кабинета Лескова “музеем”, снижала его покойность. Хотелось простоты, неотягощенности, воздуха… Вспоминался бесхитростный кабинет шестидесятых — семидесятых годов, окнами на “Тавриду”. В нем всего было меньше, а покоя больше. Гимназиста Шляпкина он не подавил и не испугал [851].
С ослаблением многих невзгод, особенно с 1880 года, усилились поездки на Апраксин двор и в Ново-Александровский рынок.
Лично для меня это представляло огромную опасность. Поездки на эти толкучки зачастую совершались в воскресенье. Вместо того, чтобы сбегать на Симеоновский каток на Фонтанке или к товарищу или просто побыть единственный день в неделании дома, я должен был сопровождать отца. Я ненавидел эти “дворы”, их “проезды” или холодные каменные “галлереи”. В своей “ветром подбитой”, “на рыбьем меху” кадетской шинелишке, в холодных носках и кожаных башмаках, без неразрешавшихся калош, в холодных белых замшевых перчатках, я застывал уже, пока извозчик трусцой довозил нас от Таврического сада до угла Садовой улицы и Вознесенского (ныне Майорова) проспекта. Это составляло хороших четыре версты и требовало около сорока минут езды. Начинался медленный, от витринки к витринке, от лавчонки к лавчонке, обход обеих бесконечных галерей. От их каменных плит и тянувших отовсюду сквозняков я коченел, в то же время поневоле изучая стили-ампир, Луи Кенз (15-й) или Сез (16-й), физиономии исторических людей на миниатюрах, разницу между бра, канделябрами и часами из бронзы или из “композиционного” сплава, мебель — жакоб, буль, маркетри, и т. д… до слез.
Купив какой-то тяжелый, яркой расцветки, по краям слегка обитый, изразец, или неохватный холст на подрамнике, или отбившийся от пары увесистый позеленелый канделябр, уже близко к сумеркам мы выходили на улицу и, поторговавшись, садились на “ваньку” и тряслись “восвояси”.
Уставшего и, несмотря на шубу и меховые боты, может быть немного остудившегося отца уже покидала антикварная увлеченность, а с нею и благодушие. С этим для меня росла новая опасность: придерживая левой рукой лежащую сверх полости у меня на коленях покупку, я должен был правой “козырять” встречным офицерам, но делать это так, чтобы они были удовлетворены, а отцу не показалось, что я щеголяю четкостью артикула и впадаю в “пошлую военную лихость”. Я сидел как на иголках, лавируя между обеими дипломатическими трудностями.
Наконец мы дома! На время обеда покупка ставится на ближайший стол или стул так, чтобы все время могла быть обозреваема. Мне даются пространные пояснения высокого ее художественного интереса, сравнительно ничтожной цены, за которую она продана “невежественным” торговцем. Горничной отдается приказ приготовить горячую воду, мыло, щетки, нашатырь для бронзы или керамики, скипидар, вату и губку для масляных картин.
Лесков оставил коротенькое, технически точное, слегка мистическое и трогательное описание, как при такой “акции” начинают шевелиться тона и очертания картин, а большое горе смывает лак с очень гордых лиц человеческих.
“Отец мой имел страсть к старым картинам. Он их много разыскивал и портил: он сам их размывал и покрывал новым лаком. Мы, бывало, смотрим, как он привезет откуда-нибудь старую картину, и видим темноватую, ровную поверхность, на которой все колера как-то мирно стушевались и сгладились во что-то неразборчивое, но гармоническое, под слоем потемневшего лака; но вот по этой картине проехала губка, напитанная скипидаром; остеклившийся лак пошел сворачиваться, проползли грязные потоки, и все тона той же самой картины зашевелились, изменились и, кажется, пришли в беспорядок. Она стала как будто не она — именно потому, что теперь-то она и являлась глазам сама собою, как есть, без лакировки, которая ее усмиряла и сглаживала. И мне вспомнилось, как мы раз, подражая отцу, хотели так же умыть циферблат на часах в нашей детской и, к ужасу своему, увидели, что изображенный на нем Бука с корзинкою, в которой сидели непослушные дети, вдруг потерял свои очертания и на место очень храброго лица являл что-то в высшей степени двусмысленное и смешное.
Нечто такое же являет собою в несчастии и живой человек, даже самообладающий, а иногда и гордый. Горе срывает с него лак, и вдруг всем становятся видны его пожухлые тона и давно прорвавшиеся до грунта трещины” [852].
Тотчас после десерта начиналась реставрация, а вслед за ней вставал сложный вопрос о месте, где стоять и особенно где висеть новому приобретению. Выясняется необходимость серьезной перегруппировки уже висящего и стоящего. Поневоле нечто, давно занимавшее то или иное положение в кабинете, безжалостно переводится “из гвардии в гарнизон”, то есть в темноватую и холодноватую столовую.
Появляются кухонная табуретка, отвес, складной аршин, молоток, гвозди. Действую я. Отец отходит на несколько шагов для лучшей оценки пропорции “просветов” между теснящимися рамами, полочками, этажерками и всем прочим.
“Чуть повыше… Влево… Постой! Да, слегка вниз. Еще, еще! Неужели у тебя нет глаза! Какой из тебя без глазомера военный будет! Так хорошо. Отметь место. Давай ее мне. Забивай гвоздь!”
Молоток и гвозди у меня в кармане домашней тужурки. Изразец, изображающий молодую, выглядывающую из оконца боярышню, водворен. Высоковато?.. Ничего, думал я: должно быть, он всегда венчал какой-нибудь камин или фигурную печь. Ему и так много чести!
Теперь предстояло окрестить нового жильца в доме. Это совершалось иногда сразу, по вдохновению, а другой раз походя, по сочетанию с каким-нибудь подоспевшим событием.
Довелось осенью 1887 года привезти с Александровского рынка масляный женский портрет не очень симпатичной рыжеватой блондинки с малооживленным выражением чуть-чуть раскосых серо-синих глаз. Лескова она занимала. Прическа и туалет говорили о первой половине XIX века. Чей — никто не определял. Однако догадки строились. Наскучив неопределенностью и горя нетерпением, Лесков пишет в конце одного из писем к Суворину:
“Р. S. Не будет ли вашего усердия когда-нибудь взглянуть у меня превосходный портрет какой-то дамы, кот[орый] считают “портретом русской актрисы”. Пересмотрели его многие сведущие люди, и никому не удалось узнать: кто это такая. А между тем это портрет замечательной кисти” [853].
Итак — актриса. Какая же? Сперва предположительно, а потом и привычно стало произноситься — В. Н. Асенкова. Кстати помянуть, Лесков давно, в газетной статейке “Хвастуны и лгуны”, привел рассказ о том, как она однажды осадила раскричавшееся на нее “высокое превосходительство” [854].
Попозже попался портрет, без рамы, молодой темной шатенки с мелкими чертами и милым овалом лица. Легкое платьице “ампир” и убор головы обличали давно прошедшую эпоху. Не считаясь с этим, даме было присвоено имя “Вечера”. Так звали только что убитую (30 января 1889 года) по уговору австрийским кронпринцем Рудольфом в замке Мейерлинг румынскую баронессу. Сам принц сейчас же покончил и с собой. Причиной трагедии было неразрешение императором Францем-Иосифом брака влюбленным.
Сложные операции с развеской кончены. Я освобождаюсь. Но уже восьмой час! Как справиться до одиннадцати с уроками на завтра? Их целых пять! Утром я успел приготовить только два. С мороза и устали неодолимо клонит в сон… Пропало воскресенье! Не миновать завтра неудовлетворительного балла! А с тем…
Первым из случавшихся в ближайшие дни гостей мимоходом бросалось:
— Не помню — показывал я вам мое последнее приобретение?
— Нет.
— А вот оно, перед вами! — произносилось с рассеянным жестом по направлению к румяной, выглядывавшей с верха майоликовой головке в малиновом кокошнике и ярком шугае.
Иной гость принимался восхищаться, другой в нерешительности молчал. Хозяин, торопясь прервать заминку, устремлялся на выручку:
— Какова? Это вам не приветливая девица киевского “Володимерова вежливого двора” и обычая, а самая размосковская боярышня, которая в голос кричит из своего оконца Потоку-богатырю: “Шаромыжник, болван, неученый холоп! Чтоб тебя в турий рог искривило! Поросенок, теленок, свинья, эфиоп, чортов сын, неумытое рыло! Кабы только не этот мой девичий стыд, что иного словца мне сказать не велит, я тебя, прощелыгу, нахала, и не так бы еще обругала!” [855]
Стихи читаются горячо, с напором на подчеркнутые здесь слова, с неотступным требованием увидеть в тяжелом изразце ту жизнь, кипучесть и задор, которые, должно быть искренно, видятся в эту минуту Лескову. Побежденный пояснительной импровизацией, уже и гость по-новому смотрит на каменную “сиворакшу”, как окрестила “боярышню” обметавшая по утрам с нее пыль наша прислуга.
Посетитель уносит уже не свое, не первоначальное впечатление, а внушенное ему писательским истолкованием.
Конечно, не все и не всегда разделяли взгляд и суд Лескова на тот или иной художественный объект. Бывало, что не соглашались с ним и лица не без понимания в искусствах. Одним из таких являлся, например, В. Г. Авсеенко, несколько раз ходивший с Лесковым после заседаний в Ученом комитете по соседнему с Министерством народного просвещения Апраксину двору.
По-писательски не поленился он оставить из этой области и некоторые свидетельства.
“Бродить по толкучке, отыскивая разное старье, — было любимейшим развлечением Лескова. Там, среди старьевщиков, у него были друзья, с которыми он по целым часам рылся в разном хламе или, забравшись в заднюю каморку, пил чай и поражал словоохотливых торговцев удивительными словечками, вычитанными из редкостного, но едва ли для чего-нибудь нужного издания… Если бы у Лескова было больше денег, то старьевщики толкучего рынка могли бы делать с ним хорошие дела. Всякая старинная вещица приводила его в безграничный восторг, независимо от ее археологического значения. “Посмотрите, ведь это медный шандал XVII века, — говорил он, выхватывая с полки какую-то позеленевшую плошку. — Ведь если это почистить — вещице цены не будет. А вот это шитье тоже XVII века. Взгляните, даже кусок старинного кружева сохранился”. Больше всего занимали Лескова произведения старинного искусства. “Ведь это Боровиковский! — восклицал он, отыскав в хламе какой-нибудь почерневший холст. — Вещь недокончена, но манера Боровиковского сейчас видна”. И он принимался торговать находку и торговал долго, до тех пор, пока не высылали ему из “Русского вестника” значительную сумму денег. Тогда он покупал Боровиковского и приобщал его к своей картинной галерее. Странная это была галерея. Она покрывала все стены его кабинета, выползая и в другие комнаты. И все это были какие-то древности, тщательно покрытые густым новым лаком. Когда я говорил Лескову, что все это не имеет никакого художественного значения, он сердился и уверял, что древние картины выше хорошей живописи. “Вы поймите, что ведь теперь так уже не делают”,— говорил он.
Действительно, теперь так не делают, — тут он был прав.
Впрочем, Лесков, кажется, сам понимал, что своим музеем он только забавляется. Но у него была одна картина — настоящий Боровиковский, залакированный до того, что казалось, будто он вправлен под стекло, — и этою картиною Лесков дорожил совсем так, как будто это был новонайденный Рафаэль. Он наводил о ней справки, возил ее показывать некоторым архиереям и вообще обладание этой картиною ставил чуть ли не выше всей своей литературной деятельности.
— Да разве Боровиковский такая необъятная величина? — спросил я раз. Лесков посмотрел на меня, желчно сверкнув глазами, передернул плечами и несколько дней не говорил со мною” [856].
Скептицизм в определении художественных достоинств многого из заполнявшего лесковский кабинет находил себе и другие подтверждения, но сперва о “мадонне” Владимира Боровиковского.
Летом 1881 года Лесков побывал в Киеве, посетив и имение зятя своего Д. И. Нога-Бурты, отстоявшее в восьми верстах от богатейшего имения и села Кагарлык, принадлежавших когда-то екатерининскому вельможе Д. П. Трощинскому. Естественно, что Лесков непременно захотел осмотреть кагарлыкскую церковь, роспись которой велась в свое время В. Л. Боровиковским. Поехали, осмотрели и, по приглашению водившего нас священника, пошли к нему пить чай. На дворе, через который вел нас хозяин, дети его пили молоко из больших глиняных крынок, стоявших на широкой темной доске, лежавшей на двух толстых чушках. Все прошли мимо, но Лесков, отстав, впился в доску, отодвинул крынки, вынул носовой платок и, смочив его в молоке, принялся тереть своеобразный стол. Священник сразу смешался и настойчиво приглашал именитого гостя “в зальцу”, заверяя, что ничего стоящего здесь быть не может. Но в Лескове уже загорелось любопытство. Потерев в правом нижнем углу, он кое-как разобрал или угадал — “Владимир Боровиковский”, а выше немножко отмытая доска начала выявлять богородицу в рост. Смущение настоятеля было неописуемо.
За чаем Лесков повел дело к тому, чтобы иерей уступил ему на каких-нибудь условиях “ничего не стоящую” доску. Священнику было и конфузно, и заманчиво, и боязно — не продешевить бы? В конце концов красноречие писателя убедило, и за тридцать рублей доска была снята с чушек и отнесена в нашу коляску.
Отец был несказанно горд находкой и весь обратный путь раскрывал нам значение Боровиковского, о котором все мы слышали впервые. По приезде в Бурты он сейчас же взялся за освобождение “мадонны” от присохшей грязи.
В Петербурге она была отдана знаменитым реставраторам Эрмитажа братьям Сидоровым, затем оправлена в раму и повешена в кабинете. С этого дня о ней пошли большие речи и слухи. Заинтересовывавшимся ею она готовно показывалась. Хотелось услышать голос настоящих, бесспорных знатоков. А их в приятельском кругу не было.
11 декабря 1881 года, по протекции А. Н. Якоби-Толиверовой, вечерком, когда Лескова не было дома, приехал взглянуть на Боровиковского известнейший профессор живописи П. П. Чистяков. Показывая ему “мадонну”, я был удивлен холодностью и краткостью его обрывистых реплик, больше похожих на глухое покашливание, чем на сколько-нибудь внятное и членораздельное высказывание. Задело и равнодушие, не покинувшее авторитетного эксперта при дальнейшем показе ему мною, так сказать “заодно”, многого, к чему сам я был полон глубочайшего уважения. На этот раз я слышал лишь неуясняемые в их значении междометия. Ничто не останавливало на себе его взыскательного глаза. Так загадочным сфинксом и ушел.
Впрочем, еще раньше меня смущали и Сидоровы, к которым не раз посылал меня отец в Эрмитаж, чтобы торопить их с реставрацией “мадонны”, и которые неизменно хранили “благое молчание”.
С досадой узнав от меня о приезде Чистякова, отец на другой же день нетерпеливо писал устроительнице этой экспертизы:
“Г[осподин] Чистяков был у меня в мое отсутствие и смотрел картину Боровиковского. Не возможно ли вам, уважаемая Александра Николаевна, спросить его: какое он имеет мнение об этой вещи? Вы бы этим очень меня одолжили” [857].
О получении отцом просимого “мнения” память мне ничего не сохранила. Уверен, что, будь оно приятным, это отразилось бы в разговорах и в моей памяти.
Поостыл к “мадонне” вскоре и Лесков.
Много позже довелось узнать, что большие художники, беря крупные заказы по росписи церквей или обширных помещений, не всегда и не все подписанное ими сплошь писали сами, ограничиваясь лишь небольшой правкой старательных подмалевков их учеников.
Впоследствии, ознакомившись с пленительной кистью Боровиковского, я никогда не мог уловить в них родства с кагарлыкской богородицей.
Интерес к живописи, зародившийся в отроческие годы, еще в Орле, рос в Киеве и окончательно расцвел в Петербурге, не угасая до последних лет. Книга А. И. Сомова “Картины императорского Эрмитажа. Для посетителей этой галлереи”, Санктпетербург, издания 1859 года, испещрена пометами Лескова [858]. Местами даже в них виден писатель. Так, например, в сведениях о том, что кисти Ангелики Кауфман принадлежит изображение “сцен из Сентиментального путешествия Стерна”, два последние слова аккуратно подчеркнуты синим карандашом. В данных о Грёзе отчеркнуто: “Не успела обыденная жизнь появиться в литературе и на сцене, как Грёз осуществил ее на полотне”. У Фрагонара отмечено: “жанрист и ученик более литераторов, чем живописцев”. У К. Брюллова внимание Лескова привлекли строки: “Та же материальность [859] просвечивает и в его картинах исторического содержания”.
В конце шестидесятых или начале семидесятых годов Лесковым начата “Повесть о безголовой Наяде (Из воспоминаний сумасшедшего художника)” [860]. В пяти первых его главах (всего написано около листа) для завязки фантастического рассказа повествовалось о каком-то маньяке-художнике, жившем в конце Васильевского острова около Смоленского кладбища, мистически исповедовавшем культ “Красного дракона” Луки Кранаха [861]. На первых же страницах мелькают имена — Мунари, Тициан, Гарафалло, Дюрер, Беллини, Каульбах. Ниже подписи — “Н. Лесков” — стояло: “(Продолжение следует)”. Но начало никогда не было напечатано, а продолжения не последовало.
Упомянув как-то о Громеке, он писал: “Часто остроумный, но еще чаще злой и насмешливый поэт Н. Ф. Щербина говорил, что Громека, подобно Мурильо, “писал в трех манерах”. Известно, что есть картины Мурильо в серебристом, в голубом и в коричневом тонах. Первые писания Громеки против административного своеволия (“Русский вестник” М. Н. Каткова) шутливый поэт приравнивал к первой манере, т. е. к серебристой; вторая, “голубоватая” началась в “Отечественных записках”, когда Громека рассердился на непочтительность либералов и, по приведенной гр. Л. Н. Толстым хорошей поговорке, “рассердясь на блох, и кожух в печь бросил”. В третьей же манере, которая должна соответствовать мурильевской “коричневой”, написаны сочинения, до сих пор недоступные критике. Эта литература самого позднейшего периода, который относится к “крестительству” [862].
Изобразительные искусства сочетались с литературной образностью, служа усилению последней.
В описании смерти собственного ребенка он говорил, что умирающий был очарователен, “как бледный ангел Скиавонэ…” [863]
В позднем своем романе, собираясь обрисовать убийственное влияние Николая I на все искусства, в частности погубившее величайшее дарование Карла Брюллова, Лесков писал В. Л. Лаврову: “В производстве у меня на столе есть роман не роман, хроника не хроника, а, пожалуй, более всего роман листов в 15–17. Сюжет его взят из бумаг и преданий о 30-х годах и касается высоких нашего края — по преимуществу или даже исключительно со стороны любовных проделок и любовного бессердечия. “Натурель” он был бы невозможен и потому написан в виде событий, происходивших неизвестно когда и неизвестно где, — в виде “найденной рукописи”. Имена все нерусские и нарочно деланные, вроде кличек. Прием как у Гофмана. В общем, это интересная история для чтения, а в частности люди сведущие поймут, что это не история. Главный ее элемент — серальный разврат и нравы серальных вельмож. “Борьба не с плотью и кровью”, а просто разврат воли при пустоте сердца и внешнем лицемерии. Я называю этот роман по характеру бесхарактерных лиц, в нем действующих, “Чортовы куклы” [864].
Роман был приостановлен печатанием в начале 1890 года на двадцатой его главе [865].
После длительной паузы делалась попытка возобновить публикацию: “К осени хочу отделать и прислать вам III часть “Чортовых кукол”, II-я неудобна, а III-я удобна и интересна… Я думаю, что это будет встречено с сочувствием. Их помнят и о них говорят. Напишите, как вам это покажется. Так, м[ожет] б[ыть], и проведем все вразнобивку, — писал Лесков В. А. Гольцеву [866]. Ничто не удалось. Участь рукописи неизвестна.
Судьба Брюллова и еще больше Пушкина всегда занимала мысли Лескова. В самом начале семидесятых годов он, с нескрываемым сочувствием к художнику, вспоминал, как тот, вырвавшись из николаевского “загона”, на самом рубеже его “и платье, и белье, и обувь по cю сторону границы бросил”, отрешаясь ото всего, познанного под деспотической опекой венценосного покровителя искусств [867].
В 1875 году, сблизившись в Париже с князем И. С. Гагариным, Лесков не упустил случая узнать все, что представилось возможным, от “милого барина, от которого веет еще атмосферою пушкинского “кружка” [868].
Аристократ-эмигрант, взволнованный счастливой возможностью наговориться с интересным соотечественником, впадает в тяжелое расстройство при случайном упоминании о великосветских нравах дней Пушкина. Его охватывает чувство негодования за возведение на него поклепа о причастности его к делу об анонимном “дипломе”, посланном поэту и приведшем к роковой дуэли.
Допустимо, что глубоко потрясенный старик мог раскрыть в эти минуты много сокровенного, не введенного в журнальную статью Лескова [869], явившуюся откликом на воспоминания В. А. Соллогуба [870], но что могло найти себе применение в беллетристическом произведении, в романе.
Эпоху Николая, тридцатилетнюю “глухую пору” [871], завершившуюся катастрофой, “вскрывшей затяжной нарыв и показавшей: чем питался организм всей страны и каковы его соки”, Лесков знал как редко кто другой.
В полустолетие кончины поэта Лесков негодующе начинал, до сегодня неопубликованный, рассказ свой “Лорд Уоронцов”:
“Как грустно, что жизнь дала повод Пушкину в 1830 году написать: к доброжелательству досель я не привык [872]. Но еще печальнее, что его неблагодарные потомки не сумели проявить доброжелательства к великому поэту и после его кончины. Чего не вытерпело его имя от необузданного пера Писарева? Но того еще можно слегка оправдать юностью; наверно, проживи он подольше, он сам бы первый со стыдом отрекся от тех односторонностей, на которые его толкнул господствовавший тогда в близких ему кружках “дух времени”, а что подумать о многочисленной семье профессоров Одесского (Новороссийского) университета, молча допустивших, чтобы на их празднике памяти пятидесятилетия смерти поэта местный архиерей произнес речь (перепечатка в “Православном обозрении” 1887, март), полную самого бесстыжего фарисейства и наглого искажения мыслей и чувств поэта. Есть же среди них умные и честные люди. Как же они могли молча снести безобразие, учиненное в их среде над тем, чья память для каждого русского так беспредельно дорога? …Я не историк; ни Пушкина, ни Воронцова не знал, но у меня недавно была встреча с человеком, искренний рассказ которого ясно показал, что по всему складу характеров этих людей они никак не могли мириться друг с другом. Огонь и вода, пламя и камень слишком мало подходят друг к другу” [873].
Для многих постижений в семидесятые годы оказались чрезвычайно полезными частые встречи и интимные беседы у Кушелевых с маститым столичным дипломатом еще пушкинской поры А. Г. Жомини [874]. Это был отменно благовоспитанный и чарующе предупредительный сановник, вместитель всех дипломатических или великосветских анналов. Для него не было ни дворцовых, ни политических, ни альковных тайн настоящих или минувших лет. Писателю этим открывался труднодоступный клад.
На протяжении всей своей жизни Лесков не пропускал ни одной из художественных выставок столицы.
Жадно всматриваясь в дорогие ему по идее и выполнению картины гениальных мастеров, он внимательно вслушивался в отзывы зрителей. Он верил, что такие суждения очень полезны. Ими нельзя пренебрегать. Кисть, как и перо, должна учить, воспитывать, усовершать вкус, внушать “чувства добрые”. Делают ли они это? В голосе толпы можно почерпнуть ответ.
Всегда охотно, горячо и убежденно говорил он о художественных произведениях и их творцах в беседах, в письмах, в печати.
О картине “Никита Пустосвят” В. Г. Перова он дал статью, полную удовлетворения и признания [875].
Прочитав статью А. С. Суворина о картине К. Маковского “Смерть Грозного”, он писал автору отзыва: “…Ирина ни в каком случае не могла “нá-людях стоять в той позе, в какой она поставлена около мужа. Как ни исключителен момент, но женщина русского воспитания того века не могла себе позволить “нá-людях мужа лапити”, а она его удерживает “облáпя”. Читайте Забелина, вспомните типический взгляд Кабанихи (Островского) — схваченный гениально, наконец проникнитесь всем духом той эпохи, и вы почувствуете, что это “лапание” есть ложь и непонимание, как сцена могла сложиться в московско-татарском вкусе, а не во вкусе “живых картин” постановки К. Е. Маковского. Вы этого не заметили, или я говорю вздор? По-моему — я говорю дело… И далее: бездушность женских лиц в картинах Маковского есть их специальная черта. Многим думается, что в русских картинах это и кстати, т[ак] к[ак] русские женщины “были коровы”. Это, однако, глупо и неправда. Были коровы, а были и не коровы, и Ирина, смею думать, не была корова, а она была баба с лукавинкой и двоедушием. Неужели это не черты для живописца?..” [876]
Любопытны смены отношений его с Репиным.
На экземпляре только что вышедшей библиографии своих сочинений он пишет: “Илье Ефимовичу Репину, превосходному художнику, искусные и благородные произведения которого приносили мне чистейшие и незабвенные радости. 1 окт[ября] [18]88 г[ода] Спб.” [877]. О портретах петербургской баронессы В. И. Икскуль фон Гилленбанд и бельгийской графини Марии де Мерси Аржанто Лесков 14 марта 1889 года восхищенно писал Репину: “Для меня эти два женские портрета — чистое вдохновение” [878].
Между художником и писателем как бы слагается единомыслие. Первый иллюстрирует рассказы: “Лев старца Герасима” [879], “Гора” (“Зенон златокузнец”) [880], “Прекрасная Аза” [881], “Совестливый Данила” [882]. Они не всегда удовлетворяют второго.
“Рисунки “Азы”, — пишет Лесков В. Г. Черткову, — мне совсем не нравятся. И[лья] Е[фимович] не умеет рисовать женские лица. Он очень талантлив, но раз на раз не приходит. Иногда ослепительно хорошо, а иногда оч[ень] плохо. Это прежалко. “Аза” безобразна и стара — христианин совсем ничто” [883]
Судя по появлению имени Репина в письмах Лескова, знакомство их завязалось в зиму 1887–1888 годов. Где? Возможно, на “пятницах” Я. П. Полонского, а может, и на одной из всегда посещавшихся Лесковым художественных выставок. Художник заинтересовывается на редкость самобытной “натурой” и настаивает на необходимости портрета. Лесков уступает натиску. Встречная заинтересованность его крупнейшим современным художником и новым знакомым, по кипучему темпераменту, сперва круто взметнулась ввысь, довольно долго продержалась в зените и… пошла на убыль: глубоких корней для дружества или хотя бы стойкого приятельства не было. Так или иначе, сеансы начались, но вскоре же пошли перебои и возражения. 26 сентября 1888 года Репин пытается переубедить Лескова, заявившего о нежелании иметь свой портрет.
“Глубокоуважаемый Николай Семенович!
Меня очень удивили мотивы, по которым вы не желаете допустить существование вашего портрета. Ничего подобного я предположить не мог и не могу и теперь. Не я один, вся образованная Россия знает вас и любит как очень выдающегося писателя с несомненными заслугами, как мыслящего человека в то же время… Да что на эту тему писать… Уж вы простите, не мне, грешному, объяснять вам ваше значение в русской литературе и русской жизни. Это значение большое, оно есть, и мы его, если бы даже и пожелали — не можем не признавать. Портрет ваш необходим. Он будет, несмотря на ваше нежелание его допустить. Он дорог всем искренно любящим наших деятелей. Что же касается каких-то нападок на вас, когда-то бывших, как вы пишите, то я о них первый раз слышу… Надеюсь скоро увидеться с вами и лично поговорить подробней, если вы позволите. Право, вы делаете так много чести какому-то земскому и совсем неизвестному шантажу против вас, что мне даже обидно. Вас искренно и глубоко уважающий И. Репин.
За замечания насчет св[ятого] Николая большое спасибо — воспользуюсь; вы правы. Т[o] е[сть] “правителя” собственно” [884].
Лескова удивило полное незнакомство художника с публицистическими бурями, бушевавшими в его отечестве в шестидесятых годах, и профессионально даже как бы задело. В конце концов Репин добивается своей цели: сеансы возобновляются, но явно ведутся Лесковым не так, как хотелось бы художнику.
15 декабря 1888 года устало и с раздраженностью заканчивается письмо к Н. П. Крохину: “Репин начал писать мой портрет, но мне жаль времени, и я виновник замедления, что работа художника не идет. Все занят, и все некогда. Так, верно, и издохну в упряжке. — Теперь, впрочем, ласкаю себя надеждою на июнь, июль и август уехать на выставку в Париж, и это меня оч[ень] занимает. Хочется еще раз увидеть жизнь людей свободных и на нас, холопей, не похожих” [885].
Знакомственные отношения по-прежнему продолжаются. Идет иногда и живой обмен яркими письмами. 23 февраля 1889 года, уступая просьбам Репина, Лесков даже читает у него в мастерской, а большом собрании элегантных дам и маститых мужей, своего “Зенна златокузнеца”. Все это хорошо, а вот “позирование” не удается, и портрет не движется. Лескова к нему не только не тянет, но даже как бы отвращает…
Дело затягивается, прискучает, а тем временем вкусам и требованиям Лескова становятся дороже и ближе полотна Н. Н. Ге. В новом своем настроении, насмотревшись на картину последнего, изображающую Христа перед Пилатом, он глубоко удовлетворенно и убежденно пишет мне 15 февраля 1890 года: “Сожалею, что смотрел картину без тебя, и буду огорчен, если ее снимут с выставки прежде, чем ты приедешь и ее увидишь. Это первый Х[ристос], которого я понимаю. Так только и мог написать друг Толстого Ге” [886].
В недатированном письме к Ахочинской, видимо первых месяцев 1889 года, Лесков мимоходом, но уже определенно высказался: “Я отклонил желания Крамского и Репина, и он на меня за это недоволен, но я не желаю иметь своего портрета на выставке, — и его не будет” [887]. Его там и не было.
Курс держался твердо. В 1890 году общение с Репиным неуклонно замирает, а в письме к Толстому от 26 февраля 1891 года звучит уже что-то совсем новое: “Образ, написанный Репиным, я не видел. Говорят, будто там изображен Вл[адимир] Г[ригорьевич] Ч[ерт]ков. Это теперь в моде” [888]. Модам Лесков не потатчик…
19 ноября 1894 года в книжке “Ежемесячные приложения к журналу “Нива”, появляется статья Репина “Николай Николаевич Ге и наши претензии к искусству”. Она нескупа на выпады против художника, который “иллюстрирует ходячие популярные идеи”, а “рассудочные люди стараются возвеличить его за благие намерения — он служит-де идее общего блага… Самый большой вред наших доктрин об искусстве происходит оттого, что о нем пишут и внушают всегда литераторы и все с точки зрения литературы. Они бессовестно пользуются авторитетом в мало знакомой им области пластического искусства” и т. д. Осуждающим принцип “искусства для искусства” литераторам бросается ожесточенное обвинение.
“Поздравляю с распоряжением о штунде и с отречением Репина от идеи в искусстве, — пишет 30 ноября того же года взволнованный Лесков В. А. Гольцеву. — У меня был два раза Стасов с совершенно остывшими руками и был трагически трогателен. И впрямь это ужасно! Из всех из них выдержал до конца один Ге, и тот самый гонимый и даже прогнанный. Отчего у вас [889] о нем ничего не напишут? Он и сам стоит внимания, да и по поводу его есть о чем пораскинуться. А то теперь все уже полезло за “самодовлеющими” [890].
Так дело и обошлось без портрета. И это, конечно, очень жаль: при удаче могло быть создано “ослепительное” запечатление Лескова поры, когда у него еще “все силы и страсти были в сборе”.
Кто был больше виноват или причинен в этой досадной незадаче? Своеволие “натуры”? Утомленность нарочито создававшимися затруднениями художника? Все в свою меру!
Не пожалел ли “во чреду лет” о своем противлении сам Лесков? Почему, например, прочитав не удовлетворившую его критическую статью о нем М. О. Меньшикова в № 2 “Книжек “Недели” за 1894 год, он вспомнил в письме к ее автору от 12 февраля того же года: “Репину при трех попытках не удалось написать моего портрета, а вам не задался литературный очерк обо мне. Значит, так и надо” [891].
Но вот прошло больше, чем полустолетие, а “обида” Репина на Лескова за противление созданию его портрета и сейчас разделяется всем сердцем, гневит и точит его.
Слов нет, превосходен портрет работы Серова! Но на нем Лесков больной, истерзанный своими “ободранными нервами” да злою ангиной… Но и тут глаза жгут, безупречное, до жути острое сходство потрясает… Воскрешаются в памяти, как бы слышатся, вещие слова Горького: “Но он, Лесков, пронзил всю Русь” [892].
Со сменой лет менялись влечения, вкусы, потребности. Лескова перестал обольщать, а минутами даже, казалось, обременял занимавший когда-то “музей”.
“Уже все это отныне для меня прах, и я гнушаюсь, что был к тому привязан”, — изрек когда-то, по воле своего создателя, утомленный жизненными тяготами старогородский протопоп Савелий Туберозов [893]. В какой-то мере что-то схожее начинало слагаться и в самом Лескове, хотя и в значительно младшие годы. Зарождался соблазн при случае развязаться с переставшим интересовать скоплением холстов, эстампов, предметов… А случай, и впрямь, раз едва не выдался.
В начале 1883 года в кабинете Лескова появилась почти карикатурная фигурка: очень маленький, крикливо одетый брюнетик, с бритой верхней губой, черной, “метелочкой”, бородкой и ежиком остриженными конскими волосами. Представился он как доверенный барона Зака, барона Г. О. Гинцбурга и прочих виднейших представителей столичной еврейской общественности. Себя он назвал кандидатом прав Казанского университета П. Л. Розенбергом. От имени пославших его он передал просьбу составить записку по вопросу о положении евреев в России, предназначавшуюся для представления ее затем в так называвшуюся “Паленскую” комиссию, созданную для обсуждения мероприятий по предотвращению впредь еврейских погромов, подобных прокатившимся на юге в 1881–1882 годах.
Лескову, с детских лет задумывавшемуся над судьбой русских евреев и в первые же годы писательства выступавшему горячим оппонентом И. С. Аксакова в вопросе о предоставлении известных прав “потомкам Моисея, живущим под покровительством законов Российской империи” [894], предложение было “по мыслям” и по сердцу. Он садится за работу.
21 декабря 1883 года получается цензурное разрешение, и в январе следующего года, в количестве пятидесяти экземпляров, выходит книга “Еврей в России. Несколько замечаний по еврейскому вопросу. (В продаже не обращается.) С.-Петербург. 1884”. Автор записки не указывался.
На одном из двух хранившихся у меня экземпляров этого издания стояла собственноручная надпись Лескова: “Эту книгу, напечатанную с разрешения министра внутренних д[ел] гр[афа] Дм[итрия]Андреевича Толстого, написал я, Николай Лесков, а представил ее к печати некий Петр Львович Розенберг, который отмечен ее фиктивным автором. Н. Лесков” [895].
Сведения о “записке” проникли в прессу, вызвав и восторженные хвалы [896] и лютую хулу [897].
Прочитав ее шесть лет спустя, Владимир Соловьев писал автору: “С благодарностью возвращаю вам ваши книжки, которые прочел с великим удовольствием. “Еврей в России” по живости, полноте и силе аргументации есть лучший по этому предмету трактат, какой я только знаю” [898].
Пробудился интерес к ней и в послереволюционное время. Заговорили об ее авторе [899], издали по случайно отыскавшейся первоначальной авторской рукописи и самое записку, но уже не в пятидесяти экземплярах, а тиражом в 60000 [900].
Изо всех сил стремившийся чем только мог услужить Лескову, Розенберг уловил его охлаждение к наполнявшим квартиру “раритетам”, которые он, по обычаю, показал и этому новому знакомому, но уже без энтузиазма. Очень оборотистый, но и очень невежественный “Розенбе”, как именовал его Лесков, предложил продать “стены” и некоторые вещи, исключая библиотеки, одному из многоденежных его патронов тысячи за три. Лесков дал себя убедить без сожаления и колебаний.
“Розенбе” был уверен в успехе измысленной им операции и принялся действовать. Но миллионеры, как правило, не вынимают деньги вслепую. Появились два присланные Заком эксперта. “Пришли, понюхали — и пошли прочь”. Розенберг еще долго хорохорился и уповал, но в конце концов сконфуженно умолк. У антикварных “крыс” был нюх.
Досуже немало говорилось и писалось также о “коллекциях” часов или драгоценных камней. И снова: карманных часов золотых было двое. Одни — “купленные на первые заработанные деньги” — скромный открытый почтенный “Патек”, с эмалированной арабской лошадкой на тыльной доске, с ветхозаветным ключиком. Другие, позднейшие — дар Эриксона, открытый “Луи Одемар”, с “компенсированным” маятником, с “сертификатом” и проч. Толстые серебряные, вызолоченные, с будильником и “репетиром”, пригодившимися в главе 7 рассказа “На краю света” [901]. Была серебряная, совсем малоценная “луковица”, капризная в ходе, неуклюжая в измерениях. Попозже были приобретены: закрытый “Одемар”, предназначавшийся мне “на производство в офицеры”; маленькие золотые дамские, посланные через меня однажды в Киев Вере Николаевне; приобретенный по случаю, для будущей невестки, “Дени Блондель”. И все, за очень много лет.
О настольных часах сказано выше. Висячих или от полу стоящих не было.
Самое дорогое кольцо было с недурным александритом в полкарата и двумя несколько меньшими бриллиантами.
Позже завелись кольца с небольшим светловатым рубином, привезенными из Праги чешскими пиропами (гранатами), кошачьим глазом, лунным камнем, гиацинтом, аквамарином… Все небольшой ценности.
В бисерном кисете работы Марьи Петровны лежало несколько петровских “крестовиков”, медаль в память учреждения в Петербурге воспитательного дома, две не подтвержденные позже Н. П. Кондаковым римские монеты, две-три русские XVI–XVII веков.
Представляло ли все это “собрания” или, тем более, “коллекции”?
В тех или иных условиях зарождался и некоторое время жил интерес к чему-нибудь. Постепенно он гас. Прекращались поиски, покупки.
Ценно в этой “слабости увлекаться” было не то, сколько было собрано тех или других предметов, а то, что каждое временное увлечение давало литературные плоды.
Интерес к иконописи дал “Запечатленного ангела”, к оружейничеству — “Левшу”, к камням — рассказ “Александрит”, к часам — рассказ “Отцовский завет. История одного рабочего семейства” [902], и так далее.
Было ли познавание тайн каждого из этих искусств особенно настойчиво и глубоко — другое дело, но воспринималось вдохновенно.
Иначе шло с книгами.
Оно и понятно: в этой области Лесков являлся уже не “любителем”, не дилетантом, а в самом деле знатоком и докой. Неугасимая любовь к книге жила вне времени и лет. Она превозмогала даже правило остерегаться расточительства. Тут допускались и оправдывались жертвы, не согласовавшиеся с другими требованиями жизни.
Был случай, когда, при далеко не устойчивом еще материальном положении, стало Лескову “мануться купить” у книгопродавца А. Ф. Базунова, в старом здании Пассажа на Невском, “Большой требник Петра Могилы, великого чина, с царским и патриаршим судом и полными заклинательными молитвами”, к которому, как говорится в рассказе о демономанах [903], дьявол — “где есть такая книга, так туда и бьется”. Заплатил он А. Ф. Базунову “сто тридцать рублей и с величайшей радостью повез мое сокровище домой”.
Свое знакомство с древлепечатными изданиями Лесков обнаруживал неустанно, как, например, в рецензии на “Словарь писателей древнего периода русской литературы XI–XVII вв.” А. В. Арсеньева [904].
Любил он и некоторых букинистов, с большим уважением говорил, например, о “некнижном книжнике Иове Герасимове” [905], которого именовал “знаменитым”, а смерть этого “дедушки” почитал большою “потерею” для истинных книголюбов Петербурга.
В бесподписной лесковской газетной заметке типа некролога говорилось: “Чаще всего у него в лавке можно было встретить гг. Ефремова и Лескова. Такого живого антика, как Иов, уже нет среди петербургских книжников”. Не забыл о нем книголюбивый писатель и собиратель и через два года, в доныне не изданной статье “Ошибки и погрешности в суждениях о графе Л. Толстом”, но к этому мы подойдем в главе 2-й последней части этой летописи.
Случалось Лескову искать редкие книги “у ворот Троице-Сергиевской лавры”, а в побывки свои в Москве обращался он за ними и в “магазин Кольчугина на Никольской” [906] и “в гнездившиеся” там же лавчонки.
“Кто бывал в Москве у Проломных ворот или в старом Охотном ряду, — писал он, — где в темном проходе пряталась от взоров духовной полиции лавка старопечатных книг известного Тихона Большакова, тот знает, как велика и прочна привычка грамотного русского простолюдина в воскресный день “покопаться в книжках” [907].
В Петербурге Лесков до последних лет время от времени обтекал весь Литейный проспект и Симеоновскую улицу с их знаменитыми букинистами В. И. Клочковым, Л. Ф. Мелиным, М. П. Мельниковым, А. С. Семеновым и многими прочими.
Не скупился он и на наставительство в книжных вопросах.
“Есть ли у вас в библиотеке так называемая “Елизаветинская библия” с современными русскими картинами? — пишет он Суворину. — Она, как, вероятно, вам известно, имеет большой интерес и по изображениям и по самому тексту, представляющему разность с нынешним общеупотребительным текстом, т[ак] к[ак] она печатана с Вульгаты. — У меня есть такой экземпляр, и я лет десять тому назад заплатил за него дорого (35 р.)” [908].
“А видели ли вы “Историю о седьми мудрецах в Великих Луках”? [909] — спрашивает его же в другой раз.
“Маргарит” — книга “беседная”, — снова поучает он того же своего “благоприятеля” четыре года спустя. — В библиотеке литератора она ни на что не нужна. Другое дело редкости “житийные”, как “Зерцало” и т[ому] п[одобное]. Честь была бы Суворину, чтобы писатель пришел к нему в библиотеку и у него просил права поработать, тогда как теперь в Синоде (2 экс[педиция]) книги не дают, а надо просить у Солдатенкова, Буслаева или Владимирова. На этакие книги тратьте деньги, и вы себя и других утешите” [910].
Исключительное знакомство с памятниками старой письменности не могло не вовлечь Лескова в использование ее тем для статей, а затем и учительно-художественных произведений.
Уже в начале восьмидесятых годов, в статье, озаглавленной “Жития как литературный источник” [911], разбирая только что изданный “Обширный опыт Николая Барсукова”, он ревниво подчеркивает, что русской агиографией пользовались Карамзин, Пушкин, Герцен, Костомаров, Достоевский “и по слухам… усерднее всех вышеупомянутых занимается граф Лев Николаевич Толстой”, который, “ударив старый камень священных сказаний, может источить из него струю живую и самую целебную. Некоторых это печалит, — поощряюще продолжает Лесков, — им жаль, что такой большой художник займется аскетами, а не дамами и кавалерами… Этим людям непонятно и досадно, как можно полюбить что-либо, кроме бесконечных вариаций на темы: “влюбился — женился”, или “влюбился — застрелился”.
Собственное внимание крепче, чем прежде, приковывается к старопечатным книгам вообще и к древнему славяно-русскому Прологу в частности.
Ряд построенных на темах Пролога повестей открывал “Лучший богомолец” [912], впоследствии — “Богоугодный дровокол”. Дальше шли: “Сказание о Федоре христианине и о друге его Абраме жидовине” (1886 г.), “Скоморох Памфалон” (1887 г.), “Совестный Данила”, “Прекрасная Аза”, “Лев старца Герасима”, “О добром грешнике” (все четыре — 1888 г.), “Аскалонский злодей” (1889 г.), “Гора” (она же “Зенон златокузнец”, (1890 г.), “Невинный Пруденций” (1891 г.), “Легендарные характеры” (1892 г.), “Невыносимый благодетель” (1893 г.) и залежавшееся у автора с 1887 года “Сошествие во ад (Апокрифическое сказание)” (1894 г.).
С увлечением принятый культ сильно уступает в долговечности живым зарисовкам орловских и общерусских действительных былей, событий, подлинно существовавшего, хорошо лично известного быта, как и яркому отражению злободневных явлений русской общественной жизни.
В начале 1888 года Лесков пишет Суворину, что Толстой “ставит Азу выше всего…” и советует мне “еще написать такую”. И тут же почему-то уже говорится: “Но я очень устал и утомился, да и довольно этого жанра” [913].
Затем опять как бы делается уступка, и П. И. Бирюкову пишется: “Прологи меня еще занимают. Истории, слегка намеченные, развиваю с удовольствием. Желаю составить целый томик “Египетских новелл”, и это меня занимает” [914].
А все-таки уже проскочило слово “еще”.
Проходят два с небольшим года и, оживленно рассказывая о предстоящем появлении у Стасюлевича “Полунощников”, Лесков в нетерпеливом сопоставлении двух писательских “жанров” не совсем осторожно признается Толстому: “А легенды мне ужасно надоели и опротивели” [915].
Не заставляет себя долго ждать и конечный апофеоз: говоря М. О. Меньшикову о только что вышедшем одиннадцатом томе своих сочинений, Лесков раздраженно поясняет: “Притом в эт[ом] томе есть гадостный “Пруденций”, поставленный п[отому], что другое, несколько лучшее, касается духовенства, а мне уже надоело быть конфискуемым” [916].
Так временами сменялись расположение и вкус к тому или другому виду работ. Любовь к книге оставалась всегда неизменной и неиссякаемой, приобретая иногда трогательное выражение.
“Краткое изложение евангелий” Толстого, в женевском издании М. К. Элпидина 1890 года, переплетается у знаменитого петербургского переплетчика Ро, на Моховой, в мягкий шагрень темно-коричневого цвета, с обрезом цвета “кревет”, с тончайшей золотой оторочкой по краю и тонким тиснением в нижнем правом уголке: “Н. Лесков”.
Любовно, у того же переплетного “художника”, щегольски и строго обряжаются “Еврей в России”, “Выписка из журнала Особого отдела Ученого комитета Министерства народного просвещения о преподавании закона божьего в народных школах”, злосчастный “шестой том” [917], “Стальная блоха” с рисунками Каразина, записка “О раскольниках города Риги и о их школах, состав. Н. С. Лесковым по поруч. министра нар. просв. Алекс. Вас. Головнина. 1863”, как вытиснено на малиновом, современном ей сафьяновом переплете.
Маленькая книжечка издания “Дешевая библиотека” А. С. Суворина — “Люций Анней Сенека. Избранные письма к Люцилию” — полна собственноручных помет, сопоставляющих трусливую неполноту этих писем здесь с другими их изданиями.
На книге, изданной в Санктпетербурге в 1818 году, — “Новый полный и подробный сонник…” — красными чернилами написано: “Редк. ц. 10 р. 82 г.”.
В довершение “пэозажа” — надпись на книге “Народные русские легенды, собранные А. Н. Афанасьевым. Издание Н. Щепкина и К. Солдатенкова. Цена 1 руб. сер. Москва. В типографии В. Грачева и комп. 1859”; небольшая наклейка на переплете, снаружи, в верхнем углу, с кроткой мольбой:
“Добрые люди! не крадьте у меня эту книжку. — Уже три такие книжки украдены. О сем смиренно просит Никл. Лесков. (Цена 8 р.)”.
На чистом листе перед титулом добавлено: “Заплочено 8 рублей, 1888 г.” [918]
Этот человек любил “копаться в книгах”, не расставаясь с ними ни на час.
ГЛАВА 4. ВЕСЕЛЫЕ “ПООЩРЕНИЯ”, СВОИ “СУББОТНИКИ” И “ПУШКИНСКИЙ КРУЖОК”
За неимением своего клуба любимым видом общения писателей шестидесятых и более поздних годов являлись встречи в определенныx книжных магазинах или в каком-нибудь ближайшем к ним излюбленном трактире, по-позднейшему — ресторане. “А как славно нам жилось в то время!.. — вспоминал Лесков первые свои годы в Петербурге. — Литераторы и молодые и старые сходились вместе ежедневно или в магазине Кожанчикова [919], где помещалась редакция “Отечественных записок”, или в магазине Печаткина… Оттуда мы отправлялись пить чай в Балабинский трактир [920] за особый “литераторский” столик. Хозяйничали обыкновенно или Н. И. Костомаров, или Кожанчиков — оба были большие мастера разливать чай. За чаем шли оживленные разговоры, споры, рассказы”.
На вопрос, какие отношения существовали тогда между старыми и начинающими писателями, Лесков отвечал: “Совсем не то, что теперь… К нам, молодым, “старики” относились в высшей степени сердечно, а мы в их присутствии вели себя чразвычайно сдержанно. Тогда в этом отношении было развито большое “чинопочитание”: например, в присутствии Николая Ивановича Костомарова мы едва позволяли себе говорить. А. Ф. Писемский обращался ко всем нам на “ты”, а мы к нему на “вы”. Да, хорошее, очень хорошее было время: мы поклонялись старшим, а старшие любили и поучали нас”[921].
Вероятно, автор или несколько призабыл действительно существовавшее положение, или поддался легко приходящей на склоне лет буколике воспоминаний. По свидетельству Лейкина [922], не все заседания в Балабинском трактире протекали за чайным столиком.
Подкупающе теплы и живы более ранние рассказы Лескова в этой области.
“Когда Петр Дм[итриевич] Боборыкин, — писал он, — издавал “Библиотеку для чтения”, Павел Ив[анович] [923] часто посещал эту редакцию (на Итальянской в д. Салтыковой). Мы тогда сходились по вечерам “для редакционных соображений”. Приходил и Павел Иванович, но “соображений” никаких не подавал, а раз только заявил, что “так этого делать нельзя”.
— Как “так”? — спросили его.
— Без поощрения, — ответил он.
— А какое же надо поощрение?
— Разумеется — выпить и закусить.
Мнение Павла Ивановича поддержали и другие, и редакционные “соображения”, изменив свой характер, обратились в довольно живые и веселые “поощрения”, которые, впрочем, всякий производил за свой собственный счет, ибо все мы гурьбою переходили из голубой гостиной г. Боборыкина в ресторан на углу Литейного проспекта и Симеоновского переулка [924] и там нескучно ужинали” [925].
Не менее популярным, по свидетельству Лескова, оказался “известный трактир Шухардина [926], служивший довольно долго местом литературных сходок. Его звали “литературный кабачок Пер Шухарда”. Тут певал под гитару “Тереньку” Аполлон Григорьев, наигрывал на рояле “Нелюдимо наше море” Константин Вильбоа, плясал Ванечка Долгомостьев, кипятился Воскобойников, отрицался гордыни Громека, вдохновенно парил ввысь Бенни, целовался Толбин, серьезничал Эдельсон, рисовал Иевлев и с неизменным постоянством всегда терял свою тверскую шапку Павел Якушкин. Бывали часто и многие, вспоминать которых теперь нельзя, потому что они обидятся” [927].
В ходе городских преобразований исчезает с лица земли кабачок Пер Шухарда, повышаются в рестораны и окупечиваются другие беспретензионные литературные пристанища. На смену им выдвигается прославившийся “русской кухней” “Малый Ярославец” на фешенебельной Большой Морской улице (ныне ул. Герцена). Здесь Всеволод Крестовский лично уловлял в аквариуме наиболее достойного его внимания налима и непосредственно руководил его сечением, дабы вспухшая от боли печень злосчастной рыбы приобрела особую нежность. Эту “печень разгневанного налима” Лесков увековечил много лет спустя в рассказах “Заячий ремиз” [928] и “О книгодрательном бесе (Прохладные кровожадцы)” [929].
В дальнейшем ходе событий застольное внимание перешло к “Палкину”, угол Владимирской и Невского, попозже — в довольно невзрачный “Афганистан”, заслуженно — по сомнительности кулинарных и сервировочных достоинств — переименованный в “Паганистан” [930] на Садовой между Итальянской (ныне ул. Ракова) и Невским; и, наконец, уже на исходе восьмидесятых годов, в ничем не лучший трактир некоего Прокофия Герасимовича Григорьева, угол Гороховой и Садовой.
У этого “Прокофия”, в “отдельном кабинете”, после “усердной рюмки”, иногда, по образу средневековых мистерий, “соборне” свершалось “Голгофское действо”. Пилата изображал по-римски бритый, круглоликий актер И. Ф. Горбунов, а Христа, которого по ходу действия потом он же, уже в новой роли выполнителя приговора, пригвождал к стене или двери в соседний кабинет, — бледный, “со брадой” и приятными чертами усталого доброго лица, С. В. Максимов. Остальные олицетворяли Варраву, толпу, требовавшую распятия Сергея Васильевича, с поникшей головой стоявшего перед судилищем со связанными салфеткою руками, воинов и т. д. в соответствии с последовательным развертыванием действа. Изнемогавшему “на кресте” Максимову подносили “оцет”, то есть уксус из судка, прободали ему грудь копьем, точнее — тонкою тростью Лескова с мертвым Черепом — memento mori — вместо рукоятки, и т. д. По изречении им “свершилось” и уронении главы на грудь происходило “снятие со креста”, “повитие” тела, “яко плащаницею”, совлеченною с одного из столов скатертью и “положение во гроб”, на оттоманку. Тут на Лескова выпадало исполнение роли Иосифа Аримафейского, и под его регентством хор исполнял песнопение “Благообразный Иосиф с древа снемь пречистое тело твое…” у “гроба” ставилась “стража”, при вскоре же наступавшем “воскресении” повергавшаяся во прах!
Оправившись от сценических напряжений, все удовлетворенно возвращались к “беседному вину” и к прерванной трапезе [931].
Уживалось ли все это с деизмом и даже истовым церковным правоверием некоторых исполнителей? — Как нельзя лучше.
Противоречило ли общественным преданиям и обычаям? — Нимало!
На заре своего литераторства, в 1861 году, и статье “Торговая кабала” [932] Лесков писал: “Из храмов они выносят воспоминания не о слове мира и любви, а об октавистых голосах, в подражание которым ревут дома долголетия и анафематства”.
В зависимости от рода русских людей тех времен, охваченных простодушным настроением, видоизменялись формы и темы подражательства. Основа, глубоко залегшая в недра души и памяти “от младых ногтей”, оставалась неизменной и равно любезной всем росшим и воспитывавшимся на “павлетчении”, благолепии и торжественности, воздействовавших на воображение, “яко феатр духовный”.
* * *
Зима 1881–1882 годов отмечена в моей памяти новым в нашей холостой жизни с отцом явлением: периодическими вечерними сборищами у нас литературных и нелитературных добрых знакомых.
Совершались они в первую субботу каждого месяца. Предвоскресный день был избран во внимание к моему ученическому положению и раннему подъему в будни.
Почти неизменными посетителями этих субботников были: Н. А. Лейкин, С. Н. Шубинский, М. И. Пыляев, С. Н. Терпигорев, Е. П. Карнович, П. А. Монтеверде, В. Н. Майков, Ф. В. Вишневский, С. В. Максимов, В. О. Михневич, П. К. Мартьянов, А. Н. Тюфяева. К. С. Баранцевич… Реже бывали А. Ф. Иванов-Классик, Б. В. Гей, Р. Р. Голике, И. Ф. Василевский, (Буква)… Из нелитературных старых “друзей” — генерал В. Д. Кренке, князь А. П. Щербатов, С. Е. Кушелев, князь М. Р. Кантакузен, граф Сперанский… На один из этих субботников наши соседи по квартире Свирские привели необыкновенно высокого длинноносого брюнета — правоведа, должно быть последнего класса, В. Л. Величко, земляка Свирского. Неизменно ассистировал и другой наш сосед, барон А. Э. Штромберг. Народу бывало немало, и теперь всех не вспомнишь.
Центром и главным источником всеобщего оживления неизменно являлся сам увлекательный и неистощимый в беседе радушный хозяин.
Карты здесь исключались. Их у Лескова никогда не было, ни на многолюдных ассамблеях в годы семейной жизни на углу Фурштатской и Потемкинской (прежде Таврической), не позже. Это была заповедь дома.
Появление их на вечерах в писательских домах не только возмущало, но даже оскорбляло его.
— Говорить литераторам стало не о чем! — негодующе восклицал он, безнадежно разводя руками. — Какой стыд! Нет общих интересов, нечем поделиться! Не любознательны… Мало читают… Не любят книгу… Ну вот и оскудевают духовно, нет внутреннего содержания. Неоткуда почерпать его в таком усыплении мысли! В наживу пошли, деньголюбивы стали. Лошадей и дома покупают, а книг не собирают: не нужны. Если и заведет кто из “успевающих” книжную полку, то и на ней, кроме его собственных изделий, ничего не ищи. Срам! Вспомнишь, как в шестидесятые годы литературная голытьба рвалась к книге, как искала ее и собирала на последние гроши! Не верится! Больно думать! — заканчивал он с тяжелым вздохом.
Собирались обычно с девяти до одиннадцати, и сперва беседа велась за разносимым в кабинете чаем, а в первом часу, но никогда не позже часа ночи, подавался незатейливый, но обстоятельно продуманный ужин, которому предшествовала, преимущественно домашнего изготовления, закуска, орошавшаяся разноцветными и разнодушистыми настойками, приготовленными под непосредственным наблюдением и руководством хозяина по всем преданьям орловско-киевской старины или же по многохитростным рецептам многоискусного химика “Пыляича” (Пыляева).
Все эти “бодряги” “ерофеичи”, смородиновки, березовки и прочие “составы” бывали приятны зраком и умилительны вкусом.
Их рецепты не всегда погибали в недрах семейного круга и домашнего обихода, находя иногда себе отражение и в творчестве. В рассказе “Обман” (первоначально — “Ветреники”), например, читаем: “Всего веселее выглянула на свет хрустальная фляжка, в которой находилась удивительно приятного фиолетового цвета жидкость, с известною старинною надписью: “Ея же и монаси приемлят”. Густой аметистовый цвет жидкости был превосходный, и вкус, вероятно, соответствовал чистоте и приятности цвета. Знатоки дела уверяют, будто это никогда одно с другим не расходится” [933].
Субботние “знатоки дела” апробовывали цвета и ароматы “составов” и дегустировали последние не без усердия, не всем и не всегда проходившего безнаказанно. Добросердый щупленький Баранцевич умягчался до трогательных выражений личного своего ко мне расположения, за что я облегчал ему необходимую ориентировку в забывавшемся им расположении квартиры. Упитанный Голике, побежденный однажды “ерофеичем” или “бодрягой” и вовремя недосмотренный, вышел на площадку темной парадной лестницы, где у дверей нашего соседа барона А. Э. Штромберга по римскому способу возвращал себе пути к новым застольным наслаждениям. Потребовались клятвенные мои уверения в ошибочности определения им своего местонахождения… Обмякал даже, обычно черствоватый, “каптенармус XVIII века”, как прозвал сухого Шубинского добродушный, но острый Вишневский. Последний щедрее всех сыпал никем не записывавшимися экспромтами и каламбурами. Стойко выдерживали все искусы закаленные в таких делах удивительно малоинтересный в обществе Лейкин и отменно занимательный в беседе Атава-Терпигорев.
Внешне кое-что запомнилось, а самое ценное в этих ассамблеях — их беседное содержание, яркость высказывавшихся мыслей, взглядов, споры — ускользнуло, и теперь этого-то и не очеркнешь. Мне было пятнадцать лет, и из всего, что на них говорилось, очень немногое еще могло быть доступным моему пониманию. К тому же я был поглощен невздорной ролью мажордома, наблюдал за хозяйственным распорядком: подачей рома к чаю, затоплением “фряжского” и охлаждением “ренского” вина к ужину, настругиванием прозрачными лепестками швейцарского сыра, подачей после ужина к ликерам ароматного мокко.
Из слышанных на этих вечеринках — а может быть, и не на них именно, но в лесковском окружении — стихотворных блесток уцелело в памяти очень мало. Приведу то, что еще кое-как живо в ней.
По поводу смерти в Москве митрополита Макария Булгакова, умершего, подобно Екатерине II, в уборной, едва ли не Федор Владимирович Вишневский сочинил призыв:
Православные! хотите ль
Зреть дней наших чудеса?
Се! — Москвы первосвятитель
С судна — взят на небеса!
При каких-то осложнениях на Балканах, на закате жизни “Нарцисса чернильницы”, как окрестил Горчакова Тютчев, кто-то сложил такую виршу:
На востоке распря снова…
На восток наш Горчаков
Смотрит гордо… и ни слова!..
Лишь сквозь стуло Горчакова
Тихо сыплется песок…
Сын крестьянина, впоследствии лавочный “мальчик”, отец которого обзавелся, кажется, мелочной торговлей, прекраснодушный поэт-юморист Алексей Федорович Иванов-Классик с большим трудом отбился от ненавистной ему профессии и весь отдался всегда влекшей его к себе литературе. Любили его, кажется, все, кто его знал. О врагах его слышно не было. Это было воплощение доброты и снисходительности. На Лескова он действовал не менее благотворно, чем Карнович, но несколько в иной области.
Вот пример. 16 мая 1887 года Лесков, ответив Шубинскому на деловой запрос, завершает послание:
“В среду вечером в Новой Деревне приуготовляется “натуральный шашлык”, для устройства коего привлечен специалист — настоящий горец с страшным носом. Директором утвержден Иванов-Классик. Игра предполагается оживленная в сумеречное время. Сбор торжествующих друзей к 8 ч. вечера у “Апаюна” (Норина в Славянке). Все предполагается в складчину, при некоем “отменном” кахетинском вине кн. Вачнадзе. — Не осчастливите ли компанию? — Горец будет священнодействовать при публике. Ваш Н. Лесков” [934].
Горца с “натуральным шашлыком” и “отменным” кахетинским открыл Атава, однако “директором игры” мог быть “утвержден” только человек с таким всепримиряющим характером и органически незлобивым сердцем, каким обладал сей Классик.
Лесков с особенным удовольствием, любовно, читал поэтическую параллель на мотив “На севере диком”, сложенную Ивановым в расцвет “попятной” политики гатчинского затворника:
Вот, пожалуй, почти и все, что помнится. Да еще при этом, за
Как мер репрессивных горячий поборник
Дивя проходящий народ,
В овчинной порфире, безграмотный дворник
Недвижно сидит у ворот…
И снится ему, что в богатой короне,
Что золотом ярко блестит,
Такой же, как он, на наследственном троне
Безграмотный дворник сидит…
давностью времен, не ручаюсь и за безупречно точную передачу. Свыше полусотни лет — не шутка.
Иногда лесковские субботники посещали и дамы, жены Шубинского, Лейкина, Свирского, Штромберга и других. В таких случаях соответственно изменялся колорит беседы, и, надо сказать, не к выигрышу и не к оживлению ее. В сущности их присутствие играло на понижение настроения “торжествующих друзей”. Они стесняли.
Однажды не обошлось и без трагикомедии. Дело было весной, уже почти в предразъездную на дачи пору. На исходе третьего часа Шубинский, Свирский и другие, бывшие с женами, перешли из столовой в кабинет и стали прощаться. Попыталась вызволить из столовой своего мужа и уехать и мадам Гей.
Однако сам Гей впал в такое умиление, что ни за что не хотел покинуть столовой, где прочно осели самые интересные собеседники, и в самой жесткой форме выразил полное равнодушие к судьбе своей жены. Раннее солнце заглянуло в кабинет, осветив взволнованное, поблекшее от усталости, растерянное лицо готовой расплакаться женщины, веселый смех мужа которой доносился из столовой. Убедившись, что никто не склонен самоотверженно проводить попавшую в неловкое положение женщину, я подошел к озадаченному всем этим отцу и предложил проводить ее домой. Гора свалилась с плеч. Дама, глотая слезы, быстро оделась, и я, облекшись в свою кадетскую униформу, с ловкостью совсем почти военного человека отвез ее при залившем уже улицы солнце, рассказывая всю дорогу какие-то отвлекающие пустяки, на неблизкую Коломенскую улицу. Выслушав от нее выражение горячей признательности, я вернулся домой, где “дружеская беседа” была еще в полном разгаре.
Летом 1882 года Лесков почему-то никуда не поехал и меня не отправил. Так мы и просидели в городе. Съездили, впрочем, недели на две в село Важино, на Свири, к каким-то едва знакомым и нелепым людям. На обратном пути побывали в Лодейном Поле и оттуда на лошадях проехали в Александро-Свирский монастырь. 2 августа в письме Лескова к Е. Н. Ахматовой этой поездке подведен итог: “Уезжал на десять дней и то едва выдержал от неодолимой глупости и тупости, которыми сплошь скована жизнь в провинции” [935].
В наступившую затем зиму субботники как-то сошли на нет. Должно быть, наскучили. И на самом деле, они были и хлопотны и расходны, да и многое говоренное на них в осубъективленном “претворении” разносилось, множило и без того нескудные сплетни. Впору было их и бросить. А тем временем облегчил товарищеские встречи на нейтральной почве “Пушкинский кружок”.
Все это, впрочем, не исключало отдельных нарочитых приемов у себя более близких. Так, например, 23 апреля 1883 года Лесков заканчивает свое письмецо к Шубинскому строками:
“В понедельник 25-го вечером жду вас непременно. Помните, что ведь все сами назвались. Куплю тельца упитанного и дам есть в 12 часов” [936].
Лето 1883 года Лесков живет в Шувалове на даче № 19 некоего Орлова, на маленькой, тихой Софийской улице.
Дом на взгорке, с огромного балкона прекрасный вид на большое Третье, оно же Суздальское, озеро.
Хотелось рабочего покоя, а благодаря близости города и тут выпадали нередкие “поощрения”, связанные с приемами приезжавших на весь день воскресных гостей. Конечно, им по веселости и беззаботности было далеко до памятных першухардовских, да и многих позднейших сборищ. И состав участников и собственные годы были не те. Но уклоняться не было возможности.
Из писательской братии чаще других навещали Н. Ф. Вишневский-Черпиговец, В. О. Михневич, С. В. Максимов… Приглашались и бывали и простые смертные.
А. Н. Толиверовой 28 июня писалось: “Живу я, как мужики говорят, “як горох при дороге: кто мимо идет, тот и дернет”. Обуревающей вас хандры не чувствую. Это очень уж сибаритственно для наших авантажен. Вероятнее всего вы ошибаетесь и принимаете за хандру “волненье крови молодой”, “но дни бегут и стынет кровь”… И в самом деле: “что такое людей минутная любовь”. При хандре на даче хорошо кушать простоквашу и чернослив.
Когда осчастливите своим посещением — будем рады и счастливы. Дача у меня хорошая, комната лишняя есть, ночевать есть на чем. Обедаем, по милости божией, до сих пор аккуратно всякий день. Есть у меня соседка на нигилистическом подбое с сентиментальными склонностями. Есть обширный и роскошный вид и тенистые террасы. Есть купальня… Будьте живы и сыты. Н. Лесков” [937].
Настроение, как видно, было доступное шутке и незлобивому осмеянию чужой духовной дряблости и хандры.
Постепенно, однако, слишком частое хождение мимо и дерганье прискучают. Лескова непредвиденно кругом обсели далеко не одинаково любезные его духу досужие соседи: на Выборгском шоссе, вблизи известного тогда трактира “Хижина дяди Тома”, поселился Н. А. Лейкин, ближе к нам, уже в Озерках, по тому же шоссе, № 39 — Д. Д. Минаев, тут же где-то “поэт-солдат” П. К. Мартьянов, он же “Подкузьмич”.
Хотелось поспокойнее.
Мне шел семнадцатый год. Я давно был в курсе личных отношений отца почти со всеми и поразился появлением у нас Минаева. Я знал, что в самом начале писательства с Минаевым было приятельство, сменившееся с апраксинских пожаров и “Некуда” враждой.
Очевидно, встреча произошла у Лейкина. Мне казалось, что Минаев искренно забыл шутки, которыми сыпал в разрыве по адресу Лескова, но отец мой их помнил.
Из всего дачного окружения искреннее дружество он питал единственно к жившему в Парголове Е. П. Карновичу.
17 августа 1883 года Лесков писал Шубинскому:
“С Минаевым, надеюсь, вы списались. Мне не по сердцу посредства с ним. Это люди совсем иного фасона… Карновичей вижу: это — моя радость. Простые вопросы, простые советы, радушное рукопожатие и сердечное слово. Поговорим, и хорошо станет” [938].
И действительно, это был чарующе милый, чистый сердцем и помыслами человек.
Зимой летнее полусближение с Минаевым остыло.
Фаресов свидетельствует, что незадолго до своей кончины, то есть до 10 июля 1889 года, Минаев прислал Лескову новую свою фотографическую карточку с надписью:
Тому назад лет двадцать пять
Снялись на карточке мы оба,
Хотя приятельская злоба
Меня старалась осмеять.
И снова через четверть века,
Вполне успев тебя понять,
Как гражданина, человека,
Я сняться рад с тобой опять [939]
Судя по очень многому, и она не растопила льда. Видимо, Лесков ее не берег. Я ее не помню. Возможно, что при случае она без сожаления была отдана Фаресову, у которого, как немалое другое, не уцелела.
В городских условиях с зимы 1883–1884 годов зовы к вечернему столу становились все реже, хотя былое радушие еще и не совсем уходило из обычаев дома. 27 января 1885 года Лесков в любопытном “штыле” шлет приглашение супружеству Шубинских:
“День иже во святых отца нашего Николы Студийского, творца икон и списателя канонов, приходится сей год в чистый понедельник (первый день поста). Празднество будет малое, но радушное Прокофию Герасимову заказаны 1) кулебяка с рыбой и с грибами, 2) карп жареный и 3) форель соус провансаль. — Вина русские, но добрые, — старые из дареного ящика. Потребление трапезы начнется в 12 час. ночи. Съезд и разъезд гостей по их благоволению. Позов посылается сестре моей с мужем, Сергею Николаевичу Шубинскому с Екатериной Николаевной, которая должна бы меня посетить, супругам Свирским (муж артист, жена доктор и мой друг) и более никому, — разве, б[ыть] м[ожет], придет мой сосед бар[он] Штромберг с женой” [940].
День рождения Лескова празднуется в тесном кругу близких друзей еще раз в 1886 году. В 1887 году, под впечатлением цензурных досаждений, это событие “прошло насухо”, а с переездом осенью того же года на Фурштатскую всякие вечерние приемы с затяжным сидением и ночными трапезами вообще вышли из обихода. Фаресовым на этот случай сделана за Лесковым разъяснительная запись:
“Если я не устраиваю теперь у себя кормления гостей по вечерам, а угощаю их чаем, то это не из расчетливости, а просто мне перестало нравиться видеть у себя буфет, да и прислугу жаль беспокоить до полночи…” [941]
С августа 1889 года, когда начались первые проявления грудной жабы, уже и совсем стало не до вечерований.
Необходимо остановиться и на отношении Лескова к уже упоминавшемуся выше “Пушкинскому кружку” и вообще к объединительным литературно-артистическим попыткам.
В октябре 1882 года он был избран “старшиною” этого кружка, а 13 ноября уже пишет Терпигореву об отказе от “всяких должностей” по нему. Однако, когда это требуется, ездит туда и читает перед публикой. Мало того, в зиму 1883–1884 годов он возит туда и меня на субботние вечера, на Мойку, 38, в зал Ломача.
Кружок вянет. Лесков еще 20 апреля 1883 года с шутливой пренебрежительностью пишет не заставшему его дома накануне Шубинскому: “В 9 часов я иногда ухожу, а вчера читал в Хлопушкинском кружке” [942].
Через год, 10 апреля 1884 года, он пишет М. И. Михельсону о невозможности приехать к нему 15-го числа, так как “в этот день скрываюсь от публичного чтения, от которого мне не было иного спасения…” [943]
Весьма вероятно, что к осложнениям и досадительностям по этому же кружку относится и недатированное письмо Лескова, несомненно к Лейкину, приобретавшему в этом кружке большое распорядительное значение:
“Уважаемый Николай Александрович!
Давно мы знакомы, а вы меня, верно, знать не хотите… Разве я когда-нибудь капризничаю или отстаю прочь от литературного дела, хотя бы это дело и не внушало мне доверия? Поверьте мне, что я ей-право болен и читать решительно не в состоянии. Вы ведь не знаете, слава богу, что такое настоящее нервное страдание, от которого в одни сутки весь желтеешь. Вот я именно теперь и есмь в таком состоянии.
Вот хороший чтец будет Герард, о котором я передал Петру Юрьевичу Арнольду.
Простите меня, пожалуйста. Преданный вам
Н. Лесков.
16 марта вечер” [944].
Сам Лесков читал в большом помещении и перед большой публикой скорее плохо: волновался, голоса, может быть в результате перенесенного воспаления легких, как-то не хватало, интонирование пропадало. Он, должно быть, и сам это сознавал и шел на такие чтения крайне неохотно.
28 декабря 1884 года он писал Г. Л. Кравцову:
“Что касается “чтений”, то это, во-1-х — так повелось, что читают только известные люди, а во-2-х — я сам не люблю публичные оказательства. Чтец у нас был Писемский, и он меня считал хорошим чтецом, но я могу читать хорошо только в комнате, в небольшом кружке, а не в публичных залах, где надо не читать верным тоном, а выкрикивать. Мне это не нравится, и я этого избегаю” [945].
Однако пока состояние здоровья позволяло, он, хотя как бы и жертвенно, шел на публичные выступления.
Раз кто-то у него в кабинете стал отказываться от чтения на каком-то вечере, ссылаясь на то, что читает вообще “паршиво”.
— Ну и что ж такое, — вмешался Лесков, — ведь вы не за плату и не в свою пользу читать будете. А публике интересно вас послушать, а то просто и посмотреть. И никакой претензии к тому, что вы прочтете хуже любого актера, она к вам не предъявит, а поглядит на вас, какой вы есть, и похлопает вам. Больше ничего и не требуется. Я, вот, например, должно быть очень “паршиво” спел бы в большом зале, а если бы пришли да сказали: “Николай Семенович, позвольте поставить на афишу, что вы выступите в качестве певца. Это повысит сбор с нашего вечера и покроет кое-какие нужды неимущих товарищей”. Я и не задумался бы: ставьте! А потом вышел бы, да и затянул:
Эдуаард и Гунигуунда,
Гунигунда, Эддуаард…
Люди бы посмеялись, а кому-нибудь от этого лишний грош перепал бы, ну и ладно. Какой тут стыд в чужую пользу плохо прочесть или спеть!
Но после нескольких воспалений легких и при неуклонно росшей их эмфиземе с годами такие чтения стали ему не под силу.
Неудивительно, что 20 марта 1888 года он уже писал Шубинскому: “Я не охотник читать публично…”
К концу 1884 года “Пушкинский кружок” уже агонизировал [946].
Прошло несколько лет, в течение которых отношения Лескова с Лейкиным, неукротимо предавшимся денежным и закладным операциям, в корне изменившись, оборвались.
11 марта 1888 года в “Новом времени” появилась заметка, заключавшая в себе такие строки: “На последнем литературно-артистическом вечере Н. А. Лейкин поднял вопрос об учреждении взамен временных, постоянных и прочно организованных собраний артистов и литераторов, в виде литературно-артистического клуба с особым уставом… Мысль г. Лейкина встречена была с сочувствием, пока, впрочем, только платонически…”
Лескова это выступление дельца разгневило, и он написал, оставшуюся в свое время нигде не напечатанною, злую заметку. Сейчас он уже никого обидеть не может, а взгляды Лескова на то, кому должно принадлежать “верховодство” в литературных вопросах и делах, — выскажет как нельзя более веско.
“О литературном и художественном союзе
В № 4322 “Нового времени” г. Петербуржец дал отчет о впечатлении, какое производит новая попытка сближения литераторов с артистами, причем г. Петербуржец вспоминает “не в счет” о закрывшемся “Пушкинском кружке” и говорит, что постоянное “учреждение” в этом роде было бы желательно, но что оно малонадежно.
Во всем этом много правды, но жаль, что г. Петербуржец вспоминает о Пушкинском кружке “не в счет”, тогда как его именно надо брать “в счет”. Пушкинский кружок имел очень хорошие условия для существования и пал потому, что литераторы не захотели его поддержать, и верховодство этим несчастным кружком попало в руки лица, вокруг которого писателям с именами и положением группироваться было неудобно. Кружку этому прежде всего вредила инициатива, шедшая от лиц, не имевших ни значения, ни симпатии среди писателей, а дошибла его до смерти удивительная нескромность и отвага его последнего бойкого руководителя… То же самое, по началу судя, выступает наружу и теперь… Если смотреть на дело попросту, то это дурной знак. Когда крестьяне хотят что-нибудь “обсудить миром”, они прежде всего обыкновенно просят “степенного человека”, которого “люди слушают”, чтобы “он обговорил дело”. Если же кто сам собой, незваный, вырывается с “горлом” — то ему (как писал недавно г. Кокорев) крестьяне кричат: “замолчи, губошлеп”. Это и резонно, потому что губошлепов не слушают и о чем губошлепы заговорят — к тому степенные люди приставать опасаются, — и дело не идет. Нужно, чтобы о деле с самого начала заговорил человек более или менее степенный и уважаемый, человек, которого другим людям пристойно слушать. Его и послушают, и с ним начнут говорить серьезно. Если же за дело возьмется горлан-выскочка, то как бы он ни был развязен, нахален и боек, что стало очень легко “в наше нестрогое литературное время”,— то за ним хоть бы и хотели пойти, так не пойдут, и дело этим будет подорвано в самом начале. К сожалению — в данном случае это, — по всем приметам, — уже и случилось в литературной части лиц, собравшихся ужинать у “Медведя” [947]. “Постоянное учреждение”, без сомнения, желательно и нужно, но желательно и нужно, чтобы мысль или по крайней мере призывное слово об этом исходило от людей “степенных” и в литературном мире уважаемых. Такие люди в нашем обществе, конечно, и есть. Если же по нетерпеливости или по замечательной в теперешнее время нескромности дело будет предлагаться от лиц, которые не имеют нужного для успеха уважаемого положения, то об этом надо жалеть, и на самих этих людей тоже надо смотреть с сожалением, так как они, очевидно, очень к себе невнимательны и не знают своего места в обществе. Иначе они, конечно, поняли бы, что к их воззваниям нельзя ожидать никакого сочувствия среди литераторов, и они бы воздержались от заявлений. Скромность была бы для них новым украшением, а мысль о соединении не была бы сразу так единодушно отвергнута, как это теперь чувствуется” [948].
Подписи на автографе нет. В кого главным образом метила заметка — было более чем ясно. Может быть, это-то и остановило автора от ее тиснения в газетах, в память того, что когда-то он видел в “нескромном горлане-выскочке” литературного товарища… Но Лесков был суров в оценке совместимого и несовместимого, по его мнению, со “служением литературе”.
Длительная ледяная холодность Лескова не остерегла Лейкина от попытки выпросить у него какое-нибудь высказывание для журнала “Осколки”.
Лесков не уклонился.
“Когда мне случалось попадать в одно общество с знаменитостями нашего века — я всегда чувствовал неодолимое смущение и никогда не находил, о чем при них говорить. Точно то же самое я ощущаю и теперь, расписываясь здесь, по желанию Николая Александровича Лейкина. Николай Лесков”.
Недопустимо уверовав в признание его “знаменитостью века” и в искренность смущения Лескова, Лейкин самодовольно помещает факсимиле “прикровенного речения” [949].
* * *
В восьмидесятых годах Лесков часто скорбел об угрожающем умножении в литературе бойких “скорохватов”, “фрейшюцев”, “волшебных стрелков” и “Цицеронов”, сердцем ее не любящих и устремляющихся в писательство исключительно ради карьеры, прибытка или тщеславия.
Удрученный такими мыслями, он, вероятно в 1887 году, так начинал один из своих, праздно ожидающих тиснения, рассказов:
“На днях посетил меня редактор одной распространенной газеты [950] и в беседе стал жаловаться на невежество многих из своих сотрудников. Так, недавно один из них в бойкой статейке сослался на “небезызвестного парижского повара Шатобриана”, а когда ему советовали заменить это словами “известный французский писатель Шатобриан”, не только страшно обиделся, но стал уверять, что его хотят выставить в дураках и показать “в печати, что он не бывает в хороших ресторанах и не знает тонких блюд, а он через день у Палкина требует филе Шатобриан, названное так, всеконечно, в честь какого-нибудь знаменитого повара”.
Мы с редактором порадовались за современную газетную молодежь! На заре нашей юности мы, птенцы Усова и Валентина Корша, не только к Палкину, но даже и в дешевую Балабинскую обитель заглядывали лишь в дни особых получении, обычно пробавляясь в трактирчиках мелкого пошиба. Порадовались, но вместе с тем и пожалели, что столь частые заходы к Палкину мешают нашим блистательным преемникам заглядывать столь же часто хотя бы в Пушкина, который равнял Шатобриана Данте и восторгался его переводом пленительной поэмы Мильтона” [951].
Здесь снова проходят “Палкин”, “Балабинская обитель”, птенцы “Северной пчелы” времен П. С. Усова — Лесков, Бенни и так далее — и “С.-Петербургских ведомостей” времен В. Ф. Корша — “Незнакомец” Суворин и другие. Воскрешаются картины давно минувших дней, когда в литературу шли люди, влекомые искренней страстью к писательству, начитанные, не “кидавшиеся по верхам журналистики” и не “жуирующие” [952], а серьезно и много работавшие на любовно избранном поприще.
По клятвенному заверению одного современного событию питерского газетного сотрудника, усомнился в Шатобриане А. И. Фаресов.
Как было литературолюбивому Лескову удрученно не противопоставить в своей памяти посетителю дорогого “Палкина” былых своих сверстников, скромно “поощрявшихся” во дни оны у безвестного “Пер Шухарда”!
ГЛАВА 5. О ДЕТЯХ И О МНОГОМ ДРУГОМ
Литературные анналы нескудно освещают отношения Л. Толстого, Тургенева, Достоевского, Салтыкова и других наших писателей не только к родственникам, но и к детям.
Это дает жизненный и характеризующий материал, которому нельзя не уделять внимания и места в каждой биографии.
Как же шло дело в этой области у Лескова, как понимался, чувствовался, разрешался вопрос?
В беседах, как и в печати он, горячо разделяя взгляд чтимого им английского романиста, приводил: “Диккенс говорил, что без ребенка дом скучен” [953].
В жизни вопрос очень осложнялся: дети должны были не болеть, не досаждать, возможно дольше оставаться маленькими, послушными, занимательными…
— Николай любит все маленькое: маленьких детей, собачек, птичек, — смеясь, говорил брат Николая Семеновича Алексей.
Подрастая, дети не должны были отягощать значительными хлопотами по их определению в гимназии или институты, издержками на их обучение языкам, музыке. Они должны были являть пример благонравия, неустанной благодарности, а с возмужанием — льстить своими успехами родительскому самолюбию и гордости.
Что послужит им примером, школой и вдохновением для приобретения всех этих качеств и достоинств — оставалось без обсуждений, если не считалось, что все предпосылки налицо в их воспитателе.
О том, как шло дело с дочерью, уже говорилось. Не обойдено, как оно велось и в отношении меня в моем детстве.
Увы, послушные законам всего живущего, все неотвратимо перестают быть “маленькими”.
Лично я, мужая, начинал “сметь свое суждение иметь”, переставая мириться со вменением мне зачастую вин, мною за собою не знаемых. А между тем на мне, как на динамометре, отпечатлялась сила всех “злостраданий”, переживавшихся моим отцом или “зломнившихся” им. При этом “эхо” всегда оказывалось сильнее порождавшего его “звука”. Я не претендую на исключительную память. Но несомненно, мне пришлось очень рано осознать, что многие мои вины приходят откуда-то извне: в письмах, газетах, со служебных комитетских заседаний, от досадных встреч на улицах, от домашних настроений.
Взрывы привезенного откуда-то гнева, за отсутствием равноправных членов семьи, особенно женщины, которая могла бы их смягчать и умерять, бывали страшны.
Неудивительно, что жизнь моих сверстников-пансионеров вызывала во мне затаенную, но горячую зависть, рисовалась мне верхом блаженства. Подумать только: все в свое время, в равных для всех условиях, никаких вспышек и драм, при вечернем приготовлении уроков есть у кого спросить непонятное утром в классе, найти помощь, которой нет дома! Нет расточительного по времени и утомительного хождения по три версты, зимою затемно, к восьми с половиною часам утра в корпус и назад, по вторникам и пятницам вечером, а воскресенье утром еще в ни на что мне не нужную школу технического рисования Штиглица у Пустого рынка, опять почти по две версты в конец. Когда же готовить пять серьезных уроков ежедневно? А тут то затяжное опоздание отца к обеду, то поручение снести кому-то спешное письмо, сбегать что-то купить на Воскресенскую и так далее.
И вот, прекрасный ученик первых четырех классов, пятый, но никогда не ниже десятого из сорока двух, я начал съезжать и терять веру в себя. Одновременно, досыта наслушавшись “очистительной критики”, которою был напоен мой дом, я становился заносчивым, колким, по-мальчишески умничающим и вообще неприятным и ухарствующим кадетом. Это приносило свои плоды. Но часто выпадало терпеть и совсем ни за что.
Иногда со смелостью отчаяния я встречно бросал отцу:
— Вы, вероятно, встретили где-нибудь Георгиевского или Авсеенко, а я должен за это расплачиваться!
— Это еще что за вздор? Ты и без них хорош! И вообще, скажи мне на милость, к чему ты собственно гнешь и чего ты хочешь?
— Отдайте меня пансионером.
— Ааа… Вот оно что… Тебя, значит, не как нас, бывало, тянет не в отчий дом, а из него!?
— Да разве у вас был такой отчий дом?..
— Так, так!.. — круто сменяя только что бушевавшее раздражение на тихую сокрушенность, перебивал меня отец. — Ну, что же?! Остается покориться своей горькой доле и безнадежно сказать: “Здравствуй, одинокая старость, догорай, бесполезная жизнь!” Спасибо, сын, и на этом, — заключительно ронял он, уходя в кабинет с низко опущенной головой, со слезой в углах глаз и в упавшем голосе.
Обоюдное терзательство обрывалось. Дорогой ценой покупалась ни на какой срок не обеспеченная передышка.
В отрочестве я не подозревал, что о моем отце существует и растет целая критическая литература. Десятки лет спустя, колеблясь — писать или не писать его биографию, я обязал себя предварительно ознакомиться со всем, чем можно, из этой литературы, как и со всеми, частично уже даже и опубликованными, письмами Лескова и о Лескове. Тут мне пришлось у ряда исследователей и мемуаристов прочитать о “запальчивости” Лескова, об его “пристрастности”, “карамазовщине”, “истерии”, “достоевщине”, об огромном, но “больном таланте”, о “большой, но вместе с тем и больной душе” и о многом другом.
И ломал я голову: откуда, от кого могло все это прийти, с кого могло быть перенято? Суровостью и жестокостью обильны были Дмитрий Лесков и Марья Алферьева. Но карамазовщины и истерии там не было, как и ни у кого в роду.
1883 год внес в склад нашей жизни нечто, сперва принятое как незначительное, а затем оказавшееся многопоследственным.
На исходе ноября на кухне появилась дремучая “чухонка”, а с нею и девочка в заношенном розовеньком ситчике. Переночевав, “чухонка” уехала, а не говорившая ни слова по-русски девочка осталась и, дичась всех, стала бегать за нашей горничной Кетти, когда та “служила у стола”, и вообще появлялась в “комнатах”, цепко держась за ее юбку. Это была дочь Кетти Варя, родившаяся 4 декабря 1879 года и сданная ею тогда в Воспитательный дом. Оттуда девочка была передана “на воспитание” в подпетербургскую финскую деревню Кейдала.
По уверению Кетти, с наступлением ребенку полных четырех лет мать теряла на него все права. В глубине квартиры, за передней и коридором, около кухни была просторная “людская”. В ней было разрешено поместить дочь Кетти.
Постепенно девочка стала обвыкать. Раз-другой во время обеда ее посадили за стол, дали “сладкое”. Это ускорило сближение. Через несколько месяцев она уже часто обедала за столом, за которым служила ее мать, сидела на низеньком диване в кабинете, в который мать ее могла входить, только постучав, по звонку или по очень неотложному делу.
Одиссея Катерины Кукк проста: в чем-то провинившись, она была изгнана отцом, домовладетельным обывателем тихого и строгого в нравах Пернова. Пришлось “идти в люди”. Горничной у начальника крепостной артиллерии в Ковпо генерала Шпицберга она беременеет от его денщика; Петербург, роды, сдача ребенка в Воспитательный дом, две-три перемены “мест”, с весны 1882 года “по объявлению” — служба у нас.
“Человек мыслит словами и образами”, — говорил Лесков.
Но и образы и слова подсказываются человеку впечатлением или воображением, к сожалению, не всегда безошибочными.
Варе присваивается наименование “сиротки”. Создается культ сиротоприимства, не во всем бесспорного и выдержанного, но предлагаемого к признанию и подражанию, с обычными “аффектацией и пересолом”. Темперамент исключает переживание чего-либо в тиши и интимности. Повторяется практиковавшийся так недавно прием с “Дездемоной”, — так одно время настойчиво нарицалась домоправительница Паша, на основании довольно сомнительного, правду сказать, ее сходства с одним из изображений в лейпцигском кипсеке шекспировских женщин, изданном Брокгаузом в 1857 году. На этот раз, вместо лежащего на круглом столе шекспировского кипсека, из нижних левых ящиков письменного стола изымается и плавно поднимается концами пальцев историческое “кейдаловское” розовенькое Варино платьице [954].
Как и с демонстрированием “Дездемоны”, это выполняется при ком угодно и, как и тогда, разносится повсюду, особенно быстро и липко в литературных кругах Петербурга, а затем идет и за его пределы.
Велички, Захары Макшеевы и “совоспитанные им” угодливо улыбаются, другие теряются, третьи недоуменно каменеют. Это не прощается. На этом гибли расположение, давние отношения. Так погубили себя А. Н. Толиверова, переехавшая в следующем году в Петербург сестра Ольга Семеновна, а постепенно едва ли не все когда-то во что-то ценившиеся присные.
Известился о петербургской новинке и Киев. Тут уж пошла писать вся кровная губерния. Сиротоприимство принимается здесь как новая “причуда”, очередная “фантазия”. Оно признается во всем неясным, беспочвенным, не вызывающим веры. Сочувствовать здесь нечему. Взрыв на юге дает хорошую детонацию на севере. Впрочем, взаимопонимание давно утеряно обеими сторонами.
Жизнь девочке у “дяди”, как по указанию Лескова она называла его, выдалась путаная. Всего больше она в доме являлась чем-то вроде “казачка” былых помещичьих времен, подавая то разрезной нож, то книгу, то туфли, то спички или капли и т. д. Угла у нее не было. Большею частью болталась она на кухне. С удалением осенью 1885 года ее матери девочке стало еще труднее и очень одиноко. С годами Лескову начало казаться, что все это идет по “сютаевской” догме. Это располагало к проповеди. В газетах пошли статейки, будившие сострадание к безродным, покинутым, несчастным детям [955]. Далее такие же мотивы или картинки притачиваются иногда в тон [956], иногда и совсем не в тон рассказа [957] и без соблюдения жизненной достоверности [958].
Любопытно, что после личного свидания с Сютаевым, в мае 1888 года в Петербурге, Лесков писал П. И. Бирюкову: “Сютаев у меня был и мне вполне не понравился. Он ко Льву Н[иколаеви]чу идет так же, как Стр[ахов], Обол[енский] и художественный Александров. Это какое-то “ума помрачение”. Он духа раскольничьего и такого же склада ума” [959].
В лесковском некрологе о Сютаеве говорилось, что покойный “имел ум светлый и способный для соображений, требующих немалой тонкости, и наделен был сердцем нежным и сострадательным. Особенно он жалел сирот и “подбирал” их сам, и других любил склонять к этому”. Дальше охотно вспоминается, как этот “черносошный”, но грамотный “мужик” распространял любовь “не на своих детей, а на чужих — на сирот… — “Свои это что! — говорил он… — Своих-то любить велико ли дело!.. Своего теленка и корова оближет… Нет, надо, милый, чтобы чужих сирот взять… надо, чтобы бесприютных сирот не было!” И он кое-кого научил этому счастью…” [960]
Не сильнее ли всего здесь звучит: “свои это что!”
И никакого помрачения в уме пророка на этот раз не усматривается. Напротив — ему выражается благодарение за счастливый урок. И вправду: чего лучше, если и свои вровень с чужими одним теплом согреты!
Летом 1886 года Лескову придумалось полечиться в Старой Руссе или Аренсбурге в одиночку, не беря с собой ни прислуги, ни Вари. На кого же оставить девочку? Не возьмет ли ее на лето к себе на дачу Толиверова? Но она мужественно не поняла намеков. Зато с полуслова откликнулась на них устроившаяся на даче в Знаменке под Петергофом, рядом с Толиверовой, мать “маленькой Лиды” Пальм, О. А. Елшина.
Как всегда, новый знакомый засыпается разносторонними просторнейшими письмами [961], с касательными и секущими по проштрафившимся чем-нибудь, разжалованным фигурам.
16 июня, все еще из дому: “Прошу вас поберечь ее, как провидение берегло Лиду, а Варя несчастнее Лиды, ибо она, к несчастию, имеет мать, на стороне прав которой стоят закон и Александра Николаевна [962]”.
Дальнейшие письма уже из Аренсбурга.
8 июля: “Вы называете меня вашим “провидением”. Это слишком. Провидение не шутка. Оно меня, может быть, послало к Лиде, и я этим безмерно счастлив. Я не только хотел сделать, но я сумел сделать, что считал “невозможным”. Я оч[ень] счастлив, что сидящие теперь за вашим столом два ребенка локчут молоко, влитое им моими руками. Какая это радость!.. Что поделывает наша Алекс[андра] Н[иколае]вна? Все ли так неизменно беднится и вытягивает душу своею унылостию… Жалкая, несчастная, но упрямая и тупоголовая женщина, которой никто в мире помочь не может. — Пишите о моей Варюше”.
Затем приходится откликаться на плохие вести о здоровье девочки.
17 июля: “Пока Варя живет у меня (4 года), у нее золотухи не было, и я ее всегда коротко стриг, но в раннем детстве у нее, очевидно, была злая золотуха, что видно по шрамам на шее. Тогда она у чухон носила длинные волосы, и золотуха под ними разводилась и спускалась вниз к горлу. Я ее остриг, кожа освежилась, и все шло хорошо, но маменька ихняя, не имея, что брехать, находила это “безобразием”, я уступил “священным правам матери” — и вот плоды этого снова созрели! Теперь еще недостает, чтобы по совету А[лександры] Н[иколаев]ны Варю “прямо” из Знаменки отдать в приют на приютский крупяной кулеш да на картофель, и обе “священные” воли совершатся над бедною девочкой. — Я, однако, вероятно, упрусь немножко на своем “деспотизме”.
Варя спешно вызывается в Аренсбург с подвернувшимися спутниками из знакомых. Встреча рассказывается в письме от 31 июля: одна милая дама, “сойдя или взойдя на палубу “Леандра”, крикнула: “Где здесь дядина девочка?” Варя сейчас и объявилась ей, и она ее спустила при себе с большого корабля на легкий пароходец… — Голова ее поистине ужасна! Вот так награда от родителей!”
В первых же числах сентября Лескову приходится сделать Елшиной строгое внушение за ее к нему письмо, “написанное в натянутом и вообще искусственном тоне, нимало не отвечающем характеру наших отношений. Рассказ ваш я старался поместить как можно лучше и, кажется, не испортил дела… К сожалению, я вижу, вы не умеете вести никаких дел и способны все портить по фантазии… Вам не делает чести такое письмо. Вы во всякое время свободны прервать со мною всякие отношения, и я верю, что останусь тот же, каков и есмь, с добрым расположением к вам и вашему ребенку. Преданный вам Н. Лесков. 4 сент. 86, четверг, ночью”.
Вскоре отношения окончательно обрываются, а через полтора года о ней пишется Суворину: “…А мать Лиды, по удачному выражению одного горячего человека, представляет… и 25 р[ублей] Лиды дает пропивать своему … сыщику” [963].
И этой-то отменно известной в литературной среде особе, по горестной, редко освобождавшей Лескова безудержности нрава, писались письма, затрагивавшие, может быть, и слабовольных, но несравненно более чистых людей.
В личных или письменных обращениях к кровным непременное, ярко выраженное расположение к Варе уже не ищется, а властно требуется, как нечто для всех обязательное. Раздраженность неподчинением этому требованию достаточно ясна из немногих строк одного письма его к сестре Ольге Семеновне: “Ты обнаружила то же самое, что и другие, т[о] е[сть] Кл[отильда] Д[аниловна], Кат[ерина] Ст[епановна], Анд[рей] Н[иколаеви]ч и проч[ие], — т[ак] что ничего особенного в твоем отношении ко мне на этот счет нет… Остальные все вы одним миром намазаны и одно показали и одинаково мне смешны. Большинство людей обнаруживают жестокость не по злости, а по нерассудительности. То самое и здесь. У народа есть пословица: “сирота в доме — божий посол”, а по суждению легкомысленному — это худо, это кому-то мешает, это неприятно видеть, и т[ак] д[алее]. “Сердца”, о котором ты пишешь, я не вижу много ни в чьих детях, и это давно умными людьми решено, что “дети самые большие эгоисты на свете”. Это иначе и быть не может: им недоступно широкое понимание вещей и справедливость. Следовательно, им нельзя быть не эгоистами, т[о] е[сть] не желать себе всего без рассуждения, каково от этого другим? Добр бывает только тот, кто понял жизнь с ее ничтожностью и непрочностью” [964].
Выразительна разница в строках, отводившихся Лесковым присным о сиротке в письмах и к “чрезвычайно проницательному” (смотри ниже) и заведомо берегшему отношения с своими близкими Толстому.
“Поездку к вам опять должен отложить, т[ак] к[ак] получил известие из Киева, что 20 генв[аря] ко мне будут оттуда брат с племянницей. Вероятно поеду тогда, когда они поедут назад через Москву, и я с ними, до Тулы” [965].
“Поехать к вам оч[ень] хочу, да все помеха: брат приедет 25, да пробудет дней 8—10… Очень это суетливо!” [966]
“…У меня теперь гостят родные иже по плоти из Киева” [967].
Все преображается, когда, отвечая Толстому на его письмо о предстоящем голоде и о сильных, не просиживающих своих зобов клевунах, Лесков мягко переходит к любезной ему теме: “…Я живу один, с 11-летней девочкой, сироткой, которую мать не могла пропитать и доверила мне с 2-х лет, и она теперь уже обо мне нежно заботится. Иные говорят, будто она моя дочь, — но я бы и не боялся признаться в этом, если бы это была правда, а это неправда: я ее взял просто по жалости, по одним мыслям с Сютяевым, что надо всем взять по сироте, и получил я в ней удостоверение, что нисколько не трудно любить не свое рожденное дитя как свое кровное. Вышла она у меня добрая и сострадательная ко всякому горю и прекраснейшая чтица, какой я и не слыхивал. Влад[имир] Соловьев слушает ее с восторгом, и Ге ее ласкал. А теперь она ходит читает всем “Суратскую кофейню”, и так читает, что все невольно заслушиваются. И все она ваши книжки знает и читает их детям, рыбакам и старушкам в богадельне. Вот какая мне послана отрада, и по ней я утвержден в убеждении, что…” [968] Но перед тем, как начать четвертую страницу, что-то остановило. Ровно через год он учит Л. Я. Гуревич, как вести себя в устроенной им для нее поездке в Ясную Поляну: “С Л[ьвом] Н[иколаевичем] советую быть откровенною, прямою и искреннею, т[ак] к[ак] он чрезвычайно проницателен, а с доверчивыми людьми и сам становится доверчив” [969]. (Курсив подлинника.)
На смену брошенному письму пошло другое, в котором приведенные выше строки жестко усмирены и сокращены. “…Живу в одиночестве с девочкой сироткой, которую кое-как воспитываю. Ей теперь 11 лет, и она отменно хорошо читает рыбакам “Суратскую кофейню” [970]. И только. Но чего хотелось раз — к тому потянуло и второй: “…К девочке я привязан, и она меня жалеет и любит, так что разлучиться нам — это значит замучиться: она была брошенная, я ее сам на руках носил по солнышку, когда она страдала в детстве, а теперь мы сжились, и она в свои ранние годы и по духу-то мне родная стала” [971].
Делались упоминания и в других письмах. Вызывали ли они какие-нибудь отклики? В известных пока девяти письмах Толстого к Лескову их нет. Случайность? А если “проницательность”?
Близки по тону и назначению и письма к Веселитской, не склонявшейся разделять определение, что Варя “бедная”: “В том, что я назвал Варю бедной девочкой, нет ничего неверного. Кто же она такая? Как назвать дитя, брошенное своими родителями сначала в Воспитательный дом, а потом на мостовую? Она не бедная в смысле несчастности, так как она теперь живет тем, “чем люди живы”. Но ей нельзя отвергать помощь и участие, которые ей предлагает сердечная доброта людей” [972].
Почему же Варя могла признаваться “бедной”?
Это совсем просто: создан был образ “сиротки”. Беллетристически он благодарен, в нем столько содержания и тем, с ним так легко и удобно объединяются представления об единомыслии с Сютаевым. Вот почему-то Толстой как будто не принял его. Досадно… Ну, да всех не убедишь!
Сам Лесков, нередко мысля предвзято воспринятыми “образами”, упорно верил в их истинность, негодовал на не разделявших их непогрешимость, — отсюда шли великие литературные потрясения и трагически неустанная “пря” с близкими. Не отпускались частичные разномыслия даже Толстому.
Впрочем, еще позднее, совсем в конце жизни, 8 декабря 1894 года, на вопрос о Варе в письме к нему Клотильды Даниловны он отвечал ей: “Варя — девочка, еще не выразившая своей нравственной личности, и потому я действительно не охотно говорю о ней. Есть хорошее, есть и нехорошее, а что выработается — богу одному ведомо. В том, что она выросла с мужчиною и в мужском обществе, есть сторона и невыгодная, но все это еще пока неясно”[973].
В октябре 1885 года, когда я волею отца оказался в Киеве, Кетти была внезапно изгнана. В своей угарной голове она, очевидно, слишком переоценила твердость своего положения и была жестоко отрезвлена.
Веселый рассказ “Умершее сословие” заключался комической сценой, разыгравшейся в Киеве, вечерком на улице, между отставным орловским губернатором “умоокраденным” князем П. И. Трубецким и действовавшим киевским гражданским губернатором И. И. Фундуклеем. По-старому петушившийся князь рассказал о происшедшей с ним “неприятной встрече” знакомому доктору, а тот “развез ее во всю свою акушерскую практику” [974].
С еще большим усердием “развезла” по всем известным ей литераторским домам и весям и Кетти Кукк обо всем, что знала и за три с половиной года запомнила. Предосаднейшие толки и пересуды пошли по всем путям, порождая легенды и отражаясь затем в дневниках и “романах” [975]. Однако безвыходность обстоятельств вынудила ее в конце концов согласиться на оставление пока дочери у Лескова. В этом ею была выдана ему “записка”, которая впоследствии была возобновлена.
Непосредственно в разгар бури А. Н. Толиверова открыто высказалась за признание “священных прав матери”, вызвав новую опалу и гнев Лескова.
Около полугода спустя Кетти делает какой-то нескладный ход, породивший очередной взрыв. Снова выступившая, по просьбе потерпевшей, посредницей, та же Толиверова получает серьезный “напрягай”:
“Вы действительно вмешиваетесь в дело, вам постороннее, и имеете полное право надеяться, что не отвечать вам не было бы грубостию; но тем не менее я вам отвечу.
Мать Вари может ее видеть всегда, но не сегодня, когда она меня вывела из терпения. От нее требуется одно: помнить свое положение и знать свое место, а не приходить с замечаниями и с форсом.
Помочь вы ей можете тем, если внушите ей, что она глупа и зла.
“Что будет с Варею летом” — я не знаю, ибо не знаю, что будет со мною. Где буду я — там будет и Варя, — если до той поры не откроется платная вакансия в один из 2-х приютов, которые мне кажутся за лучшие. Это требует счастья, времени, связей и денег. Н.Л.” [976]
Впрочем, опала с нее вскоре не только снимается, но даже сменяется через год обещанием для ее “Игрушечки” целого рассказа — “Лев старца Герасима”, да еще с рисунком Репина [977].
Варя остается в Петербурге у “дяди”, мать уезжает “на место”, не слагая с себя значительных обязательств по воспитанию дочери, аккуратно выполнявшихся ею до 1893 года [978].
Отношения между матерью и дочерью неоткуда было быть здоровыми. Прожив в малоестественных условиях вместе менее двух лет, они снова растеряли друг друга, как оказалось, уже навсегда. Безотступная опека Лескова парализует простоту переписки. Раз как-то, по десятому году, Варе удается тайком написать матери: “Лиза со мной грубая и дерзкая, а Паша хорошо обращается со мной. Лиза все сосплетничала, что ты сказала мне” [979]. Вся переписка контролируется. Иногда девочке приходится писать по готовому черновику.
17 мая 1892 года Лесков делает приписку на Варином письме к матери: “Вы напрасно делаете Варе упреки за то, в чем нет ее вины. Ребенку свойственно желать знать о том, что делается с матерью. Вы не имеете понятия о том, что хорошо и что дурно в дитяти. Всегда хорошо, если дитя правдиво и говорит то, что оно думает, а не таит ничего на уме. Ваши слова могут только сбивать девочку с толку — как надо думать и поступать. Очень смешно и неумно видеть для себя обиду в том, что дитя спрашивает вас о том, о чем оно со всех сторон слышит! Вы, верно, забываете, что ей уже 13-й год и что она умна, понятлива и много читает и много думает, и с нею уже нельзя говорить, как с kleine Püppchen!” [980] A 15 августа того же года заготовляет ответ Вари ее матери, из которого привожу около половины его содержания: “Мы возвратились 15 августа… Любит или нет меня дядя, об этом не для чего спрашивать. Все равно я всем обязана одному ему, и если бы он меня не любил, то вы этого поправить не можете; а мне неприлично говорить о человеке, который один меня спасал от нищеты и ничтожества. Прошу вас об этом меня более не спрашивать. Учусь я в той же школе в 5 классе… Прошу вас верить моему желанию вам всего доброго и полезного вашей душе” [981].
Чья дидактика могла сильнее сбивать злополучного подростка — не угадать.
Упоминаемая Варей Лиза, молоденькая девушка, горничная Лескова, недолюбливала ее, как и упоминаемая Варей старая Пашетта. Вообще со слугами дело не шло. Еще в детские ее годы некоторые из них не хотели жить с нею в одной комнате и всегда сторонились ее. И мудрено ли? В “господских” комнатах у нее угла не было, да там надо было серьезничать, подлаживаться под минутное настроение, угадывать желания. Это стоило сил и напряжения. Девочке хотелось подурачиться, а вертясь на кухне, она мешала занятым людям работать, надоедала, раздражала, да того гляди, может быть, еще что и “насплетничает барину”. Лучше от нее подальше! Так и оставалась она невольно между двух стульев. Невыгодная позиция.
Предубежденный против Кетти, я перенес тогда известную долю нерасположения и на ее дочь, произведшую на меня сразу физически тягостное впечатление, а потом, в создавшихся условиях, казавшуюся мне непростой и неестественной. С одной стороны, она вызывала во мне жалость, с другой — я не находил в ней ребяческой искренности, которую видел в детях Толиверовой, Матавкиных, Крохиных, Штромбергов. Вспоминая это, я решил воздержаться от непосредственного свидетельства о Варе, предоставив это другим.
“Внешние”, как сказала Гуревич, заботы о ней Лескова выразились всего значительнее и определеннее посмертно: 18 ноября 1892 года Лесков подписал нотариальное духовное завещание, по которому Варя была уравнена в правах по наследованию с родной дочерью и родным сыном.
Две недели спустя после подписи завещания, 2 декабря 1892 года, он дома составляет распоряжение, озаглавленное им: “Моя посмертная просьба”. Половина этой “просьбы” отведена Варе.
Здесь Лесков снова подтверждает, что Варя не его дочь, и обращается к Литературному фонду с мольбой о содействии ей в окончании ею начатого образования.
При наличии уже юридически бесспорного завещательного распоряжения эта мольба являлась беспредметной [982].
Два письма его к ней же опубликованы Фаресовым в утреннем выпуске газеты “Биржевые ведомости”, 1905, № 8681, 21 февр. В Пушкинском доме находятся и письма В. И. Долиной к ее матери.
На исходе 1897 года она прекратила свое образование, самочинно бросив дорогой интернат при Анненшуле, и тайно от своего попечителя вышла замуж за какого-то недоучку, занимавшего ничтожное служебное положение в захолустной Устюжне. С этих пор все связи с ней оборвались.
Кетти Кукк после смерти своей, уже вдóвой, матери наследовала в родном Пернове недвижимость, дорожавшую с постройкой железной дороги столь же бурно, как тихий когда-то городок превращался в прекрасный, излюбленный москвичами и петербуржцами купальный и лечебный курорт.
Но довольно житейно-частного. Остановимся ненадолго на взглядах о детях, высказанных Лесковым в смене времен, условий, настроений.
В расцвете сил и лет, в начале литераторства, в пылкой противонигилистической статье “Специалисты по женской части”, перечисляя грехи этих нигилистов, он убежденно писал: “Материнскую заботливость о детях называли узостью взгляда, которому противопоставляли широкий взгляд на сдачу детей попечению общества или на существующую будто бы возможность любить чужих детей, как своих” [983].
Любить своих детей больше, чем не своих, исповедуется тогда как “простые, но величавые в своей простоте” истины, как credo.
К полсотне лет Лескова этот же культ подсказал ему раз написать М. Г. Пейкер, что в ее руках сейчас самое дорогое, что есть у него на свете, — его тринадцатилетний сын [984].
Жизнь идет дальше, не оставляя ничего неизменным. Подходит старость. В шутливую минуту, в разговорах о детях и их воспитании, Лесков, без большого простодушия, иногда читает вслух шутливое четверостишие Шумахера к памятнику баснописца Крылова:
Лукавый дедушка с гранитной высоты
Глядит, как резвятся вокруг него ребята,
И думает: “О милые зверята,
Какие, выросши, вы будете скоты!”
— Скажете — грубо? — спрашивал он, окончив. — А никуда не денешься — верно! Я всегда с этой мыслью смотрю на всех этих отпрысков так называемых “хороших семей”, которыми засижены наши модные дачные места. Да и далеко ли это от деда Митрича из “Власть тьмы”, заверявшего свою внучку Анютку: “Еще как изгадишься-то!” — заканчивал он ссылкою на Толстого.
А еще позже, в письме к А. Н. Толиверовой, пытавшейся было сопричислить Лескова к “друзьям детей”, уже вовсю полыхает “взрывной темперамент”:
“Почтеннейшая Александра Николаевна!
Так как вы выразили намерение напечатать мой портрет в числе “друзей детства”, то я должен вам сказать, что это едва ли будет уместно. Я не питаю никаких особливых чувств к детям, из среды которых выходит все множество дурных и невоздержанных людей, укореняющих и упрочивающих несчастия человеческой жизни. Поэтому я никак не хочу, чтобы меня называли “другом детей” — существ, ничем добрым себя не выразивших. Пусть с ними дружит кто хочет и кто может дружить с неизвестными величинами, но я питаю более дружбы к тому, что я знаю за хорошее и полезное: я дорожу дружбою взрослых и зрелых людей, доказавших жизнию свою нравственную силу, прямоту, честность, умеренность и воздержание. Этим людям я друг и хотел бы жить и умереть с ними; но что до детей, то их потому только, что они дети, — я нимало не люблю и часто ужасаюсь за них и за их матерей и отцов. Притом же у вас в журнале было сказано, что вы будете пособлять воспитывать детей так, чтобы они умели достигать как можно более “счастия”. Но этакое воспитание, по моему понятию, очень предосудительно и гадко, и я ни в каком случае не желаю быть в числе “друзей” тех детей, которых педагоги ваших изданий будут воспитывать в выраженном ими вредном и противообщественном духе.
Н. Лесков.
Если вы напечатаете мой портрет — я должен буду все это выразить печатно” [985].
Приведенные здесь “неизвестные величины” одновременно вводятся Лесковым в рассказ “Зимний день”, появившийся в майской книжке “Русской мысли” 1894 года. Героине Лидии приписывается выражение: “Я не люблю неизвестных величин, я люблю то, что мне известно и понятно” [986].
В эти же последние годы он говорил, сидя за своим столом:
“Каждому человеку суждено погибнуть так или иначе. Иному от денег, другому от безденежья, третьему от жены, четвертому от любовницы и т. д.”.
“Забот слишком много у людей: каждый думает обеспечить себе старость, а может быть, ее у него и совсем не будет; обеспечить детей, а из них, может быть, выйдут негодяи, которых и поддерживать или обеспечивать не стоит”.
“Надо жить для самого себя, то есть для идей, которые есть в тебе и которые ты считаешь лучшими. В этом смысле в самом себе домогаться счастья, а не в жене, не в детях, не в богатстве и так далее” [987], — грустно завершал он свою декларацию.
А в общем — сбивчивость, противоречия: не любить своих детей — это архинигилистическая ересь; любить их — велико ли дело: своего и корова оближет; без ребенка дом скучен, а с ним, да еще как начнет подрастать, — досадительно; чужой ребенок — божий посол, через него бог наше сердце пробует; через своих пробовать сердце некому; в конце концов, дети — неизвестные величины, пусть их любит или дружит с ними кто хочет…
Как во всем этом разобраться и что из всего этого вынести, воспринять к разумению, к применению в жизни?
ГЛАВА 6. ПОСЛЕДНЯЯ ЗАГРАНИЦА
“Я был за границею три раза, из которых два раза проезжал “столбовою” русскою дорогою, прямо из Петербурга в Париж, а в третий, по обстоятельствам, сделал крюк и заехал в Вену”, — не совсем точно в определении маршрутов, но верно в указании числа поездок повествует Лесков, разворачивая свой рассказ “Пламенная патриотка” [988], по первоначальной публикации — “Император Франц-Иосиф без этикета” [989].
Первой, самой богатой впечатлениями и отражениями их в корреспонденциях и статьях, как и очень любопытной второй — отведено свое место в предшествовавших частях и главах.
Начал сильно тучнеть и еще сильнее поддаваться непрерывному раздражению и относя многое здесь к “печеням”, в которых многое “засело” с давних лет и приумножалось за последние, он, посоветовавшись с врачами, решил летом 1884 года полечиться в Мариенбаде, оставившем у него благодарную память с 1875 года.
Я, сдав очередные экзамены, поехал на Украину, а он стал подгонять дела и собираться. Было условлено, что, окончив курс лечения, он на обратном пути заглянет на недельку в Киев повидаться со старухой-матерью и прочими единокровными, после чего мы вдвоем вернемся домой в Петербург.
Едва я добрался до Киева, как туда пришло на мое имя письмо отца, только что известившегося о кончине там его друга Филиппа Алексеевича Терновского, и тем же днем писал он по этому же поводу, в Киев же, и Ф. Г. Лебединцеву. Начиналось образцовое воплощение лесковского исповедания: при беде в писательской семье — “мистику-то прочь”, а помогай — “преломи и даждь”.
Издателю “Киевской старины”, аборигену города, человеку книжному, со связями в местном обществе, Лесков пишет:
“28 мая 84. Спб.
Уважаемый Феофан Гаврилович!
Вчерашняя депеша из Киева о погребении друга нашего Филиппа Алексеевича Терновского меня потрясла до глубины души. Мы с ним одновременно понесли одинаковые гонения несправедливых людей, и я это перенес, или кажется, будто перенес, а он, — с его удивительно философским отношением к жизни, — опочил… Пожалуй, не выдержал… Сколько горя свалилось вдруг на эту прекрасную, умную и светлую голову! Какая сила вызывает эту “кучность бед”, которые, по словам Шекспира, “любят ходить толпами”. — Бедный, бедный и милый Филипп! Кротчайший бе паче всех человек и сколько печалей и обид он встретил!.. И еще более того, — поверьте, что, кроме очень немногих нас, он остался для большинства “интеллигентов” так, чем-то крайне незначительным… Кроткий Филипп сослужил свою службу “овна Авраамова” и для тех, которые, не видя его, считали его “нечесаным зверем” и, ища кого заклать “в жертву богу”, заклали его…
Прошу и молю вас утолить неодолимую потребность моего сердца, знать отчего он умер и какое и в каком положении осталось семейство? Прошу об этом не для литературы, а для себя. Я любил его всем сердцем.
По счетам с некоторыми редакциями у меня с покойным есть совместничество. Я разумею некоторый литературный материал, который он мне дарил, но которого я в дар принять не желал, и теперь тем паче не желаю. Счет этот на его долю составляет 129 р[ублей], которые я сегодня же посылаю в Киев…
Для литературы из трагедии Терновского желательно бы сохранить хоть одно самое существенное. У меня есть его письма. Переписка между нами шла деятельная до тех пор, пока обоих нас придавило бесправие, и руки опали от всего. Думаю, что кто же нибудь пожелает сохранить этот милый и чистый облик среди профессоров банконсиственного [990] настроения… Кто же это будет сей? И кто столь превосходно пишет, чтобы все взять на себя одного и, может быть, погубить хороший материал? Не позволите ли мне просить вас сообщить, кому уместно, мое мнение, что книгу о Терновском, может быть, лучше было бы составить не так, чтобы один кто собрал и объединил все, что знают многие. А напротив, — не лучше ли сделать так, как издал Михневич книжку о Якушкине [991], то есть собрать воспоминания многих и не резюмировать их. Это гораздо живее и интереснее и ходче идет в продаже. Пусть всякий вносит свой взгляд и свою субъективность, а читатель сам резюмирует. Это, без сомнения, живее однотонной канители и, повторяю, это русской ленивой публике больше нравится. Печатать, разумеется, надо без цензуры. Я охотно и безвозмездно дам и копии с писем и отдельный очерк моих личных воспоминаний с моею подписью. Вообще я прошу не отстранять меня ни от какого предприятия, имеющего задачею поставить имя Терновского на вид…” [992]
Еще, может быть, горячее письмо ко мне:
“28 мая 84. Понедельник.
Спб. Сергиевская, 56,14.
Я страшно потрясен напечатанною вчера телеграммою о кончине Филиппа Алексеевича Терновского, который был мне мил и близок по симпатиям и даже по несчастию. Оба мы были одинаково и одновременно оклеветаны и вышвырнуты из службы, как люди “несомненно вредного направления”. История эта, подлая и возмутительная по своему гнусному и глупому составу, была тяжела для меня (и остается такою), а Филиппа Алексеевича она стерла с земли. — За несколько дней перед этим я собирался писать ему. У нас есть маленький совместный заработок, составляющий для него 129 рублей. — Деньги это небольшие, но я не знаю — в каких обстоятельствах его кончина застигла его семейство. Сегодня же отдаю Мише 129 рублей для отсылки их завтра на имя брата, Алексея Семеновича, а тебе приказываю тотчас сходить к А[лексею] С[еменови]чу и попросить его, чтобы он сам взял с почты и выдал тебе те деньги или же надписал тебе доверенность на получение их.
2) Не ожидая прихода денег, сходи за Житомирскую заставу, по Вознесенскому спуску в дом № 7-й, принадлежавший покойному Филиппу Алексеевичу, и спроси: где его дети и кто при них за старшего? Повидайся и скажи о моем глубоком и скорбном участии.
3) Если бы это было чем-нибудь затруднено — сходи на Софийской площади в редакцию “Киевской старины” к редактору Феофану Гавриловичу Лебединцеву (моему знакомому) и передай ему мой поклон и расспроси его:
а) кому ты должен отдать деньги, высылаемые отцом?
б) какова была кончина Филиппа Алексеевича?
и в) занят ли кто-либо и кто именно его трагическою биографией? При сем скажи, что у меня есть много писем Филиппа Алексеевича и я их предоставлю охотно в распоряжение биографа.
Если же Лебединцев об этом ничего не знает, то узнай мне от кого-нибудь (мож[ет] быть, и от него же) — как зовут профессора университета Иконникова… и где он живет?
Если можно сообщить мне оттиски трех речей, сказанных над гробом несчастного этого мученика ума и справедливости, то я буду чрезвычайно этим обрадован. — Выслать все это мне под бандеролью с маркою 5 к[опеек] и адресом: Oesterreich, Marienbad, H-rn Nicol. Leskow, poste restante.
Когда уяснишь себе, кому должны быть вручены деньги, чтобы они дошли детям покойного, а не распылились по чужим рукам, — тогда отнеси туда деньги и в получении их возьми записку.
Да будет с тобой божие благословение.
Н. Л.” [993].
Тут же оказывается, что и волнующие события, как и беды, идут одно за другим: через три дня отец шлет мне новое письмо:
“Петербург
31 мая, четверг.
Уезжаю сию минуту. Остановлюсь только на день в Варшаве. Задержался сюрпризом Гатцука, который хватил следующую заметку, всеми приписанную мне:
Благочестивое размышление
Усопший митрополит киевский Филофей известен по своему глубокому благочестию, доходившему до сурового аскетизма. На конце дней его господь послал ему духовное испытание, произведшее в нем тяжкую болезнь — нервное расстройство, дошедшее до некоторого умопомешательства. В этой болезни и преставился вскоре честный подвижник.
Ныне, когда усопший иерарх “ничтоже речет о себе”, на судебном разбирательстве по делу Булах является свидетельство, что будто бы покойный митрополит за 30000 руб. (те же 30 сребреников) предал, по просьбе Булах, девицу Мазурина на распятие — благословил ее идти в миссию в Сибирь, что перед кончиною, в болезни, и он, видимо, боялся, чтобы не пострадать от правительства за эти 30 тысяч, и т. д.
Что в этом свидетельстве правда, что ложь? “Ничтоже речет” в ответ свидетелю ни почивший наш благочестивый иерарх, ни помешанная ныне девица Мазурина.
Но кто же этот свидетель, так смело бросающий грязью в православного святителя? Тот самый Тертий Иванович Филиппов, охранитель “благочестия”, который один из первых провидел в рассказах г. Лескова “Заметки неизвестного” якобы вредное глумление даже над духовным саном, потому лишь, что в созданных фантазиею автора типах из духовного сословия автор осмеивает несомненно вредные начала, существующие в духовенстве, как то: обожание формы, человекоугодничество, гордыню, ложь и т[ому] под[обные] человеческие слабости; тот самый “эпитроп” гроба господня, наследник Готфрида Бульонского, поборник у нас константинопольских фанариотов, добивающихся создать в православном мире своего рода папство, признавший вместе с фанариотами болгарскую церковь еретическою за некоторое обособление ее от грабежа и подавления славян-болгар греческим духовенством, тот самый Т. И. Филиппов, который мечтает попасть в обер-прокуроры св. Синода и о котором гласит некий эпиграф:
По службе подвигаясь быстро,
Ты стал товарищем министра.
И дорогое имя Тертия
Уже блестит в лучах бессмертия! [994]
Я должен был это опровергнуть не потому, чтобы боялся Ф[илиппова], но потому, что этот человек сделал мне слишком много зла и я не хочу шутить с ним. Я поступил бы иначе и смелее. Здесь я не мог опровергнуть, — все боятся, но я послал три письма в Москву — в “Курьер”, в “Русские ведомости” и в “Современные известия”. — Постарайся последить в № 31 мая или 1 июня — напечатают ли там мое заявление, и пришли мне вырезку…” [995]
Мне удается найти открытое письмо отца только в № 150 “Русского курьера” от 2 июня 1884 года и выслать номер ему в Мариенбад. 1 июня Лесков в Варшаве, 3-го — в Дрездене и утром 4/16 июня — в Мариенбаде.
Невольно оторванный от литературной работы, но не могущий провести день, не взяв в руки пера, он досуже пишет на родину.
Мариенбадом Лесков очень доволен. Встает в 4 утра, пьет воды, берет ванны, ходит в горы и в 9 вечера спит.
Соотечественников “бездна, и все отвратительные пустельги”, — пишет он мне 20 июня (2 июля), прибавляя: “Новые знакомства у меня проходят обыденкою, а на второй день я “принасуплюсь” — и опять на всей свободе… В Киев ехать положительно не вижу зачем и не думаю, тем более что нужно усиленно поработать… Пока же все мое внимание занято моим сердцем и легкими, ибо я хотя и не особенно жизнелюбив, но люблю быть никому не в тягость” [996].
Более позднее письмо ко мне заканчивается безнадежно: “Дамские гонения не устают, но я уже махнул рукою, п[отому] ч[то] все равно работать нельзя, да и скрыться некуда. Здесь им делать нечего от скуки. Я им дарю, вместо роз, розовые пачки бумажек для… Они это сносят” [997].
Иноземный вояж ограничивается на этот раз одним Мариенбадом. Проходит он несравненно тусклее, чем в 1875 году.
Не пришлось даже еще раз вспотеть желчью, которой, однако, не меньше прежнего во всех помыслах и почти в каждой письмовой строке. Все вяло, одолевает “обыденка”, почти равнодушие. Лечение идет, а успешно ли — увидим.
Корреспонденты тоже не те: неискусный фельетонист В. О. Михневич из “Новостей”, педантичный и скучноватый С. Н. Шубинский; киевское родство, от которого хочется лишь отписаться и освободиться от обещаний повидаться. С Щебальским отношения неотвратимо вянут. С сердечным М. А. Матавкиным, которому прежде поверялось все самое интимное, давно все похоронено. Кому же еще можно писать? Подростку сыну, ленящемуся отвечать на письма, юродствующему В. П. Протейкинскому; наконец, к себе в дом, по хозяйству? По темпераменту этого мало.
“Была бы душа в сборе и работали бы руки”, — писал Лесков годом раньше дружественному, сейчас уже покойному, Ф. А. Терновскому [998].
А отчего было ей быть в желанном сборе?
Впрочем, опричь “нутряного”, с остальным мириться можно.
О самом леченье и верности избрания для него именно Мариенбада пишется охотно в ряд адресов. Привожу для примера выдержки из двух писем к Шубинскому: “Приехал сюда я 17-го здешнего июня, имея 182 фунта, а теперь, нимало не утратив сил и бодрости, содержу в себе 166 фунтов. Итого сбросил 16 фунтов жира и принял в кровь изрядную долю железа… Одышки нет, и я свободно всхожу на самые высокие возвышенности, куда с приезда не мог и думать взойти, а потеряв 7 фунтов, шел в первый раз садясь каждые 5—10 минут… Немцы ко мне оч[ень] благосклонны, так что даже заставили завидовать мне настоящих генералов, которых теперь много привалило из Франции. Меня сделали “почетным гостем”, прислали “почетный билет” в собрания, клуб и библиотеку; не пожелали взять с меня податей (около 25 гульд[енов]) и за пользование врачебными пособиями. Всего одолжили, пожалуй, гульденов на 100. — Дома, в отечестве, со мною еще такого казуса не было. — Из Веймара приехал посольский свящ[енник] старик Ладинский и сам был у меня три раза, с русскою манерою — не обозначать своего адреса на карточке (веймарской). Я его искал весь день по Мариенбаду и в воскресенье пошел в русскую (походную) церковь. Подходя к кресту, я сказал ему мое имя. Он сию же минуту вернулся в алтарь, подал мне просфору и вдруг сказал: “Знаете ли, господа, кто это? Это наш умница Н[иколай] С[еменович] Л[есков]”. Я переконфузился, а он добавил: “Да, да, наш милый, честный, прекрасный умница”. Потом перекрестил меня и сказал: “Я 25 лет на чужбине и 18 лет мечтал о счастии вас видеть и обнять”. Мы оба растрогались и… чего-то заплакали. Это м[ожет] б[ыть], не умно, но тепло вышло…” [999]
Получив однородное сообщение, работавший в “Новостях и биржевой газете” В. О. Михневич тиснул довольно неуклюжую статейку [1000], в которой не оттенил, что Лескову были оказаны внимание и льготы, предоставляемые в Мариенбаде решительно всем писателям без исключения.
“Новое время”, особенно богатое нерасположенными к Лескову участниками, пользуясь отсутствием самого Суворина, разыграло на этом пошловатый фарс [1001].
Почти одновременно же пришлось Лескову прочесть в выписывавшейся мариенбадским курзалом газете правительственное распоряжение об изъятии из библиотек ста двадцати пяти сочинений с “Мелочами архиерейской жизни” в их числе [1002].
Это не могло радовать и ободрять.
“…Здоровье мое, по милости повелевшего мне “есть хлеб свой в поте чела моего”, — в состоянии хорошем… Строгий режим вод меня нимало не изнурил, но как он длится уже 40 дней, то стал немножко докучать. Хочется уже спать до 7 час. и посидеть за бумагой. Перечитал бездну, оч[ень] мало умного. Хороши две брошюры московского сочинения “Полит[ические] призраки” и “Черный передел реформ имп[ератора] Ал[ександра] II”. Остальное — более красного оттенка — все глупо, хотя как материал не лишено интереса. Пошлю на ваше имя 2–3 брошюрки: выдадут — хорошо, а нет — пусть пропадают. — “Свистать” надо мною можно как надо всяким, но в подлости и лицемерии меня едва ли можно уличить, как можно в том уличить бы гг. свистунов. Михневич все сделал неловко и грубо и не зная дела. То, что оказано городским муниципалитетом мне, — постоянно по коренному здешнему обычаю оказывается каждому писателю — эллину же яко и иудею, т[о] е[сть] немецкому, как и иностранцу, к какой бы нации он ни принадлежал. Это так здесь всегда и для всех писателей, которых знают. Почему же узнали меня? (Тут и изощрялось надо мною остроумие.) А дело весьма просто, и причин тому много: 1) книга Бокка “Bürgethum und Bürokratie in Russland” [1003], которая жадно прочитана всеми немцами и где [...] составлена из перевода моих статей об Остзейск[ом] крае, с большими и даже, м[ожет] б[ыть], излишними мне похвалами за “благородное беспристрастие и справедливость”; 2) библиотекари Гетц и Шигай (чех) из Егера, у которых я в 1-й же день приезда подписался на чтение книг русских и польских. Из них Шигай как услыхал мое имя, так и признал меня, ибо имеет мои книги. Надеюсь, это не диво, a Marienbad весь с тарелку, и “Marienbader Zeitung” есть издание того же Шигая; 3) русские студенты из Вены (преимущ[ественно] евреи) — которые приходили ко мне сделать визиты “как писателю”, — что здесь в обычае, и, наконец, 4) священник, которого привет я сообщил вам. Кажется, довольно этих причин, чтобы в городке, который весь собирается ежедневно у одного источника, могли меня узнать, и “титуловаться” мне не было никакой надобности. — “Свистуны” все судят по русским понятиям, забывая, что здесь паспортов нет. Двое французов из редакции “Siècle” и “Figarо” имели точно такое же внимание, хотя известность их, м[ожет] б[ыть] даже короче моей. Здесь просто — люди вежливы, и занятие литературою пользуется вниманием. Более ничего. Тут и в библиотеках с литераторов не берут денег за чтение, как с лекарей в аптеках за лекарства. Есть и иные странности, напр[имер] дамы дарят корзины цветов… Беда, если бы об этом узнали! То ли еще не преступление! То-то ли не глупость! Но вы, надеюсь, знаете, что я нескромностию и нахальством никогда не отличался, а если меня знают попы, дамы и студенты, то уж это так само от дел сделалось. Над чем же свистать-то? Что их русского человека поставили не ниже, чем француза, или поляка из Кракова, или венгерца из Пешта?! Экие тактичные люди мои собраты! Разъясните им, пожалуйста, при случае, что дело могло обходиться без моего радетельства об известности. — Пусть будут сведущее о порядках тех стран, где — редакцией не называют “борделями”, а писателей не считают “отребьем”. Это им может пригодиться. Из Marienbad'a я уезжаю 28 (16 русск[ого]) июля в понедельник и покидаю его не без сожаления. Дивное, прелестное место! Нигде уже не будет ни так “frisch”, ни так “frei”. — Маршрут держу на Прагу, где хочу многое видеть, и пробуду там с неделю. Потом на 2 дня в Дрезден, а оттуда уже на Вену, где хочу быть у знаменитого Нотнагеля (доктора) и просить его о совете для моей злосчастной нервозности, кот[орая], впрочем, здесь облегчилась, м[ожет] б[ыть] по причине душевного равнодушия и близости к природе. Что сделаю далее — еще сам не знаю. Если Нотнагель найдет, что я поправился хорошо, то, может быть, вернусь в Россию ранее, в августе” [1004].
18/30 июля Лесков выезжает в Прагу, где в первые же часы обнаруживает исчезновение бумажника с деньгами, документами, аккредитивом и паспортом.
Один из едва набросанных и неопубликованных вариантов рассказа “Фантазии госпожи Гого” (или “Дикая фантазия” и другие заглавия) [1005] начат Лесковым так: “Я принял курс бесполезного лечения в Мариенбаде и направлялся на юг Европы, но в первом же городе, где остановился, именно в Праге, через полчаса после приезда был обворован дочиста: у меня был украден бумажник, в котором было около тысячи гульденов наличных денег, банковые чеки и мой паспорт. Словом, я не успел оглянуться, как лишен был не только средств продолжать свое путешествие, но даже доказать мою личность… К довершению моего затруднения я не нашел на другой день в Праге ни русского консула, ни священника, которые, как я ожидал могли бы сказать что-нибудь о моей личности. Все в эти жаркие летние дни жили вне: покинули душную Прагу, и положение мое становилось критическим. Я послал депеши родным в Киев, петербургскому градоначальнику, от которого брал пропавший заграничный паспорт, и в Вену нашему послу, прося удостоверить мою личность, но пока на все эти депеши придут удовлетворительные ответы, мне было жутко. Во всем городе я не знал решительно никого. Тогда мне вздумалось обратиться в редакцию одной чешской газеты, где я мог почитать себя не совсем безызвестным. И действительно, там обо мне что-то слыхали и напечатали на другой день пять строчек о том, что со мной был “неучтивый случай”. Затем мне оставалось ждать погоды у моря, и я ее ожидал довольно долго, но и довольно терпеливо, благодаря одному прекрасному знакомству, сделанному по указанию редактора газеты, напечатавшей о “неучтивом случае”…
Дома рассказывалось о чрезвычайно душном номере на солнце, где он снял пиджак, повесил его на спинку стула и сейчас же попросил переменить ему комнату на теневую, прохладную. Комиссионер предложил посмотреть номерок через коридор, напротив. Лесков пошел за ним в одном жилете. Комната понравилась, он вернулся за пиджаком и прочими вещами, а когда хватился — бумажника не было. Остальное несущественно.
Случай мог напомнить что-то из “полковых” рассказов В. В. Крестовского, подсказать, в связи со своей пропажей, одну фактическую частность для широко потом задуманного и развернутого, самобытнейшего во всем своем рисунке и психологическом освещении, вышедшего через полгода рассказа “Интересные мужчины” [1006].
Но, говорят, нет худа без добра. Посещение Праги принесло не одно терние, а и ценный плод — рассказ “Александрит” [1007], по первому наименованию “Подземный вещун”. Четвертая его глава начата всесторонне точным автобиографическим указанием:
“Летом 1884 года мне пришлось быть в Чехии. Имея беспокойную склонность увлекаться разными отраслями искусства, я там несколько заинтересовался местными ювелирными и гранильными работами”.
Склонность увлекаться искусством на этот раз привела к сближению с чудаком чехом, в уста которого русский писатель вложил вещие слова, вероятно в равной мере принадлежавшие и Лескову и старому гранильщику:
“Шваб может хорошо продавать камень, потому что он имеет каменное сердце… [1008] Шваб — насильник, он все хочет по-своему… Голова! Да, голова — важная штука, господин, но дух… дух еще важнее головы. Мало ли голов отрезали чехам, а они всё живы… Но чех не таков, его не скоро столчешь в швабской ступе!” [1009]
Здесь чех и русский сочетались в оценке захватнических вожделений юнкерской Германии, в ее отношении ко всему славянству.
Однородной оказалась и любовь каждого из собеседников к своей родине, готовность служить ей сколько хватит сил.
Фактически из Мариенбада Лесков держал путь не на юг, а на север, домой, намечая лишь на день-два остановиться в Варшаве для свидания с И. К. Щебальским в дань прежней дружбы. Они давно разошлись, но в сердце еще теплилась приязнь.
Достигнутые было в Мариенбаде уравновешенность нервов и оздоровление печени благодаря событию в Праге пошли прахом. С этой стороны завязка первого из недописанных рассказов определяла положение без преувеличения.
4 августа Лесков уже дома.
С этих пор летними резиденциями являются: в 1885 году — рижский Дубельн, в 1886–1888 годах — грязелечебный Аренсбург, а дальше уже и совсем ближние места.
За границу больше не тянет.
ГЛАВА 7. КРОХИНЫ
Позднею осенью 1884 года в Петербурге появляется супружество Крохиных. Поселяется оно по началу на одной лестнице, дверь в дверь, с нами. Ожидается некоторый жизненный уют: младшая сестра, любимый зять, неизменная почтенная Степановна — все это тут, рядом, за стеной.
Большая разница лет [1010] и жизненных положений исключали возможность создаться свычке, а с тем и большому дружеству между сестрой и братом. Детские годы Ольга Семеновна жила дома или у родных по их деревням. Школьные — она провела в частном дворянском пансионе в деревне Черемисовке Ливенского уезда Орловской губернии. Здесь ее обучили “жарить” на фортепиано, “парлировать” по-французски и всем прочим светскостям в среднедворянском стиле.
Со смертью — в этой же Черемисовке — от кори ее младшей, по общим отзывам многообещавшей, сестры Маши Марья Петровна перенесла на Ольгу любовь, которою прежде горела к умершей.
В свое время ее начали “вывозить”, но явно без успеха. Лицом она была похожа на брата Михайлу; это не красило девицу; приданого — никакого. “Невеститься” было нелегко. Не обходилось без уколов самолюбию от более счастливо поставленных во всех отношениях сверстниц из богатого родства, а случалось, и от брата-литератора, даже в печати.
С переездом в 1863 году с матерью к Алексею Семеновичу в Киев она и там “выезжала” с ним на большие частные или в дворянском собрании балы, но по-прежнему бесплодно. Мечты о блестящей “партии” вяли, годы шли, росла досада, близилось тридцать.
От избытка досужести, по исконному провинциальному обычаю, она жила городскими новостями, слухами, пересудами, с жаром предаваясь, по выражению Лескова, “очистительной критике ближних и искренних”, приобретая в этом искусстве большие навыки и теряя чувство меры.
Случилось, что даже мягкосердный брат ее Василий нашел себя вынужденным написать своей матери: “На днях я услышал, что Ольга рассказывала где-то у своих знакомых, что ты с нею предпринимаешь ко мне поездку ради того, чтобы спасти меня от гибели, что, мол, я так дурно веду себя, что из рук вон, и тому подобный вздор, который слушать мне было неприятно и больно. Спасибо ей за заботливость обо мне, но все-таки я просил бы ее помалчивать, а не болтать вздор зря, где и кому придется, — видно ей неймется, сколь ни говори об этом” [1011].
В изнеможении от праздности сплетни казались делом.
Три с лишним года спустя тот же брат успокаивающе наставляет ее: “Мой серьезный совет тебе — держи себя ровно, не либеральничай, и все хорошо пойдет, а при неладах беда общая для всех; главное — не давай воли своему языку, возьми его хорошенько в руки, а то он у тебя уж совсем произвольно действует, никому не подчиняясь. Второе (не менее важное) — постарайся выйти замуж, право это не шутка; рассуди сама, что за перспектива твоя — положение старой девы на чужих хлебах!” [1012]
Ясно улавливается рекомендация бросить позу разборчивой невесты, смириться в выборе и обуздать свое злоречие.
Наконец судьба улыбнулась: 1 июля 1873 года она выходит замуж за скромного человека, оказавшегося превосходным мужем, заботливым отцом и добрым другом всех своих новых родственников, сумевшего внушить редкостно длительное расположение к себе даже Николая Семеновича.
Николай Петрович Крохин, он же обычно “Петрович”, родился 3 августа 1837 года. Это был крупный, немного рыхлый человек, акцизный чиновник с головы до пят. За пределами презиравшегося Лесковым “фиска” с него спрашивать было нечего. Семьянин и хозяин в доме первостатейный, а дальше — мирись с тем, что есть. Жили муж с женой душа в душу семнадцать лет, читая по вечерам журнал “Новь” и находя в этом полное удовлетворение всем запросам высшего порядка: никакой “фантазироватости”. Во всем полная противоположность кипучей и страстной натуре шурина — писателя.
На чем же могла создаться дружба этих двух ни в чем не схожих и не одномысленных людей? Да и была ли она? Во всяком случае, равноправная, равноценная? Крохин искренно, даже немножко суеверно, чтил. Лесков снисходил, ценя в зяте больше всего почтительность, никогда не позволявшую ему вступать в серьезные пререкания и несогласия со своим именитым свояком. Он обезоруживал Лескова полной безответностью и слепой покорностью. Это принималось как должное. Расположение к зятю не распространялось на сестру. Ей и при муже, и особенно во вдовстве, приходилось выслушивать очень много жестокого. В беседах с Лесковым “Петрович” только слушал. Отступавшая иногда от этого мудрого правила Ольга Семеновна сплошь и рядом дорого расплачивалась за эту неосторожность.
В благодарность за благонравие Лесков, через директора Департамента неокладных сборов А. С. Ермолова, в 1884 году изымает Крохина из карьерно безнадежного Канева в столицу, а еще через четыре года тем же путем выхлопатывает назначение его в Витебск помощником управляющего акцизными сборами. Это, по губернской мерке, уже “пост”, открывавший в будущем доступ к нешуточным чиновным вершинам, суливший Ольге Семеновне возможность занять, наконец, смолоду увлекавшее ее воображение, положение губернской dame du monde [1013].
Несмотря на все эти счастливые предпосылки, Витебск чем-то не угодил ей. За это сначала даже в ласковом письме хорошо влетает сперва сестре, а дальше и двум “фетюкам”, в которых разумеются Алексей Семенович и сам Крохин:
“Любезный друг Петрович!
Я виноват перед тобою, что не отвечал на два твои письма. Спасибо тебе, что ты настолько меня знаешь и любишь, что написал еще и третье. Конечно, я теперь оч[ень] занят и чувствую, что силы во мне уже не прежние. Похваляю, что ты записался в клуб и можешь оттуда брать все журналы. Это лучше, чем держать одну “Новь”, в которой очень мало читательного материала, и он часто не самого лучшего качества. Если выписывать, то уж почему же не выписать “Вестник Европы” (Спб.) — или “Русскую мысль” (Москва). — Из газет я бы сам для себя предпочел издаваемые в Москве “Русские ведомости”. (Не “Московские ведомости”, а “Русские ведомости”, как газету не торговую, которая говорит, что думает, а не то, что по ветру и “чего изволите”). “Новое время” — пестрее, веселее, неожиданнее и, пожалуй, занимательнее. Надо брать, что отвечает душе. — “Русск[ие] вед[омости]” могут дать всякому событию совещание верное и осмотрительное, — “Нов[ое] вр[емя]” — как случится. — “Р[усские] в[едомости]” умнее и сдержаннее; “Нов[ое] вр[емя] патриотичнее и способно доводить проволоку до белого каления. Эту газету “везде ругают и всюду принимают”, а я бы для себя все-таки выписывал “Русские ведомости” из Москвы, чтобы знать, чего настоящие, умные люди держатся, а не повторять вздор за всяким репортером и краснобаем. Лучше советовать не умею. Очень рад, что ты уже устроился на службе и в доме, и советовал бы и в клуб похаживать. Жить совсем без знакомств и связей нельзя, а домашние знакомства много требуют, да и сплетни разводят. Самому же (мужчине) сходить раз в неделю и посидеть вечерок с людьми — очень полезно и даже необходимо, чтобы знать, “как располагаются масти и козыри”. Раз в неделю я бы всегда пошел и посмотрел и послушал, “о чем лес шумит”. — Постройки города не много значат для счастия. Кроме Петербурга и Одессы — везде у нас грязно. Все сыты, одеты, есть лекарь, аптека, училище — вот и место хорошо” [1014].
Дальнейшая, впадающая в раздраженность часть письма, с рикошетом по “фетюкам”, приведена уже выше.
Оказывается, раньше, чем ответить Крохину на его письма, Лесков в несохранившемся письме к брату Алексею уже укорил сестру за недовольство Витебском. Киевский “фетюк” попробовал заступиться, назвав ее доброю бабой. Николай Семенович не простил заступничества:
“Добр[ая] баба” до того овладела своим мужиком, что и его научила скучать “губернским захолустьем”. Такая беда, право! Квартира хорошая, денег довольно, семья в сборе, и все здоровы, и в будущем нет ничего угрожающего, а вот поди же ты — город не хорош!.. Он, говорят, вроде Орла, лучше Чернигова, лучше Минска и Могилева. Чего бы еще надо людям, счастливым в своей семье? Что им подавал П[етер]б[ург] и что они в нем делали, кроме как пили, ели и спать ложились с детями вместе, — и вот, однако, этой самодовлеющей семье нынче нестерпимо скучно” [1015].
На лето 1889 года Крохины сняли дачу на морском берегу под Ригой. Решили попробовать предложить погостить у них Николаю Семеновичу. Ответ был скор и разъяснителен:
“Очень вас благодарю за ласку, но стесняюсь дать слово по многим причинам, из коих об одних писал Ольге, а другие содержу в своем соображении. Я человек больной, и мне нужна моя прислуга. Я не могу ехать без своей девушки, умеющей все сделать мне по-моему… Один, без прислуги я никуда ехать не могу. Сестра же Ольга звать к себе в гости любит, а потом скоро с нее это сплывает, и она начинает тяготиться и придумывать что-нибудь, что ей мешает и портит ее спокойствие. Я это много раз наблюдал в ее отношениях решительно ко всем, кого она к себе зазывала, а потом вскорости же начинала этими лицами тяготиться, — так было с Верою (в Каневе), и с Петровскою, и с Женею Болотовою, и с Геннадием. Я ни за что не хочу, чтобы это же самое проявилось со мною, а оно неизбежно, п[отому] ч[то] характеры в один год не меняются. Поэтому опыт и разумение жизни, и знание характеров заставляют меня верить в искреннее желание сестры видеть меня у себя и совершенно так же искренно верить в то, что она скоро этим удовольствием пресытится и утомится… Я говорю откровенно, и вы по совести должны признать, что я говорю правду (как всегда) и истину, которая имеет за собою все вероятности. Если бы я этого не предвидел, то я поступил бы опрометчиво и глупо, ибо скрыть что-либо подобное от меня — очень трудно, а я не хочу иметь с вами никакого неудовольствия.
Кто имеет какой характер — он в том не виноват, но все другие люди обязаны знать характер того, с кем сходятся на какое бы то ни было малое время. Итак: гостить на месяц в нераздельном жилище я к сестре Ольге не поеду — для своего и для ее спокойствия и для сохранения мира. Если же вы можете отделить мне за цену (непременно за цену) две комнаты, или комнату с переднею, и дать мне (опять за цену) обед для меня, девушки и Вари, — тогда это представляет другое положение, на которое я, мож[ет] б[ыть] соглашусь и приеду в начале июля до 15 августа. Прошу же вас дать мне в этом смысле скорый и совершенно откровенный и прямой ответ на сих же днях. Не стесняйтесь тоже нимало, п[отому] ч[то] я нимало не стеснен возможностью провести месяц в нескольких радушных и мне приятных домах” [1016].
Ответ Крохиных не сохранен. Свидание в это лето не могло состояться, так как Лесков, издавая так называемое полное собрание своих сочинений, весь был поглощен разрешением ряда самых разнообразных и неожиданных вопросов и осложнений как по этому изданию, так и по роману “Чортовы куклы”. Повторение приглашения, должно быть заключавшее в себе принятие полностью всех выдвинутых условий, заставило Лескова заговорить о многочисленных затруднениях, перечень которых заканчивался всеисчерпывающей формулой: “Притом же мне и ехать в Ригу не хочется”.
Не подлежит сомнению, что дело стояло именно так с самого его начала. Вопрос о свидании снимался окончательно. Но так как Крохин не остерегся робко удивиться обвинению его жены в быстрой утомляемости радушием, ему в конце петербургского письма пришлось прочитать отменную отповедь:
“На вопрос твой: почему я думаю, что сестра Ольга скучлива, — мне даже смешно тебе отвечать. Сестра моя не такой сфинкс, чтобы мне предстояло затруднение ее знать и понимать, — тем более, что я и сам скучлив и не выношу, чтобы у меня моталося на глазах то, что должно иметь свое место, а я хочу иметь свое. Второй вопрос: “почему я это приписываю характеру?” — еще невразумительнее. Чему же, ты думаешь, надо это приписывать? Поветрию — что ли, или еще чему?..” В концовке письма приведена неприемлемая в обычных условиях сверхчерноземная поговорка [1017].
Грубовато, но хоть смешно. А случалось Крохину читать строки, больнее жалившие. Рассказывая о своей болезни и принятых в связи с нею мерах воздержания, Лесков пишет этому архиакцизному своему зятю:
“Водки я давно не пью, но вино пью, хотя оч[ень] мало. Курить почти совсем бросил и не встретил в этом большого затруднения. Курение, без сомнения, очень вредно: на это собрана наукою масса доказательств самых убедительных. Притом мне и всякому должно быть приятно стараться вредить портящей нравы общества системе вашего акцизного фиска. Не курить бы да вина не пить, и обратились бы тысячи шнырящих и докучающих фискалов акцизного сбора к производительному делу, а не ко “вчинанию исков” [1018].
Совсем не так давно этот “шныряющий фискал, вчинающий иски”, был относим к людям, “исполняющим волю отца” [1019].
Призабывается на этот раз и то, что и Семен Дмитриевич ряд лет служил этому же “портящему нравы общества” фиску, да и “прекрасной души и сердца” брат Михаила подвизался на этом же порочном поприще.
Вот и разберись — что и как преломляется в пониманиях и взглядах “человека минуты”, как звала Ольга Семеновна своего старшего брата, да и не она одна в родстве.
Строгости и осудительности бывало, правду сказать, много. Но выпадали “Петровичу” иной раз и теплое слово и мягкая шутка.
Неделю спустя после укора в невразумительности посылается ему оттиск из ноябрьской книжки журнала “Русская мысль” за 1889 год с рассказом “Аскалонский злодей” при высоко стилизованном начертании:
“Божиею благопоспешествующею милостию и изволением
при благословении нашем посылаем
Николаю Петровичу Крохину
Смиренный старец Николай
Ересиарх Ингерманландский
и всеа Руссии.
Писали есьми от своего смирения в Петрограде.
Декамбрия в 21 день лета г[оспо]дня от Р. X. 1889,
рукою властною” [1020].
Свободен от всякой наставительности, радушен и прост зов, посылавшийся восемь месяцев раньше:
“Приезжай. Я тебе приуготовляю на петровской высокой очистки: “бодрягу” на свежем померанце; “спотыкач” на цареградском стручке и “московскую умилительную, с душицею, ея же и монаси приемлят” [1021].
Но солнце, тепло и улыбка в Петербурге редки и мимолетны. И снова все “повивается” истомившим всех искушающим дух и сердце учительством.
По весне 1890 года у витебчан возникает мысль о поездке Ольги Семеновны с дочерями на лето в Киев повидаться с братом, может быть несколько отеплить отношения с его женой, пожить у “матушки”, то есть у монахини Геннадии, над Днепром в живописном глухом, “заштатном” монастырьке в Ржищеве. Крохин делится этим с Николаем Семеновичем. Приходит скорый строгий ответ:
“Поездка всей твоей семьи в Киев на лето мне представляется чем-то смешным и безрассудным. Это не только нерасчетливо в денежном отношении, но нерасчетливо и в более серьезном — нравственном смысле: жена брата и твоя жена так друг друга не любят и поносят, что свести их на совместный отдых это просто что-то пошло глупое. Или еще они мало друг друга злили, и надо надбавить перцу и показать детям, что такое называется “родственными чувствами”… Я думаю, что они и так на этот счет понимают более, чем это надобно. Ты очень хорошо делаешь, что удерживаешься на даче близ Витебска. Так отдыха и покоя будет больше, и дети будут удалены от родственной сплетни и пересудов, а это для них всегда полезнее разновременных упражнений в этих делах. “Бог в тишине”, а не в сутолоке, неизбежной при гощении в чужом доме, при хозяйке, с которою есть старые, путаные счеты. Желаю вам всего доброго, а наипаче — укрепления в детях здравомыслия, простоты и любви к людям без различия их вер и породы, ибо все они дети одного творца и посланы им в разных шкурах по его, а не по ихней воле” [1022].
На крохинское поздравление с пасхой и попытку отчасти оправдать женин план “ересиарх Ингерманландский” шлет нечто еще более крепкое, приводимое здесь дословно:
“2 апр. 90. Спб.
Получил твое письмецо и очень тебя благодарю за внимание и память. Приветствую всех вас с наступлением весны. Радуюсь за детей, которым дорого отдохновение [1023]. О разномыслнях насчет желаемого сближения двух дам [1024] не сокрушаюсь. У Христа я помню слова: “враги человеку домашние его”. Пушкин молился об избавлении его от “родственников”. Народ говорит “избавь, боже, от своих, а с чужими я сам полажу”. А в хрестоматии Гокке, по которой я учился, было такое присловие: “Есть люди, которым нечего больше делать, как ссориться и мириться”. Почему бы на свете стали переводиться такие люди, когда не переводится многое другое, столь же мало достойное уважения и подражания? Величать друг друга самыми поносными именами и потом, оставаясь все в тех же кожах, обниматься и находить пользу и удовольствие в общениях — есть несомненный признак полной бессодержательности и любви к гадости… Приводит это обыкновенно к тому, что “последняя будет горше, чем первое”. А впрочем, один мудрец сказал: “поступай как знаешь, — все равно будешь раскаиваться”, — чего от души вам и желаю. Здоровье мое и дела столь мне прискучили, что я прошу позволения не говорить о них. Поистине все хорошо, что непременно кончится.
Н. Лесков” [1025]
Более поздних писем нет.
Пасхальный размен неравнозвучными приветствиями оказался последним. Упрек в любви к гадости, оглушительность метафоры, “нетерпячесть” и сухость концовки принудили к письмовой передышке даже многотерпеливого Петровича.
Апрель и май везде проходят в хлопотах. У Лескова — выпуск последних томов собрания сочинений, сборы и переезд на лето в Шмецк и т. д. У Крохиных — экзамены дочерей, поиски пригородной дачи, служебные инспекторские поездки главы семьи… Всем недосужно. Письмовая заминка затягивается. Жизнь, в ее непостижимых неожиданностях, не останавливается.
30 мая, возвратясь из какой-то командировки, Крохин, в душный и жаркий день в полувоенном стеснительном мундире со стоячим узким воротником, при шашке и регалиях, является к своему “управляющему” и тут же, в управлении, покачнувшись и в молчаливом удивлении оглянув окружающих, грузно падает наземь. Замертво его отвозят домой. Тяжелое кровоизлияние, удар. На пятый день наступает смерть.
Лесков теряет самого любезного ему человека во всем родстве. В Витебске остается сестра-вдова, про которую покойный говорил однажды Лескову: “Оставлю четырех детей, из которых больше всех “дитя” — жена”.
Выдававший в это именно время замуж старшую падчерицу, Алексей Семенович ехать в Витебск не мог. Отец мой, со своей грудной жабой, — тоже. По соглашению с Киевом еду поддержать тетку в тяжелый момент я.
Возникает вопрос, где дальше жить Крохиным — в Витебске, Киеве или Петербурге? Последнее не располагает к себе соображений моего отца. Он инструкционно пишет мне в Витебск:
“Все пустоплясы Киева я имею в виду, но для О[льги] С[еменовны] они будут идти за жизнь и за “чувства”, и все это будет ей сроднее, и поэтому лучше их направлять к Киеву. Иначе, разумеется, был бы лучше Петербург. Но в Киеве дядя им что-нибудь устроит и при непосредственных отношениях с городскою институциею может их поддержать… Я боюсь П[етер]б[ур]га не потому, что он суров и не шутит, а потому, что О[льга] С[еменовна] совсем к нему не годна, а в Киеве все кое-как смажется” [1026]. “Киев после смерти матери и Миши “не тот”, как ранее, — это правда, но ведь такие же события возможны и в П[етер]б[ур]ге. Сравнивая К[иев] с П[етербургом] надо иметь на счету не одно влияние живущих родных, кот[орые] тоже смертны, но весь характер жизни. К[иев] всегда останется глупее, а это для известного рода положений — удобство. При этом там во всем менее конкуренции, а это еще важнее” [1027].
Так все и сделалось: Крохины возвращаются в Киев, но старого для Ольги Семеновны в нем уже мало. Гнезда на Михайловской улице нет: там все сдано внаем. Алексей Семенович живет в просторной директорской квартире Александровской больницы. Здесь по-своему “великосветские” приемы, выезды, “вечера”. Старая, скромного достатка и положения вдовая сестра с ее учащимися девицами — не к масти козырь. Приходится селиться на отлете. Брат по-прежнему добр, но очень недосужен, да и немножко отвлечен общим стилем жизни собственной семьи. В дворянском клубе с ним любит играть в винт сам Драгомиров. Невольно создается ощущение некоторой разобщенности… Не проще ли было податься в Петербург? Не дешевле ли было остаться в Витебске? Здесь сейчас одна ржищевская “матушка”, сестра Геннадия, близка по-прежнему. С ней, в ее приезды, только и отведешь душу!
Переписка со старшим братом сначала идет кое-как, но быстро переходит в сплошное с его стороны, почти невыносимое учительство, выговоры, колкости, не слышанное от покойного мужа за 17 лет счастливого супружества, трудно переносимые на пятом десятке лет. Николай Петрович, как и Алексей Семенович, был ведь “фетюк”, “не умевший” говорить жене спасительное “цыц!” Теперь этого пришло много.
Ольга Семеновна терялась, оскорблялась и, по свидетельству ее дочерей, “очень плакала” от таких писем. Иногда, осмелев, и она в свою очередь отвечала “разметной грамотой”, а дальше, чтобы не испытывать новых потрясений, поручила старшей дочери предварительно просматривать петербургские письма и читать ей из них только самые смирные строки. Наставительный натиск брата на начавшую сильно хворать, духовно подавленную сестру не укрощался. Письмо его от 10 октября 1890 года начинается строками: “Вскоре после получения от тебя “разметной грамоты” я написал тебе письмо, чтобы ты сердилась одна, но не думала бы, что и я буду способен обижаться тоном твоего письма — приличного институтке, а не матери-вдове. Письма того я тебе не послал, но все мне жалко твоего малодушества и хочется знать: как ты перемогаешься”. Заканчивалось оно умягченно, с ласковой памятью и нежностью к покойному: “Смотрю на витебскую карточку Николая Петровича и удивляюсь выражению его лица, точно он говорит: “я кончил”. Лицо бодрое, но глаза поникшие, и взор угас. Удивительное выражение, какого нет ни на каком другом портрете” [1028].
Ольгу Семеновну день ото дня больше раздражает широкий склад жизни семьи брата Алексея, постепенное повышение положения в киевском “свете” нетерпимой невестки и успехов в “обществе” ее хорошеньких дочерей.
Лесков пытается убедить ее смириться, напоминая былые личные ее грехи:
“Из письма твоего вижу, что ты расстроена тем направлением жизни, какого держатся в доме брата! Но что тебе до этого за дело? И разве залезание в какие-то высшие слои — это такая небывальщина и редкость?! Мне кажется, что это ведь общая черта всех дюженных людей, из которых состоит мир. И тетка твоя Нат[алия] Петр[овна], и Сашенька Кологривова, и ты сама с мамою, в вашу бытность в Орле, — все вы “лезли в аристократию”, и ты “выезжала” и “душку Левашова” смотрела… Что?.. Небось вспомнила, и, пожалуй, смешно становится! Ну, и посмейся, а других не осуждай. Это, конечно, суетно и не почтенно, но ведь это захватывает большинство людей, и надо иметь иное направление, чтобы стоять вне этого влечения, но зато тогда явятся другие крайности, и пойдут другие неудобства, которые вызовут, мож[ет] б[ыть], еще большие неудовольствия. Вон у Толстых смута из-за того, что “не хочет знать общества”, — и опять худо, опять неудовольствия… А ты живи просто, и на них не засматривайся, и не осуждай, и не завидуй, и детей от этого беспокойства удаляй, а давай им хорошее чтение, которое давало бы им “лучшее разумение жизни”. Вот и будет твое дело. А ты и сама-то ленива читать и совсем не знакома с хорошими сочинениями, способными раскрывать смысл жизни, — вот это худо, и через это речь твоя с детьми бедна умом и скучна по содержанию. Вот это дурно, и ты это хоть немножечко бы попробовала изменить. Все брать из своей головы, ничем ее не восполняя, — это значит вести себя к оскудению, что у вас и было, даже при Н[иколае] П[етрови]че, — когда вы ошибочно думали, что всякая человеческая семья может жить особняком, “сама для себя”, без общения с миром божиим. Люди созданы совсем не для этого, а для широкой жизни, в общении со всеми людьми. Павел говорил: “Я должен всем”, а не то что “мы себе сами по себе, и сопли распустим, и никого не пустим”. Если дети твои будут ведены так же, то их скоро съест скука, и они также станут видеть цель жизни в том, что ты нынче осуждаешь в других. Давай им дрожжей, на чем бы подходить вверх молодому тесту. Давай им думать о жизни, — а это всего удобнее достигается обильным и хорошим чтением. Но у тебя “нет денег на библиотеку…” Это-то вот и есть то, чего никогда не надо бы слышать твоим детям! Библиотека стоит 1 р. в месяц (не по 1-му разряду), а польза чтения неоценима, и — главное — дети должны привыкнуть искать мысли в книге, а не в празднословии” [1029].
Нервируемая чужим житейским превосходством, вдова не поддается. Это усиливает энергию брата в ее отрезвлении. Посылается булла в семнадцать густо записанных (почти печатный полулист!) страниц.
Чего только в ней нет!
Начинается письмо малообычно, с хвалы.
“Что ты взяла к себе злополучную Б. и ее у себя содержишь — это превосходно и исполняет меня чистою радостию и восторгом! Обнимаю тебя, благодарю тебя, целую и похваляю. Ты это прекрасно делаешь, и Н[иколай] П[етрович] это должен чувствовать. Нет ничего лучше, как исполнить “порыв любви” и сожаления к человеку во время его бедствия и скудости. Это значит прямо: “сослужить по-божию”, как правильно выражает народ. Чудесно, что ты это делаешь, и я рад, что указал тебе на Б — ю. Без этого м[ожет] б[ыть], ты бы ее не поискала, и ей бы угрожало еще большее бедствие…”
Дальше уже звучит что-то иное: “Я бы посоветовал тебе не быть такою неосновательной”, а про приюченную Ольгой Семеновной особу говорится суше, а следом уже и совсем остро.
Высказанное сестрою предположение отправить своих дочерей на лето к их тетке-монахине в Ржищев встречает одобрение, вызывая, однако, очень серьезные поправки и беспощадную характеристику монастырских нравов.
“Намерение твое послать детей на лето в “монастырек” мне кажется хорошо. Там действительно место здоровое, но помещение препоганое… и оч[ень] стесненное, а от этого непременно и нездоровое. Наверху, на горе гораздо лучше. И внизу едва ли не лучше там, где гостиница… В отношении “тишины” ты ошибаешься: тишины в монастырях не бывает, — там всегдашняя сплетня и свада, но надо от этого удаляться. Глупые люди везде суются в чужие дела и всегда ссорятся. Притом же при монахинях приставлены “бесы”. Лучше бы тебе жить за оградой, т[о] е[сть] в гостинице… Так мне думается, и не без оснований. Геннадия-то не “ребенок”, а она “монахиня”, а вот ты так уж настоящий “ребенок”, и это худо”.
С переходом к нерасположению ее к жене Алексея Семеновича и к осуждению ею аристократических влечений последней — выступает рискованная шутка, заключаемая более чем круто.
“…Я знаю одно, что какова бы ни была Кл[отильда] Д[аниловна]— она все вела к миру и объединению, а мать и все наши вели к распре, к разьединениям и обидам ей, и разъединение выросло… Иначе это и не могло быть. Чего хотели, того и добились, и тебе уж этого не исправить. Легко бросить камень в воду, но вытащить его оттуда очень трудно. Я же тебе говорю свое мнение вообще, никак не применительно к семье брата, которую знаю оч[ен]ь мало, но почитаю за людей не злого, а, напротив, даже доброго духа. Слабости же их мне неизвестны, да и едва ли у них не те же самые слабости, как у всех людей”. И опять сестре приходится читать хотя и шутливую, но непосильно крепкую простонародную пословицу, которую не знать, как и стерпеть.
А попутно, от строки к строке больше, нарастает подлинное раздражение, полыхают обида и гнев на брата, с признанием, впрочем, немалых его заслуг, и преподаются тягостные советы самой сестре.
“…Брата я не знаю давно. Давно уже как он стал оказывать мне недружелюбие и презрение, и я его не трогаю, чтобы не раздражать более, и ограничиваю все тем, что всегда отвечаю на его письмо, чтобы дверь сношений была ему не закрыта, но презрение его ко мне не уменьшается, и тому, конечно, должен быть повод, но только я его не могу проникнуть и потому оставляю это дело без исследования. Но зла или даже неудовольствия против него я не имею, и ни против кого зла не имею. И не думаю, чтобы он был “пришиблен”. Твоим наблюдениям я не судья, но я в нем видел нечто иное: а именно общую усталость, происходящую не от чего-нибудь особого, а от всех впечатлений со стороны своих родных… И мне это в нем понятно: он очень много сделал для родных, и сделал это с прекрасною простотою, а все это или совсем не оценено, или оценено оч[ен] дурно, на одних словах, а не на деле. Он служил опорою матери, тебе, Василию [1030], Геннадии и Мише… Возьми у дочерей новый завет или вели им прочесть себе 13-ю главу 1-го послания ап[остола] Павла к коринфянам. Там узнаешь, как должно оказать любовь… пойди и обними К[лотильду] Д[аниловну] и от себя и, пожалуй, хоть от меня и скажи, чтобы она нас простила, в чем были не чисты перед нею… ты увидишь, что произойдет чудо божие, о котором с умом человеческим не вздумаешь, — именно “мир божий, который превыше всякого ума, да водворится в сердцах ваших и обитает там обильно во всяком благоволении”. Тогда мои письма принесут тебе пользу…”
Двумя строками ниже, на избочине 16-й страницы, стояло — “Н. Лесков”. Оставалось вложить 4 двойных листка в конверт. И вдруг снова взмыло: на новом полулистке пишется:
“5) Postscriptum. Еще должен прибавить: ты пишешь, что “хочешь нежной ласки и попечения”. Это находится в связи с тем, что ты “дитя” и что знал и говорил о тебе твой муж: “оставлю четырех детей”. Если бы ты была женщина, а не дитя, то ты бы таких слов не сказала. Какой тебе ласки нужно? Ведь ты уже получила свою долю ласок? Теперь сама ласкай детей, но и то с рассудком, чтобы они не остались вечно детьми, ожидающими ласок… Разве все ожидают ласки и имеют их? Или и меня кто ласкает?.. И зачем тебе “попечения”, когда у тебя 20 т[ысяч] денег, 900 р[ублей] пенсии и когда ты ходишь еще на ногах, а если сляжешь, то у тебя есть три дочери, которые тебе прислужат, если ты их не обучишь кукситься и самим “ожидать ласк и попечений”… Это говорит баба в 40 лет!.. Ах ты, бесстыдница! Тебя надо крапивой продрать! (не прогневайся)” [1031].
Взрывная реакция, исчерпав себя в брате, вспыхивает в сестре: переписка не укрепляет, а расщепляет душу. Необходима передышка!
Год спустя опять совершается на вдову ярый наставительный натиск, с обильными укорами за религиозное невежество, с утверждением верности собственных указаний: “Я вижу истину… Затем я хотел бы не пустословить более по этому великому и святому делу. Вмещай то, что можешь” [1032].
Сестра не вмещает больше. Письма страшат, подавляют довольно… Силы уходят. Надвигается угасание. Дорог покой.
Затягивающийся почтовый разрыв тяготит “нетерпячего” брата. Упорно молчат и племянницы, всегда робевшие писать требовательному дяде.
Остается последнее средство: запросить о всем и всех, два года назад переокрещенную в “Крутильду”, жену последнего оставшегося еще брата. Из ее неотложного ответа узнается, что сестра две недели как умерла.
Ни телеграммой, ни письмом никто об этом не уведомил. В день получения смертной вести отец посылает мне почтовую открытку: “13 ноября 93 скончалась в Киеве Ольга Семеновна Крохина. — 28/XI, 93” [1033].
Я это знал. Уверен был, что знает и он. Сами мы, живя на одной улице, в ту пору не видались и не переписывались.
ГЛАВА 8. PRO DOMO
Он человек! Им властвует мгновенье.
Пушкин.В 1885 году на выпускных весенних экзаменах я потерпел неудачу. Чтобы сберечь год и успеть попасть затем в какое-нибудь высшее учебное заведение, я решил держать их снова осенью.
В конце мая мы переехали в несколько большую квартиру, № 4, в том же доме № 56 по Сергиевской, но по другому подъезду, в первом этаже над хорошим служебным полуэтажом. Вслед за тем отец с прислугой уехал на дачу в Дубельн под Ригой, а я поселился в Озерках в пансионе, подготовлявшем к экзаменам на аттестат среднеучебных заведений или к конкурсным в некоторые из технических.
31 августа, в первом часу дня, “на крыльях радости”, точнее, на хорошем извозчике, поощренном обещанием лишнего двугривенного, я примчался на Сергиевскую и, пулею влетев в отцовский кабинет, не поздоровавшись толком с оказавшимся почему-то здесь же Крохиным, торжествующе положил перед отцом только что выданный мне желанный аттестат от 29 августа за № 1583. Им удостоверялась моя среднеобразовательная зрелость и подготовленность к постижению дальнейшей высшей учености.
С первого взгляда я понял, что отец встал сегодня “под низким барометрическим давлением” и что Крохин сидит тут неспроста. Пробежав свидетельство с подробным перечнем баллов, полученных мною по всем предметам, он пренебрежительно бросил его в сторону и, вонзив в меня гневом зажегшийся взгляд, жестко произнес:
— Ну, и куда же ты теперь с этим сунешься?
Как ушатом ледяной воды, смыло с меня все настроение, нашел столбняк.
— Я спрашиваю тебя, — продолжал отец, — что с этим делать дальше? На что оно годится? Куда сейчас с ним идти?
— Как куда? — едва приходя в себя, заговорил я, — этот аттестат открывает мне все двери. Он дает мне права на поступление в высшие гражданские институты, в Лесной, Петровско-Разумовское в Москве, в высшие военные училища, позволяет быть допущенным к конкурсным испытаниям в специальные технические институты исключительно по одним математическим предметам…
— Я этого не вижу!
— Николай Петрович, — умоляюще повернулся я к Крохину, — прочтите, пожалуйста, то, чего не видит здесь мой отец.
— Я вижу то, что мне надо видеть, и с меня этого довольно! Куда тебя примут с этим сию минуту? Я начал перечислять институты.
— Там экзамены уже в разгаре, и тебя там ждать не собираются.
— Тогда буду держать в будущем году.
— Это значит еще целый год болтаться без дела?
— Но ведь туда же иногда держат по нескольку раз!
— Я этого не допущу. Найди себе немедленный выход.
— В таком случае в Константиновское, в Николаевское кавалерийское…
— Это еще что за пошлость! Чтобы твоя драгунская лошадь… моим горбом заработанные деньги? — на лету подхватил он последнее, пропуская мимо ушей все остальное. — Ты упустил время. Сейчас везде все вакансии уже заняты, и ты везде останешься за бортом!
— Вы глубоко ошибаетесь. Довольно вам проехать в Главное управление военно-учебных заведений, и по вашему прошению я буду принят немедленно, так как занятия еще не начинались, а некоторое количество вакансий всегда имеется в распоряжении этого Управления.
— Куда это еще и зачем я должен ехать! Перед кем это унижаться? Кого просить? В твои годы я сам пробивал себе путь: лбом, а не отцовскими хлопотами. Довольно! Я вижу положение всех вернее: тебе осталась одна дорога, единственная, которая подбирает всякую дрянь, — в солдаты! Но этого я видеть не могу и не желаю. Ты поедешь в Киев, к дяде Алексею Семеновичу, и пусть он там тебя обряжает в достойный тебя убор. Но, повторяю, мне это видеть мерзко и не полезно моему здоровью и духу. Собирайся и отправляйся. Николай Петрович поможет тебе сделать необходимые покупки, а я сегодня же сношусь о тебе с братом.
Здесь отец скользнул взглядом по бювару, в левом уголке которого я теперь только заметил синенький конвертик. Положение выяснилось до дна. Все было непререкаемо решено и, в сущности, уже и выполнено.
Коротко, с трудом овладевая охватившими меня чувствами, я поклонился отцу, взял из рук трепетно застывшего Крохина час назад казавшийся таким драгоценным документ и вышел.
— Ну как? Куда? — спросил дружественно заинтересовавшийся моей судьбой инспектор пансиона А. И. Гельд.
— В солдаты! — с кривой улыбкой поведал я ему отцовскую волю.
Добрый Александр Иванович, сокрушенно умолкнув, развел руками.
Помощи мне в моем тогдашнем зависимом и безденежном положении ждать было неоткуда. Мать моя была в Киеве. У нее и без меня было о ком думать, да и после развала нашей семьи мы с нею незаметно поразвыклись.
Времена были не нынешние: власть родительская до полного совершеннолетия была огромна.
Хотелось уехать прямо из пансиона, в котором я продолжал жить после экзаменов, но было выдвинуто требование, чтобы последний вечер и ночь я провел непременно в “отчем доме”.
Сидели неизбежные “Витенька” Протейкинский и добропослушный “Петрович”. Выходило что-то вроде похорон. Никто не умел найти простого и искреннего тона. И откуда ему было взяться? Нехорошо было.
Утром на платформе, в том же составе, все выполнялось по ритуалу: слезы, объятия, какие-то упования, сожаления, все какое-то нимало не вязавшееся с сутью совершавшегося. Наконец третий заливающийся звонок, тонкий свисток “обера”, густой ответный — паровоза. Перед окном прошли отирающий глаза отец, машущий платком Витенька Протейкинский, качавший шляпой Петрович… Поехал… Будь что будет! В солдаты, так в солдаты. Так сказать — получил первую “путевку в жизнь”.
В Киеве на меня пахнуло теплом, ободряющим радушием, непривычной лаской. Видно было, что все содеянное со мною здесь уже широко обсуждено и оценено по-своему. Бабушка, крепясь, хмурилась. Клотильда Даниловна едва сдерживалась. Мария Мартыновна Константинова, вдова двоюродного брата моего отца, жившая тут же во флигельке, нервно поправляла шаль. Михаил Семенович угрюмо отмалчивался.
— Ничего не понимаю, — сказал Алексей Семенович, возвращая мне мой аттестат. — А вот что пишет мне о каких-то экзаменационных твоих неудачах твой отец. Прочти. А еще лучше сперва отоспись с дороги, а там как-нибудь и обсудим дело. Я уже кое с кем из знакомых военных переговорил.
И он уехал на практику. Прочитав хорошо опередившее меня письмо к нему отца от памятного мне 31 августа, я, несмотря на усталость, долго не мог заснуть.
Петербургские письма в Киеве всегда читались с исключительным вниманием и даже волнениями. Сперва читал единолично тот, кому они были писаны, затем в столовой, после вечерней закуски, — во всеуслышание. Тут шла уже обобществленная их проработка, после чего письмо клалось на мраморный подзеркальник камина в хозяйском кабинете, дабы желающий мог его перечитать и пообдумать на полной свободе в одиночном порядке. Таков был давний обычай.
Чего только не было в письме, являвшемся как бы напутственным представлением меня людям, заботам которых я поручался:
“…Лично я от него [1034] ничего хорошего не ожидаю и, наоборот, считаю его способным на все дурное, к чему может прийти человек без характера… Дальнейшее потворство поведет его к косности в поганых привычках и повадках его характера, как две капли воды напоминающего того, кому не годились ни привольная Украина, ни Киев, ни Петербург, ни Ташкент [1035]… Более я ничего не хочу знать о нем [1036] и по угнетающему меня невыносимому расстройству душевному — даже не могу сносить ни его вида, ни известий о нем, кроме самых неизбежных” [1037].
Но слышать, вернее слушать, обо мне выдалось негаданно скоро, много, тревожно и даже уязвительно.
— Прочел? — спросил меня Алексей Семенович за обедом.
— Прочел! Не пойму только, дядя, как это вы решились пустить к себе в дом человека с таким “волчьим паспортом”, способного на все дурное, возможно вплоть до кражи столовых ложек, — выпалил я, глубоко задетый.
— Ладно, ладно, не впадай и ты в печеночный тон. Я вот после обеда прикорну, а потом мы с тобою поедем в новые Михельсоновские бани. Таких, пожалуй, и в Петербурге у вас нет. Великолепные.
Обед прошел и кончился все еще в настроении какой-то общей нерешительности, подавленности. Алексей Семенович пошел в кабинет вздремнуть на свежезастланной уже своей докторской “досадной укушетке”, остальные разошлись по обширной квартире и уютным флигелькам. Клотильда Даниловна спустилась к повару, лакей Степан убирал со стола.
— Дронушка, — обратилась ко мне бабушка, — пройдем в гостиную, хочется потолковать с тобой.
Мы прошли темную залу и расположились в глухой, заставленной мягкой мебелью, отдаленной комнате, слабо освещавшейся рожком уличного газового фонаря.
— Ну вот… Тут нас никто не услышит, — начала, опираясь на ручку глубокого кресла, Марья Петровна. — Скажи мне, дорогой мой единственный внук, на чем у вас с отцом такой разлад пошел? Разреши ты мне измучившие меня сомнения, страхи. Конечно, я читала письма Николая, но ведь, сам знаешь, он человек слишком горячий, не разберешь, сколько в нем правды, а сколько его больного воображения. В чем же дело, объясни…
— Ах, бабушка, всего не расскажешь, да и не радость… Тяжело с отцом, да еще с глазу на глаз вдвоем. Я ведь очень долго прятался с этим, — впервые в жизни вырвалось у меня полупризнание.
— Ну, да этого кто не знает! Сызмала такой. Но сейчас-то что у вас стряслось?
— Сейчас? Не скрою, весной оплошал, а осенью поправился. Надо бы или похлопотать немножко, чтоб определить меня куда-нибудь, или год переждать. А он — в солдаты.
— А как сам и вовсе не учился, забыл, — начиная нервно постукивать концами пальцев по ручке кресла, медленно, точно перебирая в памяти далекое прошлое, проговорила бабушка. — Вот у Марии Мартыновны Саша ее дальше третьего класса не пошел. Не гонит же она его из дома!
Она поднялась, подошла к самому окну и застыла у него.
— А какие же негодяйства-то за тобой нетерпимые такие? Говори все своей бабке, со мной и умрет. Не таись!
— Какие?.. Любил читать, поленивался, школьничал, изводил нелюбимого корпусного воспитателя, танцевал с барышнями да с писательскими женами в Пушкинском кружке, а отец не терпит этого, говорит — я в твои годы…
Но тут Марья Петровна быстро перебила меня:
— Он… — изменившимся голосом начала она и в явном колебании запнулась, — это верно… он в твои годы не танцевал, нет! Он в Киеве, на Андреевском спуске, дрался с саперными юнкерами, — вырвалось, наконец, залпом у старухи.
Обессилев, тяжело дыша, она опустилась на ближайший стул. Я бросился в столовую за водой, которой она жадно отпила несколько глотков и, обняв меня, расплакалась.
С этого дня уже точно плотину размыло — заговорили все: и моя мать, и Клотильда Даниловна, и весь дом. Алексей Семенович не знал, как унять или хотя бы умерить стихийное негодование женщин.
Мать моя через несколько дней уезжает в Петербург с дочерью Верой, учащейся там у Д. М. Леоновой пению и сценическому искусству. Меня начинает морить и клонить ко сну, сопровождающемуся жаркими, густыми, бредовыми сновидениями. Явно заболеваю, но недуг еще неясен.
23 сентября Николай Семенович получает письмо от Алексея Семеновича, во многом не разделившего приговоров и суждений своего старшего брата.
“…Я не из тех людей, — отвечает последний в тот же день, — которых надо утешать и которым горе их можно представить так и иначе. Я ничего этого не прошу и ничего не ожидаю. Какая бы слава его ни ожидала — друга у меня нет и не будет, — я живу и умру одиноким. Вот что сделано его невинным “легкомыслием”… Это немножко тяжело и больно и можно чувствовать не “желчное раздражение” — свойство ничтожное, но и настоящий гнев — являющийся последствием горькой обиды и легкомысленно попранных серьезнейших отношений” [1038].
“Пря” разгоралась.
Серьезность моего заболевания еще не определилась. Спячка моя сменяется беспамятством. Родятся опасения. Меня переносят в большую, не сданную еще квартиру над квартирой Лесковых. Заботливый Алексей Семенович ставит на ноги весь медицинский Киев вплоть до знаменитого Ф. Ф. Меринга, сотрудника славного Н. И. Пирогова. Я недвижим. Осмотрев меня и подробно расспросив о предшествовавших заболеванию обстоятельствах, Меринг определяет: зараза в поезде, пятнистый тиф, тяжелая форма, медлить нельзя, необходимо вызвать отца. Все это говорится негромко у моей постели. К удивлению всех стоящих тут врачей, синие губы замертво лежащего в бессознательном состоянии больного с чрезвычайным усилием произносят:
— Не надо… не надо…
Так передала мне после присутствовавшая при этом Клотильда Даниловна. Телеграммы все-таки полетели. Одновременно во всем своем величии и красоте предстает героизм этой “простоплетной” женщины: имея трех собственных детей, она ни минуты не подумала сбыть с рук, хотя бы и в хорошую платную лечебницу, какого-то, зачем-то присланного сюда, племянника ее мужа. Нет! Она по десятку раз поднимается ко мне, сама обворачивает меня в холодные мокрые простыни, вливает мне в рот лекарства, питье, записывает биение пульса и температуру, а потом, сняв халат, бежит вниз, где умудряется выполнять все многочисленные свои обязанности по дому, обслужить всех здоровых. Ко мне приставляются фельдшер и сиделка. Я лежу в большой зале. В комнатах слева и справа поочередно открыты окна: “больше воздуха”, указал Меринг. Все выполнено, продумано, предусмотрено. Двенадцать дней без сознания. Надежды мало. В Петербург шлются угрожающие бюллетени.
Не все ответы Лескова Киеву сбереглись, но нарастание его раздражения уже на многих из киевлян достаточно обрисуют выдержки из письма его к брату от 26 сентября:
“На письмо твое от 20 числа я ответил тебе вчера письмом и депешей. Я полагаю, что и для твоего дома и для самого больного его лучше поместить за плату в хорошую больницу, каковая (говорят) у вас в городе и есть. Там удобнее лечить такие болезни, и мне думается, что ты и сам, вероятно, такого же мнения, но, быть может, не увез его из дома по одной деликатности. Если это так, то я высоко ценю твое чувство и глубоко тебе благодарен, но прошу тебя руководиться разумом и истинными выгодами твоего дома и самого больного. Я пойму это, как должно понимать вещи, здраво… Из твоего листка вижу положение болезни, но, как профан, не понимаю, что такое значит тиф “абортивного свойства”. Для меня это своего рода “моветон”, в котором я не могу себе уяснить: что это — лучше или хуже какого иного тифа. Во всяком случае я знаю, что он в добрых руках и что ты сделаешь все, что нужно и как нужно… Я ведь совсем не знаю в достоверном освещении твоего быта, и когда должен его себе представить, то неминуемо имею перед собою только одни сплетни, в которых критикою надо уметь выбирать частицу чего-либо настоящего (в чем мы с Андр[еем], бывало, и упражнялись вместе, доверяя лишь сотому слову слышанного). Теперь я расстроен и один… с моим вечным, неизгладимым горем… Мне доброе сердце должно простить многое в моем нынешнем едва переносимом состоянии. Сам я, по личным моим чувствам, питаю к Кл[отильде] Д[анилов]не более всего благодарность и буду ее питать по гроб и исполняю все, что на человека возлагает благодарность. И уста мои и сердце всегда это исповедуют перед всеми. Я считал ее и доброю и милосердною, но “по днях многих и в камении пременение бывает”… Мы ведь совсем разбились и не знаем друг друга “во пременениях”… Но ведь я не ожидал, что он заболит у тебя… Я говорю: я “послал его из Урá Халдейского в Месопотамию к дяде его Лавану” потому, что он забаловался и обманывал меня, “облекаясь шкурою козией”… Я этого должен был страшиться и избегать, и потому я не совершил никакой “жестокости” или “несправедливости”, резко и решительно оторвав его от “совоспитанных” и послав его к тебе… “Мягкость” и “прощение”, о которых ты пишешь, для него не новы: они были много лет пробованы, и нынче они были бы знаком безнатурности, к чему я не способен ни по разуму, ни по чувству уважения к человеческому достоинству. Нет проступка, кот[орого] нельзя бы простить, но повторяемость проступков, рецидивизм, всякое сердце возмущает, и дрянь тот человек, который не чувствует этого возмущения. Что такое значит “простить”? Это очень желательное и отрадное движение сердца, — и я — если ты хочешь — простил его за зло и обиды, причиненные мне его пятилетними беспутствами, но не в этом ведь дело. Нужно не прощение, даруемое как милостыня сердце милостивого, а нужно восстановление мира и единения душ, что требует удовлетворения нарушенной гармонии мира. Великий Ориген прав, говоря, что творцу миров, конечно, ничего не стоит “простить дьявола” (т[о] е[сть] начало зла), но к чему бы это повело, пока дьявол остается дьяволом?.. Какая бы это была глупость — даже при безграничном милосердии творца к его творению! Андр[ей] не дурак, и он это понимает… Я не имею сентиментальных чувств, именуемых “родственностию”, и считаю их вздором. Родство душ — дело всемощное и великое, а телесное родство — это случайность, умно осмеянная великими умами, и между прочим Грибоедовым в Фамусове. Это предрассудок частию аристократический (фамилизм), частию дурацкий” [1039].
Наконец опасения отпадают. Я выжил. Толиверовой посылается собственноручный документ: “Копия. Киев, 1 окт[ября] 1 час 30 м[инут] дня. “Температура падает — является сознание”. Более ничего; полагаю, что это надо считать за добрый признак. Н. Л.” [1040].
Итак, ехать в Киев не понадобилось. Может быть, и не думалось и не хотелось: больной в хороших руках, исход недуга доверяется “промыслу”, в крайности — смерть лучше бесславия, к тому же “блаженны умершие” или “иже не суть”. Дальше и того яснее: пусть мертвые хоронят мертвых. Они и похоронили бы.
Частность: в самые критические дни писались и вразумления в Киев и почти ежедневные заметки на злободневные темы в газеты [1041].
4 октября, по получении уже совсем благоприятных вестей, Лесков шлет выходившим меня киевлянам свою благодарность, тут же прибегая к сведению счетов с некоторыми из когда-то близких ему лиц.
“Дорогой брат и друг Алексей Семенович!
Не могу выразить того, что ты доставил мне перечувствовать. Это вызвало к жизни давно ушедшие годы нашей с тобой дружбы в детстве… Все тобою сделанное для больного Андрея так добро и благородно, что выше всяких словесных благодарностей. По отношению ко мне, против которого “женское сословие (по словам знаменитого Лейкина) испущало из себя жестокую словесность, ты тоже был всех правее… Я к этой “словесности” совершенно равнодушен всегда, но не мог оставить ее без опровержения, когда в доме твоем лежит Андрей, как бы в самом деле “выброшенный” отцом. Я совсем ясно сказал, что “жена брата мне ничего дурного не сделала, а, напротив, сделала мне большие услуги, за которые я ей вечно признателен”. Какую там она “испущала словесность” — я этого не хочу и знать и в ответ на все, чем меня доколачивали в эти дни, поставил всем одно, что она мне ничего дурного не сделала и я ей благодарен… Мы, разумеется, люди грубоватого склада, но зато не притворщики, и мы ни один даже и не умеем притворяться. И вот мы все друг другу верим и не ошибаемся. К[лотильде] Д[анилов]не совсем не нужно представлять себе чем-нибудь иным, чем она есть, т[ем] б[олее] что ее очень легко насквозь видеть. У нее сердце доброе и нежное, она склонна к добру и имеет в нем вкус… Человек, кот[орый] говорит в глаза одно, а за глаза другое, — какой уж это “друг”!.. Рассердился — выскажи, а помирился — не судачь снова, — вот поведение честного человека, из которго можно иметь друга. А то одна профанация или, как покойный Писемский говаривал: “вода с Аполлоновых…” Что-то там полоскалось поэтическое, да чорт ли по нем… Ей нехорошо было осуждать меня, да еще при детях. Это им вреднее, чем мне. Она должна была откинуть нечто моим годам, моей опытности и тому, что меня еще никто дураком не ставил, а злодеем сыну своему я быть не могу… Зачем же нам не поддерживать в детях авторитет старейшинства и опыта… Я просил у вас очень немногого… — просил съездить и определить в солдаты. Не бог весть что такое. Ничего другого я не просил и нужным не почитал. Случай учредил иначе: ты сделал дело незабвенное ни для меня, ни для сына. Я тебе (и тебе одному) кланяюсь моею седою головою в ноги до сырой земли. Кроме спасения жизни Андрея, ты спас мне веру в братскую любовь нашу и в простую прелесть души твоей. Не оставь довершить это дело и, успокоясь, напиши мне все, что надо знать о расходах и о прочем. Обнимаю тебя и целую…” [1042]
“Случаем учрежденное” помогло найти теплую концовку, но не помешало отнести в ней благодарность исключительно к брату, с обходом много потрудившейся тут его жены. Как будто подведен какой-то итог. Представляется возможной передышка в “междоусобных разговорах”. К сожалению, Марья Петровна неосторожно пишет дочери Ольге Семеновне в Петербург решительно все, что придет в голову, о всяком сказанном кем-нибудь слове, а робкий “Петрович” не смеет не предъявлять киевские письма всегда остро интересующемуся ими Николаю Семеновичу. Чтение таких беспечных, многословных посланий сильно нервирует Лескова, подливая масла в едва начинающий угасать костер.
Выжив, я поступил “в солдаты” и одновременно же в совершенно не отвечавшее моей школьной подготовке убогое юнкерское училище” оказавшись там чем-то вроде белой вороны.
Как это ни показалось неожиданным, но у нас с отцом снова завязалась переписка, очень неровная. В некоторых его письмах сквозят жалобы и даже как будто что-то вроде растерянности.
“…О себе писать неохота. Моя жизнь однообразна, тяжела и скучна, но не лишена неприятностей необычайных. В декабрьской книге “Ист[орического] вест[ника]” вырезали и сожгли мою работу — плод труда целого лета [1043]. Вольфа кассир потерял рукопись моего рождественского] рассказа. Я был почти 2 м[есяца] без прислуги, с одною девчонкой и с Варею, которая шлет тебе часто письма и составляет единственное мое утешение. В это время у меня покрали много вещей, и, наконец, при одной из бывших по 3 дня горничных обнаружен взлом замков в столе, но далее отпереть не могли. Теперь явилась к моему спасению Сарра: она вышла замуж, но нашла другую вместо себя, но я, как напуганная ворона, уже всех боюся, и где бы ни был — бегу домой как угорелый. Ни покоя, ни отдыха, ни радостей…” Затем приводится неудобочитаемая пословица [1044].
Следующее, переполненное упреками многим и всех больше моей матери, письмо заканчивалось описанием домашних неустройств, разыгравшихся сильнее, чем они бывали при мне.
“…В доме у меня все продолжаются нестроения: из 4 девушек (2 были старушки) при одной (старухе из сестер милосердия, рекоменд[ованной] Ал[ександрой] Ник[олаевной] Якоби [1045]) обнаружена попытка выломать замок правого шкапа в столе, где все, все ценные вещи. Стол исковыряли ножницами, но замок постоял за себя и не подался, а только выпала наличка. Теперь у меня девочка 15 л[ет] и девушка, рекомендованная Саррою, которая явилась к моему отчаянному положению после взлома. Эта рекомендация тоже, кажется, ненадежна. Она у меня с 4 декабря и покоя с ней нет, по причине ее огромной ветренности и дерзости. Терплю большие беспокойства и просто боюсь выйти из дома… После праздников, вероятно, опять надо будет искать и брать снова бог знает что. Так редки люди, при которых можно чувствовать себя покойным хоть за целость своего имущества. Праздники встречу с Варей и с Путькой, единственными искренно любящими меня существами, кот[орые], к несчастью, очень мало понимают…” [1046]
Календарные данные несколько мягче. 19 декабря Лесков был на большом званом обеде у А. С. Суворина, на улице Жуковского 18. 27-го числа он в числе почетнейших гостей на торжественном пиршестве в знаменитом когда-то ресторане Палкина, справлявшем свой столетний юбилей. Сидит он за ужином рядом с И. Ф. Горбуновым и М. О. Микешиным, в обществе многих других именитых старых посетителей этого учреждения. 31 декабря встреча нового, 1886, года, как писал мне отец:
“…У Суворина… шумно и людно за разливанным морем. Пили за мое здоровье. Мне было оч[ень] скучно и хотелось молчать. Я тоже вспомнил с Пыляевым, что мы с тобою первый раз врознь. Я говорил о тебе с Пыляевым, который тебе кланяется и просит не кручиниться, но перебиваться сюда во что бы то ни стало…” Дальше тут же делалась попытка оправдать мою ни с чем несообразную высылку из этого самого Петербурга.
Поздравляя отца с Новым годом, я писал ему, что теперь уже сам добьюсь командирования меня в выпускной класс Константиновского петербургского военного училища, в которое имел право быть сразу определенным прошлой осенью. На это, в том же своем письме, отец отвечал: “Соображения твои насчет перехода в специальные воен[ные] училища оправдываю. Даже если бы пришлось поступить и в младший класс, — это все-таки лучше. Как бы ты ни поступил сюда — для тебя потери в жизненной карьере не будет… При выходе в офицеры из Киев[ского] юнкерского училища — я тебе ничем пособить не могу, и карьера твоя представляется ужасною и безнадежною. Поэтому я считаю твой план и сообщения верными и им сочувствую” [1047].
Оставалось только еще раз горько пожалеть, что этого сочувствия не встретилось в августе 1885 года.
Теперь я уже жизненно окреп, вырос и действовал как военнослужащий, а не как неправомочный чей-то сын. Теперь я стоял вне влияния чьих-либо настроений. Все выполняется уверенно, правомерно и планомерно: в мае кончаю юнкерское, отбываю практические лагери, в августе — Петербург. Как получивший уже право на производство и имеющий на шашке офицерский темляк, я должен только слушать лекции по всему курсу Константиновского училища, но свободен от строевых занятий, как и в выборе себе местожительства.
Дяди мои и моя мать предостерегают от жизни у отца, настойчиво зовущего меня в “отчий дом”. Смотри, говорят мне в Киеве, не оглянешься, как попадешь опять в блудные сыновья. Я колеблюсь и, в конце концов, поддаюсь подкупающему теплу зова. Последнее письмо отца ко мне кончается словами: “24, если выедешь, пошли мне депешу — я тебя встречу… Поручаю тебя милосердию божию и дарованному им тебе свету разума и добросердечия” [1048]. Как тут не умягчиться!
Снова Петербург, Николаевский вокзал, на перроне волнующийся, слегка подавшийся за год отец, улыбающийся “Петрович”, умиленный “Протека”.
Вернулся я, по служебному своему рангу, по военной литере бесплатно и уже во втором классе, в мягком вагоне. Это единственное, что дал мне во всем остальном бесплодно потерянный год.
Домой поехали вдвоем. Остальные должны были прийти к обеду. Еще на извозчике отец стал засыпать меня вопросами о давно потерявших остатки его расположения киевлянах. Марьи Петровны в живых уже не было. Ответы были нелегки. Я чувствовал себя очень согретым Киевом и знал, как относится к нему отец. Брать в желательный ему тон я не мог. Это явно не нравилось.
Уже к вечеру, в любимый отцом мицкевичевский “серый час”, в густые сумерки, окончив обед, все мы вчетвером перешли в кабинет. Удобно разместились и, в послеобеденной истоме, неторопливо обменивались новостями, воспоминаниями, вопросами…
— А что, Андрей, как твой голос после тифа-то? — обратился ко мне отец.
— Как будто остался каким был, — отвечал я.
— Ну и прекрасно, Витенька! Петрович! Давайте-ка вспомним старину, изобразим что-нибудь из творений великих властителей гармонии.
— Нет, я-то уж в этом пас, увольте, — запротестовал рыхлый Крохин.
— Ладно, что с тобой делать. Немножко-то все-таки подтягивай баском. С чего же начнем? “Величит”, что ли? Начинай, Андрей, ты ведь присяжный певчий был в корпусе.
До мастерства орловских дьяконов, подвизавшихся в рассказе “Грабеж”, было, конечно, далеко, но что-то не лишенное бесхитростного благозвучия достигалось.
Концерт продолжался. В свой черед исполнили и знаменитый любимейший Лесковым великий канон Андрея Критского “Помощник и покровитель бысть мне во спасение…”
— Какие мастера! Сколько вдохновения, — восхищенно восклицал отец. — Сколько вкуса, величественной простоты! Куда до них этим куцым латинянам с их реверансами перед алтарями, звоночками и кастратами. Непревзойдённые художники и древние неведомые композиторы и наши Бортнянский, Турчанинов… Великие мастера! Ну, последнее!
На этот раз исполнялось песнословие, восхвалявшее “на земли мир, в человецех благоволение”.
Комната успела погрузиться в почти полную темноту. Петь больше не хотелось. Не хотелось и нарушать воцарившуюся тишину. Хотелось верить в водворение среди “предстоящих” мира и взаимного “благоволения”…
На другой день, часу в четвертом, к нашему подъезду подкатила открытая четырехместная коляска, из которой тяжеловато выгрузился довольно рослый, плечистый, хорошо обрюзгший господин. Минуты три спустя в отцовский кабинет, у окна которого я сидел, вошел Сергей Атава.
— Поздравляю родительское сердце с приездом “полковника” и, по уговору, прошу собираться для следования к обеденному столу господ Терпигоревых, — с оттяжкой проговорил Сергей Николаевич, пожимая нам руки. — Имеете вкушать: закуски сборные, холодные и горячие, борщ из сорока двух элементов, прочих блюд несколько перемен, водки домашнего настоя, вина, выдержанные в собственном погребу. Опаздывать не разрешается: хозяйка не любит.
В третьем деревянном особнячке выше Строганова моста на правом берегу Большой Невки, в доме № 17 по Строгановской набережной, на дворе нас встретили ласковые красавцы гордоны, а в сенях радушная Розалия Ксаверьевна или, в русском произношении, Савельевна. Было уже несколько человек гостей, которых не могу вспомнить.
После кругом заставленного и сплошь завешанного кабинета Лескова поражал простор полупустых комнат. В первой от прихожей, между вторым окном и дверями в столовую, стояла простенькая высокая конторка. Ни книжного шкафа, ни полки, ни хотя бы одной книги! Выросши в отцовском кииголюбии, я, должно быть, нелепо опешил.
— Чему дивитесь, Андрей Николаевич? — ласково взяв меня под руку, спросил подошедший хозяин.
— Смотрю, где ваш кабинет, — неосторожно ответил я.
— Кабинет! А вот весь он, — протянул Атава руку к конторке. — Я ведь не художник, как ваш родитель, а газетчик! Вытачивать мне некогда, да и не в характере. Похожу, да и подойду к конторке. Попишу, да и снова похожу. Так и пишем…
— А библиотека? — уже совсем неуклюже сорвалось у меня раньше, чем я успел удержаться.
— Библиотека? Это другое дело! — весело отозвался проевший в свое время и “выкупные” и другие свои доходы автор дворянского “Оскудения”. — Тут, думаю, удастся щегольнуть несколькими превосходными экземплярами. Пожалуйте! — и он увлек меня, сопровождаемого загадочными улыбками всех гостей, в тыльную часть дома.
— Вот она — моя библиотека, — с гордостью произнес Сергей Николаевич, распахнув передо мной надежную дверь с солидными запорами.
Я стоял в пустой комнате с железными решетками на окнах и железными же волнистыми полками вдоль всех стен от полу до потолка. В правильных их углублениях покоились бутылки.
— Не похожа на родительскую? А преинтересная. Есть замечательные “авторы”. Имеете ли вы что возразить против Шато-Латур, издания 1871 года? Почтенный, всемирно известный романский автор, мягко согревающий душу и тело, но и сам ищущий легко предварительного затепления. Или вот. прославленный германец Иоганнисбергер — кабинет, издания 1879 года, солидный немец, требующий прохлады. Все это им и будет представлено, пока мы займемся настойками.
Обстоятельное знакомство с каталогом продолжалось с авторитетными пояснениями владельца этой своеобразной библиотеки. Сложив отобранных авторов в убористую плетеную корзиночку, мы с благоговейной осторожностью передали часть содержимого на кухню для затепления и охлаждения, а с остальным возвратились в столовую, где нас уже не без нетерпения ожидала хозяйка с набором дымившихся сотейников и холодных закусок.
Началось священнодействие. Столовая в этом доме главенствовала. Ей была отведена лучшая, самая большая комната в три окна на Большую Невку. Вся она была залита солнцем, в лучах которого нежились благовоспитанные, холеные собаки. Хозяйка была великая искусница и радушнейшая хлебосолка. Я получал истинное крещение в дегустации вин и артистичности кулинарии.
Из застольной беседы ничего не удержалось, но один острый момент не забылся. Рассказывая что-то, Атава зачастил: “у нас в тамбовском дворянстве”. Дело было уже за кофе и коньяком, после внимательного ознакомления с несколькими “авторами”. Неожиданно Лесков, всмотревшись в него, едко перебивает:
— Постой, постой. Что это ты раздворянился-то так!
— А как иначе-то? Происходим из тамбовского, потомственного.
— Полно! Ну посмотрись в зеркало — что в тебе дворянского-то?
— Не хорош, говоришь?
— Хорош-то хорош, да только ни дать ни взять — предводительский кучер…
Ошеломленный, я обомлел, ожидая какой угодно встречной колкости. Происшедшее дальше превзошло все казавшееся мне возможным. Атава, мотнув головой, может быть желая замять неловкость, с равнодушной улыбкой отмахнулся:
— Не спорю, возможно… Мамаша зимами в деревне скучали…
У всех отлегло от сердца. Кто принял это за милую шутку, кто — за желание как-нибудь разрядить напряженность положения. Уверен, что сам Атава поддался с маху язычному ухарству и ляпнул что-то, не успев подумать. Это случалось с заправскими краснословами.
Шли медовые дни восстановления нашего сожительства. По всем указаниям прошлого, они не могли быть долги.
Лекции у меня начинались в восемь утра. Ходьбы на них было больше пяти верст. Конка начинала работать только с восьми. Извозчики на такой “конец” были дороги. Выходить приходилось без четверти семь. Предметов было много, курс большой. Целые кирпичи в 600–700 страниц по артиллерии, фортификации, военной истории, механике, химии, военному и гражданскому законоведению, военной администрации и т. д., до бесконечности. Работы было выше сил, а надо было наверстать впустую потерянный год.
Конечно, хоть изредка хотелось побывать в театре или потанцевать где-нибудь на вечеринке. Последнее уже совершенно не прощалось. Танцы Лесков признавал верхом беспутства. Ссылки на неотвращение к ним Пушкина, Лермонтова и других величайших людей ничему не служили.
В одной прочно забытой сейчас своей статье, посвященной целиком И. С. Тургеневу, Лесков мельком, но явно сочувственно, коснулся вопроса о возможности воспитания поучениями, не подкрепляемыми личным примером проповедника. “Люди обыкновенно осуждают тех, кто стоит столбом, указывая другим дорогу, а сам по ней не ходит. Осуждение это справедливо, хотя, конечно, и придорожные столбы тоже нужны и полезны. “Поступайте так, как я говорю, но не делайте того, что я делаю”, говорил один проповедник, умевший быть очень полезным для своего прихода” [1049].
Не знаю, в кого, вероятно в Василия Семеновича, я удался в любимые ученики не только у учителя пения А. И. Рубца, но и у корпусного нашего преподавателя танцев, балетного артиста А. Д. Чистякова.
Неукротимое осуждение любви к танцам в сыне, во мне, представляется чем-то совершенно не вяжущимся с искренним восхищением тем, как танцевали на городской площади мазурку кракусы, как ее же лихо отхватывал сподвижник киевских похождений Лескова знаменитый поп Юхвим Ботвиновский или в “Островитянах” сперва поляк под старинную мазурку Хлоницкого, а потом художник Истомин на вечеринке в немецкой семье Норк. Тут тонко, по-знатоцки, расценены все танцоры, их приемы, ухватки и стили. Видно, что автор отлично разбирается в них и безошибочно определяет характер и прелесть каждого из танцев. Для этого надо было ценить самое искусство и уж конечно не предавать его беспощадному осуждению, как это придумалось в отношении собственного юного сына. В одной, очень специальной, ранней статье [1050] Лесков даже строго осудил раскольничье предубеждение против танцев.
Пришел я раз в феврале 1887 года много раньше обыкновенного — в начале третьего — домой. Отца не было дома. Уместился в его кабинете, развернул лежавшую на соседнем столике декабрьскую книжку “Русской мысли” недавно истекшего года и стал перечитывать “Сказание о Федоре-христианине и о друге его Абраме — жидовине”. В первом чтении рассказ показался мне более проповедническим, чем художественно ценным, живым, трогающим. Перечитал концовку, поясняющую, что сказание “подается для возможного удовольствия друзей мира и человеколюбия, оскорбляемых нестерпимым дыханием братоненавидения и злопомнения” [1051], вспомнил, какое дыхание преобладает последнее время у нас в доме, посмотрел на глядевших на меня со стен Христов и, вздохнув, пошел к себе.
Наступил март. Близились зачеты за последнюю четверть годового курса. За ними надвигались экзамены. На душе было заботно. Дома неотвратимо надвигалась гроза. Требовалась большая выдержка. Бочка с порохом стояла открытой. Дело было за случайной искрой.
Однажды, проходя через столовую в свою комнату, я увидал три прибора. Оказалось, что к обеду звана Вера Бубнова. С моей и ее матерью в этот момент мой отец не видался. Доброго в этом приглашении не чувствовалось.
Пришла Вера. Отец вышел из кабинета туча тучей. Сели: я слева, Вера справа от отца. Беседа повелась подчеркнуто с ней одной. Так шло весь обед. Это был хорошо известный, коронный прием выражения крайнего неблаговоления, опалы. Тарелки с супом и жарким протягивались мне левой рукой вслепую. Подали любимый отцом десерт — пюре из чернослива со сбитыми сливками. Виделся конец обеда. Неужели пронесет? Не может быть! Для чего-нибудь ее присутствие да понадобилось. И едва я так подумал, как, закончив говорить что-то Вере, отец круто повернулся ко мне:
— А ты упорно гнешь свою прежнюю линию? “Начинается”, — мысленно сказал я сам себе и в искреннем непонимании вопроса промолчал.
— Я спрашиваю тебя, — разгораясь и усиляя акцентировку, продолжал отец, — думаешь ты когда-нибудь начать вести, как отец, трудовую жизнь и есть хлеб в поте лица своего или решил всю жизнь бездельничать и танцевать?
— Но я же всю зиму работаю, веду записки по всему курсу…
— Это по наукам организованного убийства! Войны! Велик и полезен труд! Надо работать, чтобы быть полезным людям и честно покрывать свои нужды!
— В настоящих моих условиях мне на мои нужды хватает моего жалованья.
— Не век же у тебя будут настоящие условия! Ты мог бы приучить себя уже и к заработку.
— Сейчас я стремлюсь довести до конца начатое: кончить Константиновское, приобрести высший образовательный ценз и прочно стать на ноги.
— Какой вздор! При желании весь год можно было совмещать ученье и с какой-нибудь работой. Я в твои годы…
И вдруг много дней искушавшееся самообладание покинуло меня. Что-то зажглось в мозгу и овладело речью. В упор встречая испепелявший меня взгляд отца, охваченный каким-то неудержимым вихрем, уже непроизвольно, тихо и прерывисто я перебил его на полуслове:
— Вы… в мои годы… дрались в Киеве с саперными юнкерами на Андреевском спуске…
— Какой негодяй мог сказать тебе подобную пошлость? — меняясь в лице, бросил он мне.
— Ваша мать, а моя бабка, Марья Петровна [1052].
В безудержном гневе устремился он на меня, ни секунды не спускавшего с него глаз и понимавшего, что можно ожидать чего угодно. Легкий и быстрый, гимнаст и фехтовальщик, я уже стоял за своим стулом, опираясь обеими руками на его спинку.
— Довольно, отец: больше этого не будет, — едва слышно сказал я, роняя слова как бы в самую глубь его души.
Бросив на стол выдернутую из-за борта пиджака салфетку, отец пробежал мимо меня в переднюю и оттуда, хлопнув дверью, в свой кабинет. Слышно было, как он быстро зашагал там из угла в угол. Вера расплакалась.
Сцена прошла не так картинно, как у Лучаниновых в рассказе Тургенева “Три портрета”, но по-своему впечатляюще и вразумляюще.
Слепая, почти рабская, домостроевская сыновняя покорность отходила в прошлое.
Когда-то в детстве мадмуазель Мари Дюран мурлыкала нам шутливую французскую песенку о какой-то славной маленькой лошадке, которая брыкалась, когда ее бил какой-то мальчик, жаловавшийся потом на нее своим родителям:
Cet animal est très méchant
Quand on l'attaque, il se défend!
Это, мол, очень злое животное: когда на него нападают — оно защищается! Почему-то вспомнив ее и невольно улыбнувшись, я поехал зачисляться на довольствие при Константиновском и подыскать себе угол вблизи него. Комнатка подвернулась в двух минутках ходьбы, веселая, в маленькой квартирке по 2-й роте Измайловского полка (ныне 2-я Красноармейская) у самого Забалканского проспекта (ныне пр. им. Сталина), заселенной студентами-технологами. Стало даже с кем и посоветоваться по аналитике, химии… Вестовой приносил обед, ужин, хлеб… Вместо учебной доски повесил я на стену матовую черную клеенку и, с мелом в руке, принялся за кривые, формулы, вычисления, профили и т. д. Зажил работоудобно, без истомлявших душу туч и бурь, без барометрических минимумов и максимумов, ровно, покойно, светло, словом “frei!” [1053]
Это была вторая “путевка в жизнь”. Она была несравнима с данной мне полтора года назад.
Сближаясь с кем-нибудь, я всегда угадывал, какое у кого было детство. Остро интересовался им и в биографиях чем-либо выделившихся людей.
Проходит меньше года. Я уже служу в одном из бывших аракчеевских поселков Новгородской губернии. Приезжаю на две недели в Петербург. 30 декабря 1887 года отец пишет Суворину “Сегодня утром приехал мой сын Андрей, молодой офицер, с тем, чтобы встретить со мною Новый год; а я по ласковому слову Анны Ивановны собираюсь к вам. Чтобы мне быть и с вами и с моим сыном, дозвольте мне привести его с собою и представить вам и вашей супруге. Он парень недурной и очень живой и веселый” [1054].
11 января 1888 года, ответив А. И. Пейкер по существу одного ее вопроса, он, вероятно без особой в том нужды, прибавлял: “Теперь у меня гостит Дронушка со шпорами и аксельбантами… Мы на днях долго вспоминали вас и Марью Григорьевну” [1055].
Пока все тепло и милостиво. Ближе к концу года, в письме от 7 октября к Алексею Семеновичу, идут уже перебои: “Что до его личности, то он еще “не образовался”. Способности у него оч[ень] хорошие, и ум доброкачественный, и в характере нет недостатка. Он оч[ень] выдержан и владеет собою для своих лет изрядно, но он ленив, соня и танцор до глупости и до безобразия. Это, вероятно, пройдет, но теперь, пока не прошло, это дает ему тон нежелательной пустоты и делает его неудобным. Он ложится, когда люди встают, встает, когда обедают, и т[ому], п[одобное]. Это о[чень] омерзительно и никакого извинения “молодостью” не имеет. Все мы были молоды и кучивали, и шалили, но не обращали в бордельный режим домов, где жили”. К концу письма раздражение, разрастаясь, заставляет кончить его уже полным разгромом с гневным росчерком: “Так нет же!! Лучше бей шпорами да приходи домой в 5–6 час[ов] утра… Это низко и даже оч[ень] низко” [1056].
Спасибо, на этот раз точно определен, наконец, вид низости или негодяйства.
Два месяца спустя Н. П. Крохину, в письме от 15 декабря, реляция обо мне с места в карьер разносительная: “Я Андрея Николаевича не вижу и считаю это за спокойнейшее. Радоваться на него нечего. Это живое, капля в каплю, повторение брата Василия Семеновича во всех статьях: та же даровитость, способность все понимать и ничего не делать, кроме самого необходимого и то кое-как. Время же свое предавать разврату, пьянству и другим бездельничествам. Идучи этим негодяйским путем, немудрено, что получит такой же и конец, какого по писанию стоит “человек ленивый, иже калу воловию подобится”. В перемены я не верю и их не жду. Труд не лакомство — кто его невзлюбил до 22 лет, тот уже и не полюбит. Петерб[ург], конечно, его еще более развращает, т[о] е[сть] дает соблазнов, и я жалел, что его сюда перевел, и хотел спровадить в Киев или даже в Ташкент, но потом плюнул. Не все ли мне равно, где он будет? А уже мне надоело и говорить о нем и просить за него. Пора это кончить и предоставить его самому себе. По крайней мере туда и сюда дорога короче. — Да из Киева брат Алексей Сем[енови]ч уже и вовсе не ответил на мой вопрос. Дело дошло и до этого… Таких примеров вежливости я еще не испытывал даже от него” [1057].
Отец знал о большой дружбе Крохина с покойным Василием Семеновичем и о такой же любви к нему Ольги Семеновны. Прихвачен здесь заодно и Алексей Семенович.
Стоит, может быть, оговорить, что я смолоду до старости не терпел водки, а на другое — бюджет был тощ. Случались полковые праздники, чьи-нибудь проводы, вечеринки. Было ли все это “предаваньем пьянству” — не знаю. И вязалось ли оно с влечением к танцам? О каком-то “разврате” говорить смешно.
Я шел дорогой, первоначально предопределенной мне отцом, но дальнейшее чье-либо распоряжение собою исключил.
Не очень согласуются только что приведенные отзывы отца с его же строками, писанными обо мне М. И. Пыляеву всего три месяца перед тем: “Я вчера отвез Вениамину Ивановичу [1058] рекомендацию полкового командира и нечто вроде памятной записки от меня… Рекомендация [1059], конечно, наилучшая, и с нею можно говорить, не краснея за того, о ком говоришь”. Дальше, после разбора, открытых мне служебных возможностей, писалось: “Если же такова здесь задача, то лучше возвратиться опять в Киев, куда его зовут в саперы, и жить с дядею” [1060].
Алексей Семенович, очевидно не замечая моих негодяйств, действительно упорно звал меня в Киев служить в саперах и жить у него, с ним. Надеясь на обещавшееся, но не сбывшееся лучшее в Петербурге, я не воспользовался радушным киевским зовом, о чем не раз горько пожалел впоследствии.
Ранней весной 1889 года Н. П. Крохину обо мне снова сообщались вполне одобрительные сведения.
Наконец, почти через два года, уклоняясь от выполнения некоторых деловых поручений вдóвой уже сестры своей О. С. Крохиной, Лесков писал ей: “…Мне это не по летам, и не по силам, и не по моему настроению; а если у тебя нет людей, которым ты могла бы доверить, то ты поручи это Андрею, который должен возвратиться домой к 1-му ч[ислу] предстоящего октября. Он молод и силен, и притом совершенно надежен, п[отому] ч[то] честен, аккуратен и трезв, и он тебе все сделает обстоятельно и как следует, не жестко, умно и деликатно, и твои деньги передаст тебе в целости. Другого никого я указать не могу, а этому верю и думаю, что ему можно доверить всякое дело. Чтó в нем было ребячьего и манкировочного во время óно — то все уже прошло, и он стал человеком оч[ень] надежным. А впрочем, если ты можешь обойтись и без него, то это еще и лучше, но только я ни по каким делам хлопот взять на себя не в силах. За каждое усилие над собою в этом роде я расплачиваюсь ежедневно терзательнейшими припадками моей мучительной болезни…” [1061].
В октябре 1891 года, под впечатлением большой беседы с отцом о матримониальных его незадачах, я, возвратясь в свою стоянку, писал ему еще на ту же тему. 31-го числа он отвечал мне письмом, приводимым во всей его полноте.
“Я получил твое письмо и благодарю тебя за выраженные в нем чувства, которые, впрочем, теперь должны иметь большее значение для тебя самого. Гордость — чувство пустое: ничем не надо гордиться и никем. Я тоже сделал много дурного, чего стыжусь и о чем сожалею, и все то дурное я делал оттого, что не имел хорошего разумения и верил в возможность достижения счастия. На этой службе всяк испоганится. Незадачи жизни принесли мне огромнейшую пользу: они меня отрезвили и приучили к мужеству. У меня теперь нет врагов, а есть только люди, опасные моему духу, п[отому] ч[то] он еще слаб и порою иные люди его возмущают, но никогда не за себя. Лев Т[олстой] был мне благодетелем. Многое я до него понимал как он, но не был уверен, что сужу правильно. Жалею, что просветление ума, за суетою жизни, пришло ко мне поздно. Т[ол]стой находит мое теперешнее духовное состояние хорошим, и я сам не хотел бы быть таким, каким я был ранее. Следовательно, все идет к лучшему, и жалеть не о чем. И в то время, когда ты печалишься обо мне, — я за тебя радуюсь, что в твоем разумении все озаряется светом. Это одно и есть “обретение потерянной драхмы”. Мне оч[ень] радостно — как ты принимаешь свое служебное призвание, в тишине и безвестности. “Ревнуй о духе” своем, а чем тише и скромнее твое положение — тем лучше. Иди этим путем во всем, и тебе будет открываться лучшее, и жизнь получит совсем иную цену, чем у тех, кто домогается таких благ, за которые надо драться и которыми никак нельзя завладеть больше, чем завладевают люди особенно к тому ловкие. Я тебе сказал, что ты “на стезе”, и мне тебя учить не нужно. Дойдешь до лучшего сам. Желаю только, чтобы ничто в свете не заставило тебя сойти с этой стези или “сесть при пути”, по выражению Ге. Но я надеюсь, что и этого не случится. Кто раз узнал, где правда и откуда свет, — тот не захочет топтаться в потемках. Ты познал — где свет, и его нет нигде, как только в предпочтении жизни духа желанием суетности. Иди по этой стезе, и ты будешь счастливее меня, ибо я не имел так рано света перед собою.
Леопарди превосходен. Ты будешь иметь большое удовольствие его читать.
Н. Лесков.
Не сожалей, что я одинок. Я никогда об этом не сожалею. Я свободен, — это всего дороже. Если бы мое прошлое было хоть мало-мальски сноснее — я бы наверное сделался “роботом забот”. Этим путем идет множество оч[ень] достойных людей, к[о]т[орых] я уважаю, но никогда им не завидую. Мое счастье лучше. Обид я теперь уже почти не чувствую и иногда только удивляюсь вкусу людей, желающих давать мне чувствовать свое зломнение и зложелательство. Я вне их усилий уязвлять меня и боюсь только одного — своей слабости.
Посмотрим: есть ли сегодня в “Вестн[ике] Европы” мои “Полунощники”?” [1062].
Хотелось верить в сошедшее общее умиротворение, в то, что злопомнение побеждено по отношению ко многому и многим, начиная с ближних…
Успокоенный и, вопреки обильным прошлым урокам, обнадеженный, взял я в полковом “собрании”, то есть клубе, указанный в письме “Вестник Европы” и, дочитав “Полуношников” до 111-й страницы, обомлел: одной из самых двусмысленных запланных женских фигур нового “пейзажа и жанра” присвоено имя жены Алексея Семеновича, выходившей меня шесть лет назад в смертном тифе. Мало того, самое имя это преобразовано в “Крутильду”, с пояснением, что она была, как и жена брата, полька, настоящее имя которой было Клотильда, переделанное “потому, что она все, бывало, не прямо, а крутит, пока какое-то особенное ударение ко всем его чувствам сделает”, и так далее, строка от строки неудобнее.
“Фетюк”, “бесструнная балалайка” и все прежние клички казались невинными и милыми шутками рядом с этим новым всенародным, всему читающему Киеву понятным, поношением. Здесь же каверзнейшая рассказчица, приживалка-Шехеризада, наименовывается Марьей Мартыновной, как звалась вдова двоюродного брата Лескова “Лётушки” Константинова. Одним росчерком пера воздавалось всем сестрам, по серьгам, всему Киеву оптом.
От упований на умиротворенность не оставалось и тени: сойти со “стези”, избранной натурой, сил не хватало. “А в натуру можно верить”, видимо, больше, чем во все другое.
Меньше чем за четыре месяца до кончины, 1 ноября 1894 года, отец, в оправдание себя на какой-то мой упрек, преподал мне, двадцативосьмилетнему, давно независимо жившему и имевшему уже собственного сына, новое наставление, заканчивавшееся заверением: “Обиды же я тебе никогда никакой не делал: я тебя учил добру, кормил, одевал и помогал выбирать лучшую дорогу…”
Ниже в том же письме с еще большею легкостью и распространительностью развивались другие указания: “А если “свет твой останется тьмою”, то я в том не виноват: я не усиливал в нем темноты, а вносил свет, но было не время. Придет время, и сам увидишь, что бело, что черно” [1063]. И так далее, с неизменной убежденностью в непререкаемой своей правоте и чужой во всем виновности [1064].
В ранние писательские годы Лесков собирался окрестить один свой роман — “Всяк своему нраву работает” [1065]. На нем самом верность этого народного присловья подтверждалась как нельзя ярче. Пользуясь двумя поздними его заглавиями, можно уверенно сказать, что вся личная его жизнь была “томленье духа”, а жизнь с ним — “юдоль”.
ГЛАВА 9. ОЗИЛИЯ
Еще в избытке сил и здоровья Лесков с трудом переносил жару. В Киеве, в Пензе он спасался от беспощадного летнего зноя в ледниках, погребах или подвалах, перенося туда табурет и стол для работы. С годами, астмический и тучный, он окончательно предубеждается против юга и избирает летним своим местопребыванием исключительно северные морские побережья, где ему, как он восхищенно писал из Мариенбада, “frisch und frei”, свежо и вольно!
Таким именно требованиям отвечал в 1886 году Аренсбург, позволявший и отдохнуть и полечить местными грязями досаждавший ревматизм. Уголок пленил своею тишиною, уютом, дешевизной и разновидным удобством. Не понравился только стол в курортном ресторане, а по дороге возмущало грубое обращение экипажа с бедным людом, с “палубными” пассажирами на пароходах Рижской компании. Все остальное вызвало восторг и твердое намерение никогда не изменять этому “городку в табакерке”, как шутя называли в Прибалтике крошечный Аренсбург.
Отсюда пошли о нем самые добрые отзывы Лескова в прессе, стремление всеми силами помочь курорту в его нуждах и затруднениях, а со стороны городских правителей приносились словесные и письменные выражения глубочайшей признательности.
Для улучшения на будущий сезон положения со столом Лесков опубликовал за полной своею подписью письмо в редакцию “Петербургской газеты” [1066], в котором вызывал желающих снять в Аренсбурге ресторан “Тиволи” на лето 1887 года, предлагая по этому “маркитанскому” делу обращаться письменно даже лично к нему, Лескову.
Для обуздания команд рижских пароходов Лесков публикует одну за другой несколько статей об “одичалых мореплавателях”, о “дагомейцах”, не о сынах свирепой Дагомеи, а всего только об уроженцах ближнего к Эзелю острова Даго, служащих на рижских пароходах [1067].
В ответ на них к Лескову приходят какие-то чопорные немцы в цилиндрах “um zu sprechen”, чтобы переговорить, но не застают его дома. На этот предостерегающий визит он немедля отвечает в газете, что хотя с 1870 года и постарел [1068], но и сейчас сумеет встретить и проводить каждого, как кто того заслуживает, и что в Ревеле, надо думать, о сю пору помнят нечто в этом роде три тамошних дворянчика [1069]. Господа в цилиндрах больше не появлялись, а через неделю Лесков публикует полузавершительную статью “Выигранная кампания” [1070].
Внимание к целительному пункту ширится. Отношения между ним и оказавшимся столь ему полезным гостем теплы и радушны. В том, что все ближайшие летние сезоны Лесков проведет здесь, — нет никаких сомнений. Он избирается в почетные члены купального комитета, ему пишут благодарственное письмо видные местные деятели, Совет эстонско-русского православного братства и так далее. Его жаждут видеть летом вновь.
Узнав о намерении его повторить поездку на Эзель и в 1887 году, Ф. В. Вишневский пробует отвратить его от хмурой Балтики и расположить к посещению благословенных стран полуденных.
В теплом письме [1071] он дружески прельщает Кавказом или более близкой Одессой с ее чудотворными лиманами, соленым и животворным морем, богатством типов, бытовых картин, фельетонного и заметочного материала, животворного общего обновления впечатлений. Он предостерегает и даже несколько устрашает холодной Остзеей с ее тевтонами и их средневековыми судилищами, сумевшими уже когда-то настойчиво причинять Лескову “законные вреды”. Все безуспешно!
Милый Федор Владимирович не знал, что четыре года ранее пробовал соблазнить Лескова совместной поездкой в Крым и покойный Ф. А. Терновский, на что получил далекие друг другу ответы:
“Попутешествовать с вами — чего бы лучше! И, конечно, — “экономно”, но места, вами намеченные, мне не совсем правятся: во-1-х, они очень жаркие, а во-2-х, что там видеть. Нельзя ли бы вам куда-нибудь “ко святыням”? Там бы расходы путевые скорее возместились. Однако я всему предпочту провести время с вами, ибо вы милы и дороги душе моей, напишите, пожалуйста, мне пообдуманнее и поопределеннее об этой статье” [1072].
А в следующем месяце вопрос начисто снимается: “План моей поездки я изменяю совсем иначе: не хочу тащиться никуда далеко, а хочу только оставить город и переехать в место более спокойное, более свежее, зеленое, удобное для купанья и для работы на месте. Бог знает: увидишь ли еще что-либо подходящее, а между тем пропутешествуешь немало и без пользы, а купанье в море мне всегда приносило пользу; да и работается в этих купальных городах прекрасно. А потому я все прежние затеи отложил и еду в Аренсбург, на остров Эзель. Это все там в три раза дешевле и в несчетное число удобнее Киева, а мне хочется работать на месте: я, что называется, “забрался работой”, так что надо много удобств, чтобы переработать то, за что взялся к осени” [1073].
Где было Вишневскому подкупить Одессой, если ничего не удалось с Крымом даже исключительно любимому Лесковым Терновскому!
Времена, когда Лесков непрерывно колесил в возке по всей России, рвался в этнографические поездки на северо- и юго-восток, проезжал всю Белоруссию, Литву и Польшу, посещал интереснейшие города средней Европы и живал в Париже, — были далеки. Ему уже полста. Он уж стал тяжел на подъем.
В воображении рисуется корабль, неустрашимо пересекавший океаны, посещавший отдаленнейшие земли и страны, а потом обросший ракушками, потерявший прежние ходовые качества. Теперь ему милее не безбрежные просторы, а тихие заводи…
У Лескова, без сомнения, нашлось бы на кого оставить дома и собачек, и звонкоголосую птицу, и сиротку. Нашлось бы кому присмотреть за всеми ними. С этим можно было управиться. Нельзя было осилить личные привычки, оседание, прирастание к месту, к Фурштатской, к ближайшим дачным поселкам.
При полной возможности полгода жить в отвечающих требованиям здоровья бальнеологических условиях он жил, как жили люди, обреченные на это по условиям службы, работы, деловых интересов.
Постепенно радиус летних резиденций укорачивался, не простираясь последние годы далее бесцветного, низкого и сыроватого нарвского побережья.
Что же нудило к таким ограничениям Лескова? Ракушки?..
Частично, может быть, да. Но не больше ли вступившие, во чреду лет, в свои права наследственные орловско-кромские навыки с их сочно описанным в рассказе “Дворянский бунт в Добрынском приходе” [1074] “вольным обычаем”, которого можно “ни для чего не изменить”. Времена, общественные положения и бытовые условия менялись, а “вольный” добрынский “обычай” находил себе новое, преемственно-родственное воплощение.
В начале 1887 года Лесков помещает в газете две “эзельские” статейки. В одной из них [1075] сообщается о предоставлении врачом Мержеевским литераторам бесплатного лечения, как делается это за границей; о предоставлении владелицей другой лечебницы госпожой Вейзе шести билетов на тридцать ванн каждый и т. д. В другой [1076] поднимается вопрос (о заселении некоторых пустующих местных островов русскими людьми, благодаря чему: “засело бы полезное государству сплошное русское население”, а о земле этих островов говорится, что она “по меньшей мере не хуже сухого, дубянистого суглинка надóчного ската в Орловской губернии, где сельских людей одолевает теснота и голодовка”.
25 мая Лесков прибывает на Эзель, радушно приветствуемый уже в звании “члена-советника Аренсбургского купального комитета”.
Жизнь течет приятно, лечебно и работоудобно. Этим полны все письма.
Апогей удовлетворенности Аренсбургом находит себе через неделю яркое выражение в письме ко мне в Киев: “Я не хочу перевозиться [1077] т[ем] бол[ее], что мож[ет] б[ыть] совсем поселюсь на Эзеле с будущего лета… Я более для того и возвращусь еще раз в Петербург, чтобы довести это [1078] до конца. Иначе я остался бы здесь теперь же… О перемене [1079] нет и повода говорить: мое сердце требует самого чистого воздуха — что я имею у Тавр[ического] сада, в П[етер]б[ур]ге я жить более года не буду…” [1080]
Намерение это, по самоочевидной нежизненности своей, никем в родстве не было принято всерьез. Едва ли и сам Лесков в действительности собирался жить без редакций, книжных магазинов, литературных знакомств, кипения в слухах, злободневных новостях, словом, без Петербурга.
Северное лето миновало, а Лесков все еще не спешил покинуть полюбившийся уголок и только 20 августа (1 сентября) выехал домой и 23 августа писал мне в Киев: “Вчера, 22 авг[уста], в 2 ч[аса] дня я приехал в Петербург. Опять попал под бурю, и в Гапсале 12 часов отстаивались и посетили город” [1081].
В феврале 1888 года я, служа в глухом аракчеевском поселке в двадцати восьми верстах от Новгорода, перенес очень серьезное воспаление правого легкого. К искреннему удивлению и радости пользовавшего меня молодого умного врача — выжил, однако зловеще харкал кровью.
Пережитое, в связи с свалившим меня два года назад в Киеве тифом, не поощряло сообщать о новом своем недуге ни отцу, ни матери. Я решительно запретил это делать своему врачу. Не спешил и сам, пока, с грехом пополам, не стал, наконец, на ноги. Врачи на консилиуме, учитывая, как глубок и стоек был процесс, вынесли постановление о необходимости двухмесячного климатического лечения в Крыму, без которого ручаться за окончательный исход болезни нельзя.
Наконец я все написал отцу. Ответ, без обычных вступительных и заключительных обращений, не замедлил:
“Я не одобряю того, что ты не писал о своей болезни. Это не твое дело рассуждать — как бы я принял такое известие. Северные врачи имеют несостоятельное понятие о русском юге, и притом воспаление легкого в 21 год — если оно прошло — это не такая многопоследственная вещь, чтобы надо было ехать на юг. Далее, — поездка на 1 м[есяц] и даже на 2 (апрель и май) не принесут значительно пользы, и из них 1/4 надо употребить на проезд… Кавказ и Крым — это даже смешно… Я имел воспал[ение] легких обоих в 48 лет и отдыхал просто в Дубельне за Ригою… Почему тебе, в 21 г[од], нужен Крым? Выдумывать вздоры очень легко, но надо иметь разум, чтобы соображать свои достатки и дорожить настоящими пользами, а не слушать всего, что “говорят”… Воздух Аренсбурга чист, умерен и целебен. Гапсаль хуже Аренсбурга, но тише, п[отому] ч [то] защищеннее. Можно ехать в Ар[енсбург] или в Гапс[аль] и то и другое хорошо и по нашим средствам, и туда многие приезжают с целию поправления после воспалений (н[а]пр[имер], Тиманова, Быков), но ехать в Крым на 28 или даже на 56 дней — это явная глупость… Жить до моего приезда будешь у аптекаря Флиса, одинокого, оч[ень] милого, умного и образованного человека и немецкого литератора, который мне друг. У него большая и хорошая квартира, оч[ень] большой сад, и он говорит по-русски, как москвич. Я напишу ему, чтобы он дал тебе комнату и стол… Таков мой совет, и он хорош и благоприятен, а все иное — чепуха и затеи. Аптека Флиса в городе, но у самого парка и на берегу моря…
У Фл[иса] тебе будет очень удобно и оч[ень] спокойно. Он большой музыкант и душа поэтическая. Он по своему одиночеству иногда скучает и, наверно, будет тебе рад и будет рад сделать мне услугу. — 20-го мая приедут туда Крохины, а позже и я. Здесь после воспаления никак прохлаждаться нельзя, и ты должен ехать на Эзель с 1-м рейсом почтового парохода… На днях буду писать, а пока советую быть уверенным, что я о тебе предусматриваю самое для тебя лучшее, и моего совета держаться, ибо я не знаю дело всех многостороннее…” [1082]
Вслед приходит и второе письмо, держащее тот же курс.
“…О Крыме нам нельзя думать, и это не может быть необходимостью. Отдых весною на чистом острове при морском воздухе и хорошей растительности — это вполне достаточно и хорошо. Выдумывать можно все, включительно до Ниццы, Капри и остр[ова] Мадеры, но это не для людей с нашими средствами, и притом это излишне и потому глупо. Надо держаться Эзеля, где будет всего удобнее по всем отношениям… Если ты будешь слушать неопытных врачей и поступать несогласно с тем, что указывает благоразумие, — я не могу быть тебе полезен ни советом, ни делом” [1083].
Научения разгораются, то исполняясь раздраженностью, то на недолго освобождаясь от нее, не безотступно отстаивая ни с чем не сравнимые целительные преимущества островного Аренсбурга перед всем прочим.
“На Эзеле до 20 мая будет тишина немецкого маленького городка, что оч[ень]благоприятно душевному возрождению, а потом, с 20 мая, с каждым пароходом начинают прибывать люди с разных сторон, и становится очень оживленно. Да лучших мест нам искать негде, да, по правде сказать, и не для чего. Тебе там должно быть хорошо, поживешь с Флисом, а 20 мая думаю приехать и я, и можем пожить вместе месяц, а может б[ыть] и полтора…”
Дальше снова захлестывает очередная волна:
“…Я устал ждать от тебя что-либо и оставил это, как бы вовсе безнадежное. Усталость — чувство понятное даже и тем, кто мало делал, стало быть и тебе. Я устал, и оч[ень] — очень устал, и у меня слабеет зрение… Мне опротивели твои пошлости и беспечность, от катаний с тифом до катаний с пнеумонией. Все это мне мерзко, хотя я знаю твои годы и проч[ее]. Противен мне человек, ставящий выше всего то, что имеет значение между прочим. Но еще скажу, что мне и говорить с тобою о достойных предметах противно. Если было бы чему обрадоваться или хоть чем облегчить свои представления, то пусть это случится помимо ожиданий и рассуждений. — Что касается твоих размышлений о кризисе смертном, то не подлежит сомнению, что приучить себя к бестрепетному рассуждению о смерти — чрезвычайно умно, полезно, плодотворно и необходимо нужно. Это сказано величайшим мудрецом древности, а проверить это может каждый дурак. Нет ничего жалче и противнее труса, а избежать смерти он все-таки не может. Следоват[ельно], лучше к ней готовиться и укреплять дух размышлением. Но тот же мудрец сказал: “учись так, как будто тебе суждено жить вечно, и живи так, как будто ты должен умереть завтра”. Есть оч[ень] молодые люди, которых это занимает и руководит. Лермонтов в 19 лет был полон этих томящих, но единственно живых вопросов” [1084].
Как я узнал только через тридцать девять лет, болезнь моя неожиданно нашла себе отзвук в переписке Лескова с Сувориным. 19 апреля 1888 года ему писалось: “Очень жду ваших ответов об издании “Захуд[алого] рода” и рассказов. Сделайте решение поскорее, удобное мне и не безвыгодное для предприятия. У меня оч[ень] болен сын (воспаление легких), и его надо взять из казармы на свободу. Надо стянуть все средствишки, а май м[есяц] на дворе, и в 21 год воспал[ение] легких [1085] переходит в роковую чахотку… Что можете сделать без вреда и стеснения своему издательству — не откажите в том моему писательству! [1086].
При чем была тут моя болезнь? Какие надо было стягивать “средствишки”, когда, при дешевизне транспорта для военных, собственного моего офицерского жалованья было достаточно и на Аренсбург и на пустяками более дорогой (как я узнал позже) для одинокого молодого человека Крым? При нечеткости положений легко вкралась и разноголосица: и на неделю раньше и на три дня позже Суворину же подтверждалось: “Я — слава богу — с хлеба на квас не перебиваюсь и могу держать работы в столе” [1087]. Или: “Денег я под издание [1088] не буду просить никаких. В этом я, слава богу, — не нуждаюсь” [1089].
Но Суворин лучше многих других знал, что к 1888 году Лесков был не без некоторого достатка.
Два года перед этим Лесков учит мать “маленькой Лиды” О. А. Елшину: “Бедниться никак не надо: от этого “лохмотьем пахнет”, и это роняет человека на рынке” [1090].
И как раз, без всякой в том нужды, вразрез преподаваемым правилам, не остерегается пренебрегать ими, прибегая даже к речевым московским формам XVI века. Зачем? Неисповедимо. Только и остается вспомнить его же слова к Суворину: “Отчего это вы возьмете самую верную ноту, вернее всех и всех смелее и искреннее, но как понесете ее, так и расплещете, — точно вам кто под руку толкнул” [1091].
Врач мой, специалист по легким и бальнеолог, решительно возражал против Эзеля, да еще ранней весной, и настаивал на Крыме или, в крайности, южной деревне. Сношение с знающим свой остров Флисом подтверждает рискованность моего приезда с первыми пароходами. 30 апреля отец уже без возражений провожает меня с Николаевского (Московского) вокзала на Украину. По правде сказать, вопрос уже и прискучил, а дел, литературных работ [1092], переписки с “иже по духу” П. И. Бирюковым, Г. В. Чертковым или с противомысленным С. Н. Терпигоревым и деловой — с А. С. Сувориным, Л. Н. Толстым — впору только справиться. Да и пора самому собираться к июню на летний роздых в любезную Озилию.
Непосредственно с Аренсбургом, как и в первые два приезда, сначала все идет с прежней “Gemütlichkeit” [1093], сердечностью и полным благорастворением воздухов.
Но пока я отдыхал в континентальной устойчивости юга, а потом экзерцировал на военном поле Красного Села, у неизбежных Кавелахтских высот и других географических пунктов вплоть до Гостилиц и Молосковиц, — на доступном всем ветрам и циклонам острове барометр начал давать тревожные, а затем и прямо угрожающие показания.
С приездом Лескова идут сначала вполне благоприятные корреспонденции его в столичные газеты [1094]. В первой из них горячо опровергается пущенный кем-то из добрых соседей в мае месяце ложный слух, будто на Эзеле свирепствует оспа. Далее рисуется ряд бытовых удобств. Говорится, что “обнаруживать свое знакомство с русским языком здесь теперь в такой же моде, как прежде было в моде притворяться не понимающим по-русски”. Перечисляются весьма именитые приезжие, видные местные деятели. Правда, тут же упоминается, как два местных мясника “мастерски взрезали возле самого парка живого русского солдата и тот умер”, но в общем сердца домовладельцев, кормящихся от приезжих, исполнялись глубокой признательностью.
Но вот, ближе к концу июля, приходит в Аренсбург номер петербургской газеты с новой корреспонденцией, в которой нежданно-негаданно говорится об имеющихся на Эзеле, даже невдалеке от самого курорта, прокаженных [1095]. Происходит переполох. Многие не знают, что предпринять, как быть с Лесковым!
А восемь дней спустя получается еще одна, уже пятая корреспонденция, задевающая аренсбургского герихтсфохта Гольмана, держащего почему-то у себя паспорта всех приезжих, как, к великому негодованию Лескова, в свое время учинял фурштатский его домовладелец. “Не то ли это и есть, — колко спрашивает Лесков, — что на русском языке ревельского ландгерихта называется “законные вреды”? [1096] Это еще куда ни шло, а вот что тут же вторично помянута и проказа — невыносимо для городка, живущего приезжими больными и дачниками. Положение накаляется. Раздражение Лескова пошло расти по линии срыва вспышки на чем случится. А раз начавшись, взрывная реакция улеглась трудно. В частности, здесь же Лесков приводил явно проверенные бальнеологические данные об Аренсбурге, как нельзя более противоречивые его прежним заключениям. Оказывалось, что при легочной болезни “самое пребывание с ней здесь неблагоприятно или, прямо сказать, очень вредно”. Вот как изменилось суждение, казавшееся самому в марте самым “многосторонним”, опровержение которого принималось за глупость, вздор, чепуху и затеи.
Лесков покидает Аренсбург 7 августа, на две недели ранее прошлого года.
Приехав, он всерьез берется за мимоходом тронутую было. тему. Гроза разражается ошеломительной в своем заглавии, уже полностью подписанной статьей “Культ прокаженных (Кустарные курорты на Эзеле)” [1097]. Озилия потрясена. Лесков не дает передышки. Он собирает интересные общие данные о проказе и борцах с нею и публикует новую статью — “О прокаженных” [1098] и вскоре еще раз возвращается к проказе и комбинированной статье “О проказе, о пирате, о мщении одичалых, о Бироновом носе” [1099].
Военные действия открывает и другая сторона.
Местный листок “Arensburger Wochenblatt” от 4 октября 1888 года, № 40, отводит первое место и треть всего своего текста довольно бойко составленной статье “Herrn Leskow!” [1100]. Подпись N. S. Экземпляр был выслан Лескову бандеролью [1101].
Ополчился и недавний милый человек и друг Роман Флис, приславший в “Новое время” статью в четверть листа: “Еще о проказе” [1102], представлявшую собою разбор всего писавшегося об эзельской лепре (проказа) в лесковских статьях и общее резюме по поднятой ими шумихе. Суворин дал статью Флиса Лескову на просмотр.
17 октября последний, заканчивая одно из своих писем к Суворину, бросил: “Печатаете ли вы ст[атью] Флиса? Я пришлю ответную заметку. Из Киева профес[сор] Мейн и Подвысоцкий мне прислали целую литературу и благодарности [1103]. “Никогда, говорят, это дело не было так возбудительно поставлено”. — Мы “опрокажены” до центральных губерний, и все это идет, и ничего против этого не делается” [1104].
Суворину, однако, эта лепровая полемика стала, вероятно, прискучать, а тут грохнул гром среди ясного неба — “чудесное крушение” царского поезда у станции Борки Курско-Харьковско-Азовской железной дороги, и многое временно отодвинулось, а потом и завяло [1105].
Корабли для Аренсбурга были сожжены. Любовь была радостной, разлука горька, но неустранима. Надо было найти утешение. Отчасти оно пришло в уверениях доктора Мержеевского, что он и некоторые другие не разделяют узости взглядов Флиса, Гольмана, Керстнера и многих других на “проказные”, как говорилось, статьи “Нового времени”. Но слишком многочисленны оказывались эти “многие другие”, возмущался и злобился весь город и значительное число лиц муниципального положения в других городах Остзеи.
Нельзя было иногда обойтись без объяснений внезапной измене Аренсбургу и вообще всей Озилии.
“К немцам своим не поеду, — пишется в ночь на 9 апреля 1889 года В. Г. Черткову, — п[отому] ч[то] их теперь “руссифицируют”, а я терпеть не могу быть при таких операциях” [1106].
“Тому, что Ольга застряла в Риге, надо радоваться, т[ак] к[ак] это место привольнее, — указывается Н. П. Крохину в письме от 9 июня, — море лучше и жизнь шире. Жаль только, что она наняла в Дубельне, где очень пыльно… Впрочем — все-таки радуйся, что жена твоя там, около Риги, а не за морем, в Аренсбурге, что было [бы] совсем безрассудно” [1107].
И наконец, через две недели в письме к сестре Ольге Семеновне, 24 июня, поясняются причины нежелания приехать погостить у нее в Дубельне:
“Мне все надоело и никуда не манится, особенно в тот край, где производятся мероприятия, делающие нас неприятными туземным обывателям” [1108].
Три года “всех многостороннее” изученное и непререкаемо превозносившееся “прекрасное место” становится отверженным, посещать его уже “совсем безрассудно”.
Что делать: по нужде и закону перемена бывает.
ГЛАВА 10. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОПОВЕДЬ
Лесков ценил в писателе искренность литературной и идеологической направленности, не считаясь с другими его свойствами. Прочитав в октябрьской книжке “Северного вестника” 1893 года новый шеллеровский рассказ “Конец Бирюковой дачи”, он взволнованно пишет Фаресову: “Каковы бы ни были свойства его личного характера, это — его дело, а для прояснения общественного сознания он служит превосходно, обнаруживая здравые понятия и любовь к тому, что оскорблено и унижено. Нехорошо играть на понижение репутации человека, который с таким мастерством ведет полезную работу в нынешнее преглупое и преподлое время. Всех, которые занимаются тем же делом, как и он, я с радостью отдал бы за него одного. А подумаем лучше вот о чем: отчего это мы все ведь знали то же самое, что и ему известно, а вот мы начнем говорить и затянем “антимонию” чорт знает про какие ненасущные явления, а он что ни долбанет, то прямо в жилу, и сейчас оттуда руда мечется наружу, и хочется плакать, и хочется помогать, и становится стыдно и гадко о себе думать? Это и есть несомненный признак присутствия ума, чувства и таланта, и притом в превосходном их, гармоническом, сочетании. И если кто этого в нем не видит и не чувствует, то я буду думать, что я Шеллера знаю более, чем другой его знает, хотя лично я с Шеллером и мало знаком, и мне это не нужно: я знаю “лучшую его часть” [1109].
Так говорил он о “лучшей части” своего давнего литературного собрата умудренный жизнью, на седьмом десятке лет. Несомненно однако, что дар находить “лучшую часть” в каждом человеке, имеющем какое-нибудь духовное содержание, и от всего сердца любоваться ею жил в нем с отроческих лет.
“У нас на орловской монастырской слободке жил один мой гимназический товарищ, сын этапного офицера, семья которого мне в детстве представлялась семьею тех трех праведников, ради которых господь терпел на земле орловские “проломленные головы” [1110], — писал Лесков в 1878 году.
К концу 1879 года, в предпосылке к рассказу “Однодум”, повествовалось о трагикомическом, сорок восьмом умирании А. Ф. Писемского, а затем возвещалось: “и пошел я искать праведных… но куда я ни обращался, кого ни спрашивал — все отвечали мне в том роде, что праведных людей не видывали, потому что все люди грешные, а так, кое-каких хороших людей и тот и другой знавали. Я и стал это записывать” [1111].
Так как бы оформлялось открытие галереи лесковских “праведников”. Однако, как видим из сказанного выше, в действительности наблюдение, запоминание и собирание их началось с детских, орловских лет писателя. “Однодум” шел первым уже под иконописным титлом, сравнительно поздно придуманным, но многие просто “хорошие люди”, совершавшие раньше или позже кое-какие незаметные подвиги, то попадали в эти святцы, то оставались без канонизации.
В произведениях Лескова все они, в порядке появления в печати, располагаются примерно так: правдолюбивый Овцебык; непримиримо революционные Райнер, Лиза Бахарева и Помада; младопитательный и всеприимный Пизонский, Котин Доилец и всепрощающая Платонида; нигилисты чистой расы — Бертольди, майор Форов и Ванскок; полный патриотизма землепроходец Иван Флягин; беззавистный и безгневный Памва и чудный отрок Левонтий; несокрушимый в своей первобытности благородный дикарь зырянин и не понуждающий никого к крещению Кириак; сострадательный Пигмей; бескорыстный эконом Бобров и ревностный лекарь Зеленский; мужественный Голован; уповательные обнищеванцы; кроткий штопальщик; трогательный в дружбе со зверем Храпошка; пленительный мельник дедушка Илья и непреклонного духа Селиван, безгранично добрый Карнович; прекраснодушный художный муж Никита Рачейсков; самоотверженный рядовой Постпиков; великодушный Вигура; прачка, сердобольно растящая на трудовые свои гроши чью-то сироту, как бы прототип Фефелы и т. д.
Во сколько тяблов (ярусов) потребовался бы иконостас для размещения всех помянутых или позабытых здесь неколебимых служителей тому, во что они верили и в исполнении чего видели долг жизни своей?
Горький, не всегда безоговорочно принимая все в рисунке лесковских праведников, удовлетворенно отмечал неизменную устремленность всех их к добру, человеколюбие и безграничную, до самозабвения, любовь к родине.
“Я видел в жизни десятки ярких, богато одаренных, отлично талантливых людей, а в литературе — “зеркале жизни” — они не отражались или отражались настолько тускло, что я не замечал их. Но у Лескова, неутомимого охотника за своеобразным, оригинальным человеком, такие люди были, хотя они и не так одеты, как — на мой взгляд — следовало бы одеть их” [1112].
В другой раз выполнение писателем взятой на себя задачи находит широкое признание исследователя:
“Его огромные люди. Их основная черта — самопожертвование, но жертвуют они собой ради какой-либо правды или дела не из соображений идейных, а бессознательно, потому что их тянет к правде, к жертве. Лесков изображает своих героев праведниками, людьми крепкими, ищущими упрямо некоей всесветной правды, но он относится к ним не с истерическими слезами Дос[тоевского], а с иронией добродушного и вдумчивого человека” [1113].
Особенно Горький ценил в Лескове — что это был писатель, “все силы, всю жизнь потративший на то, чтобы создать положительный тип русского человека” [1114].
Заключения шли одно другого шире, глубже, величавее:
“Он любил Русь, всю какова она есть, со всеми нелепостями ее древнего быта, любил затрепанный чиновниками полуголодный, полупьяный народ и вполне искренно считал его “способным ко всем добродетелям”, но он любил все это не закрывая глаз… В душе этого человека странно соединялись уверенность и сомнение, идеализм и скептицизм” [1115].
“Он писал не о мужике, не о нигилисте, не о помещике, а всегда о русском человеке, о человеке данной страны.
Каждый его герой — звено в цепи людей, в цепи поколений, и в каждом рассказе Лес[кова] вы чувствуете, что его основная дума — дума не о судьбе лица, а о судьбе России” [1116].
Так судил великий литературолюб о второй, “большей и лучшей части деятельности Лескова” [1117].
Характерно, что шедшие с перелома восьмидесятых годов, как писал Лесков, “Пустынные картины (древнее христианство в Сирии и Египте)” [1118], то есть повести на сюжеты, черпавшиеся из “Пролога”, не вызвали отклика Горького. В некоторых из них было много красоты, картинности, изящества в рисунке, обогащенности темы. Многие из них требовали изучения исторических и этнографических данных. Но ни одна из этих цветистых новелл не трогала и не волновала так, как сравнительно простосюжетные, “из самой жизни вывороченные”, отражавшие подлинную русскую жизнь, бытовые повести Лескова.
“Прологи”, с их декоративностью, условностью фабул и наборной языковой узорчатостью, насквозь русской натуре Лескова приелись, а легенды и совсем “опротивели”.
Почему-то, может быть и бесправно, вспоминаются более поздние, но не менее выразительные колебания в восхищении изготовлявшимся уже к художественной проповеди Львом Львовичем Толстым. В недатированном письме к А. С. Суворину, видимо от 20 января 1893 года, не без теплой шутливости сообщалось:
“Посетил недостоинство наше “младый Лев” (отцов любимец и любви достойник)… Что за юноша!.. Хочется плакать от радости!” [1119].
В этот же день он заинтересованно и устроительно писал и Л. И. Веселитской: “Вчера был у меня сын Льва Николаевича, Лев Львович, только что приехавший из Москвы, и рассказывал о том, как было принято мое извещение [1120] о встрече с вами. Льву второму очень хочется свидеться с вами перед отъездом. Он придет ко мне проститься завтра, в два часа. Я ему сказал, что извещу вас о его желании с вами встретиться, чтобы еще ближе познакомить с вами отца по собственным, личным впечатлениям. Думаю, что вы не найдете ничего неудобного в том, чтобы познакомиться с сыном любимого вами великого человека и нашего общего друга” [1121].
Полгода спустя, 27 июня 1893 года, поговорив в письме к М. О. Меньшикову о Льве Николаевиче, Лесков делает уже некоторый поворот:
“О молодом Льве согласен с вами, как и о старом. К молодому Льву надо бы применить советы Нила Сорского: “аще млад выспрь скачет”, — “подерни его за ноги и поставь на землю”. Я ему сказал, что он очень поддается теориям, к[ото]р[ые] не выдержат пробы. Мож[ет] б[ыть], это ему неприятно” [1122].
Четырнадцать лет назад, ведя усердные вероисповедные “дискурсы” с великосветскими редстокистками, безнадежно пытавшимися приобщить его к своему “разноверию”, Лесков писал наиболее молодой и убежденной из них:
“Исправляли меня и раскольники, и католики, и другие, — их же имена сам господи веси, — включительно до лорда Редстока, и всякий из этих “справщиков” смело уверял и нагло доказывал, что истина во всей ее полноте ужилась только с ним и лежит в его жилетном кармане, а я этому не верил и не поверю, п[отому] ч[то] имею большее почтение к истине” [1123].
Под старость oн не сомневается, что истина при нем.
Умеряя чужую чрезмерную увлеченность чем-нибудь, Лесков иногда заключал свои советы ритмичным чтением поэтической восточной аллегории:
Настрой же скорее гитару для танцев:
Не строй ее низко, не строй высоко!
Покидая не всегда выдержанных в таком правиле Памфалонов, Данил и Зенонов, Лесков переходил к созданию новых, современных героинь. Соблюдалось ли тут указание о строе гитары?
Л. Я. Гуревич в эти же годы записала неудержимо вырвавшуюся, почти мучительную исповедь Лескова:
“Он [1124] хочет, и сын его, и толстовцы, и другие, — говорил он [1125] один раз, — он хочет того, что выше человеческой натуры, то невозможно, потому что таково естество наше… Я знаю сам… Всю жизнь свою я был аггелом. Я творил такое, что… никто не знает этого. И теперь — я старик, я больной, и все-таки — такое во мне кипит, что я и сам сказать не умею, как и что. Сны мне снятся — сны страшные, которых нельзя словами описать. И кто знает, что это? И зачем, почему и откуда? Назвать ли это чувственностью? Но ведь я сам не знаю, зачем она мне! Ничего мне не надо, ничего я разумом своим не хочу, — ищу покоя души своей, а что-то мучит и мучит меня…” И он замолк, прислушиваясь к нежно звенящему бою часов, на который другие часы откликнулись коротким музыкальным напевом. Это было месяца за три до его смерти” [1126].
Лескова сильнее, чем прежде, влекло рисовать неотразимо красивую, духовно познавшую самую неопровержимую истину и свет, купеческую Клавдию или совсем обольстительную светски-интеллигентную Лидию, сложенную как Диана из Танагры, и с таким контральто, от которого, как он, бывало, говорил, “душа мрет”.
Однако есть ли в них чарующая прелесть искренности, жизненной простоты гостомельской Насти, нигилистической Бертольди, Катерины Измайловой, Доры и Анны Михайловны, Мани Норк, Ванскок, киевлянки Хариты, Любови Анисимовны, Шибаенки и многих иных из прежних лесковских героинь? Не манекены ли это, книжно и надуманно говорящие с напетых автором пластинок?
Единственный раз Клавдия — в разговоре с нежно любящей ее и, надо верить, нежно любимою ею матерью — обмолвилась простым искренним словом: “Со мною, мама, жить очень трудно”. Куда труднее!
Второй раз превосходно заговорила Лидия: “Полноте, ma tante, что это еще за характеры! Характеры идут, характеры зреют, — они впереди, и мы им в подметки не годимся. Н они придут, придут! “Придет весенний шум, веселый шум!” Здоровый ум придет, ma tante! Придет! Мы живы этою верой!”
Само по себе пророчество великолепно, но опять это говорит не Лида, а сам Лесков. Говорит убежденно, полный несокрушимой веры в непременный приход настоящих характеров, в весенний веселый шум. Придет то, чем сам он жил с перехода из Савлов в Павлы. Это уже не проповедь, а исповедание духа, полное веры в ни с чем не сравнимую, воспитывающую и просвещающую силу неустанно любимой им литературы.
Вере этой оставлены и другие свидетельства.
27 января 1893 года на несколько обиженное письмо редактора “Исторического вестника” С. Н. Шубинского Лесков отвечал: “Относительно “разномыслия” пора бы перестать разномыслить: вы смотрите на дело главным образом с коммерческой стороны, а есть полное основание смотреть на это иначе, — именно не считая коммерческой стороны главною. Что этого очевиднее и проще?” [1127]
Редактор при случае попробовал еще раз поразномыслить, а писатель накрепко подтвердил ему:
“Я отдал литературе всю жизнь и передал ей все, что мог получить приятного в этой жизни, а потому я не в силах трактовать о ней с точки зрения поставщичьей. По мне пусть наши журналы хоть вовсе не выходят, но пусть не печатают того, что портит ясность понятий. Я не то что не понимаю современного положения печати, а я его знаю, понимаю, но не хочу им стеснять себя в том, что для меня всего дороже: я не должен “соблазнить” ни одного из меньших меня и должен не прятать под стол, а нести на виду до могилы тот светоч разумения, который дан мне тем, перед очами которого я себя чувствую и непреложно верю, что я от него пришел и к нему опять уйду. Не дивитесь тому, что я так говорю, и не смейтесь: я верую так, как говорю, и этой верою жив я и крепок во всех утеснениях. Из этого я не уступлю никому и ничего, — и лгать не стану и дурное назову дурным кому угодно. Некоторые лица все это приписывают во мне “непониманию”. Они ошибаются: я все достаточно понимаю, я не хочу со всем мириться, и как я сторонюсь от дел с приказными и злодеями, то мне не надо ни изучать их ближайшие привычки, ни мириться с ними. Я уже старик, — мне жить остается немного, и я желаю дожить дни мои, делая, что могу, и не мирясь с “соблазнителями смысла”. У меня есть свои святые люди, которые пробудили во мне сознание человеческого родства со всем миром. До чтения их я был “барчук”, а потом “око мое просветлело”, и я их считаю очень дорогими людями, и вот их-то именно теперь и принято похабить и предавать шельмованию рукою ничтожных лиц, ведомых всем по их злобе, лжи, клеветничеству и сплетничеству” [1128].
Собеседникам он говорил: “Весь мой одиннадцатый том: Клавдия в “Полунощниках”, квакерша-англичанка Гильдегарда и тетя Полли в “Юдоли”, “Дурачок и т[ак] д[алее] опять воспроизводят светлые явления русской жизни и снимают с меня упрек в том, что я проглядел устои русской жизни и благородные характеры. Я их видел, но я видел также и многое другое… Мои последние произведения о русском обществе весьма жестоки. “Загон”, “Зимний день”, “Дама и Фефела”… Эти вещи не нравятся публике за цинизм и простоту. Да я и не хочу нравиться публике. Пусть она хоть давится моими рассказами, да читает. Я знаю, чем понравиться ей, но я больше не хочу нравиться. Я хочу бичевать ее и мучить. Роман становится обвинительным актом над жизнью” [1129].
“Зимний день” мне самому нравится, — говорил Лесков, горячась и увлекаясь, — Это просто дерзость — написать так его… “Содом” — говорят о нем. Правильно. Каково общество, таков и “Зимний день” [1130].
Шла, пусть и художественная, но — проповедь.
ГЛАВА 11. ВЗЫСКУЮЩИЕ ИЗ ОТРИЦАВШИХСЯ
Прозрение, неустанный труд и могучее дарование делают свое дело. Долго тяготевшая над Лесковым осужденность постепенно рассеивается его новыми произведениями и год от году меркнет. Запоздалые “отомщевания” непримиримых врагов — не страшны. Талант и несокрушимое мужество превозмогают.
“На днях, — пишет он Суворину, — я виделся случайно с критиком, который говорил много обо мне и о вас, что мы, дескать, могли бы быть так-то и так-то поставлены, но нам “сбавляют успешный балл за поведение”. Я отвечал, что мы оба “люди конченные” и нам искать расположения уже поздно, но что, по моему мнению, в нашем положении есть та выгода, что оно создано органически публикою, а не критиками, и что критики нам ничего не могут сделать ни к добру, ни к худу” [1131].
Итак, все сложилось органически: критики уже ничего не могут сделать ни к добру, ни к худу!
Но Лесков это знал и в это верил еще со времен “Овцебыка” и “Леди Макбет нашего уезда”, не говоря уже о “Соборянах”, “Запечатленном ангеле”, “Очарованном страннике”, “На краю света” и т. д. Знал, терпел и ждал…
“Конечно, — дружески пояснял он А. Е. Разоренову в 1884 году, — в литературе нашей нет трезвенных слов. Вместо руководящей критики то и дело приходится наталкиваться на полемические статьи бравурно-развязного тона с потугами и недомолвками, берущими через край. Одно время у нас совсем не было критики, даже газетные рецензии встречались редко. Оно и лучше было. Разве может быть теперь такая здравая критика, которая руководила бы не одних начинающих писателей, а освещала бы путь, давала бы добрые советы и тем, кто достаточно окреп на литературной дороге? В наше время разгильдяйства и шатаний отошли в вечность такие имена, как Белинский, Добролюбов, Писарев. Теперь люди, которым нет места на поприще изящной словесности, взялись за картонные мечи и давай размахивать ими направо и налево: берегись — расшибу! Это люди. озлобленные собственной неудачей. Вот почему я не советую вам слушаться и прислушиваться к мнению таких горе-критиков. Работайте по-прежнему, не обращая ни на кого внимания” [1132].
Здесь исключительно ценны искренность признания Лесковым критического авторитета когда-то нанесшего ему жестокий удар Писарева и совет работать так, как работал он сам с тех пор, как бросил чужие помочи и пошел на своих ногах.
С 1886 года его ищет и никогда уже больше не отпускает либерально-эклектическая “Русская мысль”, за нею — народнически-либеральная “Неделя”, с конца 1891 года помещает на своих страницах его произведения “Вестник Европы”, где для начала появляются “Полунощники”, до дерзости смело по своему времени и обстановке разоблачавшие лжу, убожество и пошлость пресловутого чудотвора “отца Иоанна Кронштадтского”, чтившегося тогда в различных слоях русского общества с “царем миротворцем” Александром III “во челе”.
Лескову давно претит сотрудничать у “каптенармуса XVIII века” — С. Н. Шубинского в его безликом и неустанно выцветающем “Историческом вестнике”. Личные отношения переходят со стороны Лескова в суровые осуждения идеологической скудости журнала и завершаются полным разобщением с этим суворинским изданием, да в сущности и с его твердокаменным редактором.
Постепенно создается прелюбопытная перемена позиций с удивительной иногда перестановкой фигур.
Редакционный триумвират, или, как язвил нередко Лесков, “семибоярщина” “Русской мысли”, оробевает с “Зеноном златокузнецом”, прозревает в выведенном там хитроумном древнем епископе аллегорическую близость с покойным московским митрополитом Филаретом Дроздовым, суетливо домогается благоприятного заключения цензуры, погребает этим новеллу и старается оправдаться во всем перед автором.
Лесков негодует. Пишет Бирюкову, Черткову, Суворину, засыпает письмами Гольцева и Лаврова, посылает открытое письмо в “Русские ведомости” [1133], опровергающее распускаемые кем-то догадки и проводимые аналогии. Просит Л. Н. Толстого посодействовать опубликованию этого письма [1134].
П. А. Гайдебуров в 1868 году враждебно, хотя, может быть, и не слишком проницательно отозвавшийся о “Расточителе”, более чем своеобразно ведет себя в отношении “Зенона”. По счастью, этот колоритный эпизод сбережен дышащей достоверностью записью А. И. Фаресова:
“Н. С. Лесков был недоволен редакцией “Русской мысли” за то, что она посылала его повесть “Зенон златокузнец” в рукописи на предварительный просмотр к цензору и последний не пропустил ее к печати.
Тогда Лесков передал повесть П. А. Гайдебурову в “Неделю”, но тот приехал к автору просить “пожертвовать тенденцией”.
— Такое прекрасное описание египетской жизни, — говорил он. — Обстановка, природа, обычаи — удивительно художественно воспроизведены; но для сохранения повести необходимо пожертвовать тенденцией. Мне хочется напечатать ее, но в этом виде, как возьму я ее в руку, она жжет мне пальцы.
— Отымите от рассказа тенденцию, — отвечал Лесков, — от него ничего не останется. Выйдет глупая басня. Я именно и писал его затем, чтобы человек своей верой мог увлекать людей, двигать горами, как Зенон готовностью умереть за веру тронул и сдвинул чужое сердце… Мне только это и мило в моем рассказе, а вы меня просите пожертвовать тенденцией и оставить только рамки рассказа и краски.
Так они и разошлись. По уходе Гайдебурова Лесков сказал:
— Настоящий литератор никогда не посоветовал бы сохранить художественность без идеи. Попробую дать прочесть своего кузнеца Александру Константиновичу Шеллеру.
По прошествии нескольких месяцев Лесков, потирая от удовольствия руками свой нос, радостно сказал:
— Заглавие переделано, и рассказ назван “Гора”. Шеллер провел его даже у себя в “Живописном обозрении”. Вот настоящий литератор как поступает” [1135].
Остается прибавить, что Шеллер же устроил и немедленный выпуск “Горы” отдельной книжечкой с цензурным разрешением ее на обратной стороне титульного листа: “Спб., 29-го марта 1890 г.”.
5 октября 1889 года в небольшом письме Лескова к В. А. Гольцеву об “Аскалонском злодее” как бы мимоходом, но едва ли без “шпилечки”, вставляется: “Кстати прибавлю, что “Зенон” под иным заглавием пропущен к печати предварительною цензурою, весь и без всяких сокращений. Вот что делается в нашем благоустроенном государстве!..” [1136]
Фактическое двукратное его появление затем в печати, в первозданной полноте и неизменности, вызвало и в мнительной московской “Русской мысли” и в перепугавшейся петербургской “Неделе” немалое смущение.
Не смелее, чем с “Зеноном”, повел себя через два года Гайдебуров и с Сютаевым, возвратив “бывшему Стебницкому” некролог, написанный им об этом “черносошном мужике”, при записке: “31 октября 1892. Я совсем не мог пустить Сютаева, многоуважаемый Николай Семенович. Вы сами знаете, какой это щекотливый сюжет, а цензура и без того точит на нас зубы за последние статьи” [1137].
Не примиряясь, Лесков в тот же день обращается к Суворину:
“Алексей Сергеевич!
Говорите вы, что любите хороших “русских людей”. Был на свете удивительно хороший русский человек, крестьянин В. Сютаев (друг Л. Н. Т.) — и он умер. Я его знал и любил, и хотел бы сказать о нем несколько слов, не для прославления его или кого иного, а для того, чтобы дать восприимчивым душам то, что у Сютаева взять можно (его разумность, здравомыслие, умеренность, бодрость, прямоту, милосердие и бесстрашие). Я мог бы написать его некролог или воспоминания, но лучше некролог. О мужиках еще не бывало некрологов, и с Сютаева это хорошо бы начать. Но где его напечатать?.. У вас бы хорошо, да боюсь, что вы не только не напечатаете, но еще захотите меня оборвать, а я болен… Вы ведь не скажете: “это мне неудобно”, а напишете: “что такое Сютаев, и что такое вы сами и ваши сочувствия!.. Есть церковь и призванные и памятники Христу” и т[ак] д[алее]. И буду я за мое незлое желание отработан, как вор на ярмарке… Как думаете?.. Если это вам неудобно, то пренебрегите мною просто оставлением моих строк без ответа” [1138].
Не менее других щекотлив оказывается и былой “Незнакомец”.
Некролог “проспал” 37 лет. Он сумел появиться в печати в 1929 году на страницах 330–331 книги “Труды Толстовского музея. Лев Николаевич Толстой”, под заглавием, данным ему его автором, — “Новопреставленный Сютаев” и за подписью — “Н. Лесков”.
На общественно-уголовном горизонте вырастает скандальный судебный процесс: грандиозная подделка завещания В. И. Грибанова, в просторечии — “дело о грибановскнх миллионах”.
Организация в восемь человек. Возглавляет ее великолепная фигура графа А. В. Соллогуба, сына автора известной повести “Тарантас”. Участвуют в шайке — нотариус при московском окружном суде, дворянин С. А. Чиколини, дворянин Е. Ф. Буринский, присяжный поверенный В. В. Фишер и т. д.
Лесков загорается интересом к этому “делу” и всего более, может быть, общественным положением половины его участников. Событие представляется ему подтверждающим картины разложения русского общества, даваемые в почти законченном его рассказе “Зимний день”.
Полномочный и единодержавный хозяин лпберально-консервативного (по определению Энгельса) “Вестника Европы” М. М. Стасюлевич, заинтересовавшись этим рассказом, предусмотрительно допускает, однако, возможность непомещения последнего на страницах своего выходящего в красноватой обложке журнала. “Если бы я и вынужден был отказаться от напечатания его в журнале, то, конечно, по каким-нибудь обстоятельствам, не зависящим от меня или стоящим выше меня. В одном только я уверен и теперь, а именно, что я во всяком случае лично испытаю удовольствие при чтении вашего нового этюда”, — завершал он свое письмо от 29 апреля 1894 года [1139].
Удовольствие оказалось не из больших, и 9 мая он возвращает рукопись при записочке:
“Многоуважаемый Николай Семенович, конечно, процесс гр[афа] Соллогуба придает много вероятия тому, что творится и говорится в вашем “Зимнем дне”; но у вас все это до такой степени сконцентрировано, что бросается в голову. Это — отрывок из Содома и Гоморры, и я не дерзаю выступить с таким отрывком на божий свет. С искренним почтением и преданностью ваш М. Стасюлевич” [1140].
На этот раз обробел журнал, строго осудительно говоривший в былые годы о Лескове, уколовший в 1883 году в связи с увольнением его от службы “без прошения” и не решающийся ныне печатать очерк, вскрывающий язвы общества.
На другой же день, 10 мая, Лесков пишет В. А. Гольцеву: “Посылаю сегодня в редакцию [1141] давно обещанную рукопись. Называется она “Зимний день”. Содержание ее живое и более списанное с натуры. Как я чувствовал “Некуда”, — так будто предощущал и “соллогубовское сосьете”. Счетом это будет теперь уже восьмая вещь, из всех мною вам предложенных и напечатанных потом в других изданиях…” [1142]
Неисповедимой игрой настроений, положений и случая оправившаяся от предыдущей робости “Русская мысль” дерзает опубликовать перепугавший Стасюлевича “Содом” [1143].
Поощренный этою смелостью московского журнала, Лесков заводит с ним речь о новом прехитростном своем детище. 16 ноября 1894 года в письме к Гольцеву он говорит: “Повесть “С болваном” [1144] еще раз прочту по чистовой рукописи и пришлю вам в половине декабря. Если хотите, можете начинать с нее новый год…
В повести есть “деликатная материя”, но все, что щекотливо, очень тщательно маскировано и умышленно запутано. Колорит малороссийский и сумасшедший. В общем это легче “Зимнего дня”, который не дает отдыха и покоя. Если бы не совпавшие обстоятельства, он бы надоел. Литература молчит. “Игра с болваном” не так дружно “жарит и переворачивает”, как говорят о “З[имнем] дне”. В разговорах литературщики хвалят “З[имний] день”. И прошел он все-таки молодцом: вы, братцы, показали, наконец, мужество. Дай бог его вам еще более” [1145].
Но, несмотря на теплую похвалу обрадованного писателя и на дружеский его призыв к дальнейшему проявлению мужества, последнего у редакции “Русской мысли” не нашлось.
“Эээх!.. — с досадой думает Лесков. — Предложить Стасюлевичу, что ли?..”
Делаются шаги, в результате которых 8 января 1895 года ему приходится писать владельцу “Вестника Европы”:
“Извините меня, глубокоуважаемый Михаил Матвеевич, что я не сразу чиню исполнение по вашему письму. Рукопись была готова, а я все не лажу с заглавием, которое мне кажется то резким, то как будто мало понятным. Однако пусть побудет то, которое я теперь поставил: то есть “Заячий ремиз”, то есть юродство, в которое садятся “зайцы, им же бе камень прибежище”. Писана эта штука манерою капризною, вроде повествований Гофмана и Стерна, с отступлениями и рикошетами. Сцена перенесена в Малороссию для того, что там особенно много было шутовства с “ловитвою потрясователей, або тыiх що тропы шатають”, и с малороссийским юмором дело как будто идет глаже и невиннее. — Может быть, лучше всего назвать именем героя или “болвана”, то есть “Оноприй Перегуд из Перегудов: его жизнь, опыты и приключения”? Если вещь вам понравится, то о заглавии сговоримся…” [1146].
И новые ужасы, новые опасения. Рукопись возвращается автору, который 8 февраля пишет в последний раз:
“Многоуважаемый Михаил Матвеевич!
Есть поговорка: “пьян или не пьян, а если говорят, что пьян, то лучше спать ложись”. Так и я сделаю: “веселую повесть” я не почитаю за такую опасную, но положу ее спать… Это мне уже за привычку: “Соборяне” спали в столе три года, “Обозрение Пролога” — пять лет. Пусть поспит и эта. Я вам верю, что поводы опасаться есть, и, конечно, я немало на вас не претендую и оч[ень] чувствую, как вы хотели мне “позолотить пилюлю”. Подождем. Возможно, что погода помягчеет. Искренно вам преданный.
Н. Лесков. [1147]
Дождаться помягчения погоды Лескову не пришлось. Рассказ “проспал” почти четверть века.
Беседуя с немногочисленными своими посетителями и “окидывая памятью все, что пережито и перечувствовано” за тридцать пять лет литературной работы, Лесков любил говорить, что не он пошел к кому-то, а многие, прежде осуждавшие и обегавшие его, пришли к нему.
“Навечное” отвержение от литературы “прирожденного писателя” с никем и никогда не отрицавшимся огромным дарованием — наперекор натужным о том заботам многих критических оракулов — не удалось.
“Топили и не утопили с головою”, — подытоживал Лесков.
Беспристрастный историк литературы об этом едва ли пожалеет. Увы, у самого писателя ото всего этого немало “засело в печенях”.
Только совсем к старости Лескова стало приходить, начинавшее примирять с перенесенным когда-то, признание.
Первым его выразил читатель.
Время приносит много нового и неожиданного: Лескова ищут многие из отрицавших его, и все чаще уже он оказывается им труден и неудобен по смелости его устремлений.
ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ. В ЗЕНИТЕ ЧТИМОСТИ И НА ЗАКАТЕ ДНЕЙ 1889–1895
В том, что я “сделал недостаточно”, — ты прав.
Из письма Н. С. Лескова к Н. П. Крохину, 13 декабря 1889 г.ГЛАВА 1. СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
Годы шли. Истекало третье десятилетие писательства. Ширился и углублялся его след. Не один раз вставал перед Лесковым заветный для каждого писателя вопрос об итоговом издании своих произведений.
Собратья по перу несравнимо меньшего значения один за другим выпускали “полные собрания” своих сочинений. Опередил даже Лейкин.
Лескову и тут выдавалось обидное отставание.
Дружное и стойкое замалчивание или умаление его дарования критикою не прошли даром.
В успехе издания Лесков не сомневался. Он верил в читателя, с которым его уже нельзя было поссорить. Но средств на такое издание у него не было. Идти на грабительские или непрочные предложения не хотелось. Тем более что он, по дорого стоившему ему опыту, знал личную свою непрактичность в ведении дел с издательскими жохами.
Это угнетало нравственно и продолжало наказывать материально уже стареющего, но все еще не обеспеченного трудом всей своей жизни писателя.
После появления “Соборян” А. П. Милюков, уклоняясь от поверхностной, газетной критической статьи об этом произведении, в пространном письме Г. П. Данилевскому исповедовался: “Я, как вероятно и многие, ждал не просто хорошего романа, но чего-то очень и очень крупного. Глубоко художественный “Дневник Туберозова”, полные силы и свежести “Старые годы в селе Плодомасове”, несравненные плодомасовские карлики — все это давало право на такое ожидание. Искренно говорю вам, что я ждал появления романа, как светлого праздника нашей литературы, когда мы “друг друга обнимем” и поздравим с великим произведением, когда и враги наши скажут внутренне: ты победил нас, Галилеянин! Но роман напечатан, и мой светлый праздник вышел как-то не светел. “Божедомы” не оправдали моих ожиданий. И это не потому, чтоб в них талант Лескова умалился и ослабел: нет, тут и новые сцены, как, например, привал попа Савелья в лесу, приезд Термосесова к акцизничихе, смерть протопопа и хлопоты бесподобного Ахиллы о его памятнике, по моему мнению, такие страницы, под которыми не задумался бы подписать свое имя Диккенс. Но… кому много дано от бога, с того больше взыщется и людьми… Взыщется с автора, по моему крайнему разумению, за то, что в романе нет стройной целостности, присущей произведению, возникшему и созревшему органически из зерна единой мысли, а не внешней прилепкой эпизодов для поддержания связи, и за то, что чудный образ боярыни Плодомасовой, так типично и грандиозно поставленный в “Старых годах”, обратился в бесцветный силуэт и бесподобные карлики сделались почти ненужными, и за то, что исчезла чудная, пластическая фигура раскольницы Платониды и стерлись краски с симпатичного Пизонского, и за то, что многообещавший Туганов сменился ненужными Дарьяновым и Сербиновой, и за то, что возня Препотенского с костями слишком растянута и эксцентрична, и пр. Словом, роман вышел не таким, каким должен был выйти. Конечно, Николай Семенович скажет на это: хорошо вам толковать, не принимая в расчет ни истории моего романа при скитании его по мытарствам нашей журналистики, ни того, что я не владею состоянием Толстого и Тургенева, а живу трудом и не могу целые годы сидеть над двадцатью листами. И он, конечно, в этом отношении прав… Знаете ли что? Если б я был какой-нибудь концессионер Поляков и при таком достопочтенном положении не утратил любви к литературе, я дал бы Лескову двадцать тысяч и сказал: “Отдохните; а потом потрудитесь над вашим романом года два-три и отделайте его, ничем не стесняясь!..” Или я сильно ошибаюсь, или наша литература приобрела бы великое произведение” [1148].
Меценатно настроенных доброхотов, о которых скорбел Милюков, среди наших миллионеров не находилось. Железнодорожный концессионер и банкир А. Л. Штиглиц мог делать подарки в сорок тысяч своему любимому камердинеру. Облегчить какому-нибудь литератору его издательские затруднения ссудой из “божеских” процентов десяти или пятнадцати тысяч — ни одному из этих деятелей, даже шутки ради, в голову не приходило.
И вдруг довольно удобная комбинация, капризно и малоожиданно, удалась с былым открытым врагом, позднее далеко не другом, но человеком, разбиравшимся в литературных ценностях, знавшим книжный рынок и, ко всему, исполненным удивительной потребности во взаимоистязующем, предпочтительно письмовом, общении с Лесковым. Случайно оброненное, не раз потом замалчивавшееся и подвергавшееся явной переоценке предложение шло от Суворина. Условия были не совсем товарищеские, но и не слишком купецкие.
Как это зародилось, тягуче вызревало, во что стало и чем разрешилось, всего лучше расскажут письма Лескова.
Суворину, 14 марта 1887 года, в ответ на что-то или в развитие чего-то, затронутого в недавней беседе: “Я доволен моим положением в литературе: меня все топили и не утопили с головою; повредили много и очень существенно — в куске хлеба насущного, но зато больше никто уже повредить не может… Сладок этот покой, но издание дало бы мне возможность хоть год не писать как можно больше и наскоро, и я, б[ыть] м[ожет], написал бы что-нибудь путное. Но вредить легче, чем помочь. И есть судьба: старый Вольф заключил со мною условие и умер в тот день, когда мы должны были его подписать. Новый Вольф предпочел издать Боборыкина и хорошо сделал, п[отому] ч[то] того все-таки кое-кто поддерживает… Тяжел мой хомут, — совсем отер шею” [1149].
Ему же, 11 февраля 1888 года: “Критики нам ничего не могут сделать ни к добру, ни к худу. Оно так и есть. Я знаю для себя только один существенный вред, что до сих пор не мог продать собрания сочинений. Это дало бы мне возможность год, два не печататься и написать что-нибудь веское. Изданы уже все, кроме меня, а меня и читают и требуют, и это мне нужно бы не для славы, а для покоя. В этом отношении ругатели успели меня замучить и выдвинуть вперед меня Сальяса, Гаршина, Короленку, Чаева и даже Лейкина. Слова же в помощь мне — ниоткуда нет, да теперь оно вряд ли и помогло бы делу, важному для меня только с денежной стороны. Но я и с этим помирился и приемлю яко дар смирению нашему. А экономически это все-таки меня губит” [1150].
Со стороны Суворина, письма которого к Лескову были ему все возвращены последним и, видимо, уничтожены им, наступает перемежающееся колебание, замалчивание всего острее интересующего Лескова дела. Только через два с половиной месяца, в которые корреспонденты успели обменяться не менее восьми раз письмами по другим вопросам, многоимущий издатель снова обнадежил безденежного писателя, горячо откликнувшегося 22 апреля 1888 года:
“На последнее письмо ваше, Алексей Сергеевич, я нашелся бы хорошо отвечать, если бы дело шло не обо мне, а о другом писателе. Я бы показал вам, как я понимаю ваш поступок и как ценю со стороны его порядочности и доброй услуги человеку, но как дело идет обо мне, то мне остается просто и коротко благодарить вас за то серьезное дело, которое вы вызываетесь для меня сделать, и затем я должен позаботиться, чтобы вы не имели ни малейшего повода пожалеть о том, что вызвались оказать мне содействие к изданию моих сочинений. Я принимаю вашу помощь; благодарю вас от всего сердца и буду также осторожен и честен, как был честен всегда в денежных делах с людьми. — История с полным собранием такова: Вольф (старик) купил издание у Боборыкина по 10 р. за лист, за 5 т[ысяч] р[ублей] и в то же время предложил мне ту же цену. Я не отдал, более потому, что человек этот казался мне всегда неприятным и тяжелым в делах. Перед смертью своей он снова заговорил об этом, но ранее конца переговоров умер. Потом было предложение Мартынова — на тех условиях, как издан Григорович, — я на это не пошел по недостатку доверия к состоятельности фирмы. В этих последних днях один молодой писатель, издаваемый Панафидиным, пришел ко мне с вопросом, не желаю ли я, чтобы мои сочинения издал П[а]н[а]ф[идин] на тех же условиях, как изданы им Гаршин и Ясинский? Я оставил за собою время “подумать”. Условия их те: П[ана]ф[идин] издает все на свой счет и выбирает расходы из продажи первый с прибавкою книгопродавческих 30 %. Кто на себя несколько может надеяться — для того эти условия не хуже 10–15 р[ублей] полистной платы с отчуждением книг в собственность издателя. Я на себя немножко надеюсь, ибо сочинения мои в общем составе их давно спрашиваются, и я верю, что они должны пойти и после покрытия расходов издателя могут оставить мне I тыс[ячу] экз[емпляров] в мою пользу. Следовательно, мне такая комбинация возможна. Но я все-таки и этакую комбинацию всегда предпочел бы иметь с вами, а не с кем иным, ибо хотя у вас издание выйдет и дороже, но оно будет сделано лучше и без всякой издательской “находчивости”. Поэтому я сам хотел просить вас сделать для меня издание на комм[ерческих] основаниях, т[о] е[сть] издать на ваш счет; выбрать ваши расходы и книгопр[одавческие] проценты и потом все остальное, очищенное издание выдать мне. Но просить совестно, и я не умею, хотя я никому не должен и никто на расчет со мной пожаловаться не может. Вы были милостивы — заговорили сами, и я вас прошу: издайте мои сочинения. Угодно вам взять издание в собственность — вот какая была цена: Вольф давал 3500 р. (за 350 лист[ов]) — я просил с него не по 10, а по 15 р. (на 5 р. дороже Боборыкина). Около этого я желал бы взять и теперь (за 400–420 л[истов]). — Если это удобно, то платеж денег может быть рассрочен как угодно. Если же вы не хотите издать меня первым полным автором от вашей фирмы, — то издайте так, как предлаг[али] Мартынов и П[а]н[а]ф[идин] — т[о] е[сть] за мой счет с залогом издания вам до погашения ваших расходов. И этим я тоже буду доволен и сочту это с вашей стороны за добрую дружескую помощь. Я знаю, что у вас мое издание пройдет лучше и во всяком случае дело будет сделано честно и безобидно. Денег я под издание не буду просить никаких. В этом я — слава богу — не нуждаюсь. Издание же надо выпустить зимою, сразу, все целиком, и потом его можно дополнять в том же формате. Но о технике издания будем говорить после: это дело второе, а первое принцип: будет оно мое или ваше? Я предпочту ту из этих двух комбинаций, которую изберете вы, — и желаю одного — считать это дело конченным. Относительно распланировки издания я сам буду искать и просить вашего совета и указаний, т[ак] к[ак] вы понимаете в этом гораздо больше меня” [1151].
В ответ на это взволнованное письмо — глубокое молчание. Однажды, позже, совсем по другому случаю, Лесков писал этому же своему “благоприятелю”: “А вам надо бы привести словеса из тургеневских “Певцов”: “А ты голосом-то не виляй”… А вы “зачем виляете?” [1152] Но не “вилять” или не колебаться Суворин не умел. Да и окружавшие его “шмели”, несомненно, “гудели” дружным роем. Зная все это, Лесков не выдерживает и 6 мая спешит полностью снять с обуреваемого сомнениями и нерешительностью Суворина какую-нибудь связанность сделанными уже предложениями:
“Аполлоний Тианский, глядя на солнце, сказал окружавшим его: “вижу чрезвычайное, из чего может не выйти самого обыкновенного”. Не нахожусь ли и я в подобном созерцании? Вы ничего не говорите, Алексей Сергеевич, а мне неловко вопрошать вас, хотя догадываюсь, что наступившее безмолвие должно выражать перемену в тех намерениях, о которых вы дали повод мне говорить с вами. Более всего смущает меня то, что это, вероятно, тяготит и вас, и вы, быть может, сожалеете о своей поспешности и затрудняетесь сказать мне об этом. Вот по этому поводу я и решаюсь прервать тягостную паузу простою и задушевною просьбой к вам — быть со мною откровенным без всякого стеснения, ибо всякий ясный и решительный ответ для меня лучше того недоразумения, в каком я нахожусь теперь, при некоторых других затруднениях. О том, что мне писали вы и что я писал вам, знаем только мы с вами двое. По крайней мере я об этом никому ни одного слова не говорил (как всегда) и не считаю себя вправе ни за что быть на вас ни в малейшей претензии. Не посердитесь на меня, что я и теперь обращаюсь к вам письменно, а не лично. Я это делаю против себя, — я знаю, что при личном разговоре с вами я наверное много бы кое в чем выиграл у вас по тем сочувственным движениям, которые вы обнаруживали, но я этого-то и не хочу… Я не хочу, чтобы вы о чем-нибудь сожалели и раскаивались после, т[ак] к[ак] это отравило бы мое спокойствие, без которого мне очень трудно. Заочный разговор на бумаге, не страдающей от впечатлительности, в таких делах лучше. Не стесняйтесь тем — чтó со мною и кáк ко мне, справедливы или нет, а скажите деловым образом: быть чему-либо или не быть, чтобы я смотрел — как мне надлежит поступать” [1153].
Очевидно, Аполлоний Тианский и великодушное разрешение всех уз превозмогают колебания, и вопрос находит себе окончательную развязку, о чем 9 мая отец пишет мне в Киев: “И еще утешь ее [1154] тем, что мы поравнялись в положениях, так как у меня, при полном отсутствии имущества, является 18 тыс[яч] долгу, ибо я сам предпринимаю издание “собрания” моих сочинений, т[ак] к[ак]это по соображениям кажется выгоднее, чем продать право. По смете требуется 18 т[ысяч], но может потребоваться и более на 1–2 т[ысячи]. — Кредит этот я беру у Суворина за 10 % на все время до расчета. Прежде издадим “библиографию” всего мною написанного, т[а] к[а]к я сам не помню, что и где мною помещено. Библиография уже печатается. В этом году думаем выпустить 3 т[ома], а в два года кончить все издание. Я берусь за это дело с хорошими упованиями” [1155].
А 21 июня того же года мне сообщается дополнительно: “Суворин дал мне кредит 11 тыс[яч] за 10 % единовременно, — что можно считать одолжением, хотя, конечно, не очень большим. — Что выйдет — судить трудно, но во всяком случае думается, что собственное издание должно принести более, чем продажа его купцу, который не без пользы бы стал рисковать капиталом. По смете можно ждать выгод около 10–12 т[ысяч]. — Издание может быть готово в два года” [1156].
Библиография была составлена П. В. Быковым дважды: сперва по 1887 год, а потом по 1889 год включительно. Первой было напечатано сто экземпляров, из которых поступило в 1889 году в продажу пятьдесят, а вторая приложена к десятому тому собрания сочинений, вышедшему в 1890 году.
Тронутый ценной услугой рачительного библиографа, Лесков горячо поблагодарил его в газете [1157] и подарил перередактированный им когда-то старый свой рассказ “Житие одной бабы” [1158] с измененным заглавием — “Амур в лапоточках” [1159].
На одном из первых экземпляров библиографии сочинений автор их пишет: “Алексей Сергеевич Суворин — мой литературный товарищ с первого года нашего литераторства — дал мне возможность приступить к изданию моих сочинений. Для этого потребовался настоящий указатель моих работ. — Ценю помощь Алексея Сергеевича и посылаю для его библиотеки на память этот экземпляр указателя. — 1 окт. 88 г. Н. Лесков” [1160].
Дело начато. Дальше в “Новом времени” печатается объявление об открытии подписки на общее собрание сочинений Н. Лескова, в десяти томах, по цене, в двадцать пять рублей.
В ближайшее же воскресенье, утром, в кабинет на Фурштатской входит, загадочно улыбаясь, Крохин и, не здороваясь, молча кладет на письменный стол перед сидящим за ним Лесковым какой-то странного формата листочек.
— Что это? — недоумевая, спрашивает хозяин.
— Прочти! — коротко отвечает гость.
Зная, в чем дело, но свято храня заговорщицкую тайну, молчу. Настороженно, с любопытством, следят за развитием непонятной сцены присутствующие.
Опуская глаза, Лесков берет в руки листок и остро всматривается. Лицо его начинает тихо светлеть… Глубоко вздохнув и нервно поведя раз-другой головой, он встает, подходит к зятю и крепко его целует. Тот сияет. Лесков отходит к окну и молча смотрит на улицу. Минуту-другую спустя он оборачивается и, обведя всех увлажненным взором, взволнованно говорит:
— Нет!.. Каково!… Вот подлинно дружеский поступок! Вот истинная деликатность! Ты меня до глубины души, до слез растрогал…
Не чаявший такого оборота, скромный Николай Петрович, переконфузившись, хочет что-то опровергнуть, но Лесков, остановив его жестом, продолжает:
— Можете себе представить, что сделал этот муж моей родной сестры и мой старый, испытанный друг? Он сумел первым подписаться на мои сочинения! Он знал, что я ему их, конечно, подарю. Но он этого не захотел допустить! И вот она — эта первая квитанция, выписанная на мое издание! Ну скажите на милость, можно ли поступить трогательнее и деликатнее?! Можно ли лучше и тоньше выразить доброжелательство? Я так взволнован, что не в силах выразить всех моих чувств! Дай мне еще раз ото всего сердца обнять и расцеловать тебя, дорогой мой Петрович!.. Да! Так найтись, как ты нашелся, — может только человек нежной и изящной души. За нее я тебя и люблю, как мало кого. Ты понимаешь красоту поступков…
Начинают выходить первые тома. Тем временем Крохины переезжают в Витебск. 6 апреля 1889 года Николаю Петровичу посылается донесение: “Издание идет помаленьку и не худо. В месяц набежало до ста подписчиков. Книгопродавцы подписываются по 10 экз[емпляров], а один (Мартынов) — 25 экз[емпляров] — Не знаем еще, что сделали Москва, Харьков и Одесса. Вообще тысячи 2 я уже возвратил, а остается всего еще тысяч 14… “Не робей, воробей!” Я и не робею” [1161].
А 10 июля и его жене, Ольге Семеновне: “Подписчиков у меня 200 (на 4000 р[ублей]); портрет не успеет к VI тому, п[отому] ч[то] Матэ его изгадил. — Суворин был прав: надо было заказать Панемакеру в Париже. Было бы скорее, дешевле и лучше” [1162].
Невдолге эту, может быть не слишком еще нестерпимую, досаду сменяет настоящее, всегда казавшееся возможным, испытание.
Еще до начала издания общего собрания сочинений, при печатании в суворинской “Дешевой библиотеке” книжечки с рассказом “Инженеры бессребренники”, Феоктистов, теперь начальник Главного управления по делам печати, злонамеренно направляет последний в “духовную цензуру”. Это грозит запретом. Встревоженный Лесков 24 ноября 1888 года пишет Суворину:
“Поступайте, Алексей Сергеевич, как вам угодно и как удобно. Я на все согласен. — Цензурное преследование мне досадило до немощи. Вы знаете, за что это? Это все за две строки в “Некуда” назад тому 25 лет [1163]. Не много гордости и души у этого человека — а другие ему “стараются”. У меня целый портфель запрещенных вещей, и 5 книг “изъяты”. Надо силу, чтобы это выдержать при всеобщем и полном безучастии, как в России. Что вы скажете — я на то согласен” [1164].
В отношении “читателя”, а с тем и материального успеха издания, упования Лескова были тверды. Но на душе не могло быть покойно.
Многократно испытанные цензурные погромы, в виде запрещения статей и очерков в рукописях, вырезывания их из готовых номеров журналов или изъятия его книг из библиотек, невольно внушали серьезные опасения за общее собрание, в которое частично должны были войти запретные и полузапретные произведения.
Тревожился не только сам автор, но и “кредитовавший” его Суворин. Велось обсуждение стратегических приемов распределения произведений по томам в целях усыпления бдительности насторожившегося уже врага.
Для маскировки первым в шестом томе ставился безопасный “Захудалый род”, но дальше шло одно другого страшнее: “Мелочи архиерейской жизни”, “Архиерейские объезды”, “Епархиальный суд”, “Русское тайнобрачие”, “Борьба за преобладание” (в Синоде. — А.Л.), “Райский змей”, “Синодальный философ”, “Бродяги духовного чина”, “Сеничкин яд”, “Приключение у Спаса на Наливках” (первоначально “Поповская чехарда и приходская прихоть”. — А. Л.). Не заглавия, а сплошной вызов.
Приходилось удивляться, на какое снисхождение мог тут рассчитывать автор, да и достаточно искушенный в цензурных делах Суворин.
На том налагается арест.
Драма находит себе яркое отражение в ряде писем Лескова.
5 сентября 1889 года сообщается В. А. Гольцеву: “Подоспела досада, которая не дает мне духа, чтобы говорить о чем бы то ни было весело и пространно: благодетельное учреждение арестовало VI том собрания моих сочинений, состоящий из вещей, которые все были в печати. Это том в 51 лист. Вы можете представить состояние моего духа и за это простить мне мое молчание.
…Уезжать теперь некогда и не до разъездов. Какое терпение надо нашему бедному человеку!” [1165]
19-го того же сентября, Н. П. Крохину: “Я болен очень, и тяжело, и опасно, но не от того, что я просидел лето в П[етер]бурге, а от непосильной, безотдышной работы и досад и огорчений. У меня арестован 6-й том, и это составляет и огромный убыток, и досаду, и унижение от сознания силы беззакония” [1166].
5 октября того же года, Л. Б. Бертенсону: “Попы толстопузые” поусердствовали и весь VI том мой измазали. Исчеркали даже роман “Захудалый род”, печатавшийся у Каткова… Вот каково “муженеистовство”. Это то, что Мицкевич удачно называл: “Kaskady tyraństurа”… “Какие от этого облатки и пилюли принимать надо?.. Что за подлое самочинство и самовластие со стороны всякого прохвоста!” [1167]
Экземпляр этого тома был затем подарен Лесковым Бертенсону с надписью: “Божиим попущением книга сия сочтена вредною и уничтожена мстивостью чревонеистового Феоктистова ради угождения Лампадоносцеву” [1168].
Того же дня, Гольцеву: “VI т[оме] “толстопузые”, говорят, все измарали, даже “Захудал[ый] род”, печатавшийся у Каткова в “Р[усском] вестнике” [1169].
Через восемь дней, 12-го числа, Суворину: “Больше всего оживляет меня ваше участие. Его я не забуду и за него благодарю. А что выйдет — к тому отношусь спокойно и ничего хорошего не жду. Эти люди и злы, и подлы, и без вкуса. Я не схожусь с вами во взгляде на них и очень боюсь, что я их понимаю верно. Но будем делать, что можно. Останавливаться нельзя, а напротив, надо поспешать — дать в этом году еще два другие тома — 7 и 8” [1170].
20-го того же октября, ему же: “Вообще я на все согласен, как вы хотите. Я не думаю, чтобы вышло много хорошего, но разделяю ваше мнение, что после известного вам разговора — лучше помолчать. — Того же самого буду держаться и я… Я так болен, что мне все это сделалось как чужое. Я очень благодарю вас за обещание защищать меня от обиды. — Это мне оч[ень] полезно и делает честь вашему сердцу. Просить за себя оч[ень] тяжело и иногда вовсе непосильно, но заступиться за другого — иное дело. От этого человек с справедливостью в душе не станет удаляться. На большое письмо ваше я мог бы ответить вам многое и, м[ожет] б[ыть], показал бы, что вы не совсем правы, но думаю — для чего это делать? Что вам многое не нравится в том, что я написал, — нет ничего странного. Я писал 30 лет и, вероятно, написал много дурного. Люди гораздо более меня одаренные, и те недовольны собою, и я собою очень недоволен. Много дурного. Но напоминать мне об этом часто и в то время, когда печатается издание и претерпевает препятствия, а я болен болезнью, которая, вероятно, не пройдет, — это мне кажется напрасно, жестоко и некстати… По-моему, это все равно, что позвать человека к своему хлебу-соли и попрекать его, или сказать: “сядь ты где-нибудь так, чтобы я тебя не видел: я ведь едва сношу твое присутствие”. Раздражение, которое вы обнаруживаете, очень подобно этому, и я решительно не могу придумать ничего для того, чтобы дело шло иначе. Знаю одно, что я тут ни в чем не виноват… Затем ничего больше не скажу, кроме того, что мне оч[ень] тяжело видеть раздражение во всех ваших ко мне отношениях и что постоянство ваше в этом настроении меня не обижает, но огорчает: я не хочу давать вам лишнего повода смущать покой вашей больной и самоистязующей души. Я все 30 лет дорожил миром и приязнью с вами и никогда не искал от этого никакой корысти. Вы это знаете. Я ничего себе не выкраивал” [1171].
7 декабря 1889 года небольшое деловое письмо к Суворину Лесков заканчивает припиской: “Если вы действительно желаете переговорить со мною, то черкните, когда зайти к вам; а то придешь не вовремя, — вы сердитый, а я больной, и ничего у нас хорошего не выходит. А поговорить и мне надо” [1172].
Каково вообще было, при таких свойствах суворинского нрава и воспитанности, вести дела с этим человеком — становится особенно ощутимо и ясно из следующего, целиком приводимого письма к нему Лескова от 17 октября 1889 года:
“Достоуважаемый Алексей Сергеевич.
Вчера вечером я приходил к вам, чтобы поблагодарить вас за то, что вы посетили меня в болезни, и вместе с тем поговорить о деле — о 8-м томе, о котором я вам писал, а вы мне ничего не ответили. Я стесняюсь обременять вас письменными вопросами, но и попытки личных разъяснений выходят не легче. Я, по-видимому, попал вчера не вовремя: вы, вероятно, не расположены были видеть посторонних. Я извиняюсь и сожалею, что выбрал так неудачно время, но я не мог знать, как выбрать лучше. Более я ничего не могу отнести к моей вине, т[ак] к[ак] между добрым вечером, когда вы меня навестили, и вчерашним вечером я не сделал ничего дурного ни против общественной нравственности, ни против вас или дорогих вам лиц. Иначе не должен думать, как я пришел не вовремя, а когда бывает время — я не знаю, а дело есть, и его надо кончить. Позвольте об этом писать, будьте терпеливы, чтобы прочесть эти строки. — Дело необходимо так или иначе кончить, и для этого надо говорить, а говорить с вами при переменчивости вашего настроения я не умею, хотя оч[ень] бы желал уметь. Вы меня не сочтите лжецом, если я скажу вам, что я оч[ень] болен, но что и не больного меня люди никогда не лишают доброго приема. Меня, мож[ет] б[ыть], не любят — это возможно с каждым, но со мною всегда обходятся хорошо, и я имею на то право: я себя так веду: я никому ничего не должен и ни у кого не прошу взаймы — не касаюсь чужой чести и вежлив со всеми. Я знаю, что меня не любят одни, но другие любят, и все не могут порицать меня в моей честности. Вы едва ли можете назвать мне мое бесчестное дело против кого-нибудь и особенно против вас. Взять чужие деньги и “не знать”, будешь ли их платить, — это дело бесчестное. Я такого дела в жизнь мою не делал ни против вас и ни против кого. Вы вчера сказали мне при двух людях (нравственная доблесть которых не подлежит моей критике, но не заставляет меня и чувствовать себя при них приниженным), что вы “печатаете мне книги в долг и не знаете: заплачу я вам или нет”. Вы так сказали даже тому бесчестному человеку, который промышляет своею женою… Состояние вещь хорошая, особенно когда оно приобретено трудом (как ваше), но большое несчастно для человека, если состояние лишает его справедливости и уважения к достоинству другого человека. Я тоже трудился, и не меньше вас, и, может быть, сделал ошибок не больше, чем вы, — я всегда к вам и к дому вашему в глаза и за глаза сохранял отношения самые точные и безупречные, но я беден… Неужто вы за это хотите показать мне неуваженье, какого никто мне не показывает? Сожалею об этом и не хочу сам к вам изменяться, но и не вижу надобности продолжать ваше раздражение. Дело о моих изданиях в ряду ваших дел по ценности своей не важно и не представляет для вас никакого риска. Вы совершенно правы, сказав, что вы “не потеряете ни одной копейки”. Вы ее действительно не потеряете. До сих пор подписка идет почти параллельно затратам, и собранные деньги все у вас: я к ним руки не протягивал. Вы не рискуете ничем в денежном отношении, и мне не нужно ничего “отдавать” вам. — Но, б[ыть] м[ожет], само издание неприятно вам, как дурная литература… вы имеете лучшее мнение об архиереях (Дмитр[ий]. Толстой говорил мне, что я имею о них “еще слишком хорошее мнение”). Пожалуйста, не будем из-за мнений ссориться у сходов к могиле! Я чудак и, м[ожет] б[ыть], дурак, но я не ищу ничьего поощрения, чужие мнения терплю и своих никому не навязываю. Мне кажется, что я пишу то, что должно, п во всяком случае — то, что я чувствую искренно. Я с этим жил и в этом хочу умереть. Я не боюсь потерять ничего [1173], да и не боюсь никого, кроме того, кого боится Бисмарк [1174]. Это уж так я привык и таким издохну. Но вы позвольте мне поговорить с Алексеем Петровичем [1175], чтобы мы могли найти исход из дела, т[ак] к[ак] обижать меня тоже нет ни нужды, ни особого удовольствия. Всегда вам преданный
Н. Лесков” [1176]
В первоначальной раздраженности Лесков определял грозивший ему убыток в три тысячи рублей. Черткову он однажды написал даже: “Это грозит мне разорением” [1177].
Весь том был в сорок шесть листов, из которых тридцать занимали цензурно опасные вещи, а шестнадцать “Захудалый род”. В результате переговоров Суворина с Феоктистовым тридцать листов остались бесповоротно запрещенными к выпуску, а шестнадцать были освобождены. К ним решено было “подпечатать” новых семнадцать. Лист обходился в пятьдесят рублей. Чистый убыток сводился к восьмистам пятидесяти рублям.
В написанном, но не изданном в 1884 году рассказе из цикла “Заметки неизвестного”, под заглавием “О Петухе и о его детях”, в его развязке, обособленной под заголовком “Простое средство”, автор утешает: “Но когда исчезнет одна надежда, часто восходит другая”. Там же в уста умудренного жизнью старого приказного автором влагается благое поучение: “Зачем отчаиваться, — отчаяние есть смертный грех, а на святой Руси нет невозможности” [1178].
Но наставлять в добрых правилах легче, чем самому им следовать.
И в самом деле — негаданно развязывается, казавшийся вмертвую затянутым, другой цензурный узел: “Зенон златокузнец”, запрещенный “Русской мысли” в Москве, радением А. К. Шеллера, под измененным заглавием разрешается “Живописному обозрению” в Петербурге. Публикация его спасает автору тысячу рублей. Вышедшее сейчас же отдельное издание этого “романа” тоже дает что-нибудь близкое. Открывается возможность бестрепетно ввести его и в десятый том собрания сочинений. Считавшийся потерянным, он в один год служит три службы. “Разорение” забыто.
И это не все: уже 30 января 1890 года подоспевает цензурное разрешение на отдельное издание рассказа “Томление духа”. Благодаря этому и он уверенно вносится в запоздавший выходом том: шестой по номеру, последний по выпуску.
Прав оказывается “приказный”, утверждавший, что “на святой Руси нет невозможности”.
Так шаг за шагом все “образуется”. Может быть, в некоторых отношениях даже к выигрышу. Во всяком случае злополучный том в повой его редакции, освободясь от нарочито церковного материала, заполнился целиком беллетристикой. В него вошли: “Захудалый род”, “Овцебык”, “Бесстыдник”, “Старые годы в селе Плодомасове”, “Котин доилец и Платонида”, “Тупейный художник” и “Томление духа”. Почти все бытовое, образное, частично автобиографичное, богатое красивыми картинами и характерными фигурами.
Читатель, не слишком поглощенный непосредственно церковными делами, на этом не потерял.
Пообтерпевшись и свыкнувшись с досадой по шестому тому, значительно смягченной нечаянной удачей с “Зеноном”, Лесков 13 декабря 1889 года успокоенно пишет Крохину: “Рука твоя от сердца легка: подписка идет оч[ень] хорошо. (Близко 600. — Окупиться должно при 750–800)” [1179].
И ему же 18 марта 1890 года: “Подписка хороша, — превышает 700. Печатается том X. Портрет сделан в Лейпциге, очень хорошо, но с значительною утратою сходства. Гончаров говорит, что “это так и следует” [1180].
С отроческих лет слышал я, как, бывало, отец, получив какую-нибудь сумму из книжного магазина или издательства, мягко улыбаясь, говорил: “Кто этот благородный человек, который меня кормит? Хотелось бы взглянуть на него! Нарочно засиживался иногда у Вольфа, Коллесова и Михина, Мартынова, Тузова или в магазине Суворина — не удавалось посмотреть!..”
В годы, когда произведения Лескова становились одно другого учительнее и жестче, он к этому с горечью прибавлял: “Мне всё выражают сочувствие Е. Борхсениус [1181], Толиверова да В. Л. Величко… Но разве они мои единомышленники? Разве эти люди будут сочувствовать одиннадцатому тому моих сочинений?” [1182] Или, впадая уже почти в отчаяние, шел дальше: “Ко мне ходят все какие-то люди, благодарят и присылают письма, а разговоришься с ними — охватывает неодолимый гнев на них, и я боюсь — меня задушит астма. Между мною и моим читателем ничего, оказывается, нет общего…” [1183]
В общем, дело с изданием двигается и даже удовлетворяет. Конечно, случаются и досаждения.
Под впечатлением беседы с каким-то, может быть более угодливым, чем достоверным, вестовщиком Лесков 13 апреля 1890 года пишет Суворину: “Приходил благоприятель, нюхающийся с монахами, и сообщил, что старший из духовных цензоров был на днях у Лампадоносцева и тот не утерпел и спросил его в разговоре: “Не являлся ли к вам Л[еско]в?” Монах испугался и стал уверять, что он со мною “не знаком”. “Я спрашиваю: не приходил ли он просить о… своих сочинениях?”. — “Нет, — отвечал монах, — да мы и ничего не можем сделать, потому что все запретили по определению”. — “Ну конечно”, — отвечал П[о]б[едонос]ц[ев] — и тем кончился разговор, который вполне достоверен и достаточен для того, чтобы показать тон, данный тем, к кому я должен бы “явиться” и просить невесть о чем и выслушивать все, что вздумает сказать подлый и пошлый человек [1184], стоящий на высоте бесправия” [1185].
В момент, когда подписка привела к полному покрытию всех расходов по изданию, а следовательно, и к полной расплате с Сувориным, Лесков, радующийся пришедшей, наконец, полной развязке всех счетов, написал ему какую-то торопливую (не сохранившуюся) записочку, видимо чем-то обидевшую так легко обижавшего других хозяина. 31 октября 1890 года Лесков спешит загладить невольную оплошность:
“Простите мне, старый друг, неосмысленную фразу в спешно написанной к вам записочке. Конечно, не думаю же я, что, кроме разговора об издании, мне с вами и говорить не о чем! Это вышло от поспешности и от радости, что насчет издания уже не может быть тягостных для меня переговоров… Я этим досыта намучился и настрадался. Теперь я спокоен и рад, п[отому] ч[то] дело себя оправдало и я снова никому не должен. А потому и простите мою обмолвку” [1186].
Тягостных переговоров с Сувориным было через силу сил. Хватило неприятностей и с дорогою, анархохозяйственною суворинскою типографией и даже с книжным магазином “Нового времени”.
Бесчинства управляющего типографией А. Д. Неупокоева вызвали “междоусобную” вспышку между Сувориным и Лесковым. Первый чем-то оскорбляется. Второй разъясняет: “Когда дело идет о Неупокоеве, — то, уж извините меня, — я желаю и буду говорить тем тоном, которым пристойно говорить с ним и о нем, доколе он таков, каков он есть. У кого только нет 6-го тома? (Кроме меня). Чтó мне судить о чьей-либо прикосновенности или неприкосновенности, когда я знаю людей, покупавших 6-й т[ом] у букинистов, и последнее доказательство этому я имел еще вчера. Я несомненно знаю, что 6-й том брали, дарили, продавали и продают и что это делал не я и не с моего согласия. Вот непререкаемый и доказанный факт, который меня обижает и против которого я давно бы должен был что-нибудь делать, но я терпел и думал, что они по крайней мере помнят счет и не расстроят комплекта; но они так увлеклись, что и перед этим не остановились, — вероятно надеясь, что “относительно обязанностей типографии не может быть никакого сомнения”… Об этом спорить нечего: факты налицо. Еще на днях 6-й т[ом] был предложен моему родственнику, печатающему свое сочинение в типографии Скороходова…
Может быть, вы могли бы снести все это в полном спокойствии и в этом случае превзошли бы меня в благородстве и кротости, но я уж терпел, терпел нахальства этого типографского “хама”, да, наконец, и не выдержал — написал Коломнину, чтобы он напомнил ему о необходимости собрать комплект. Чем же можно заставить такую личность опомниться? Я думаю, одним указанием на опасность, которой он сам подвергается.
Более я ничего не сделал, и никакого моего “поведения” нет, и я воздержусь от ответа на все, что в вашем письме есть резкого, дерзкого и несправедливого. Мое “поведение” я стараюсь уберегать от всякой обиды людям, и в отношении к вам оно во всяком случае совершенно чисто и безупречно. Вы во мне сомневаетесь, а я в вас нет, и в Петре Петровиче — нет; а в том, кто сделал себя явно сомнительным, — я сомневаюсь” [1187].
Владелец типографии отрезвляется и, явно капитулируя, тотчас же, на авось, приносит поздравление с именинами (6 декабря день Николая Мирликийского. Лесков родился 4 февраля, в день Николая Студийского) и выражает некоторые знаки расположения.
Лесков 6-го же числа благодарит раскаявшегося поздравителя, но и назидает его:
“Я не именинник, но оч[ень] рад получить от вас добрые строки. Вы еще оч[ень] счастливы, что умеете сказать: “прости меня”. Этим все покрывается и во мне и в вас. Вы горячий и несдержанный человек и много от этого страдаете. Я не хотел обидеть и ничем не обидел ни вас, ни Алексея Петровича. Меня обижали ваши наемники, а не я обижал. Я искал только своей защиты. Какая же тут обида? Вы нервны, а у меня разве нет нерв? Я не глуп, но ведь и вы умны: первое, что вам могло бы прийти в голову, это сказать мне: “я понимаю, что вам досадно, но скрепитесь и не горячитесь: мы разберемся”. Вот вы бы и стали миротворцем, а вы еще увеличили страдания… — В память этой несправедливости — не делайте так с другими” [1188]. На какой-то срок водворяется взаимное благорасположение. 10 декабря Лесков заканчивает очередное свое письмо дружеским укором: “…У Петра Петровича кроме того есть 11 экз[емпляров] VI т[ома], уцелевших от потрошения. Портить их, мне кажется, вполне нерасчетливо и по отношению ко мне жестоко. У всех есть по нескольку экземпляров этого тома, а у меня один… За что же так меня заделили? Рассудите, — я сдаюсь на ваш суд” [1189].
Через два дня посылается пространное письмо, начинающееся с искренней благодарности за доставленные от Суворина три экземпляра запретного тома, а далее опять впадающее в раздраженность в отношении управляющего типографией Неупокоева и вообще досад по завершающемуся уже изданию сочинений. Суворин исполняет требования Лескова. Последний его благодарит.
Наступает умиротворенность. А в “печенях” у писателя от всех этих передряг “засело” столько, что одиннадцатый том позднейших своих произведений он печатает уже не у Суворина, а у Стасюлевича [1190]. Здесь все обходится значительно дешевле и протекает с ясностью и деловитостью, исключавшими какие-либо неудовольствия.
Была ли в общем Сувориным оказана Лескову особенно большая и очень дружественная услуга? Кое-какая, вероятно, да. Но во всяком случае чуждая всякого риска и всесторонне не в ущерб, но паче в добрый себе прибыток. Недаром сам Лесков в письме ко мне от 21 июня 1888 года называл весь суворинский акт только “одолжением, хотя, конечно, не очень большим”.
12 декабря 1890 года в письме к брату Алексею Семеновичу резюмировалось: “Счеты мои с изданием покончены: оно обошлось в 17000 р[ублей]!.. Все это уже уплачено. Барыши типографии около 6000 р[ублей]. Это дорого, но без “Нов[ого] вр[емени]” едва ли можно было вести издание с такою аккуратностью и напряженною энергиею при всех препятствиях. В общем, кажется, я все-таки не потерял, что не продал право издания за 8000 р[ублей], как мне давали. И притом в купеческих руках я, вероятно, не имел бы надежды видеть конец этому первому изданию; а теперь все-таки что-то брезжится…” [1191]
10 ноября 1893 года Лесков сообщил М. О. Меньшикову: “Арестованный 6-й том моих сочинений, с “Мелочами архиерейской жизни”, 5 лет лежал опечатанный в типографии Суворина, на ее ответственности. Вчера меня известили, что пришла полиция, забрала эти книги и куда-то увезла. М[ожет] б[ыть], это отзыв на “Загон”. Нет ли у вас чего-нибудь?” [1192].
Хранилась в типографии Суворина оторванная часть шестого тома в тридцать листов, стр. 244–729. “Загон” появился в ноябрьской “Книжке “Недели”. Считалось, что экземпляры оторванной части шестого тома были отвезены в Главное управление по делам печати и там были сожжены. Этим драма с ним закончилась.
Превзошедший все ожидания и подсчеты успех авторского издания блестяще подтвердил ободряющий и оживляющий писателя интерес широкой общественности к его произведениям.
Выпуск собрания сочинений сослужил всесторонне добрую службу: им преодолены козни всей “черной сотни”, возглавлявшейся Победоносцевым, Дмитрием Толстым, Тертием Филипповым, Деляновым и вернопреданным им ретивым их слугою Феоктистовым.
Лесков удовлетворенно убеждается, что “не потерял”, предприняв собственное издание, что читатель “не обманул” и, что всего важнее, поссорить с ним этого читателя действительно уже никому не по силам.
ГЛАВА 2. ANGINA PECTORIS
“Астма много раз имела исходной точкой, если не причиной, глубокие и продолжительные огорчения или приступы гнева”, — стоит в книжечке, внимательно читая которую, Лесков убежденно подчеркнул приведенные здесь курсивом слова, а на полях подтверждающе написал: “Вот, что и было 16-го авг[уста] 1889 г[ода]” [1193].
В этот знаменательный для него день он узнал от кого-то на лестнице суворинской типографии о полученном распоряжении начальника Главного управления по делам печати Е. М. Феоктистова об аресте только что отпечатанного шестого тома собрания своих сочинений.
Тут же произошло нечто, признанное им впоследствии первым припадком никогда не освобождавшего уже его тяжелого недуга — angina pectoris, по-русски — грудная, или сердечная жаба.
С этих пор разрушение Лескова пошло с неумолимой безотступностью. Жестокие страдания исполняют ужасом и страхом. Они велики и мучительны. По пословице — у кого что болит, тот про то и говорит.
Говоря об “исходной точке” припадков, Лесков усиливал формулу французского ученого: “приступы безысходного гнева”. Субъективно такое определение представлялось более точным. Оно и впрямь хорошо.
“Поэт-чиновник” Величко, лживо-угодливый “Пыляич” и другие “прохладные” дружелюбцы и советчики вперебой уговаривают непременно съездить в Управление для личных “объяснений” с “самим Феоктистовым”.
Лесков, указывая на “низость” последнего, решительно отклоняет предложения, предоставляя действовать, частично тоже заинтересованному в деле, Суворину, нимало не веря, впрочем, в какой-либо успех.
С 1861 года хорошо знакомому и не ссорившемуся с Феоктистовым владельцу влиятельной газеты говорить с “важным приставом”, конечно, много удобнее. Он и достигает значительных результатов, высвободив 16 листов “Захудалого рода”, как о том уже сказано в предыдущей главе.
Сам Лесков, по общему для него правилу, осуждает себя на, так сказать, “внутреннее сгорание”. Оно ярко чувствуется и в беседах и в письмах.
20 ноября 1889 года он пишет Н. П. Крохину: “Я болен с 16-го числа августа, но было выздоровел, а на другой день по отъезде Алексея слег и не оставлял постели до 15 сего ноября. У меня так называемая “грудная жаба”. Что это за болезнь — о том рассказывать долго и неинтересно. Свойства она нервного (душит за горло) и, вероятно, неизлечима. Я 11 суток был без пищи и 5 суток без сознания — что доставляло мне б[ольшое] облегчение. При возвращении сознания я почувствовал жалость, что снова надо сознавать эту жизнь” [1194]. К письмецу была подклеена газетная вырезка, сообщавшая о “замедлившемся” на шестом томе издании сочинений, о выпуске седьмого и о болезни писателя, “внушавшей долгое время серьезные опасения”, причем, должно быть впервые, было приведено ее грозное название — “angina pectoris”.
27-го того же ноября, ему же: “Благодарю тебя, друг мой Петрович, за твое горячее внимание к моей болезни. И я бы к тебе отнесся не студенее и поехал бы к тебе. Это доказывает, что людей роднит “не кровь и плоть”, а родство духа, одинаковость свойств, которых природы мы не знаем. Спасибо тебе. Мне лучше, и я поправляюсь, но со страшною медленностью и с беспрестанным опасением слечь снова.
Работать нечего и думать. В болезни был терпелив и спокоен. Придя в себя после 11 суток забытья и. беспамятства — первое, что подумал: “Зачем этот оборот? Сколько опять хлопот и возни жить?” Смотреть за мною было некому, пока Бертенсон сказал взять фельдшерицу. Попалась Девушка молодая, оч[ень] добрая, веселая и чрезвычайно опрятная. Пробыла месяц. Платил по 1 [рублю] в день, и еще она у меня п[отому] ч[то] боюсь припадков жабы, при чем нужен массаж, холод на грудь и руки в горячую воду, а у меня старуха и дитя… Болезнь моя свойства нервного, произошла она от многих неблагоприятных причин и всего более от переутомления в течение многих лет. На излечение ее я не надеюсь и о том не сокрушаюсь. Я оставил след своей жизни, если и не совсем такой, какой мог, то все-таки и не все мне вверенное зарыл бесследно. Кое-как “я чувства добрые в народе пробуждал”. Желаю только не быть никому в тягость до конца и при конце сохранить мои понятия и упования и “не дать безумия богу”. Остальное все не стоит ни забот, ни хлопот. Дух мой ровен и покоен, — покорность провидению меня охраняет и дает мне силы и надежды на то, что я смогу подчиниться всему, что угодно высшей воле, даровавшей мне дыхание и жизнь. Читаю теперь оч[ень] много, но писать трудно” [1195].
4 д[е]к[а]бря того же года, ему же: “Любезный Петрович! 6 декабря у вас пирог пекут. Поздравляю и советую тебе поменьше его есть. Вкусно, но оч[ень] дурно для людей нашего возраста. — Поздравляю твоих семьян с пирогом и с именинником. От брата Алексея вчера приезжал санитар и привез поклоны, а нового, в смысле общеинтересного, — ничего. Значит, все хорошо. Настоящее новое и притом такое, что имеет для человека значение нового и полезного, — это то, что он приобрел нового для себя, и именно в себя, и что в нем пошло расти и давать новое, такое, чего прежде не было, — таковы новость познания, новость обладания собою, новость в ясности понимания человеческого долга и призвания на земле…. Мое здоровье все поправлется, но с страшной медленностью. Хожу немножко на воздух, но “жабу” все-таки чувствую в груди (под ключицами). Боткин от жабы умирает в Ницце. Я думаю, что разности климата тут ничего не значат. Работать невозможно — живу тем, что сработал летом, но природа везде подает средства и утещения: теперь меня лелеет всеполнейшая и всеблаженнейшая беспечность… Вот тебе во мне и новость! Поистине право писание: “Довольно заботы об одном дне”. Вам желаю лучшего счастья, а лучшее счастье, говорят, состоит в умении обходиться без всякого счастья, сохраняя в себе достоинство человека, в светлости разумения которого дышит просвещающий дух божий” [1196].
13-го того же декабря, опять ему: “Благодарю тебя, Петрович, за твои письма и за то, что мною интересуешься. Здоровье мое поправляется, но массаж еще не оставляю. Он, кажется, как будто приносит пользу, а мож[ет] быть и нет. Все гадательно, и ничего основательного. Самое лучшее, как орловские мужики говорят: “внутри болит”. По крайней мере хоть точно сказано. Одно верно, что болезнь моя свойства нервного, — это ясно из того, что она ожесточается при малейшем нравственном беспокойстве и не чувствительна ни к жару, ни к холоду. Не могу даже выносить крахмальн[ого] белья и грубого, тяжелого и жесткого платья — всего, что давит или тянет. Очевидно, нервоз. Водки я давно не пью, но вино пью, — хотя оч[ень] мало. Курить почти совсем бросил и не встретил в этом большого затруднения… В том, что я “сделал недостаточно”, — ты прав. Не видно ведь, сколько талантов я получил от моего господина и на сколько сработал? Это только он и разберет. Может быть, я что-нибудь и зарыл, “закопал серебро господина своего”, но я шел дорогою очень трудною, — все сам брал, без всякой помощи и учителя н вдобавок еще при целой массе сбивателей, толкавших меня и кричавших: “Ты не так… ты не туда… Это не тут… Истина с нами, — мы знаем истину”. А во всем этом надо было разбираться и пробираться к свету сквозь терние и колючий волчец, не жалея ни своих рук, ни лица, ни одежды… Перенесено кое-что не легкое, — хоть порою, хоть изредка, но я любил моего господина, и слышал в себе его голос, и повиновался ему. В эти только минуты я и жил отрадною жизнью и понимал, что значат слова: “Ты во мне, и я в тебе, и он в нас”. Во всей жизни только и ценны эти несколько мгновений духовного роста — когда сознание просветлялось и дух рос, как тесто на дрожжах, а потом опять шла пошлость, забота о пустяках, о том, что совсем неважно и совсем неинтересно, и притом еще — мы и не знаем, что нам к добру, а что к худу… Словом, я не ощущаю уже ничего надежного, желательного и влекущего меня в жизни и очень был бы рад, чтобы это так продолжалось, “чтобы князь мира, наконец, не имел во мне ничего своего”, чтобы я чувствовал себя как можно более приверженным и преданным моему господину, для которого не значили ничего ни имения, ни слава, ни родство, ни страх” [1197].
25 декабря того же года Суворину, в связи с гнусным псевдокритическим газетным выпадом Буренина: “Зачем нужно было усилие вредить мне, — “делать больно”, — м[ожет] б[ыть], подложить дров в огонь костра, приготовленного для VI тома, — что мне наносит тяжкий вред?.. Я не питаю к В. П. [1198] ни малейшей злобы и досады и сожалею о том, если я чем-нибудь мог вызвать в нем такое сильное раздражение. Во всяком случае — умышленно я ничего такого не сделал, да, кажется, и неумышленно не сделал” [1199].
15 февраля 1890 года, мне в пригородную стоянку: “Опасения мои за здоровье прошли: припадок жабы не ожесточился и мало-помалу стих вчера к вечеру. Бертенсон не помог, но помогли Чертков и Ге, который приехал от Л. Н. с своею картиною: “Что есть истина”… “Обоих стариков теперь ругают и будут ругать вместе [1200]… Вчера Вас[илий] Льв[ович] [1201] встретился у меня с Ге, и был бой постыдный и досадительный, окончившийся извинениями. Ге был спокоен и умен… Проводя тебя [1202], я насилу доехал домой и насилу перешел с саней на постель. За Берт[енсоном] было посылать поздно. Теперь опять могу двигаться, и поводов к раздражению и рецидиву не предвижу” [1203].
В письме к В. М. Лаврову от 13 марта 1890 года слышатся новые нотки:
“…Так сильно я виноват перед вами, что не знаю, как и оправдываться и каяться. На первое ваше письмо я ежедневно собирался вам отвечать и не отвечал, п[отому] что болезнь и досаждения по поводу VI тома моих сочинений совсем меня расстроили до того, что я не был в состоянии ничего определить. Я весь изнервничался. Теперь вчера дело решено без всякого решения: никакой развязки не будет, и том останется под арестом без объяснений… Значит, 3 т[ысячи] р[ублей] пропало, и делай что хочешь. Вот под какими порядками приходится жить и еще работать самую нежную и нервную работу. Отсюда можете себе представить мое душевное состояние и в нем найдете извинение моей отупелости и неподвижности, вообще несвойственной и даже глубоко противной моему характеру. Наглая мерзость значительной подлости меня не побеждает, но исполняет равнодушием ко всему окружающему, к себе самому и к любимому делу” [1204]. Далее жалобы на недуг начинают исполняться грустною покорностью непреодолимому, иногда даже с оттенком жестокого юмора.
31 октября 1890 года, Суворину: “Здоровье мое не восстановилось, но немножко поправилось, а — главное — я привык к болезни, которая возвышает меня в своем роде до сходства с Грозным. Смеялись над Ал. Толстым, что он заставлял Годунова убить Грозного на сцене взглядом, а со мною это возможно в действительности. Я живу, — читаю и даже пишу, но малейшее потрясение — депеша, незнакомое письмо, недовольный взгляд — тотчас же вызывают в аорте мучительнейшие боли, от которых надо лежать и стонать… Так и живу и пишу кое-что, всегда под сомнением: можно это или не можно?” [1205]
12 декабря того же года, ему же: “Очень благодарен вам, Алексей Сергеевич, за присланные мне 3 книги [1206] и за письмо. Есть облегчение в том, что кто-то понимает нашу душевную боль и говорит: “Ну да уж полно вам его!.. Довольно!.. Что еще в самом деле!” Слова простые и будто не оч[ень] ясные, а меж тем выразительные и многосодержательные. Я ведь ужасно перемучился с этим изданием. Я начал его здоровым человеком и на 6-м томе получил неизлечимую болезнь (невралгию груди или жабу)” [1207].
12 июля 1891 года, Толстому: “Здоровье мое коварно. Называют мою болезнь Angina pectoris, а на самом деле это то, что “кол в груди становится”, и тогда ни двинуться и ни шевельнуться. На “тело” я смотрю так же, как и вы, но когда бывает больно, то чувствую, что это оч[ень] больно. Распряжки и вывода из оглобель не трепещу, и мысль об изменении прояснения со мною почти неразлучна… Тоже и не курю табаку, но “червонное вино” (как говорил дьякон Ахилка) пью умеренно “стомаха ради и многих недуг своих”. Владим[ир] Соловьев говорит, что вы ему это разрешили” [1208].
14 сентября 1891 года, ему же: “Никак не могу научить себя стерпливать мучения физической боли, кот [орая] подобна самой жестокой зубной боли, но на огромном пространстве (вся грудь, левое плечо, лопатки и левая рука)” [1209].
11 сентября того же года, В. Л. Иванову: “Со мною точно было худо: на переезде от Нарвы в П[етер]б[ург] в вагоне меня начала душить angina и бралась за это пять раз (чего еще никогда не бывало), и с тех пор я все болею и не выхожу в люди, т[ак] к[ак] от всякого нервного впечатления воспроизводится мучительный припадок жабы (судороги около сердца). При этой мучительнейшей боли охватывает ужаснейший и неописуемый страх, или страх смерти, или, как говорит Толстой, “распряжки”, и, как говаривал Писемский, — страх, какой должен ощущать “холоп, подающий во фраке чай на бале и вдруг чувствующий, что у него подтяжки лопнули и панталоны спускаются” [1210].
4 января 1893 года, Толстому: “Из ста степеней до края я прошел наверно 86 и не имел определенного желания возвращаться опять к первой и опять когда-нибудь начинать те же 86 наново; страха ухода уже не было, но был какой-то бесконечный суживающийся коридор, в который надо было идти и… был страх и истома ужасные. Я читал главы из книги “О жизни”, читал, чтó есть об этом у вас в других местах и у Сократа (в Федоне), и все-таки с натиском недуга суживающийся коридор приводил меня в состояние муки… Теперь меня согревает утешительная радость, которой дух мой верит: мне к[ак] будто сказано, что я уже был испытан и наказан страхом, и что это уже отбыто мною и прошло, и после этого я буду избавлен от этого страха, и когда придет час, я отрешусь от тела скоро и просто” [1211].
8 октября того же года, ему же: “Здоровье мое, конечно, непоправимо: это болезнь сердца, а я моложе вас немного. Но я научился держать себя так, что обхожу жестокие приступы, которые бывают ужасны. Надо не уставать; ходить оч[ень] тихо; быть всегда впроголодь и избегать всего, повышающего чувствительность… При такой осторожности мне несколько легче противу прошлогоднего, когда меня пугала fuga mortis [1212]. Нынче я думаю об этом смелее” [1213].
Лесков не обладал хладнокровием и выдержкой, которые могли бы помочь перенести нанесенный ему в 1889 году удар с меньшим самоистязанием, с менее “безысходным” гневом, а с тем и с менее жестокой за него расплатой.
Сердечные припадки, если и не вполне столь длительные, как говорилось о них в некоторых из приведенных писем, были поистине смертно страшны. Не только сам больной, но и все в доме жили в вечном страхе их повторения по самому незначительному поводу: внезапный звонок в передней, шумливость или суетливость гостя, возражения в споре, досадная статья в газете и т. д.
Громадную опасность являли собой “дамские”, якобы светски любезные, а в сущности лишь трескуче-пустословные восклицания. “Тьфу, тьфу, тьфу! в добрый час сказать, у вас, Николай Семенович. прекрасный вид! Дай бог каждому! Уверяю вас… Какой румянец! И вообще на вас радостно смотреть!..” — лепетали барыни Борхсениус, Муретова, Толиверова.
Особую тревогу вселяло всегда появление последней, с легкой руки Атавы-Терпигорева ходившей тогда уже в звании “литературной индюшки” [1214]. Когда-то дружески расположенный к ней, Лесков постепенно именовал ее сперва “немилосердною”, а дальше и “ваше высокобестолковство”, а издававшийся ею, полученный из рук Т. П. Пассек, детский журнальчик “Игрушечку” переименовал в “Лягушечку”. Стихийный образ жизни ее и ведения разновидных издательских дел возмущал его, порождая суровые приговоры и жестокие разносы ее в письмах раздражавшегося Лескова. Требовалось исключительное ее незлобие и снисходительность, чтобы не только переносить их, но и безропотно продолжать сохранять становившиеся очень острыми отношения.
Ее неудержимые, несмотря на все предупреждения и просьбы, восхищения “видом” Лескова сразу вызывали нервическое беспокойство в его подвижном лице, с которого сбегала улыбка, щеки делались землистыми, глаза смотрели куда-то мимо присутствующих. Но восторженная гостья, не замечая устремленных на нее предостерегающих взглядов, не унималась.
Лесков начинал высвобождать шею из мягкого ворота рубашки, “крутые” ребра зловеще вздымали уже ходуном ходившую грудь… На кухню незаметно передавались указания заблаговременно приготовить раскаленную камфорку или кирпич для могущего понадобиться с минуты на минуту увлажнения паром воздуха, мятую в холодной воде глину для груди и левого предплечья, в кипятке отжатые полотенца для кистей рук. В спальне на столике возле постели выдвигались на вид спирт, капли…
На вызвавшую все страхи неукротимую, пользовавшуюся отменным здоровьем трещотку бросались уже откровенно негодующие взгляды. В святом простосердечии она продолжала их не замечать…
Наконец Лесков начинал прерывисто дышать, хватаясь у ключиц за грудь. Его подхватывали и отводили в спальню.
Страдавший тем же недугом С. Н. Терпигорев прочувственно и просто обрисовал свои ощущения в такие приступы:
“Сердце вдруг, как птица, затрепещется в груди, ужас охватит всего, и потом вдруг остановится биться, совсем остановится. Ну вот умру, кажется, сейчас, вот, вот сейчас, через несколько секунд… Но, сперва слабо, а потом сильнее, сердце опять начинает работать… Со лба утираешь холодный пот, и на четверть часа, на полчаса дается отдых” [1215].
Преступно поздно спохватившаяся, испуганная Александра Николаевна виновато осматривалась кругом, встречая общее суровое осуждение себе.
По счастью, припадок не разражается вовсю. Через некоторое время, обмогнувшись, Лесков возвращается. Тишина. Все осторожно, исподволь, следят за каждым его движением. Проходит еще несколько минут, в которые слышно только тиканье больших английских настольных часов.
Потиравший руками ключицы и подреберье Лесков решается вздохнуть во весь вздох. Ободренная этим неуемная Толиверова начинает лепетать маловразумительные извинения. Все еще молчащий Лесков останавливает ее немым жестом.
Понемногу уверившись, что вплотную было подошедшая угроза отодвинулась, и, овладев правильным ритмом дыхания, он тихо и медленно произносит:
— Скажите на милость, какое вам дело до моего “вида”? О нем достаточно заботятся квартальный и пристав! Неужели нет ничего интереснее для беседы, чем мой “вид”? И неужели вам неизвестно, что в доме повесившегося не говорят о веревке, а навещая человека, страдающего таким злым недугом, каков мой, — надо соблюдать осторожность, говоря об его здоровье, которого всего благоразумнее и великодушнее вовсе не касаться… [1216]
Чтобы пресечь нарастание укоров и раздражения с одной стороны и не менее опасной вспышки извинений и самооправдательных объяснений — с другой, требовался быстрый отвод беседы в другое русло, на какую-нибудь общую, злободневную тему.
Значило ли рассказанное, что болезнь Лескова надо было не замечать, оставлять без внимания? Отнюдь. “Страдать молча, по примеру животных”, как учил иногда Лесков, было совершенно не в его натуре. Надо было с участливым вниманием слушать скорбную повесть о переносимых им страданиях. Можно было выразить удивленно его мужеству, удрученно посочувствовать мученической его обреченности. Но все это делать тонко и мягко, во всем ему в тон. Легкомысленно шумные восклики о “блестящем виде” оскорбляли требования вкуса, раздражали, будили мнительность и негодование. Болезнь была достаточно страшна, чтобы прощать слишком легкое к ней отношение и недоучет зловещей ее серьезности.
Сам он не только “привык” к ней, но наедине исполняется благодаря ей своего рода мистическим отношениям к своему состоянию.
“Я достигаю, — пишет он около полугода после ее начала, — “херувимского безмолвия” и дышу только при людях, с которыми могу дружественно молчать”.
А за год с небольшим до смерти своей отвечал на обычные пожелания к Новому году: “Лучшее пожелание не пожелание “здоровья и спокойствия”, а независимости от здоровья и от всех случайностей” [1217].
Как было в таких настроениях выносить вздорные восторги “видом”?
Долгие годы угнетавшая материальная неуверенность, благодаря быстро разошедшемуся изданию собрания сочинений, отошла в прошлое. Необходимости напряженно работать ради хлеба, писать наспех, что “в приспешню требуется”, — нет. Не только “завтрашний день”, но и все грядущие годы, по час смертный, обеспечены. Но оставалось их уже немного.
Лесков это чувствовал. Его уже почти ничто не трогает, не радует, не интересует…
“Меня теперь всего более занимает моя болезнь, а не статьи обо мне”, — говорит он, когда ему указывают на сочувственные отзывы об издании или о позднейших его очерках [1218].
Три года спустя после выхода последнего тома собрания сочинений с разных сторон поступают обстоятельные предложения о новом их выпуске или о продаже авторских прав. Делаются заманчивые подсчеты, произносятся солидные цифры… Зачем? Для чего? Все это уже потеряло цену! “Занимает”, и притом “всего более”, если не всецело, здоровье, угрожающее его состояние, мучительность припадков тяжкого недуга. Только здоровье!
Со стороны наблюдая, как все это воспринималось Лесковым, временами казалось, что и пришедший, наконец, достаток и ярко выраженное читателем признание только обостряли в писателе горечь запоздалости успеха, ревниво обегавшего его в те дни, когда “было что сказать”, когда “все силы были в сборе”. Тогда успех был бы драгоценен для свободного развития таланта! Сейчас он, пожалуй, уже и не нужен: “старику лучше, то есть спокойнее, придержаться уже старого и хорошо знакомого”.
Ангина, как и думал Лесков, не оставляла его уже до последнего дня, поспешив превратить его в тяжко больного старика, работоспособность которого временами представляла собою положительную загадку.
ГЛАВА 3. “АККОРД” С ТОЛСТЫМ
“Лев Николаевич есть драгоценнейший человек нашего времени…”
[1219]Точнее характеризовать свое отношение к Толстому Лесков не мог.
Ни к кому другому, начиная с первых же лет своего писательства, он не проявлял такого исключительного внимания как к величайшему художнику, а с годами и умиленного почитания как к “мудрецу”, “великому человеку” и т. д. и т. п.
Одним из первых выражений восхищения талантом Толстого представляются бесподписные критические статьи Лескова “Герои Отечественной войны по графу Л. Н. Толстому” [1220] и бесподписный же фельетон “Русские общественные заметки” [1221], в котором говорится:
“Перед И. С. Тургеневым, как и перед всеми нами, в последний год вырос и возвысился до незнакомой нам доселе величины автор “Детства и отрочества”, и он являет нам в своем последнем, прославившем его сочинении, в “Войне и мире”, не только громадный талант, ум и душу, но и (что в наш просвещенный век всего реже) большой, достойный почтения характер. Между выходом в свет томов его сочинений проходят длинные периоды, в течение которых на него, по простонародному выражению, “всех собак вешают”: его зовут и тем, и другим, и фаталистом, и идиотом, и сумасшедшим, и реалистом, и спиритом; а он в следующей затем книжке опять остается тем же, чем был и чем сам себя самому себе представляет, конечно, вернее всех направленских критиков и присяжных ценовщиков литературного базара. Это ход большого, поставленного на твердые ноги и крепко подкованного коня”.
Ярко высказанный интерес к Толстому уже никогда не понижается. Напротив, он неуклонно нарастает, становясь все пристальнее и напряженнее. Притом уже не только как к писателю, но и как к человеку.
Натура Льва Николаевича долгие годы представлялась лично с ним незнакомому Лескову полной “своенравной непосредственности” [1222].
27 сентября 1875 года, не сочувствуя только что прочитанной им в Мариенбаде статье “Московских ведомостей” по герцеговинскому вопросу, Лесков “поздравлял” с нею А. П. Милюкова, колко заканчивая письмо:
“И эти унылые люди, со всею их дальнозоркою расчетливостью, ошибутся, и эту ошибку им покажет не кто иной, как тот, очень многими (и вами) отвергаемый незримый дух народа, о котором говорит всех смелее и, по-моему, всех лучше граф Лев Толстой в “Войне и мире” [1223].
В письме к А. С. Суворину от 9 октября 1883 года Лесков писал:
“О Льве Н[иколаевиче] Толстом я совершенно тех же мыслей, как и вы, но это не исключает сбыточности моих предположений насчет “желания” постраждовать. Он будет рад, если его позовут к суду за ересь, но этого, как вы справедливо думаете, — не будет… Вихляется он — несомненно, но точку он видит верную: христианство есть учение жизненное, а не отвлеченное, и испорчено оно тем, что его делали отвлеченностью. “Все религии хороши, пока их не испортили жрецы”. У нас византиизм, а не христианство, и Толстой против этого бьется с достоинством, желая указать в Евангелии не столько “путь к небу”, сколько смысл жизни. Есть места, где он даже соприкасается с идеями Бокля… Ее [1224] время прошло и никогда более не возвратится… Поступки Толстого “есть чудачество”, но оно в народном духе. Разве, вы думаете, там тоже не чудачат?” [1225]
Личное расположение никогда не препятствовало Лескову открыто, даже резко, высказывать в разговоре, письмах или печати свое противомыслие, свои возражения.
Не отступал он в таком обычае и в отношении Толстого.
Не обходилось, конечно, и без некоторой неустойчивости в оценках чужих мнений или взглядов, без крайностей в собственных. Отсюда шло чередование восхищения “до святости искренним Толстым”, когда казалось, что тот “точку видит верную”, со смелыми опровержениями, когда признавалось, что он “вихляется”, когда неудержимо хотелось указать в его установках “спорное” и “путаное”.
Однако отзывы Лескова, при всей их изменчивости и остроте, всегда бывали вдохновлены искренней жаждой к познанию Толстого, признанием величия его духа, стремлений.
В недатированном письме к Суворину, должно быть конца 1884 года, он говорил: “Против “составителя брошюр”, т[о] е[сть] Льва Толстого, выпущена книга — очень глупая. Я об ней написал статейку, кажется, не совсем глупую. Я люблю и почитаю этого писателя и слежу за его делом страстно” [1226].
Именно — страстно. Чтобы почувствовать напряженность этого интереса, довольно хотя бегло проследить смену его проявлений.
В маленькой книжечке “Изречения в прозе Гёте” [1227], испещренной метами Лескова, приведено такое суждение великого мыслителя: “Высшее уважение автора к публике проявляется в том, что он никогда не приносит того, чего ждут от него, а всегда лишь то, что он считает нужным и полезным на данной ступени своего и общего развития”.
Лесков подчеркивает слова, приведенные здесь курсивом, затем отчеркивает по полю весь афоризм и ставит “Л. Н. Т.” [1228].
В статейке “Безграничная доброта. Анекдотические воспоминания о Карновиче” он, с явным восхищением недавно ушедшим добряком, писал:
“Рассуждений и теорий о добродетелях он [1229] не любил и даже высказывался против их значения, — так, еще 9 мая [1230], на обеде у старого своего приятеля Н. В. Тихменева, Евгений Петрович был против тех, которые защищали нынешнее настроение графа Л. Н. Толстого, и добродушно подшучивал над “наивными открытиями графа, — что и у ножных перстов, как и у ручных, тоже есть суставы и ногти”; а возня графа с тем, как помочь тому, кому, очевидно, нужна помощь, Карновича просто смешила, и он, несмотря на свою горячую и беззаветную преданность прогрессу знаний и добра, говорил мне и М. Н. Стоюниной: “Нет, уж лучше это делать просто”. И он действительно “делал это просто”, до того, что без всякого шума и похвал достиг полного идеала христианского милосердия, как его представлял себе один из отцов церкви: “он отдал другим все и себе не оставил ничего” [1231].
3 марта 1886 года Лесков до 5 часов утра читает полученные им “новые тетрадки Льва Толстого” и с восхищением повторяет: “Как он до святости искренен!” [1232]
И все же вскоре он загорается неосилимым противлением взглядам горячо почитаемого писателя на женское образование и непротивление злу. Решив выступать ярым противником признанных им общественно опасными, в корне ошибочными, суждений Толстого, он изготовляет твердую в ее положениях, не чуждую даже полемических колкостей, статью, первоначально с четким заглавием: “О женских способностях и о противлении злу”.
В письме от 14 июня 1886 года к редактору “Исторического вестника”, для которого она предназначалась, подчеркивается: “Эта статья в высшей степени интересная в историческом и философском смысле, имеющая живое отношение к вопросам о женщинах и о противлении злу, которые коверкает юродственно Толстой. Воззрения Пирогова, конечно, противоположны воззрениям Толстого и уничтожают сии последние и умом и серьезностью авторитета Пирогова”.
Дополнительно, в письме к Шубинскому же от 17 июня, развивается: “Статья, которую я вам сдал (о Пирогове), есть, по моему мнению, не только любопытная и современная, но и драгоценная для “историч[еского]” журнала. Это перл пироговской задушевности. И кого, как ни его одного, можно поставить в упор против учительных бредней Л. Н. Толстого… Теперь идут все прожекты уничтожения женских курсов, и в женских сферах стоит страшное возбуждение. Таким настроением, мне кажется, издание должно воспользоваться, — особенно, когда оно может дать не фразы, а веское слово авторитетного лица, подкрепленное ссылками на факты из такой замечательной эпохи, как Крымская война…” [1233]
Во вступительной части статьи, вышедшей под смягченным заглавием “Загробный свидетель за женщин”, высказываются резко противотолстовские взгляды Лескова.
С тех пор, пишет Лесков, как в вопрос, “благоразумно ли открывать женщинам доступ к наукам и к общественной деятельности… вмешался граф Лев Николаевич Толстой и не обинуясь высказался за простое религиозное образование, все восприяло такой вид, как будто граф своим словом принес “огонь на землю”. Женщины встревожились… Беспокойство женщин поддерживает совсем не целибатная теория безмужия, как думают люди, которые не знают жизни… К чести нашего времени, женщинам не хочется видеть себя на “распутии”, а хочется прожить, обходя те унизительные положения, которые начинаются обожанием, а кончаются обыкновенно отвержением… Женщины чрезвычайно чутки ко всему, что их касается, и легко приходят в беспокойство, когда их пугает неблагоприятное мнение об их правах на труд”.
Дальше приводятся убедительные свидетельства уже “такого лица, которое не может быть заподозрено ни в каком современном сторонничестве и которое по своему умственному значению стоит по крайней мере не ниже того, кто “возжег огнь” нынешнего спора”, — знаменитого хирурга и педагога Н. И. Пирогова, дающие действительно крепкий отпор ограничительным по отношению к женщинам теориям [1234].
Одновременно появляется в печати и полукритическая, полуапологетическая статья “О рожне. Увет сынам противления”. В ней Лесков, не называя ни газеты, поместившей противотолстовские выпады, ни их авторов, пренебрежительно именуемых “поверхностными партизанами противления, умами своими одолевающими Толстого”, развертывает горячую защиту последнего. Однако по мере развития и детализации вопроса, с подходом уже к конечным выводам, постепенно выявляются и немаловажные расхождения во взглядах. Рядом с признанием многих “примеров” из толстовских притч “прекрасными” Лескову представляется несколько “странным” “отношение” Толстого к адвокату, “работающему головою” (в “Иване Дураке”), мнение, что “судить совсем не следует”, что солдаты пригодны только для того, чтобы “бабам песни играть”. Затем, хотя и полусочувственно, но уже не совсем простодушно, он говорит: “Может быть, он не прав, — но пусть ему умные люди это и докажут, а все умных людей послушают и сами поумнеют. Начинать можно хоть с самого суда царя Соломона, и все будет живо и любопытно: не следовало ли, например, матери живого ребенка отдать свое дитя той, которая своего ребенка прислала? Зачем сопротивляться? Очень может быть, что во мнениях графа Толстого обнаружатся и очень слабые стороны”. Отмечая легкость, с которою “солдаты, победившие спокойных подданных Ивана Дурака, размякли, и воевать стало не с кем”, Лесков без обиняков заявляет, что здесь Толстой “даже не верен всегда отличающим его правде и реализму”.
Исподволь “рецептам” Толстого о перевоспитании духа путем методических длительных искусов противополагаются примеры нравственных перерождений “во мгновение ока” и способности даже явно порочных людей устремляться на подвиг совершенно внезапно, “не приготовляясь”. “Я знаю, — говорит Лесков, — ту особенную литературу, которая дает графу Толстому сюжеты для его прекрасных рассказов, и я мог бы оттуда же взять рожон противу его рожна. (Критики его не видят.)…Умным людям еще предлежит понять, что Толстого “противление злу” есть, а затем им предлежит раскрыть и показать обществу, чтó в толстовском методе непротивления верно, а чтó в нем спорно, сомнительно и подлежит поправке” [1235].
Дальше Лескова охватывает желание возможно шире ознакомить массы с составленным Толстым календарем. Он заготовляет популяризирующую этот календарь статейку, надеясь поместить ее в широко распространенном “Новом времени”. Владелец газеты уклоняется от ее публикации. Раздосадованный автор статьи пишет ему 24 января 1887 года:
“Очевидно, моя статейка попала вам под “дурной стих” (что я видел даже по почерку письма), и вы сорвали на ней свое неудовольствие… Это мне так кажется, и я об этом жалею, п[отому] ч[то] все-таки я больше кое-кого разумею в том, что заготовляется Толстым для народа, и никогда не бываю его рабом и других ему в ноги не укладываю”. Этот “кое-кто”, укладывающий других Толстому в ноги или “дерущийся им”, — Буренин. Дальше: “А я бы на вашем месте не один раз сказал об этом календаре гр. Толстого, а 12 раз: именно, каждое 1-е число месяца я бы выписал толстовский совет. И это все бы прочитали, и поговорили бы, и сами бы кое-что о сельском быте узнали. Вот это было бы доброе служение честному стремлению Толстого, а не то что хвалить его, как цыганскую лошадь… Чего его нахваливать? Его надо внушать в том, где он говорит дело, а не расхваливать, как выводного коня. С ним и вокруг него ведь много нового. Это живой и необычайно искренний человек. Дух его не “горит” (что любил Аксаков даже в письме к Кокореву о денежных делах), а этот “летит, как вержение камня”. уже “склоняющегося к земле”. Его надо отмечать во всякой точке, удобной для наблюдения, ну да что же поделаешь, если этого негде сделать?” [1236]
Непрестанно думая о Толстом, Лесков 3 марта 1887 года задает Суворину вопрос:
“Кто Л[ев] Н[иколаевич]? А вот разберите: он желает свободы труда, свободы слова, свободы совести, не сочувствует теории наказания, не сочувствует церковным путам, находит, что “люди дерьмо” равного достоинства, и на высших ступенях кольми паче… К кому же он ближе — неужели к тем, которые противопоставляются либералам!” [1237]
В том же году он дает уже прямую исповедь В. Г. Черткову в письме от 4 ноября:
“О Льве Николаевиче мне все дорого и все несказанно интересно. Я всегда с ним в согласии, и на земле нет никого, кто мне был бы дороже его. Меня никогда не смущает то, чего я с ним не могу разделять: мне дорого его общее, так сказать, господствующее настроение его души и страшное проникновение его ума. Где есть у него слабости, там я вижу его человеческое несовершенство и удивляюсь, как он редко ошибается, и то не в главном, а в практических применениях, что всегда изменчиво и зависит от случайностей…” [1238]
Ловя автора письма на первом же его слове, не могу удержаться, чтобы, порядочно забежав вперед, не привести прелестного в своей веселости и простодушии подтверждения, как живо интересовало Лескова все, отражавшее хотя минутное настроение и самочувствие Толстого.
7 сентября 1892 года, покончив с деловой частью письма к художнице Е. М. Бем, он торопится прибавить:
“Л[ев] Н[иколаевич] очень весел. Рассказывает, как его дочери “пошили порток ребятам” и потом спрашивают: “Хороши ли портки?” А ребята отвечают: “Портки хороши, только в них никуда бечь нельзя” [1239].
Радует Лескова, что Толстой “весел”, что он посмеивается над своими неумелыми закройщицами и восхищается великолепием лексики яснополянских ребят!
Неуклонно развертывавшийся характер литературно-учительной деятельности Лескова приводит к нему П. И. Бирюкова и других “толстовцев” с самим магистром их ордена В. Г. Чертковым во главе.
Растроганные ярким “вержением” Лескова к Толстому, они подготовляют свидание.
Затем Лесков уверенно пишет Толстому 18 апреля 1887 года.
“Сейчас заходил ко мне Павел Ив. Бирюков и известил меня, что вы на сих днях будете в Москве. Он и Вл. Гр. Чертков очень желают, чтобы могло осуществиться мое давнее, горячее желание видеться с вами в этом существовании. Я выезжаю в Москву завтра, 19-го апреля, и остановлюсь в Лоскутной гостинице. Пробуду в Москве 2–3 дня и буду искать вас по данному мне адресу (Долго-Хамовнич[еский] пер., № 15). Не откажите мне в сильном моем желании вас видеть, и, — если это письмо найдет вас в Москве, — напишите мне: Когда я могу у вас быть.
Излишним считал бы добавлять, что у меня нет никаких газетных или журнальных целей для этого свидания” [1240].
Давнее горячее желание видеться с Толстым “в этом существовании” осуществляется 20 апреля 1887 года, в Москве, на дому у Толстого, в Долго-Хамовническом переулке.
25-го, уже снова из Ясной Поляны, Толстой писал Черткову: “Был Лесков. Какой умный и оригинальный человек”.
В Москве Лесков пробыл три или четыре дня и, вероятно, был у Толстого не один раз.
Рассказам о вынесенных впечатлениях не было конца. За свыше полусотни лет они, как ни досадно, забылись. Удержалась почему-то шутка со свечой, гасшей при произнесении перед нею кем-то из дочерей Толстого слова “поп”; прикрытие Толстым нескромно обтянутых чикчир какого-то гусара салфеткой или передником [1241]. Из серьезного запомнилось сравнение Толстым образованности Владимира Соловьева со своей и большинства писателей того времени вообще: у того накопление ее шло по прямой линии и все вперед, а у писателя накоплялось, может быть случайно, зигзагами, местами пересекая ту же прямую, но не сливаясь с нею на всем ее протяжении. Лескову это сравнение очень нравилось, и он его потом много раз вспоминал и приводил. Может быть, однако, это частью относится и к следующей побывке Лескова у Толстого, уже в Ясной Поляне, 22–26 января 1890 года.
В начале 1889 года Лесков, после разговора с Н. В. Яковлевой-Ланской о Толстом, посылает ей свой первый рассказ на тему из Прологов — “Лучший богомолец”, в предисловии к которому (впоследствии опущенном) он выступал ярым защитником Толстого. Писательница осудила “защиту великана мысли”.
Еще до истечения двух лет личного знакомства с Толстым Лесков в письме к В. Г. Черткову от 29 декабря 1888 года скорбит:
“Я очень уважаю ваши чувства и симпатии и чту Л. Н-ча более всех людей, мне известных, но я не вижу ни в вас, ни в нем желанного сочетания “голубя и змея”. Все они как-то порознь, а не вместе. Я замечаю в этом течении опять преобладание теоризма, какой я видел в 60-х годах при господстве другого учения, и от практики вашей не жду никакого прочного успеха в деле переустройства общественного житейского сознания. На практике все это уже как бы “отшумело”, и начинается отлив. Я думаю, что вы мало присматриваетесь к тому, что происходит среди людей, заинтересованных учением Л[ьва] Н[иколаевича]. Иначе вы должны бы видеть сильное с их стороны охлаждение, а его не должно бы быть так скоро. Я опасаюсь, что все это движение не оставит даже следа и будет приравниваться к “наивным затеям”. Люди возбуждаются словами Л[ьва] Н[иколаевича] — оставляют дома, идут в М[оск]ву, приходят туда “без меха и влагалищ”, но… погрызут свои пальцы и согреваются у “сострадательных самаритян”, и после того, конечно, решают по-евангельски вопрос о том, “кто их ближний?” “Ближний тот, кто сотворил милость”. Л[ев] Н[иколаевич] не творит милости, которая сейчас нужна… Он только дает надлежащий тон настроению ума человека, когда у того в брюхе голодно и на столе холодно. Это так и пошло по России, и надо сознаться, что это обгоняет и пересиливает прекрасные трактаты о духе и настроении… Л[ев] Н[иколаевич] “не вправе брать у своей семьи” и проч. и проч. Отлично, — и пусть так, но (говорят) “ведь такие делились с семьею своею, — оставляли семью жить по-своему, а брали свою часть и ее отдавали на то, чтобы питать и согреть голодных и холодных и приютить ослабевших и бесприютных”… Я ценю прекрасную теплоту души вашей и знаю всю разницу вашего настроения от жалкого настроения круга, от которого вы удалились, но я боюсь, что эта теплота не согреет общей остуды, а сгорит, как фальшфейер. Право каждого идти, как он хочет, несомненно, но если заходит речь о верности настроения, надо говорить то, что считаешь за верное. На этом и прошу вас простить меня за искренние слова, с вашим мнением несогласные. За Л[ьвом] Н[иколаеви]чем останется кроме его великого таланта — благородство его духа и гениальное истолкование христианства, — им оказана людям бессмертная помощь; но в практике его есть огромная ошибка, которая сама лезет в глаза и вредит делу. Это и погибнет, а полезность останется в наследие ищущим света и разума” [1242].
На приглашение Суворина встретить у него новый, 1890 год и на покаянные сетования его на неосилимость владеющей им вспыльчивости Лесков 31 декабря 1889 года отвечает ему советами самообуздания и ставит в пример всем несдержанным натурам работу, проведенную над собою Толстым: “Себя совсем переделать, мож[ет] б[ыть], и нельзя, но несомненно, что намерения производят решимость, а от решимости усилия, а от усилий привычка и так образуется то, что называют “поведением”. Припомните-ка, каков был Л[ев] Н[иколаеви]ч, и сравните, каков он нынче!.. Все это сделано усилиями над собою, и не без промахов и “возвратов на своя блевотины”. Об этом нечто известно многим, да и сам он в одном письме пишет: “только думаешь, что поправился, как глядишь, и готов, — опять в яме”. Это согласно с вами и ответ вам. А если бы он не “поправился” — то… каков бы он был с этим страстным и гневливым лицом?.. А он себя переделал и, конечно, стал всем милее и самому себе приятнее. Неужли это такая малость, что из-за нее не стоит и пытаться себя сдерживать? Я с этим не согласен и хоть часто бываю “в яме”, но хочу по возможности из нее выбиваться. Л[ев] Н[иколаевич] как-то говорил, что “никогда не надо оправдываться и возражать”. Как я теперь понимаю — это самая очевидная правда, и в нашем положении она нам многих истин дороже, п[отому] ч[то] для нас это первая ступень, с которой надо начинать вылезать из “ямы”. И это, кажется, не так трудно” [1243].
15 февраля 1890 года в письме ко мне я прочитал взволнованные строки отца: “Соната” [1244] вчера решительно запрещена… В Лит[ературном] обществе произнесли Толстому осуждение. “Он сошел с ума и исписался”. Этому аплодировали. Фофанов вскочил и крикнул: “Комары и мошки напали на льва”. Полагали, что он пьян, но он был трезв” [1245].
В конце этого же года Лескову выпала радость снискать почти восторженную хвалу Толстого. 25 декабря, в “рождественском” номере (354) “Петербургской газеты” он поместил свои рассказ “Под Рождество обидели”, призывая в нем к великодушному прощению жалкого вора. Газетка была послана в “Ясную Поляну”. Толстой попросил выслать еще несколько ее номеров… 7 января 1891 года “Новое время”, в № 5337, ополчилось на Лескова, а он отозвался13 января в № 12 “Петербургской газеты” статейкою “Обуянная соль”, послав и этот номерок в “Ясную”. Прочитав ее, Толстой послал ему в ответ такое письмецо, без даты, полученное Лесковым 23 января:
“Ваша защита — прелесть. Помогай вам бог так учить людей. Какая ясность, простота, сила и мягкость! Спасибо тем, кто вызвал эту статью. Пожалуйста, пришлите мне сколько можно и этих номеров. Благодарный вам и любящий вас Л. Толстой”.
А перед этим, за три-четыре дня, 17 января, он писал В. Г. Черткову: “Какая прелесть! Это лучше всех его рассказов”. И затем включил последний в “Круг чтения” под заглавием “Под праздник обидели”.
Так, казалось, и шло, кругом, полное “единение духа”. Культ почитания и благодарения за “просветление ока” крепнул, и 4 января 1893 года Лесков пишет Толстому уже как бы исповедное признание: “Вы знаете, какое вы мне сделали добро: я с ранних лет жизни имел влечение к вопросам веры и начал писать о религиозных людях, когда это почиталось за непристойное и невозможное (“Соборяне”, “Запечатленный ангел”, “Однодум” и “Мелочи архиерейской жизни” и т[ому] п[одобное]), но я все путался и довольствовался тем, что “разгребаю сор у святилища”, но я не знал — с чем идти во святилище” [1246].
В том же году, 9 июня, Лесков назидает Л. И. Веселитскую: “Вы вот все убегаете соединения мыслей вкупе, а я ищу единомыслия, но во всем подлегая величию ума Л[ьва] Н[иколаевича]” [1247].
Однако в некоторое расхождение с этим “подлеганием”, несомненно в связи с появлением в сентябрьской книжке “Северного вестника” статьи Льва Николаевича “Неделание”, в одной из записных книжек Лескова делается им собственноручная “нотатка”:
“О неделании у Толстого: зачем его не спросят: как понимать слова Евангелия о праздных работниках: “что вы здесь целый день праздно стоите” [1248].
А в другой сделана тоже не выражающая полного единомыслия:
“В разъяснениях и толкованиях Л. Н. Т. есть “нечто неудобовразумительное” (как выражался ап[остол] Петр об апостоле Павле), но он поднял современных ему людей на высоту, недостижимую для пошлости, не восходящей выше соображения “выгодности и невыгодности”, и во всех людях, тронутых им, наверное уцелеет если не убеждение, то сознание или понятие, что “мы живем не так, как следует жить”, и это есть великая заслуга Толстого. Н. Л.” [1249].
В первой главе статьи Меньшикова “Работа совести”, напечатанной в ноябрьской “Книжке “Недели” того же года, говорилось: “В современной литературе, кажется, кроме Страхова и Лескова, нет видных защитников Толстого; разве еще один г. Буренин иногда замолвит словечко за великого писателя в своих очерках”.
Хорошо “вчитавшись” в нее, Лесков 8 ноября пишет ее автору: “Стр[ахов] и Б[уренин] (по моему мнению) упомянуты напрасно, — особенно Б[уренин]. Оба они чувствуют к нему какой-то “фавор”, но они оба не разделяют его симпатий и отлично служат тому, что стоит впоперек дороги его желаниям” [1250].
Два дня спустя, 10 ноября, он продолжает: “Не тех надо было поминать, которые его похваливают. Его хвалить не нужно, а нужно вести с ним одну и ту же “работу совести”. Ни Стр[ахов], ни Б[урени]н этого не делают: Стр[ахов] и православист, и гегелианец, и государственник, и воитель, и патриот, и националист, и наказатель. Он Т[олст]ого хвалит за пригожество и остроумие, но он не утверждает людей в том, чтобы презирать важнейшее за важным, и не объединяет сознание в единой “воле отца”. Следовательно, он Т[олсто]му не брат и не сотрудник в важнейшем деле. А что касается Б[урени]на, то этот употребляет Т[олсто]го “как палку на других людей”. Сам Т[олст]ой говорит: “Это ужасно. Он мною дерется”… Помянуть людей, любящих Т[олсто]го, следовало, но таких, которые продолжают вводить в народ то, что он открывает и благовествует… И такие есть: это Эртель, Засодимский, б[ыть] м[ожет] Гарин, покойный Евг. [1251] Гаршин. И живых из этих людей стоило поддержать и ободрить и укрепить на дальнейшие дела во славу бога; а вы похвалили старых козлов, которые трясут бородами, а вслед за пастухом не идут. “И то тебе вина” [1252].
На полученное от Меньшикова возражение Лесков 11 ноября отвечает: “Если уж говорить о том, что сделано “как-никак”, то я хотел бы сказать, что в этом роде и самое горячее и самое трудное слово было мое: статья против Конст[антина] Леонтьева (о религии страха и любви). Я имею основание об этом говорить с чистою и смелою совестью: я не молчал, но даже говорил, не жалея себя, и отсюда мое изгнание из Министерства н[ародного] просвещения. Почему же С[трахов] и Б[уренин] только “защищали”? И они не защищали, а только величали или славили и ублажали, как попы ублажают угодника, которому поют, чтобы себе за молитвы собрать. Нет; вы нехорошо сделали, поименовав Б[уренина] (особенно его), который “Толстым только дерется” и бьет им бедного Баранцевича и его близких” [1253].
Утомляясь, а с тем и раздражаясь все более, Лесков в письме, посланном на другой день, становится еще резче: “Соловьев не единомыслен с Л[ьвом] Н[иколаевичем], и он не может его защищать. Ге писать не умеет. Успенский Толстому совсем противомыслен. Я именно “совпал” с Т[олстым], а не “вовлечен” им, как думает Б[урени]н. Я ему не подражал, а я раньше его говорил то же самое, но только не речисто, не уверенно, робко и картаво. Почуяв его огромную силу, я бросил свою плошку и пошел за его фонарем. Я “совпал”, а продолжать об этом устал” [1254].
По словам Веселитской, “как-то, вдоволь намолившись на Льва Николаевича, Николай Семенович сознался в том, что глубоко скорбит о том, что старик не роздал своего имения нищим: “Он должен был сделать это ради идеи. Мы были вправе ожидать этого от него. Нельзя останавливаться на полпути”. — “Если это вам так ясно, — сказала я, — раздайте скорее все свое”. — “Да у меня и нет ничего”. — “Ну, что-нибудь найдется у всякого. Нашлась же лепта у вдовицы…” [1255]
После этого Лесков 25 ноября 1893 года пишет Меньшикову: “Лидию Ив[ановну] видел “в грозном чине” и “много пострадах” от нее, быв поносим и укоряем за то, что “сижу в убранной комнате” и смею думать, что “жаль, что для полноты своего нравственного облика Л[ев] Н[иколаевич] не отдал свою долю крестьянам, как сделал Хилков, ибо этим были бы заграждены уста дьявола”. И не помянулось мне ничего за это. — Впрочем, потом была замирительная грамота. Терпел и за слово “защищать” Т[олсто]го. — “Разве можно его защищать… Кто смеет его защищать”, и т. д. От вас терпел, что не защищаю; от нее — зачем защищаю; а от Гайдебурова еще того непонятнее. Только тем и жив, что мужика вспомнишь, да вздохнешь и скажешь: “о господи” [1256].
“Намолепия” находили себе отражения в письмах к самому Толстому. В переписке со всеми другими по преимуществу держалась полнозвучная доминанта. Это было не всегда хорошо, но всегда крепко. С Толстым бралась чуждая натуре умягченность тона. Случались и сбои. Вообще же чувствовалась напряженность, калейдоскопичность сообщаемых злободневностей, вестей, слухов… Неустанная хвала утомляла хвалимого. Равновесие переписки утрачивалось. Одна сторона засыпала своими пространными письмами другую. Обнажался письмовый крен. Что порождало его?
Вспомнив, что Л. Я. Гуревич, целиком благодаря усиленному ходатайству Лескова перед С. А. Толстой и самим Толстым, летом 1892 года побывала в Ясной Поляне, я попросил ее помочь мне разобраться.
Спасибо ей, 9 апреля 1937 года она отвечала:
“Отношение его к Толстому у меня на глазах. Что не все было ладно в нем, мне ясно. И Толстой несомненно чувствовал это: у меня сохранилось одно воспоминание, которое трудно передать словами, п[отому] ч[то] вся суть его заключается в недомолвке и в интонации Толстого. Мы разговаривали с ним о разных людях, идя по яблоневому саду, и когда коснулись Н[иколая] С[еменовича], Т[олстой] сказал: “Да, он мне пишет иногда… Только иногда тон какой-то… уж слишком… Неприятно бывает… Ну, впрочем, вероятно, вы сами понимаете”.
Все же я думаю так: иногда — и, м[ожет] б[ыть], к старости все чаще — становилось ему страшно, от самого себя, хотелось ухватиться за того, кто во многом, хоть и не в таком страшном, себя преодолел или во всяком случае шел к преодолению, стремился к нему с надеждой на успех, с верой в возможность его. Отсюда эта тяга к Толстому, тоже не цельная, как и все в нем самом, неровная, перебиваемая и критикой “толстовства” и органической несклонностью к каким-либо видам аскетизма, кроме разве того же какого-нибудь исступленного, фанатического и в это исступление выливающего свои неизбывные страсти” [1257].
Лесков дорожил перепиской и искал ее. Толстой, возможно, поддерживал ее более из дружеской учтивости, чем из большой личной потребности, как бы уставал от нее…
Случались и огорчительные заминки, паузы.
12 октября 1890 года Лесков пишет Черткову: “О Л[ьве] Н[иколаеви]че мало слышу и оч[ень] томлюсь по нем, но не поеду к нему и писать не хочу. Он знает, что я его люблю и ему верю и с ним бреду по одной тропе, но, м[ожет] б[ыть], и если мысль как-нибудь насторожена против меня. Я не хочу об этом думать и не хочу никого осуждать, а себя тоже” [1258].
При сорока девяти сохранившихся письмах Лескова толстовских известно только девять, почти всегда небольших, и едва ли их было вообще больше двух десятков. Погибло, должно быть, немало и лесковских.
Бросается рядом в глаза живость переписки Льва Николаевича с Н.Н. Страховым, хотя, по свидетельству П. А. Сергеенко, в бочках с медом Страхова, как и Лескова, Толстой видел “изрядную дозу дегтя” [1259].
Не все гладко выходило и с некоторыми произведениями. В “Зимнем дне” “парлирующим” дамам оказались предоставленными рискованные реплики: “Ну, к Толстому, знаете… молодежь к нему теперь уже совсем охладевает. Я говорила всегда, что это так и будет, и нечего бояться: “не так страшен чорт, как его малютки”. Или: “но вдруг сорвется и опять начинает писать глупости: например, зачем мыло!”
А в дальнейшем беседа их затрагивает картины толстовца Н. Н. Ге, и одна из дам восклицает: “Мне его показывали… Господи! Что это за панталоны и что за пальто!” [1260]
Толстовские “малютки” были глубоко оскорблены. Они уклонялись от встреч с автором очерка.
Как известно теперь, очерк этот не встретил сочувствия в Хамовниках. В дневнике С. А. Толстой за 21 сентября 1894 года имеется беспощадная запись: “После обеда мальчики готовили уроки, а я прочла Леве вслух рассказ Лескова “Зимний день”, — ужасная гадость во всех отношениях. Я и прежде не любила Лескова, а теперь еще противнее он мне стал, так и просвечивает грязная душа из-за его якобы юмора, но мы не смеялись, а просто гадко”.
Такая зарядка в полновластной главе дома не сулила доброго.
Лесков нередко принимал светскую приветливость за истинное расположение. В частности, он был уверен в благонастроенности к нему Софьи Андреевны, встречно исполненный к ней (до эпизода с английским журналистом Диллоном) [1261] непререкаемого почитания, признания больших ее заслуг, сочувствия драматизму ее положения. “Мы должны быть ей благодарны. Она нам сохранила его”, — говорил он Веселитской [1262]. А в вопросе ее отношения со Львом Николаевичем заступнически восклицал: “Ей оружие прошло душу!”
По неизменному обычаю, воздавая горячую хвалу глубине и силе чьего-нибудь ума, таланта и проникновения, Лесков не поступался при этом личными взглядами и суждениями.
“Напряженно интересуясь” тем. “как идет работа мысли” [1263] у другого, он продолжал идти по своей особливой стежке.
Натура трудно мирилась с подражательством, подчиненностью, заимствованием. Едва поддавшись им, она спешила во всем восстановить свою самобытность. Острый глаз не допускал долгой усыпленности, постепенно подмечая ошибки хотя бы и очень больших людей.
Для фигур низшего ранга работа времени, конечно, была еще опаснее.
“Толстовцы” повержены во прах: “Льва Николаевича Толстого люблю, а “толстовцев” — нет”, — говорится дома собеседникам [1264].
Он следит за всеми ними, как, впрочем, и за всей работой мысли самого Толстого.
Вначале “возлюбленному” В. Г. Черткову, стремившемуся загладить одну удивительную с его стороны неловкость, Лесков непреклонно высказывает, что, при возобновлении временно прерванных отношений, у него может подняться “со дна души сор и сметьё” [1265].
Былому “милому Поше” Бирюкову, разлука с которым казалась когда-то горестной, пишется уже по-иному:
“28/XII, 93. Спб., Фуршт[атская], 50.
Любезнейший Павел Иванович!
Оч[ень] благодарю вас за ответ. Я спрашивал вас шуточным тоном, а в самом деле мне было оч[ень] противно слышать то, о чем сказывали… Вам я хочу верить, но стал передо мною в памяти Щедрин и, указывая на “большие колокола”, говорит: “все там будем!..” Какая противность! Вообще я не понимаю: зачем это что-то блекоталось новое о молениях, вслед за тем…” На этом письмо брошено [1266].
“Ваничку” Горбунова-Посадова и прочих постигает одна участь.
“Я думал, — говорил дома Лесков, — они несут в народ высшую культуру, удобства жизни и лучшее о ней понимание. А они всё себе вопросы делают: есть мясо или нет; ходить в ситце или носить посконь; надевать сапоги или резиновые калоши и т. д.”.
6 апреля 1894 года он отвечает Веселитской: “То, что вы пишете о толстовцах; оч[ень] интересно. Я тоже их не спускаю с глаз и думаю, что ими можно уже заниматься, но непременно с полным отделением их от того, кто дал им имя или “кличку”… В способностях Бирюкова к пахоте — не верю. Если он пашет, то я жалею его бедную лошадь, которой сей “лепетун” подрежет сошником ноги. Я преглупо раздражаюсь, когда слышу их “лепетанье” о работе. Пусть “ковыряют”, но не “лепечут”. Довольно они уже насмешили людей, которые их не стоят” [1267].
И “занялся”: меньше чем через полгода, в сентябрьской книжке московского журнала “Русская мысль”, явился “Зимний день”.
Героиня рассказа, молодая девушка Лидия, коротко определяет “лепетунов”: “С ними делать нечего”.
С “малютками”, которые “с воробьиный нос дела не делают”, — кончено.
В дальнейшем о Толстом говорится всегда с неизменным почитанием, как и с заботливым отмежеванием его от бесповоротно разжалованных “лепетунов”.
“Толстой делает большое дело, но в частности иногда может легко сказать и не то, что, м[ожет] б[ыть], хотел и что нужно… Это крупная вывеска: слова всем видны, а отдельные буквы, м[ожет] б[ыть], и криво поставлены… Некрасиво, но всем видно, и цель — достигнута! Так и во всяком большом деле бывает. Ведь видите, какие он горы двигает и заново переделывает жизнь… Легко и ошибиться в чем-нибудь. Действительно, зачем это он нападает на науку? — Разве так уж у нас ее много и она мешает чему-нибудь? Пусть учатся! Зачем это отрицать? Или вот тоже и мыло, гребешок, ванна и так далее… Ведь нельзя же без этого, а ему не нужно… Шутник этот Лев Николаевич! Зачем женщине не заботиться о красоте и изяществе? Или Горбунову и Бирюкову ходить без калош по улице и топтать мой чистый пол грязными сапогами? Зачем старуху мать приглашать к себе в “колонию” и морозить ее там в холодной избе, не позаботившись сперва припасти дров? Э… да сколько можно задать вопросов толстовцам… Но разве это имеет что-нибудь общее с учением Льва Николаевича о христианском образе жизни? Ну, в этих мелочах пускай он и неправ. Но что ж из этого? М[ожет] б[ыть], он и сам рад, что в чем-то неправ перед нами и что мы тоже можем иметь на то свои возражения и взгляды не менее искренние, чем его. Цените его на весы: что перевешивает — ошибки или истинное слово его? В нем важны и ценны новые намёты, которые он делает, отвращая мысль нашу от дурного и поворачивая ее к хорошему. В “Крейцеровой сонате” важен вовсе не призыв к идеальному воздержанию людей от плотской любви, а то — как Толстой отвращает нас оттуда, где мы развращаем себя и женщину. Отрицание забот о завтрашнем дне так написано, что чувствуешь презрение автора к так широко проповедуемому ныне “могуществу эгоизма” и т[ому] п[одобному}. Вот ведь какие новые намёты мысли ставит Толстой, а мы всё ловим его на каких-то подробностях и тычем его носом в настоящие условия жизни… Да он отлично их знает, но только не дорожит ими и не стесняется, как прочие, пренебрегать ими, этими дорогами и милыми другим “современными условиями” [1268].
При попытках кого-нибудь внести поправки в умозаключения и выводы Толстого Лесков, если бывал в “мирном стихе”, ограничивался, как, например, и в письме к Веселитской от 2 августа 1893 года, выражением незыблемой уверенности, “что все это, что приходит нам в голову, уже не раз побывало в несравненно более сильном и совершенном уме Л[ьва] Н[иколаеви]ча” [1269].
Значительно иная картина получалась, когда В. Л. Величко или другие мыслители и деятели его толка с усмешкой выдвигали непуританское прошлое “яснополянского мудреца”. “Ну и что же?.. — восклицал Лесков. — Да Лев Николаевич и сам прекрасно отвечает на такие попреки: когда человек пьян — с ним не говорят, а говорят, когда он протрезвится. Я очень недавно протрезвился, и со мною о жизни надо беседовать теперь, а не вспоминать время и речи, говоренные мною, когда я был пьян и лишен разума” [1270].
Оскорбившийся на Толстого за неответ на его письмо, Величко не упускал случая противопоставить этой “невежливости” во всем чуждого ему “властителя дум” изысканную светскость и вежливость во всем любезного ему салонного поэта Апухтина. Это вызывало взрывы негодования Лескова. “Сопоставлять эти имена! — восклицал он. — Где вкус у этого человека? И литераторы же у нас попадаются! Ведь с кем нянчится и кого хулит! Если он и не разделяет взглядов Толстого, то все же было бы больше вкуса, больше литературности в этом поэте из чиновников не вспоминать рядом с именем Льва Николаевича имя Апухтина! И чего он меня пытается соблазнить “Мухами” или “Безумными ночами”? Ведь все это не в коня корм. А вкусы господина Апухтина — не мои вкусы. И чего это он — то унижает Толстого Апухтиным, то обольщает меня служебной карьерой. Ведь я же не пойду в чиновники особых поручений ни к какому министру! Чего же мне все время говорить о них и принижать при мне человека, на которого два света смотрят? А этот мелодик пишет на него пошленькие стишки… Это на украшение-то русского гения! На человека, через которого Европа и весь мир узнали, что у нас есть литература и философия! Раз как-то, на даче, они завели со мною разговор о “Первой ступени”, и Муретиха [1271] распространилась о том, что Лев Николаевич с такой отвратительной реальностью описал убой быка, что ей стало мерзко и гадко читать его… Я встал со скамейки, — рассказывал Лесков, — на которой мы сидели на морском берегу, и, потеряв всякое самообладание, бросил им в лицо: — Ааа… вам гадко читать Толстого, ну, а мне… мне гадко вас слушать!.. И бросив их одних, ушел. Резко, пожалуй грубо даже, но… поделом: пусть знают, что в монастыре нельзя позволять себе говорить о балете и женской грации, а со мною говорить без уважения о Толстом!” [1272]
Не меньшее возмущение вызывало в Лескове отношение к Толстому и “ортодоксальных” либералов, по адресу которых он говорил: “Они монахи с иерусалимского подворья… Монахи, но не простые. Они святее других. Скажите мне: умны они или притворяются умными? Никогда я не понимал их! Ну посмотрите на их борьбу с Толстым. Не напоминают ли они этою борьбой детей с сильным учителем? Они-то вертятся вокруг него, то прыгают, то силятся свалить его… А он идет себе, не замечая ни толчков, ни криков. Где же ум у этих либералов, если они не замечают, что один Лев Толстой в наши дни — национальное богатство! Как богатырь, идет он на тьму, и только его удары ей и чувствительны. Где у них ум, если они не считаются с его годами и требуют от старика-писателя, чтобы он не только поучал других простому образу жизни, но чтобы он сам пахал землю и сеял. Никто бы из них и не заикнулся о Толстом, если бы он получал литературный гонорар, какой ему вздумается, и проживал бы его так, как проживают свои заработки… другие! Но то, что Лев Николаевич живет в одной комнате, ест самую простую пищу, одевается по-мужицки и ничего не тратит на так называемые “удовольствия”, — это-то и омрачает их разум” [1273].
Показателем, в какой мере Лесков, “совпав” с Толстым, “никогда не бывал его рабом”, могут служить твердость и прямота неодобрения им попыток С. А. Толстой и самого Льва Николаевича найти “искажения” в напечатанном Диллоном в “Daily Telegraph” переводе толстовского “Письма о голоде” 1891 года. Своим письмом по этому поводу Лесков заставил Толстого “заплакать” и написать Диллону покаянное письмо [1274].
Не менее убедительны в этом отношении и его указания Толстому в письме от 8 октября 1893 года:
“Умную старину я всегда любил и всегда думал, что ее надо бы приподнять со дна, где ее завалили хламом… Только надо, реставрируя старое, не подавать мыслей к уничтожению хорошего нового. Надо, чтобы этого ни за что не случилось и чтобы не было подано к тому соблазна, как вкралось нечто и негде в статье “О неделании”, что людям любящим и почитающим вас и задало гону от “поныряющих в домы и пленяющих всегда учащиеся и николи же в разум истины приидти могущие” [1275].
Записи Фаресова, посетившего Толстого в начале 1898 года в Москве, сохранили чрезвычайно ценные встречные отзывы о Лескове Льва Николаевича:
“Лесков — писатель будущего, и его жизнь в литературе глубоко поучительна” [1276].
“Его привязанность ко мне была трогательна, и выражалась она во всем, что до меня касалось. Но когда говорят, что Лесков слепой мой последователь, то это неверно: он последователь, но не слепой… Он давно шел в том направлении, в каком теперь и я иду. Мы встретились, и меня трогает его согласие со всеми моими взглядами” [1277].
По одному поводу в письме от 17 сентября 1893 года Лесков подтверждал Фаресову: “Таково же, как мне известно, и мнение Л. Н. Толстого, но если бы Л[ев] Н[иколаевич] имел и не такое, а иное мнение, даже совсем противуположное и ближе подходящее к вашему, — это бы на меня не оказало влияния. Мне надо не быть самим собою, чтобы отложиться от моего собственного разумения; а этого сделать нельзя, и я должен оставаться при своем понимании, за которое вы, конечно, вправе меня осудить” [1278].
И неудивительно: как свидетельствует Н. Н. Гусев, Толстой при одном разговоре в Ясной Поляне “сказал, что Лесков производил на него всегда впечатление очень сильного человека” [1279].
Но и этот сильный человек искал опоры извне, убеждал себя в достижении им, во многом, желанного “совпадения” с Толстым, черпал в этом ободрение и укрепление своего алчущего духа.
“Смотрю на вас, — писал он в Ясную Поляну 28 августа 1894 года, — и всегда напряженно интересуюсь: как у вас идет работа мысли” [1280].
Однако сам шел “с клюкою один”, многое — “по-своему видя”.
ГЛАВА 4. БЕЗ УБОИНЫ
В отведенном ранним воспоминаниям очерке “Дворянский бунт в Добрынском приходе” повествовалось, как у “справедливого”, бескорыстного попика-запивушки, “хлебосола из последних сил”, к его именинам, на 1 января, заготовлялась преданиями требовавшаяся снедь и доступное по местным условиям питие.
“Угощение бывало не тонкое, но обильное и даже вкусное, особенно на рождество, в пасху, на храмового Николу и в Новый год на день Василия Кесарийского, когда все орловское православие кушает в честь благородного философа Кесарии “касарецкого поросенка”. Отец Василий был в этот день именинник и подавал своим прихожанам несколько “касарецких” поросят — вареных с хреном в зубах и жареных с лучком и с кашей.
К этому приспособливалась сама природа: свиньи у отца Василия так и поросились, чтобы дети их могли к Васильеву дню получить аттестат зрелости и стать “касарецкими”. Тогда для них наставала новая торжественная минута: их кололи, и это, по уверению крестьян, приносило им большое удовольствие, так как всякое животное, убиваемое к христианскому празднику, “с радостью на нож идет”.
И действительно, когда поросяток обделывали и, окунув в воду, устанавливали рядом на завалинке замораживать, они представляли из себя что-то младенчески благоговейное: замерзая все рядком с поднятыми вверх обрубленными лапками, они точно сами себя приносили в благоприятную жертву.
Крестьяне говорили: “У батьки поросятки как молятся! На Касарецкого их есть будем”.
Это все было весело.
Напитки у отца Василия были неодинаковые — на дворянском столе сливняковая наливка и красное сорокацерковное вино, а на батрацком — полугар и сыченая брага, чрезвычайно приятного вкуса. По вкусу мужичков, ее значительно портили, подливая туда водки, через что брага становилась крепче, по-народному “разымчивее”, но без этой примеси она составляла очень хороший напиток, который мы, дети, любили лучше наливки.
Отец Василий при гостях никогда не пил: он пил “после”. Он сам так говорил, когда его спрашивали: “Что же вы, батюшка, сами не выкушаете?” Он отвечал: “Я после”.
И он исполнял это “после” с самою несчастною добросовестностью, которая приводила в смущение весь дом и приход…” [1281]
В дни писания рассказа Лескову полностью исполнялось пятьдесят годов. Читая эти аттические строки, кто бы подумал, что через немного лет описывающий младенчески благоговейных, как бы молящихся, поросяток и в безоглядной простоте находивший, что “это все было весело”, автор превратится в апостола всестороннего воздержания, апостола “безубойного питания”, “мясопуста” и “сердобольника”, строго ополчится на табак и хмельное.
Это было, конечно, добродетельно, но и скучновато.
О том, как совершалась метаморфоза, подробно, но по закону времени, может быть, не во всем безошибочно, изложено в письме Лескова к В. В. Протопопову от 10 сентября 1892 года:
“Я до 47 лет пил вино, курил сигары и папиросы и ел мясо и все это почитал для себя за необходимое… В конце этого периода у меня обнаружились припадки жестокой нервной болезни, известной под именем “ангины” или “грудной жабы”… Тогда Лев Бернардович, поддерживая во мне надежду на исцеление, сказал мне: “Если бы вы могли обратиться к вегетарианской жизни — это бы, я думаю, принесло вам большую пользу”. Я сейчас же положил себе исполнить его совет и с 15 ноября 1891 года перестал есть мясо, и мне опять стало легче. Теперь я страдаю гораздо меньше, чем в три прошлые года, когда я постоянно и безуспешно лечился. Теперь я читаю, немножко пишу, могу принимать у себя добрых людей и не боюсь разговаривать с ними, чего прежде не мог без страха, что вот сейчас, того и гляди, меня свернет и пойдет корчить… Всему этому облегчению я знаю только одну очевидную для меня причину — это то, что я стал жить по-вегетариански, т[о] е[сть] ем пищу только растительную, молочную и яйца, не пью вина и не курю ни папирос, ни сигар. Впрочем, вино и курево я оставил еще ранее и признаюсь, что всего труднее мне показалось перестать курить… Это как-то очень долго помнилось, и при досуге все опять хотелось закурить. Вино я оставил легче, а мясо — еще того легче. Мне теперь совсем никогда не хочется есть мяса, и я вполне доволен простыми и скромными блюдами вегетарианского стола, при котором мои прежние страдания облегчились” [1282].
Так говорилось и писалось после трех лет искания средств к смягчению страданий, вызывавшихся “ангиной”, за два с половиною года до смерти. Когда практически осуществился вегетариано-этический сдвиг?
23 апреля 1883 года в письме к Шубинскому Лесков беззаботно обещает дать у себя гостям на предстоящей вечеринке “тельца упитанного”.
18 марта 1887 года, уже едва не в канун личного знакомства с Толстым, он заботливо вырезывает из № 3969 “Нового времени” выдержку из опубликованного в “Русских ведомостях” “реферата”, сделанного Толстым в Москве, в Психологическом обществе. Столбцы наклеиваются на листок чистой бумаги и достаточно щедро испещряются подчеркиваниями красными чернилами некоторых указаний Толстого, как, например: “Под любовью к ближнему не следует разуметь только любовь к жене, детям, знакомым, даже соотечественникам; это все могут быть высшие формы эгоизма”. Или: “Чем сильнее в нас деятельная любовь к истине и к ближним, чем выше развита готовность к самопожертвованию, тем более мы сливаемся с жизнью общего, тем глубже познаем смысл разумной жизни и тем решительнее торжествуем над своими несчастиями, страданиями, смертью”.
Выше столбцов Лесков ставит как бы заглавие — “Понятие о жизни”. Ниже, явно взволнованный, он пишет от себя:
“Кто любит отца или мать больше меня, тот меня недостоин”, т[о] е[сть] кто угождает желанию родных или вообще желанию людей, которое не согласно с тем, что повелевает истина и добро, — тот бога недостоин, хотя бы весь век ел постное, как корова, и молился на все стороны” [1283].
Набор противоцерковных аргументов неотступно тверд, но как будто не удовлетворяет однообразность последних: изречение из “писания”, родные от плоти, истина, добро… Создается привычный, почти досадительный привкус. Хочется оживить представление и впечатление. Вводится “корова”. Вегетарианству еще не пришел час.
Курс, взятый на безубоину, первоначально находит себе отражение в произведениях.
В заразительно веселой, чисто орловской панораме “Грабеж”, появившейся в печати в декабрьской “Книжке “Недели” 1887 года, порядочным диссонансом общему тону рассказа представляется описание убоя молодых бычков зажиточным мясником, стоящим с ножом в руке и умиленно заслушавшимся “яростно свистящего” над его головой в клетке соловья [1284].
В вышедшем 1 июня 1889 года в № 13 журнала “Труд” рассказе “Фигура” повествовалось о матери героя, которая “ни мяса, ни рыбы не кушала из сожаления к животным”, из которых выкормленные ею были для нее “как родные”, а соседских она считала своими “знакомыми” и вообще “не ела тел убитых животных” [1285].
Позже, в декабрьской книжке “Вестника Европы” 1891 года, в “Полунощниках”, Клавдия на вопрос Ивана Кронштадтского, почему она не ест мяса, отвечает, что ей и вкус не нравится и “просто я не люблю видеть перед собою трупы… Трупы птиц и животных. Кушанья, которые ставят на стол, ведь это все из их трупов” [1286].
Здесь уже слово “тела” заменено давно принятым Толстым словом “трупы”. В книге К. С. Станиславского “Моя жизнь в искусстве” говорится, как 31 октября 1893 года Лев Николаевич, застав Давыдовых за обедом, “горячо советовал им не есть трупов” [1287].
В 1892 году у Лескова родится желание выпустить вегетарианскую поваренную книжку, а также и книгу об этике пищи с предисловием Толстого [1288].
Стремясь возможно шире ознакомиться с литературою по “безубойному питанию” и узнав о книжках по этому вопросу некоего К. Оскрагелло, он, ни на день не откладывая, выписывает себе на дачу все, что имеется этого автора в книжных магазинах Петербурга.
Прочитав присланное и получив дополнительно одну книжку от самого Оскрагелло, он 15 июля 1892 года горячо благодарит последнего и просит выслать ему фотографическую карточку новоузнанного единомышленника: “Мне всегда очень важно видеть внешность того человека, который поражает меня своею духовностью” [1289].
Художественная натура не удовлетворяется идейным совпадением, желая воспринять внешний облик.
Помещаемые в газетах анонсы и заметки по предполагаемому изданию поваренной книжки “безубойного питания” взметнули газетный вихрь насмешек, глумлений и осуждений.
Лесков отзывается на них довольно пространным открытым письмом во враждебное ему о ту пору “Новое время”, напечатанным в № 591 от 13 августа 1892 года. По-своему интересное, письмо звучит исповедью и проповедью. Местами оно полемически колко. Пожар разгорается с новой силой.
Травля Лескова за вегетарианство вообще, а в суворинском “органе” в особенности, не унимается. Постепенно она достигает апогея в неподражаемо пошлых фельетонах В. П. Буренина от 1 и 29 января нового, 1893 года в №№ 6050 и 6078 “Нового времени”.
Порождая возмущение опрятных людей, они вызвали брезгливые строки А. П. Чехова в письме к Суворину от 5 февраля 1893 года: “Нападки на вегетарианство, и в частности буренинские походы на Лескова, кажутся мне очень подозрительными”. А через год, 27 марта, в письме к Суворину же, он приходит к своего рода заключительному и убедительному выводу: “О вегетарианстве”: “Расчетливость и справедливость говорят мне, что в электричестве и паре любви к человеку больше, чем в целомудрии и воздержании от мяса”.
Вегетарианство, конечно, находило себе некоторое, по преимуществу практическое, отражение и в родственной переписке. Ограничусь выдержками из двух более поздних писем к О. С. Крохиной — от 22 октября 1892 года и 14 января 1893 года:
“Хорошо, что ты здорова. Это от тебя редко приходилось слышать, и еще, верно, можешь быть здоровее, если станешь больше делать руками, да не будешь курить, не будешь вино пить и мясо есть. Это оказывает прекрасные последствия, и притом нимало не трудно. Из всех этих мнимых будто бы “лишений” мне чувствительно было только одно — перестать курить, но когда я это сделал, то стало прекрасно: и теперь я пользуюсь свободой от трат, от дыма в комнате и от копоти в легких. Боткин, умирая, говорил: “ах, зачем я поздно узнал вред курения!” Женщине же курить кроме того как-то и развращенно… так и отдает “вольною женкой”… [1290]
“Болезням твоим не удивляюсь. Я и сам все болен. Пора болеть. Довольно невоздержничали, — надо и расплатиться за все излишества чрева, глотки и прочего. Без этого дело уж не обойдется. А чтобы поменьше пришлось страдать — обратись к умеренности и оставь злое и излишнее: перестань есть мясо и кровь живых существ; не пей вина и не накачивай в свое тело табачного дыма и никотинного яда. Люди, оставляющие эти злые и гадкие привычки, получают облегчение в здоровье и просветление в разумении. Вот и ты это попробуй и увидишь, что это хорошо, и во всяком случае гораздо полезнее, чем стонать и жаловаться от того, в чем никто помочь не может. Я же могу тебе сказать, что оставить мясо, вино и курение не только полезно, но и очень легко” [1291].
Угадывая, что сестра не следует его указаниям, Лесков 13 июня 1893 года распространительно преподает их ее почти двадцатилетним старшим дочерям, явно призывая их внять его советам и повлиять на мать, рикошетируя при этом по последней на всем протяжении своего письма:
“…Так и жить надо, чтобы не мельтешили в вашем разговоре слова о том, что “им хорошо — они богатые; а нам плохо — мы бедные”. Вы совсем и не бедные, да и разговор об этом никому не интересен, и ни к чему он не ведет, кроме пересудов и распрей… Я стар, а в молодости моей я был глуп и очень безнравственен, и я так не думал и умно не поступал; но вот мне теперь дано дожить до радости, и я вижу прелестных молодых юношей н девиц, занятых прекрасными мыслями об общей пользе, а не франтовством, весельем и разгулом, как было в наше постыдное время, и я вижу, как эти нынешние, свободные и целомудренные девушки прекрасно живут, и как мало нужно для их довольства, и как они ничего и никого не боятся, кроме своей доброй совести, и я, старик, радуюсь за людей и за вас: вам легче будет прожить хорошо, чем жили мы, которым внушали, что надо всего больше наживать да достигать почета и тому подобного. Поверьте, что нет никакого счастия гнаться за этим, а есть большое счастие в том, чтобы не желать того, без чего можно жить, не страдая от голода, холода и болезней. А болезни все большею частью происходят от излишеств: от переедания, от трупов животных в виде кушаний; от вина и табаку. А между тем есть беспутники, которые почитают за нужное и табак курить и вино пить, и я это делал и думал, что без этого нельзя; а когда добрые люди меня хорошо посрамили и я увидал свое безрассудство, то мне теперь стало и прибыльно, и здорово, и другим у меня весело — трезво, чисто, воздух не отравлен дымом, и мне удивительно: как же я прежде этого не понимал, а все пил, курил, ел печеные трупы птиц и телят, и все это мне казалось за нужное!
Думайте же, друзья мои, надо всем, чего хочется: есть ли это в самом деле нужное, без чего нельзя прожить спокойно, или это можно откинуть прочь и от того только будет спокойнее? Первое дело — не коптить своих легких табачным дымом, и будут все здоровее, и это даст деньги на дачу. Советую попробовать с этого начать…” [1292]
Женатый, я навещал в эти годы отца по преимуществу вечером или утром. Все считались с его столовым аскетизмом и старались не создавать в этой области никаких затруднений; трапезовали дома, а к нему шли беседовать за чаем. Это сглаживало рознь обычаев.
Судя по письму Л. Я. Гуревич ко мне, довольно широко процитированному выше, Варя говорила о каких-то частных отступлениях “дяди” от вегетарианства, а Е. Д. Хирьякова, много лет спустя, подтвердила ей, “прибавив со своей мягкой и умной улыбкой: “Даа… Особенно он куропаток любил”. Я представляю себе, что все это так и было, одно вместе с другим: из глубины идущее стремление к праведности, к вегетарианству, смиряющему страсти по опыту Толстого, и — непосильность этой задачи для неудержимой натуры Николая Семеновича. Варя всего этого не могла осмыслить…” [1293]
Любовь Яковлевна была права: тринадцатилетнему подростку не по силам осмыслять сложность и сбивчивость человеческих движении; старику не всегда под силу выполнять задачу, противную привычкам всей жизни.
ГЛАВА 5. “ЦАРСТВО МЫСЛИ”
С большим, по сравнению со многими своими сверстниками, опозданием приобщившись к литературе, Лесков с первых же лет своего писательства отдался “служению ей” со всей силой и страстностью своего неукротимого духа.
Для него решительно ничто не могло иметь равного с литературою значения и цены. Все было ниже ее, “ибо в литературе есть “царство мысли”.
И он служил литературе всем сердцем.
Правда, в особо горькие моменты он иногда сгоряча и клял свою беззаветную ей преданность, но минуту спустя вновь говорил о ней не иначе, как с любовным благоговением, и вновь как бы с еще большею силою отдавался дальнейшему самоотверженному служению ей.
Вспышки этих разноречивых настроений так выразительны и ярки, что не дать их отражения в статьях, беседах и письмах Лескова представляется невозможным без ущерба освещению сокровенных его взглядов на самые дорогие его сердцу вопросы о задачах и приемах писательства. Буду держаться временной их последовательности.
“В Европе уже были и есть и теперь народы, которые несли и несут тяжелые епитимий за усилие губить свою литературу и класть в подножие то, что должно бы возносить во главу угла… Литературный мир точно так же не рыцарский орден, как и не Запорожская Сечь и не монастырь. Кто думает об этом иначе, тот ошибается. Давно сказано, что “литература есть записанная жизнь, и литератор есть в своем роде секретарь своего времени”, он записчик, а не выдумщик, и где он перестает быть записчиком, а делается выдумщиком, там исчезает между ним и обществом всякая связь. Слово его теряет внушительность, мысль его не имеет опоры и не находит отклика, образы его становятся мертвы и не возбуждают сочувствия. Связь литератора с обществом такая органическая, что нарушение ее с одной стороны тотчас же разрушает ее и с другого конца; неверно понимающий и неправдиво воспроизводящий явления писатель покидается общественным вниманием одновременно с тем, как он покинул жизнь в своем воспроизведении” [1294].
“О пиесе в Испании думают то же, что думает г[оспо]жа Жорж Занд о романе и что она так резонно выразила по поводу нового произведения г. Флобера, то есть что сочинение должно вести к чему-нибудь, а не тешить для того, чтобы только тешить…” [1295]
“Честные труженики русской литературы, доля которых всегда была тяжка и сурова, конечно, увидят в задушевных воздыханиях Журавского много каждому из них знакомых скорбей и, может быть, в сем образе страдания черпнут живой струи, властной хотя на несколько часов облегчить болезни унижения и беспомощности, составлявшие доселе удел русского писателя, работающего на пользу родины по велению своего разума, совести и чести…” [1296]
“У литературы есть своя “священная мерзость”, которою мы весьма походим на жриц публичного разврата… Нет-с; этот “разврат”, которому мы поработали в поте лица и в нытье мозга костей своих, не даст нам силы обречь себя на целомудренное молчание… Писемский вчера прислал мне большое и задушевнейшее письмо, в котором сетует на меня, что “нет руководящей критики”, и потом говорит, что “путь наш тернист”. Да; противный, гадкий, колкий и голодный путь:
Жизнь без надежд,
Тропа без цели,
а все-таки мы с него не должны сворачивать, ибо куда ни повернем, везде скиксуем и потянемся опять пошляться по своей поганой литературной улице, — и это наше благо… Второй пример есть Нестор Васильевич Кукольник; потом Степан Степанович Громека, которого вот, как видите, литературный разврат выводит из стен его губернаторского кабинета, где его никто не смеет обругать и облаять… Ходит в народе глупая сказка, что будто бы три лекаря поспорили, что один глаза у себя вынет и потом вставит, другой еще что-то (не помню), а третий “утробу” вынет себе и назад вложит. Так и сделали и отдали вырезанное спрятать кухарке, а у той ночью крысы “утробу лекареву и съели”. Баба в перепуге заменила эту утробу свиною, а лекарь ее себе вставил и начал жить, но только всю жизнь потом удивлялся, что “что, говорит, я ни ем: всякие шоколады и фруктери, а все после дрянца хочется”. Вот вам подобие силы литературной жизни, к которой тянет и из губернаторских кабинетов, и потянет и из виноградника”, и это еще благо, что “дрянца хочется”, а то застой, коснение и измельчание…” [1297]
“В виду нарастающих годов и естественно приближающейся смерти, порадуемся хотя тому, что мы еще умели всю жизнь оставаться литераторами и, питаясь тощими литературными опресноками, не продавали себя ни за большие деньги, ни за малые, как это начинается у других, похваляющихся своею бесстрастностью… Кто из нас в чем был правее другого, то решать не нам, а с нас, мне кажется, довольно того утешения, что мы любили и (надеюсь) любим свое дело горячо и служим ему по мере сил и уменья искренно небесстрастно, не ожидая себе за свою деятельность ниоткуда никаких великих и богатых милостей… У нас есть обидчики, но истолкователей нет, и обидчикам, конечно, всегда будет более приятно заботиться о литературной вражде, чем о единодушии и мире…” [1298]
“В отечестве нашем в настоящее время параллельно идут два течения: одно не новое, но свежее силами, влечет людей к изучению родной литературы… Другое же — новое и даже, пожалуй, по нынешней поре модное — обдает вышеупомянутое внимание к литературе брезгливым презрением. Но на весах судьбы, очевидно, бесповоротно решено, что это презрение бессильно, ибо никакие памятники бюрократии не выражают так полно и живо минувшие исторические события, как произведения литературные. И вот почему, — не в силу моды, а в силу факта, — лучшие мыслители нашего времени — недавно умерший Карлейль и еще наслаждающийся всеми благами просвещенной жизни Тэн — отводят литературе и литераторам самое видное место среди деятелей известной эпохи. Литература — это как бы дыхание, носящееся поверх хаоса, который она отражает, но сама не пачкается в его тине. Эпохи, когда не было писателей, окутаны туманным баснословием и потому не представляют для трезвого и пытливого ума ни интереса, ни поучения; но чуть появляется писатель — дело сразу изменяется: время, отмеченное его деятельностью, уже может быть изучаемо, проверяемо, критикуемо, и — что всего важнее — оно само становится поучительным, ибо оно уже богато по крайней мере “ошибками отцов и поздним их умом”.
Такое первенствующей важности значение литературы признано первейшими авторитетами образованного мира, и брезгливое пренебрежение к этому направлению, проявляемое где-нибудь людьми, которое вотще “колотят себя сухими руками в сухие перси” [1299], представляет последние предсмертные корчи умирающей рутины. А потому всякая попытка облегчить изучение литературы достойна внимания и, по возможности, обстоятельной оценки…” [1300]
“Дай бог, чтобы, перетрясая недалекую старину, мы положили свою лепту на то, чтобы сохранить и пронести до лучших времен добрые предания литературы, окончательно, кажется, позабывшей свое благородное призвание и обратившейся в прислужничество, за которое надо краснеть…” [1301]
“…Какие хамы у нас в двор[янских] собраниях и в думах: отчего ни Орел, ни Воронеж не имеют на стенах этих учреждений портретов своих даровитых уроженцев? В Орле даже шум подняли, когда кто-то один заговорил о портрете Тургенева, а недавно вслух читали статью “Новостей”, где литературный хам “отделал Фета”. Сколько пренебрежения к даровитости, и это среди огромного безлюдья!.. И газеты не дорожат своими людьми. Неужели Гаршин не стоил траурной каемки вокруг его трагического некролога?.. Я, ложась спать, думал: “верно, А. С. [1302] велит поставить крестик и каемочку”. Утром вижу — нет! Почему, спрошу? Нам, литераторам, он ближе, чем Скобелев? Он несомненно “пробуждал мысли добрые”. Зачем все эти известия о приезде “действительных стат[ских] советников” печатаются, а непристойным считается известить о приезде Чехова? Это уже ваше, редакторское, пренебрежение. Пусть бы люди знали, что литераторы достойны внимания не меньше столоначальников департамента. Прикажите быть к ним внимательнее, — это даст тон и другим, не умеющим ничего придумать. Вам это часто удавалось” [1303].
С негодованием наблюдая устремление в литературу людей, нимало ее не любящих и ищущих при ее посредстве лишь умножения жизненных выгод и успехов, он в том же году предостерегающе заключал одну свою статью:
“Как средство к жизни литература далеко не из легких и не из выгоднейших, а напротив, это труд из самых тяжелых, и притом он много ответствен и совсем неблагодарен. В литературе известен такой случай: тайн[ый] сов[етник] М[ережковский] повез к Ф. М. Достоевскому сына своего, занимавшегося литературными опытами. Достоевский, прослушав упражнения молодого человека, сказал: “Вы пишете пустяки. Чтобы быть литератором, надо прежде страдать, быть готовым на страдания и уметь страдать”. Тогда тайн[ый] сов[етник] ответил: “Если это так, то лучше не быть литератором и не страдать”. Достоевский выгнал вон и отца и сына. Кто не хочет благородно страдать за убеждения, тот пострадает за недостаток их, и это страдание будет хуже, ибо оно не даст утешения в сознании исполненного долга…
Теперь в литературной среде появляются молодые люди, не обнаруживающие ни огня, ни страстности к каким бы то ни было идеям, но они пишут гладко и покладливо в какую угодно сторону. Их, к сожалению, уже много и, может быть, скоро их будет еще больше… “Что их влечет, и кто их гонит?” Через это они уповают сделаться более знаемыми и крепче припаять себя к литературе, но они ошибаются: расчет их неверен, и в приеме их есть нечто от них отталкивающее. Путь беспринципного записывания себя повсюду есть путь опасный, идучи по которому можно дойти и до “частных занятий” Бурнашева… Кто не любит литературу до готовности принести ей в жертву свое благополучие — тот лучше сделает, если вовсе ее оставит, ибо “музы ревнивы…” [1304]
Наслушавшись как-то жалоб Лескова на трудность писательского заработка, легкий на посулы “всеа Руссии пустобрех” Сергей Атава взялся устроить ему какое-то живое коммерческое занятие на восемь тысяч рублей в год. Нимало не поверив благоприятелю, Лесков с шутливой веселостью пишет 28 ноября 1888 года Суворину, что при осуществлении атавинского пустословия был бы готов “бросить об пол черо и пернильницу” [1305].
Бросать их, само собой разумеется, не пришлось. Литературное горение не умалялось, а напротив — неудержимо росло.
19 февраля следующего, 1889 года на какие-то утешения Репина Лесков непримиримо отвечал: “От того, чем заняты умы в обществе, нельзя не страдать, но всего хуже понижение идеалов в литературе… На что вы надеетесь, — я не понимаю. Конечно, идеи пропасть не могут, но “соль обуяла”, и ее надо выкинуть вон. Литература у нас — есть “соль”. Другого ничего нет, а она совсем расселилась. Если есть уменье писать гладко — это еще ничего не стоит. Я жду чего-нибудь идейного только от Фофанова, который мне кажется органически честным, и хорошо чувствующим, и скромным…” [1306]
Волновали Лескова и стилистические промахи, обмолвки, языковое неряшество, зорко подмечавшиеся им в публикациях его литературных современников. Все они относились к недопустимому небрежению в священном служении высокому призванию. Оплошавших ждал непременный “напрягай”, сообразный с тягостью содеянной вины.
Этому было довольно примеров.
“Фельетон о балах оч[ень] хорош, т[о] е[сть] любопытен, обстоятелен и толковито написан по обдуманному и ранее сочиненному в голове плану. В это ужаснейшее время разнузданного литературного négligé [1307] и это уже заставляет радоваться или по крайней мере не создает повода к мучению для литературного вкуса, и за это вам спасибо. А “дань своему веку” все-таки и вами воздана!.. Где это вы слыхали, что “рука” будто может “встряхивать болото”?.. Как может это переносить ваше ухо и как такая нелепица может согласоваться в умопредставлении образованного человека? Рука Петра могла расшевелить застоявшееся болото и разворошить его, или освежить, или очистить, но… встряхнуть болото”. Вы только подумайте: как это так представить, что болото встряхивают!.. Как вам это не стыдно так писать!.. Была грязная улица, но проехал генерал Шб. и “встряхнул ее”… Что за нелепость! Как это быть может?.. Вы не во всем “за обществом”-то поспевайте, а держитесь кое в чем и лучшего, чем то, что оно теперь одобряет и ободряет… А впрочем, как вам угодно” [1308].
“Рукописи вашей приготовил к печати 38 листов, — писал 27 августа 1888 года Лесков не дюже грамотейному “справщику” пестро наборных петербургских и московских былей и анекдотов, лукаво-искательному М. И. Пыляеву. — До сих пор наделил XIV глав. Это немножко оживляет течение материи. Ошибки и поспешность изложения везде исправлял. Есть периоды с двумя деепричастиями и причастием прошедшим, это оставить невозможно. Есть такое: “Идя к нему, проходя через двор, надо было идти”. В рассказе о Корейше есть масса повторений и возвращений на тожде. Этого я уже не стал трогать, но это необходимо исправить, ибо это утомительно и неприятно действует. Есть места по недосмотру совсем непонятные: является сказуемое, а подлежащее, вероятно, только подумано, а не написано…” [1309]
Имеется переданная как-то мне Фаресовым запись о том, что в зиму 1890–1891 годов, в беседе в своем редакционном кабинете с ближайшими сотрудниками “Исторического вестника”, Шубинский высказал раз такое элегическое сетование: “Пошел бы к Николаю Семеновичу… да ведь выругает, ни за что выругает. А вот как ни за что: в “Историческом вестнике” был помещен рассказ о героизме русского офицера. А Лесков говорит — выдрать бы этого героя и автора рассказа. Почему? Существует же государство? Надо же развивать патриотизм? — А мне, говорит, не надо ни вашего романовского государства, ни его патриотизма!”
Иначе писалось людям, литературе не причтенным.
В 1884 году Лесков приводит в пример народному поэту А. Е. Разоренову, как работал над отделкой своих произведений Карамзин: “Только вчера, друг мой Алексей Ермилович, посвятил вечерок пересмотру ваших стихов. Есть среди них вещи очень и очень недурные, но отделывать их вы или не умеете, или же совсем не хотите. Так писать нельзя. Помните, что основное правило всякого писателя — переделывать, перечеркивать, перемарывать, вставлять, сглаживать и снова переделывать… Иначе ничего не выйдет. Стихи, так же как и всякое беллетристическое произведение, — не газетная статья, которую можно набирать с карандашной заметки. Не знаю, знаком ли вам следующий случай из жизни нашего историка Карамзина. Когда появились его повести, один из тогдашних поэтов, Глинка, спросил автора: “Откуда у вас такой дивный слог?” — “Все из камина, батюшка!” — отвечал Карамзин. Тот в недоумении. “Не смеется ли?” думает. “А я, видите ли, отвечает, напишу, переправлю, перепишу, а старое — в камин. Потом подожду денька три, опять за переделки принимаюсь, снова перепишу, а старое — опять в камин! Наконец уже и переделывать нечего: все превосходно. Тогда — в набор”. Советую и вам поступать так же с вашими стихами. Мысли в них попадаются хорошие да форма далеко не всегда литературная. Нынче к стихам строго относятся. Уж больно приелись все эти фигляры, которые пред публикой наизнанку вывертываются за гривенники и двугривенные. Надо иметь особенно сильное дарование, чтобы стать впереди других, заставить о себе говорить. Такие даровитые люди, как известно, не плодятся, как летние грибы, а появляются веками… Работайте по-прежнему, не обращая ни на кого внимания…” [1310]
Не менее терпеливо и охотно писал он 28 декабря того же 1884 года и ревностному собирателю альбомов и автографов, ветеринарному врачу Г. Л. Кравцову:
“Стараюсь изгладить у вас и тень неудовольствия и посылаю вам такую вещь, которая признается за наилучшую у любителей авторских автографов: посылаю вам черновую рукопись маленького рассказа [1311], который должен появиться в 1-й генварской книжке журнала “Новь”. Тут вы имеете не только мой автограф, но и образец целого процесса — как тяжело вырабатывается та “простота”, которая нравится вам и некоторым другим литературным друзьям моим. Все это плод труда очень большого. Иначе мне ничто не удавалось.
…Духовная связь, образующаяся между читателем и писателем, мне понятна, и я думаю, что она для всякого искреннего писателя дорога. Я благодарю вас за ваши теплые строки. Если захотите быть мне полезным, не забудьте, что всякая умно наблюденная житейская история есть хороший материал для писателя. Сообщите мне при случае что-нибудь такое, что может быть предметом повести или рассказа. Я всегда люблю основывать дело на живом событии, а не на вымысле. Имена мне, разумеется, не нужны. Всякий оригинальный анекдот, всякий непосредственный характер оч[ень] дороги писателю, стремящемуся воспроизводить жизнь в верных действительности чертах. А потому при случае вспоминайте о писателе, которому вы захотели выразить свое сочувствие, и это будет мне помощию и знаком действительности вашей ко мне приязни” [1312].
О том, как трудно дается простота, он не менее горячо высказался также и в письме к товарищу-профессионалу, В. А. Гольцеву, в письме от 16 ноября 1894 года:
“Рукопись “Фефел” сегодня вам возвращаю. Она опять сильно исправлена, но все-таки находится в таком удовлетворительном состоянии, что набирать с нее вполне удобно. Я оч[ень] рад, что она у меня побывала и я мог ее свободно переделывать. Это оч[ень] важно, когда автор отходит от сделанной работы и потом читает ее уже как читатель… Тогда только видишь многое, чего никак не замечаешь, пока пишешь. Главное — вытравить длинноты и манерность и добиться трудно дающейся простоты. Теперь я удовлетворен и покоен” [1313].
“Слышал ли ты или нет, — спрашивал Лесков брата своего Алексея Семеновича в письме от 12 декабря 1890 года, — что немцы, у которых мы до сих пор щепились рождественскою литературою, — понуждались в нас. Знаменитое берлинское “Echo” вышло рождественским № с моим рождественским рассказом “Wunderrubel” [1314]. Так не тайные советники и “нарезыватели дичи” [1315], а мы, “явные нищие”, заставляем помаленьку Европу узнавать умственную Россию и считаться с ее творческими силами. Не все нам читать под детскими елками их Гаклендера, — пусть они наших послушают… Сколько это надо было уступки со стороны немца, чтобы при их отношении к рождественскому № издания, — вместо своего Гаклендера, или Линдау, или Шпильгагена, — дать иностранца, да еще русского!.. Право, это даже торжество нации! И это “мирное завоевание” в образованной среде дали России не Скобелев с его жестокостями и не Драгомиров с его полупохабствами, а мягкосердечный Тургенев и Лев Толстой в его полушубке!.. И что им за это дома? — Шиш и презрение глупцов, презрения достойных. А вот это-то одно завоевание и делает нас известными со стороны, достойной почтения людей, знающих, что стоит почтения” [1316].
Много мыслей на те же темы высказывалось Лесковым, конечно, и в беседах, ведшихся у себя в кабинете, особенно в последние пять лет его жизни.
“Чтобы мыслить “образно” и писать так, надо, чтобы герои писателя говорили каждый своим языком, свойственным их положению. Если же эти герои говорят не свойственным их положению языком, то чорт их знает — кто они сами и какое их социальное положение… Мои священники говорят по-духовному, нигилисты — по-нигилистически, мужики — по-мужицки, выскочки из них и скоморохи — с выкрутасами и т. д… Когда я пишу, я боюсь сбиться: поэтому мои мещане говорят по-мещански, а шепеляво-картавые аристократы — по-своему… Человек живет словами, и надо знать, в какие моменты психологической жизни у кого из нас какие найдутся слова. Изучить речи каждого представителя многочисленных социальных и личных положений — довольно трудно. Вот этот народный, вульгарный и вычурный язык, которым написаны многие страницы моих работ, сочинен не мною, а подслушан у мужика, у полуинтеллигента, у краснобаев, у юродивых и святош. Меня упрекают за этот “манерный” язык, особенно в “Полунощниках”. Да разве у нас мало манерных людей? Вся quasi — ученая [1317] литература пишет свои ученые статьи этим варварским языком. Почитайте-ка философские статьи наших публицистов и ученых. Что же удивительного, что на нем разговаривает у меня какая-то мещанка в “Полунощниках”? У нее по крайней мере язык веселей, смешней… Вот и ругают меня за него, потому что сами не умеют так писать. Ведь я собирал его много лет по словечкам, по пословицам и отдельным выражениям, схваченным на лету, в толпе, на барках, в рекрутских присутствиях и в монастырях. Поработайте-ка над этим языком столько лет, как я… Я внимательно и много лет прислушивался к выговору и произношению русских людей на разных ступенях их социального положения. Они все говорят у меня по-своему, а не по-литературному. Усвоить литератору обывательский язык и его живую речь труднее, чем книжный. Вот почему у нас мало художников слога, то есть владеющих живою, а не литературной речью” [1318].
“В писателе чрезвычайно ценен его собственный голос, которым он говорит в своих произведениях от себя. Если его нет, то и разрабатывать, значит, нечего. Но если этот свой голос и есть и поставлен он правильно, то, как бы ни были скромны его качества, возможна работа над ним и повышение, улучшение его тона. Но если человек поет не своим голосом, а тянет петухом, фальцетом, собственный же голос у него куда-то запрятан, подменен чужим, — дело безнадежно. Я знаю, например, каким голосом говорят Альбов, Гаршин, Достоевский или Тургенев. Я живо представляю себе, как говорит у них каждый их герой. Это верный признак талантливости писателя. Но этот-то, собственный, голос вы найдете далеко не у всякого писателя. Я вот не знаю, какой голос у Ясинского, хотя, читая его произведения, я стараюсь прислушаться к языку действующих в них лиц. Все у него говорят одним голосом, одним языком. Все это один и тот же человек, подающий одним и тем же языком различные реплики, переодевающийся в разные костюмы и не похожий, в конце концов, ни на себя, ни на других. Многочисленные его герои расставляются им на ровной плоскости, вроде оловянных солдатиков, которых дети расставили друг против друга для сражения. А сражения-то и нет! Стоят себе они оловянными, мертвыми, безголосыми… Это показатель отсутствия беллетристического мастерства, дарования. Вот почему я не могу припомнить у него ни одной характерной сцены, ни одного характерного типа.
Тот же недостаток и у Шеллера, но у него он искупается умом и содержательностью сюжета. Типов у него в сущности тоже нет. Нельзя припомнить отдельной, ярко очерченной сцены, людей с самостоятельными голосами. Все затушевано однообразием и однотонностью языка всех действующих лиц, ровностью их расстановки. Но если герои Шеллера и не художественны, то зато они у него бесспорно полезны по своему духовному облику по направлению. Недостаток художественности восполняется и искупается благородством направления.
Разумеется, гармонически-целостное сочетание и той и другого — это высшая ступень творчества, но достижение ее выпадает на долю только настоящих мастеров, взысканных большими дарованиями” [1319].
“Я даже представить себе не могу, как не могу представить себя человеком высокого роста, — чтобы сесть писать роман или повесть и не знать, что из этого выйдет и для чего я их пишу. Я, конечно, не знаю еще, удадутся ли они мне, но я знаю, для чего эта повесть, или роман, нужна и что я хочу ею сказать” [1320].
“Чем талантливее писатель, там хуже, если в нем нет общественных чувств и сознания того, во имя чего он работает и с кем работает…” [1321]
“Тем-то и дорога нам литература, что она живет идеями… Такая она или сякая, но живет она все-таки ежедневно запросами о материях важных и не вознаграждает себя за эту службу ни пенсиями, ни чинами, ни арендами. Бескорыстное это служение истине! Это и отличает писателя от всех прочих профессионалов. Самый последний из них всегда вправе сказать представителям общества: тебе не нравятся газеты, ты не читаешь журналов, а пробовал ли ты сам ежедневно размышлять и писать о Бисмарке, о Гладстоне, о франко-русском союзе, о таможенной войне и так далее? Имеешь ли ты собственное мнение по общественным вопросам такое, что его можно было бы напечатать в столь ненавистной тебе прессе? Почему ты сам не оживишь эту прессу своим талантом, не окажешь ей покровительства и помощи при своих связях? Почему ты годен только на хулу и гонение печатного слова и предпочитаешь устраивать свои собственные делишки, на которых уже нажил два-три имения? Как ни плох самый последний писатель, но он всю свою жизнь пишет о нравственности, а не деньги делает. А талантливый исправляет людей убеждением, чем он и дорог каждому мыслящему человеку. Грунт всякому порядку — это мысли о нем. А литература занята только мыслями… А что ты можешь сказать о жизни литераторов, имена которых поносишь? Какие их пороки? Они живут авансами. Но кто же другой живет аккуратно, и можно ли этим корить литераторов, раз их гонорар так ничтожен? Они между собою всегда ссорятся. Но ведь их ссоры и споры всегда принципиального характера! Они самолюбивы и страдают самомнением. Но это единственное, что дает им силы переносить их тяжелую жизнь! Они развратны. Но чем же они безнравственнее всего остального общества, не знающего и сотой доли их невзгод и терзаний” [1322].
“…Не менее губит писателя и страсть к популярности, то есть ненасытное желание удивлять собою читателей и видеть их поклонение. Опасно выставлять постоянно напоказ самого себя, свои настроения и чувства, как лучшие чувства. Это ведет к тому, что писатель сам начинает верить в то, что он является действительно носителем этих лучших чувств и в силу этого имеет все права на поклонение широких кругов и масс” [1323].
“Жажда популярности ведет писателя к самоослеплению. Лев Толстой объясняет это тем, что творческая сила сама поднимает человека так высоко, что у него на такой высоте невольно начинает кружиться голова, и он, очень часто, падает…” [1324]
“Компромисс я признаю в каком случае: если мне скажут попросить за кого-нибудь и тот, у кого я буду просить, глупый человек, то я ему напишу — ваше превосходительство. Но в области мысли — нет и не может быть компромиссов!” [1325]
“…Похвалить же из “вежливости” в литературе нельзя: хвалы достойно только то, что ведет к лучшему, способствуя очищению совести и уяснению понятий, способствующих освобождению общества от привычек, созданных невежеством и самолюбием” [1326].
Посетившим Лескова в конце ноября 1894 года В. В. Протопоповым записано за ним:
“Я люблю литературу как средство, которое дает мне возможность высказывать все то, что я считаю за истину и за благо: если я не могу этого сделать, я литературы уже не ценю: смотреть на нее как на искусство не моя точка зрения… Я совершенно не понимаю принципа “искусство для искусства”: нет, искусство должно приносить пользу, — только тогда оно и имеет определенный смысл. Искусства рисовать обнаженных женщин я не признаю… Точно так же и в литературе: раз при помощи ее нельзя служить истине и добру — нечего и писать, надо бросить это занятие” [1327].
В 1892 году приходилось слышать взволнованные заключения его: “Ну и времечко настало для литературы… Пять — шесть калек, и вся она тут…” [1328].
Таков был Лесков в статьях, переписке и беседах с людьми литературного помазания. Но и совершенно чуждым последнему он не уставал внушать к литературе любовь и разумение просветляющего и развивающего ее действия.
Прекрасным образцом тому может служить приводимое ниже письмо его от 17 февраля 1891 года к скончавшейся в 1933 году в Ленинграде 3. П. Ахочинской, в то время тридцатилетней художнице, года за четыре перед тем приехавшей из Парижа, где она занималась у знаменитого А. П. Боголюбова:
“Посылаю рябчика и “Сочинения Пушкина” все в одном томе. Рябчика кушайте, а книгу положите себе прочесть от доски до доски. Это и приятно, и полезно, и необходимо, так как женщине, желающей занять художественное амплуа, нельзя щеголять всестороннею беспечностью насчет литературы — особенно родной, и в лице ее самого главного и действительно великого представителя и поэта с мировою известностью. Вам нечего читать в журналах, где бездна чепухи и дребедени, а вам надо давно познакомиться хоть с тем, что есть крупного; а у вас, к величайшему стыду и горю вашему, — нет даже этой начитанности, и через это ваши художественные способности не имеют крыл, — в них нет полета, нет фантазии, а только леностное поползновение, с которым никогда и ничего нельзя достигнуть и даже в общественном обиходе всегда предстоит неизбежная ретирада перед всякой более любознательной девушкой, уделявшей свое внимание литературе, — ибо в литературе есть царство мысли. Не отставайте ото всех, так как вы и без того уже так довольно отстали от многих, что уже и не замечаете своего умственного вращения вне курса… Подумайте о себе: выздоровление есть великая пора для душевных переломов… Человек в эти минуты способен зорко видеть себя и может давать настроение в своем духе и целях.
Для многих это было спасительно. Габриель Макс (Мах) уловил это в своей “Reconvalescente” (“Выздоравливающая”). Вы, выздоравливая, о первом спросили — о корсете… “Когда можно надеть корсет?..” Это ужасно; этого нельзя забыть, и в этом выразилась, как в фокусе, вся ваша натура… Какой ужас!.. И возле вас нет никого, кто бы мог вам это указать и поворотить взгляд ваш в себя саму!.. Что такое художница без образованного ума, без облагороженного идеала, без ясной фантазии и без вкуса, развитого чтением истинно художественных произведений?.. Это не художница, а “мастеричка”… С этим не стоит и возиться, и в ваших руках все это теперь продумать наедине сама с собою и сделать в себе перелом, а дело друзей вам на это указать, и вам напомнить о днях, которые вы губили и губите в среде ничтожной и для образования художницы бесполезной и вредной… “Полюби тишину — слух душевный вперяя в высокие думы…” “Будь глух ко всему, что ничтожно…” Вспомните Моцарта, Бетховена, Мицкевича и Лебрень или Макса и… прокáтитесь к Норденштрему, Ласточкину и Касаткину и к tutti frutti… Как тут уберечь в душе “огонь творения”; а что в искусстве можно без него сделать?! Допросите себя: с кем вы и где вы и куда по этой покатости катит вас ваше безволье? — Сделайте же над собой первую победу: прочтите всего Пушкина, потом Шекспира, а потом Вик[тора] Гюго. Это вам необходимо даже для вашего престижа при людях, имеющих образование.
Опять, — 4-ю работу со мною я должен был уступить не вам, а другой художнице… Ну не досада ли видеть — как вы “подвизаетесь”!..
На меня можете сердиться сколько хотите, — я желаю вам добра” [1329].
И именно так: всегда и всех, успешно или тщетно, Лесков стремился “поворотить” к выше всего любезной его сердцу литературе, “к солнцу”, “к царству мысли”!
ГЛАВА 6. СТАРЕНИЕ
“За новости о тех, кого я знал и помню, — писал шестидесятилетний Лесков сестре своей Ольге Семеновне 30 января 1893 года, — я тебя благодарю, но ты мне не пишешь никогда самого живого, что делается в самих этих людях: как они стареют, в чем изменяются и в чем остаются без перемен: добреют, смирнеют, простеют, или становятся важнее, гневливее, суровее?” [1330].
Вопросы действительно очень “живые”, и чем человек крупнее, тем живее и значительнее.
В безотступной необходимости с нарастанием лет добреть, или хотя смирнеть, Лесков настоятельно убеждал многих, в том числе Суворина, например еще в письме от 9 декабря 1889 года:
“Не во гнев милости вашей молвить, — в наши годы надо “сдабриваться”: в этом возрасте “ласка души красит лицо человека”. Я всегда сожалею, когда слышу о вашей сердитости… Что это такое, чтоб люди нас боялись, как беды какой? Как это себе устроить и для чего? А ведь вы не можете же не чувствовать, что люди вас боятся и оберегаются… Пожалуйста не рассердитесь, что я говорю с вами о сердитости. Мне кажется с нею оч[ень] беспокойно” [1331].
Как же изменялся, да и изменялся ли, “смирнел ли”, старея, он сам?
Применимы ли к нему (без чего, конечно, не обошлось в некоторых, типично “дамских”, воспоминаниях), как канон общепринятые уверения в умягченности к старости общеизвестной его крутости?
Без греха против правды — не применимы.
Неизбежно, год от года, побеждалась плоть, но дух противостоял и “не угашался”. О неукротимых, как встарь, вспышках гнева по сущему пустяку свидетельствует не одна чужая запись [1332].
Всю жизнь его не покидала убежденность, что без “сбора сил и страстей” нет писателя, художника, журналиста!
Какие же именно силы и страсти подразумевались тут! Физические, утрачиваемые с возрастом?
— О нет! Избыток таких сил и страстей, по природе своей преимущественно эгоистичных, скорее, вредит, порабощая более достойное чувство, снижая мысль и строй души, сердца…
Нет! Страстность нужна влекущая к служению идее, истине, общечеловеческому благу, к борьбе с “омрачителями смысла”… Вот где широкое поле для ее приложения.
Недаром пятидесятилетним человеком и широко известным писателем в одном весьма автобиографичном, не вошедшем ни в одно из так называемых полных собраний его сочинений, хорошо призабытом сейчас очерке “Дворянский бунт в Добрынском приходе” он благодарно вспоминал просвещенную орловскую помещичью семью, влиянию которой считал себя обязанным “первым знакомством с литературою, которая потом для несчастия моей жизни скоро обратилась в неодолимую страсть” [1333].
Этою страстью сердце Лескова горело неустанно и неослабно до предела жизни его, когда он, разрушенный мучительной болезнью, истерзанный жесточайшими ее припадками, находил все же силы писать “Загон”, “Продукт природы”, “Заячий ремиз”…
Физически, вопреки крепкому от рождения сложению, он сдавал много раньше, чем этого можно было ожидать.
Правда, за плечами была жизнь не пуританская, а подлинно российски расточительная.
Как у многих, если не у большинства, литературных его современников, “свеча жглась с двух концов”. Но все же дело могло меньше спешить.
Сам он свое сдавание относил исключительно к обильно обрушивавшимся на него нравственным, главным образом писательским, “злостраданиям”.
В значительной доле это, конечно, была правда.
Еще почти за год до первых проявлений грудной жабы, 15 декабря 1888 года, он писал зятю Н. П. Крохину: “Я стал очень стареться. Тут и время и неустанная работа и совершенное отсутствие какой бы то ни было радости” [1334].
Последнее было неоспоримо: удач и радостей на его долю выпало мало. Итоги личной, интимной жизни гнетущи. Два опыта создать семью привели к катастрофам, оставив лишь воспоминания “о лицах ненавистно-милых”. С “кровными” — давно или мертвенная разобщенность, или взаимно истязующая, от случая к случаю обостряющаяся, “пря”.
Друзья? Но были ли они когда-нибудь? Прошлое их не сберегло. Настоящее — не давало. Да и годились ли они на что-нибудь “тайнодуму” и “маловеру”?
Самыми давними, завязавшимися с первых лет литераторства, были отношения с Сувориным. Чего только не претерпевали они! То яростная вражда, то трудно постижимое полуприятельство, никогда простое дружество, всегда взаимное недоверие, органическая предубежденность, нерасположение.
23 мая 1883 года Лесков разъясняет их заинтересовавшемуся ими старому киевскому литературному сотоварищу Ф. А. Терновскому: “Разлада, т [о] е[сть] распри, между нами нет, но его “оппортунизм” стал такого свойства, что цикл вопросов, в которых я бы мог идти не разнореча, значительно сократился…” [1335].
28 февраля 1886 года, уклоняясь от приглашения на пир по случаю первого десятилетия “Нового времени”, Лесков доброжелательно советует Суворину: “А если бы кто-нибудь по душе спросил меня: чего же я могу пожелать вам в настоящем втором десятилетии, — то я сказал бы, что желаю вам того, что многие почитают для вас гибельным, — я желал бы вам поработать еще при лучших условиях для свободы совести и слова… Вы бы доказали тогда, что успех может принадлежать вам не в силу сторонних обстоятельств, а по праву таланта и знания своего дела. И тут успех, без сомнения, оживит нас и даст вам такие радости, которые милы и дороги при всяком благополучии” [1336].
В девяностых годах, при непостижимом попустительстве Суворина, возобновляется и неуклонно растет старая систематическая травля Лескова, главным образом со стороны В. П. Буренина. Лесков, сколько мог, старался не распространять ответственности за нее на Суворина.
20 января 1891 года он писал Л. Н. Толстому: “С Сувориным говорил по вашему поручению без всякого над собой насилия. [1337] Мы лично всегда хороши с ним, а о прочем он не осведомляется, или спросит: “Не сердитесь, голубчик?” [1338] — “Не сержусь, голубчик”. Так “голубчиками” и разлетимся. Он оч[ень] способный и не злой человек, но “мужик денежный”, и сам топит в себе проблески разумения о смысле жизни” [1339].
Несмотря на все, год спустя, 4 января 1892 года, Лесков находил еще возможным писать Суворину: “Я любил с сочувствием говорить о вас даже во всю пору моего злострадания, в костер для которого метнула и ваша головня” [1340]
Однако, видимо с истощением терпения, 11 октября того же года он возвращает Суворину все его письма при, во всей их полноте приводимы, кратких строках:
“Здесь все ваши письма, которые я от вас получал и сохранил, а теперь желаю возвратить их вам при себе. Прошу вас не объяснять этого ничем иным, к[ак] моим желанием, чтобы при какой-нибудь случайности письма эти не попали в руки людей посторонних. Н. Л.” [1341].
Несомненно чрезвычайно обрадованный такой счастливой неожиданностью, Суворин сейчас же, должно быть на этот раз вполне искренно, благодарит Лескова, а последний в первой половине письма от 12-го числа дает, может быть не во всю глубину исчерпывающее, объяснение вчерашнего своего поступка:
“Достоуважаемый Алексей Сергеевич!
Я послал вам ваши письма не в надежде получить за них от вас благодарность. Мне ничего не нужно. Я болен ангиною, которая не шутит и не медлит. Я не хотел угнетать себя мыслью, что без меня станут делать из писанных ко мне писем такое употребление, какого я не хотел. Другие письма я мог бы сжечь и быть покоен, но с вашими я не хотел этого сделать, п[отому] что знаю, что есть толки, будто я вел записки и оставлю в них расплату с людьми, которые обходились со мною не с добром. А так как это ложь, то я послал вам ваши письма, чтобы вы их уничтожили сами. Больше ничего. Благодарить меня вам, конечно, не за что. О моих письмах тоже не заботьтесь: такое или иное отношение к ним для меня уже не имеет никакой разницы. Помню, что я всегда искал мира и берег его и другим не вредил. Словом — это не важно. Мне важно то, чтобы знали, что я на вас ничего не собирал, не составлял и составлять не намеревался и не буду. Мне ничего не нужно от вас, а вам от меня, но между нами все чисто” [1342].
Одинаково ли чисто было с обеих сторон, трудно сказать: Суворин Лескову его писем не возвратил, а свои, вероятно, уничтожил.
Слухи о “воспоминаниях” Лескова ходили. Суворина они могли весьма волновать.
25 сентября 1890 года в письме к издателю “Нивы” А. Ф. Марксу Лесков даже был готов написать ему “Эпизодические отрывки из литературных воспоминаний за XXX лет”, обещая, что это будет нечто “из самой жизни вывороченное и потому более любопытное”, и поясняя, что этот материал по своей обрывочности “присвояет” издательству “возможность давать публике то, что ее заинтересует от времени ко времени… Все воспоминания, мож[ет] б[ыть], составят 15–20 листов, а по отрывкам, представляющим каждый раз нечто цельное, это можно разделить по 5–7 листов в год. С таким разделением помещение одного не обязывает издание продолжать помещение другого… а между тем я надеюсь, что публике это представит интерес” [1343].
Предположение не нашло себе осуществления. В последних известных письмах Лескова к Марксу (1891–1892 гг.) о нем упоминаний нет. В бумагах писателя нашлась любопытная рукопись в 3 страницы:
Памятные встречи
(Отрывки из воспоминаний)
Меня не раз спрашивали: правда ли, что я веду постоянные записки о том, чего был зрителем или участником в жизни? На все эти вопросы, когда они предлагались мне серьезно, я с полной искренностью отвечал, что записок не веду и ведение их считаю неудобным по двум причинам: во-первых, я не находил возможным писать о многом, что знал, так как это могло иметь неприятные последствия для лиц, до которых стали бы касаться мои воспоминания, а во-вторых, воспоминаний чисто литературного свойства я не желал писать потому, что такие воспоминания, — как бы осторожно я их ни излагал, — могли быть приняты за желание с моей стороны отомстить людям, говорившим и писавшим обо мне слишком много дурного. Как бы я ни был далек от таких намерений, как мне кажется, чуждых настроению, усвоенному мною в продолжение последних лет моей жизни, — все-таки при изложении воспоминаний о литературной семье моего времени я был бы вынужден касаться обстоятельств, наполнявших жизнь мою горечью [1344] обид, мною перенесенных, и при этом, чтобы восстановить дело в истинном свете, я должен был бы иногда защищать себя от напрасных нападок, отделяя их от укоризн справедливых и действительно мною заслуженных, а я этого делать не желаю. В нынешнем своем возрасте и разумении я нахожу, что лучше совсем не поднимать на вид старые истории, о которых еще нельзя говорить с полною свободою [1345] излагать же их, применяясь к большей или меньшей тяготе затрудняющих обстоятельств постороннего свойства, значит не рассеивать мрак, а усугублять его, вызывая новые недомолвки и споры.
Поэтому я дневника не вел и сплошных воспоминаний за время моей жизни писать не намерен. Но как жизнь моя проходила в очень интересное для русской общественности время и потому что очень многие ко мне обращаются с желаниями, чтобы я написал о более или менее замечательных встречах, сохранившихся в моей памяти, то я решился удовлетворить эти желания, представив в предлагаемых ниже строках просто записанные очерки о лицах, которых я знал и которые своими отношениями к жизни казались мне любопытными и достойными внимания, а также и способными характеризовать до известной степени направление своей среды и своего времени.
Между предлагаемыми за сим отрывками из моих воспоминаний нет никакой общей связи. Это просто случаи, которые я записываю, как они приходят мне на память, в них не следует отыскивать ничего соединимого какою-нибудь общею идеею или так называемою тенденцией.
Я пишу просто то, что останавливало на себе мое внимание и почему-либо осталось жить в моей памяти.
Читатель, который отнесется к моим настоящим очеркам так, как я стараюсь их выяснить, окажет мне справедливое снисхождение и защиту от больших требований, какие можно простирать к запискам, писанным по более цельному и широкому плану.
1. Соляной столб
о К. Н. Леонтьеве “теперь усопший”.
Его цитаты (ложные) из Ис[аака] Сирина.
О знакомстве с последователями Т[олст]ого.
Плисов — последователь Толстого.
Его история. — Рассказ от имени Плисова.
Павел и Петр — его сыновья.
Проповедь Петра в деревне. Жандармы.
Девки не выходят замуж. ХИМА. Гроза…” [1346]
“Отрывок” явно был отведен вопросам, которым Лесков оказывал не раз исключительное внимание в статьях, уже указанных в главе 2 части VI и ряде других.
Под Плисовым разумелся художник толстовец Н. Н. Ге, живший в Черниговской губернии на своем хуторе в пяти верстах от станции Киево-Воронежской железной дороги Плиски. Лесков жарко говорил почти со всеми о том, что жена Ге долго “шла” с ним по одной дороге, а потом “села” и сказала ему, что дальше идти не в силах. Драма, может быть творчески несколько усиленная, по словам Лескова, усугублялась еще тем, что один из сыновей Ге, Николай Николаевич, опростившись, жил с хорошей крестьянской девушкой, а другой, Петр Николаевич, тянулся к карьере и искал “положения в обществе”. Жена Ге скончалась 4 ноября 1891 года. Сам Ге — 2 июня 1894 года. Отсюда “Соляной столб”, подобно которому, в определенных представлениях и взглядах, по мнению Лескова, крепки были Леонтьев и Анна Петровна Ге, вероятно, задумывался для публикации не раньше кончины первого, а может быть, и второй. Во всяком случае и это начинание оказалось брошенным.
Так, мысль о сколько-нибудь последовательных, за весь литературный путь, воспоминаниях, тем более обличительных и отомщевательных, старым Лесковым не овладевала и не входила в его намерения, а “просто записанные очерки о лицах”, которых он знал, к сожалению, тоже остались невоплощенными.
Что касается до личного расположения Лескова, то в общем оно приобреталось подчас незаслуженно легко. Обидно бывало смотреть, какие Хлестаковы или Молчалины снискивали иногда его благосклонность. Правда, случалось, что некоторых из них он, вконец распознав, и изгонял, но увы, не всех.
Он говорил, что не любит “неизвестные величины”. А с хорошо и давно известными становилось нелюбопытно. Влекла новизна. Заинтересовали непрочитанные еще характеры, натуры, черты, влекли свежие впечатления. Близким тут соревноваться с пришлыми было непосильно. Величко, Пыляев, В. Бибиков, И. Ясинский, будущий подручный А. И. Гучкова и пововременский, лично неписьменный, пайщик З. Макшеев и тому подобный разновес разновременно пользовался невесть чем достигнутой благосклонностью.
Один рассказ свой Лесков назвал “Подмен виновных” [1347].
На склоне лет он стал подменять испытанных в преданности, но не безличных во взглядах и пониманиях близких на казавшихся “иже по духу” штампованных, во всем согласных приспешников.
К добру ли? На это сурово ответила жизнь горьким оскудением личного окружения.
Единственно на ком последние годы здесь отдыхал глаз и кому радовался дух — был Владимир Соловьев. Но и он заслуживал иногда осуждение стареющего и требовательного Лескова.
15 февраля 1894 года последний писал о нем М. О. Меньшикову: “Это душа возвышенная и благородная: он может пойти в темницу и на смерть; он не оболжет врага и не пойдет на сделку с совестью, но он невероятно детствен и может быть долго игрушкою в руках людей самых недостойных и тогда может быть несправедлив. Это его слабость. Вторая злая вещь есть его церковенство, на котором он и расходится с Л[ьвом] Н[иколаевичем] и где я его тоже покидаю и становлюсь на стороне Л[ьва] Н[иколаеви]ча. У Сол[овьева] есть отличное выражение: он с таким-то (напр[имер], с Тертием [1348]) “ездит попутно”. Мож[ет] б[ыть] это так и нужно, но я этого не могу; есть отвратительные “пóты” и “псиные запахи”, которых я не переношу и потому не езжу попутно, а иду с клюкою один. В этом смысле С[оловьев] мне неприятен; но я думаю, что он человек высокой честности и всякий его поступок имеет себе оправдание” [1349].
На три месяца раньше цитированного выше письма к Меньшикову, 17 ноября 1893 года, ему же Лесков неприкровенно жаловался: “Плоть и кровь” от нас отшатывается, и остаются только те, “иже по духу”. Я давно живу только этим родством и дорожу им всего более” [1350].
Кто же от кого отшатывался, кто кого от себя отглатывал? Чего стоили те, которыми дорожили?
Годами старательно велась, шла и в такие формы слагалась частная жизнь.
Литературные итоги во всяком случае много превосходили житейные. Здесь было несомненное, даже яркое признание писателя читателем и, пожалуй, даже критикою, длительно упорствовавшей в предубежденности и злонастроенности.
Начав “стареться”, Лесков в сущности ничего серьезного не предпринимал для замедления, торможения надвигавшегося старения. Советы с десятком врачей, которым поочередно отказывалось во всяком доверии, обилие лекарств, пузырьков и склянок, чуть не заполнявших два ближайших к спальному его дивану столика, и в то же время пагубное “сидничество”, неотрывность от кабинета, письменного стола, полное исключение бальнеологического и климатического приемов борьбы с быстро росшим ожирением, упадком сил, ослаблением сердечной деятельности, измотанностью “обнаженных”, или “ободранных”, нервов.
А какие прекрасные указания давались иногда другим, например “коварному, но милому благоприятелю” А. С. Суворину, хотя бы в письме от 4 марта 1887 года:
“Ваша гневность и волнения меня смущают, и если бы вы были дама, я бы, кажется, наговорил вам много слов, которые не идут нам, “двум старикам”. Т[олстой] больше, чем вы, испытывает, что с ним все несогласны, но умеет себя лечить, а вы нет. Старинное гарунальрашидство — чудесное лекарство в таких томлениях. Вы же наоборот — “сидень”, и вот “результе” вашего сидничества. Вы десяток лет не обновляете себя погружением в живые струи жизни, посторонней изнуряющему журнализму, и от того характер ваш действительно пострадал, и вы это сами замечаете и мучите себя. Купите-ка себе дубленый полушубок, да проезжайтесь, чтобы не знали, кто вы такой. Три такие дня как живой водой спрыснут.
Простите за то, что сказал от всего сердца” [1351].
Что же удерживало его самого от обновляющего гарунальрашидства, от борьбы с застойной недвижúмостью? Фаталистическое равнодушие к приближению или отдалению прихода “великого примирителя”?
О нет!.. Он любил и ценил жизнь.
Внимательно следит он, как идет дело у других. Не считаясь с тем, что Суворин на три, а В. Г. Авсеенко на одиннадцать лет его моложе, он пишет первому из них 31 октября 1890 года:
“Я вас видел в магазине, но видел, как Илья видел Егову — “задняя” ваша, когда вы уходили к Зандроку; а мешать вашему разговору с Н[иколаем] Ф[илипповичем] — не хотел. Ходите хорошо, бодро, не только шибче меня, но даже бойчее Авсеенки, который должен служить всем нам на зависть, ибо до сих пор еще “бегается”… Молодчина!” [1352]
Когда-то, на пятьдесят четвертом году своем, лечась в Мариенбаде, он срамил в письме С. Н. Шубинского русским халатом, противопоставляя последнему короткие австрийские куртки, в которых люди равных с русскими лет еще легко бегают по горам.
В зиму 1889–1890 годов, исходя из того, что “жаба” делала досадительным крахмальное белье и вообще все, что “тянет и давит”, Лесков переходит на невесомые сатиновые рубашки с пышными фуляровыми шарфиками вместо галстуков, на легкотканные жилеты и короткие пиджаки. Получалось нечто просторное, мягкое, удобное и даже нарядное. Убор нравился и отвечал всем требованиям, добросовестно выполняя их несколько лет.
Но вот, в середине 1892 года, заслуженный пиджачок заменяется надевающеюся через голову, кругом топорщившеюся блузой из пухлой лиловатой бумазеи в беленькую полоску. Коротковатая, схваченная на животе пояском, она выбивалась из-под последнего, близко повторяя “курдючки” или “перящиеся хвосты”, шутливо отмечавшиеся Лесковым в разговорах, письмах и в печати у толстовцев. Внушительная фигура строгого старика приобретала в некоторых ее поворотах нечто ребячливое.
Для выходов, говоря тогдашним военным языком, “строится” никакими лекалами не предусмотренное сооружение из черной тонкой, но плотной материи, до щиколоток, застегивающееся массой висячих петелек на левую сторону, на какие-то черные бусы. Шаг связан запашными полами. Ворот закрыт “под-душу”. Все такое, какое не носилось всю жизнь, вяжущее движения и кругом тянущее.
Наименовывается оно — азям. Заказывается у братьев Марковых в Александровской линии Апраксина двора, по Садовой улице. Особой специальностью “дома”, между прочим, являлась пошивка “русского платья”, в том числе кучерского и даже “древлего благочестия”. Сшить, однако, и здесь не сумели, так как заказ никаким известным образцам не отвечал. Вышло что-то очень уступающее пиджачку в свободе и далеко не превосходящее его в удобстве.
Брюки оставались прежние, английского материала, навыпуск.
Головным убором служил не то немецкий, не то купецкий шелковый черный картуз “куполом”, какие носили гостинодворские хозяева магазинов.
Не только о стиле, но и о каком-нибудь пошибе говорить не приходилось.
Ближние и знакомые старались не обнаружить неодобрения или хотя бы удивления. На улицах столицы и на дачном побережье встречные оказывали азяму самое бесцеремонное и длительное внимание.
Хозяин хвалил. Искренно? Неизвестно. Лесков вспоминал иногда народный анекдот о “хохле”, которые со слезами ест злую редьку и учит себя: “бачили очi що купували, так iжте ж!” Сам он нечетко ставил и разъяснял вопрос.
26 января 1893 года Л. И. Веселитской писалось: “Когда мне будет лучше, я надеюсь прийти к вам, но забыл просить у вас разрешения прийти в русском платье, т[ак] к[ак] я не могу надевать ни сюртука, ни фрака, и последний давно подарил знакомому лакею. Боль сердца у меня не переносит никакого плотного прикосновения к груди” [1353].
В том же году, задумав посетить “умную и изящную, хорошо настроенную писательницу” С. И. Смирнову (Сазонову), Лесков письмом от 28 ноября предупреждает ее: “Кроме того, я уже 4 года не ношу платья “европейского” покроя, а хожу в “азяме”, которого терпеть не могу, но он оставляет мне свободу вздоха… Могу ли быть у вас в упомянутом “азяме” — единственном платье, которое могу носить?” [1354]
Возможно, что он этот азям в душе действительно “терпеть не мог”, но в то, что тот давал “свободу вздоха”, — никто не верил, как и в какие-либо достоинства и преимущества “азяма”, надуманного к тому же на три года позже прихода “жабы”, когда она уже значительно утратила первоначальную свою лютость.
На зимнюю и осеннюю “справы” реформа не распространялась: ни полушубка, ни охабня не шилось. И добрая енотовая шуба, и степенная бобровая шапка, и мягчайшего заграничного драпа “демисезонное”, полностью “европейское”, пальто не подвергались замене.
Нет! Не в шитве тут было дело. “Так и во всем остальном. Живу — как хочу”, — записано за Лесковым [1355]. Это ближе к истоку мероприятия.
Вопреки догадкам некоторых мемуаристов, влияние Толстого в этом платьевом преобразовании исключается. Оно проведено только на шестом году личного знакомства, когда Лесков уже открыто высмеивал “водевиль с переодеванием”, разыгранный Бирюковым, Горбуновым-Посадовым, Чертковым и прочими. У него самого дело ограничилось азямом и блузой, далеко не повторившей “толстовку”. Немецкий картуз, зонтик, калоши — все неприкосновенно сохранялось.
7 января 1889 года Лесков предостерегает переводчика на немецкий язык его произведений К. А. Греве: “В Москве гостит у Льва Никол[аевича] Толстого в Долго-Хамовническом переул[ке] его и мой друг Павел Иванович Бирюков. Он морской офицер, опростившийся и ходящий по-мужицки. Я просил его видеться с вами и переговорить об одной моей повести. Я полагаю, что он к вам придет, а может быть, и не один, а с графом [1356]. Это бывало. Предупреждаю вас, чтобы не вышло недоразумения с этими мужиками. Они, конечно, не обидятся, но вам, б[ыть] м[ожет], будет досадно” [1357].
Одновременно о том же пишется и самому Бирюкову с шутливой загвоздочкой: “Одно боюсь — перепугаете вы немку [1358] своим кожухом!.. Авось она не беременна!” [1359]
Где тут быть подражательству! Если уж доискиваться корней метаморфозы, то не вернее ли всего обратиться к отеческим преданиям и памятям?
В письме к Суворину от 9 октября 1883 года [1360] Лесков ревниво относил некоторые поступки Толстого к “чудачеству в народном духе”.
Много ли в литературе русской было фигур народнее самого Лескова! Да и отчего не почудачить вольному человеку, если к тому тянут с детства воспринятые примеры, и кровь, и натура?
Издревле у многих русских людей, со сменой образа жизни и настроений, рождалось желание так или иначе “почудачить”, изменить внешность, как бы в подкрепление духовного переустроения. Стихийно — нутряным натурам последнее удавалось, конечно, много труднее, чем смена платья.
И у Лескова “азям” и блуза не изменили свойств, дававших терпкие плоды.
Самообладающий, безупречно честный и общепризнанно удобный и предупредительный в делах, редактор “Исторического вестника” Сергей Николаевич Шубинский, по личному определению Лескова, “хороший друг и милый человек” [1361], уже на четвертый год рабочих отношений, 30 января 1883 года, находит себя вынужденным защищаться:
“Многоуважаемый Николай Семенович!
С величайшим изумлением прочитал ваше письмо. В сущности на подобные письма отвечать нечего; но я позволю себе сказать несколько слов. Я думал, что в течение многих лет нашего знакомства вы меня достаточно узнали; казалось мне, что и я вас знаю. Поэтому в сношениях с вами я всегда и во всем был вполне откровенен, говорил, не обдумывая “фраз”, а просто и прямо, “от души”, в уверенности, что вы не станете подыскивать в моих словах каких-нибудь “задних мыслей”, перетолковывать их, а если что-либо, по неловкости “фразы”, и покажется странным, спросите у меня пояснения и таким образом рассеете случайное недоразумение. Вижу, что ошибался, и это весьма горько. В мои годы и привязанности не скоро делаются, и разочарования не легко переносятся. Но что делать? По крайней мере я чист и совестью и сердцем. Теперь понимаю, почему так мало встречал людей, к вам искренно расположенных. Как только такой человек появляется, вы спешите, бог вас ведает для чего, ни с того ни с сего, придравшись к самому пустяку, оттолкнуть его. Это ваш расчет, который обсуждать не буду.
Что касается “Исторического вестника”, то, конечно, совершенно от вас зависит участвовать в нем. Я никогда не отказывался от ваших статей, всегда принимал их с радушием и старался, насколько мог, исполнить ваше желание. Так будет и впредь, потому что я не способен быстро меняться и останусь относительно вас тем же, чем был и прежде, т[о] е[сть] душевно преданным.
Шубинский.
Р. S. Через три-четыре дня, когда будет сделан полный расчет по статье “Поповская чехарда”, я пришлю вам записку на получение в счет гонорара за статью “Остзейские деятели” в таком расчете, чтобы вы имели за нее до напечатания 300 рублей” [1362].
Через два месяца, 31 марта, ему снова приходится протестовать:
“Я становлюсь совершенно в тупик перед теми непонятными для меня “недоразумениями” (не знаю, как назвать это иначе), которые возникли в последнее время в ваших отношениях ко мне, и тщетно ищу причин. Редко к кому питал я столь искреннее расположение, как к вам; редко с кем был до такой степени откровенен, как с вами, поверял даже самые наболевшие места моей души; редко кому я оказывал с таким удовольствием мелкие услуги, не имея возможности оказать крупных. Во всех моих действиях, поступках, словах с вами я был всегда вполне искренен и прямодушен. А между тем что же выходит: вы с каким-то особенным упрямством стараетесь в каждом моем поступке, в каждом слове, в каждом, можно сказать, простом движении, непременно отыскать “заднюю мысль”; укорить в таких качествах, которые никогда не были сродни моему характеру, уколоть за то, в чем я не повинен ни душой, ни телом. Откуда все это явилось — не знаю; вы молчите, а я не догадываюсь. Бывали, и нередко, случаи, когда мелкая сплетня разъединяла людей, — но я думаю лучше и о вас и о себе. Не вернее ли приписать все это “нервному состоянию”, когда человек с какою-то особенною радостью придирается к пустякам и мучает преимущественно наиболее близких и расположенных к себе?” и т. д. [1363]
Об этой “зломнительности”, как мы знаем, позже писал Лесков и добряк Ф. В. Вишневский.
Впавшему однажды во всего менее приличествовавший ему тон, малозначительному Фаресову Сергей Николаевич отрезвляюще ответил: “Неужели вы не сознаете, сколько обидного сказано в этих немногих словах? Это лесковский пошиб, который всех отвернул от него…” [1364]
В конце концов Шубинский оказался вычеркнутым из душеприказчиков в завещании Лескова и переделан в “злочница”, “Сергия изнурителя”, “интрижливого” человека, “опахальщика” и т. д. “до бесконечности”, не избегнув и газетных колкостей [1365].
Почти однолеток Лескову Шубинский боится его не меньше, чем другие боялись Суворина, и уже страшится ходить к нему.
Всеми силами старавшийся не потерять спасительно выигрышную для него приближенность к Лескову, А. И. Фаресов доводится раз до героической решимости поставить все на карту. В ноябре 1891 года он пишет Лескову письмо, начинающееся словами: “Милостивый государь”, полное обвинениями за помещенную Лесковым в.№ 305 “Петербургской газеты” от 6 ноября бесподписную заметку “Голодные харчи Толстого”. Завершается письмо многозначительной готовностью “к услугам” [1366]. Дальше — хоть барьер! Первые шаги к примирению врагов приходится делать мне [1367].
Я сразу видел, что обеим сторонам, а пуще всех Фаресову, до слез хочется помириться. Без особого труда все было улажено.
28 октября 1893 года Лесков уже более чем властно пробирает этого же “фрейшица”: “Свинья все ест, а человек должен быть разборчив в том, для чего он открывает уста… Что я должен думать о том, что вы уже который раз попрекаете Гольцева тем, что он “экс-профессор”!.. Разве вы не знаете, почему он “экс”? Разве его выгнали за дурное дело?.. Разве честные и умные люди могут приводить такие попреки? Стыдно вам это, Анатолий Иванович!”
На этот раз Фаресов уже не пытался обижаться. Однако при публикации писем к нему Лескова сильно подменил текст этих строк [1368].
Образцы схожих резкостей неисчислимы. Допускались они, когда ангина, которая “не шутит и не медлит”, неустанно делала свое страшное дело и смерть стояла уже за плечами.
Все шло по-старому. Иногда точно повторялось случавшееся лет двадцать назад! Горькие уроки прошлого не остерегали.
В восьмидесятых годах завязались неплохие отношения с Ясинским. Сохранились взаимные письма [1369], затрагивавшие интимные стороны жизни Ясинского и во многом ставящие под сомнение то, как он рисует события, происшедшие между ним и Лесковым в своем “Романе моей жизни” [1370].
В 1892 году отношения уже были порваны. Казалось — кончено. Но вот тут-то и началось нечто поразительно напоминавшее происшедшее в 1873 году между Лесковым и Достоевским и рассказанное выше.
В июньской книжке “Исторического вестника” 1891 года И. И. Ясинский опубликовал “Анекдот о Гоголе”, в котором много говорилось о зависти, вызванной в Гоголе к чей-то жилетке и о холодности его с представлявшимися ему киевскими профессорами.
Лескову “анекдот” показался вздорным, и он, пособрав кое-какие сведения, посылает с дачи в “Петербургскую газету”, за полную своею подписью, “историческую поправку”, помещаемую в № 192 названной газеты от 16 июля, под заглавием “Нескладица о Гоголе и Костомарове”.
Статья привлекает к себе внимание литературных кругов. Выдержки ее проходят в некоторых газетах. В частности, в № 197 “Московских ведомостей” от 19 июля она приводится в заметке, озаглавленной “Неудачный анекдот”.
Автор ужален. Редактор журнала Шубинский обижен публикацией “поправки” не в “Историческом вестнике”, а в какой-то газетке. Дальше обижаться не было возможности: как ни неприятна и местами ни колка была статья, нарушения полемических форм в ней не было. Пришлось смириться.
Через полгода в № 1 журнала “Труд” за 1892 год начинается роман Ясинского “По горячим следам”. Лесков сразу настораживается. В № 20 “Петербургской газеты” от 21 января в любопытной бесподписной заметке “Евреи и христианская кровь” он вспоминает гейневского “Бохеронского раввина”, сомнительного Лютостанского, Н. И. Костомарова и В. Крестовского. Заметка указывает на трудность “при развитии и обработке” такого “щекотливого сюжета” соблюсти “такт” и остеречься от “натяжек и пристрастий”.
Острое, досадительное предостережение автору на первых же главах. Дальше, как бы идя по его пятам, в чем бы и где бы он ни промахнулся, на него одна за другой сыплются бесподписные “поправки” Лескова в “Петербургской газете” 1892 года, язвительность которых ясна по одним их заглавиям: 18 марта в № 76 — “Цицерон с языка слетел”; 4 апреля в № 93 — “Négligé с отвагой”; 12 апреля в № 99 — “Опять Цицерон”.
Не слишком глубокий в знании описываемого им быта и событий, Ясинский приходит в ярость и отвечает злым письмом в редакцию “Петербургской газеты”, появляющимся там 16 апреля в № 103. Выпаду нельзя было отказать в хлесткости. Чувствовался навык в газетных схватках.
Лесков обиделся на худяковский “орган”. По пословице о блохах и кожухе — он на два года порвал отношения с газетой, в которой любил помещать небольшие злободневные статейки.
“Старость должна быть осторожна”, — учил шестидесятилетний Лесков свою на пятнадцать лет младшую сестру Ольгу. Лично следовать прекрасному правилу и тем оберегать себя от обидно ненужных и неприятных столкновений — не удавалось. Усилия “переделать себя” в Лескове были неуловимы.
Ни “распаленность” настроения, ни крайность речевых форм не говорили об ослаблении горения духа. Все шло и было по-прежнему ярко и неукротимо. Каков Лесков был смолоду — таким оставался он во все дни жизни.
Возможно, что где-то в тайниках души он и сам не уповал перевоспитывать себя или хотя несколько умягчиться.
При малейшем к тому поводе он с восхищением говорил о героической работе над собой Толстого. Он настойчиво упоминал при этом о больших изъянах толстовского нрава и обычая в молодости и с умиленным удовлетворением указывал, как все они были побеждены силою толстовского духа и воли.
И как-то само собою слышалось здесь горькое сознание, что такой подвиг, увы, требует не всем посильного мужества.
Толстой внес в свой “Круг чтения”, на 19 ноября, наставление Джаманада (Джамадагни?):
“Пусть каждый человек сделает себя таким, каким он учит быть других. Кто победит себя, тот победит и других. Труднее всего победить себя”.
Неоспоримо.
8 декабря 1894 года Лесков горячо возражал своей свояченице, Клотильде Даниловне Лесковой, писавшей ему, что он “заслуживает любовь”, доказывая ей, что в нем “ужасно много дурного и особенно много эгоизма и гордости”, и просил ее указать ему его “плохость”, дабы он мог “исправить” ее [1371].
Охотников и смельчаков выполнять такие просьбы не находилось.
Тем не менее, стареющему, ему искренно хотелось убедить себя, что с годами он все же в чем-то поборал, умерял и умягчал свою “нетерпячесть”… Думалось, что как-никак, а к “выходным дверям” он подходил “хоть малость” иным, чем “вступил в этот класс, отправляясь от какого-то жестокого места и с прескверным воспоминанием себя в прошлом”.
Это утешало, мирило с самим собою и исполняло надеждою на возможность дальнейшего “усовершения” себя.
Но тут же прорывалась и безнадежность: “Сам от себя не уйдешь!”
Читая изречения Гёте, он радостно останавливается на как бы подтверждающем его собственное, за самим собою сделанное, наблюдение: “Надо постареть, чтобы стать добрее; я не встречаю никогда ошибки, которой уже я не сделал бы”.
Первая часть, охотно отнесенная к себе, сочувственно подчеркивается. Вторая, с непритязательным гетевским признанием своих ошибок, не склоняет к разделению [1372].
“Изменить себя я не могу иначе, как убив себя, и пока я не ничтожество — до тех пор я всегда буду мною самим”, — писал он давно и не переставал так чувствовать никогда.
Без тени противоречия этому, от души писал он и Л. Н. Толстому 19 сентября 1894 года, уже у края жизни:
“А я был, есть и, кажется, буду всегда нетерпячий” [1373]
ГЛАВА 7. “РАСПРЯЖКА”
Если бы смерть была благом,
Боги не были бы бессмертны.
Сафо.Мысль о смерти — об “интересном дне” [1374], о “страшном шаге [1375], или, по-толстовски, о “распряжке и выводе из оглобель” [1376] — была близка Лескову издавна, даже в годы, когда он не знал никаких недугов, усталости, не успел “пресытиться днями” и “терзательствами” жизни…
Естественно, что с годами, упадком сил и умножением болезней вопрос о возможности прихода “ужасной силы Разлучника” [1377], который “уводит человека, оставляя на земле последствия его ошибок” [1378], влек к себе все острее и напряженнее.
На пятьдесят девятом году, сравнительно далеко от “пробуждения от сна жизни” [1379], Лесков с элегическою примиренностью пишет пользовавшемуся особым его расположением зятю Н. П. Крохину: “Андрей переведен… Полковой командир и командирша к нему оч[ень] ласковы. Приглашают его на обеды… и на балы, — он же посылается по наряду и на балы гвардейских полков. Сам он вполне доволен своим положением, и я им, слава богу, доволен. Теперь он уже и сам смеется над своим франтовством и танцмейстерством. Все понемножечку зреет, а мы стареемся, — даже и не понемножечку. Надо беречь бодрость душевную — бодрость ума и живость чувства, как доберегла до 85 лет скончавшаяся на сих днях Татьяна Петр[овна] Пассек. Посмотри ее портрет в № “Иллюстрации”, который выйдет в субботу, 8-го числа. Там и моя статья о “литературной бабушке” [1380]. Умерла молодцом! — “Уплыла” На предложение Прибытковой “позвать попа” — отвечала:
— Отойди!.. Что меня учишь!.. Духовный мир мне не чужд… Я знаю, что нужно и что не нужно. Ночью позвала Гатцука [1381] и сказала:
— Хорошо… Я плыву… Перебирай аккорды гитары!
Тот стал перебирать аккорды, а она “уплыла”. Жила умницей н “уплыла” во всем свете рассудка, без слез, без визгов и без поповского вяканья.
“Такой конец достоин желаний жарких”. В моей статейке найдешь намек на желание Толстого в отношении похорон. Уходят люди больших умов и смелых, непреклонных в своем убеждении. Народи бог на смену им лучших еще”.
Дальше, сообщая о ходе подписки на издававшееся тогда им собрание его сочинений, Лесков, с характерным для него переломом тона и настроения, переходит от углубленно-духовного и выспреннего к самому житейно-простому, живому, “дневи довлеющему”, весело заключая послание в нарочитой речевой шутливости: “Не робей, воробей!” Я и не робею” [1382].
Чувствуется редкая умиротворенность, удовлетворение отменным успехом издания собрания сочинений, признанием автора читателем, которого критика оказалась уже бессильной “поссорить” с писателем…
Но на душе непокойно: предвидится опасность, разрешающаяся меньше чем через полгода арестом шестого тома собрания сочинений. Потрясение вызывает заболевание ангиной, “которая не шутит и не медлит”. С этих пор, с августа 1889 года, резко ускоряется приближение к “выходным дверям”, определяется вид обреченности. Это освещено выше главой “Angina pectoris”; на эту же тему Лесков много говорит в письме к Суворину от 30 декабря 1890 года:
“Я получил ваше приглашение, Алексей Сергеевич, — встретить с вами новый, 1891 год. Благодарю вас за внимание и ласку и прийду к вам. “Двистительно” [1383] — никому не ведомо — придется ли нам еще раз “встретить” этот день на этой планете… Радуюсь за вас, что мысль о “великом шаге”, по-видимому, все сильнее дружится с вами и даже, б[ыть] м[ожет], уже “сотворила себе обитель” в вас… На свете есть много людей, которые ее боятся и гонят от себя, а как это жалостно и как напрасно! Она оч[ень] сурова, но как только сроднишься с нею, так она словно будто делается милостливее… А между тем в ней кроется самая могущественная сила утешения и усмирения себя. Кроме смерти, в известном возрасте все становится оч[ень] мелким и даже не волнует глубоко. У аскетов читал, от вдумчивых стариков слыхал, и Л[ев] Н[иколаевич] мне сказывал, что самое нужное — это смириться (т[о] е[сть] войти в лады) с мыслью о неизбежности смерти. Я с нею ложусь и встаю давно, и с той поры как сжился с нею — увидел свет: мне все стало легче, и в душу пришла какая-то смелость, до тех пор неизвестная. Л[ев] Н[иколаевич] говорит, что потом “должен прийти невозмутимый покой”, но я чувствовал это только раз и на короткое время; но зато это было удивительное состояние такого счастия, что я даже испугался и стал насильственно вспоминать, что есть для людей утраты любимых лиц, обиды и муки… Восточные люди говорят, будто любят “беседы о смерти”, и, м[ожет] б[ыть], оттого они спокойнее нас, но и у англичан не считается неуместным говорить о смерти, и есть мнение, что англичане умирают не хуже, а лучше наших простолюдинов; но наши “средние люди” ужасно дичатся смерти, которая зато ловит их, как курчат, и рвет им головы, тоже как курчатам… Это состояние оч[ень] жалкое, и так наз[ываемая] “набожность” — в нем решительно ничего человеку не помогает… Помните, как у Алексея Толстого: “меня, как хищник, низложила!” Так все и отлетит прочь — все мечты и упования. Освоение же с ожиданием этой гостьи помогает оч[ень] много. А потому я оч[ень] рад, что замечаю у вас все чаще и чаще склонность заглядывать за край того видимого пространства, которое мы уже достаточно исходили своими ногами… Почему непременно все выражать друг другу желание жить “много лет”, когда это очевидно не может быть?! Неужели менее радушно пожелать человеку: легко и небезрассудно кончить здешнюю жизнь, с ясною верою в нескончаемость жизни? Есть ли это у вас? Без этого, как без якоря, все куда-то мечет и швыряет” [1384].
Врожденное предрасположение к мрачности, мнительность, неразрывная с большим жизнелюбием, и жажда как-нибудь заглянуть за “тот край” всегда влекли Лескова к разговорам о смерти и со сторонними и с родными, хотя бы с еще почти юным сыном. По мере повышения хворости беседы на смертную тему становились как бы коньком.
А смерть не дремлет: нет уже большинства родных, сходит в могилу ряд даровитых писателей — современников, частью былых опасных, но уважавшихся противников. Об их “шеренговом” смертном “марше” удрученно пишется Толстому [1385]. Все сильнее чувствуется собственная обреченность. Становится сиро, холодно. Хочется тепла, приветливого, сердечного слова. Перебирается в памяти, кто еще сохранился из тех, с кем начинал жить, с кем связаны воспоминания молодости, всего больше детства. Растет жажда как можно больше знать о них, воскресить опрометчиво порванное дружество. Отсюда уже один шаг до нового обретения друг друга. И вот оживают казавшиеся омертвевшими отношения с последнею сестрою.
Должно быть к собственному удивлению, это совершается легко и просто. Без труда забывается “родственная жвачка” и многое, пожалуй напрасно гневившее тогда, когда не знал, на что тратить избыток личных сил. Теперь их уже мало, как мало и дней впереди и тех, с кем они делились на заре жизни.
Все перестраивается по-новому, по-стариковски, в суеверных предощущениях, в духовной подавленности, в мистической настороженности. Повелевает всего сильнее последняя.
Намекая, что у некоторых “одоболело сердце”, жалуясь, что “холодным духом смерти несет” от беспричинного и неосторожного разъединения когда-то близких людей, Лесков 14 февраля 1894 года пишет:
“Любезная сестра Геннадия!
Я получил твое письмо и был очень рад иметь о тебе известие. Я никогда не почитаю это за маловажное и бесполезное, а, напротив, в общении людей вижу большую для них пользу, а в отчуждательстве и прекращении сношений — ясный и очевидный вред. Поэтому я следую тем людям, которые всегда отвечали на все письма, и этому я был обязан в жизни многими превосходными минутами. Не думай, чтобы твое письмо меня когда-нибудь не интересовало: я всегда ему рад и, если могу, — немедленно отвечу. Пустого и незначительного в жизни нет ничего, если человек не полагает свою жизнь в суете, а живет в труде и помнит о близкой необходимости снять с себя надетую на него на земле “кожаную ризу” и идти неведомо куда, чтобы нести наново службу свою хозяину вертограда. То, что ты думаешь, то и стоит обсудить. Ты думаешь, что заведовать школою без вознаграждения — не хорошо, а это-то и хорошо. За учебу вообще грешно брать плату. Сказано: “пусть свет наш светит людям”; и еще: “вы даром это получили — даром и отдавайте”; и еще: “если здесь вам заплатят, — то уже это и будет оплачено”, и еще много, много все в том же духе. Народ бедный, темный, а он все платежи несет и изнывает под тяжестью, где же с него еще новые платежи тянуть! Потрудись, поучи ребяток: они детки божий, и богу угодно, чтобы “все приходили в лучший разум и в познание истины”. Давай-ка подумаем: хорош ли наш разум, и сами-то мы в истине ли, а еще не во лжи ли?.. “А ты, который думаешь, что ты стоишь, — гляди, чтобы ты не упал”. Не жалей, сестра, платы за грамоту. Это не надо. — О молитвах скажу тоже: похорон с пышными обрядами я, конечно, не оправдываю и считаю их за дело, непристойное христианам: мертвое тело довольно поглубже зарыть, чтобы оно не заражало вонью воздух, которым дышат живущие на земле. Христос относился к похоронам не только с равнодушием, а даже пренебрежением и сыну, который хотел идти хоронить своего отца, ответил: “Пусть мертвые хоронят своих мертвецов…” Итак, это есть дело пустое, как ты правильно думаешь; но и то, что ты почитаешь за полезное для умерших, тоже не имеет подкрепления в слове божием, и человек имеет полное право верить этому, как ты веришь, или не верить, как не верил этому наш покойный отец и не верят многие люди, не худо исполняющие во всем волю божию. Перед богом не может ничего значить, кто за кого просит и за какую цену этак очень старается, чтобы переменить божие решение. Будем верить, что хоть у одного бога суд его праведен и никакой наемный адвокат у него ничего своею хитростию не выиграет и никакой наемный певец не выпоет, чего не заслужил покойник; а совершится над всяким усопшим суд нелицеприятный и праведный, по такой высокой правде, о которой мы при теперешнем разуме понятия не имеем, а как же мы посмеем дерзать на то, чтобы влиять на то, чтобы что-то переменять! Так и думать не только не благочестиво и страшно, а и грешно.
Н. Лесков”. [1386]
Какой сдвиг! Нашлось уже о чем говорить и с “невразумительною”! Захотелось и ей изъяснить не во всем простые указания малопостигаемого ею евангелия. Хочется оказать искупительное внимание, ласку пренебрегавшейся столько лет!
“Пустого и незначительного” в отношениях с людьми, независимо от их малости и слепоты, — нет! Все ценно, достойно бережи, снисхождения.
Осеняет арамейское “еффава” [1387] — раскрытие сердца, просветление духа, отверзание разумения.
В канун шестьдесят четвертой своей годовщины, в предсмертные почти свои дни, 3 февраля 1895 года Лесков растроганно благодарит Геннадию за только что полученное от нее поздравление его с днем рождения и именинами.
Давным-давно поздравления с “нарастанием лет”, полных изнурительного труда и “всяческих терзательств”, не проходили никому даром, раздражали. Сейчас сестрина память растрогала: и невеликое дело, а теплом повеяло. Спасибо старухе… Ведь чуть было не растерялись совсем! Ну и хорошо! Значит, и “в новом существовании” друзьями встретимся. Хорошо!
Затронув вопрос о неизбежности смерти, он ободряюще пророчит ей: “Может быть, так легко выпряжешься, что и не заметишь, куда оглобли свалятся” [1388].
Собственное самочувствие он еще 24 сентября 1893 года образно определял в письме к Л. И. Веселитской: “Все чувствую, как будто ухожу” [1389]. А за десять месяцев до того, как сбросить “свои оглобли”, 18 мая 1894 года, ободрение писал Толстому:
“Истомы от дыхания недалеко ожидающей смерти я теперь по милости божией не ощущаю. Было это позапрошлой зимою, и вы мне тогда писали, что тем я как бы отбывал свою чреду. Пока оно остается так. Думы же о смерти со мной не разлучаются и приходят моментально, даже в первое мгновение, когда проснусь среди ночи. Я считаю это за благополучие, т[ак] к[ак] этим способом все-таки осваиваешься с неизбежностью страшного шага. Из писавших о смерти предпочитаю читать главы из вашей книги “О жизни” и письма Сенеки к Луцилию. Но как ни изучай теорию, а на практике-то все-таки это случится впервые и доведется исполнить “кое-как”, т[ак] к[ак] будет это “дело внове”. Надо лучше жить, а живу куда как не похвально… А в прошлом срамоты столько, что и вспомнить страшно” [1390].
При отвращении, какое питал Лесков к “коекакничанью” в чем бы то ни было, не хотелось оплошать и в отклике на “трубу”.
В складе личной жизни, как и в приемах работы уже давно совершены большие преобразования. “Творить” в тиши и безмолвии глухой ночи, непрерывно закуривая и бросая недокуренными душистые папиросы, изредка прихлебывая давно остывший, как мюнхенское пиво, крепкий чай, нервно ходя из угла в угол или подолгу останавливаясь у окна и всматриваясь в сумрак заснувшей улицы, — забыто уже с середины восьмидесятых годов. Так писались когда-то “Соборяне”, “Запечатленный ангел”, “Очарованный странник” в кабинете, глядевшем на пустынный и темный Таврический сад…
Теперь работе отводится утро и начало дня, часов до двух. Затем выезд в город по неотложным делам, посещение приятелей-букинистов, прогулка в “Тавриде”, легкий растительный обед, отдых, вечер за чтением, иногда “правка” чего-нибудь готового, корректура, чаще всего — беседа с нередкими посетителями и — уж совсем редко — поездка “в гости” к кому-нибудь из неотступно к себе приглашающих и о посещении “генерала от литературы” просящих.
У себя дома званые сборища бесповоротно отменены. “Вечерние столы” забыты. В кабинет в десятом часу подается “достархан” — чай с набором сластей, с “кантовской” шепталой, фигами, абрикосами, пастилой и мармеладом, а иногда и с несколько приторным и очень приятным “самосским” или “сантуринским” вином, далеко не всех пленявшим своим своеобразием.
Хозяин, живший уже в вечном страхе припадков “жабы”, оставив “гадкие привычки прошлого”, перешел на “безубойное” питание и прекратил “накачивать в свое тело табачный дым”. По письмам его к неотказавшимся еще от многих прежних привычек родным, от этого у него и другим “весело, трезво, чисто стало”.
Осужденному на полуаскетическое житие, недугующему Лескову не возражали. Однако в тайне помыслов своих далеко не все разделяли порицание отошедших в прошлое обычаев, когда увлекательные беседы протекали не за единым чаем с “философской” шепталой, но и за радушно предлагавшимися гостям “пшеницей, вином и елеем”. Когда хозяин, подъемля тонкого стекла фиал, внимательно озирал на свет переливчатую игру его содержимого, слегка колебал его для повышения летучести эфирных масел, по-знатоцки оценял их “букет” и, возгласив “благословен насадивый виноград”, в веселии сердца подносил сосуд к неотрицавшимся вина устам.
О безвозвратности жизнеполных времен и о пришедших им на смену болестях скорбели, но хулить старое нужды не видели.
За полночь не засиживались, хотя и жаль было уходить, отрываться от всего захватывающей, интересной, нежданно-новой в своей сути и яркости, беседы. Но… как ни бодр был дух, утомленность плоти сказывалась и могла обойтись поторопившемуся состариться Лескову дорого.
Да он и сам сознавал жизнь в большинстве ее возможностей позади. В настоящем, как он писал 23 сентября 1892 года старому сподвижнику молодых орловских утех, В. Л. Иванову, была “не жизнь уже и даже не житие, а только именно пребывание” [1391].
Злой недуг и ясно воспринимаемое ощущение общего своего разрушения заслоняют все.
Незначительной представляется даже так долго, много и остро терзавшая критика.
Собственное существование воспринимается, по толстовскому определению, “как на поезде после третьего звонка”: “ни с знакомыми говорить, ни за буфетом чавкать уже некогда, а подбери к себе свое путевое поближе и сиди… вот-вот свистнет, и покатим” [1392].
Надо, пока не свистнуло, управиться с чем удастся.
Подбирается поближе “путевое”. Делаются усилия успеть развязать хоть некоторые из обильно завязавшихся на жизненной нити узлов. Но, “по свойствам души человеческой”, одновременно завязываются и новые… Не оглянешься, как уже не стоишь, а опять упал… Ужасно досадно! Но “от себя не уйдешь”.
Путь к “выходным дверям” труден и страшен, как видевшийся раз в смертной истоме “суживающийся коридор”.
Заботит положение разоряющейся и уклоняющейся от переписки дочери. Спасибо, есть еще нестроптивая и на услугу всем безотказная душа — “Крутильда”. На ее, по обычаю, скорый и готовный отклик Лесков, во многом не соглашаясь с нею, пишет 8 декабря 1894 года, за три месяца до своей кончины:
“Уважаемая Клотильда Даниловна!
Очень ценю, что вы продолжаете писать ко мне, несмотря на свои хозяйственные хлопоты и на свою нелюбовь к переписке (если я в этом не ошибаюсь). Вы доставляете этим мне удовольствие знать о ближних по крови… О том, что я будто “заслуживаю любовь”, — я с вами не согласен. Никто не имеет обо мне такого верного понятия, как я сам, и я знаю, что во мне ужасно много дурного и особенно много эгоизма и гордости. Как можно, чтобы меня любили другие, когда я и сам-то себя терпеть не могу! Вы мне лучше не это говорите, а говорите о том, что вам видно во мне гадкого, и дайте мне это пообдумать и попробовать исправить в себе мою плохость! Вот это будет приязнь и благодеяние!.. И если при таком понятии человек не скучает жизнью, а трудится, то он действительно счастлив и доля его прекрасна. Если бы жизнь меня баловала, я бы, вероятно, гонялся за теми же призраками, за которыми гоняются другие, и жизнь моя теперь была бы гораздо беспокойнее, тревожнее и… глупее. Подумайте над этим одну минуту, и, может быть, вы увидите, что это действительно так, как я говорю. Впрочем, да дарует вам бог все то, что нужно и полезно для достойных исполнения ваших желаний” [1393].
Единственный уже, последний брат упоминанием в письме обойден.
В Петербурге близится юбилей распространеннейшого журнальчика, издававшегося А. Ф. Марксом, “Нива”. Лесков иногда сотрудничал в нем. Предстоит поздравлять издателя. 16 декабря он пишет С. Н. Шубинскому: “Я еще перелистовал “Ниву” и все искал там добрых семян для засеменения молодых душ и не нашел их: все старая, затхлая ложь, давно доказавшая свою бессильность и вызывающая себе одно противодействие в материализме. Как бы интересно было прочесть сколько-нибудь умную и сносную критику изданий этого типа, которые топят семейное чтение в потоках старых помой, давно доказавших свою непригодность и лицемерие. Не могу себе уяснить, чтó тут можно почтить поздравлением?! Разве то, что, может быть, можно бы издавать и хуже этого… но может быть, и нельзя. Впрочем, по “Игрушечке” судя — можно”. А 17-го числа, говоря о том, что журналы должны способствовать “уяснению понятий”, добавляет: “Такие издания были, есть, и их будет еще более, ибо “разум не спит” и “у науки нрав не робкий — не заткнуть ее теченья никакой цензурной пробкой”. Вы должны бы помнить, кажется, “Рассвет” Кремпина… Вспомните-ка и посравните его с “Нивою” или “Игрушечкою” и всем сему подобным дерьмом, которое вы, однако, хотите почему-то ставить выше совершенно равной им “Родины”. Это не хорошо” [1394].
Наступает 1895 год. 28 апреля исполнится 35 лет литературной работы. Полная выслуга на всех видах службы: полная пенсия, награда чином, почетными знаками, отставка, дожитие на отдыхе, на покое.
Лесков задумывается: опять, поди, досужие доброхоты засуетят с юбилеем, с чествованием, с парадом! Надо заблаговременно все это пресечь и отвратить. Им ведь лишь бы пошуметь, а о том, какое сметьё и сколько горечи поднимет все это в душе, подумать невдомек! Забыли уже, как я отклонял какие-либо “оказательства” и двадцатипятилетнему и тридцатилетнему срокам своего служения литературе! [1395] А сейчас я уже и совсем хворый старик. С меня довольно, если обо мне не зло вспомнят и искренно пожелают тихо дожить до своего “интересного дня”. В этом я увижу оправдание моей трудовой жизни и признание ее небесполезности.
2 января он пишет Суворину: “Ко мне опять приступают по поводу исполняющегося на днях 35-летия… С этим заходили и еще к кому-то и оч[ень] м[ожет] б[ыть], что зайдут к вам. Я всеусерднейше прошу вас знать, что я ничего не хочу и ни за что ни на чей зов не пойду, а у себя мне людей принимать негде и угощать нечем. Вы окажете мне одолжение, если поможете тому, чтобы меня оставили в покое, пожалуй, даже в пренебрежении, к которому я, слава богу, хорошо привык и не желаю его обменивать на другие отношения моих коллег, ибо те отношения будут мне новы и, может быть, менее искренни. Старику лучше, т[о] е[сть] спокойнее, придержаться уже старого и хорошо знакомого. Я уверен, что вы не усумнитесь в искренности и в твердости моего отказа и скажете это, если к вам отнесутся с какою-нибудь затеею в этом роде” [1396].
На другой день, 3 января, посылается письмо и Шубинскому:
“Уважаемый Сергей Николаевич!
О[чень] мож[ет] б[ыть], что к вам обратятся с какими-нибудь предложениями по поводу испол[нения] 35 лет моих занятий литературою. Сделайте милость, имейте в виду, что я не только не ищу этого (о чем, кажется, стыдно и говорить), но я не хочу никого собою беспокоить, и не пойду ни в какой трактир, и у себя не могу делать трактира. А поэтому эта праздная затея никакого осуществления не получит, и ею не стоит беспокоить никого, а также и меня. Преданный вам
Н. Лесков” [1397].
Вопрос категорически и полностью снят с обсуждения.
6-го числа ему выпадает прочитать в № 6773 “Нового времени” очередное критическое умозаключение о себе, высказанное неукротимым Бурениным, в котором, между прочим, говорится: “А ведь Писемский как романист, бесспорно, выше целою головою многих здравствующих сочинителей, вроде гг. Лесковых, Потапенок, Маминых, Альбовых, не говоря уже о прочих, их же имена ты, господи, веси”.
Таков был привет суворинской газеты в предъюбилейные месяцы. Как-никак, а раздражения он стоил.
Мистически весьма несвободный, Лесков не раз намечал себе вероятные сроки смерти своей. Ждал он ее почему-то в 1889 году, потом перенес на 1892 год. И все, милостию судеб, миновало. Дожитие теперь до апреля месяца ни для него лично, ни для заботников об ознаменовании чем-либо юбилейной даты не являлось никаким вопросом.
Наступившее уже более года смягчение приступов жабы принималось и им самим и всеми близкими и дальними как признак облегчения общего состояния и радовало.
— Как думаете, — говорил в хорошую минуту Лесков, потирая ладонями обеих рук нос, — пяток лет, может, еще и потянем? А там и в путь! Жить и до семидесяти довольно! Дальше уже даже и не житие, а одно тягостное труждение. Хватит!
И все вместе с ним радостно приветствовали в мыслях своих казавшуюся пришедшей победу могучего организма над всеми терзавшими так долго недугами, нимало не постигая, что в действительности налицо были лишь ослабление всех явлений, в том числе и болевых, и что все это вместе взятое выражало не исцеление, а угасание.
Смерть нередко оказывает милость, подходя незаметно именно тогда, когда ее считают согласившейся на хорошую отсрочку.
Она не пугала, и верилось — ушла куда-то далеко.
Так начинался, оказавшийся последним, год жизни Лескова.
18 января, в Варшаве, умер В. В. Крестовский. Газетные извещения пробуждают в Лескове много воспоминаний, навевают грустные мысли. “Всеволод” моложе на девять лет. И вот его уже нет!..
В подошедшее воскресенье, 22-го числа, за вечерней беседой в писательском кабинете помянулась и кончина Крестовского.
— Зоря! — удивленно и укоризненно воскликнула, обращаясь к мужу, “названная дочка” Лескова, В. М. Макшеева, — почему же ты не сказал мне, что он умер?
— Верочка, — с грустным укором вступился Николай Семенович, — нельзя же, милая, простирать свое презрение к литературе до нежелания читать даже объявления о покойниках в “Новом времени”!
Тем временем, пользовавшаяся особым уважением Лескова, издательница “Северного вестника” Л. Я. Гуревич, получив от Толстого рукопись повести “Хозяин и работник”, выслала автору “на правку” спешно изготовленный оттиск, а второй его экземпляр дала на прочтение Лескову. Создалась эра восторгов и неустанных разговоров о новом произведении “драгоценнейшего человека нашего времени”. Особенно пленяла картина духовного перелома в хозяине, сперва стремившемся спастись, бросив работника, а затем охватываемом самоотверженным желанием спасти этого работника, хотя бы ценою собственной гибели. Так мог учить только истинный “сосуд божий”, который видел в Толстом Лесков. Восхищению не было пределов. Это была последняя литературная радость, “именины души” Лескова, торжество духа!
Посвященный во все таинства получения толстовской повести и ее набора для мартовской книжки дружественного журнала, равно как и в вызревание “нового религиозного сочинения”, то есть катехизиса Толстого [1398], Лесков не мог не поделиться этой драгоценной осведомленностью с широкой общественностью.
Вероятно, он посылает Суворину помещенную в № 6794 “Нового времени” от 27 января 1895 года в “хронике” коротенькую заметку, а на другой день, 28 числа, в № 27 “Петербургской газеты” появляется уже совершенно бесспорная, бесподписная лесковская статейка: “О повести Толстого”.
В ней, между прочим, говорится:
“У графа Л. Н., говорят, теперь исполнены две очень замечательные работы, одна от другой совершенно независимые: одна — повесть, а другая — очень важное сочинение в религиозном духе. Это последнее сочинение, как уверяют люди, способные понимать дело, должно представить собою свод и завершение всего, написанного Толстым в этом, особенном роде. “Вытащено на свет из сундука”, как шутил Тургенев… Объем всех этих сочинений полностью нам даже неизвестен… Ясно только, что азарт этот [1399] велик и что дело доходит уже до чего-то легендарного. А еще более всего он непонятен: о каких исключительных правах может идти речь, когда известно всем, что Л. Н. Т. от права собственности на свои новые сочинения отказался!”
Радостно вспоминается здесь и чудесный “сундук”, как источник больших знаний.
Прочесть повесть в окончательной ее правке Толстым Лескову не пришлось…
В январе же Лесков ставит свою подпись под просьбой группы петербургских литераторов Николаю II о “принятии под сень законов” литературы, терпевшей своевластие Главного управления по делам печати, министров внутренних дел и различных административных органов и деятелей. По тем временам обращение к царю по такому поводу являлось гражданским актом не малого значения[1400].
Не уставал он в эти же дни по-прежнему “заступаться” за Толстого в беседах, как и в письмах хотя бы к литературно и малозначительным людям.
Жил-был в Вильне военный юрист А. В. Жиркевич, сотрудничавший в “Ниве” А. Ф. Маркса, благодарно приявший отсюда псевдоним “Нивин” и всемерно домогавшийся переписки с Толстым и Лесковым. Обижаясь, что первый ему не всегда отвечал, он налегал на Лескова. Последний нес этот крест до 31 января 1895 года, когда писал ему в явной надежде внушить бесплодность дальнейших письмовых его посягательств:
“Уважаемый Александр Владимирович!
Я никак не могу попасть в тон, чтобы написать вам хоть один такой ответ, который бы вас удовлетворял и успокаивал. Это меня ставит в затруднение, как быть. Книгу вашу я прочел, потому что вы мне ее прислали, а прислали вы ее, вероятно, с тою целью, чтобы я ее прочел. Здесь ничто не могло нарушить вашего спокойствия. Желание ваше в отношении рассказа я постараюсь исполнить. Ни о “гениальности”, ни о “воровстве” стихов я вам ничего не писал и очень удивляюсь, зачем вы мне это приписываете. Человеку довольно отвечать и за то, что он сделал. Названием стихотворения А. Толстого ошибся, но это нисколько не важно и дела не изменяет: все дело в цитованном стихе, который схож с вашим. О том, что Лев Николаевич знает эти стихи и писал о них, я ничего не знал. Л[ев] Ник[олаевич] говорит людям что нужно прямо в глаза, а заочно о них не пересуживает. В том, что он есть “лучший из людей”, я с вами совершенно согласен. “Мундир” ваш, конечно, не мог рассчитывать на его благорасположение, и я не знаю: о чем тут можно спорить? Симпатии Л[ьва] Н[иколаевича] не на стороне воюющих и не на стороне обвиняющих и судящих; но вести об этом особые споры с каждым человеком, который сказанным не убеждается, а хочет доходить до всего сам, — Л[ев] Н[иколаевич], понятно, не может. На это недостало бы его сил и времени, которые нельзя раздробить, а надо сберегать и пользовать им возможно большую аудиторию. Следовательно, всего вероятнее, он не “отвернулся” от вас с обидой или неудовольствием, а ему невозможно оторваться от дел и следить за эволюционизмом ваших борений. Он, конечно, знает, что вы знаете все, что надобно знать для того, чтобы прийти к надлежащему решению, и потому за вас опасаться нечего: вы придете туда, куда лежит ваш путь. “Где ваше сокровище, там будет и ваше сердце”. Между этим все остальное имеет характер спора, а “аще кто мнится спорлив быть, мы такого обычая не имеем” (1. Коринф, 11, 16). Всякому дан свет, и иди с ним, а спорить трудно, тяжело и, наверное, бесполезно. Желаю вам всего доброго.
Ник. Лесков” [1401].
4 февраля, в день “списателя канонов” Николы Студийского, в шестьдесят четвертую годовщину рождения Николая Лескова, поздним утром на мягкой оттоманке у него сидел, пришедший поздравить деда, 2 1/2-летний его внук.
Лесков был неузнаваем. Забывая все свои недуги, он ползал по ковру, умиленно поднимая и подавая младшему из Лесковых вещицы, которые последний святотатственно брал со святая святых — с писательского письменного стола! Случайные гости, не веря своим глазам, дивились благорастворенности, светившейся в обычно гневливых глазах хозяина. Сколько бы раз внук ни бросил только что поданную ему дедом безделушку, тот торопился сам разыскать ее на полу и снова вручить баловнику. Попытки невестки, опасавшейся утомить больного свекра, увести сына, вызывали горячий протест и трогательные просьбы старика побыть у него подольше. И вообще всегда при всех свиданиях с внуком в Лескове, вопреки всем опасениям, наперекор всему надуманному о “неизвестных величинах”, ярко говорило простое чувство крови, рода.
6 февраля отец вел со мною пространную беседу о мероприятиях к сбережению последних тысяч Ольги Васильевны, и на другой день, “пользуясь сравнительным теплом и влагой”, он съездил к надзирательнице из больницы св. Николая и договорился с нею об опекунстве над деньгами душевнобольной Ольги Васильевны. Этим успешно разрешались заботы в отношении безумной.
12-го числа, в “прощеное воскресенье”, когда положено было правоверным каяться друг перед другом во взаимно содеянных грехах и гнусностях, около полудня горничная доложила Лескову, что просит его принять некий Филиппов. Не представляя себе, кто такой пришел, Лесков говорит: “Просите” — и поднимается навстречу загадочному гостю. В открытых дверях, не решаясь переступить порог, недвижно стоит злейший его враг и ревностный гонитель, государственный контролер в министерском ранге, “Терций” Филиппов.
“Я, — взволнованно рассказывал мне отец, — тоже остановился посреди комнаты.
— Вы меня примете, Николай Семенович? — спросил Филиппов.
— Я принимаю всех, имеющих нужду говорить со мною.
— Перечитал я вас всего начисто, передумал многое и пришел просить, если в силах, простить меня за все сделанное вам зло.
И с этим, можешь себе представить, опускается передо мною на колени и снова говорит:
— Просить так просить: простите!
Как тут было не растеряться? А он стоит, вот где ты, на ковре, на коленях. Не поднимать же мне его по-царски. Опустился и я, чтобы сравнять положение. Так и стоим друг перед другом, два старика. А потом вдруг обнялись и расплакались… Может, это и смешно вышло, да ведь смешное часто и трогательно бывает”.
— А какое сегодня воскресенье? — спросил я.
— Думаешь, византиизм, лицемерие? Может, и так, а все-таки лучше помириться, чем продолжать злобиться, — сказал отец и стал рассказывать то, что неплохо сберег, видимо сряду сделанною записью, Фаресов: “Против нас на столе у меня стояли портреты Гладстона, Л. Толстого, Дарвина и снимки с картин Н. Н. Ге. Ведь ему все они противны! И вдруг я почувствовал, что хоть опять становись на колени; что вот сейчас нам не о чем будет говорить. За последние годы мы ушли в разные стороны так далеко, что не сумеем вернуться даже ко дню смерти. Я вспомнил, что он интересовался когда-то соборным делом в церковных вопросах, и мы разговорились. Наконец добрались и до литературы… Говорю я так с ним о литературе и чувствую, что скоро уже и не о чем будет говорить… Не много нам жить остается, а говорить не о чем… Грустно! Оживлялся я, когда вспоминал, что ведь другие и этого не сделают: не придут мириться ко мне. Врагов у меня всюду много, а вот только один понял меня н пришел утешить. Много ли даже в литературе-то найдется лиц, перечитывающих меня в настоящее время, чтобы судить более правильно обо мне и прийти ко мне с миром? Много ли? А ведь меня [1402] мешком по голове не били, и не хуже я этих других в русской литературе…
Вот так мы с Тертием Ивановичем многого касались понемногу… Он даже выразил надежду видеть меня у себя.
— Я никуда не хожу… — отвечал я. — Подыматься тяжело по лестнице.
— О, я невысоко живу. Несколько ступеней.
— Да нет… Вообще вы живете для меня высоко!
Мой гость засмеялся и не обиделся на мою откровенность. Я очень взволнован его визитом и рад. По крайней мере кланяться будем на том свете” [1403].
В душе Лескова все же тронуло движение человека, упорно и много вредившего ему.
Появиться через десяток дней у гроба простившего его Лескова Филиппов не решился, и упоминания в некоторых некрологах о недавнем келейном его покаянии, может быть, заставили его поскорбеть о своем поступке.
Сейчас и в самом деле сцена трудно понятна. Но тогда она не была невероятной. В ней было много хорошо памятного по картинам и преданиям всем близкого прошлого. У самого Лескова обнимаются и примирение друг у дружки руки целуют изобидевшая несчастную Леканидку Домна Платоновна, а обиженная — у скорой на руку Воительницы [1404]. Поочередно становятся на колени, целуются и льют слезы взаимной растроганности сиротоприемный Константин Пизонский и лекарь Иван Пуговкин [1405]. И сам Лесков в 1884 году в Мариенбаде со священником Ладинским обнялись и расплакались. Так крепко жили еще предания, были еще так “свежи” и даже почти “в духе времени”.
Вероятно, 14-го вечером или 15-го утром Веселитской посылается недатированная записка:
“Уважаемая Лидия Ивановна!
Я оч[ень] болен и не выхожу. В мокроте откашливаю кровь. Состояние духа колеблется: то так, то иначе. С мнениями вашими о повестях Чехова и Боборыкина вполне согласен и высказывал то же самое. Было на меня нашествие Виницкой, и еще навестил меня Тертий Ив[анович] Филиппов, и это было оч[ень] характерно и оригинально. От сестры вашей получил письмо, да не знаю, надо ли ей отвечать? Вам я боюсь о себе напоминать. Чертков не бывал. Они обижены. Я ведь обязан их оберегать, а не правду говорить. Оч[ень] нездоровится.
Н. Лесков” [1406].
Слышится смертное… Однако не безразлично еще и жизненное: сообщается о возобновлении отношений с Виницкой, о явлении Тертия, о своего рода “отомщевании” Черткова за “Зимний день”. Последнее едва ли огорчает.
Должно быть, перед самыми этими днями Лесков перенес и нашествие репортера “Новостей и биржевой газеты”, опубликовавшего 19 февраля в № 49 этой газеты интересной отчет своей беседы с писателем, под заглавием “Как работают наши писатели. Н. С. Лесков”, за подписью И. Эм.
Чрезвычайно ценно здесь горячее сочувствие Лескова чужим литературным успехам и негодующий протест против осудительного азарта критиков, в числе которых яснее других подразумевается Буренин.
“…По-моему, это мнение совершенно не основательно. Разве Петр Дмитриевич Боборыкин не интересный и не полезный писатель? Это в полном смысле прекрасный новеллист. Он спешновато заканчивает свои работы, и это им часто вредит, но что же делать: у всякого своя манера, свои достоинства и свои недостатки. Канова уже, кажется, какой был мастер, а имел такой же самый недостаток. И у того и у другого окончание работы скомкано. Далее Чехов, Мамин, Короленко, непонятый Альбов — разве это не таланты? А еще из более молодых есть такие, что как только появились, так сразу же заставили о себе говорить и спорить: таков, например, мой молодой однофамилец [1407], выведенный в свет “Историческим вестником” г. Шубинского. Такого быстрого успеха еще и не бывало” [1408].
Все интервью дышит неиссякаемой любовью к родной литературе, желанием ей роста и преуспеяния. Все оное звучит любовным напутствием искусству, которому самоотверженно была отдана вся собственная жизнь.
Искусственно созданный когда-то и вновь усердно вспененный после смерти Крестовского вопрос об авторстве “Петербургских трущоб” второй месяц продолжал занимать прессу, вовлекая в полемику все большее число далеко не одинаково авторитетных судей. Споры росли, не уставая запутывать дело. Вспомнили, наконец, и о Лескове. Всегда горячо откликавшийся на все литературные события, он возмущенно подтвердил посетившему его день-два спустя после Филиппова В. В. Протопопову, что автор романа “не кто другой, как покойный Всеволод”.
Лесков подробно рассказал, как задумывался роман, как сам однажды со “Всеволодом”, Микешиным и данным им в проводники сыщиком посетил знаменитый “Малинник” в “Вяземской лавре”, где к ним подсела некая “Крыса”, и т. д. Заключались его указания словами: “Повторяю еще раз: “Петербургские трущобы” написаны одним Крестовским, а грязные сплетни, по поводу которых теперь возгорелась полемика, распространены были еще при жизни покойного Всеволода неким хотя и талантливым, но, к сожалению, не безупречно нравственным человеком… Я не буду его называть, тем более что он уже умер. Зачем понадобилось этому господину чернить Крестовского, не знаю” [1409].
В отклик на это свидетельство редакция газеты сейчас же получила и опубликовала следующее открытое письмо:
“Г. редактор.
С удовольствием подтверждаю слова даровитого Николая Семеновича Лескова, напечатанные в вашей уважаемой газете: мы втроем: Всеволод Крестовский, Н. С. Лесков (тогда носивший псевдоним “Стебницкий”) и я ходили в “Вяземскую лавру” и в “Малинник”, изучая трущобы, и намеревались издавать их иллюстрированными, для чего мною была уже зачерчена небезынтересная коллекция разных несчастных типов, но отъезд мой тогда за границу оставил дело иллюстраций к “Трущобам” неосуществленным.
Художник М. Микешин” [1410].
Вопрос выяснился до дна. Ответы Лескова всех удовлетворили, кроме Атавы, в душе которого, по одному из позднейших определений Лескова, “жил Ноздрев”.
Рассерженный тем, что Лесков не назвал человека, пустившего легенду о “Петербургских трущобах”, Атава разражается в № 6816 “Нового времени” от 19 февраля фельетоном “Умерший писатель”, в котором бросает по адресу старшего собрата: “Для меня всего изумительнее при этом скромность г. Лескова, очевидно близко знавшего Крестовского. Называя всю эту историю сплетней, он говорит, что знает даже автора ее, этой сплетни, одного известного писателя, имени которого, однако, не хочет назвать… Скажите, какая вдруг деликатность! И это все, что дождался Крестовский в свою защиту от своих друзей” [1411].
Это было все, чего мог дождаться от своего многолетнего благоприятеля заведомо тяжко больной все последние годы и в самые эти дни умирающий уже Лесков.
Среди всех приведенных разновидных и разноценных событий было одно вполне самобытное, требующее упоминания, для которого необходимо некоторое отступление.
Как будто в “чистый понедельник”, на первой неделе великого поста, то есть 13 февраля 1895 года, в залах Академии художеств открылась XXIII выставка картин “передвижников”.
Лесков, не пропускавший обычно ни одной художественной выставки, посетил и эту, не то в день открытия, не то раньше, на так называвшемся “вернисаже” [1412].
На этот раз, кроме общего интереса, его влекло туда еще и желание взглянуть, как обрамлен и помещен собственный его портрет кисти В. А. Серова.
В дни работы художника в писательском кабинете позирующий Лесков весело делился первыми впечатлениями: “Я возвышаюсь до чрезвычайности! Был у меня Третьяков и просил меня, чтобы я дал списать с себя портрет, для чего из Москвы прибыл и художник Валентин Алекс[андрович] Серов, сын знаменитого композитора Александра Н[иколаевича] Серова. Сделаны два сеанса, и портрет, кажется, будет превосходный” [1413].
Перечитывая эти строки, всегда жалеешь, что портретов Лескова, написанных равной по мастерству кистью, но лучших лет писателя, не существует. Утешает, что и на этом, проникновенно запечатлевшем больного и обреченного уже Лескова, портрете художник непревзойденно верно передал его полный жизни и мысли пронзающий взгляд.
26 июня 1894 года в брошенном Лесковым письме к В. М. Лаврову говорилось: “Тр[етьяко]в пишет, что Серов уехал в Харьков, а мой портрет у него (т[о] е[сть] у Серова), т[ак] к[ак] он сам хочет делать для него раму по своему вкусу” [1414].
Невольно вспоминается строфа поэта Владимира Гиппиуса (Вл. Нелединского):
Из черной рамы смотрит мне в глаза
Глазами жадными лицо Лескова,
Как затаенная гроза,
В изображенье умного Серова
[1415].
Полное восхищение самим портретом сохранил Лесков, и когда тот был закончен и выставлен. Однако совершенно иное впечатление было вынесено писателем от того, как он “обрамлен”. И надо сказать — рама удивляла.
Дома Лесков спрашивал потом о ней всех побывавших на выставке, хмурился и, отходя к окну, умолкал… И немудрено: буро-темная, почти черная, вся какая-то тягостная, — что в ней могло нравиться, от гостомельских лет суеверному и мнительному, Лескову? Тем более, уже неизлечимо больному…
Вероятно, художественным требованиям и законам соотношения тонов и красок она и отвечала; незнакомых с ними — подавляла.
Измученное долголетними страданиями лицо смотрело из нее как… из каймы некролога. Радовавший год назад своею задачливостью портрет негаданно и тяжело смутил… [1416]
Неустойчивая погода с резкими переходами от мороза к оттепели и обратно вызвала в городе вспышку простудных заболеваний, от инфлюэнцы до воспаления легких. Требовалась бережь, особенно людям больших лет и всего более — усталого сердца.
В среду, 15 февраля, у Лескова появились первые признаки общего недомогания. Ничего угрожающего, по заключению врача, не было. Однако в следующие дни температура стала иногда подниматься до 39,6°, но потом благополучно спадала. Врач по-прежнему не видел угрозы. В общем, дело шло не плохо. Но тут сам больной внес в ход событий нечто непоправимое, 18-го числа, в субботу, между шестью и семью часами вечера, когда у него никого из близких не было, он, тяготясь досадительной стесненностью дыхания, принял, ставшее роковым, решение — по давнему обычаю, потихоньку объехать в санках любимую “Тавриду”. Так и сделал: завернулся в легкую енотовую шубу, попросил горничную укрыть ноги пледом и… поехал, жадно вдыхая в больные бронхи и легкие предательски ласкавшую свежесть слегка морозного воздуха. На несчастье, отговорить или удержать его от этого было некому. Да едва ли такая задача кому-нибудь и удалась бы.
Поездка оказалась последней.
Придя к отцу в восьмом часу и узнав о ней, я обмер… Подавив волнение, вошел в кабинет. Отец полулежал на небольшой квадратной софе порозовевший, освеженный, как бы в приятной истоме. Сразу же негромко, но озабоченно заговорил он об одном остро занимавшем его вопросе семейно-имущественного порядка. Покончив с ним, он рассказал мне о своей прогулке. Я откликнулся умышленно рассеянно, без тени — увы, уже запоздалых и бесполезных — сетований.
Невдолге пришел и пользовавший последнюю зиму Лескова, ничем другим не замечательный, врач Н. Ф. Борхсениус. Гнетуще мрачный, необщительный и малоприглядный, он олицетворял собою фигуру, по старому военному присловью — “наводящую уныние на фронт”.
Это было “дачное”, меррекюльское знакомство, очень беспочвенное, завязавшееся на пляже первоначально с неукротимо общительной мадам Борхсениус. Чем целительный гений ее супруга мог внушить Лескову доверие, которого скептически оценивавший могущество медицины писатель поочередно лишал многих врачей общепризнанных знаний и таланта, — представлялось загадкой.
— Ну, Николай Семенович, это знаете, называется “судьбу испытывать”, — неуклюже обрушился он на больного, поведавшего ему о самочинном своем выезде на воздух. — Будем надеяться, что это вам, даст бог, на сей раз и отпустится… Но если вы еще захотите без разрешения врача проделывать такие вещи, то ему в сущности придется считать себя лишним… Это, — зловеще заключил он свою нотацию, — повторяю, судьбу пытать!
По лицу Лескова пробежала растерянно-виноватая улыбка, какая бывает у людей, сознающих свою вину, захваченных врасплох резкостью, может быть и заслуженного, обвинения, но все же, хотя робко, надеющихся на возможность ее прощения.
В передней угрюмый доктор развел руками: “Ужасная неосторожность. Ужасная! Увидим… Может, и пронесет. Не угадаешь… Боюсь отеков… Сердцу с ними будет трудно справиться. Нехорошо! Ну, до завтра!”
Сдержанно простившись с несдержанным врачом, я поспешил к взволнованному его нелепой выходкой отцу. Надо было как можно скорее чем-нибудь отвлечь от нее мысли больного. Спасибо, почти сейчас же пришел кое-кто из своих и сторонних. Понемногу Лесков как будто рассеялся и хотя и в утишенных тонах, но достаточно свободно, даже не без оживленности, разговорился. Так и прошел остаток вечера.
19 февраля, воспользовавшись воскресной утренней свободой, рано позавтракав, я отправился к отцу. К тревоге за состояние его здоровья прибавилось еще опасение за то, какое впечатление могла произвести на него фельетонная выходка Атавы.
Положение казалось худшим, чем накануне. Он не бойко, но охотно беседовал с навещавшими его. Без затруднений, отдохнув среди дня, говорил он с посетителями и вечером. Правда, минутами как бы ослабевал и полуприваливался на софе, но быстро выправлялся и гостями не тяготился, если не наоборот… Казалось — пронесло! В строго соблюдавшийся час все мы, как всегда, распростились. Выйдя на улицу, постояли у ворот, подытоживая впечатления: болен — да, угрозы нет! Общим постановлением обязали самого свободного из всех, никакими делами и обязанностями не обремененного сорокалетнего “Витеньку” Протейкинского посидеть у больного от полудня до моего прихода, почитать ему газеты, не пускать посторонних, кушать и пить сколько захочется чаю и т. д. Просили хотя раз в жизни быть полезным. Он дал честное слово. На этом распрощались, разобрав, наконец, извозчиков, терпеливо выжидавших заговорившихся седоков.
На службе думалось заботно, но не тревожно. Возвратясь, как всегда, в седьмом часу и наскоро пообедав, отправился к больному. Малоожиданно он показался с первого же взгляда значительно более слабым, чем ожидалось по его состоянию накануне. Я смутился. Отец, как и вчера, лежал в кабинете, на квадратной софе. Минутами он негромко стонал, но ни на что не жаловался. Поздоровавшись, он прежде всего снова начал подтверждать мне деловые свои указания по опеке над остатками капитала Ольги Васильевны. Эта деловая памятливость меня несколько ободрила. Но почти сейчас же я был охлажден пожилою экономкой отца, Леонилой Ивановной. Улучив минуту, когда я вышел в столовую, она взволнованно рассказала мне, как днем, когда она что-то подала ему, он с грустной улыбкой сказал: “Ну, что же… Поносят барыни траур, да и пойдет все, как шло…”
Была ли это подлинная убежденность? Как говорили древние мудрецы, надежда покидает человека последней…
Затем, по ее словам, незадолго до моего прихода, им овладело беспокойство, в котором он стал торопливо собирать около себя ключи. В этом было что-то гнетущее…
В десятом часу приехал врач. Осмотр больного его заметно встревожил.
— Нехорошо, — сказал он мне, уходя. — Нехорошо! Непростительная неосторожность… Отеки в легких… Усталому сердцу они могут оказаться не под силу… Все может случиться! Всего можно ждать! Конечно, бывает, что сердце и выдержит… Сегодня, как вы знаете, у жены ее “понедельник”, журфикс. Когда разойдутся, часа в три ночи, загляну… Не будем отчаиваться. До скорого…
Положение предстало во всей серьезности. Решив остаться на ночь, я послал домой записку:
“1895.20.II.10 часов вечера…Отец в весьма плохом состоянии… утром у него кончилась микстура, и ему не догадались послать за новой. Спазмы снова удесятерились. Сейчас был Борхсениус, придет еще ночью. Состояние, требующее полной внимательности. Сама не приезжай — многолюдство вредно, пришли… словом, я остаюсь ночевать, так как они тут все понятия не имеют, как ухаживают за больным. Не тревожься и не беспокойся и собери все, что м[ожет] б[ыть] полезно. Витька подлец не явился сегодня…” [1417]
На полученную из дома записку я послал, непонятную мне сейчас, новую: “11 ч[асов]… приезжать тебе не надо, да и я вернее всего к 3-м часам ночи приеду, т[ак] к[ак] он ни за что не допускает, чтобы я оставался ночевать, и если Борхсениус в 2 ч[аса] не найдет крайности, то я уеду… Ты знаешь, как он иногда несговорчив, все всех посылает спать, а сам снова стонет так, что никому не до спанья. Главное, что не умеют хоть сутки, но выдержать точность лечения. Как посмотрю я, никакого у Вари навыка нет… Мне, впрочем, кажется, что я к утру приеду сам. Спите спокойно…” [1418]
По моему предложению, без большого труда перебрались в спальню. Больного раздели. Он покорно лег в постель. Грудь вздымалась трудно и бессильно падала с свистяще-хрипловатыми выдыхами из боровшихся с отеками, перенесших не одно воспаление легких.
Появились подушки с кислородом, грелки, дигиталис.
Отец, уступая моим просьбам, неохотно брал в рот неуклюжий мундштук трубки от кислородной подушки, вяло делал два-три небрежных вздоха и отстранял его рукой: “Не надо! Не надо! Мне хорошо. Иди домой. Нет, право, зачем? Иди домой. Поезжай. Мне лучше. Верно! Я засну! Поезжай!”
Я обещал скоро уехать, а тем временем подавал лекарства, менял грелки, а он, в свою очередь, опять просил: “У тебя семья. Там беспокоятся. Пожалуйста, поезжай. Мне лучше… Пожалуйста!..”
И в самом деле, может быть не без содействия кислорода, грелок и дигиталиса, он как-то весь отеплел, перестал стонать, и старые бронхиальные хрипы стали как будто мягче и глуше.
Шел первый час ночи. Погасив свет в спальне, я вышел в кухню поделиться своими добрыми выводами. Вернувшись в спальню, я облегченно вздохнул — дыхание, несомненно, выровнялось, хрипы притихли — отец спал! Пришел сон! Боясь неосторожным движением нарушить этот, казавшийся мне целительным, сон, я бесшумно прошел в соседний освещенный кабинет и, оставив настежь открытыми двери в спальне, сел за письменный стол, раскрыл лежавший на нем том Платона и стал читать одну из его “бесед”, радуясь, какие добрые симптомы поведаю врачу, когда он приедет после “журфикса” его жены.
Перелистывая страницы, я напряженно прислушивался, время от времени подходя к порогу спальни. В уголке дивана, на котором всегда спал отец, в ногах у него, свернувшись клубочком, сладко посапывала крошечная, кротчайшая сердцем, белоснежная болонка Шерочка. Дыхание отца становилось все спокойнее и ровнее. И я опять садился за Платона.
Монументальные настольные английские часы с “курантами” пробили час и час с четвертью…
На барственно-широкой и пустынной Фурштатской было по-ночному и по-зимнему тихо. Иногда закрадывался в душу острый страх. Иногда, напротив, откуда-то приходила вера, слепая вера в спасительный перелом.
Спать не хотелось, но уже и не читалось. Я откинулся на спинку кресла и задумался… Незаметно подошла, пока еще совсем легкая, дрема…
— Андрей Николаевич, — услыхал я за спиной сдержанный шепот мягко подошедшей ко мне по ковру Леониды Ивановны, — как-то очень тихо в спальне…
Осторожно войдя в нее на несколько шагов, мы остановились. Сперва показалось, что по-прежнему слышится “крепитационное” дыхание отца. Но вслед выступило леденящее сознание обманчивости первого представления: улавливалось одно посапывание собачки.
Сделав пять — шесть шагов, я опять стал: слишком страшно было идти навстречу разрушавшей все сомнения правде. Но тут она как-то сама собою вдруг раскрылась во всей своей беспощадности.
Я подошел вплотную. Грудь не вздымалась. Хорошо видимое в полусвете лицо было покойно, глаза закрыты, привычное и удобное положение тела оставалось таким, каким оно было час назад, когда пришел сон, перешедший в “пробуждение ото сна жизни”.
Взяв левую, поверх одеяла лежавшую, руку отца, я уловил последнее трепетание так называемого врачами “диократического”, раздвоенного пульса, замершего под моей рукой. Лоб, к которому я прикоснулся, был в легкой испарине. Отсутствие дыхания стало бесспорным.
Сомнений не было — Лесков был мертв.
Он “отрешился от тела скоро и просто”… Но отрешение это далось не легко: смерть подошла не безболезненно. Не говоря уже о пятилетних тяжких страданиях ангиной — этой мучительной подготовке к “интересному дню”, непосредственно самому этому дню была предпослана неделя достаточных мук, и лишь самый переход к небытию свершился в умиротворенном сне или дреме.
Всегдашнее горячее желание — “мирныя и непостыдныя кончины” — сбылось. Опасения, что это “дело внове”, того гляди придется выполнить “кое-как”, — не оправдались.
Несомненно предвидя, особенно после злосчастной поездки вокруг Таврического сада, возможность рокового исхода, Лесков перенес все последние страдания мужественно, стоически отклоняя до последней минуты все заботы о нем, не проявляя страха или растерянности, и “сказал земле прости — во всем свете рассудка, без слез, без визгов и без поповского вяканья”.
“Такой конец достоин желаний жарких”, — писал он, когда “уплыла” в свое время “литературная бабушка”.
“Ужасной силы Разлучник”, ничего не примиряющий и не сглаживающий, по любимому Лесковым толстовскому определению, “увел” его в 1 час 20 минут на 21 февраля (5 марта) 1895 года, — “оставив на земле последствия его ошибок” и… его заслуг.
ГЛАВА 8. ПОСЛЕ СМЕРТИ
Отец был мертв. Это было и бесспорно и… неосилимо. Требовалась напряженная работа мысли, чтобы осознать совершившееся, воспринять его бесповоротность, освоиться с его огромностью…
При всей подготовленности к возможности рокового исхода болезни, он все же поразил внезапностью.
Недвижимо стоя у локотника дивана, на котором лежал бездыханным, час с чем-нибудь назад живой, говоривший со мной мой отец, я неотрывно всматривался в его лицо.
Смерть еще не проступала вне: не было мертвенной строгости, виднелись дрема, отдых, покой… Увы! — вечный.
Страшно было разрушать еще жившие представления. Хотелось отдалить вторжение нового, только что узнанного.
Глубокая тишина этому помогала…
И вдруг она была грубо разорвана: механически-резко заиграли тяжелые английские часы, начав свой щипковый концерт перед очередным боем.
Опомнясь, я бросился в кабинет, чтобы пресечь кощунство. Было полвторого ночи. Куранты призвали к выполнению неотложных задач.
Преодолев смущение, я сел за отцовский письменный стол, взял его перо и начал писать смертные оповещания.
С ними помчался на извозчике мой денщик, сперва к почти рядом жившему врачу, потом ко мне домой, к вероломному В. П. Протейкинскому, Макшеевым.
Первым явился, захваченный за своим журфиксным ужином, доктор Борхсениус. От него пахло вином и каким-то соусом. Установив “очезримое”, произнеся десяток слов о предвидении происшедшего, написав свидетельство о смерти пациента, он ушел.
Собравшиеся, особенно Захар Макшеев, знавший о назначении его покойным одним из своих душеприказчиков, настаивали, чтобы я немедля вскрыл несомненно имевшееся посмертное распоряжение отца.
С тягостным чувством пришлось взять ключи, лежавшие на столике, стоявшем у изголовья покойного, отпереть средний ящик письменного его стола, найти запечатанный конверт с надписью: “Прочесть немедленно после моей смерти”. Вскрыв его, я прочитал вслух:
“Моя посмертная просьба
1) По смерти моей прошу непременно вскрыть мое тело и составить акт вскрытия. Желаю этого для того, чтобы могли быть найдены причины сердечной болезни, которою я долго страдал, при общем уверении врачей, что в сердце моем не было никакого болезненного изменения.
2) Погребсти тело мое самым скромным и дешевым порядком при посредстве “Бюро погребальных процессий”, по самому низшему, последнему разряду.
3) Ни о каких нарочитых церемониях у бездыханного трупа моего не возвещать и гроб закрыть тотчас после того, как туда будет положено вскрытое и снова убранное тело.
4) На похоронах моих прошу никаких речей не говорить. Я знаю, что во мне было очень много дурного и что я никаких похвал и сожалений не заслуживаю. Кто захочет порицать меня, тот должен знать, что я и сам себя порицал.
6) Места погребения для себя не выбираю, так как это в моих глазах безразлично, но прошу никого и никогда не ставить на моей могиле никакого иного памятника, кроме обыкновенного, простого деревянного креста. Если крест этот обветшает и найдется человек, который захочет заменить его новым, пусть он это сделает и примет мою признательность за память. Если же такого доброхота не будет, значит и прошло время помнить о моей могиле.
7) Если бы, однако, объявились люди, которые захотели бы проявить чем-нибудь любовь ко мне, то я от этого не отстраняюсь и указываю им, что они могут сделать для меня отрадного: я прошу их вспомнить и отыскать девочку, сироту Варвару Ивановну Долину, которую я взял беспомощною с двух лет и воспитывал ее и сожалел ее. Прошу всех, желающих явить свою любовь ко мне, — перевести это чувство на бедную Варю, которую я любил. Прошу помогать ей добрым советом и участием к ней, ласкою и утешением и заботою о ее устройстве.
8) В годовщины смерти моей прошу моих доброжелателей и друзей осведомляться у Н. Ф. Зандрока и 3. А. Макшеева о положении Вари и посоветоваться, не может ли кто-нибудь оказать ей что-либо полезное. Кто это сделает, тот окажет мне наилучшую дружбу, которая будет иметь для меня особую свою, истинную цену.
9) Некоторые думали и говорили, будто Варя Долина есть моя дочь. Я не знаю, для чего бы я стал это скрывать, но это неправда. Я взял ее просто по состраданию, но при ее посредстве мне дано было узнать, что своих и не своих детей человек может любить совершенно одинаково. Советую испробовать это тем, кому это кажется трудным и маловероятным. Это и верно и легко.
10) Если бы обстоятельства показали, что до совершеннолетия Вари Долиной, для устройства ее, может иметь значение какая-нибудь складчина, то я этому не противоречу. Я сам устраивал подобные дела для сирот и думаю, что могу принять такое участие от других для призренной мною сироты.
11) Литературный фонд умоляю не отказать Варваре Долиной в содействии к тому, чтобы она могла докончить свое образование в каком возможно заведении, соответствующем началу, какое она уже получила. Зандрока и Макшеева прошу узнать, что может быть оказано Литературным фондом.
И 12) прошу затем прощения у всех, кого я оскорбил, огорчил или кому был неприятен, и сам от всей души прощаю всем все, что ими сделано мне неприятного, по недостатку любви или по убеждению, что оказанием вреда мне была приносима служба богу, в коего я и верю и которому я старался служить в духе и истине, поборая в себе страх перед людьми и укрепляя себя любовью по слову господа моего Иисуса Христа” [1419].
Часам к четырем утра все уехали. Ушел и, как всегда бесполезный, “Витенька” Протейкинский.
В надежде подать объявление о кончине, конечно без указаний “о каких-либо нарочитых церемониях и собраниях у бездыханного трупа”, я поехал в типографию “Нового времени”. Метранпаж заявил, что номер уже печатается и поместить объявление в “сегодняшний” номер нет никакой возможности. Оно появилось в № 6809 от 22 февраля:
В ночь на 21-е февраля,
в 1 час 20 минут,
скончался
НИКОЛАЙ СЕМЕНОВИЧ ЛЕСКОВ
Ушли уже и телеграммы в Киев, Ржищев и Бурты.
Рано утром была извещена Л. Н. Веселитская и вызван мною лесковский фотограф Н. А. Чесноков. Вдвоем с ним мы выдвинули диван из угла к свету, после чего сделаны были снимки [1420]. Тут мы немножко напутали с подушками, которыми приподняли корпус и голову покойного. Снята была и главная стена кабинета, каким он был последние три года. Раньше, почти всегда, письменный стол стоял посередине комнаты, не прислоненным, как сейчас вплотную к стене.
Между 11 и 12 часами выдалось отсутствие посторонних. Вспомнив старинный “пейкеровский” прием, я взял с письменного стола маленькое, в мягком черном шагреневом переплете Евангелие, не глядя развернул его и прочел первый стих первой попавшейся главы. Стих гласил о жизни “по тот бок сени смертной”.
Услышав в передней какой-то затяжной говор, я положил книжечку “нараскрышку”, как держал, переплетом вверх, на тот же стол, а сам направился на голоса.
В дверях стоял Атава. Возмущенный его третьеводнишним газетным ноздревством, я смотрел на него, не произнося ни слова.
— Родитель у себя? — в высоком регистре, нарастяжку, хорошо пострадавшими голосовыми связками произнес он, почему-то не придав никакого значения тому, что впустил его в отцовскую квартиру мой денщик, что я в будень нахожусь не на службе, а у отца.
Я молча наклонил голову.
— Изволят почивать? — продолжал он.
— Сегодня во втором ночи скончался.
Откинув голову и оплечье, он пошатнулся и схватился правой рукой за спинку подвернувшегося кресла. Обрюзгшее кирпично-красное лицо его, в склеротических пятнах и жилках, мгновенно побелело.
— Что? Как? Когда?
— Сегодня ночью.
Утерев всегда слезившиеся глаза и собрав силы, он, тяжело дыша и как бы глотая воздух, взглянул на раскрытую дверь в спальню.
— Там?
— Там.
— Можно?
— Можно.
Диван после снимка оставался почти посередине комнаты, в свету. Терпигорев грузно опустился на колени, уронил пепельную голову, несколько раз перекрестился и замер.
— Ну, — сказал он, трудно поднимаясь и астматически высвобождая шею из воротника рубашки, — теперь мой черед. Мой, — повторил он, выходя со мною в кабинет.
Порасспросив подробности, выпив воды и отдышавшись, он простился, продолжая повторять: “Мой…”
И не ошибся: 13 июня его не стало.
Евангелие было мною забыто. Усмотрел его на том же месте пришедший вскоре Меньшиков. Клонившемуся к мистике, ему это дало повод уверенно написать в № 9 воскресной газеты “Неделя” от 26 февраля 1895 года: “Лесков, по-видимому, готовился к смерти. На письменном столе Николая Семеновича остался Новый завет, раскрытый на послании Павла”, и т. д. Я уже говорил, что борхсениусовской неловкостью Лесков был наведен на мысль о возможных последствиях его поездки вокруг Таврического сада, но случаю с Евангелием он не был причастен. Публиковать поправку я не нашел удобным даже и после того, как меньшиковские строки 27 февраля перепечатало в № 6824 “Новое время”.
Около трех часов дня приглашенный мною прозектор И. В. Усков произвел вскрытие грудной полости. Сердце найдено было в состоянии ожирелости, заставившей удивляться, как оно могло работать даже и без отека легких.
Требование вскрытия было признано многими ничем не оправдываемой “мрачной” или “зловещей причудой”. Но она была не беспочвенна. Еще на Гостомле, в отроческие годы, Лесков наслушался о захоронениях людей заживо, об их стенаниях в могилах. Жило и нем подозрение, что и мать “Сени” Надсона, рожденная Мамонтова, тоже едва ли не была погребена живой [1421].
Кроме того, Лесков был убежден, что таких страданий и такой болезни, какие выпали ему, медицина не знала и вскрытие даст ей что-то новое. Это, конечно, было кругом ошибочно.
Чехов, лично осматривавший Лескова, на вопрос, заданный ему Фидлером в ноябре 1892 года, опасно ли состояние здоровья последнего, ответил: “Да, жить ему осталось не больше года” [1422]. Антон Павлович счастливо ошибся почти года на полтора. А 25 февраля 1895 года он писал Суворину: “И напрасно он [1423] в завещании своем писал, что доктора не знали, что делается с его сердцем. Доктора отлично знали, но скрывали от него. А как себя чувствует бедный Атава? Должно быть, смерть Лескова подействовала на него угнетающим образом” [1424].
И “посмертная просьба” и позже ставшее известным формальное “духовное завещание”, подавляя своим своеобразием и напряженностью, порождали в литературных кругах большие толки. Не одно “вскрытие тела” принималось за “мрачные причуды”.
Всего усерднее судили в наиболее осведомленном суворинском кабинете. Строг был здесь и некогда дружественный, много лет значившийся душеприказчиком Лескова, С. Н. Шубинский.
Когда-то, по весне 1879 года, в письме к М. Г. Пейкер, говоря о своем “Великосветском расколе”, автор удовлетворенно заключал: “Вообще я опять ни на кого не угодил” [1425].
И вот, едва я коснулся смертных его распоряжений, как сами собою зазвучали в моей памяти эти слова покойного.
Ко времени окончания вскрытия окоченевшие руки покойного уже не сгибались. Придать им выражение посмертной примиренности было невозможно. С трудом удалось их свести полотенцем и взять крепким узлом в кистях. Казалось, что покойный стремится их высвободить со всею силой обуревающего его негодования и протеста.
22-го днем приглашенный мною, тогда еще профессор, И. Я. Гинцбург снял маску и сделал слепок кисти правой руки [1426].
С детства помнил я, как сочувственно говорил мой отец о старой традиции малоимущей литературной братии класть покойника на письменный стол, за которым трудился усопший.
Такой порядок был выполнен и в отношении самого Лескова: “убранное” после вскрытия тело его было положено на служивший ему с 1886 года рабочий его стол.
Вера Николаевна телеграфировала, что больна.
Мать моя не решилась поездкой на похороны воскрешать давно погребенное в тайниках сердца. Оно и так никогда не усыплялось полностью…
“Вспоминаний ядовитых старость мрачная полна” — постигнуто пятнадцатилетним Лермонтовым.
Ждать с юга было некого.
На шестьдесят втором году вопрос о месте погребения терял для Лескова всякое значение. В былые годы при смерти кого-нибудь из литературного мира говорилось: “Чего писателю лезть в Александро-Невскую лавру или Новодевичий монастырь! Что мы за “персоны”, за тузы, пышно погребаемые там! Что у нас общего с ними? Самое настоящее место нашему брату на Литераторских мостках в одном из самых дешевых разрядов Волкова кладбища. Нашим вдовам и сиротам сплошь и рядом через день после похорон есть нечего. А тут еще парады разводить! И ты, — обращался он ко мне, — сын мой, помни это и похорони там своего батьку”.
Значительно позже это сменилось желанием быть похороненным без гроба, завернутым в холстину и закопанным прямо в поле, пройденном потом бороной, чтобы и места захоронения не знать было. Слышались уже и Сютаев и Толстой…
Учитывая городские, да ещё столичные церковно-полицейские требования, в “последней просьбе” пришлось сочетать желаемое с выполнимым.
Ранним утром 22-го я поехал на Волково. Мне выпала удача: на указывавшихся когда-то отцом мостках, не доходя до Надсона, Белинского, Добролюбова, Писарева, Омулевского и многих других, нашелся угловой мерный участок-особняк, с двумя хорошими березами, бурьяном. Совсем, подумалось мне, как на Гостомле, в Панине…
Дело было сейчас же оформлено. На очереди стояли похороны.
23 февраля, около 11 часов утра, после свершения в кабинете литии, последовало прощание с усопшим присутствовавших. Затем в гроб были брошены горсти песка. Этим символизировалось “предание тела земле”. Гроб был закрыт. С этого момента он открываться больше уже не мог.
Процессия, пройдя всю Фурштатскую, на которой протекла половина всей петербургской жизни и литературной работы Лескова, направилась по Литейной, Владимирской, Загородному, Разъезжей Лиговке. Провожавших было сперва с сотню, потом число их значительно убавилось. Были венки, цветы и т. д. На Расстанной кортеж встретила большая группа писателей, журналистов, адвокатов, актеров Александринского театра. Среди последних стояла талантливая Е. П. Левкеева, в бенефис которой премьерой шел 1 ноября 1867 года лесковский “Расточитель”. Ближайшая к мосткам церковь была переполнена. Учащейся молодежи было мало.
Отпевание, без которого погребение на городских кладбищах не допускалось, совершалось над закрытым гробом. Все были огорчены невозможностью проститься с покойным, хотя бы раз взглянуть на него, запечатлев в памяти его посмертный образ.
Речей над “бездыханным трупом”, как и над “открытой могилой” не произносилось.
Все совершалось в ненарушимом, глубоко сосредоточенном молчании.
В ранние петербургские сумерки, в “серый час”, на Литераторских мостках вырос новый могильный холм.
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Очерк окончен. Он как будто очень запоздал. Но, может быть, поэтому оказалась возможной искренность в воскрешении и отражении очень давно пережитого, легче достижимая на исходе жизни.
В одной из горячих своих статей (“Литературное бешенство”) Лесков высказывал убеждение, что “подобающее место… для наших даровитых писателей теперешней поры… будет указание со временем… после паузы”, которая “минет, конечно, не прежде, чем минет для них всякий интерес в этой жизни”… [1427]
Одна из позднейших серьезных критических статей о Лескове была названа ее автором, М. А. Протопоповым, “Больной талант” [1428].
Лесков, во многом удовлетворенный ею и признавший её в общем для себя “приятной”, не разделил в письме к автору от 23 декабря 1891 года обоснованности ее заглавия: “Я бы, писавши о себе, назвал статью не “больной талант”, а “трудный рост”. Дворянские традиции, церковная набожность, узкая национальность и государственность, слава страны и т[ому] п[одобно]е — во всем этом я вырос, и все это мне часто казалось противно, но я не видел, “где истина!” [1429]
Талант был изумительный. Но, по собственному признанию Лескова, рядом была еще и “одержимость разными одержаниями”.
В посмертных для него суждениях и статьях, в работах о нем приходится читать: человек слишком личный, неуравновешенный, большая, но вместе с тем и больная душа, мастерство озлобленного таланта, в запальчивости неразборчив и несправедлив, натура с истерией и даже карамазовщиной…
Рядом шло и безоговорочное признание общественных заслуг во второй половине литературного пути, смелых ударов по “одному из самых реакционных и юродивых суеверий” в знаменитых “Полунощниках”, с которыми он дерзнул выступить в разгар гатчинского самовластия Александра III. Признавалась “потрясовательность” всей писательской работы Лескова последних двадцати лет, подвергавшейся неустанному преследованию и всестороннему гонению правителей.
Сам Лесков, уже стариком, восхищенно, но и горестно восклицал: “Вот Толстой как пишет о Мопассане! Вот настоящая критика, истолковывающая в кратком отзыве писателя так, как будто я самостоятельно изучил лучшие и отрицательные его стороны. Не дождусь я такой критики о себе!..” [1430]
Всю жизнь приходилось мне слушать и читать заключения ряда литературных деятелей о непостижимости образа Лескова, нимало не разъясняемого обрывочными, поверхностными, предвзятыми и сбивчивыми отзывами о нем некоторых литературных его современников, бывших с ним так или иначе знакомыми, но “очезримо” не знавшими трудно отмыкавшуюся его душу и самобытнейшую натуру.
Много за выпавшую мне долгую жизнь наслушался я сетований и сожалений о том, что вот, мол, постепенно никого из близких свидетелей и очевидцев мучительной жизни Лескова уже и не сохранилось, что, при установленном уже отсутствии личных дневниковых его записей, отпадает всякая надежда на возможность появления сколько-нибудь цельной его биографии.
Волею судеб в моем лице сохранился последний близкий свидетель трудного жития Лескова.
В меру моих сил старался я дать проверенную биографию его.
В ней, конечно, возможны невольные ошибки. Вольных — нет. Нет и вымысла.
Так или иначе, тяготевший на мне долг — выполнен.
Какова дальше будет “пауза” и чем она завершится — скажет время.
POST SCRIPTUM
Начатая 1 сентября 1932 года работа была почти подготовлена к печати весною 1936 года.
Смерть Горького, намеревавшегося “способствовать ее изданию”, тяжко сказалась на ее судьбе [1431]. Затруднения, бегло очерченные в газетной заметке “Мытарства одной книги” [1432], не преодолевались. К изданию было приступлено только в 1940 году.
В условиях блокады Ленинграда подписанная к печати рукопись 22 сентября 1941 года погибла.
В марте 1942 года такая же участь постигла и второй ее экземпляр. Третьего не было. Сбереглись — план, вступление, послесловие, клочки, небольшие опубликованные раньше отрывки [1433].
Приступить к восстановлению работы представилось возможным не скоро. Части некоторых полувозобновленных глав удалось внести в однотомник Лескова, вышедший в конце 1945 года [1434].
Вторично, наново написанная книга во многом отошла от погибшей. Которая из них была бы беднее недостатками, не знаю. Возможно, что писавшееся едва ли не на два десятка лет раньше оказалось бы свободнее от грехов, умножаемых годами и утомленностью автора.
Сделано то, на что хватило сил и дней.
Долгом считаю благодарно отметить при этом помощь, оказанную мне здесь незаменимым по знанию темы и материала, неустанным сотрудником — женою моей, Анной Лесковой.
Предвижу укоры в смелости раскрытия сокровенного. Без этого не было бы жизненно достоверного портрета.
Возможны упреки и за приведение некоторых, так сказать, привходящих случаев и былей.
У меня стоял в памяти урок, воспринятый Лесковым в Ясной Поляне в январе 1890 года и рассказанный им в едва ли кому-нибудь ведомой сейчас, поздней его публикации:
“Несколько лет назад, в разговоре с нашим высокочтимым и славным современником, я позволил себе заметить ему, что одно обстоятельство, упомянутое в его произведении, там как будто не очень кстати. А он мне ответил: “Это правда. Но там есть и еще кое-что, тоже привлеченное немножко насильно. Я это знаю, но оставил так оттого, что я стар: я теперь спешу сказать многое, и говорю это, когда вспомню” [1435].
Июнь 1949 года, Ленинград.
Примечания
1
Ничего, кроме правды, о мертвых. Вольтер (франц.).
(обратно)2
Этим особенно грешат публикации А. II. Фаресова, а отчасти и Л. И. Веселитской (В. Микулич).
(обратно)3
См. также: Горький М. Несобранные литературно-критические статьи. М., 1941, с. 91.
(обратно)4
Или хорошо, или ничего (лат.).
(обратно)5
О мертвых — правду! (лат.). Ср.: Фаресов А. И. “Мой ответ. (Из литературной полемики)”. Спб., 1902, с. 3–4.
(обратно)6
Горький М. “Заметки из дневника”. Собр. соч., т. Х, 1947, с. 203.
(обратно)7
По “Историческому описанию церквей, приходов и монастырей Орловской епархии”, изд. орловского церковно-исторического об-ва, 1905 г., колыбель лесковского рода село Лески стоит на речке Колохве, впадающей в реку Навлю. Оно терялось в дремучих лесах Карачевского уезда, в 80 верстах от Орла и в 35 от Карачева. Ныне в 30 километрах от станции Брасово Московско-Киевской ж. д. — А. Л.
(обратно)8
Подразумеваются “моленные предстательства” духовенства или святых перед богом. — А. Л.
(обратно)9
Духовное песнопение.—А. Л.
(обратно)10
Баснословие это, вложенное в уста бабки Акилины Васильевны (“Из одного дорожного дневника” — “Северная пчела”, 1862, № 351), нашло себе применение в гл. 82 “Смеха и горя” и в неопубликованном еще рассказе “Пчелка” из цикла “Картины прошлого”, 1883 (Центральный государственный литературный архив, Москва; в дальнейшем цитируется сокращенно: ЦГЛА). — А. Л.
(обратно)11
О Ф. И. Селиванове см. ч. II, гл. 8.
(обратно)12
Пушкинский дом, Ленинград
(обратно)13
Письмо от 2 марта 1883 г. — Там же.
(обратно)14
Письмо от 11 мая 1890 г. — ЦГЛА.
(обратно)15
Письмо к М. О. Меньшикову от 10 июня 1893 г. — Пушкинский дом
(обратно)16
С 1930-х годов хранится в ЦГЛА.
(обратно)17
Архив А. Н. Лескова. (В дальнейшем сокращенно: Арх. А. Н. Лескова).
(обратно)18
Горький М. “Детство”, конец гл. XII.
(обратно)19
См.: рассказы “Котин Доилец и Платонида”, “Чающие движения воды”, “Божедомы”, “Старогородцы”.
(обратно)20
Все эти сведения берутся из “формулярного списка” С. Д. Лескова — Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)21
Письмо от 16 апреля 1871 г. — “Шестидесятые годы”. Изд-во АН СССР, М. — Л., 1940, с. 313.
(обратно)22
Письмо к А. Н. Лескову от 21 июня 1888 г. — Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)23
Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)24
“Житие одной бабы”, гл. 7. “Б-ка для чтения”, 1863, № 7, 8. В позднейшей авторской переработке: “Амур в лапоточках”, изд-во “Время”, 1923.
(обратно)25
“Мелочи архиерейской жизни”, гл. I. Собр. соч., т. VI, 1889 (сожженный).
(обратно)26
“О сводных браках и других немощах”. — “Гражданин”, 1875, № 3, 19 янв.
(обратно)27
Кривцов. — А. Л.
(обратно)28
“Дворянский бунт в Добрынском приходе”. — “Исторический вестник”, 1881, № 2.
(обратно)29
Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)30
Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)31
Первоначальная публикация — “Три добрые дела (Из былого)”. — “Гражданин”, 1876, № 14, 3/4 апр.; Собр. соч., т. III, 1889.
(обратно)32
“Новь”, 1884, № 1, 2 от 1 и 15 ноября. Роман в Собрание сочинений не вошел и не переиздавался.
(обратно)33
“Леди Макбет Мценского уезда”. Собр. соч., т. XIII, 1902–1903, с. 92.
(обратно)34
“Обойденные”. Там же, т. VI, с. 27.
(обратно)35
“Заячий ремиз”, гл. 21.
(обратно)36
Письмо Н. С. Лескова к П. К. Щебальскому от 16 апреля 1871 г. — “Шестидесятые годы”, с. 313.
(обратно)37
“Юдоль”, гл. 1, 20 и 21. Coбp. соч., т. XXXIII, 1902–1903.
(обратно)38
“Житие одной бабы”, гл. 3, 5. — “Б-ка для чтения”, 1863, № 7
(обратно)39
“Юдоль”, гл. 20, 21 и др. Собр. соч., т. XXXIII, 1902–1903.
(обратно)40
Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)41
Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)42
Письмо от 22 августа 1879 г. — Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)43
Письмо от 17 февраля 1882 г. — Там же.
(обратно)44
“Дворянский бунт в Добрынском приходе”. — “Исторический вестник”, 1881, № 2, с. 371.
(обратно)45
Письмо от 26 сентября 1885 г. к А. С. Лескову. — Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)46
Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)47
Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)48
Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)49
Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)50
Горький М. Несобранные литературно-критические статьи. М., 1941. с. 85.
(обратно)51
См.: “Благоразумный разбойник”. — “Художественный журнал”, 1883, № 3; “Об оригинальных попадьях”. — “Новости и биржевая газ.”, 1883, № 70; “О безумии одного князя”. — “Газ. А. Гатцука”. 1884, № 11, и изд-во “Огонек”. М., 1940; “Юдоль” и “О квакереях”. Собр. соч., т. XXXIII, 1902–1903.
(обратно)52
Письмо от 30 марта 1886 г. — Пушкинский дом.
(обратно)53
“Герои отечественной войны по гр. Л. Н. Толстому”. — “Биржевые ведомости”, 1869, № 70, 98 и др. Без подписи.
(обратно)54
“Случаи из русской демономании”. — “Новое время”, 1880, № 1529, 1533, 1536, 1542, 1552, или под заголовком “Русские демономаны” в сб. “Русская рознь”. Спб., 1881.
(обратно)55
Напр.: “Дворянский бунт в Добрынском приходе”. — “Исторический вестник”, 1881, № 2.
(обратно)56
Напр.: в статье “Синодальные персоны”.— “Исторический вестник”, 1882, № 11, с. 398; “Геральдический туман”. — Там же, 1886, № 6, с. 602.
(обратно)57
“Несмертельный Голован”, гл. 2, 8, 12. Собр. соч., т. IV, 1902–1903.
(обратно)58
См.: Кречетов П. Орел. Материалы для описания Орловской губернии. Рига, 1903.
(обратно)59
Горький М. Несобранные литературно-критические статьи. М., 1941, с. 85.
(обратно)60
“Житие одной Бабы”. — “Б-ка для чтения”, № 8, с. 66; Собр. соч., т. XXIV, 1902–1903, с. 134; “Маленькие шалости крупного человека”. — “Русский мир”, 1877, № 4, 6 янв. Ср.: позднейший вариант “Бибиковские меры”. — “Неделя”, 1888, № 6, 7 февр.
(обратно)61
“Продукт природы”. Собр. соч., т. XXII, 1902–1903, с. 134.
(обратно)62
“Незаметный след”.— “Новь”, 1884, № 1, с. 133.
(обратно)63
“Мелочи архиерейской жизни”, “Железная воля”, “О квакереях”, “Загон”, “Продукт природы”.
(обратно)64
“О крестьянских вкусах”.— “Новости и биржевая газ.”, 1884, № 58, 28 февр.
(обратно)65
“Овцебык”. — “Отечественные записки”, 1863, апр., с. 582, 592. В позднейших редакциях, эти выпады опущены.
(обратно)66
Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)67
Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)68
“Киевлянин”, 1884, № 76, 3 апр.
(обратно)69
“Киевлянин”, № 81, 12 апр.
(обратно)70
“Новости и биржевая газ.”, 1884, № 91, 11 апр.
(обратно)71
Напр.: “Официальное буффонство”. — “Исторический вестник”, 1882, № 8; “Бибиковские меры”; “Мелочи архиерейской жизни”; передовые в “Биржевых ведомостях”, 1869, № 139, 141 от 25 и 27 мая, без подписи.
(обратно)72
См.: Некролог Иванову, “Орловские губернские ведомости”, 1900, № 96. 13 дек.
(обратно)73
“Печерские антики”. Собр. соч., т. XXXI, 1902–1903.
(обратно)74
Письмо Лескова к К. А. Греве от 5 декабря 1888 г. — Театральный музей им. А. А. Бахрушина. Москва.
(обратно)75
Благая развязка; появление как нельзя более кстати (лат.).
(обратно)76
Письмо от 19 апреля 1891 г. — Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)77
Письмо от 30 января 1893 г. — Там же.
(обратно)78
Письмо к 3. Н. Крохиной от 17 ноября 1894 г. — ЦГЛА.
(обратно)79
Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)80
Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)81
“Случаи из русской демономании”, — “Новое время”, 1880, № 1529, 1 июня; “Русская рознь”. Спб., 1881
(обратно)82
ЦГЛА.
(обратно)83
Геленбах Л. Человек, его сущность и назначение с точки зрения индивидуализма. Спб., 1885, с. 283.
(обратно)84
“Овцебык”, гл. 4, 5. — “Отечественные записки”, 1863,№ 4; Собр. соч., т. XIV, 1902–1903, с. 27.
(обратно)85
“Несмертельный Голован”, гл. 3; “Пугало”, гл. 2.
(обратно)86
ЦГЛА.
(обратно)87
“Владычный суд”, 1877.
(обратно)88
“Сказание о Федоре-христианине и о друге его Абраме-жидовине”. “Русская мысль”, 1886, № 12.
(обратно)89
“Пугало”. Собр. соч., т. XIX, 1902–1903, с. 32.
(обратно)90
ЦГЛА.
(обратно)91
“С людьми древлего благочестия”. — “Б-ка для чтения”, 1863, № 9. Выписки сделанные Лесковым из старопечатной запрещенной книги, составляют тридцать две страницы убористой печати.
(обратно)92
“Житие одной бабы”. — “Б-ка для чтения”, 1863, № 8, с. 62, 63.
(обратно)93
Орфография и пунктуации подлинника.
(обратно)94
ЦГЛА.
(обратно)95
“Мелочи архиерейской жизни”. Спб., 1880, с. 67.
(обратно)96
“Заметка о зданиях”. — “Современная медицина”, 1860, № 29.
(обратно)97
“Житие одной бабы”. — “Б-ка для чтения”, 1863, № 8, с. 66.
(обратно)98
“Смех и горе”, гл. 16, 17. Собр. соч., т. XV, 1902–1903. Ср.: “Товарищеские воспоминания о Якушкине”, “Сочинения П. И. Якушкина”. Спб., 1884 с. XLVII.
(обратно)99
“О трусости”. — “Новое время”, 1880, № 1426, 16 февр.
(обратно)100
“Петербургская газ.”, 1888, № 175.
(обратно)101
“Смерть старого человека”. — “Петербургская газ.”, 1892, № 38, 8 февр.
(обратно)102
“Орловские губернские ведомости”, 1900, № 96, 16 марта.
(обратно)103
Письмо к И. С. Аксакову от 23 марта 1875 г. — Пушкинский дом; “Дворянский бунт в Добрынском приходе”. — “Исторический вестник”, 1881, № 2; “Пресыщение знатностью”. — “Новое время”, 1888, № 4272, 20 янв.
(обратно)104
В[иктор] П[ротопопов]. У Н. С. Лескова. — “Петербургская газ.”, 1894, № 326, 27 ноября. Ср.: Фаресов, с. 16.
(обратно)105
“Мелочи архиерейской жизни”. Собр. соч., т. XXXV, 1902–1903, с. 71, Ср.: “Смех и горе”. — Там же, т. XV, с. 160.
(обратно)106
“Пугало”, гл. 8. Там же, т. XIX, с. 47.
(обратно)107
Собр. соч., т. XIV, 1902–1903, гл. 5, с. 37.
(обратно)108
Письмо Н. С. Лескова от 26 февраля 1873 г. — Пушкинский дом.
(обратно)109
Письмо к С. Н. Шубинскому от 23 июля 1883 г. — Гос. Публичная б-ка им. Салтыкова-Щедрина, Ленинград.
(обратно)110
Письмо Лескова А. Л. Волынскому от 23 июня 1892 г. — Пушкинский дом; А. Л. Волынский. Н. С. Лесков. Спб., 1898, с. 166.
(обратно)111
Фаресов. Против течений. Спб., 1904, с. 390, 391.
(обратно)112
“Б-ка для чтения”, 1863, № 5.
(обратно)113
Там же, № 11.
(обратно)114
“Новое время”, 1881, № 1759, 20 янв.
(обратно)115
“Петербургская газ.”, 1884, № 52, 23 февр.
(обратно)116
“Новое время”, 1900, №№ 8701, 8705, 8710.
(обратно)117
“На ножах”. Собр. соч., т. XXVII, 1902–1903, с. 106. 79
(обратно)118
“Орловские губернские ведомости”, 1900, № 96, 16 марта.
(обратно)119
“Дневник Меркула Праотцева”. — “Русский мир”, 1874, № 70, 14 марта Подпись — М. П.
(обратно)120
“Смех и горе”, гл. 12. Собр. соч., т. XV, 1902–1903, с. 32; Письма Лескова к Сребницкому 1866 и 1884 гг. — ЦГЛА.
(обратно)121
Скончался 6 сентября 1892 г. в г. Орле. Письмо Лескова к нему от 6 сентября 1891 г. — Пушкинский дом. Упоминается в письмах к В. Л. Иванову. — Тургеневский музей, Орел. — “Исторический вестник”, 1916, № 3, с. 805–813.
(обратно)122
Псевдонимная подпись “Стебницкий” впервые появилась 25 марта 1862 г. под первой беллетристической работой — “Погасшее дело” (позже “Засуха”). Держалась она до 14 августа 1869 г. Проскальзывают подписи “М. С.”, “С” и, наконец, в 1872 г. “Л. С.”, “Н. Лесков-Стебницкий” и “М. Лесков-Стебницкий”. Дальше все это отпадает. Среди других условных подписей и псевдонимов. известны: “Фрейшиц”, “В. Пересветов”, “Николай Понукалов”, “Николай Горохов”, “Кто-то”, “Дм. М-ев”, “Н.”, “Член общества”, “Псаломщик”, “Свящ. П. Касторский”, “Дивьянк”, “М. П.”, “Б. Протозанов”, “Николай-ов”, “Н. Л.”, “Н. Л-в”, “Любитель старины”, “Проезжий”, “Любитель часов”, “Автор заметки в № 82” (“Петербургская газ.”, 1887, № 86), “Л.”.
(обратно)123
Бесподписная заметка в отделе “Русская летопись” газеты “Новости и биржевая газ.”, 1883, № 104 первого и № 187 второго изданий, 16 июля. Вызвана материалом, помещенным в июльской книжке “Исторического вестника”, 1883 г.
(обратно)124
Письмо к С. Н. Шубинскому от 23 июля 1883 г. — Гос. Публичная б-ка им. Салтыкова-Щедрина.
(обратно)125
См.: В. П. (Виктор Протопопов). Памяти Н. С. Лескова. — “Петербургская газ.”, 1895, № 51, 22 февр.
(обратно)126
Письмо к Д. А. Линеву (Далину) от 5 марта 1888 г. — “Звезда”, 1931, № 2.
(обратно)127
“Эпоха”, 1865, янв.
(обратно)128
“Заметка о зданиях”. — “Современная медицина”. 1860, № 29.
(обратно)129
“Страстная суббота в тюрьме”. — “Северная пчела”, 1862, №№ 99, 101, 104; “За воротами тюрьмы”. — Там же, № 110.
(обратно)130
Письмо к Н. А. Лейкину от 24 сентября 1883 г. — ЦГЛА.
(обратно)131
Гл. 26 — “Что на русской земле бывает”. Собр. соч., т. IX, 1902–1903, с. 17 и сл.
(обратно)132
Библиографическая заметка. — “Литературная б-ка”, 1868, февр., с. 20–22; “Наша провинциальная жизнь”. — “Биржевые ведомости”, 1869, № 238.
(обратно)133
“Об образке загубленного ребенка”, — “Петербургская газ.”, 1885, № 57; “Образок обличитель”. — Там же, № 255.
(обратно)134
“Петербургская газ.”, 1884: “Об опасном человеке”. — № 341; “Где ты?” — № 343; “Уймитесь волнения страсти”.—№ 349; “Он или она?”. — № 356; 1885: “О пропаже психопатки Семеновой”. — № 250; “Еще о психопатке”. — № 251; “История с Семеновой”. — № 255; “Женская тень, преследовавшая Семенову”. — № 272; 1887: “Портится милый характер”. — № 325.
(обратно)135
Все послужные данные приводятся из аттестата Н. С. Лескова. — Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)136
Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)137
Лесков Н. Торговая кабала — “Указатель экономический”, 1861, № 221, с. 145–148.
(обратно)138
Фидлер Ф. Ф. Литературные силуэты — “Новое слово”, 1914, № 8, авг., с. 32–36.
(обратно)139
Письмо к В. Л. Иванову от 28 июня 1891 г. — “Исторический вестник”, 1916, № 3, с. 805–806.
(обратно)140
Дата не дана, видимо, август 1891 г. — “Исторический вестник”, 1916, № 3, с. 806.
(обратно)141
“Старинные психопаты”. Собр. соч., т XIX, 1902–1903, с. 140, 141.
(обратно)142
“Печерские антики”. — Там же, т. XXXI, с. 4.
(обратно)143
“Печерские антики”. Собр. соч., т. XXXI, 1902–1903, с. 4, 5.
(обратно)144
“Наша провинциальная жизнь”. — “Биржевые ведомости”, 1869, № 252. Без подписи.
(обратно)145
Собр. соч., т. XVI, 1902–1903, с. 175.
(обратно)146
Письмо к Лескову от 28 декабря 1873 г. Не сохранилось. — Собр. соч., т. XXXI, 1902–1903, с. 72.
(обратно)147
должно быть, на Малой Житомирской. — А. Л.
(обратно)148
“Печерские антики”. Собр. соч., т. XXXI, 1902–1903, с. 6.
(обратно)149
“Владычный суд”. — Собр. соч., т. XXII, с. 56.
(обратно)150
“Официальное буффонство”. — “Исторический вестник”, 1882, № 10, с. 441.
(обратно)151
“Указатель экономический”, 1860, № 194.
(обратно)152
“Блуждающие огоньки” (они же “Детские годы”) Собр. соч., т. XXXII, 1902–1903, с. 100–101.
(обратно)153
“Маленькие шалости крупного человека”. — “Русский мир”, 1877, № 4, 5 янв.; “Бибиковские меры”. — “Неделя”, 1888, № 6, 7 февр.
(обратно)154
“Печерские антики”, гл. 2. Собр. соч., т. XXXI, 1902–1903.
(обратно)155
“Нескладица о Гоголе и Костомарове. (Историческая поправка)”. — “Петербургская газ.”, 1891, № 192.
(обратно)156
“Газ. А. Гатцука”, 1883, N” 39–42.
(обратно)157
“Петербургская газ.”, 1887, № 74.
(обратно)158
“Печерские антики”, гл. 35–37. Собр. соч., т. XXXI, 1902–1903. “Церковно-общественный вестник”, 1883, № 52, 53, 55.
(обратно)159
“Печерские антики”, гл. 35.
(обратно)160
“Печерские антики”, гл. 39 и указания в примечании к боям студентов с юнкерами.
(обратно)161
См.: там же, гл. 15, 16.
(обратно)162
См.: “Мелочи архиерейской жизни”, гл. 2. Собр. соч., т. XXXV. 1902–1903; “Путимец”. — “Газ. А. Гатцука”. 1883, № 39–42.
(обратно)163
“Последняя встреча и последняя разлука с Шевченко”. — “Русская речь”, 1861, №№ 19–20.
(обратно)164
См.: “Адописные иконы”. — “Русский мир”, 1873, № 192; “О русской иконописи”. — Там же, № 254; “Благоразумный разбойник”. — “Художественный журнал”, 1883, № 3; “Христос младенец и благоразумный разбойник”. — “Газ. А. Гатцука”, 1884, № 18; “Расточители русского искусства”. — “Новости и биржевая газ.”, 1884, № 305; “Дива не будет”, — “Петербургская газ.”, 1884, № 305.
(обратно)165
zloty польский — 15 копеек
(обратно)166
ЦГЛА. Ср.: также другой, более ранний вариант этого анекдота в очерке “Русское общество в Париже” (“Повести, очерки и рассказы М. Стебницкого”, 1867, или “Сборник мелких беллетристических произведений Н. С. Лескова-Стебницкого”, 1873, с. 459).
(обратно)167
Письмо к В. Г. Черткову от 29 января 1892 г. — Толстовский музей, Москва.
(обратно)168
См.: “Импровизаторы”. Собр. соч., т. XXXVI, 1902–1903, с. 49.
(обратно)169
Письмо к Н. П. Крохину от 15 декабря 1888 г. — Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)170
Лесков ошибся: он был с Юхвимом Ботвиновским в киевской подгородней Борщаговке, а Кочубей был казнен в сквирской, близ Белой Церкви.
(обратно)171
Письмо от 25 февраля 1883 г. — “Исторический вестник”, 1908, № 10, с. 169.
(обратно)172
Альбомы эти сохраняются в Музее изящных искусств УССР, в Киеве.
(обратно)173
Генерал, это печатано? (польское слово употреблено на французский манер).
(обратно)174
Нет, мадам, это писано!
(обратно)175
“naprzykrzac siç” по-польски значит надоесть
“Бибиковские каламбуры”. — ЦГЛА.
(обратно)176
“Владычный суд”. Собр. соч., т. XXII, 1902–1903, с. 83.
(обратно)177
“Павлин” гл. 9. Первоначально печатался в журнале “Нива”, 1874, №№ 17–21, 23, 24.
(обратно)178
Кромах. — А. Л.
(обратно)179
Н. Лесков-Стебницкий. Явление духа. Случай (Открытое письмо спириту). — “Кругозор”, 1878, № 1, 3 янв.
(обратно)180
ЦГЛА.
(обратно)181
“Северная пчела”, 1863, № 17, 18 янв.
(обратно)182
“Дворянский бунт в Добрынском приходе”. — “Исторический вестник”, 1881, № 2, с. 371.
(обратно)183
Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)184
См.: напр., гл. 30-ю — I ч., 20-ю, 27-ю, 28-ю — II ч., 25-ю — III ч.
(обратно)185
Стебницкий М. Страстная суббота в тюрьме. — “Северная пчела”, 1862, № 99, 14 апр.
(обратно)186
Любовная лихорадка, горячка (нем.).
(обратно)187
“Из одного дорожного дневника”. — “Северная пчела”, 1862, № 337, 13 дек.
(обратно)188
Впервые опубликован в “Ниве”, 1917, №№ 34–37.
(обратно)189
Киевский присяжный поверенный, ведший одно время дело Ольги Васильевны в конкурсном управлении по банкротству банкирской конторы де Мезера. — А. Л.
(обратно)190
Вера Николаевна Лескова только что вышла замуж за Д. И. Нога и ожидалась с мужем в Петербург.
(обратно)191
Письмо от 22 августа 1879 г. — Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)192
Ахочинский В. Л., смотритель больницы св. Николая и приятель Лескова.
(обратно)193
Письмо от 7 февраля 1887 г. — Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)194
В. Пр — в. Заметки — “Россия”, 1900, № 296, 20 февр.
(обратно)195
Собр. соч., т. XXII, 1902–1903, с. 56–61. См. еще: “Несколько слов о врачах рекрутских присутствий” и “Несколько слов о полицейских врачах в России”, — “Современная медицина”. 1860, № 36, 39. Подпись — “Фрейшиц”
(обратно)196
“Русские общественные заметки”. — “Биржевые ведомости”, 1869, № 215; 1870, № 39. Без подписи.
(обратно)197
“Потревоженные тени”. — “Исторический вестник”, 1890, № 12, с. 817–819. Подпись — “Н. Л-в”.
(обратно)198
“Яхта”, 1877, февр., март; “Звезда”, 1938, № 6; Собр. соч., т. XVI, 1902–1903.
(обратно)199
Собр. соч., т. XV, 1902–1903, с. 158 (ср.: гл. 75–80).
(обратно)200
Приведена по памяти. Подлинник в ЦГЛА.
(обратно)201
“Картины прошлого”, гл. 18. — “Новости и биржевая газ.”, 1883, №.№ 40, 126, 12 мая (1-го и 2-го изд.); Собр. соч., изд. 1889 г., сожженный VI т., с. 687 (“Сеничкин яд”); ср.: “Железная воля”, гл. I; “Смех и горе”, гл. 78.
(обратно)202
Андрей Васильевич, контрадмирал. — А. Л.
(обратно)203
Фрейганг. — А. Л.
(обратно)204
Так называлась в общежитии захолустная часть столицы, официально именовавшаяся Рождественскою. Ныне Смольнинский район. — А. Л.
(обратно)205
“Пресыщение знатностью”. — “Новое время”, 1888, № 4271, 19 янв.
(обратно)206
“Инженеры бессребреники. Бытовые апокрифы”. — “Русская мысль”, 1887, ноябрь; Собр. соч., т. IV, 1902–1903, с. 106.
(обратно)207
Militaires — военные (франц.).
(обратно)208
“Русский демократ в Польше”. Собр. соч., т. III, 1902–1903, с. 159.
(обратно)209
“Русские общественные заметки”. — “Биржевые ведомости”, 1869, № 277, 12 окт. Без подписи.
(обратно)210
Собр. соч., т. XXXI, 1902–1903, с.с. 46, 53.
(обратно)211
“Герой Отечественной войны по гр. Л. Н. Толстому”. — “Биржевые ведомости”, 1869, № № 69, 68, 70, 75, 98, 99, 109.
(обратно)212
Сб. “Путь-дорога”. Спб., 1893; Собр. соч., т. XXII, 1902–1903. Ср.: “О русском расселении и о Политико-экономическом комитете”. — “Время”, 1861, № 12; “О переселенных крестьянах”. — “Век”, 1862, №.№ 13, 14; “Российские говорильни в С.-Петербурге”. — “Б-ка для чтения”, 1863, № 11.
(обратно)213
“Владычный суд”, гл. 19. Собр. соч., т. XXII, 1902–1903.
(обратно)214
“Железная воля”. — “Кругозор”, 1876, №№ 38–44; Избранные сочинения, М., 1945, с. 131–168.
(обратно)215
Письмо Лескова к П. К. Щебальскому от 16 апреля 1871 г. — “Шестидесятые годы”, с. 313.
(обратно)216
“Железная воля”, гл. 3.
(обратно)217
Стебницкий М. С людьми древлего благочестия. — “Б-ка для чтения”, 1864, № 9, с. 19, 22–23.
(обратно)218
“Наша провинциальная жизнь”. — “Биржевые ведомости”, 1869, № 238, 2 сент. Без подписи.
(обратно)219
См.: “Загон”, гл. 2. Собр. соч., т. XX, 1902–1903, с. 137, 139.
(обратно)220
Свертывание первоначального размаха планов Шкотта завершилось стремлением развязаться с построенной покойным паровой мельницей, о продаже которой нескупо объявлялось, вероятно, при участии Лескова, в “Северной пчеле” между 15 и 29 августа 1862 г., 25 апреля, 17 июля 1863 г.
(обратно)221
Стебницкий М. Страстная суббота в тюрьме. — “Северная пчела”, 1862, № 104, 19 апр.
(обратно)222
Лесков Н. О русском расселении и о Политико-экономическом комитете. — “Время”, 1861, № 12, с. 84–85.
(обратно)223
“Продукт природы”. Собр. соч., т. XXII, 1902–1903, с. 136, 137.
(обратно)224
Письмо Лескова от 16 мая 1888 г. — “Письма русских писателей к А. С. Суворину”. Л.,1927, с. 80.
(обратно)225
Д. П. Журавский
(обратно)226
“Из одного дорожного дневника”. — “Северная пчела”, 1862, № 347, 23 дек. Без подписи.
(обратно)227
Горький М. Несобранные литературно-критические статьи. М., 1941, с. 92.
(обратно)228
Отдел “Слухи и вести”, с. 437.
(обратно)229
1860, № 29, 32, 36, 39, 48.
(обратно)230
1860, № 189, 193, 195, 203, 206 и др.
(обратно)231
“Жизнь Клима Самгина”, т. 1.
(обратно)232
Пьеса “Чудаки”.
(обратно)233
Выпад по адресу “Незнакомца”, т. е. А. С. Суворина, по поводу его фельетона из цикла “Петербургская летопись” и “С.-Петербургских ведомостях”, 1861, № 12 от 15 янв. под заглавием “Разговоры с извозчиком”.
(обратно)234
“Русское общество в Париже. (Письмо первое)”. “Очерки, повести и рассказы М. Стебницкого”. Спб., 1867, с. 320. Ср.: “Библиотека для чтения”, 1863, май, с. 18.
(обратно)235
Горький М. Несобранные литературно-критические статьи. М., 1941, с. 85.
(обратно)236
“Жемчужное ожерелье”. — “Новь”, 1885, № 5; Собр. соч., т. XVIII, 1902–1903.
(обратно)237
“Блуждающие огоньки”. — “Нива”, 1875, №№ 1, 3—18; Собр. соч., т. XXXII, 1902–1903, с. 18.
(обратно)238
Письмо от 29 сентября 1886 г. — Пушкинский дом.
(обратно)239
Письмо от 16 октября 1880 г. — Пушкинский дом.
(обратно)240
См.: напр., “О замечательном, но неблаготворном направлении некоторых современных писателей”. — “Русская речь”, 1861, № 60, 27 июля.
(обратно)241
“О найме рабочих людей”, “Практическая заметка”, “Об ищущих коммерческих мест в России”, “Свободные браки в России”.
(обратно)242
“Как относятся взгляды некоторых просветителей к народному образованию”. — “Русская речь”, 1861, № 48, 15 июня.
(обратно)243
“Письмо из Петербурга”. — “Русская речь”, 1861, № 30, 13 апр.
(обратно)244
комитету. — А. Л.
(обратно)245
“О русском расселении и о Политико-экономическом комитете”. — “Время”. 1861, № 12, с. 72, 85.
(обратно)246
“Библиотека для чтения”, 1863, ноябрь.
(обратно)247
“Век”, 1862, № 13–14, 1 апр.
(обратно)248
Сб. “Путь-дорога”. Спб., 1893.
(обратно)249
“Силуэты далекого прошлого”. — “ЗИФ”, 1930, с. 157.
(обратно)250
ЦГЛА.
(обратно)251
“Северная пчела”, 1862, № 108, 23 апр.
(обратно)252
“Век”,1862, № 12, 25 марта.
(обратно)253
“Северная пчела”, 1862, № 119, 4 мая.
(обратно)254
Старая Слободка, дача Гурьянова
(обратно)255
Письмо Лескова к А. С. Суворину от 13 апреля 1890 г. — Пушкинский дом.
(обратно)256
В 1930 г. принадлежали А. Г. Фомину.
(обратно)257
Письмо к А. С. Суворину от 3 февраля 1881 г. — Пушкинский дом, № 146.
(обратно)258
“Дело императорского русского географического общества о выдаче гг. Безобразову, Кулишу и Лесковскому [1436], отправляющимся с ученой целью вовнутрь России, письменных рекомендаций к местным властям”. Архив Географического общества Союза ССР, Ленинград.
(обратно)259
Отъезд подтверждается письмом его к секретарю Географического общества от 7 июня, находящимся в указанном выше “деле”.
(обратно)260
“Повести, очерки и рассказы М. Стебницкого”. т. 1. Спб., 1867, с. 321.
(обратно)261
Обо всем и кое о чем (лат.).
(обратно)262
“Современник”, 1862, № 4, апр., с. 305.
(обратно)263
“Северная пчела”, 1862, № 142, 29 мая.
(обратно)264
Фаресов, с. 66.
(обратно)265
Письмо к М. А. Протопопову от 23 декабря 1891 г. “Русские писатели о литературе”, т. II. Л.,1939, с. 318, 319.
(обратно)266
“Товарищеские воспитания о П. И. Якушкине” — “Сочинения П. И. Якушкина”. Спб., 1884, с. LVIII. Ср.: “Биржевые ведомости”, 1869, № 68, 11 марта.
(обратно)267
Письмо от 20 января 1891 г. — “Письма Толстого и к Толстому”. М., 1928, с. 90.
(обратно)268
“Литературное наследство”, кн. 22–24,1935, с. 149.
(обратно)269
“Северная пчела”, 1862, № 143, 30 мая.
(обратно)270
Дело 1862 г. № 137 Особой канцелярии министра народного просвещения “касательно напечатанной в № 143, 1862 г. “Северной пчелой” статьи о пожаре, бывшем в С.-Петербурге 28 мая”. ЦГИАЛ.
(обратно)271
“Северная пчела”, 1862, № 144, 148, 151, 157, 167, 168, 170.
(обратно)272
“Обнищеванцы. Религиозное движение в фабричной среде”. — “Русь”, 1881, №№ 16–21, 24, 25, с 28 февраля по 2 мая; “Русская рознь”, Спб., 1881, См. еще: “Повести, очерки и рассказы М. Стебницкого”, т. 1, 1867, с. 512; Сборник мелких беллетристических произведений Н. С. Лескова-Стебницкого. 1873, с. 512.
(обратно)273
“Литературное наследство”, кн. 22–24, 1935, с. 159; запись от 18 сентября 1862 года.
(обратно)274
Письмо Лескова к П. С. Аксакову от 1 марта 1875 г. — Пушкинский дом.
(обратно)275
“Северная пчела”, 1862, № 168, 24 июня.
(обратно)276
“Дополнения к “Сборнику постановлений н распоряжений по цензуре с 1720–1862 гг. “Постановления и распоряжения с 1862–1865 гг. Тетрадь I”. Спб., 1865.
(обратно)277
“Северная пчела”, 1862, № 212, 7 авг.
(обратно)278
“Повести, очерки и рассказы М. Стебницкого”, том 1. Спб., 1867, с. 509.
(обратно)279
Письмо от 26 июня 1884 г. — Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)280
Лермонтов. Демон, ч. 1, гл. 9.
(обратно)281
Быков П. В. Силуэты далекого прошлого, 1930, с, 157.
(обратно)282
Письмо между 15 и 20 октября 1883 г. А. П. Чехов. Полное собр. соч. и писем, т. XIII. М., 1948, с. 79–80.
(обратно)283
Маркузе И. К. Воспоминания о В. В. Крестовском. — “Исторический вестник”, 1900, № 3, с. 983.
(обратно)284
“Геральдический туман”. — “Исторический вестник”, 1886, № 6, с. 611.
(обратно)285
Славное (прославленное) имя (лат.).
(обратно)286
“Из одного дорожного дневника”, — “Северная пчела”, 1862, №№ 334–350;
“Русское общество в Париже (Третье письмо к редактору “Библиотеки для чтения”)”. — “Б-ка для чтения”, 1863, сентябрь и в несколько измененной редакции — “Повести, очерки и рассказы М. Стебницкого”. Спб., 1867.
(обратно)287
“Из одного дорожного дневника”. — “Северная пчела”, 1862, № 350–352; 1863, № 108; “Повести, очерки и рассказы М. Стебницкого”, Спб., 1867, с. 394, 405, 411.
(обратно)288
“Русское общество в Париже. Письмо третье и последнее”. — “Повести, очерки и рассказы М. Стебницкого”. Спб., 1867, с. 405, 440, “Б-ка для чтения”, 1863, сент., с. 3, 22.
(обратно)289
“Русские общественные заметки”. — “Биржевые ведомости”, 1869, № 222, 24 авг. Без подписи.
(обратно)290
См.: “Библиотека для чтения”. 1863, №№ 5, 6 и 9; “Повести, очерки и рассказы М. Стебницкого”. Спб., 1867; “Сборник мелких беллетристических произведении Н. С. Лескова-Стебницкого”. Спб., 1873.
(обратно)291
Горький М. Несобранные литературно-критические статьи. М., 1941, с. 90, 91
(обратно)292
“Русское общество в Париже. Письмо третье и последнее” — “Повести, очерки и рассказы М. Стебницкого”. Спб., 1867.
(обратно)293
Молодым человеком, по-холостому (франц.).
(обратно)294
“Печорские антики”, гл. 2. Собр. соч., т. XXXI, 1902–1903, с. 4–5.
(обратно)295
Стебницкий М. Как отравляются угольным чадом в Париже. — “Северная пчела”, 1863, № 70, 14 марта.
(обратно)296
См.: “Северная пчела”, 1863, №№ 70, 91, 95, 108.
(обратно)297
“Отечественные записки”, 1863, № 4.
(обратно)298
“Шестидесятые годы”, с. 292–293.
(обратно)299
“Северная пчела”, 1863, № 142, 31 мая.
(обратно)300
Стебницкий М. С людьми древлего благочестия. — “Библиотека для чтения”, 1863, ноябрь,с.6, 7.
(обратно)301
Якушкин и Рыбников во время своих этнографических странствий по России неоднократно арестовывались местными властями по подозрению в революционной пропаганде. — А. Л.
(обратно)302
С Я. Штрайх. Неизданное письмо Н. С. Лескова об исследовании раскола. — Вестник литературы”, 1917, № 1.
(обратно)303
“Библиотека для чтения”, 1863, май, отдел “Хроника России”, с. 89.
(обратно)304
Упоминается А. Е. Бурцевым в “Описании редких книг”, 1897, ч. III, № 618. Переиздана им же полностью в т. V “Словаря редких книг и гравированных портретов”. Спб., 1905, № 1902, с. 45–98. См. у Лескова: “Пропавшая книга о школах”. — “Русский мир”, 1874, № 56, 28 февр., “Таинственные книги”. — “Русский мир”, 1873, № 269; “Народники и расколоведы на службе” — “Исторический вестник”, 1883, май. Указания, данные об этой записке в журнале “Книжные новости”, 1937, № 18, — сплошь неверны. Ср.: Фаресов, с. 163. См. еще у Лескова: “Искание школ старообрядцами”. — “Биржевые ведомости”, 1869, № 28, 30, 37, 43, 44, 48, 65, 71, 89, 102, 134.
(обратно)305
Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)306
“Библиотека для чтения”, 1863, июль — авг.; “Повести, очерки и рассказы М. Стебницкого”, Спб., 1867, т. 1, с. 11. “Амур в лапоточках. Крестьянский роман”, “Время”. Л., 1924.
(обратно)307
Райнер — А. И. Бенни, Белоярцев — В. А. Слепцов, Пархоменко — А. И. Ничипоренко, маркиза де Бараль — Евгения Тур (графиня Е. В. Сальяс де Турнемир де Турнефор), Оничка — ее сын Е. А. Сальяс, углекислые феи — сестры Новосильцевы, Завулонов — А. И. Левитов, Бертольди — княжна Макулова, Лиза Бахарева — М. Н. Коптева, Сахаров — Е. М. Феоктистов.
(обратно)308
“Оса”, 1864, № 18, 15 мая.
(обратно)309
Там же, № 39, 14 ноября.
(обратно)310
“С.-Петербургские ведомости”, 1864, № 200, 11 сент.
(обратно)311
См.: напр. В. Зайцев. Перлы и адаманты русской журналистики. — “Русское слово”, 1864, № 6, отд. II, с. 47–50 и др.
(обратно)312
“Русское слово”, 1865, № 3.
(обратно)313
“Новые книги”. — “Отечественные записки”, 1869, № 7, апр. Авторство Салтыкова установлено Н. Яковлевым.
(обратно)314
См.: напр. “За полвека” Е. И. Козлининой. М.,1913; “Записки” Е И Жуковской с комментариями К. И. Чуковского. Л., 1930.
(обратно)315
Рукопись середины июня 1882 г. ЦГЛА.
(обратно)316
См.: находящиеся в связи с этой статьей статьи Лескова: “Усопший митрополит Макарий” и “Клевета “Нового времени” на усопшего митрополита Макария”. — “Новое время”, 1882, № 2256 и 2261, 11 и 16 июня.
(обратно)317
Письмо к И. С. Аксакову от 9 декабря 1881 г. — Пушкинский дом. То же сказано им раньше в письме к А. С. Суворину от 3 февраля 1881 г. Хранится там же.
(обратно)318
“Повести, очерки и рассказы М. Стебницкого”. Спб., 1867, с. 388.
(обратно)319
Письмо к И. С. Аксакову от 23 апреля 1875 г. — Пушкинский дом.
(обратно)320
“Николай Гаврилович Чернышевский в его романе “Что делать?” — “Северная пчела”, 1863, № 142, 31 мая.
(обратно)321
Здесь подразумевается три “письма”, помещенные первоначально в “Библиотеке для чтения”, 1863, № 5, 6, 9, а затем, в значительно шире развернутой редакции, включенные в издание “Повести, очерки и рассказы М. Стебницкого”. Спб., 1867.
(обратно)322
Подарочная надпись П. К. Щебальскому от 18 апреля 1871 г. на экземпляре “Некуда”, 1867 г. Библиотека Академии наук УССР, Киев; “Шестидесятые годы”, с. 354.
(обратно)323
“Новости и биржевая газета”, 1895, № 49, 19 февр.
(обратно)324
Письмо от 7 октября 1871 г. — “Шестидесятые годы”, с. 323.
(обратно)325
“Русские писатели о литературе”, т. Н. Л., 1939, с. 303.
(обратно)326
Записка Лескова к А. Н. Толиверовой-Пешковой 1883 г. без даты. — Пушкинский дом. Рисунок М. О. Микешина хранится в Русском музее в Ленинграде. Экземпляр с такой обложкой и подарочной надписью автора матери, М. П. Лесковой — в архиве А. Н. Лескова.
(обратно)327
Письмо к М. А. Протопопову от 23 декабря 1891 г. — “Шестидесятые годы”, с. 381.
(обратно)328
Письма к С. Н. Шубинскому от 17 и 20 августа 1883 г. — Гос. Публичная б-ка им. Салтыкова-Щедрина.
(обратно)329
“Варшавский дневник”, 1884, № 266, 15 дек. Вызвано статьями о Лескове, напечатанными в этой газете 19, 20 и 24 ноября 1884 г. № 248, 249, и 252. См.: “Шестидесятые годы”, с. 314–315.
(обратно)330
Письмо к М. О. Меньшикову от 12 февраля 1894 г. — Пушкинский дом.
(обратно)331
Письма от 20 декабря 1891 и 10 мая 1894 г. — “Памяти В. А. Гольцева” М., 1910, с. 250, “Голос минувшего”, 1916, № 7–8, с. 409. См. ниже; ч. VI, гл. 11.
(обратно)332
Амфитиатров А. В. Соч., т. XXII, с. 107.
(обратно)333
“Петербургская газета”, 1894, № 326, 27 ноября.
(обратно)334
Фаресов, с. 60, 66, 67.
(обратно)335
“Русская мысль”, 1890, № 1.
(обратно)336
Письмо к В. М. Лаврову от 14 июня 1889 г. — “Печать и революция”, 1928, кн.8, дек.с.38.
(обратно)337
См.: напр., “О литераторах белой кости. — “Русский инвалид”, 1862, № 15, 20 янв. Без подписи.
(обратно)338
“Дела Литературного фонда 1867 г.”, т. V, XVIII. — Гос. Публичная б-ка им. Салтыкова-Щедрина.
(обратно)339
“Литературная библиотека”, 1867, кн. 1 и 2, июль.
(обратно)340
“Будильник”, 1867,№ 50, 29 дек.
(обратно)341
“Искра”, 1867, № 42; 1868, № 2; “Сын отечества”, 1867, № 257, 4 ноября; Незнакомец, “Разное”. — “С.-Петербургские ведомости”, 1867, № 306, 5 ноября; “Петербургский листок”, 1867, № 164, 4 ноября, и др.
(обратно)342
“Вечерняя красная газета”, 1927, № 118/1436.
(обратно)343
“Книга жизни”. Л., 1929, с. 173.
(обратно)344
Блок А. “Заметки, связанные с работой в Большом драматическом театре”, 1920, апр. Полн. собр. соч., т. XII. Л., 1936, с. 267.
(обратно)345
Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)346
“А. Н. Островский и Ф. А. Бурдин. Неизданные письма”. М., 1923, с. 74.
(обратно)347
См. Театральные заметки в “Биржевых ведомостях”, 1869, №№ 234 и 274, 29 авг. и 9 окт.
(обратно)348
“Русский драматический театр”. — “Литературная библиотека”, 1867, кн. 1, окт., с. 102.
(обратно)349
“Русские общественные заметки”. — “Биржевые ведомости”, 1869, № 340, 14 дек.
(обратно)350
Один из любимых Лесковым эпиграфов.
(обратно)351
Письмо Лескова к И. С. Аксакову от 28 июля 1875 г. — Пушкинский дом.
(обратно)352
Письмо к А. С. Суворину от 31 декабря 1889 г. — Там же.
(обратно)353
Г. П. Данилевский. — А. Л.
(обратно)354
А. О. Из литературных воспоминаний. — “Новое время”, 1900, №№ 8705, 8710 от 23 и 28 мая.
(обратно)355
“Современная летопись”, 1871, № 1–3, 8—16.
(обратно)356
“Русский вестник”, 1872, №№ 4–7, ч. III, гл. 2.
(обратно)357
Сочинения П. И. Якушкина. Спб., 1884, с. LVIII.
(обратно)358
“Исторический вестник”, 1881, № 2, с. 381–382.
(обратно)359
Там же, 1882, № 4, с. 204.
(обратно)360
“Год XVII. Альманах четвертый”, 1934, с. 377–385.
(обратно)361
Книжки “Недели”, 1893, № 11, с. 125.
(обратно)362
Приписываемая А. К. Толстому “Федорушка” десятки лет ходила в рукописных списках. Впервые напечатана в женевском издании “Вестник народной воли”, 1884, № 2, с. 202. См.: А. К. Толстой. Полное собрание стихотворений, “Библиотека поэта”. Л., 1937, с. 668–670.
(обратно)363
“На ножах”, печатавшийся в “Русском вестнике”, 1871, №№ 1–8, 10.
(обратно)364
Письмо к П. К. Щебальскому от 16 апреля 1871 г. — “Шестидесятые годы”, с. 311.
(обратно)365
Письмо к В. М. Бубновой от 2 января 1883 г. — Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)366
Письмо к А. С. Суворину от 25 марта 1888 г. — “Письма русских писателей к А. С. Суворину”. Л., 1927, с. 63.
(обратно)367
Письмо к Н. П. Крохину от 19 сентября 1889 г. — Арх. А. Н. Лескова. Вольная перефразировка конца письма Лермонтова к С. А. Бахметьевой: “Все люди, такая тоска; хоть бы черти для смеха попадались” (Спб., август, 1832 г.).
(обратно)368
Письмо к А. Н. Лескову от 15 февраля 1890 г., вызванное незначительным досаждением, шедшим из одной родственной семьи. — Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)369
Письмо к Л. Н. Толстому от 25 октября 1893 г. — “Письма Толстого и к Толстому”. М.—Л.,1928, с. 153.
(обратно)370
В. В. Гей, один из первейших воротил “Нового времени”. Пользовался особым благорасположением А. С. Суворина, но не прямых людей вроде Вишневского. — А. Л.
(обратно)371
ЦГЛА.
(обратно)372
ЦГЛА.
(обратно)373
У Лескова глаза были карие, небольшие; колющий и обжигающий в минуты гнева их взгляд был трудновыносим. — А. Л.
(обратно)374
“Северный вестник”, 1895, № 4.
(обратно)375
Письмо к А. К. Чертковой от 4 января 1892 г. — ЦГЛА.
(обратно)376
См.: “Овцебык” (1863 г.), гл. 3. Собр. соч… т. XIV, 1902–1903, с. 19.
(обратно)377
Письмо от 21 декабря 1888 г. — Пушкинский дом. — Статейка Лескова “Великосветские безделки” (“Новое время”, 1888, № 4603, 20 дек.), резко вышучивала некий “Альбом признаний”, состряпанный, как оказалось, сестрой жены Л. Н. Толстого, Т. А. Кузминской.
(обратно)378
“Несмертельный Голован”. Собр. соч., т. IV, 1902–1903, с. 25.
(обратно)379
Заметка о болезни В. П. Бурнашова — “Новое время”, 1887, № 4201, 8 ноября; “Больной и неимущий писатель” — “Петербургская газета”, 1887, № 323, 24 ноября; “О литературных калеках и сиротах” — Там же, 1887, № 326, 27 ноября.
(обратно)380
Гусев С. (Слово Глаголь). Мое знакомство с Н. С. Лесковым — “Исторический вестник”, 1909, № 9.
(обратно)381
“Скрытая теплота” — “Новое время”, 1889, № 4614, 2 янв.
(обратно)382
Вдову С. И. Турбина, Анну Доминиковну Турбину. См.: письма Лескова к М. И. Михельсону от 19 и 22 сентября 1884 г. (Пушкинский дом) и к В. П. Гаевскому от 16 октября 1884 г. (Гос. Публичная б-ка им. Салтыкова-Щедрина).
(обратно)383
Верую (лат.).
(обратно)384
Б. “Несколько слов о мормонах”. — “Русская речь”, 1861, № 68. См.: “Смех и горе”, гл. 21 и 27.
(обратно)385
Письмо Лескова к Терпигореву от 15 ноября 1882 г. — Пушкинский дом.
(обратно)386
См.: “Щукинский сборник”, вып. VIII, письмо Лескова к М. И. Пыляеву от 30 августа 1888 г.
(обратно)387
См.: рассказ “Материнские тайны” с напутственным письмом Лескова в редакцию. — “Новости и биржевая газета”, 1886, № 241, 248, 255 от 2, 9, 16 сент. Письма Лескова к Елшиной. См.: Проф. А. В. Багрий. Литературный семинарий, вып. II. Баку, 1927, с. 27, 28
(обратно)388
Письмо от 12 июля 1891 г. — “Письма Толстого и к Толстому”. М.—Л., 1928, с. 108.
(обратно)389
Фаресов, гл. VII.
(обратно)390
См.: Заметки Лескова в “Новом времени”, 1885, № 3497, 3500, 3514, 3521, 1886, № 3550 и 3626.
(обратно)391
Письмо от 12 октября 1892 г. — “Письма русских писателей к А. С. Суворину”. Л., 1927, с. 86.
(обратно)392
ЦГЛА. Статья являлась откликом на заметку, помещенную в “Новом времени”, 1893, № 6082, 2 февр. Этим определяется дата ее написания в пределах нескольких дней.
(обратно)393
Пушкинский дом.
(обратно)394
В “Историческом вестнике”, 1916, № 3, с. 805, в дате письма ошибочно указан июль. Автограф в Тургеневском музее, в Орле.
(обратно)395
Письмо от 21 декабря 1888 г. — Пушкинский дом, № 117. — “Письма русских писателей к А. С. Суворину”. Л., 1927.
(обратно)396
Одно письмо Долгоруковой без даты, второе от 28 августа 1870 г. — ЦГЛА.
(обратно)397
“Новое время”, 1889, № 4614, 2 янв.
(обратно)398
Изрядный, приемлемый склад жизни (лат.)
(обратно)399
В действительности — Гомер, Одиссея, кн. VIII, стих 550:
Между живущих людей безымянным никто не бывает
Вовсе; в минуту рожденья и низкий и знатный
Имя свое от родителей в сладостный дар получает.
(обратно)400
Пьеса под этим названием напечатана в журнале “Артист”, 1889, ноябрь, кн. III, в приложении. О ней упоминает П. П. Гнедич. — “Книга жизни”, “Прибой”, 1929, с. 211.
(обратно)401
Ключевского. — А. Л.
(обратно)402
Письмо к Ф. А. Терновскому от 12 ноября 1882 г. — “Украiна”, 1927, кн. 1–2, с. 188–189.
(обратно)403
“Заповедь Писемского”. — “Петербургская газ.”, 1885, № 264, 26 сент. без подписи; “Писемский А. Ф. Письма”. М.—Л., 1936, с. 698.
(обратно)404
“Блуждающие огоньки”. — “Нива”, 1875, № 1, 3—18; Собр. соч., т. XXXII 1902–1903, гл. 15.
(обратно)405
См.: бесподписные статьи под общим титулом “Герои Отечественной войны по гр. Л. Н. Толстому”. — “Биржевые ведомости”, 1869, № 66, 68, 70 75 48, 99, 109; “Вечерняя газ.”, 1869, № 54, 55, 57, 82, 84, 90; “Русские общественные заметки”. — “Биржевые ведомости”, 1869, № 229, 340; “Русские популярные люди”. — Там же, № 335.
(обратно)406
См.: напр., “Жития как литературный источник”. — “Новое время”, 1882, № 2323; “О русских именах”. — “Новости и биржевая газ.”, 1883, № 245; “Календарь графа Толстого”.— “Русское богатство”, 1887, № 2.
(обратно)407
Письмо от 28 ноября 1888 г. — Пушкинский дом.
(обратно)408
См.: “Случаи из русской демономании”. — “Новое время”, 1880, № 1552, или “Русские демономаны”. — “Русская рознь”. Спб., 1881, с. 274.
(обратно)409
Вся переписка без дат, вероятно зимы 1867–1868 г. — Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)410
Фаресов, с. 81–82; “Исторический вестник”, 1916, № 3, с. 787.
(обратно)411
“Биржевые ведомости”, 1869, № 153, 8 июня; “Вечерняя газ.”, 1869, № 126, 129, 11, 14 июня.
(обратно)412
“Русский вестник”, 1869, № 2.
(обратно)413
Там же, 1870, № 10–12; 1871, № 1–8, 10.
(обратно)414
ЦГЛА.
(обратно)415
“Воспоминания Е. И. Зариной-Новиковой”, ч. III, гл. 3. — Пушкинский дом.
(обратно)416
См.: “Биржевые ведомости”, 1869, №№ 263, 333; “Мелочи архиерейской жизни”. Собр. соч., т. XXXVI, 1902–1903, с. 5–8; “Умершее сословие”. — Там же, т. XX; “Белый орел”. — Там же, т. XIV, гл. 3.
(обратно)417
См.: “Дворянский бунт в Добрынском приходе”, гл. 8 — “Исторический вестник”, 1881, № 2.
(обратно)418
Письмо от 3 марта 1872 г. — “Новь”, 1895, № 9.
(обратно)419
ЦГЛА.
(обратно)420
“Кадетский малолеток в старости” — “Исторический вестник”, 1885, № 4, с. 122 и др.
(обратно)421
Собр. соч., т. XXXV, 1902–1903, гл. 4 и 5. “Пермский откупщик” — отец всех четырех петербургских Дягилевых, ханжа и богомолец; офицер с ученым значком, по отчеству “Данилыч” — Корибут; веселый офицер, провожающий местного архиерея Неофита по Пермской губернии — Павел Павлович, рассказывавший Лескову, может быть, несколько бледнее, весь эпизод.
(обратно)422
Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)423
Очерк печатался в малозаметной московской газете “Современная летопись”, 1871, №№ 1–3, 8—16; Собр. соч., т. XV, 1902–1903, гл. 53–57, 66.
(обратно)424
См.: “Геральдический туман”. — “Исторический вестник”, 1886, № 6, с. 610.
(обратно)425
Ныне находится в ЦГЛМ.
(обратно)426
См.: “Первенец русской литературной богемы” — “Исторический вестник”, 1888, № 6; “Загробные комплименты” — “Петербургская газ.”, 1888, № 85; письмо Лескова к Суворину от 25 марта 1888 г. — “Письма русских писателей к А. С. Суворину”. Л., 1927, с. 62.
(обратно)427
Собр. соч., т. XXV, 1902–1903, с. 142.
(обратно)428
См.: “Русские общественные заметки”. — “Биржевые ведомости”, 1869, № 319; “Страна изгнания”. — “Русский мир”, 1872, № 119; “Досуги Марса”.— “Русская мысль”, 1888, № 2.
(обратно)429
Ныне набережная лейтенанта Шмидта.
(обратно)430
“Русский мир”, 1872, № 313, 323, 30 ноября, 11 дек.
(обратно)431
“Современная летопись”, 1871, № 16.
(обратно)432
Палочным способом убеждения (лат.).
(обратно)433
“Железная воля”. — “Кругозор”, 1876, № 38–44.
(обратно)434
“Подмен виновных. Случай из остзейской юрисдикции”. — “Исторический вестник”, 1885, № 2.
(обратно)435
“Русские общественные заметки”. — “Биржевые ведомости”, 1869, № 222, 17 авг.
(обратно)436
“Александрит” (имевший предварительно заглавия — “Подземный вещун” и “Огненный гранат”). — “Новь”, 1885, № 6.
(обратно)437
“Книжки “Недели”, 1888, № 12.
(обратно)438
Письмо Лескова к В. Г. Черткову от 17 января 1889 г. — ЦГЛА.
(обратно)439
Письмо от 25 октября 1893 г. — “Письма Толстого и к Толстому” М. — Л 1928, с. 153.
(обратно)440
инспектор Третьей гимназии, в которую Борис Бубнов должен был поступить в первый класс. — А. Л.
(обратно)441
Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)442
Неудержимый читатель Герцена-Искандера
(обратно)443
Арх. А. Н. Лескова
(обратно)444
Письмо из Корсуни от 24 мая 1867 г. — Там же.
(обратно)445
Письмо из Петербурга от 13 ноября 1870 г. — Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)446
Письмо из Петербурга от 13 ноября 1870 г. — Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)447
Письмо от 23 ноября 1870 г. — Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)448
Письмо от 9 января 1871 г. — Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)449
Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)450
Подразумевается пасха, 28 марта 1871 г.
(обратно)451
Всего в нем 45 мелкоисписанных страниц, Записи, характеризующие Николая Семеновича, будут приведены ниже
(обратно)452
Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)453
Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)454
Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)455
Письмо от 27 апреля 1872 г. — Арх. А. Н. Лескова
(обратно)456
Письмо М. П. Лесковой к Н. С. Лескову от 31 января 1873 г. — Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)457
Письмо М. П. Лесковой к Н. С. Лескову от 24 мая 1877 г. — Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)458
Строки некогда очень известного и очень нравившегося Лескову стихотворения К. Фофанова, посвященного Л. Толстому.
(обратно)459
“Как относятся взгляды некоторых просветителей к народному просвещению”. — “Русская речь”, 1861, № 48, 15 июня.
(обратно)460
“Искра”, 1861, № 19, 26 мая.
(обратно)461
См.: статью Лескова “Домашняя челядь”. — “Исторические справки по современному вопросу”. — “Новости и биржевая газ.”, 1887, №№ 317, 319, 18, 20 ноября; Собр. соч., т. XXII, 1902–1903.
(обратно)462
“Указатель экономический”, 1861, № 221, 12 февр.
(обратно)463
Собр. соч., т. IV, 1902–1903, с. 135.
(обратно)464
Там же, т. XXXIII, с. 111.
(обратно)465
“Православное обозрение”, 1876, № 3.
(обратно)466
ЦГЛА.
(обратно)467
Письмо М. П. Лесковой от 31 января 1873 г. — Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)468
“Соборяне”, ч. II, гл. 5. Собр. соч., т. II, 1902–1903, с. 34.
(обратно)469
“Морской капитан с Сухой Недны”. — “Яхта”, 1877, № 2, 3; “Звезда”, 1938, № 6.
(обратно)470
“Печерские антики”, гл. 16. Собр. соч., т. XXXI, 1902–1903, с. 30.
(обратно)471
Вспоминается еще одна книжечка из библиотеки Лескова и афоризм в ней: “Детство сон разума, и горе тому, кто лишит ребенка счастливой поэтической и живой поры детства” (Генри Грей Грэхем). Жан-Жак Руссо. Его жизнь, произведения и окружающая среда. М., 1890, с. 168.
(обратно)472
читай — катковского. — А. Л.
(обратно)473
“Шестидесятые годы”, с. 315.
(обратно)474
Фаресов, с. 52.
(обратно)475
Письмо Лескова к Суворину, без даты, 1871 г. — Пушкинский дом № 21
(обратно)476
Свадьба Е. Г. Данилевской и В. В. Комарова была 14 января 1876 г.
(обратно)477
Письмо Лескова к И. С. Аксакову от 16 декабря 1875 г. — Пушкинский дом
(обратно)478
“Об осквернении “Гражданина”. — “Петербургская газ.”, 1882 № 232, 2 окт. Без подписи.
(обратно)479
в Каткове. — А. Л.
(обратно)480
Письмо Лескова к Суворину от 30 сентября 1887 г. — Пушкинский дом, № 82.
(обратно)481
Письмо Лескова к Крестовскому, без даты, декабря 1871 г. По-видимому, не было отправлено. Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)482
“Блуждающие огоньки”, гл. 2. — “Нива”, 1875, янв.
(обратно)483
“М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке”, т. V, Спб. 1913, с. 306.
(обратно)484
Письмо М. О. Меньшикову от 27 мая 1893 г. — Пушкинский дом.
(обратно)485
упомянутому способу. — А. Л.
(обратно)486
“Печерские антики”. Собр. соч., г. XXXI, 1902–1903, с 10.
(обратно)487
Для письма (лат.).
(обратно)488
В языке, в речи (лат.).
(обратно)489
“Исторический вестник”, 1901, № 4, с. 192.
(обратно)490
Человек общества (франц.).
(обратно)491
Письма Лескова от 5 апреля и Суворина от 8 апреля 1870 г. — Первое — в Пушкинском доме, последнее — в ЦГЛА.
(обратно)492
Письмо от 5 марта 1871 г. — Пушкинский дом, № 2.
(обратно)493
Письмо от 7 марта 1873 г. — Там же, № 7.
(обратно)494
Письмо от 29 июня 1873 г. — Пушкинский дом, № 8.
(обратно)495
Письмо к И. С. Аксакову от 23 апреля 1875 г. — Пушкинский дом.
(обратно)496
“Эпоха”, 1865, янв.
(обратно)497
“Отечественные записки”, 1865, № 18–24.
(обратно)498
Там же, 1866, № 7.
(обратно)499
“Отечественные записки”, 1866. № 21–24.
(обратно)500
“Литературная б-ка”, 1867, т. VII, кн. 1 и 2, июль.
(обратно)501
“Сын отечества”, 1869, № 6–9.
(обратно)502
Письмо Лескова к А. П. Милюкову от 4 января 1869 г. — “Шестидесятые годы”, с. 294.
(обратно)503
“Биржевые ведомости”, 1870, № 51–78 (с пропусками).
(обратно)504
Письмо Лескова к П. К. Щебальскому от 14 октября 1871 г. — “Шестидесятые годы”, с. 324.
(обратно)505
“Повести, очерки и рассказы М. Стебницкого”. Спб., 1867, или “Сборник мелких беллетристических произведений Н С Лескова-Стебницкого” Спб., 1873. В обоих выпусках с. 246–292.
(обратно)506
“Литературная б-ка”, 1868, янв., февр.
(обратно)507
“Биржевые ведомости”, 1869, № 219, 14 авг. См.: еще “Судебный вестник”, 1869, №№ 176, 179, 209, 224; 1870, № 21, а также “Материалы, собранные особой комиссией, высочайше утвержденной 2 ноября 1869 года, для пересмотра действующих постановлений о цензуре и печати”, ч. III, вып. 2. Спб., 1870, с. 1214–1231.
(обратно)508
См.: письма Лескова к А. С. Суворину от 5 апреля 1870 г. и мартовское 1871 г. — Пушкинский дом; письмо Суворина к Лескову от 8 апреля 1870 г. — ЦГЛА.
(обратно)509
Письмо к С. А. Юрьеву от 5 декабря 1870 г. — “Щукинский сборник”, вып. V. М., 1900.
(обратно)510
Запись 19 марта 1871 г. — Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)511
Письмо от 8 апреля 1871 г. — “Шестидесятые годы”, с. 309. См.: статьи Лескова (бесподписные) в “Биржевых ведомостях”, 1869, № 153, 282, 298, 312; 1870, № 15, 39.
(обратно)512
Письмо к П. К. Щебальскому от 8 июня 1871 г. — “Шестидесятые годы”, с. 320.
(обратно)513
Письмо от 7 октября 1871 г. — “Шестидесятые годы”, с. 323.
(обратно)514
Письмо Лескова к Б. М. Бубнову от 14 мая 1891 г. — “Шестидесятые годы”, с. 361.
(обратно)515
“Мелочи архиерейской жизни” (1878 г.) Собр. соч., т. XXXV, 1902–1903, с. 73–74.
(обратно)516
Письма к А. С. Суворину от 6 мая 1888 г. — “Письма русских писателей к А. С. Суворину”, с. 78; к М. М. Стасюлевичу от 8 февраля 1895 г. — Пушкинский дом.
(обратно)517
“Русский вестник”, 1872, апр. — июль.
(обратно)518
Письмо от 6 декабря 1872 г. — Пушкинский дом
(обратно)519
Письмо от 22 апреля 1888 г. — “Письма русских писателей к А. С. Суворину”, с. 76. — Катков “подарил” Лескову первое отдельное издание. — “Н. С. Лесков (Стебницкий). Соборяне”. М., 1872 — из оттисков журнала “Русский вестник” за 1872 г., 1200 экземпляров.
(обратно)520
Горький М. Несобранные литературно-критические статьи. М., 1941, с. 89.
(обратно)521
Большое ничто (польск.).
(обратно)522
При свете луны (франц.).
(обратно)523
Герцен. Былое и думы, т. 1, 1937, с. 338, 343, 561.
(обратно)524
Соколовский отвечал про конец своей песни аудитору следственной комиссии: “Не к государю, и особенно обращаю ваше внимание на эту облегчающую причину”.
(обратно)525
Окрестности С.-Петербурга удивительны (очаровательны)! (франц.).
(обратно)526
Происшествием этим автор воспользовался в гл. 6 и 7 очерка “Смех и горе”. Собр. соч., т. XV, 1902–1903, с. 18–21.
(обратно)527
См.: “Котин Доилец”. Спб., “Дешевая б-ка”, 1888; “Печерские антики” гл. 35; “Киевская старина”, 1883, февр. — апр.; “Благоразумный разбойник” — “Художественный журнал”, 1883, № 3.
(обратно)528
Шляпкин И. К биографии Н. С. Лескова. — “Русская старина”, 1895, № 12.
(обратно)529
“Блуждающие огоньки” (они же “Детские годы”), гл. 2 и 3. Собр. соч., т. XXXII, 1902–1903.
(обратно)530
“Герои Отечественной войны по графу Л. Н. Толстому” — “Биржевые ведомости”, 1869, № 99; “Мелочи архиерейской жизни”, гл. 1, Собр. соч., т. XXXV, 1902–1903; “Бесстыдник”. Там же, т. XVI, с. 168.
(обратно)531
Л. Г. Личные воспоминания о Н. С. Лескове (Из дневника журналиста). — “Северный вестник”, 1895, № 4.
(обратно)532
“Русский вестник”, 1873, № 1.
(обратно)533
“Благоразумный разбойник”. (Иконописная фантазия). — “Художественный журнал”, 1883, № 3.
(обратно)534
“Запечатленный ангел”. Собр. соч. т. III, 1902–1903, с. 53.
(обратно)535
“Новое время”, 1886, № 3889, 25 дек.
(обратно)536
Собр. соч., т. V, 1902–1903, с. 70–89.
(обратно)537
См.: статьи Лескова: “Адописные иконы”. — “Русский мир”, 1873, № 192; редакционная заметка (его же) — там же, № 211; “О русской иконописи”. — Там же, № 254; “Мелочи архиерейской жизни”, гл. 8, изд. 1879, 1880 гг.; “Благоразумный разбойник”. — “Художественный журнал”, 1883, № 3; “Христос младенец и благоразумный разбойник”. — “Газета А. Гатцука”, 1884, № 18, 12 мая; “Расточители русского искусства”. — “Новости и биржевая газ.”, 1884, № 305, 4 ноября; “Дива не будет”. — “Петербургская газ.”, 1884, № 305; “Сошествие во ад”. — Там же, 1894, № 104; “Добавки праздничных историй”. — Там же, 1894, № 354, 1895, № 32.
(обратно)538
Ныне в ЦГЛА.
(обратно)539
См.: например, “Благоразумный разбойник”.
(обратно)540
“Русские общественные заметки”. — “Биржевые ведомости”, 1869, № 340, 14 дек. Без подписи.
(обратно)541
“На ножах”. — А. Л.
(обратно)542
Письмо от 18/30 января 1871 г. — Достоевский Ф. М. Письма, т. II, 1930, с. 320–321.
(обратно)543
Письмо от 16 октября 1884 г. — “Шестидесятые годы”, с. 343–344.
(обратно)544
“Дневник писателя”. — “Гражданин”, 1873, № 8, 19 февр.
(обратно)545
“Русский мир”, 1873, № 87, 103 от 4 и 23 апр.
(обратно)546
“Дневник писателя. Ряженый”. — “Гражданин”, 1873, № 18, 30 aпp.
(обратно)547
“редстокистов”, великосветских последователей апостола модного “нововерия” лорда Редстока. — А. Л.
(обратно)548
“Дневник Меркула Праотцева”. — “Русский мир”, 1874, № 70, 14 марта. Без подписи.
(обратно)549
Достоевский Ф. М. Письма, т. II, 1930, с. 466.
(обратно)550
“Шестидесятые годы”, с. 354. Роман Лескова “Захудалый род” шел в “Русском вестнике”, 1874, № 7, 8, 10.
(обратно)551
“Петербургская газ.”, 1881, № 25, 30 янв. Лесков говорил, что Лейкин называл ему действительного автора статьи.
(обратно)552
Письмо “в ночь на 3 февраля 1881 г.” — Пушкинский дом.
(обратно)553
“Граф Л. Н. Толстой и Ф. М. Достоевский как ересиархи”. — “Новости и биржевая газ.”, 1883, № 1, 1 апр., изд. 1-е.
(обратно)554
“О куфельном мужике и о прочем”. — Там же, 1886, № 151, 4 июня, изд. 1-е.
(обратно)555
“Литературное бешенство”. — “Исторический вестник”, 1883, апр.
(обратно)556
1 марта 1881 года, смерть Александра II. — А. Л.
(обратно)557
Письмо к М. О. Меньшикову от 27 мая 1893 г. — Пушкинский дом.
(обратно)558
Неизданная статья Ахматовой “Мое знакомство с Н. С. Лесковым”. — Пушкинский дом.
(обратно)559
“К биографии Н. С. Лескова”. — “Русская старина”, 1895, дек., с. 214–215.
(обратно)560
Собр. соч., т. XXXI, 1902–1903, с. 88.
(обратно)561
Письмо к С. Н. Шубинскому от 3 ноября 1887 г. — Гос. Публичная б-ка им. Салтыкова-Щедрина.
(обратно)562
на немецкий язык. — А. Л.
(обратно)563
Письма от 14 и 17 июня 1886 г. Фаресов, с. 179, 181.
(обратно)564
Высшего света (франц.).
(обратно)565
Письмо Кушелева к Лескову от 20 февраля 1873 г. — ЦГЛА.
(обратно)566
Письмо от 21 ноября 1873 г. — ЦГЛА.
(обратно)567
Письмо от 8 мая 1873 г. — ЦГЛА.
(обратно)568
Письмо Лескова к С. Н. Шубинскому от 7 октября 1887 г. — Пушкинский дом
(обратно)569
См.: Собр. соч., т. XIX, 1902–1903, с. 125.
(обратно)570
“Мелочи архиерейской жизни”. Собр. соч., т. XXXVI, 1902–1903, с. 34. В иерее подразумевается настоятель храма Спаса на Сенной, священник Иоанн Образцов.
(обратно)571
Об увольнении “по прошению” объявлено в “Правительственном вестнике” № 40 от 18 февр. 1875 г.
(обратно)572
“С.-Петербургские ведомости”, 1875, № 264, 3 окт., без подписи; № 266, 5 окт., за подписью “Б”.
(обратно)573
См.: письма Лескова к П. К. Щебальскому от середины февраля, 23 февраля и 16 октября 1875 г. — “Шестидесятые годы”, с. 328, 329, 333. Вскользь этот случай затронут Лесковым в статье “О литературных контрактах”. — “Новости и биржевая газ.”, 1888, № 156, 7 июля, изд. 1-е.
(обратно)574
Невская перспектива (Невский проспект), апартаменты (квартира) (франц.).
(обратно)575
См.: письмо Лескова к П. К. Щебальскому от 15 января 1876 г. — “Шестидесятые годы”, с. 339.
(обратно)576
Пушкинский дом.
(обратно)577
“Устрой и умножь и возрасти на всякую долю человека голодного и сирого, хотящего, просящего и производящего, благославляющего и неблагодарного”.
(обратно)578
Крылов А. Н. Мои воспоминания. Изд-во АН СССР, 1945, с. 501.
(обратно)579
Тарле Е. В. Талейран. Изд-во АН СССР, 1948, с. 34.
(обратно)580
Скальковскому. — А. Л.
(обратно)581
Пушкинский дом.
(обратно)582
Письмо не сохранилось и дата его неизвестна.
(обратно)583
Письмо от 1 марта 1875 г. — Пушкинский дом. Письмо от 1 марта 1875 г. — Пушкинский дом.
(обратно)584
“Житие одной бабы”. Эпилог. — “Б-ка для чтения”, 1863, авг.
(обратно)585
“Повести, очерки и рассказы М. Стебницкого”. Спб., 1867, или “Сборник мелких беллетристических произведений Н. С. Лескова-Стебницкого”. Спб., 1873, в обоих изданиях с. 42
(обратно)586
Собр. соч., т. VIII, 1902–1903, ч. 1, с. 132.
(обратно)587
Впервые опубликован в журнале “Гражданин”, 1875, № 52, 28 дек. 1876, № 1–4 и 6 от 5, 12, 18, 25 янв. и 8 фев.
(обратно)588
Впервые опубликован в журнале “Странник”, 1877, № 1–2.
(обратно)589
Первоначально напечатана в “Нов. времени”, 1879, № 1375, 25 дек. Письмо без даты. — Пушкинский дом. В позднейших перепечатках рассказ назывался “Чертогон”.
(обратно)590
См. ниже: ч. VI, гл. 2, “Отставка”.
(обратно)591
Первоначально “Рождественская ночь в вагоне” — “Нов. время”, 1882, № 2453, 24 дек.
(обратно)592
“Нов. время”, 1888, № 4271, 4272, 19, 20 янв.
(обратно)593
“Русский вестник”, 1874, № 7, 8, 10.
(обратно)594
Пушкинский дом.
(обратно)595
вероятно, в первых ее частях. — А. Л.
(обратно)596
Письмо от 11 февр. 1888 г. — Пушкинский дом.
(обратно)597
Письмо от 2 марта 1889 г. — Пушкинский дом.
(обратно)598
Письмо от 23 дек. 1891 г. — “Шестидесятые годы”, с. 381.
(обратно)599
“Шестидесятые годы”, с. 330.
(обратно)600
“Исторический вестник”, 1886, № 8.
(обратно)601
Письмо от 9 июня 1875 г. — “Шестидесятые годы”, с. 295.
(обратно)602
Перефразировка пушкинской элегии.
(обратно)603
“Гражданин”, 1877, № 23–24, 25–26, 27–29 и отд. издание 1878.
(обратно)604
“Клоподавие. Орловский живой вариант к киевской бумаге”. — Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)605
Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)606
Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)607
Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)608
строка отрезана. — А. Л.
(обратно)609
Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)610
“Шестидесятые годы”, с. 296. “Пелеринаж” — паломничество (франц.).
(обратно)611
“Шестидесятые годы”, с. 298.
(обратно)612
переплетчика
(обратно)613
Д. А. Толстому. — А. Л.
(обратно)614
“Шестидесятые годы”, с. 298.
(обратно)615
Хранятся в Бахрушинском музее, Москва.
(обратно)616
1Гастрономическая лавка на углу Фурштатской и Воскресенского.
(обратно)617
сильно гундосившему председателю ученого комитета А. И. Георгиевскому. — А. Л.
(обратно)618
Все три письма — в Бахрушинском музее, Москва.
(обратно)619
французским теологом. — А. Л.
(обратно)620
Письмо от 29 июля 1875 г. — “Шестидесятые годы”, с. 330–331.
(обратно)621
“Владычный суд”. Собр. соч., т. XXII, 1902–1903, с. 92.
(обратно)622
жена поэта А. К. Толстого. — А. Л.
(обратно)623
Собр. соч., т. XXXIII, 1902–1903, с. 98.
(обратно)624
Там же, т. XXXV, 1902–1903, с. 73.
(обратно)625
“Б-ка для чтения”, 1864, сент.
(обратно)626
“Гражданин”, 1875, № 3, 4 от 19 и 26 янв.
(обратно)627
Горький М. Собр. соч., т. XXII, 1933, с. 69.
(обратно)628
Л. Н. Толстой. — А. Л.
(обратно)629
“Письма русских писателей к А. С. Суворину”. Л., 1927, с. 66
(обратно)630
Письмо от 1 июня 1891 г. — Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)631
Письмо от 16 февраля 1894 г. — Пушкинский дом.
(обратно)632
“Исторический вестник”, 1883, № 12, с. 505.
(обратно)633
“Письма Толстого и к Толстому”. М.—Л., 1928, с. 129.
(обратно)634
“Развлечение”, 1860, № 13, 26 марта.
(обратно)635
“Кругозор”, 1878, № 1, 3 янв.
(обратно)636
Курочкин В. Пгребальные дроги. — “Искра”, 1869, № 13, 24 марта.
(обратно)637
Каткова. — А. Л.
(обратно)638
Письмо от 10 ноября 1875 г. — “Шестидесятые годы”, с. 332–333.
(обратно)639
Там же, с. 334–335.
(обратно)640
Легкий двухколесный экипаж в одну лошадь (англ.).
(обратно)641
Излишества, обильности (франц.).
(обратно)642
“Православное обозрение”, 1876, сент., окт. 1877, февр.; отд. изд.: Москва, 1877 и Спб., 1877.
(обратно)643
Письма Засецкой к Лескову: Фаресов, гл. IV; “Живописное обозрение”, 1900, апр. № 4. Автографы — в ЦГЛА.
(обратно)644
“Православное обозрение”, 1876, март. Отд. изд.: Москва, 1876. Дано приложением ко второму изданию “Великосветского раскола”, 1877.
(обратно)645
Лесков Н. “Чудеса и знамения”. Наблюдения, опыты и заметки, — “Церковно-общественный вестник”, 1878, № 40, 2 апр.
(обратно)646
Николай Лесков. “Вероисповедная реестровка”. — “Новости и биржевая газ.”, 1-е изд., 1883, № 65, 7 июня.
(обратно)647
См.: напр., “Исторический вестник”, 1883. № 4. 1886, № 9; “Новости и биржевая газ.”, 1884. № 253, 258, 13, 18 сент., №№ 151, 161, 4, 14 июня; “Новь”, 1884, № 1, 1 ноября.
(обратно)648
Шляпкин И. А. К биографии Н. С. Лескова. — “Русская старина”, 1895, № 12. с. 213.
(обратно)649
Письмо от 8 сентября 1875 г. — Пушкинский дом.
(обратно)650
Письмо к Щебальскому от 15 января 1876 г. — “Шестидесятые годы”, с. 338.
(обратно)651
Письмо к нему же от 18 января 1876 г. — “Шестидесятые годы”, с. 340.
(обратно)652
“Русская старина”, 1895, № 12, с. 212.
(обратно)653
Письмо от 22 апреля 1888 г. — “Письма русских писателей к А. С. Суворину”. Л., 1927, с. 76.
(обратно)654
“Православное обозрение”, 1876, 1877; “Странник”, 1877; “Церковно-общественный вестник”, 1877, 1878, 1881, 1883.
(обратно)655
Напечатано под первоначальным заглавием “Три добрых дела”.
(обратно)656
Письмо Лескова к Б. Бубнову от 29 июля 1891 г. — “Шестидесятые годы”, с. 364.
(обратно)657
Письмо к Л. Н. Толстому от 4 января 1893 г. — “Письма Толстого и к Толстому”, с. 128.
(обратно)658
“Островитяне”. Собр. соч., т. XII, 1902–1903, с. 159, 177.
(обратно)659
Мать моя стояла на классическом образовании. — А. Л.
(обратно)660
Письмо от 15 мая 1877 г. — Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)661
От 9 и 15 мая 1877 г. — Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)662
Розгардiяш — беспорядок, сумятица, неурядица (укр.).
(обратно)663
жены Алексея Семеновича. — А. Л.
(обратно)664
Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)665
Письмо от 1 ноября 1894 г. — Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)666
Неточная цитата из первого послания апостола Павла коринфянам, X, 12.
(обратно)667
Пушкинский дом.
(обратно)668
ЦГЛА.
(обратно)669
Письмо от 16 октября 1880 г. — Фаресов, с. 154, 155. Автограф в Гос. Публичной б-ке им. Салтыкова-Щедрина.
(обратно)670
Письмо к Аксакову от 9 декабря 1881 г. — Пушкинский дом.
(обратно)671
В лучшие области (нем.). Письмо от 15 ноября 1884 г. — “Исторический весник”, 1916, № 3, с. 789.
(обратно)672
Письмо от 31 марта 1883 г. — Фаресов, с. 161.
(обратно)673
Письмо к моей матери от 14 сентября 1879 г. Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)674
“Смех и горе”. Собр. соч., т. XV, 1902–1903, с. 5.
(обратно)675
в ее старших сыновьях. — А. Л.
(обратно)676
Письмо от 14 сентября 1879 г. — Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)677
Письмо к М. И. Михельсону от 8 апреля 1884 г. — Пушкинский дом.
(обратно)678
“Интересные мужчины”. Собр. соч., т. XX, 1902–1903, с. 3.
(обратно)679
Там же, с. 174.
(обратно)680
Там же, т. XXI, с. 31.
(обратно)681
Материалы, освещающие вопрос создания “Левши”, указаны в комментариях к однотомнику “Избранные произведения Н. С. Лескова”, Гослитиздат, 1945 и след.
(обратно)682
См.: “Печерские антики”, гл. 13.
(обратно)683
Письмо не датировано. — ЦГЛА.
(обратно)684
Побережье (нем.).
(обратно)685
Письмо от 21 июня 1879 г. — ЦГЛА.
(обратно)686
“Новое время”, 1879, № 1214, 17 июля.
(обратно)687
“Выписка из журнала Особого отдела Ученого комитета Министерства народного просвещения. 4 декабря (1879 г. № 387). О преподавании закона божия в народных школах”. Спб., тип. А. С. Суворина, 1880.
(обратно)688
Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)689
Записи. — Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)690
Письмо от 24 июня 1879 г. — ЦГЛА.
(обратно)691
“Из одного дорожного дневника”. — “Северная пчела”, 1862, № 346, 22 дек. Без подписи.
(обратно)692
Письмо от 3 февраля 1881 г. — Пушкинский дом.
(обратно)693
Письмо от 1 ноября 1875 г. — Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)694
Собр. соч., т. XIII, 1902–1903, с. 49.
(обратно)695
Там же, т. XV, с. 97.
(обратно)696
Там же т. 1, с. 75.
(обратно)697
“Русская рознь”, 1881, гл. XVII, с. 280.
(обратно)698
Собр. соч., т. XX, 1902–1903, с. 152.
(обратно)699
два слова подчеркнуты дважды. — А. Л.
(обратно)700
Письмо от 22 августа 1879 г. — Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)701
Первоначальное заглавие “Рождественская ночь в вагоне”. — “Новое время”, 1882, № 2453, 24 дек.
(обратно)702
Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)703
Большой болтун, но малый мастер (франц.).
(обратно)704
Письмо от 21 марта 1886 г. — Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)705
Письмо от 9 августа 1886 г. — Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)706
Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)707
Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)708
Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)709
Письмо к Н. Н. Крохиной от 5 октября 1892 г. — ЦГЛА.
(обратно)710
Письмо к О. С. Крохиной от 8 ноября 1892 г. — Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)711
Письмо к О. С. Крохиной от 21 июля 1891 г. — Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)712
Письмо от 26 апреля, 19 и 28 июня, 1 сентября 1894 г. и от 3 февраля 1895 г. — ЦГЛА.
(обратно)713
Давняя надзирательница отделения больницы св. Николая, в котором находилась Ольга Васильевна. Упоминается Лесковым в бесподписной заметке “Женская тень, преследовавшая Семенову”. — “Петербургская газ.”, 1885, № 272, 4 окт.
(обратно)714
Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)715
Фаресов, с. 153. — Автограф в Гос. Публичной б-ке им. Салтыкова-Щедрина. “Беллетристика”. — “Из мелочей архиерейской жизни”. — “Исторический вестник”, 1880, № 6
(обратно)716
Запись от 8 апреля 1871 г. — Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)717
В. П. Протейкинским. — А. Л.
(обратно)718
“Ливадия” — увеселительный сад и опереточный театр на берегу Большой Неки в Новой Деревне. “Царская Славянка” — излюбленный петербургскими немцами ресторан с кегельбаном, почти рядом с “Ливадией”, над той же Невкой.
(обратно)719
Письмо от 17 июня 1880 г. — Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)720
Упоминаемая здесь поездка в Старую Руссу нашла себе потом отражение в рассказе, один вариант которого, под заглавием “Дикая фантазия”, опубликован в “Литературном современнике”, 1934, № 12, с моим послесловиям и комментарием; второй, озаглавленный “Справедливый человек”, пока не опубликован. — А. Л.
(обратно)721
Apх. A. H. Лескова.
(обратно)722
Речь идет о рассказе “Несмертельный Голован”, пока писавшемся еще “вдоль”, по письму Лескова к Шубинскому от 16 октября 1880 г. написанном уже и “впоперек”, а в декабре появившемся в “Историческом вестнике”.
(обратно)723
Письмо от 27 июня 1880 г. — Арх. А. H. Лескова.
(обратно)724
Письмо от 6 июля 1880 г. — Там же.
(обратно)725
Письмо от 27 июня 1880 г. — Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)726
1880, № 1735, 25 дек.
(обратно)727
Письмо Лескова к И. С. Аксакову от 9 февраля 1881 г.
(обратно)728
См.: рассказ “Дикая фантазия”. — “Литературный современник”, 1934, № 12, с. 90.
(обратно)729
Говорят, что император скончался (франц.).
(обратно)730
См.: письмо Победоносцева к великому князю Александру Александровичу от 14 мая 1876 г. — “Письма Победоносцева к Александру III”, т. I. М., 1925, с. 44.
(обратно)731
См.: письма Победоносцева к Н. И. Субботину. — “Чтения императорского Общества истории и древностей российских при Московском университете”. М., 1915.
(обратно)732
Гос. Публичная б-ка им. Салтыкова-Щедрина.
(обратно)733
См.: “Былое”, 1906, март, с. 48–55.
(обратно)734
“Записки декабриста барона А. Е. Розена”. Лейпциг, 1870, с. 149.
(обратно)735
общую для всех пятерых казнимых. — А. Л.
(обратно)736
Ср.: Фаресов, с. 312.
(обратно)737
Никитин В. Н. — автор книг “Жизнь заключенных” (1871), “Тюрьма и ссылка” (1880) и др.
(обратно)738
Письмо от 5 марта 1888 г. — “Звезда”, 1931, № 2.
(обратно)739
“Новости и биржевая газ.”, 1882, № 284 (2-е изд.), 26 окт.; “Привет г. Петрову в Киев”. — Там же, 1884, № 346, 15 дек. и др. См.: статью Н. Петрова в “Московских ведомостях”, 1884, № 344, 12 дек. в “Тр. Киевской духовной академии”, 1884, № 12.
(обратно)740
Заглавие одной из боевых статей Лескова, помещенной в “Биржевых ведомостях”, 1869, № 153, 8 июня, без подписи. Перепечатана в “Вечерней газ.”, 1869, № 126, 129 от 11, 14 июня. См.: письмо Лескова к П. К. Щебальскому от 8 апреля 1871 г. — “Шестидесятые годы”, с. 309–311.
(обратно)741
Лесков пишет “Тымки” — так, как это слово произносили окрестные украинские крестьяне.
(обратно)742
Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)743
Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)744
“Новости и биржевая газ.”, 1882, № 294, 295, 5, 6 ноября.
(обратно)745
“Путимец”. — “Газ. А. Гатцука”, 1883, № 39–42.
(обратно)746
“Новое время”, 1882, № 2338, 1 сент.
(обратно)747
Там же, № 2335, 29 авг. Без подписи.
(обратно)748
Напр.: Кузьмин Н. Н. Н. С. Лесков в Киеве. Маленький фельетон. — “Новое время”, 1915, № 13991, 22 февр.
(обратно)749
Письмо от 14 июня 1882 г. — Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)750
Письмо от 20 августа 1883 г. — Пушкинский дом.
(обратно)751
Письмо от 3/15 июля 1884 г. — Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)752
Письмо от 4 февраля 1892 г. — Там же.
(обратно)753
ЦГЛА.
(обратно)754
Москва, 1871; Собр. соч., т. XV, 1889–1890, с. 5–193.
(обратно)755
Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)756
Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)757
Письмо из Мариенбада в Киев от 12/24 июня 1884 г. — Арх. Л. Н. Лескова.
(обратно)758
Письмо к Н. С. Лескову от 2 февраля 1879 г. — Арх. А. П. Лескова.
(обратно)759
Письмо от 16 августа 1889 г. — Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)760
Письмо от 30 августа 1889 г. — Арх. А. Н. Лескова
(обратно)761
Письмо от 19 сентября 1889 г. — Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)762
Письмо без даты. — Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)763
Письмо к О. С. Крохиной от 10 марта 1886 г. — Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)764
Письмо от 17 апреля 1886 г. — Там же.
(обратно)765
Имеются в виду заботы о постном, монашеском столе.
(обратно)766
Письмо к Н. П. Крохину от 29 октября 1888 г. — Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)767
В местечке Сморгонь Виленской губернии долго существовала, учрежденная князьями Радзивиллами, школа для обучения медведей, прозванная Сморгонской академией. В шестидесятых годах так же окрестили и вновь учрежденные юнкерские училища, куда принимались полковые вольноопределяющиеся из недоучившихся в среднеучебных заведениях. Такие училища были в каждом военном округе по одному для пехоты, а для кавалерии два на всю Россию — в Твери и Елисаветграде.
(обратно)768
Письмо Лескова к В. М. Бубновой от 2 января 1883 г. — Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)769
Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)770
“Русская мысль”, 1894, № 12.
(обратно)771
Письмо от 24 декабря 1885 г. — Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)772
Любовные лихорадки, передряги (нем.).
(обратно)773
Из письма Н. С. Лескова к А. Н. Лескову от 29 августа 1887 г. — Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)774
См.: напр., переписку Победоносцева с Н. И. Субботиным (“Чтения императорского Общества истории и древностей российских при Московском университете”, 1915, кн. 2) и с Е. М. Феоктистовым (“Литературное наследство”, 1935, № 22–24).
(обратно)775
Письмо Лескова к В. Г. Черткову, без даты, видимо, начала 1887 г. — Арх. В. Г. Черткова, Москва.
(обратно)776
Письмо Лескова к П. К. Щебальскому от 15 января 1876 г. — “Шестидесятые годы”, с. 339.
(обратно)777
“Литературная б-ка”, 1867, сент., кн. 1, с. 93.
(обратно)778
Пушкинский дом
(обратно)779
Никитенко А. В. Моя повесть о самом себе. Т. II. Спб., 1905, с. 506.
(обратно)780
Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)781
13, 20, 27 ноября и 4 дек. 1879 г.
(обратно)782
“Министерство народного просвещения. Выписка из журнала Особого отдела Ученого комитета Министерства народного просвещения. 4 Декабря 1879 г № 387. О преподавании закона божия в народных школах. СПб., 1880. Напечатано в количестве 200 экз. по распоряжению г. министра народного просвещения”.
(обратно)783
“Гражданин”, 4874, № 49, 9 дек.
(обратно)784
“Гражданин”, 1875, № 3, 19 янв.
(обратно)785
“Заметка на официальное опровержение, напечатанное в № 3 Гражданина, по требованию обер-прокурора святейшего Синода”. Было набросано два пункта и едва начат третий. — ЦГЛА.
(обратно)786
Письмо от 25 ноября 1881 г. — Пушкинский дом.
(обратно)787
Вечер без танцев (анг.).
(обратно)788
Покровительствуемого (франц.).
(обратно)789
Светской болтовни, разговоров (франц.).
(обратно)790
Письмо от 9 декабря 1881 г. — Пушкинский дом.
(обратно)791
“Исторический вестник”, 1881, № 10, с. 379–392.
(обратно)792
Там же, 1881, № 11, с. 652–655.
(обратно)793
Там же, 1882, № 4, с. 222–225.
(обратно)794
“Новое время”, 1881, № 2008, 30 сент.
(обратно)795
“Новости”, 1880; № 159, 18 июня.
(обратно)796
“Исторический вестник”, 1881, № 2, с. 388.
(обратно)797
“Религиозное врачебноведение и адвокатура” — “Новое время”, 1880, № 1419, 9 февр.; “Святительские тени” — “Исторический вестник”, 1881, № 5, “Бродяги духовного чина” — “Новости и биржевая газ.”, 1882, № 122, 129, 135 от 11, 20 мая; “Райский змей” — “Новое время”, 1882, № 2131, 2 февр.; “Вечерний звон и другие средства к искоренению разгула и бесстыдства” — “Исторический вестник”, 1882, № 6; “Синодальные персоны” — там же, 1882, № 11 и др.
(обратно)798
“Новое время”, 1883, № 2466–2468, 9—11 янв.
(обратно)799
“Мелочи архиерейской жизни”. Собр. соч., т. XXXV, 1902–1903, с. 126
(обратно)800
Пушкинский дом.
(обратно)801
“Исторический вестник”, 1883, № 2.
(обратно)802
Гос. Публичная б-ка им. Салтыкова-Щедрина.
(обратно)803
видимая описка. — А. Л.
(обратно)804
Тертий Иванович Филиппов.
(обратно)805
“Протопоп Комарь и две Комарихи”. — “Новое время”, 1882, № 2437, 9 дек.
(обратно)806
По запискам синодального секретаря Ф. Ф. Исмайлова Лесковым были опубликованы: “Синодальные персоны”. — “Исторический вестник”, 1882, № 11; “Картины прошлого”. — “Новое время”, 1883, №№ 2461, 2469, 2475, 2483 от 4, 12, 18, 26 янв.
(обратно)807
Лесков с глубоким уважением относился к церковному историку Е. Е. Голубинскому, очень нелюбимому и преследуемому Победоносцевым. Упоминается он у Лескова в ряде статей, опубликованных преимущественно в “Историческом вестнике”: 1880, № 6; 1881, № 5, 11, 12; 1882, № 3, 5; 1883, № 2; в “Мелочах архиерейской жизни”. Собр. соч., т. XXXV, 1902–1903, с, 123. Особенно выразительно вылилось восхищение Лескова Голубинским в письме его к С. Н. Шубинскому, датированном “средой пасхи 1880 года”, т. е. 23 апреля: “…о Голубинском никому не поверю. Я читаю его страстно, но сужу не увлекаясь: он понимает дух нашей церк[овной] истории, как никто, и толкует источники вдохновенно, как художник, а не буквоед. Он должен быть руган и переруган, но прав будет он, а не его судьи. Он производит реформу и должен пострадать за правду, — это в порядке вещей, но правда, и притом вдохновенная правда, исторического проникновения с ним… Я не спал 4 ночи, не будучи в силах оторваться от книги. — Не думаю, чтобы суд о нем был суд правый, — митрополит Макарий не дал бы денег на издание пустотного труда, а он их дал, несмотря на то, что Голубинский много раз противоречит Макарию. О Голубинском вернее всех отозвался некто таким образом: “Он треплет исторические источники, как пономарь поповскую ризу, которую он убирает после служения”. Сейчас ее еще целовали, сейчас чувствовали, как с ее “ометов” каплет благодать, а он ее знай укладывает… Грубо это, но ведь он знает, что под нею не благодать, а просто крашенина с псиным запахом от попова пота. Но Голубинский, кажется, так и идет на это… Это Шер русской церковной истории, у которой до сих пор были только “кандиловозжигатели”. Пусть что кому нравится, а мне нравятся Шлоссер, Ренан, Шер, Костомаров, Знаменский и Голубинский…”
(обратно)808
Письмо от 12 марта 1883 г. — “Украïна”, 1928, № 2, с. 112–113.
(обратно)809
кстати сказать, “по прошению”. — А. Л.
(обратно)810
“Из общественной хроники” — “Вестник Европы”, 1883, № 4, с. 901–903, 906–910. Здесь говорится об увольнении Лескова за статью его “Поповская чехарда и приходская прихоть”.
(обратно)811
Гос. Публичная б-ка им. Салтыкова-Щедрина.
(обратно)812
Пушкинский дом.
(обратно)813
в данном случае Лескова. — А. Л.
(обратно)814
“Исторический вестник”, 1883, № 5, с. 487–488.
(обратно)815
“Из литературы и жизни”. — “Церковно-общественный вестник”, 1883, № 71, 2 июня, с. 4.
(обратно)816
“Граф Л. Н. Толстой и Ф. М. Достоевский как ересиархи. Религия страха и религия любви” — “Новости и биржевая газ.”, 1883, № 1, 3 (1-е изд.), 1 и 3 апреля; “Золотой век. Утопия общественного переустройства. Картины жизни по программе К. Леонтьева”. — Там же, 1883, № 80, 87 (1-е изд.), 22 и 29 июня.
(обратно)817
“Книжки “Недели”, 1893, № 11.
(обратно)818
Письмо от 11 ноября 1893 г. — Пушкинский дом.
(обратно)819
Письмо от 26 апреля 1885 г. — Пушкинский дом.
(обратно)820
“Звенья”, кн. 3–4, 1934, с. 894–902.
(обратно)821
Вероятно, Федор Иванович, брат композитора С. И. Танеева.
(обратно)822
“Петербургская газ.”, 1887, № 203, 27 июля. См.: также “Неделя”, 1887, №№ 29 и 31 от 19 июля и 2 авг.
(обратно)823
См.: письмо Лескова к Л. Н. Толстому от 5 августа 1888 г. — “Письма Толстого и к Толстому”, 1928, с. 69.
(обратно)824
Циркуляр министра народного просвещения от 18 июля 1887 г. № 9255.
(обратно)825
ЦГЛА.
(обратно)826
Письмо к А. С. Суворину от 30 сентября 1887 г. — Пушкинский дом.
(обратно)827
“Правда”, 1937, № 18 (7146), 2 июля.
(обратно)828
“Новое время”, 1890, № 5215, 5 сент.
(обратно)829
“Год XVII. Альманах четвертый”, 1934, с. 377–386.
(обратно)830
Фаресов, с. 161.
(обратно)831
Письмо к С. Н. Терпигореву от 22 февраля 1894 г. — “Русские писатели о литературе”. Л., 1939, т. II, с. 304.
(обратно)832
Письмо от 9 августа 1884 г. — “Щукинский сборник”. М., 1909, вып. VIII, с. 192–193.
(обратно)833
“Новь”, 1885, № 6, 15 янв., с. 290–297. Эпиграф взят автором у Н.И. Пирогова; Собр. соч., т. XX, 1902–1903, с. 91—104.
(обратно)834
См.: напр., “Отеч. зап.”, 1886, № 23, с. 258–287; 1867, № 5, с. 35–48; “Литературная б-ка”, 1867, окт., кн. 1, с. 91—111; ноябрь, кн. 2, с. 248–264; дек., кн. 2, с. 243–262; “Биржевые ведомости”, 1869, № 4, 20, 30, 114, 116, 125, 127, 149, 204, 215, 224, 234, 256, 266, 274, 306, 340; 1870, № 203; “Современная летопись”, 1871, № 16, с.14, № 31, с. 12–13, № 32, с. 12; № 34, с. 13–14; № 36, с. 14–15, № 38, с. 15–10, № 40, с. 13–15, № 44, с. 14–15; № 45, с. 14.
(обратно)835
“Русский мир”, 1872, № 24, 26 янв. Подпись: Л. С.
(обратно)836
Не издана. ЦГЛА.
(обратно)837
См.: “Полунощники”, гл. 6, Собр. соч., т. XXXIV, 1902–1903, с. 50.
(обратно)838
См.: “Житие одной бабы”, гл. III и IV. — “Б-ка для чтения”, 1863, № 7, 8, с. 1—60, 1—68, или Избранные сочинения, “Academia”, 1931, с. 1—168.
(обратно)839
Письмо от 25 января 1869 г. — “Шестидесятые годы”, с. 303.
(обратно)840
Эм. И. Как работают наши писатели. Н. С. Лесков. — “Новости и биржевая газ.”, 1895, № 49, 19 февр.
(обратно)841
Собр. соч., т. VII, 1902–1903, с. 109.
(обратно)842
См.: Виктор Русаков. Как жил и работал автор “Соборян”. — Листки из литературных воспоминаний. — “Известия книжных магазинов т-ва М. О. Вольф.”, 1900, № 6, с. 79–83. Настоящая фамилия автора — С. Ф. Либрович. Есть у него сведения о Лескове в кн.: Либрович С. Ф. На книжном посту. П.—М., 1916.
(обратно)843
“Русские писатели о литературе”. Л., 1939, т. II, с. 296.
(обратно)844
Фидлер Ф. Ф. Литературные силуэты. Н. С. Лесков. — “Новое слово”, 1914, № 8, с. 32–36.
(обратно)845
В. П. у Н. С. Лескова — “Петербургская газ.”, 1894, № 326, 27 ноября.
(обратно)846
Незаконченная повесть с предисловием А. А. Измайлова и письмами Лескова к Е. М. Бем, опубликована в “Невском альманахе”, Пгр., 1917, вып. 2. с. 138–186.
(обратно)847
Волынсий А. Л. Н. С. Лесков. Пгр., 1923, с. 59.
(обратно)848
другим. — А. Л.
(обратно)849
Микулич В. Встреча с писателями. Л., 1929, с. 162–163.
(обратно)850
Письмо Лескова к С. Е. Добродееву от 9 марта 1894 г. — Пушкинский дом.
(обратно)851
См.: Шляпкин И. А. К биографии Н. С. Лескова. — “Русская старина”, 1895, № 12, с. 205–215.
(обратно)852
“Интересные мужчины”. Собр. соч., т. XX, 1902–1903, с. 23.
(обратно)853
Письмо от 30 сентября 1887 г. — Пушкинский дом.
(обратно)854
“Биржевые ведомости”, 1869, № 240, 5 сент.
(обратно)855
Из поэмы А. К. Толстого “Песня о Потоке-богатыре”.
(обратно)856
А. О. Из литературных воспоминаний, — “Новое время”, 1900, № 8705, 23 мая
(обратно)857
Письмо от 12 декабря 1881 г. — Пушкинский дом.
(обратно)858
Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)859
как и у мастеров европейских школ. — А. Л.
(обратно)860
ЦГЛА.
(обратно)861
Знак, ставившийся этим художником на своих произведениях вместо подписи во второй половине его жизни.
(обратно)862
Намек на деятельность Громеки как седлецкого губернатора, давшую ему кличку “Степан-креститель”. — “Откуда пошла глаголемая ерунда и хирунда” — “Новости и биржевая газ.”, 1884, № 243, 3 сент.
(обратно)863
Явление духа — “Кругозор”, 1878, № 1, 3 янв.
(обратно)864
Письмо от 14 июня 1889 г. — “Печать и революция”, 1928, дек. с. 37–57.
(обратно)865
“Русская мысль”, 1890, № 1, с. 97—167.
(обратно)866
Письмо от 10 мая 1891 г. — “Голос минувшего”, 1916, № 7–8, с. 408.
(обратно)867
См.: “Смех и горе”, гл. 88. Собр. соч., т. XV, 1902–1903, с. 184; “Островитяне”, гл. 7, там же, т. XII, с. 64.
(обратно)868
Письмо Лескова к А. П. Милюкову от 12 июня 1875 г. — “Шестидесятые годы”, с. 296.
(обратно)869
“Исторический вестник”, 1886, № 8, с. 269–273.
(обратно)870
“Исторический вестник”, 1886, № 5, с. 312–328.
(обратно)871
Н. Л. — в “Потревоженные тени”. — Там же, 1890, № 12, с. 817–819.
(обратно)872
Стихотворение Пушкина “Ответ анониму”, 1830 г. — А. Л.
(обратно)873
Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)874
В библиотеке им. Ленина хранится рукопись Лескова 1891 года не опубликованного московским журналом “Русская мысль” рассказа “Неоцененные услуги. Отрывки из воспоминаний” (первоначальное заглавие “Нашествие варваров”), в 2 1/2 листа, в котором все повествование ведется от лица этого дипломата.
(обратно)875
“Художественный журнал”, 1882, № 11, с. 293–295.
(обратно)876
Письмо от 18 марта 1888 г. — “Письма русских писателей к А. С Суворину”. Л., 1927, с. 60.
(обратно)877
Архив Репина.
(обратно)878
Архив Репина.
(обратно)879
“Игрушечка”, 1888, № 4.
(обратно)880
“Живописное обозрение”, 1890, № 2
(обратно)881
Изд. Сытина, 1890, Москва.
(обратно)882
Изд. Сытина, 1890, Москва.
(обратно)883
Письмо от 15 мая 1889 г. — Архив Черткова. Москва.
(обратно)884
ЦГЛА.
(обратно)885
Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)886
Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)887
ЦГЛА.
(обратно)888
“Письма Толстого и к Толстому”, 1928, с. 101.
(обратно)889
в “Русской мысли”. — А. Л.
(обратно)890
“Памяти Виктора Александровича Гольцева. Статьи, воспоминания, письма”. М.,1910, с. 254.
(обратно)891
Пушкинский дом.
(обратно)892
“Жизнь Клима Самгина”, т. 1.
(обратно)893
“Соборяне”. Собр. соч., т. II; 1902–1903, с. 154.
(обратно)894
“Северная пчела”, 1862, № 70, 13 марта, передовая.
(обратно)895
Впервые эта надпись Лескова опубликована И. А. Шляпкиным в “Русской старине”, 1895, № 12, 63. Впоследствии этот экземпляр исчез.
(обратно)896
“Недельная хроника восхода”, 1884, № 5, 5 февр. столбцы 129–133; № 6, 12 февр., столбцы 153–158; № 7, 19 февр., столбец 185; № 10, 11 марта, столбцы 257–261; № 15, 15 апр. столбцы 409–412; № 19, 13 мая, столбцы 522–525.
(обратно)897
“Газ. А. Гатцука”, 1884, № 8, 25 февр., с. 143–144; “Новое время”, 1884, № 2867, 21 февр.
(обратно)898
Письмо от 28 марта 1890 г. — ЦГЛА.
(обратно)899
Гессен Ю. Из тайн прошлого. — “Еврейская неделя”, 1918, № 24–25.
(обратно)900
“Еврей в России. Несколько замечаний по еврейскому вопросу” Пгр., 1920.
(обратно)901
Собр. соч., т. VII, 1902–1903, с. 148, 149.
(обратно)902
“Задушевное слово”, 1886–1887, № 1–7, 9, 10–12, 14, ноябрь—январь. Часы фигурируют в “Интересных мужчинах”, “Александрите”, “Тупейном художнике”. Им же уделен и ряд газетных заметок: “О часовых мастерах” — “Петербургская газ.”, 1884, № 37, 7 февр.; “Первые частные часы с астрономической сверкой” — там же, 1884, № 2887, 18 окт.; “Часы и кровать Пушкина” — там же, 1886, № 54, 25 февр.; “Эрмитажный павлин” — там же, 1886, № 288, 20 окт. — все без подписи; “Башенные часы Петропавловской крепости”. — Там же, 1887, № 132, 16 мая, за подписью “Любитель часов”.
(обратно)903
“Русские демономаны”. — “Русская рознь”, 1881. Спб., с. 272 и дальше. Первоначально — “Случаи из русской демономании” — “Новое время”, 1880, № 1552, 25 мая.
(обратно)904
“Исторический вестник”, 1881, № 12, с. 846–849.
(обратно)905
“Из жизни”. — “Петербургская газ.”, 1884, № 47, 17 февр. Без подписи.
(обратно)906
“Владычный суд”. Собр. соч., т. XXII, 1902–1903, с. 109.
(обратно)907
“Литературный разновес для народа”. — “Новое время”, 1881, № 2008, 30 сент.
(обратно)908
Письмо от 16 марта 1884 г. — Пушкинский дом.
(обратно)909
Письмо от 18 марта 1884 г. — Пушкинский дом.
(обратно)910
Письмо от 26 марта 1888 г. — “Письма русских писателей к А. С. Суворину”. Л.,1927, с. 64–65.
(обратно)911
“Новое время”, 1882, № 2323, 17 авг.
(обратно)912
“Новости и биржевая газ.”, 1886, № 109, 22 апр.
(обратно)913
Письмо от 19 апреля 1888 г. — “Письма русских писателей к А. С. Суворину”. Л., 1927, с. 72.
(обратно)914
Письмо от 31 мая 1888 г. — Архив Черткова, Москва.
(обратно)915
Письмо от 23 января 1891 г. — “Письма Толстого и к Толстому”. Л., 1928, с. 95.
(обратно)916
Письмо от 27 июня 1893 г. — Пушкинский дом. “Невинный Пруденций” впервые напечатан в журнале “Родина”, 1891, № 1.
(обратно)917
О нем см. ниже: с. 572 и сл.
(обратно)918
Перечисленные книги находятся в собрании А. Н. Лескова.
(обратно)919
Книжный магазин Д. Е. Кожанчикова находился против Публичной библиотеки, на западном углу Невского и Малой Садовой.
(обратно)920
Трактир этот помещался вплотную рядом с Публичной библиотекой, по Садовой ул., ныне дом № 18. Он упоминается Лесковым неоднократно, в частности в рассказе “Дама и Фефела”. Собр. соч., т. XXI, 1902–1903, с. 22.
(обратно)921
В[иктор] П[ротопопов]. Портреты Н. С. Лескова. — “Наше время”. Еженедельный иллюстрированный журнал литературы, политики и общественной жизни” (изд. “Петербургской газ.”), 1894, № 2, 15 дек.
(обратно)922
“Н. А. Лейкин в его воспоминаниях и переписке”. Спб., 1907, с. 173.
(обратно)923
Якушкин. — А. Л.
(обратно)924
ныне ул. Белинского. — А. Л.
(обратно)925
“Товарищеские воспоминания о Якушкине”. Собр. соч. П. И. Якушкина. Спб., 1884, с. L.
(обратно)926
уг. Литейной и Пантелеймоновской улицы, ныне Пестеля. — А. Л.
(обратно)927
“Картины прошлого”. — “Новое время”, 1883, № 2469, 12 янв.
(обратно)928
Избр. соч. М., 1945, гл. VI, с. 417.
(обратно)929
Сб. “Посев”. Одесса, 1921, с. 83–86.
(обратно)930
Применено в “Полунощниках”, гл. VI. Собр. соч., т. XXXIV, 1902–1903, с. 45.
(обратно)931
В чьих-то воспоминаниях рассказывалось, как однажды зашедший “по долгу службы” закусить в пустой кабинетик помощник пристава был поражен характером доносившихся песнопений. Не рассчитывая встретить во второклассном трактире сколько-нибудь значительных лиц, он, войдя к соседям, Предложил им открыть их имена и звания. Первым четко отрекомендовался Пилат — артист императорских театров Иван Федорович Горбунов. “Редактор “Санктпетербургских полицейских ведомостей”, действительный статский советник Сергей Васильевич Максимов”, — без передышки в тон первому рапортовал второй из песнопевцев. Переконфуженный представитель полиции, предваряя дальнейшие декларации, с усиленными извинениями учинил постыдную ретираду.
(обратно)932
“Указатель экономический”, 1861, № 221, 12 февр.
(обратно)933
Собр. соч., т. XVIII, 1902–1903, с. 93.
(обратно)934
Гос. Публичная б-ка им. Салтыкова-Щедрина.
(обратно)935
Пушкинский дом.
(обратно)936
Гос. Публичная б-ка им. Салтыкова-Щедрина.
(обратно)937
Пушкинский дом.
(обратно)938
Гос. Публичная б-ка им. Салтыкова-Щедрина.
(обратно)939
Фаресов, с. 151.
(обратно)940
Гос. Публичная б-ка им. Салтыкова-Щедрина.
(обратно)941
Фаресов, с. 128.
(обратно)942
Гос. Публичная б-ка им. Салтыкова-Щедрина.
(обратно)943
Гос. Публичная б-ка им. Салтыкова-Щедрина.
(обратно)944
Гос. Публичная б-ка им. Салтыкова-Щедрина.
(обратно)945
“Привет!” Художествевно-научно-литературный сб. Спб., 1898.
(обратно)946
См.: “Петербургская газ.”, 1884, № 351, 21 дек.
(обратно)947
Ресторан на Большой Конюшенной (ныне ул. Желябова).
(обратно)948
ЦГЛА.
(обратно)949
Премия к журналу “Осколки”. Спб., 1891, с. 11.
(обратно)950
подразумевается А. С. Суворин. — А. Л.
(обратно)951
“Клоподавие”. — Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)952
“Литературное бешенство”. — “Исторический вестник”, 1883, № 4, с. 154–160.
(обратно)953
“Новопреставленный Сютаев”. — “Лев Николаевич Толстой. Юбилейный сб.”. М.—Л., 1929, с. 331.
(обратно)954
“Памяти Николая Семеновича Лескова” — “Игрушечка” (для детей младшего возраста), 1895, № 9, с. 392–393.
(обратно)955
“Еще о детях” — “Петербургская газ.”, 1885, № 53, 24 февр.; “Незаконнорожденные дети”. — Там же, № 159, 13 июня. Без подписи.
(обратно)956
“Фигура” — “Труд”, 1889, № 13, с. 1—26; “Юдоль” — сб. “Нивы”, т. II, 1892, июнь, с. 553–634; “Пустоплясы”. — “Северный вестник”, 1893, янв., с. 220–230.
(обратно)957
“Грабеж” — “Книжки “Недели”, 1887, дек., с. 1—52; “Интересные мужчины” — “Новь”, 1885, № 10, 11, 15 марта, 1 апр., с. 215–228, 441–458.
(обратно)958
“Дама с похорон Достоевского” или “По поводу “Крейцеровой сонаты”, написано в 1890 г., опубликовано: “Нива”, 1899, № 30, с. 557–564.
(обратно)959
Письмо от 31 мая 1888 г. — Архив Черткова. Москва.
(обратно)960
“Новопреставленный Сютаев”. — “Лев Николаевич Толстой. Юбилейный сб.”. М.—Л., 1929, с. 330–331.
(обратно)961
Письма Лескова к Елшиной хранятся в Пушкинском доме. Ее письма к нему не сохранились.
(обратно)962
Толиверова. — А. Л.
(обратно)963
Письмо от 12 апреля 1888 г. — “Письма русских писателей к А. С. Суворину”. Л., 1927, с. 68.
(обратно)964
Письмо от 10 июля 1889 г. — Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)965
Письмо от 12 января 1891 г. — “Письма Толстого и к Толстому”, 1928, с. 88.
(обратно)966
Письмо от 20 января 1891 г. — Там же, с. 92.
(обратно)967
Письмо от 7 февраля 1891 г. — Там же, с. 97.
(обратно)968
Письмо от Шмецка от 7 июля 1891 г. — Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)969
Письмо от 2 июля 1892 г. — “Невский альманах”, 1915, с. 94, “Из архива Северного вестника”.
(обратно)970
Письмо от 12 июля 1891 г. — “Письма Толстого и к Толстому”, с. 109.
(обратно)971
Письмо от 14 сентября 1891 г. — Там же, с. 119.
(обратно)972
Письмо Лескова от 5 августа 1893 г. — Микулич В. Встречи с писателями. Л., 1929, с. 189.
(обратно)973
Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)974
Собр. соч., т. XX, 1902–1903, с. 131.
(обратно)975
Иероним Ясинский. Роман моей жизни. М.—Л., 1926, с. 202; “Дневник А. С. Суворина”. М. — Пгр., 1923, с. 177.
(обратно)976
Письмо от 9 апреля 1886 г. — Пушкинский дом.
(обратно)977
Опубликован в апрельской книжке 1888 г. Собр. соч., т. XXX, 1902–1903, с. 21–28.
(обратно)978
См.: письмо Лескова к П. Гайдебурову от 8 января 1893 г. с обращением к Литературному фонду. — Пушкинский дом.
(обратно)979
Письмо от 20 марта 1889 г. — Пушкинский дом.
(обратно)980
Маленькой куколкой (нем.). — Двадцать два письма Лескова к Катерине Кукк хранятся в Пушкинском доме.
(обратно)981
Карандашный набросок. — Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)982
Ср.: в корне неверное толкование и зыбкие разъяснения А. И. Фаресова в книге “Против течений”, с. 146, или в публикации Жерве Н. П. В сб. “Стожары”, 1923, кн. 3, с. 61–64.
(обратно)983
“Литературная б-ка”, 1867, сент., кн. 2, с. 200.
(обратно)984
Письмо от 24 июня 1879 г. — ЦГЛА.
(обратно)985
Письмо от 25 февраля 1894 г. — “Стожары”, 1923, кн. 3. Сверено по автографу, хранящемуся в Пушкинском доме. Ср.: Фаресов А. И. Н. С. Лесков о женщинах и детях — “Биржевые ведомости” (утренний вып.), 1905, № 8681
(обратно)986
Собр. соч., т. XXVIII, 1902–1903, с. 138.
(обратно)987
Запись. — Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)988
Собр. соч., т. XVI, 1902–1903, с. 157.
(обратно)989
“Исторический вестник”, 1881, № 1, с. 139–146. При вторичной публикации, в сб. “Русская рознь”, Спб, 1881, с. 203–214, рассказ озаглавлен: “Император Франц-Иосиф и Анна Фетисовна”
(обратно)990
Банковско-консисторского? — А. Л.
(обратно)991
Сочинения П. И. Якушкина. Изд. Михневича. Спб., 1884, Биографический очерк С. В. Максимова. Воспоминания Бобрыкина, Вейнберга, Горбунова, Курочкина, Лейкина, Лескова, Минаева и других.
(обратно)992
“Исторический вестник”, 1908, № 10, с. 170–172.
(обратно)993
Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)994
“Газ. А. Гатцука”, 1884, № 20, 26 мая.
(обратно)995
Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)996
Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)997
Письмо от 8 июля (26 июня) 1884 г. — Там же
(обратно)998
Письмо от 28 мая 1883 г. “Украïна”, 1927, № 1–2, с. 193.
(обратно)999
Письмо от 30 июня (12 июля) 1884 г. — Гос. Публичная б-ка им. Салтыкова-Щедрина.
(обратно)1000
“Вчера и сегодня”, 1884, № 172, 24 июня.
(обратно)1001
Я. “Маленькая хроника” — “Новое время”, 1884, № 3000, 6 июля.
(обратно)1002
5 июля опубликовано “высочайшее повеление” от 5 января 1884 г.
(обратно)1003
“Гражданство и администрация в России” (нем.).
(обратно)1004
Письмо от 11/23 июня 1884 г. Гос. Публичная б-ка им. Салтыкова-Щедрина. Оба письма к С. Н. Шубинскому необстоятельно цитированы Фаресовым в книге “Против течений”, 1904, с. 257–261.
(обратно)1005
ЦГЛА.
(обратно)1006
“Новь”, 1885, № 10, 11, 15 марта, 1 апр. Сюжетно сопрягать рассказ с приводимым В. Крестовским в его “Истории 14 уланского Ямбургского полка” самоубийством корнета Н. Десятова едва ли во всем оправдываемо.
(обратно)1007
“Новь”, 1885, № 6, 15 янв., с. 290–297.
(обратно)1008
Заимствование из соответствующей русской пословицы — А. Л.
(обратно)1009
Собр. соч., т. XX, 1902–1903, с. 97–98.
(обратно)1010
Родилась 14 июля 1846 г. в Панине.
(обратно)1011
Письмо от 24 мая 1867 г. — Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)1012
Письмо от 11 декабря 1870 г. — Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)1013
Светской дамы (франц.).
(обратно)1014
Письмо от 29 октября 1888 г. — Арх. А. И. Лескова.
(обратно)1015
Письмо от 7 октября 1888 г. — Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)1016
Письмо от 28 июня 1889 г. — Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)1017
Письмо от 3 июля 1889 г. — Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)1018
Письмо от 13 декабря 1889 г. — Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)1019
Письмо к А. С. Лескову от 26 сентября 1885 г. — Там же.
(обратно)1020
Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)1021
Письмо от 6 апреля 1889 г. — Там же.
(обратно)1022
Письмо от 18 марта 1890 г. — Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)1023
Пасхальные вакации. — А. Л.
(обратно)1024
Ольги Семеновны с Клотильдой Даниловной. — А. Л.
(обратно)1025
Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)1026
Письмо от 10 июня 1890 г. — Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)1027
Письмо от 11 июня 1890 г. — Там же.
(обратно)1028
Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)1029
Письмо от 13 марта 1892 г. — Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)1030
зачеркнуто: Вере. — А. Л.
(обратно)1031
Письмо от 29 марта 1892 г. — Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)1032
Письмо от 13 августа 1892 г. — Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)1033
Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)1034
то есть от меня. — А. Л.
(обратно)1035
то есть покойного Василия Семеновича. — А. Л.
(обратно)1036
обо мне. — А. Л.
(обратно)1037
Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)1038
Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)1039
Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)1040
Записка без обращения и даты. — Пушкинский дом.
(обратно)1041
“Торговая игра на имя Л. Н. Толстого” — Петербургская газ.”, 1885, № 262, 24 сент.; “Приглашение к слезам”. — Там же, № 263, 25 сент.; “Заповедь Писемского” — Там же, № 264, 26 сент.; “Новые брошюры, приписываемые перу гр. Л. Н. Толстого”. — Там же, № 265, 27 сент.; “Брошенные на улицу”. — Там же, № 266, 28 сент. — все заметки без подписи. В эти же дни пишется открытое письмо издателю журнала “Новь” А. М. Вольфу о прекращении печатанием романа “Незаметный след”, опубликованное в журнале “Новь”, 1885, № 23, 1 окт.
(обратно)1042
Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)1043
“Бракоразводное забвенье. Причины разводов брачных по законам греко-российской церкви” — вырезана из № 12 “Исторического вестника”, 1885.
(обратно)1044
Письмо от 10 декабря 1885 г. — Арх. А Н. Лескова.
(обратно)1045
Фамилия А. Н. Толиверовой по первому мужу.
(обратно)1046
Путька — маленький белый пуделек. Письмо от 24 декабря 1885 г. — Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)1047
Письмо от 5 января 1886 г. — Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)1048
Письмо от 20 августа 1886 г. — Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)1049
“Чудеса и знамения. Наблюдения, опыты и заметки” — “Церковно-общественный вестник”, 1878, № 34, 19 марта. Статья представляет собой отклик на статью в № 27 от 3 марта в том же журнале: “По поводу прекращения литературной деятельности И. С. Тургенева”.
(обратно)1050
Стебницкий М. С людьми древлего благочестия. — “Б-ка для чтения” 1863, № 11, с. 29.
(обратно)1051
Собр. соч., т. XXX, 1902–1903, с. 111.
(обратно)1052
О боях на Андреевском спуске дважды поведано самим Лесковым в статьях: “Маленькие шалости крупного человека” — “Русский мир”, 1877, № 4, 5 янв. и “Бибиковские меры” — “Неделя”, 188, № 6, 7 февр. Отчасти и в “Печерских антиках”, Собр. соч., т. XXXI, 1902–1903, с. 84–85.
(обратно)1053
Свободно (нем.).
(обратно)1054
Пушкинский дом.
(обратно)1055
ЦГЛА.
(обратно)1056
Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)1057
Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)1058
В. И. Асташев, генерал, известный золотопромышленник. — А. Л.
(обратно)1059
данная мне командиром полка. — А. Л.
(обратно)1060
Письмо от 30 августа 1888 г. — “Щукинский сб.”. М., 1909, вып. VIII, с. 192–193.
(обратно)1061
Письмо от 13 сентября 1891 г. — Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)1062
Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)1063
Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)1064
Ср.: Фаресов, с. 129.
(обратно)1065
В письме к Н. Н. Страхову от 6 марта 1865 г. Лесков писал: “У меня есть повесть, почти роман, вовсе не тенденциозный и совсем отделанный отчетливо. — называется “Всяк своему нраву работает”. Роман, переозаглавленный в “Обойденные”, вышел не в “Эпохе” Достоевского, куда предлагался автором, а у Краевского в “Отечественных записках”, 1865, № 18–24, 15 сент. — 15 дек. Письма Лескова к Страхову хранятся в Гос. Публичной б-ке им. Салтыкова-Щедрина.
(обратно)1066
“Ищущим дела на лето”. (Письмо в редакцию). — “Петербургская газ”, 1886, № 352, 23 дек.
(обратно)1067
“Одичалые мореплаватели”. — “Новое время”, 1886, № 3783, 10 сент., № 3785, 12 сент.
(обратно)1068
Намек на происшествие, разыгравшееся тогда в Ревеле.
(обратно)1069
“Еще об одичалых мореходцах” — “Новое время”, 1886, № 3797, 24 сент.
(обратно)1070
Там же, 1886, № 3803, 30 сент.
(обратно)1071
Письмо от 16 апреля 1887 г. — ЦГЛА.
(обратно)1072
Письмо от 6 апреля 1883 г. — “Украiна”, 1927, № 1–2, с. 191.
(обратно)1073
Письмо от 23 мая 1883 г. — “Украïна”, 1927, № 1–2, с. 192. — Лето, 1883 г. фактически Лесков прожил на даче под Петербургом в Шувалове.
(обратно)1074
“Исторический вестник”, 1881, № 2, с. 358.
(обратно)1075
“Добрый пример”. — “Новое время”, 1887, № 3939, 16 февр.
(обратно)1076
“Острова, где растет трынь-трава”. — “Новое время”, № 3971, 20 марта.
(обратно)1077
то есть менять квартиру в Петербурге. — А. Л.
(обратно)1078
один вопрос семейного характера. — А. Л.
(обратно)1079
квартиры. — А. Л.
(обратно)1080
Письмо от 3 июня 1887 г. — Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)1081
Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)1082
Письмо от 24 марта 1888 г. — Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)1083
Письмо от 30 марта 1888 г. — Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)1084
Письмо от 7 апреля 1888 г. — Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)1085
легко? — А. Л.
(обратно)1086
“Письма русских писателей к А. С. Суворину”. Л., 1927, с. 74.
(обратно)1087
Письмо от 12 апреля 1888 г. — Там же, с. 68.
(обратно)1088
здесь уже затрагивается вопрос о полном собрании сочинений. — А. Л.
(обратно)1089
Письмо от 22 апреля 1888 г. — Там же., с. 76.
(обратно)1090
Письмо от 10 сентября 1886 г. — Пушкинский дом.
(обратно)1091
Письмо от 31 января 1888 г. — Там же.
(обратно)1092
В “Неделе”, “Новом времени”, “Петербургской газ.” “Новостях и биржевой газ.”, “Историческом вестнике”.
(обратно)1093
Уютностью (нем.).
(обратно)1094
“Аренсбург на Эзеле”. — “Новое время”, 1888, № 4421, 21 июня; № 4427, 27 июня; № 4437, 7 июля; “Дачная жизнь. Аренсбург”. — “Петербургская газ.”, 1888, № 178, 1 июля, без подписи.
(обратно)1095
“Аренсбург на Эзеле”. — “Новое время”, 1888, № 4451, 21 июля.
(обратно)1096
Там же, № 4459, 29 июля.
(обратно)1097
“Аренсбург на Эзеле”.— “Новое время”, 1888, № 4492, 31 авг.
(обратно)1098
Там же, № 4498, 6 сент., без подписи.
(обратно)1099
“Аренсбург на Эзеле”. — “Новое время”, 1888, № 4521, 29 сент.
(обратно)1100
“Господину Лескову!” (нем.).
(обратно)1101
Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)1102
“Новое время”, 1888, № 4541, 19 окт.
(обратно)1103
Не сохранились.
(обратно)1104
Пушкинский дом.
(обратно)1105
Проказа затрагивалась еще Лесковым в статьях и заметках: “Grand mersi”. — “Новое время”, 1889, № 4819, 30 июля; “Проказа лезет к локтю”. — “Неделя”, 1892, № 22, 31 мая.
(обратно)1106
Архив Черткова, Москва.
(обратно)1107
Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)1108
Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)1109
Фаресов А. И. Алексей Константинович Шеллер (А. Михайлов). Биография и мои о нем воспоминания. Спб., 1901, с. 13. Дата письма не указана. Автограф неизвестен.
(обратно)1110
“Мелочи архиерейской жизни”. Собр. соч., т. XXXV, 1902–1903, с. 72.
(обратно)1111
Там же, т. III, с. 75.
(обратно)1112
Горький М. О литературе. Статьи и речи. 1928–1936. Изд. 3-е. М., 1937, с. 274.
(обратно)1113
Горький М. История русской литературы. М., 1939, с. 275.
(обратно)1114
См.: “О русском искусстве”. — “Литературная газ.”, 1938, 26 марта.
(обратно)1115
Горький М. Несобранные литературно-критические статьи. М., 1941, с. 90.
(обратно)1116
Горький М. История русской литературы. М., 1939, с. 276.
(обратно)1117
Горький М. История русской литературы. М., 1939, с. 276.
(обратно)1118
Письма Лескова от 16 и 17 мая 1888 г. — “Письма русских писателей к А. С. Суворину”, с. 81 и сл.
(обратно)1119
Пушкинский дом.
(обратно)1120
См.: письмо Лескова к Л. Н. Толстому от 12 января 1893 г. — “Письма Толстого и к Толстому”, с. 132.
(обратно)1121
Микулич В. Встречи с писателями. Л., 1929, с. 168–169.
(обратно)1122
Пушкинский дом.
(обратно)1123
Письмо к А. И. Пейкер, “ночь на 21 декабря 1878 года”. — ЦГЛА.
(обратно)1124
Л. Н. Толстой. — А. Л.
(обратно)1125
Лесков. — А. Л.
(обратно)1126
Л. Г. Из дневника журналиста. — “Северный вестник”, 1895, № 4, с. 68
(обратно)1127
Гос. Публичная б-ка им. Салтыкова-Щедрина.
(обратно)1128
Фаресов.с.410–411.
(обратно)1129
Фаресов, с. 382.
(обратно)1130
Фаресов А. Парадоксы Н. С. Лескова. — “Слово”, 1905, приложение к № 147, 11 мая.
(обратно)1131
Письмо от 11 февраля 1888 г. — Пушкинский дом.
(обратно)1132
Письмо Н. С. Лескова к А. Е. Разоренову. — А. И. Яцимирский. Друзья русских самородков. — “Русская мысль”, 1902, № 2, с. 152–153.
(обратно)1133
1889, № 12, 12 янв. — Письмо от 10 января 1889 г.
(обратно)1134
Письмо от 10 января 1889 г. — “Письма Толстого и к Толстому”, с. 72.
(обратно)1135
Фаресов А. И. Александр Константинович Шеллер (А. Михайлов). Биография и мои о нем воспоминания. Спб., 1901, с. 135–136.
(обратно)1136
“Голос минувшего”, 1916, № 7–8, с. 403.
(обратно)1137
ЦГЛА.
(обратно)1138
Пушкинский дом.
(обратно)1139
ЦГЛА.
(обратно)1140
Пушкинский дом.
(обратно)1141
“Русской мысли”. — А. Л.
(обратно)1142
“Голос минувшего”, 1916, № 7–8, с. 409–410.
(обратно)1143
“Русская мысль”, 1894, № 9.
(обратно)1144
сокращение одного из намечавшихся заглавий для будущего “Заячьего ремиза”. — А. Л.
(обратно)1145
“Памяти Виктора Александровича Гольцева”. М., 1916, с. 253.
(обратно)1146
Пушкинский дом.
(обратно)1147
Пушкинский дом.
(обратно)1148
Письмо от 31 октября 1872 г. — “Русская старина”, 1904, № 6, с. 623–624.
(обратно)1149
Пушкинский дом.
(обратно)1150
Пушкинский дом.
(обратно)1151
“Письма русских писателей к А. С. Суворину”, с. 74–76.
(обратно)1152
Письмо не датировано; видимо, январь, 1888 г. — Пушкинский дом.
(обратно)1153
“Письма русских писателей к А. С. Суворину”, с. 77–78.
(обратно)1154
мою мать. — А.Л.
(обратно)1155
Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)1156
Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)1157
“Товарищеский подарок”. — “Новой время”, 1888, № 4525, 3 окт.
(обратно)1158
Стебницкий М. — “Б-ка для чтения”, 1863, №№ 7, 8, с. 1—60 и 1—68.
(обратно)1159
Изд. “Время”, Л., 1924.
(обратно)1160
Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)1161
Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)1162
Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)1163
В действительности Феоктистов был колко и обидно затрагиваем Лесковым несколько раз в статьях и особенно распространенно и оскорбительно в романе “Некуда”. Мстительному человеку было за что свести счеты. См.: “О литераторах белой кости” — “Русский инвалид”, 1862, № 15, 20 янв.; “С людьми древлего благочестия”. — “Б-ка для чтения”, 1863, № 11, с. 6–7; “Некуда”, ч. II, гл. 7, 11 и 27; передовая статья в “Северной пчеле”, 1862, № 80, 23 марта.
(обратно)1164
Пушкинский дом.
(обратно)1165
“Голос минувшего”, 1916, № 7–8, с. 402–403.
(обратно)1166
Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)1167
Лев Бертенсон. Из воспоминаний о Николае Семеновиче Лескове. — “Русская мысль”, 1915. № 10, с. 90.
(обратно)1168
Лев Бертенсон. Из воспоминаний о Николае Семеновиче Лескове. — “Русская мысль”, 1915. № 10, с. 90.
(обратно)1169
“Голос минувшего”, 1916, № 7–8, с. 403.
(обратно)1170
Пушкинский дом.
(обратно)1171
Пушкинский дом.
(обратно)1172
Пушкинский дом.
(обратно)1173
подчеркнуто Лесковым дважды. — А. Л.
(обратно)1174
бога. — А. Л.
(обратно)1175
Коломниным, зятем Суворина и юрисконсультом “Нового времени”. — А. Л.
(обратно)1176
Пушкинский дом.
(обратно)1177
Письмо без даты; видимо, октябрь 1889 года. — Арх. В. Г. Черткова, Москва.
(обратно)1178
Лесков Н.С. Изб. соч., М., 1945, с. 294–295
(обратно)1179
Арх. А.Н. Лескова.
(обратно)1180
Арх. А.Н. Лескова.
(обратно)1181
Екатерина Иринеевна, жена пользовавшего Лескова последние два года врача. Написала, по моей просьбе, очень смелые в импровизации, смешении положений и фактов, воспоминания о Лескове. Список их хранится в Пушкинском доме, автограф в моем архиве. Опровергающие расположение к ней Лескова отзывы его о ней см.: Фаресов А. Из воспоминаний о Лескове, “Свободным художествам”, 1910, ноябрь, с. 27–28. Она проходит под условным наименованием “яркая расцветка”.
(обратно)1182
Фаресов, с. 379.
(обратно)1183
Фаресов А. И. Александр Константинович Шеллер (А. Михайлов). Спб., 1901, с. 124.
(обратно)1184
то есть Феоктистов. — А. Л.
(обратно)1185
Пушкинский дом.
(обратно)1186
Пушкинский дом.
(обратно)1187
Петр Петрович Коломнин, заведовавший хозяйственной частью “Нового времени”. Письмо Лескова от 5 декабря 1890 г. — Пушкинский дом.
(обратно)1188
Пушкинский дом.
(обратно)1189
Пушкинский дом.
(обратно)1190
Собрание сочинений Н. С. Лескова, т. XI, Спб., 1893, Содержание: “Час воли божией”, “Полунощники”, “Юдоль”, “О квакереях”, “Импровизаторы”, “Пустоплясы”, “Дурачок”, “Невинный Пруденций”, “Легендарные характеры”. В 1896 году посмертно вышел двенадцатый том, изданный уже А. Ф. Марксом. Затем им же изданы: второе Полное собрание сочинений Н. С. Лескова, Спб., 1897, тожественное первому с его дополнительными томами, и третье — в приложении к журналу “Нива” — в 1902–1903 гг. в тридцати шести томах
(обратно)1191
Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)1192
Пушкинский дом.
(обратно)1193
G. André prof. Гигиена старческого возраста. Спб., 1891, с. 72. — Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)1194
Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)1195
Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)1196
Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)1197
Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)1198
Буренину. — А. Л.
(обратно)1199
Пушкинский дом.
(обратно)1200
Л. Н. Толстого и Н. Н. Ге за жестокий реализм написанного и привезенного последним на выставку Христа перед Пилатом. — А. Л.
(обратно)1201
Величко. — А. Л.
(обратно)1202
на вокзал. — А. Л.
(обратно)1203
Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)1204
“Печать и революция”, 1928, кн. 8, с. 37–57.
(обратно)1205
Пушкинский дом.
(обратно)1206
экземпляры арестованного VI тома. — А. Л.
(обратно)1207
Пушкинский дом.
(обратно)1208
“Письма Толстого и к Толстому”, с. 109.
(обратно)1209
“Письма Толстого и к Толстому”, с. 109.
(обратно)1210
“Исторический вестник”, 1916, № 3, с. 808.
(обратно)1211
“Письма Толстого и к Толстому”, с. 127.
(обратно)1212
Быстрое приближение смерти (лат.).
(обратно)1213
“Письма Толстого и к Толстому”, с. 145.
(обратно)1214
См.: письмо Терпигорева к Лескову, без даты. — Фаресов, с. 203.
(обратно)1215
Сергей Атава. Умерший писатель. — “Новое время”, 1895, № 6816, 19 февр.
(обратно)1216
Ср.: Фаресов, с. 123.
(обратно)1217
Письма к дальней свойственнице Н. Н. Блюменталь от 3 апреля 1840 г. и 31 декабря 1893 г. — ЦГЛА.
(обратно)1218
Фаресов, с. 408.
(обратно)1219
Письмо Лескова к М. О. Меньшикову от 15 февраля 1894 г. — Пушкинский дом.
(обратно)1220
“Биржевые ведомости”, 1869, № 66, 68, 70, 75, 98, 99, 109.
(обратно)1221
“Биржевые ведомости”, № 340, 14 дек.
(обратно)1222
Письмо Лескова к И. С. Аксакову от 28 июля (9 августа) 1875 г. — Пушкинский дом.
(обратно)1223
“Шестидесятые годы”, с. 299.
(обратно)1224
церкви. — А. Л.
(обратно)1225
“Письма русских писателей к А. С. Суворину”, с. 58.
(обратно)1226
Письмо № 48. — Пушкинский дом.
(обратно)1227
Сер. “Европейская б-ка”, Спб., 1885, с. 21.
(обратно)1228
Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)1229
Карнович. — А. Л.
(обратно)1230
1885 же года. Карнович скончался 25 октября 1885 года. — А. Л.
(обратно)1231
“Новь”, 1886, № 2 (датирован 15 ноября 1885 г.), с. 288–289.
(обратно)1232
“Письма русских писателей к А. С. Суворину”, с. 59.
(обратно)1233
Гос. Публичная б-ка им. Салтыкова-Щедрина. Ср.: Фаресов, с. 98–99. Гос. Публичная б-ка им. Салтыкова-Щедрина. Ср.: Фаресов, с. 98–99.
(обратно)1234
“Исторический вестник”, 1886, № 11, с. 249–280.
(обратно)1235
“Новое время”, 1886, № 3838, 4 ноября. Статья вызвана “Литературным обозрением” А. М. Скабичевского (“Новости и биржевая газ.”, 1886, № 271, 2 окт.) и заметкой там же, в № 280.
(обратно)1236
Пушкинский дом. Статья Лескова “Календарь графа Толстого” опубликована в журнале “Русское богатство”, 1887, № 2, с. 195–207. Календарь упоминается еще в бесподписной заметке Лескова “О пьесе и о народном календаре графа Л. Н. Толстого”. — “Петербургская газ.”, 1887, № 15, 16 янв.
(обратно)1237
Пушкинский дом.
(обратно)1238
Архив В. Г. Черткова, Москва.
(обратно)1239
Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)1240
“Письма Толстого и к Толстому”, с. 64–65.
(обратно)1241
Через 7 лет включено в главу I предсмертного “Зимнего дня”. Собр. соч., т. XXVIII, 1902–1903, с. 119.
(обратно)1242
Архив Черткова. Москва. — Любопытно, что очень близкого взгляда держался в этом вопросе и, по лесковскому выражению, умевший долбануть прямо в жилу А. К. Шеллер, находивший, что Толстой “совсем не признает денег… Он не имеет их вовсе в своей комнате и потому никому не помогает ими… Он уже совсем ничего не имеет. Он не дает денег ни на школы, ни на больницы, ни на журнал. Вот куда завело его резонерство”. (Фаресов А. И. Александр Константинович Шеллер (А. Михайлов). Спб., 1901, с. 74.
(обратно)1243
Пушкинский дом.
(обратно)1244
Крейцерова. — А. Л.
(обратно)1245
Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)1246
“Письма Толстого и к Толстому”, с. 126–127.
(обратно)1247
Пушкинский дом.
(обратно)1248
ЦГЛА.
(обратно)1249
ЦГЛА.
(обратно)1250
Пушкинский дом.
(обратно)1251
Всеволод. — А. Л.
(обратно)1252
Пушкинский дом.
(обратно)1253
Пушкинский дом.
(обратно)1254
Пушкинский дом.
(обратно)1255
Микулич В. Встречи с писателями. Л., 1929, с. 193.
(обратно)1256
Пушкинский дом.
(обратно)1257
Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)1258
Архив Черткова, Москва.
(обратно)1259
“Письма Толстого и к Толстому”, с. 63.
(обратно)1260
Собр. соч., т. XXVIII, 1902–1903, с. 117, 118, 149.
(обратно)1261
См. ниже, с. 612.
(обратно)1262
Микулич В. Встречи с писателями. Л., 1929, с. 168.
(обратно)1263
См.: письмо Лескова к Л. Н. Толстому от 28 августа 1894 г. — “Письма Толстого и к Толстому”, с. 177.
(обратно)1264
Фаресов, с. 338.
(обратно)1265
Письмо Лескова к Черткову 17 апреля 1892 г. — Архив Черткова, Москва.
(обратно)1266
Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)1267
Микулич В. Встречи с писателями, с. 199.
(обратно)1268
Запись. — Арх. А. Н. Лескова. Ср.: Фаресов, гл. XV.
(обратно)1269
Микулич В. Встречи с писателями, с. 189.
(обратно)1270
Ср.: Лесков. Пустоплясы. Собр. соч., т. XXXIII, 1902–1903, с. 111.
(обратно)1271
жена Величко — М. Г. Муретова. — А. Л.
(обратно)1272
Запись. — Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)1273
Запись. — Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)1274
Гуревич Л. Я. — “Северный вестник”, 1895, № 4, с. 64–68, и письмо ее к А. Н. Лескову от 28 июня 1937 г. — Арх. А. Н. Лескова; Бирюков П. И. Биография Л. Н. Толстого, т. III, с. 173–179; “Помощь голодным”. — “Книжки “Недели”, 1892, янв.; “Письма Толстого и к Толстому”, с. 124–126.
(обратно)1275
“Письма Толстого и к Толстому”, с. 146.
(обратно)1276
Фаресов А. Умственные переломы в деятельности Н. С. Лескова. — “Исторический вестник”, 1916, № 3, с. 786.
(обратно)1277
Фаресов, с. 70–71.
(обратно)1278
Фаресов, с. 216.
(обратно)1279
Гусев Н. Из воспоминаний — “Литературная газ.”, 1945, № 47 (1158), 17 ноября.
(обратно)1280
“Письма Толстого и к Толстому”, с. 177.
(обратно)1281
“Исторический вестник”, 1881, № 2, с. 359–360; “Русская рознь”, Спб., 1881, с. 66–67.
(обратно)1282
Протопопов В. Заметка. — “Россия”, 1900, № 296. 20 февр.
(обратно)1283
Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)1284
Собр. соч., т. XIII, 1902–1903, с. 154.
(обратно)1285
Собр. соч., т. XIX, 1902–1903, с. 84, 97.
(обратно)1286
Там же, т. XXXI, с. 77–79.
(обратно)1287
Собр. соч., изд. 3-е, с. 487.
(обратно)1288
Протопопов В. У Н.С. Лескова — “Петербургская газ.”, 1892, № 252, 13 сент.
(обратно)1289
ЦГЛА.
(обратно)1290
Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)1291
Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)1292
ЦГЛА.
(обратно)1293
Письмо от 3 января 1935 г. — Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)1294
“Русские общественные заметки”. — “Биржевые ведомости”, 1860, № 242, 10 сент., без подписи; “Русские писатели о литературе”, Л., 1939, с. 291.
(обратно)1295
“Испания и испанцы”. — “Биржевые ведомости”, 1869, № 353, 29 дек. без подписи; “Русские писатели о литературе”, с. 292.
(обратно)1296
Из неизданной работы Лескова по переписке Д. П. Журавского с Н. В. Веригиным под заглавием “Из глухой поры”, 1870, ЦГЛА; “Русские писатели о литературе”, с. 292.
(обратно)1297
Письмо к П. К. Щебальскому от 16 апреля 1871 г. — “Шестидесятые годы”, с. 312–313.
(обратно)1298
Письмо к А. С. Суворину от 7 марта 1873 г. — Пушкинский дом.
(обратно)1299
Эти высказывания Н.С. Лескова повторяют горячие страницы М. Е. Салтыкова-Щедрина, посвященные литературе (см. “Круглый год”). Цитата взята из журнального текста последнего фельетона “Круглый год”. Щедрин относил эти слова к Достоевскому.
(обратно)1300
“Словарь писателей древнего периода русской литературы IX–XVII вв.” Сост. А. В. Арсеньев. — “Исторический вестник”, 1881, № 12, с. 846; “Русские писатели о литературе”, с. 292–293.
(обратно)1301
Письмо к С. Н. Шубинскому от 10 сентября 1885 г. — “Русские писатели о литературе”, с. 293.
(обратно)1302
Суворин. — А. Л.
(обратно)1303
Письмо к А. С. Суворину от 26 марта 1888 г. — “Русские писатели о литературе”, с.293–294.
(обратно)1304
“Первенец богемы в России”. — “Исторический вестник”, 1888, № 6, с. 563–564; “Русские писатели о литературе”, с. 294–295.
(обратно)1305
Пушкинский дом.
(обратно)1306
Репинский архив.
(обратно)1307
Небрежности (франц.).
(обратно)1308
Письмо к С. Я. Шубинскому от 18 марта 1892 г. — “Русские писатели о литературе”, с. 309.
(обратно)1309
“Щукинский сб.”, М., 1909, вып. VIII, с. 193.
(обратно)1310
“Русские писатели о литературе”, с. 291–300.
(обратно)1311
“Жемчужное ожерелье”. — “Новь”, 1885, № 5.
(обратно)1312
“Русские писатели о литературе”, с. 301.
(обратно)1313
“Русские писатели о литературе”, с. 304.
(обратно)1314
“Неразменный рубль”
(обратно)1315
Форшнейдер (нем.) — нарезыватель дичи — одно из придворных званий.
(обратно)1316
“Русские писатели о литературе”, с. 295.
(обратно)1317
Псевдоученая, будто бы ученая.
(обратно)1318
Запись — “Русские писатели о литературе”, с. 309–310.
(обратно)1319
Запись беседных высказываний. — “Русские писатели о литературе”, с. 310.
(обратно)1320
“Русские писатели о литературе”, с. 303–304.
(обратно)1321
“Русские писатели о литературе”, с. 295
(обратно)1322
Запись. — Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)1323
Запись. — “Русские писатели о литературе”, с. 296.
(обратно)1324
Запись. — Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)1325
Запись. — “Русские писатели о литературе”, с. 296.
(обратно)1326
Письмо к С. Н. Шубинскому от 17 декабря 1894 г. — Там же, с. 298–299.
(обратно)1327
Протопопов В. В. У Н. С. Лескова. — “Русские писатели о литературе”, с. 298.
(обратно)1328
Запись. — “Русские писатели о литературе”, с. 295–296.
(обратно)1329
ЦГЛА. Ср.: “Литературный современник”, 1937, № 3, с. 190–191.
(обратно)1330
Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)1331
Пушкинский дом.
(обратно)1332
Суворина, Шубинского, Ясинского (со слов Терпигорева). Гуревич, Весилитской, Фаресова и т. д.
(обратно)1333
“Исторический вестник”, 1881, № 2, с. 357–358; “Русская рознь”, Спб… 1881, с. 63.
(обратно)1334
Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)1335
“Украiна”, 1927, кн. I, с. 192–193.
(обратно)1336
Пушкинский дом.
(обратно)1337
Речь шла о рассказе Толстого, помещенном при посредничестве Лескова 5 февраля 1891 года в № 5366 “Нового времени”, под заглавием “Франсуаза”, без подписи Толстого и с подзаголовком: “Рассказ по Мопассану”. — А. Л.
(обратно)1338
на буренинские выпады. — А. Л.
(обратно)1339
“Письма Толстого и к Толстому”, с. 90.
(обратно)1340
Пушкинский дом.
(обратно)1341
Пушкинский дом.
(обратно)1342
Пушкинский дом.
(обратно)1343
Пушкинский дом.
(обратно)1344
бесчисленных — зачеркнуто. — А. Л.
(обратно)1345
в которых не все еще ясно и спокойно, — не следует, ибо это ничего не уясняет — зачеркнуто. — А. Л.
(обратно)1346
ЦГЛА.
(обратно)1347
“Исторический вестник”, 1885, № 2, с. 327.
(обратно)1348
Т. И. Филипповым.
(обратно)1349
Пушкинский дом.
(обратно)1350
Пушкинский дом.
(обратно)1351
Пушкинский дом.
(обратно)1352
Пушкинский дом.
(обратно)1353
Пушкинский дом.
(обратно)1354
Пушкинский дом.
(обратно)1355
Фаресов, с. 128.
(обратно)1356
Л. Н. Толстым. — А. Л.
(обратно)1357
“Щукинский сб.”, 1902, вып. 1, с. 89.
(обратно)1358
жену Греве. — А. Л.
(обратно)1359
Архив Черткова, Москва.
(обратно)1360
“Письма русских писателей к А. С. Суворину”, с. 58.
(обратно)1361
Письмо Лескова к С. Н. Шубинскому от 29 апреля 1887 г. — Гос. Публичная б-ка им. Салтыкова-Щедрина.
(обратно)1362
ЦГЛА.
(обратно)1363
ЦГЛА.
(обратно)1364
Фаресов А. Годовщина смерти С. Н. Шубинского. — “Исторический вестник”, 1914, № 6, с. 969, ср.: с. 973–974.
(обратно)1365
Письма к Суворину, Пыляеву, Меньшикову. Рассказ Лескова “О добром трешнике” — “Новости и биржевая газ.”, 1888, № 133, 15 мая.
(обратно)1366
Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)1367
См.: статью Фаресова “Л. Н. Толстой о голоде”. — “Новости и биржевая газ.”, 1891, № 244. На другой день “Новое время” в № 5574 поместило выдержку; 10 ноября поместил выдержку и “Киевлянин” в № 197. Для разъяснения вопроса, как письмо попало в печать, Лесков помещает в № 305 “Петербургской газ.” от 6 ноября 1891 г. бесподписную заметку “Голодные харчи Толстого”, писал Толстому и 20 января 1892 г. С. А. Толстой. См.: “Письма Толстого и к Толстому”, с. 115, 118.
(обратно)1368
Ср.: Фаресов, с. 235.
(обратно)1369
Пространно-исповедное Ясинского к Лескову от 14 июля 1889 г. (ЦГЛА) и коротковатое Лескова к нему от 15 июля 1889 г. (собственность П. Е. Безруких).
(обратно)1370
М.—Л., 1926, с. 198–199.
(обратно)1371
Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)1372
“Изречения в прозе Гете”. — “Европейская б-ка”, Спб., 1885, с. 30. Собрание А. Н. Лескова. — В Орле.
(обратно)1373
“Письма Толстого и к Толстому”, с. 182.
(обратно)1374
См.: “Смех и горе”, гл. 56.
(обратно)1375
Письмо к Л. Н. Толстому от 18 мая 1894 г. — “Письма Толстого и к Толстому”, с. 167.
(обратно)1376
Письмо к В. Л. Иванову от 11 сентября 1891 г. — Орловский музей.
(обратно)1377
Письмо к 3. Н. Крохиной от 27 декабря 1894 г. — Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)1378
Письмо к А. С. Лескову от 17 апреля 1886 г. — Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)1379
См.: статьи Лескова: “Герои Отечественной войны по гр. Л. Н. Толстому” — “Биржевые ведомости”, 1869, № 66, 9 марта; “Аллан Кардек” — Там же, 1869, № 156, 12 июня.
(обратно)1380
Т.П. Пассек — писательница, двоюродная сестра Герцена. В действительности умерла на 79-м году; родилась 25 июля 1810 г., скончалась 24 марта 1889 г. Некролог “Литературная бабушка” появился в № 1055 “Всемирной иллюстрации” 8 апр. 1889 г. Портрет покойной, работы 3. П. Ахочинской, помещен там же.
(обратно)1381
Владимир Алексеевич Гатцук, сын А. А. Гатцука, (1832–1891), издателя “Газ. А. Гатцука” и “Крестного календаря”.
(обратно)1382
Письмо от 6 апреля 1889 г. — Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)1383
Нравившееся Лескову выражение из пьесы Толстого “Плоды просвещения”. Применено Лесковым в письме к самому Толстому от 4 января 1891 г.
(обратно)1384
Пушкинский дом.
(обратно)1385
Письмо от 20 января 1891 г. — “Письма Толстого и к Толстому”, с. 90.
(обратно)1386
ЦГЛА.
(обратно)1387
См.: статью Лескова толстовского цикла “О рожне. Увет сынам противления”. — “Новое время”, 1886, № 3838, 4 ноября.
(обратно)1388
ЦГЛА.
(обратно)1389
Микулич В. Встречи с писателями, с. 197.
(обратно)1390
“Письма Толстого и к Толстому”, с. 167.
(обратно)1391
Quidam. Несколько эпизодов из жизни Н. С. Лескова — “Орловский вестник”, 1895, № 57, 2 марта. Менее точная публикация — Фаресов А. Умственные переломы в деятельности Н. С. Лескова. — “Исторический вестник”, 1916, № 3, с. 813.
(обратно)1392
Письмо к В. Л. Иванову от 23 сентября 1892 г. — Фаресов А. Умственные переломы в деятельности Н. С. Лескова. — “Исторический вестник”, 1916, № 3, с. 813. Автограф. — в Тургеневском музее в Орле.
(обратно)1393
Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)1394
Гос. Публичная б-ка им. Салтыкова-Щедрина.
(обратно)1395
“Письмо в редакцию. Об обеде Н. С. Лескову” — “Новости и биржевая газ.”, 1884, № 286, 16 окт.; “Дружеская просьба (Письмо в редакцию)”. — “Новое время”, 1890, № 5074, 16 апр.
(обратно)1396
Пушкинский дом.
(обратно)1397
Гос. Публичная б-ка им. Салтыкова-Щедрина.
(обратно)1398
См.: письма Лескова к Толстому от 1 августа и 19 сентября и ответ Толстого от 7 октября 1894 г. — “Письма Толстого и к Толстому”, с. 168–169, 183, 188.
(обратно)1399
издателей. — А. Л.
(обратно)1400
См.: Мих. Л[емк]е. Разница моментов и настроений. — “Начало”, 1905, № 2, 15 ноября, с. 5.
(обратно)1401
С копии из архива А. Н. Лескова. Ср.: Фаресов, с. 290. См.: Перцов П. Литературные воспоминания. М.—Л., “Academia”, 1933, с. 171.
(обратно)1402
пустым. — А. Л.
(обратно)1403
Фаресов, гл. VIII.
(обратно)1404
Собр. соч., т. XIII, 1902–1903, с. 39.
(обратно)1405
“Чающие движения воды. Романическая хроника”. — “Отечественные записки”, 1867, апр., кн. I, с. 465.
(обратно)1406
Микулич В. Встречи с писателями, с. 204–205.
(обратно)1407
Н. Ф. Лесков (Карельский).
(обратно)1408
“Русские писатели о литературе”, с. 306.
(обратно)1409
В. П. “Петербургские трущобы”. — “Петербургская газ.”, 1895, № 38, 8 февр.
(обратно)1410
“Петербургская газ.”, 1895, № 40, 10 февр.
(обратно)1411
См.: Терпигорев С. Н. Собр. соч., т. VI, с. 635 и посмертную уже для Лескова отповедь В. Протопопова Атаве за этот выпад. — “Новости и биржевая газ.”, 1895, № 60, 2 марта.
(обратно)1412
Дословно — лакирование (франц.), канун официального открытия выставки, на который приглашались избранные лица и на котором присутствовали художники, писатели, критики и т. д.
(обратно)1413
Письмо к М. О. Меньшикову от 10 марта 1894 г. — Пушкинский дом.
(обратно)1414
Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)1415
Нелединский Вл. Томление духа. Вольные сонеты. Пгр., 1916, с. LXII.
(обратно)1416
Портрет находится в Третьяковской галерее. В настоящее время он висит в новой, более обычной раме.
(обратно)1417
Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)1418
Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)1419
См.: Фаресов, с. 143. Автограф затерялся у душеприказчика. Пятый пункт говорил о наследниках и о назначении душеприказчиками “живущих в Петербурге” управляющего книжным магазином “Нового времени” Н. Ф. Зандрока и 3. А. Макшеева. Увы, Зандрок еще в начале 1893 года покинул Петербург и жил уже в Барнауле. Единственным исполнителем литературного завещания очутился глубоко нелитературный человек. Это гибельно сказалось на судьбе архива Лескова.
(обратно)1420
Требует точной установки, что у Лескова, скончавшегося во сне, глаза, разумеется, были закрыты, хотя и не до отказа плотно. Аппарат, поставленный на одном с ними уровне, это неукоснительно запечатлел. Дозакрывать их не было решительно никакой нужды. Написанные по моей просьбе воспоминания Е. И. Борхсениус, экземпляр которых имеется в Пушкинском доме, а подлинник у меня, в данном случае совершенно недостоверны.
(обратно)1421
В Киеве Лесковы были близки с семьей поэта. См.: письмо Н. С. Лескова к брату А. С. от 7 февраля 1887 г. — Арх. А. Н. Лескова.
(обратно)1422
Фидлер Ф. Ф. Литературные силуэты. — “Новое слово”, 1914, № 8, с. 32–36.
(обратно)1423
Н. С. Лесков. — А. Л.
(обратно)1424
“Письма А. П. Чехова”. Т. IV, 1914, с. 364.
(обратно)1425
ЦГЛА. Письмо не датировано.
(обратно)1426
Маска хранится в Пушкинском доме. Слепок с руки не сохранился.
(обратно)1427
“Исторический вестник”, 1883, № 4, с. 160.
(обратно)1428
“Русская мысль”, 1891, кн. XII, с. 258–278.
(обратно)1429
“Русские писатели о литературе”, с. 318–319; “Шестидесятые годы”, с. 381.
(обратно)1430
Ср.: Фаресов. с. 380–381.
(обратно)1431
См.: письмо А. М. Горького к А. Н. Лескову от 21 сентября 1935 г. и выдержки из письма Горького к В. А. Десницкому. — “Литературный современник”, 1937, № 3, с. 155.
(обратно)1432
“Литературная газ.”, 1939, № 37 (816), 5 июля.
(обратно)1433
“Литературный современник”, 1937, № 3, с. 156–192.
(обратно)1434
Лесков Н. С. Избранные сочинения. Гослитиздат, М., 1945, с. XVII–XL.
(обратно)1435
“Кстати о подземельях”. — “Русская жизнь”, 1894, № 103, 17 апр.
(обратно)1436
так! — А. Л.
(обратно)
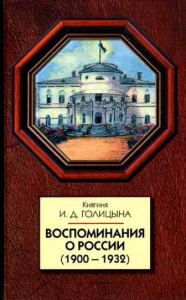



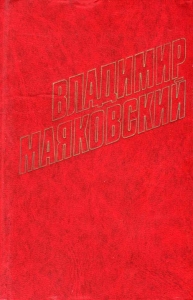
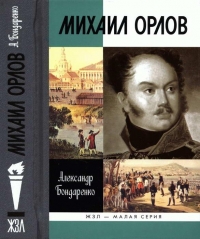

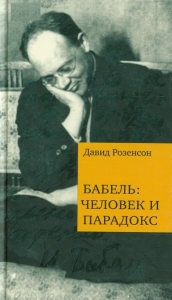
Комментарии к книге «Жизнь Николая Лескова», Андрей Николаевич Лесков
Всего 0 комментариев