Белинков Аркадий Викторович Сдача и гибель советского интеллигента, Юрий Олеша
Аркадий Викторович Белинков
(1921-1970).
СДАЧА И ГИБЕЛЬ СОВЕТСКОГО ИНТЕЛЛИГЕНТА.
ЮРИЙ ОЛЕША.
СОДЕРЖАНИЕ
Я пришел домой...
Образ мира
Первая книга о Толстяках
Поэт и Толстяк
Цветок, садовник, узник и каменщик
Проглоченная флейта
"Собирайте металлолом!"
Смерть поэта
Я ПРИШЕЛ ДОМОЙ...
Я пришел домой и увидел на двери нашей комнаты приколотую записку. Вот что там было написано:
"Аркадий. Я опять ничего не успела. Сходи, пожалуйста, в магазин, купи: хлеба полкило, если есть - обдирный, макароны одну пачку, мыло хоз. один кус., соль одна пачка. Я работала целый день и опять ничего не успела. На тумбочке 80 к. Должна быть сдача. Пожалуйста, не потеряй. Целую, Наташа. Извини, что отрываю тебя, но ведь надо же как-то жить. Обязательно возьми авоську. Целую, Наташа".
Я взял авоську, восемьдесят копеек и пошел в магазин.
Через час я вернулся и увидел на двери приколотую записку. Я внимательно прочитал ее. Там было написано:
"Дорогой Аркадий!
Был у вас, к сожалению, не застал. Жаль. Приехал без звонка. Давно хотелось поговорить. Все время думаю о том, что есть что-то неправильное, ошибочное в том, как мы живем, как пишем. Вы понимаете, наша жизнь полна трудностей, забот, волнений, даже радостей (впрочем, не будем преувеличивать), одним словом, всего, что бывает во всякой жизни, а мы, едва сдерживаясь, чтобы не сорваться, садимся за письменный стол и пишем что-то, никакого отношения к тому, чем живем, не имеющее. Я не раз думал об этом. Это, очевидно, не только наша беда, это какой-то закон, который редко кто может преодолеть. Я всегда в таких случаях вспоминаю Свифта. Жил человек среди других людей, которые, как все люди, были заняты ежедневными заботами, суетой, важнейшими политическими событиями, но когда они садились за стол, то сразу же обо всем этом забывали и начинали писать "Похищение локона" и всю эту кто сентиментальную, кто классичес-кую дребедень. Им даже в голову не приходило, что нужно писать о том, чем живут другие люди, чем, наконец, они сами живут. Эта жизнь не имела отношения к литературе. Считалось, что литература это просто похищение локона или про Муция Сцеволу. А вот Свифт думал не так. Он ел, пил, читал газеты, как и они, ходил на заседания парламента, он писал о том, что видел, что слышал, чем жил сам и чем жили другие. Так написан "Гулливер". Это вот и было важно. Это, а не про Муция Сцеволу, выражающего категорию твердости, оказалось важным через 200 лет.
Ваша беда (да и не только Ваша, все мы хороши) в том, что Вы мучаетесь, страдаете, радуетесь, читаете газеты, размышляете о политике, о жизни, а потом садитесь за стол и пишете об истории и так (я это подчеркиваю, именно в этом смысл), что все написанное не имеет, простите меня, ну, никакого отношения ко всему тому, что так важно. Вы не представляете, как все это меня бесит. Ладно, встретимся, поговорим более подробно. Лена чувствует себя неважно. Сусанке в школе глаз подбили. Звоните. Ваш Андрей".
Я медленно вытащил из авоськи полкило хлеба, коробку макарон, кусок хозяйственного мыла и пачку соли, положил на тумбочку двенадцать копеек сдачи и сел за письменный стол.
- Книги Юрия Олеши, - писал я, - точны, как маленькие макеты нашей истории...
- Но ведь надо же как-то жить, писать... - думал я. - Что же сделал Свифт?
Я медленно кружил по комнате, водя пальцем по книжным полкам.
- Что же самое главное в человеке? - размышлял я. - Внутреннее сопротивление. - Я нарисовал на стекле сигму... Одну, другую... (символ). Сигма - водил я по стеклу пальцем, - сигма, сопротивление... Но все это не так просто... Конечно, сигма важнее всего. Но ведь сигма есть предмет воздействия. А сама по себе... Тогда я начал понимать, в чем дело. Я тяжело вздохнул и сел за письменный стол.
- Р, - написал я, - Р индекс р прямо пропорционально q и обратно пропорционально...
Теперь это все приобрело такой вид:
(...)* - сложная формула (прим. OCRщика)
- Беляев, - написал я, - Н.М. Сопротивление материалов. Издание четырнадцатое. М., Издательство "Наука", 1965, стр. 732, фиг. 615. (Аппроксимация графика). Ну что же, - думал я, - конечно, сигма это только объект воздействия. Но ведь она оказывает сопротивление. Самое главное это взаимоотношения сигмы с миром, - размышлял я, - взаимоотношения сигмы с миром...
Книги Юрия Олеши точны, как маленькие макеты нашей истории.
Медленно и необыкновенно поворачивается на оси десятилетие в книгах Юрия Олеши.
Как десять окон, распахивается время в его книгах.
Удивителен и непривычен мир, встающий с этих разноцветных страниц.
Разочарование в некоторых более поздних произведениях заставило посмотреть, что делали писатели, четверть века не привлекавшие к себе особенного внимания.
Сложившиеся представления о прошлом пересматриваются лишь тогда, когда становится ясным, что было ложным представление о настоящем.
Пересмотренные представления воскрешают искусство, с которым, казалось, покончено навсегда.
Каждая эпоха сосредоточенно и настороженно вглядывается в сделанное до нее, и с особенной внимательностью относится к мнению эпохи-предшественницы.
Эпоха-предшественница выражала свое мнение чрезвычайно авторитетно, но, может быть, слишком громким голосом.
Холодно и величаво поблескивали гранитные изваяния Гуманизма, Добра, Человечности и Заботы о Детях.
По тому, какое забытое или запретное искусство вспоминает новая эпоха, можно понять, что она ищет, какое искусство она хочет, какое искусство ей нужно.
Эпоха Возрождения открыла античный мрамор не потому, что ее терзала археологическая любознательность, но потому, что отвергала средневековое искусство и средневековую концеп-цию. У эпохи были серьезные намерения. Прошлое ей не нравилось, и возвращаться к нему она не собиралась.
Новая эпоха всегда начинает с неодобрения памятников своей предшественницы и, где может, старается их заменить. Эпоха-предшественница полагала, что вместо обелиска Свободы, некогда возвышавшегося на площади нашей столицы, лучше воздвигнуть монумент феодалу на лошади.
(Новая эпоха в первые дни считает возможным в некоторых случаях проверить, правильно ли все то, что было сказано предшественницей.
В некоторых случаях выясняется, что не все сказанное было правильно.
В связи с этим иногда даже возникают смелые проекты внесения некоторых памятников эпохи-предшественницы. Таким образом, быть может, мы доживем и до того дня, когда завершится обещанное нам низвержение еще одного феодального деспота и его жеребцов.
Кроме проектов снесения монументов, есть еще обещанные нам проекты возведения новых: жертвам палачества феодального деспота и его лошадей.)
Исторические явления, с которыми, казалось, покончено навсегда, не успевшие завершить свое поприще и умереть естественной смертью, ждут благоприятных обстоятельств, чтобы явиться и закончить начатое ими дело.
20-е годы не сделали того, что могли и что должны были сделать. Их победили и, победив, долгое время не сомневались, что все сделали правильно. Потом пришла эпоха-наследница, и в первые несколько дней вспыхнули страстные споры - хорошо ли это. Вопрос остается открытым.
Когда убивают царевича, то спустя несколько лет, в трудный год, он воскресает идеей, недовольством, возмущением, названным его именем. Те, кто убил, называют воскресшего царевича "самозванцем". "Самозванец" - это неосуществленное, незавершенное дело убитого. Начинается с того, что о "самозванце" говорят с презрением. Вскоре, однако, выясняется, что имя, идея, возмущение смертельно опасны, и нужно незамедлительно выставлять воевод и искать исторический прецедент. Одновременно с этим употребляются совершенные и испытанные средства для того, чтобы доказать, что самозванец вор и разбойник, а бунт не заслуживает особенного внимания.
Каждая эпоха ждет, жаждет, ищет своих героев, своих поэтов и трубачей. И она всегда получает то, что ей нужно, и то, что она хочет. Последующая эпоха делает предшественнице выговоры. Она не во всем согласна с тем, что было сделано до нее, и считает в некоторых случаях нужным пересмотреть отдельные детали. Но время идет, приходит пора зрелых размышлений, возмужания, и новая эпоха, не торопясь, не увлекаясь и не спеша с окончательными выводами, делает именно то, что ей нужно.
Таким образом, оказалось необходимым проверить кое-что из сказанного о 20-х годах. Тщательное и объективное обследование установило, что все сказанное в основном правильно, однако в отдельных случаях были допущены некоторые извращения.
Преемственность десятилетий была признана органической, и старые обязательства не были заменены какими-то новыми.
В результате тщательного и объективного обследования 20-х годов было установлено, что из указанного периода следует извлечь лишь тех художников, которые удовлетворяли новым повышенным требованиям. В связи с этим были извлечены и высоко оценены такие художники, как Юрий Олеша и Галина Серебрякова.
При этом иногда возникали разногласия. Некоторые считали, что 20-е годы все-таки не сделали всего, что могли и должны были сделать. Отмечалось, что в отдельных случаях победа над ними была одержана главным образом с помощью положительных примеров и применения строжайше запрещенных советским законом методов ведения следствия. В ходе дискуссии высказывалось также мнение, что не следовало, быть может, с таким упорством добиваться безоговорочной капитуляции, рабской покорности и положительного, а еще лучше и идеального героя.
Эпоха-предшественница оставила несколько нерешенных литературных недоразумений.
Эти недоразумения принадлежат к такому типу, как например, уничтожение городов орудийным огнем в результате штабной ошибки или смертной казни невинного, а иногда даже стрельбы по своим. (Значение последнего недоразумения, как становится все более ясным, преувеличено: стрельба велась главным образом не по своим.)
Я имею в виду еще не вполне разрешенные недоразумения, происшедшие с Анной Ахматовой и Андреем Платоновым, а также некоторые другие, связанные с расстрелом Гумилева и самоубий-ством Цветаевой, гибелью в тюрьмах Бабеля и Мандельштама, эмиграцией Ходасевича и Замятина и другие более или менее удачные эпизоды борьбы за душу русской интеллигенции. Не будет лишним напомнить о том, что до сих пор не исправлено и не искуплено недоразумение, стоившее жизни Пастернаку.
Все эти неувязки возникли в результате излишней уверенности в том, что тот, кто сегодня шагает не с нами, тот будто бы обязательно и всегда против нас. Предполагалось, что это только так, всегда так, и поскольку это так, то следует немедленно переломать ноги шагающему.
В частности, уверенность в том, что писатель, который сегодня шагает не с нами, тот будто бы обязательно и всегда против нас, была излишне абстрагирована от реальной истории.
Яростная категоричность этого утверждения неминуемо должна была претерпеть историчес-кое превращение. Опыт прошедших десятилетий обнаружил излишнюю заносчивость этих слов.
Кроме того, выяснилось, что несколько преувеличенный максимализм тезиса разрушал органически сложившийся историко-художественный ряд.
Воскрешение казавшегося навсегда забытым искусства стало возможным, потому что обнаружилась очевидная ненужность попытки заставить всех шагать одинаково. Выяснилось, что вариации шагов могут быть без ущерба расширены. Однако некоторые указывали, что могут возникнуть незапланированные последствия. Другие, напротив, считали, что вариации шагов могут быть без потрясения основ расширены. Однако жизнь вносила свои коррективы, и часто расширение заканчивалось сужением. Вопрос остается открытым.
Кроме того, выяснилась историческая ограниченность излишне строгого осуждения разношагающих. Можно предположить, что если это мнение было поразительно верным в годы, когда еще не все писатели поняли значение консолидации творческих кадров, то впоследствии, когда они поняли, это приобрело лишь историческое значение. Можно даже предположить, что если когда-нибудь в этом рассуждении и была крупица истины, то вскоре она была залита морями злобного вранья и сейчас все это имеет опять же лишь одно глубоко историческое значение.
Были, однако, опасения, что расширение вариаций может посеять некоторые сомнения в молодых, еще не окрепших умах. Но эти опасения сразу же рассеялись, поскольку стало ясным, что всегда есть серьезные и твердые люди, которые знают, что не следует торопиться, люди, у которых имеется большой жизненный опыт, седеющие виски, лучики морщинок, разбегающихся от добрых и внимательных глаз, умение быстро ориентироваться в сложившейся обстановке и в случае необходимости направлять исторический процесс. Все следует понимать исторически. При таком взгляде на вещи (а это единственно правильный взгляд) смена эпох заметна только в дни, когда происходит этот процесс. Если исследователь процесс прозевал, то через несколько дней он уже ничего не заметит.
В 20-х годах Юрий Олеша писал много и хорошо, потому что у него были концепция и надежда.
У человека, который знал только исторический прецедент и мыслил в категориях прошлого, в частности, все время возвращаясь к опыту восстаний Спартака (74 или 73-71 гг. до н.э.), Бар-Кохбы (132-135), Жакерии (1358), восстания Чомпи (1378), Великой Крестьянской войны в Германии (1524-1525), Министерской Коммуны (1534-1535), Английской революции (1640-1649), Французской революции (1789-1794) - особенно! - Похода "тысячи" (1860), Парижской коммуны (1870) и Боксерского (Ихэтуаньского) восстания (1899-1901) концепция была такая: революция преображает историю, но революция всегда стоит перед угрозой перерождения, спрятанного едва заметными сначала, а потом все более обнажающимися изменениями политики, быта, взаимоотношения людей. Тогда происходит отслаивание государства от революции, которая его создала. Государство начинает существовать самостоятельно и вступает в непримиримое противоречие с первоначальным замыслом. С этого времени приобретают решающее значение силы, которые ставят под угрозу главное завоевание революции - свободу. И тогда победа революции над тиранией теряет значение и смысл.
Надежда была такая: ничего подобного быть не может.
Затем пришел нэп, а вместе с ним - испуг и сомнения.
Испуг и сомнения были вызваны длинным списком причин, благодеяний, злодеяний.
Юрий Олеша принадлежит к тому кругу интеллигенции, мировоззрение которой начало складываться в дореволюционные годы и носило следы выраженного либерализма. Эти следы впоследствии значительной части интеллигенции стоили жизни. В кругу с выраженным либерали-змом не понимали, что когда революция завершается, то исчезает все - свобода, равенство, национальное обновление, - делавшее революцию такой привлекательной, столь заманчивой для тех, кто был задушен самодержавием, цензурой, чертой оседлости, торжеством бездарности и победоносным шествием жандарма. Но когда революция совершилась, то для людей, совершив-ших ее (чуждых либеральному прекраснодушию), главной становится сила, которую они получили после победы. Эта сила создает послереволюционное государство и выражает себя в нем. Следом за этим сила (послереволюционное государство) обращается против всего того, во имя чего революция совершалась. Обойденные революцией люди начали понимать, что воору-женный переворот лишь передал власть из одних рук в другие, не изменив природы самой власти, всегда обращенной против свободы, равенства и национального обновления. Становилось все более ясным, что после победы революции ее прежнее назначение подменяется иным. Подмена нужна для того, чтобы обрушиться на тех, кто принимал участие в революции, атеперь преврати-лись в соперников. Между различными группировками победителей начинается борьба, которая завершается победой одной группировки над всеми, т.е. диктатурой, т.е. уничтожением свободы, и, таким образом, борьбой с самой революцией, которая, как и предполагалось, совершается во имя свободы. Эта тайная победа приводит к реставрации самых жестоких и противоестественных институтов прежней эпохи, которые и привели к революции. На этом заканчивается переоценка и осуждение предреволюционной эпохи и начинается освоение ее опыта. И находились такие люди, которые с серьезными лицами утверждали, что это и есть, как говорили в те годы, перерождение революции, а в еще более ранние годы о подобных явлениях говорили, что это термидор. Но что можно было ждать от подобных людей? Ничего, кроме болтовни о поспешном и уже ничем не остановимом возврате к так называемым "традициям", "национальному духу", "великому прошлому", "благородным предкам", к шовинизму, военным захватам, дипломатическим заговорам, ханжеским фразам, монологам о "священном долге", к полному и безоговорочному подчинению общества государству, к культу сильного, безжалостного, тщеславного, властного, карающего, непомерного государства. Люди, которые считают, что от революции следует ожидать только свободы, равенства и братства, при задержке таковых переносят на революцию недоволь-ство ее развитием, ее последствиями, в первую очередь созданным ею государством. Революция подменяется рожденными ею институтами и на нее перекидывается ответственность за все. Люди переносят на революцию недовольство ее результатом. С этой ошибкой, с этой аберрацией связаны тяжелые последствия, казалось бы, неожиданные для людей, обладающих редким умением думать самостоятельно, а не повторять рабьим голосом, чего велят. Из особенно тяжких последствий оказался антисемитизм. Он возник потому, что в истории революции огромную роль играли евреи, а революция породила такие институты и такие взаимоотношения людей, которых никто и вообразить не мог, и поэтому, перенеся на революцию недовольство ее результатом, люди, обладающие высоким умением не верить газетке, то есть самая высокая нервная материя страны, ее совесть и мозг сходятся с послереволюционным термидорианским государством в одном из решающих пунктов концепции антисемитизме. Послереволюционное государство возникает в тот час, когда революция окончательно берет в свои руки власть. Тогда начинается эвакуация не канонизированных идей и канализация нежелательных тенденций.
Вакуум после разгрома концепции быстро заполнился продуктами термидорианского распада.
История всех революций и особенно XX века с очевидностью убеждает в том, что в каждой революции - всегда две революции: февральская и октябрьская.
Начинают возводиться изваяния Гуманизма.
Убитый царевич через 25 лет снова воскресает и его снова убивают.
Потом что-то случается, изваяния Гуманизма заменяются новыми (в том же исполнении) и потом дальновидные люди начинают понимать, что новой эпохи не было. Было лишь несколько дней замешательства и серьезных ошибок. Все это было решено не в один день, а имело давнюю традицию, начатую после поражения декабризма. Тогда возникло мнение, что смены эпох иллюзорны, что история страны, приговоренной и приученной к тирании своей географией, метеорологией, народным характером и печальным опытом, может менять лишь обличил деспотизма. В связи с тем, что при смене эпох решительно меняются слова1, то естественно, что эту смену замечали только языковеды. Все же остальные не замечали ничего.
1Лафарг. Язык революции. Французский до и после революции. Очерки происхождения современной буржуазии. М.-Л., 1930.
В разных формулах и с несходных позиций литература 20-х годов решала два важнейших вопроса общественной истории России: взаимоотношения человека и революции и взаимоотноше-ния человека и возникшего в результате революции государства.
Книги Юрия Олеши - его удачи и падения - движутся, как время, как история, как хроника десятилетий.
Две темы - интеллигенция и революция и интеллигенция и возникшее после революции государство - определили судьбу Юрия Олеши.
Судьба писателя была не только определена, но и ограничена его темами.
Юрий Олеша был прижат к стене не чрезвычайной творческой требовательностью, не тремястами вариантов первой страницы "Зависти", а темами, из которых выбиться он не мог.
Литературный путь писателя был труден и короток, потому что лишь эти темы безраздельно владели им, и, когда они исчерпали свое общественное значение, Юрий Олеша пытался продолжить их в литературе. Но время исчерпало тему раньше писателя.
Оно было занято поголовьем скота.
Человек, ставший писать в эпоху, когда предполагалось, что начнут сбываться самые важные и начали сбываться самые трагичные предчувствия, с большим количеством превосходных метафор рассказал о порывах и переживаниях большого отряда творческой интеллигенции.
Затем наступили долгие годы, которые в литературе об Олеше называются таинственно и тревожно: "годы молчания".
Четверть века писатель старался заменить в своем творчестве проблему взаимоотношений интеллигенции с революцией и государством некоторыми вопросами спорта (преимущественно легкой атлетикой).
В конце пути поиск темы сменяется поиском жанра. Исчерпанная тема лишь прикасалась ко времени, соскальзывала, топталась на письменном столе писателя, не выходила из комнаты. Нового жанра не было. Была попытка по-другому продолжить старую работу. Новым жанром стала именоваться публикация ежедневной писательской работы - записная книжка.
Утратив возможность писать законченные вещи, Олеша печатает незаконченные. Он возвра-щается к заготовкам, к тому, с чего начинается всякая писательская работа, - к записной книжке.
Решающее отличие ранних книг Юрия Олеши от последней, его романов, рассказов и пьес от собрания записей не в том, что роман лучше заметок, но в том, что его романы, рассказы и пьесы, как все его другие композиционно законченные произведения, воссоздают цельное представление о жизни, концепции, а его записи - обрывки, остатки испуганно разбегающихся в стороны разных концепций.
Книги Юрия Олеши точны, как макеты нашей истории: чуткий писатель всегда делал то, что требовало от него время.
В своих произведениях он воссоздал отдельные сцены из нашей истории. Главной темой этих сцен были взаимоотношения интеллигенции и революции и интеллигенции и послереволюционно-го государства.
Опустив второстепенное и уменьшив, книги Юрия Олеши, как куски географической карты, повторили горы и пропасти своего века. Он воспроизвел большие и важные куски карты. Он был характернейшим писателем эпохи, и ему удалось многое: показать отрывки десятилетий, краешек века, несколько квадратных метров человеческого бытия.
Писатель был частицей своего времени, был рожден им, горячо любил его, был его учеником и наследником и вписал свою строчку в его историю.
Он был постоянно меняющимся малым подобием и воспроизведением времени.
Время просвечивает сквозь художника.
Юрий Олеша всегда приобретал меняющуюся, переливающуюся окраску своего века.
Поэтому он шаг за шагом повторял путь литературы четырех десятилетий, и писал он хорошо и плохо, но всегда так, как писала литература этих десятилетий.
В человеческой истории существуют потоки литератур, а не разбросанные геологической сумятицей отдельные писатели-острова, плохо представляющие себе наличие других товарищей по перу и существование историко-литературного процесса. Писатель-остров практически не существует, и попытки понять такое явление связаны с непреодолимыми трудностями. Есть писатель в своей литературе и, какова литература, в которой он существует, таков и писатель. "Зависть" стала лучшей книгой Юрия Олеши не потому лишь, что в 1927 году писатель был талантлив и молод, а потом стал старше. Став старше, он написал "Народ строит свою столицу". Это произведение создавалось в другую литературную эпоху, обыкновенный же хороший писатель почти всегда бывает таким, какова литература, в которой он существует. Есть много причин, по которым одни книги оказываются лучше, другие хуже. Из многих причин, которыми это можно объяснить, серьезное значение имеют две: история, разрушающая человека, и сила его нравствен-ного сопротивления.
Юрий Олеша не был противопоставлен литературе и времени, в которые жил и работал. И если он писал иначе, чем Шолохов или Гладков, которых он горячо любил и гордился их почти дружеским отношением к себе, то это не значило, что он думает не о том и не так, как думают его современники. Непохожесть Олеши на Шолохова или Гладкова не выходила за пределы литерату-рной дискуссии. В дискуссии не было неразрешимых противоречий. В Гладкове Олешу огорчала некоторая примитивность. В Олеше Гладкова расстраивала излишняя усложненность.
Упаси Бог, никакого противопоставления личности (писателя) коллективу (читателям) не было. Недоразумения, которые раз или два возникали с критиками, были связаны с тем, что Олеша не вполне подходил для того места, которое эти критики ему отводили. (Так он думал. Он был чрезвычайно скромным, просто застенчивым человеком.) Он был хорош на своем месте. А от него требовали, чтобы он был хорош на чужом месте. Он старался быть хорошим и на чужом месте, но у него это не всегда получалось. Вот тогда и возникли некоторые недоразумения и даже трения, которых при более чутком отношении месткома, несомненно, можно было бы избежать. Ведь спор (если это можно назвать спором) никогда не выходил за пределы вопроса о том, какую музыкаль-ную партию поручить Юрию Олеше. Те критики, которые считали, что все должны играть на тромбоне, безусловно, ошибались. И Олеша пытался им это объяснить, но они не хотели его слушать и говорили: играй на тромбоне. Он, конечно, играл, но у него не было для этого данных. Впрочем, скоро выяснилось, что писатель просто недооценивал себя. Не дискуссионно, что наиболее подходящим для него инструментом являются флейта и виола, или что-нибудь другое, что окрашивает действительность нежными лирическими тонами. А ему говорили: все время играй на тромбоне. Это можно понять: современники ведь всегда хотят получить от своего искусства самое лучшее. От Юрия Олеши тоже не раз требовали большего, чем было в его силах. Но все это, безусловно, было только досадным недоразумением. В главном же вопросе - мелодии, - конечно, не было сомнений: мелодия Юрия Олеши никогда ничем не отличалась от той, которую наигрывала самая лучшая, и поэтому особенно ценимая партией и народом часть интеллигенции нашей эпохи.
И все-таки далеко не все единодушно одобряли мелодию Юрия Олеши.
Чьи-то особенно музыкальные уши кое-где улавливали некоторое отклонение от нот, по которым играл Юрий Олеша.
Это было чистейшей выдумкой.
Юрий Олеша всегда играл правильно.
Все это было нелегко.
Были потери, утраты. Было долгое, страшное отчаяние. Было оцепление, онемение, остановив-шиеся глаза. Были попытки писать хорошо, писать плохо. Ничего не помогало. Было разрушение жанра. Еще хуже: разрушение характера. Но легких уступок не было. Были уступки с переживани-ями. Вот это и было ошибкой. Переживания в период созидания мощного тракторного парка были совершенно неуместны. Нужно было уступать, не уступать - бежать, подпрыгивая, навстречу, переживая лишь, чтобы тебя не обогнали.
По книгам Юрия Олеши можно понять, что происходит с человеком, который испуганно и готовно в прекрасной художественной форме повторяет, чего велят.
По книгам Юрия Олеши можно понять, что происходит с человеком, который не всегда делает то, что считает правильным, и что в эпохи, обремененные ответственностью, перед людьми встают вопросы, на которые необходимо отвечать чем-то большим, нежели хорошо натренирован-ная трусливая болтовня.
ОБРАЗ МИРА
Пристально и пытливо всматривается Юрий Олеша в стоящий перед ним и надвигающийся на него мир.
Он прислушивается, сравнивает. Сосредоточенно и внимательно вглядывается художник в жизнь, в людей, в историю. Он видит вещи точно, подробно и в связях с другими вещами и обстоятельствами. Художник старается понять, что происходит в мире, полном красок, облаков, кричащих противоречий, Шумящих деревьев, разбитых сердец, звездных туманностей, ожесточен-ных классовых битв, ослепительной живописи, несчастной любви, триумфов науки и техники, лжи, тщеславия, убийств и предательств, розовых зорь, полезных ископаемых, человеческого благородства, палачеств и самоотверженности. Он сопоставляет и взвешивает, переставляет, прислушивается. Настороженный внимательный художник всматривается в мир.
Подобия явлений, которые устанавливает искусство, еще не утратившее надежду, системати-зируют действительность. Разнообразные материи и сущности мира стягиваются сходством. Связанная, систематизированная, понятая художником Вселенная живет в произведении искусства. Так возникает образ мира, явленный в слове.
Такое искусство существует лишь в годы переустройства мира, когда еще есть надежда на его улучшение.
Прославленная и поражающая образность Юрия Олеши начиналась в годы переустройства мира, когда еще не была исчерпана вера в его улучшение.
Сильная и молодая метафора 20-х годов была плодом и средством познающего, анализирую-щего ума, который хочет понять главное, который хочет понять то, во имя чего живут и часто гибнут люди - истину.
В годы переустройства мира писатель искал естественные связи между разделенными и разрозненными частями бытия.
Он был уверен в том, что между сталкивающимися, наскакивающими друг на друга идеями-врагами, вещами-врагами, людьми-врагами больше близости, чем кажется идеям, вещам, людям. Он старался примирить и соединить их.
Неестественный и противоречивый, разорванный мир должна была упорядочить революция, и жаждущий гармонии художник поверил в то, что пришло время упорядочить мир. Мир должен был стать понятным, разумным, соединенным в частях, непрерывным и завершенным. Художник ищет соответствия и единства его частей. Разорванные части бытия он связывает сходством. Слагаемые, лежащие далеко друг от друга, он соединяет линиями.
Вот как представляется принципиальная схема соединения разрозненного бытия в эпоху уверенности писателя Юрия Олеши в возможность гармонизировать мир:
"Летали насекомые. Вздрагивали стебли. Архитектура летания птиц, мух, жуков была призрачна, но можно было уловить кое-какой пунктир, очерк арок, мостов, башен, террас - некий быстро перемещающийся и ежесекундно деформирующийся город"1.
1 Произведения Ю. Олеши, кроме специально оговоренных, цитируются по изданию: Ю. Олеша. Избранные произведения. М., 1956.
Писатель соединяет траекториями полета точки, находящиеся на большом смысловом расстоянии друг от друга.
Он еще верит в то, что можно соединить, примирить.
Социология метафоры Юрия Олеши заключается в попытке связать сходством разрозненные части мира.
Это не было наивной утопией в дни, когда революция, вызвавшая в стране, никогда не знавшей, что такое естественные взаимоотношения людей (демократия), так много надежд. Все это еще могло быть убедительным, потому что революция, казалось, может сделать возможной свободу людей, то есть внести в человеческие отношения правильность и разумность.
Но разобщенные части бытия продолжали сталкиваться друг с другом, и реальная история зачеркивает чертежи гармонического существования, и, образ мира оказывается несравненно подвижнее, как и мир, с которым этот образ соотнесен.
Главным и преобладающим в художественной природе Юрия Олеши было умение увидеть и выделить сходство, соответствия, подобия красок, знаний и форм. Он умел настоять на нерасторжимой связанности вещей и явлений. Это восходило к концепции, о которой Олеша, вероятно, не имел представления и которая утверждала, что "в соответствии находятся прямом все краски, голоса и запахи земные" (Бодлер). Писатель поражался и радовался неожиданным и удивитель-ным взаимозависимостям мира.
Но подвижная человеческая история все чаще стала выскакивать за пределы гармонии и слишком долго этого нельзя было не замечать.
Художник по-прежнему пытается соединять призрачным единством разрозненные части бытия.
Это не всегда удается.
Нужно видеть мир по-новому. Юрий Олеша серьезно относится к этому. Он говорит:
"Нужно видеть мир по-новому".
Для того чтобы увидеть мир по-новому, писатель создает специальную зрительную ситуацию.
"На краю оврага... растет какое-то зонтичное. Оно четко стоит на фоне неба.
Это крошечное растение - единственное, что есть между небом и моим глазом.
Я вглядываюсь все сосредоточеннее, и вдруг какой-то сдвиг происходит в моем мозгу: происходит подкручивание шарниров мнимого бинокля, поиски фокуса.
И вот фокус найден: растение стоит передо мной просветленным, как препарат в микроскопе. Оно стало гигантским...
Жалкий - достоинства соломинки - цветок потрясает меня своим видом. Он ужасен. Он возвышается, как сооружение неведомой грандиозной техники.
Таков зрительный феномен.
Вызвать его нетрудно. Это может сделать каждый наблюдатель. Дело не в особенности глаза, а лишь в объективных условиях: в комбинации пространства, вещи и точек зрения".
Именно этот обстоятельный рассказ с привлечением в свидетели Эдгара По и завершается уже известным нам соображением: "Нужно видеть мир по-новому".
(Следует сказать, что Олеша не принадлежит к той неприятной категории людей, которые требуют только от других, а сами, в сущности, оказываются несостоятельными. Он требовал от других лишь то, что было доступно ему самому.
"Я твердо знаю о себе, что у меня есть дар называть вещи по-иному"1, утверждает он.)
1 Юрий Олеша. Ни дня без строчки. Из записных книжек. М., 1965, с. 257.
Но бывают случаи, когда автор не заставляет своих читателей предпринимать какие бы то ни было акции, связанные с большой затратой физической и духовной энергии. Иногда писатель вместо того, чтобы лезть в овраг, предлагает лишь слегка повернуть предмет.
Автор лишь слегка поворачивает предмет.
Извлеченный из обычного, привычного восприятия, слегка смещенный, он начинает осмысливаться, а не узнаваться.
Вот что происходит:
"Доктор подошел к молодой женщине, державшей на руке толстую серую кошку..."
В отличие от нехудожника, который пользуется речью, конструируя, складывая ее из уже заготовленных фразовых узлов, художник каждый раз создает все детали фразы заново. Поэтому нехудожник, не видя, не глядя, знает, что доктор подошел к женщине, которая держала на руках кошку, а художник видит: "Доктор подошел к молодой женщине, державшей на руке толстую серую кошку..."
Разница заключается в том, что "на руках" это общее место, а "на руке" - наблюдение1.
1 Эти маленькие смещения, более точная настройка прибора хорошо известны всем, кто работает в искусстве. Чуть по-другому, и случается так, что обнаруживаются возможности переосмысления уже хорошо известных и ничего не дающих нового вещей. Я расскажу о чем-то подобном не потому, что этот случай сам по себе интересен, но потому, что он характерен как пример. Вскоре после того, как (по независящим от меня обстоятельствам) за одним периодом моей жизни "опустился подъемный мост" (Бомарше. Безумный день, или Женитьба Фигаро. В кн. Бомарше. Избранные произведения. М., 1954, с. 454) и мне пришлось сменить почтенное, но чреватое неприятностями ремесло литератора на столь же почтенное и чреватое теми же неприятностями ремесло режиссера (я уже был инвалидом и ни но что другое не годился) случилось так, что мне пришлось репетировать "Женитьбу".
- Представьте себе, - сказал я труппе, - что квартира Агафьи Тихоновны расположена на шестом этаже. В Петербурге 30-40-х годов уже были такие дома. Подколесин выбрасывается из окна. Будем играть "Женитьбу", или "Совершенно невероятное событие в двух действиях", в которой герой не слабовольный дурак и к тому же будущий Обломов, а человек из протеста и отчаяния идущий на смерть.
- Не будем, - твердо сказали актеры. - Играть надо, как положено. Искусство должно быть понятно народу.
Независимо от актеров и их искусства, понятного народу, расположенная на шестом этаже квартира, решительно перестраивала спектакль.
Художник отличается от нехудожника тем, что он пишет то, что видит, а в другие художест-венные эпохи - то, что знает, и никогда то, что ему говорят другие. Другие говорят: "кошка на руках". В годы, когда создавалась эта строка, Юрия Олешу не очень интересовало то, что говорят другие. Он смотрит и видит: "кошка на руке". И это важно и хорошо, потому что сосредоточивает внимание, потому что заставляет увидеть то, мимо чего проходят не замечая, потому что создает жест и рисунок и заставляет по-новому увидеть мир, окружающий человека.
Он был молод, этот разнообразный художник в эпоху "Трех толстяков", "Зависти" и ранних рассказов, и мир, о котором писал он, был молод, и, как всякий еще неиспорченный человек, он писал, что видел, а не то, что следовало бы видеть.
Медленно поворачивается мир в книгах Юрия Олеши.
Художник не называет вещи, он показывает их, доказывает их существования, убеждает в их ценности, в важности человеческого бытия.
Дни проходят и дни уходят. Художник останавливает уходящий день.
Для того чтобы уходящий день остановился, чтобы его можно было увидеть, Олеша создает специальную ситуацию. Перед тем как сказать: день окончился, он предлагает метафорическую задачу, решив которую, мы получим окончившийся день. Вот как это делается:
"Цыган в красном жилете, с крашеными щеками и бородой, нес, подняв на плечо, чистый медный таз. День удалялся на плече цыгана. Диск таза был светел и слеп. Цыган шел медленно, таз слегка покачивался, и день поворачивался в диске.
Путники смотрели вслед.
И диск зашел, как солнце. День окончился".
Так решена художественная задача "Конец дня".
А вот как решается художественная задача "Утро началось".
"Прелестнейшее утро расточилось надо мной...
Проснулись птицы. Раздались маленькие звуки: маленькие - промеж себя голоса птиц, голоса травы. В кирпичной нише завозились голуби...
(Открывались калитки. Стакан наполнился молоком. Судьи вынесли приговор. Человек, проработавший ночь, подошел к окну и удивился, не узнав улицы в непривычном освещении. Больной попросил пить. Мальчик прибежал в кухню посмотреть, поймалась ли в мышеловку мышь. Утро началось.)"
Ставятся различные психологические опыты.
Вот что происходит, когда молодая девушка отдает предпочтение пожилому мужчине:
"Я смотрю на птицу. Оглянувшись, я вижу: Борис Михайлович гладит Наташу по щеке. Его рука думает: пусть он смотрит на птицу, обиженный молодой человек! Уже я не вижу птицы, я прислушиваюсь: я слышу расклеивающийся звук поцелуя".
А вот что происходит, когда молодая девушка отдает предпочтение молодому мужчине:
"...это был красивый и вполне здоровый старик...
Он влюбился в девушку. Она сидела рядом. Она положила руку на колено молодого...
Он увидел Катю, уносимую на подножке... Поддуваемая ветром движения, она приобрела сходство с гиацинтом".
По окончании или даже еще в процессе психологических опытов писатель начинает прикидывать различные метафоры на одну и ту же вещь или человека.
Метафоры на шпоры:
"Шпоры его походили на кометы".
"Шпоры у него были длинные, как полозья".
Метафоры на сердце:
"Доктор схватился за сердце, которое прыгало, как яйцо в кипятке".
"Сердце его прыгало, как копейка в копилке".
Метафоры на учителя танцев Раздватриса:
"Длинный и тонкий человек... похожий на кузнечика".
"...Раздватрис исполнял в этом супе должность ложки. Тем более что он был очень длинный, тонкий и изогнутый".
"Он был длинный с маленькой головой, с тонкими ножками - похожий не то на скрипку, не то на кузнечика".
"...сама фигура которого подобна скрипичному ключу..."
Эксперименты ставятся, конечно, не только на метафоры, но и на всякие другие заслуживаю-щие внимания вещи, например, на сюжеты.
"Один писатель, - рассказывает Олеша, - жаловался мне на то, что, дескать, в наши дни невозможно написать простой рассказ о любви, о нежности, о юноше и девушке, о звездах. Он так и сказал: "О звездах..."
Я решил написать рассказ о любви, о нежности, о юноше и девушке, о звездах.
Попробуем"1.
1 Юрий Олеша. Ни дня без строчки, с. 298.
И попробовал. И написал. И даже не один, а целых пять. О любви два: "Любовь" и "Вишневая косточка" (здесь же о юноше и девушке). О звездах два: "Альдебаран" (с включением любви, юноши и девушки) и "Летом" (исключительно о звездах).
Однако следует иметь в виду, что, говоря "попробуем", Олеша немножко схитрил. Сказав так, он предлагал рассказы, написанные лет за двадцать пять до предложенного эксперимента. В то время, когда он предлагал попробовать, он уже писал только о написанном.
Такие образы мы не однажды слышали в литературе. Чехов тоже, повертев в руках пепельни-цу, сказал, что завтра будет рассказ. Даже сказал, как будет называться: "Пепельница". И не написал. У него не вышло. А у Юрия Карловича вышло.
День, ночь, молодая девушка, полюбившая пожилого человека, молодая девушка, полюбившая молодого человека, зависть представителя старого мира, зависть представителя нового мира... Юрий Олеша блистательно показывает, как кончается день и ослепительно описывает, как начинается утро.
В конце жизни писатель начал понимать, что произошло нечто непоправимое, что-то было упущено, он начал понимать, что великое искусство занято чем-то другим и знает какие-то другие способы выражения мира.
И тогда испуганно и растерянно человек быстро и негромко заговорил, забормотал:
"Пусть я пишу отрывки, не заканчивая, но я все же пишу! Все же это какая-то литература - возможно, и единственная в своем смысле: может быть, такой психологический тип, как я, и в такое историческое время, как сейчас, иначе и не может писать - и если пишет, и до известной степени умеет писать, то пусть пишет хотя бы и так"1.
1 Юрий Олеша. Ни дня без строчки, с. 11.
Но все это потом. Это уже тогда, когда он перестал быть и назывателем вещей, то есть, когда он перестал называть вещи их подлинными именами.
Когда же он был молод, в том перестраивающемся и естественном мире, который его окружал, естественные связи вещей неминуемо и естественно вызывали потребность в художественном соответствии. И это усиливало склонность к уподоблению.
Юрий Олеша предрасположенно и готовно склоняется к уподоблению. Но писатель не доволь-ствуется лишь сравнением предметов, встречающихся на пути повествования. Он приводит своих героев в места наибольших выразительных возможностей и создает положения максимального благоприятствования для роста и развития метафор.
Вот как это иногда устраивается:
"Лицо миллионера поворачивается на шум, и на некоторое время становится нам... хорошо видным. Попав в зеленый отблеск абажура, оно и само приобретает зеленую окраску, а так как это лицо с обвисшими на краях, как у викинга, усами красиво, то, став зеленым, оно не стало смешным, а, наоборот, жутким, - казалось, что медленно погружается на дно утопающий" .
Но так как это написано в годы, когда стало уже совершенно ясно, что не в метафорах счастье, то писатель, чтобы не возникло каких-либо сомнений и кривотолков, высвободив из-под метафор верхнюю часть туловища, объясняет почтенной публике:
"Что ж, не далек срок, когда они и в самом деле погрузятся на дно русские миллионеры!"
Писатель создает все условия для дальнейшего культивирования метафор. Именно поэтому он описывает кондитерскую более охотно, чем, например, стиральную машину.
Но так как он может значительно больше, чем просто и без затей описать кондитерскую, то он описывает кондитерскую в эпоху революционных потрясений: "- Руки вверх! - сказал Просперо, в каждой руке он держал по пистолету...
Две дюжины белых рукавов, не дожидаясь более внушительного приглашения, взметнулись.
А потом полетели кастрюли.
Это был разгром сверкающего стеклянного, медного, горячего, сладкого, душистого мира кондитерской...
Стекло разлеталось во все стороны и билось со звоном и громом; рассыпанная мука вертелась столбом, как самум в Сахаре... сахарный песок хлестал с полок с грохотом водопада... Все стало кверху дном. Вот как бывает иногда во сне, когда снится сон и знаешь, что это сон, и поэтому можно делать все, что захочешь".
Так, так. С кондитерской все ясно. Переходим к следующему номеру. А что произойдет, если в повествование ввести воздушные шары?
(Олеша умеет не только хорошо сравнивать, но и знает, какие вещи особенно хороши для сравнения.)
Оказывается, может произойти вот что:
"От летящей разноцветной кучи шаров падала легкая воздушная тень, подобная тени облака. Просвечивал радужными веселыми красками, она скользнула по дорожке, усыпанной гравием, по клумбе, по статуе мальчика, сидящего верхом на гусе, и по гвардейцу, который заснул на часах. И от этого с лицом гвардейца произошли чудесные перемены. Сразу его нос стал синий, как у мертвеца, потом зеленый, как у фокусника, и наконец - красный, как у пьяницы. Так, меняя окраску, пересыпаются стеклышки в калейдоскопе".
Прекрасный этюд на тему "метаморфозы цвета". Но в роман (а не в записную книжку, в которую день за днем вносятся строчки) даже самый замечательный этюд может быть введен только с мотивировкой, по какой-либо сюжетной или композиционной, или иной необходимости. И тогда в дополнение к воздушным шарам вводится продавец. Однако в романах продавцы существуют вовсе не для того только, чтобы продавать, но и для того, чтобы развивать действие, воплощать определенные типы, характеризовать общественные отношения и для многих других надобностей. В связи с этим в своем романе Юрий Олеша создает сюжетную линию продавца воздушных шаров. С магистральным действием романа эта линия пересекается лишь в месте, оказавшемся чрезвычайно удобным для запуска эскадрильи сравнений, в кондитерской. Продавец оказался привязанным веревочкой к своим воздушным шарам и к записной книжке писателя.
Совершенно очевидно, что не всякая метафора может быть достаточно продуктивной, чтобы выволочь за собой целую сюжетную линию. Это по силам, конечно, далеко не всякой метафоре. Продуктивная метафора неминуемо должна иметь последствия, в ней дело не кончается только сходством. Она дает какое-то новое, третье значение, полученное из сложной комбинации двух предметов, обнаруживших родство. Чаще же метафоры Олеши поражают точностью зрительного сходства, и обычно за эти пределы не выходят. Обычно Олеша пишет так:
"Уже поднимался ветер... Расклейщик афиш никак не мог справиться с листом, приготовлен-ным для наклейки. Ветер рвал его из рук и бросал в лицо расклейщику. Издали казалось, что человек вытирает лицо белой салфеткой".
В дальнейшем ни расклейщик, ни афиша не развиваются. Все сказанное остается лишь описанием, композиционная роль его минимальна. Может показаться, что это писал называтель вещей, все искусство которого направлено к краске.
Впрочем, иногда метафора оказывается более продуктивной. (Я, разумеется, говорю не о достоинствах метафоры, а о ее намерении и роли. Метафора, которую я сейчас покажу, несомнен-но менее выразительна, чем предшествующая, в которой переданы ветер, погода, движения листа афиши, взаимоотношения человека и вещи.)
"Мускулы у него ходили под кожей, точно кролики, проглоченные удавом".
У этой непритязательной метафоры двойное назначение: кроме того, что мускулы уподоблены кролику, обладатель мускулов уподоблен удаву (чего он вполне заслуживает и что нужно для характеристики персонажа).
Человек, заметивший сходство длинной, суживающейся книзу бороды с мечом, может остаться лишь наблюдательным человеком. Но такой человек становится художником, когда случайность и частность сходства он делает олицетворением широких явлений. Следом за сравнением длинной, суживающейся книзу бороды с мечом он говорит: "У таких бородачей брови были сдвинуты и насуплены, - говорит художник, - и эти люди были совестью поколения". (Эту метафору я, разумеется, тоже не сравниваю с превосходными метафорами, доставшимися расклейщику афиш.)
Но кроме продуктивной и непродуктивной метафоры у Юрия Олеши есть третий вид этого тропа, наиболее академическое определение которого мне представляется таким: "Метафора во что бы то ни стало".
Никакой другой роли - композиционной, сюжетной, психологической или иной - эта метафора не играет. У нее самая простая, ничем не примечательная задача связывать между собой сходством вещи или части вещей. Ничего больше от нее и не требуется. На этом поприще могут быть более замечательные и менее замечательные успехи, но ни само это поприще, ни успехи на нем не могут решить судеб искусства, занятого моральными или историческими, или экономичес-кими рассуждениями, и лишь на ходу бросающего краску.
Метафора во что бы то ни стало обычно выглядит так:
"В том месте, откуда Тибул вытащил его, как пробку из бутылки, осталась черная дыра. В эту дыру посыпалась земля, и звук получался такой, точно крупный дождь стучал по поднятому верху экипажа".
Или так:
"Ветер свистел в оба уха доктора Гаспара. Мелодия выходила отвратительная, даже хуже того негритянского галопа, который зажаривают дуэтом точильное колесо и нож под руками старательного точильщика.
Доктор закрыл уши воротником и подставил ветру спину.
Тогда ветер занялся звездами. Он то задувал их, то катил, то проваливал за черные треугольни-ки крыш. Когда эта игра ему надоела, он выдумал тучи. Но тучи развалились, как башни. Тут ветер..."
И так далее. Довольно долго.
Но при этом метафора Олеши не только констатирует какое-нибудь зрительное или иное совпадение. Часто метафора окрашивает предметы авторским отношением, причем во многих случаях весьма интенсивно. При громадном, непревзойденном в русской литературе количестве необыкновенно красивых вещей и некотором количестве не столь красивых, красота или отсутствие таковой по возможности заботливо мотивируются. Вещи становятся красивыми или не столь красивыми в зависимости от того, кому принадлежат и как относится автор к их владельцу. В связи с этим же вещи утрачивают только эстетическую ценность и получают соответствующий моральный паритет: красивые становятся хорошими и некрасивые - плохие. Например, рыжие волосы: в одном случае они красивы, в другом омерзительны. Писатель хочет вызвать отвращение к слугам, преданным своим толстым господам. Он с чувством гадливости нахлобучивает им на головы омерзительные рыжие волосы. "Порой какой-нибудь толстяк, - пишет он, - пыхтя, бежал в проулок, а по сторонам бежали рыжие слуги, приготовив палки для защиты своего господина". Но желая показать, как прекрасен его герой - вождь восстания оружейник Просперо, писатель, как корону, на его голову возлагает драгоценную рыжую шевелюру: "Его рыжая голова горела нестерпимым пламенем в солнечном сиянии".
Если у Олеши закрадывается некоторое сомнение в безупречности метафоры, то он начинает на ней настаивать, а иной раз может и прикрикнуть. Он уверяет нас, что все его метафоры замечательны, что он уподобляет именно так, как нужно, и что никто не должен сомневаться.
"Чердак, как и всегда это происходит с чердаками, когда мы попадаем туда летом, почти, как я уже сказал, горит, дымится - да, да, по углам, где постройка несколько разрушена и где видны целые груды солнца, прямо-таки курится дым - синий дым!"
"Этот запах был желт, как желто было лежавшее на камнях двора и кирпичах стены солнце - да, да, желтый солнечный запах".
Он напирает на метафору, нажимает, уверяет нас в том, что он прав.
"Иногда видишь весом в несколько тонн муху, повисшую на паутине. Да-да, именно в несколько тонн..."
"Да, на козлов были похожи эти мои не летающие змеи. Да-да, у них были рожки - концы планок, торчавшие в прорвавшейся наверху бумаге".
"Пароход, стоящий на якоре, был, когда мы гребли возле него, по крайней мере стеною для нас. Да-да, гигантская стена, порыжелая снизу..."1
1 Юрий Олеша. Ни дня без строчки, с. 40, 182, 23, 57.
Надо сказать, что обычно Олеша не кладет на страницу метафору и идет дальше, а проводит весьма динамичную, хорошо развивающуюся метафорическую линию. Он подготавливает уподобление, как комбинацию в шахматной партии. Уподобление начинается исподволь и никаких подозрений сначала не вызывает. Затем оно стремительно нарастает и, наконец, обрушивается всей своей неотвратимой убедительностью. Расчет у писателя далекий: он начинает комбинацию со скрипки, а заканчивает партию - вышибленной челюстью. Делается это так: сначала Олеша говорит о скрипке, звук которой вызывал зубную боль. Незначительная метафора - звук скрипки - зубная боль, - на которой при других обстоятельствах Олеша не стал бы настаивать, нужна лишь для того, чтобы ввести отправную точку всего замысла. Отправная точка замысла - зуб. Так как известно, что удалению зуба предшествует боль, то Олеша и начинает с зубной боли. Начатое дело Олеша доводит до конца: зуб действительно оказывается удаленным. Все вместе это выглядит таким образом: "...скрипка, звуки которой вызывали зубную боль". Через три страницы говорится: "У капитана Бонавентуры был страшный голос. Если скрипка вызывала зубную боль, то от этого голоса получалось ощущение выбитого зуба". Сравнение нарастает, как лавина, как бедствие. На следующей странице сказано: "Теперь его голос уже звучал так, что казалось - выбит не один зуб, а целая челюсть".
При всем этом сложная нюансировка Олеши лежит в пределах двух контрастных цветов. Цвета эти таковы: черный и белый. Эти цвета лишь аллегории значений красных и белых, на которых делит людей каждая революция. Эти цвета обозначают: хороший - плохой. Группы его героев противопоставлены друг другу, как вражеские армии, и у каждой армии - свой флаг. Флаги окрашены: белым или черным (красным или белым). Трагичность борьбы от книги к книге усиливается и в "Зависти" достигает наибольшей остроты. Это происходит потому, что враждующие стороны связаны родством и разделены идеологией.
Художник неохотно и с сожалением расстается с образами людей, вещей.
Как любимые книги, как вещи, к которым привык, писатель из произведения в произведение берет с собой свои самые лучшие, самые дорогие метафоры. "Закричав утиным голосом, барьер сломался" - говорит Олеша в "Трех толстяках". "Где-то с утиным голосом сломались перила" - говорит Олеша в "Зависти". В "Зависти" сказано: "Он взял флакон; щебетнула стеклянная пробка", "...флакон пискнул, как воробей..." - сказано в "Трех толстяках". В рассказе "Любовь" Олеша сравнивает осу с тигром: "...оса... была полосата и кровожадна. - Тигр! - завопил Шувалов". В романе "Три толстяка" он сравнивает тигра с осами: "...тигры... походили на ос - во всяком случае имели ту же окраску: желтую с коричневыми полосами". В "Зависти": "Вмешался ветер... вся листва качнулась вправо. Кольцо зевак распалось, вся картина расстроилась..."1
1 Юрий Олеша. Ни дня без строчки, с. 226.
Даже ремарки годами тянутся за пером писателя. В "Заговоре чувств": "Кухня... Ходы, переходы, лесенки". В "Списке благодеяний": "...Мюзик-холл. Ходы-переходы, коридорчики". В "Строгом юноше": "Театр... Ходы. Переходы".
Многие художники неохотно и с горечью расстаются с тем, что им удалось когда-то, что они любили и с чем были связаны лучшие воспоминания. Многое из своей молодости вспомнил старый Толстой и о многом он пожалел. Но этот художник - Юрий Олеша - предавался воспоминаниям, потому что мир своей молодости он любил, а мир своей зрелости считал очень полезным читателям, и он прожил свою сорокалетнюю литературную жизнь с двумя темами, из которых не знал выхода, потому что согласился на неправильные условия, и поэтому всю жизнь после первых своих и важных для нашей истории книг он лишь повторял, лишь воспроизводил свою молодость.
Приведенные примеры, вероятно, более или менее убедительно говорят о том, что писатель Юрий Олеша был прекрасным мастером метафоры. Но достаточно ли этого, чтобы сказать, что Юрий Олеша был прекрасным художником?
Этого было бы совершенно достаточно, если бы понятия "метафора" и "искусство" были тождественны.
Достаточно ли для прекрасного искусства одних метафор?
Ведь вот г-н Бенедиктов прямо-таки утопал в метафорах, а искусство его на столетие насторожило всю большую русскую литературу.
Юрий Олеша придавал метафоре чрезвычайно большое значение.
Он считал, что метафора может победить все. Олеша пишет об этом просто, скромно и убедительно:
"Кто-то сказал, что от искусства для вечности остается только метафора". Действительно, лучшие страницы произведений Юрия Олеши подтверждают это положение. В связи с этим он приходит вот к какому выводу: "В этом плане мне приятно думать, что я делаю кое-что, что могло бы остаться для вечности"1.
Следует отметить, что метафорический максимализм пришел к Ю. Олеше уже в зрелые годы. За двадцать пять лет до того, как уже ничего, кроме метафор, не осталось, писатель гораздо осторожнее отзывался об этом предмете. Тогда он утверждал:
"Марсель Пруст сказал, что для вечности от искусства остается только метафора. С этим крайним мнением согласиться нельзя..."2
Вопроса о метафоре Юрий Олеша касается не только в своей ежедневной художественной практике, но и в своих теоретических трудах.
Его центральное теоретическое положение сформулировано следующим образом:
1. "Метафора должна облегчать мышление, а не усложнять его"3.
1 Юрий Олеша. Ни дня без строчки, с. 257.
2 Юрий Олеша. Беседа с читателями, с. 158.
3 Там же, с. 162.
Эта идея сразу же вводит нас в позитивистическую концепцию второй половины XIX века и показывает, до какой степени Юрий Олеша был далек от всякого рода неуместных исканий и экспериментов в этой деликатной области.
При внимательном изучении эстетики автора "Трех толстяков" создается впечатление, что эта эстетика вынесена прямо из Ришельевской гимназии, которую автор окончил с отличием, и почти без потерь пронесена сквозь всю первую половину нашего полного бурь и социальных катаклиз-мов века.
В Ришельевской гимназии проходили, что смысл и назначение образа в том, чтобы облегчить понимание изображаемого. Образ помогает воспринимать описываемый предмет или явление при минимуме затрачиваемых усилий.
Это казалось не менее убедительным, нежели концепция единственности перпендикуляра, опущенного на прямую из точки, взятой вне прямой.
Правда, при этом оставалось непонятным, зачем вообще описывать вещи, которые все знают и которые вместе с тем как раз чаще всего становятся объектами самых обстоятельных описаний. Зачем сравнивать всем известные голубые глаза с не всем известной или многими забытой бирю-зой? Зачем описывать луну, сосну, стол, стул, носы, усы, облака, кастрюли, звезды, руки и ноги?
Гимназическая концепция образа была стройной, как перпендикуляр, опущенный на прямую, и покоилась на ясных понятиях позитивизма второй половины прошлого столетия в превосходном изложении Спенсера.
Так как Юрий Олеша по его свидетельству (проверено) был "первый ученик"1, естественно, что он хорошо усвоил то, что проходили в гимназии, и не забыл после экзаменов, а всю жизнь использовал на практике полученные знания.
1 Ю. Олеша. Избранные произведения, с. 250.
Но если внимательно всмотреться в метафоры самого Олеши, то иногда кажется, что знания были сами по себе, а практика, метафоры сами но себе.
По многим метафорам Юрия Олеши становится ясно, как длинен путь до предмета, который изображает писатель, и насколько он длиннее пути простого называния предмета.
В творчестве писателя, пекущегося только о метафоре, чаще всего он длиннее ровно на величину метафоры.
Вот длина пути до изображаемого предмета в творчестве Ю. Олеши:
"Сперва ему показалось, что он попал в какой-то удивительный птичник, где возились с пением и свистом, шипя и треща, разноцветные драгоценные птицы южных стран. А в следующее мгновение он подумал, что это не птичник, а фруктовая лавка, полная тропических плодов, раздавленных, сочащихся, залитых собственным соком". Так, только гораздо длиннее описывается вся кондитерская.
Трудно понять (по программе Ришельевской гимназии), почему следом за этим не идет еще более обстоятельное описание удивительного птичника, разноцветных драгоценных птиц разных стран, фруктовой лавки, а также раздавленных тропических плодов, залитых собственным соком.
Проходит двенадцать лет, и зрелый писатель начинает утверждать, что "выглаженное полотняное платье пахнет левкоем".
Что же здесь более известно - запах выглаженного полотняного платья или запах левкоя? Трудно сказать. Скорее все-таки запах полотняного платья более известен. Это особый вид сравнения, в котором то, с чем сравнивается предмет, так же неизвестно, как и предмет, который сравнивают.
Но сравнение запаха выглаженного полотняного платья с запахом левкоя как бы сравнение наоборот - более знакомого через менее знакомое - не бессмысленно и не смешно, потому что такое сравнение заставляет что-то вспомнить, над чем-то задуматься, задержаться, остановиться. Оно выполняет одну из важнейших задач искусства - заставляет сосредоточиться и увидеть незамеченное, ускользнувшее раньше1.
1 См. Виктор Шкловский. Искусство как прием. В кн.: "Поэтика". Птр., 1919.
Я не против метафор Юрия Олеши.
Я против Ришельевской гимназии в искусстве.
Художник не описывает руки, ноги, а обнаруживает в них то, что до сих пор не было обнаружено. Он описывает те особенности рук и ног, на которые до него не обращали внимания. Ведь до того, как художник увидел и сказал, что "после дождя город приобретает блеск и стереоскопичность", - этого никто не знал и не говорил. Образ - это открытие, разгаданный секрет. Или, как говорят журналисты, берущие интервью у ученых: еще одна тайна, вырванная у природы.
Но образ, несомненно, шире лишь метафорического сопоставления.
Поэтому Гоголь (в некоторых случаях) предельно сокращает путь от общего представления о предмете до конкретного, имеющего видовые и индивидуальные особенности предмета.
Гоголь делает следующее:
"Сестре ее прислали материйку: это такое очарованье, которого просто нельзя выразить словами; вообразите себе: полосочки узенькие, узенькие, какие только может представить воображение человеческое, фон голубой и через полоску все глазки и лапки, глазки и лапки, глазки и лапки..." 1 "...глазки и лапки, глазки и лапки, глазки и лапки...", - захлебываясь говорит просто приятная дама даме приятной во всех отношениях.
Глазки и лапки, глазки и лапки, глазки и лапки...
Глаз... лап... гла... ла... ла... ла... ла... - лопочет, лепечет просто приятная дама.
"Лала... - говорит Владимир Иванович Даль, - пск. - т в р. болтун, каляка, говорун, балясник. ЛАЛЫ ж. Мн. п с к. болтовня, балясы... пустословие"2.
1 Н. В. Гоголь. Полн. собр. соч. Т. 6. М., 1931, с. 180.
2 Владимир Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 2. М., 1955, с. 235.
Художник не разъясняет: "Мои героини - просто приятная дама и дама приятная во всех отношениях - заняты болтовней, балясами, пустословием". Он пишет: "глазки и лапки, глазки и лапки, глазки и лапки" - болтовня, балясы, пустословие.
Путь Гоголя был более коротким, но ни в какой мере не был единственным, и особенно для него самого, высоко ценившего развернутый, раскрытый, обстоятельнейший и наиподробнейший образ.
Из этого, вероятно, следует, что образ не укорачивает и не удлиняет путь. Нужно думать, что цель и назначение образа в ином.
Конечно, и искусство может быть в определенном смысле способом познания действительнос-ти. Но цель этого познания при всех обстоятельствах заключается не в том, чтобы поскорее добраться до данного пункта, но в том, чтобы, идя по трудной дороге, как можно больше увидеть в пути.
Разные эпохи требуют не одинаковых способов восприятия художественного произведения и не сходных методов анализа его. В связи с этим не следует искать в импрессионистической живописи того, что мы ищем у передвижников: быт, характер, социальную типичность и граждан-ский пафос. Эту живопись невозможно исследовать методами, которые так хорошо помогали нам в изучении опыта передвижников. Возможно, в связи с тем, что одна живопись не в состоянии понятно ответить на вопросы другой, другую предлагают не считать живописью. Но это не во всех случаях было бы правильным, так же как не было бы всегда правильным лишать французов их подданства только из-за незнания испанского языка.
В искусстве, как и в физике, существует строго определенная система мер. Нельзя и не нужно измерять длину тоннами, а мощность километрами. Точно так же в искусстве одну изобразитель-ную систему нельзя и не нужно рассматривать в мерах другой системы. Поэтому у кубистов, искавших общие изобразительные формулы, не следует ждать подробностей быта, в греческой трагедии эпохи Перикла было бы преждевременно видеть импрессионистическую недоговорен-ность, а в боевом эпосе "Алпамыш" надеяться на сентиментальные резиньяции. Оказалось, что живопись кубистов, или театр Кабуки, или индийская архитектура для людей, воспитанных на искусстве Семирадского, режиссерских исканиях театра им. Моссовета и концепции жилых ансамблей района Химки-Ховрино, не существуют: они ищут в произведениях чуждой системы то, что считают обязательным для всего искусства, и не находят, и, не найдя, заявляют, что такого искусства нет и его не должно быть.
Все это производит странное впечатление: человек пытается прочесть по-французски книгу, написанную по-английски. У искусства разных эпох и стилей разные языки, и поэтому отсутствие в современной живописи замоскворецкого самовара следует рассматривать не как досадное или злонамеренное упущение, а как закон стилистики этого искусства.
Художественные системы более замкнуты, чем это кажется. Между стилевыми концепциями в реальной истории нет стушеванного перехода. Эпохи отгорожены, и переход из одной в другую труден, как переход через государственную границу. Поэтому введение элементов одной системы в другую или разрушает другую систему, или создает новую, третью.
Музыка Шостаковича на стихи, в которых есть слова "соус кабуль", звучит естественно и не вызывает сомнений. В музыке же Чайковского соус кабуль вместо ветки сирени был бы прямо-таки совершенно неуместен.
К сожалению, до сих пор жизнь сталкивает нас с людьми, которые считают, что некоторые композиторы и живописцы просто из упрямства или желания пооригинальничать не хотят в манере Чайковского или Семирадского, полной мелодичности, естественности и вызывающей самые чистые и гордые чувства за свою родину, рассказать о самоотверженной работе наших микробиологов или о скромном, но великом именно в своей скромности подвиге тружеников различных учреждений и предприятий.
Люди, с которыми нас так часто сталкивает жизнь, никак не хотят понять, что письмо Татьяны к Онегину "Я к вам пишу - чего же боле? Что я могу еще сказать", конечно же, написано гусиным пером, а письмо Пастернака к Цветаевой "Он вырвется, курясь, из прорв Судеб, расплющенных в лепеху. И внуки скажут, как про торф: Горит такого-то эпоха" скорее всего написано автоматическим. И между этими двумя письмами, этими двумя перьями пролегло столетие мировой истории, в котором эпохи мерились разными мерами, между гусиным пером и автоматическим долго писало стальное, и великая русская литература написана главным образом именно этим пером, но между гусиным пером и автоматическим разительное несходство и каждая система замкнута, хотя и отделена от другой не перегородкой, а переходными концепциями.
Мы часто не обращаем внимания на то, что сложившиеся художественные системы отгороже-ны друг от друга не случайной враждебностью. Конечно, пространство между одной законченной системой и другой заполнено неопределенными системами. Конечно, между Салоном и импресси-онистами были барбизонцы, а русскому символизму предшествовали Фет, Фофанов, Чехов, Случевский, Анненский. Но выраженные и законченные художественные эпохи друг на друга не похожи и враждебны друг другу.
Из-за этой изолированности одна система всегда неприязненно посматривает на другую и не желает ее слушать.
Все это горько и просто. Но ведь нужно разъяснить людям, что у искусства разных стран и эпох разные языки.
Кроме того, разные люди ищут в искусстве разные вещи.
С современным искусством и особенно с живописью происходит нечто похожее на то, что произошло с первыми аэрофотосъемками в 1916 году: думали, что снимки никуда не годятся, а потом выяснилось, что их не умели читать.
Какой же единицей следует измерять искусство Юрия Олеши?
Искусство Юрия Олеши нельзя измерять характерами, бытовыми реалиями, синекдохами, литотами, а иногда даже выворотностью (постановка ног, основанная на супинации - выворот-ном положении - бедра), создающей единство формы классического танца.
Единицей измерения искусства Юрия Олеши является метафора.
Эта метафора делает осязательной и жизнеспособной социально-нравственную схему, которая является основанием, сущностью и субстанцией литературного творчества Юрия Олеши и без которой этого творчества не существует.
Все ли может метафора?
В русской литературе было много метафор, но главная потребность этой литературы была не в этом. И поэтому у писателей, метафора которых прекрасна так, что кажется, уже больше ничего, кроме нее, нет, есть еще нечто большее, чем самая замечательная метафора.
Чем отличается метафора Бабеля от метафоры Олеши?
Тем же, чем отличается Бабель от Олеши.
Бабель отличается от Олеши как раз тем, чему в редкие минуты, когда Олеша переставал думать, что он все-таки оставляет неизгладимый след на страницах мировой литературы, он завидовал безнадежно и горько:
"Мне кажется, что я только называтель вещей. Даже не художник, а просто какой-то аптекарь, завертыватель порошков, скатыватель пилюль. Толстый, занятый моральными, или исторически-ми, или экономическими рассуждениями, на ходу бросает краску. Я все направляю к краске"1.
1 Юрий Олеша. Ни дня без строчки. Из записных книжек. М., 1965, с. 257.
Краска не тождественна искусству и не заменяет его. Она частица, одна из составляющих искусства, занятого моральными или историческими, или экономическими, или другими рассуждениями, без которых люди не могут жить. Ее роль бывает значительна или несущественна, но всегда подчинена законам стиля, в котором она существует.
(Я, разумеется, все время имею в виду метафору, а не метафоричность, лежащую в основании искусства и без которой искусство не существует.)
Укорачивает и удлиняет путь не образ, а намерение и возможность писателя с наибольшей полнотой выразить свое отношение к миру. Это мнение может быть выражено в обстоятельной и громоздкой системе сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, шаг за шагом набирающих впечатления и медлительно развертывающих повествование, которое захватывает годы и земли, людей и события, историю и повседневное течение человеческого бытия, потому что жизнь, о которой написаны эти иногда простые, но чаще сложносочиненные и еще чаще сложноподчиненные предложения, нетороплива и обстоятельна, как ее, этой жизни, фраза, которая может делать не одно дело: рассказывать о жизни, но и другое: показывать своим движением и составом, как устроена эта жизнь.
Но возможности и намерения писателя могут быть иными. Другое время и другие обстоятель-ства требуют короткого и быстрого называния вещей. Письмо становится афористичным и точным.
Социология афористического письма состоит в том, что его преобладание становится существенным и заметным в эпохи, когда нужно молчать, и поэтому речь растоплена в воде пустых, булькающих, заливших человеческую жизнь фраз, когда невозможно говорить коротко, серьезно и просто, потому что нужно разливать, оговаривать, бормотать, ничего не сказав, перестраиваться на ходу, посматривать по сторонам, оглядываться на чужое ухо, краем глаза следить за следящим за тобой глазом, внимательно наблюдать за положением высокопостав-ленной губы, когда нельзя говорить того, что хочешь сказать. Тогда литература становится многоречивой, красноречивой, велеречивой и величавой, подлой, длинной и осторожной, заговаривающей зубы и приятной для высокопоставленной губы, глаза и уха.
Одной из форм протеста против такой эпохи и ее литературы становится отточенная, нестыдливая, выразительная и бескомпромиссная стилистика, строгое и точное письмо, не боящееся последствий и не думающее об осторожности, презрительное и неизвиняющееся.
Писатель может подробно рассказывать о достопримечательностях пути, по которому он везет вас в пункт В, но может и ехать молча. Пушкин в "Онегине", Байрон в "Дон Жуане", Стерн во всех вещах охотно рассказывают, что они делают. Флобер молчит. Мандельштам молчит.
Я не делаю привычного предупреждения: конечно, писатель не ставит себе технологическую задачу сознательно.
Ставит ли себе задачу писатель?
Я не сомневаюсь в естественности такого вопроса, и в то же время не считаю обязательным подробно останавливаться на нем. Я прохожу мимо не потому, что тороплюсь, но потому, что занимаюсь литературоведением, а не психологией художественного творчества. Литературоведение же занимается тем, что есть в художественном творчестве, независимо от того, ставил художник задачу или не ставил.
При этом считаю нужным сказать, что главное соображение, которое я не забываю, читая художественное произведение, заключается в том, что художественное произведение есть нечто построенное, что это структура, конструкция, задуманная с определенным намерением и по определенному плану. Поэтому я ищу в художественном произведении намерения, плана и закономерностей. Я стараюсь понять, что автор считает существенным и что получилось таким независимо от него. Художественное произведение есть авторская воля. Эта воля может быть больше или меньше проявлена и больше или меньше осознаваться самим автором, но она есть его воля. Проявлениями этой воли и должен заниматься исследователь. Структура, какой является художественное произведение, или части этой структуры и взаимоотношения частей, не обязате-льно каждый раз осмысливается в каждой детали каждым художником. Но ведь в значительном произведении каждая деталь и не вступает в противоречие с другой деталью или со всей композицией. Это происходит из-за того, что художник, может быть, не интересуясь всем, что определяет композицию, какие-то главные вещи все-таки знает твердо. Самопоследовательность второстепенных частей, определенных главными, держит произведение как структуру и исключает наиболее существенные противоречия.
Конечно, поэт не думает всякий раз, ступить ли ему четырехстопным ямбом или шестистоп-ным дактилем. Но в то же время, не думая всякий раз, поэт все-таки делает нечто такое, что не разрушает его систему. Это происходит потому, что художник неминуемо определен своей биологической и социальной судьбой, определяющей судьбу всех частных его путей. Художник, конечно, не задумывается над каждым своим шагом, он может не интересоваться эстетикой, поэтикой, политикой и кибернетикой, но что-то ведь он все-таки знает.
Он знает, что любит и что не любит, что ему близко и что враждебно. Все остальное зависит только от его последовательности. Из любви или ненависти художника не только к "Лючии ди Ламмермур", но и к своим соседям, можно вывести особенности его ритмики. (Но это в состоянии сделать только современные, то есть математические методы исследования искусства. Полубелле-тристические привычки традиционного искусствознания, к сожалению, сильно ограничивают исследование, не выпуская его из круга рассуждения на тему, что нам нравится или не нравится в романе или сонате.)
Оттого что художник удивляется, когда его понимают совсем не так, как он хочет, никак не следует, что он вообще ничего не хотел. Гоголь, конечно, огорчался, когда его "Ревизора" поняли совсем не так, совсем не так, как следовало. А Сервантес на смертном одре, "унося на плечах камень с надписью, в котором читалось разрушение его надежд", перечислял написанное, настойчиво подчеркивая громадное значение "Испытания Персилеса и Сихизмунды", но забыл упомянуть "Дон Кихота". Следует ли из этого, что художник не знает, что делает? Не следует. Художник может так же ошибаться, как ошибались читатели Бенедиктова (в том числе и такие, как Жуковский, Вяземский, Плетнев, Тютчев, Шевырев, И. Тургенев, Шевченко, Некрасов, Фет) или современники Петрарки, несравненно больше ценившие трактат "О средствах против всякой фортуны", чем "Il Canzoniere".
Особенности своей стилистической манеры Юрий Олеша хорошо осознавал и относился к ним вовсе не так, как относятся к независимой и неуправляемой стихии. Эта особенности входили в его прямые и очень определенные намерения. Об этих намерениях он говорил неоднократно, и они неоднократно и явственно проявились в его произведениях.
Метафора, краска, подробность у Юрия Олеши так часты, так настойчивы и так самостоятель-ны, что кажется, будто произведение написано лишь для того, чтобы использовать эти прекрасные вещи, чтобы они не пропали, не затерялись в бумагах, не остались в записной книжке.
Лучшие куски записной книжки Юрий Олеша в 20-х годах соединял судьбами героев, сюжетом, концепцией, своей художественной индивидуальностью. Герои, сюжет, концепция, художественная индивидуальность писателя были способами соединения материала.
Повышенное значение отдельного куска было характерно для Олеши всегда, во все годы его литературного пути. Писатель любит метафору, краску, пейзаж, деталь, выразительную особен-ность, сентенцию. Они - метафоры, детали - были разнообразны и разнородны, делались впрок, без назначения и цели. Все это записывалось, накапливалось. Это была ежедневная работа писателя, потому что писатель не может жить, чтобы не писать ежедневно хоть строчку.
Но строчки, которые ежедневно писал Юрий Олеша в 20-х годах, соединялись в романы, рассказы и пьесы серьезными побуждениями.
Это существенно отличает их от строчек 50-х годов, в которых Юрий Oлеша подробно рассказывает о том, как он писал строчки 20-х годов.
При этом он не говорил, что для того, чтобы в произведении появились воздушные шары, нужно было создать для них ситуацию и жанр.
В молодости Юрий Олеша создавал ситуацию и жанр.
Для того чтобы фраза "вы прошумели мимо меня, как ветвь, полная цветов и листьев" двигалась в романе просто, не озадачивая и не возмущая другие фразы, нужно, чтобы она и другие фразы были одного круга, одного общества.
На странице молодого Олеши ветвь, полная цветов и листьев, так же естественна, как элегиче-ский дистих, который ни с того ни с сего может вдруг сказать в художественном произведении любой античный чудак и который, то есть элегический дистих, мог бы показаться странным в разговоре на тему, что жизнь, о поверь мне, ничто! Мы ведь всю зиму не можем шапку-ушанку купить. Ужас сковал нас и страх... Метафорический голос романа оправдан характером героя, характером автора и созданным в романе конфликтом поэзии и прозы. Для того чтобы появилась строка о ветви, нужны были поэт и конфликт поэта с вышеупомянутой прозаической средой.
Записная книжка, элегический дистих мотивируются разнообразно. В рассказе "Любовь" для того, чтобы сказать, что девушка "шла, встречаемая овацией листвы", нужно было ввести мотив восторженной любви, преклонения и нетерпеливого ожидания. В романе "Зависть" многие мотивировки связаны с характером героев. "Смотрите: виолончель. Она блестит гораздо менее до того, как за нее взялись. Долго терзали ее. Теперь она блестит, как мокрая - прямо-таки освежеванная виолончель. Надо записывать мои суждения...", декламирует Иван Бабичев. Характер другого героя проявляется иначе. "Я велю тебя аресто-ва-а-ть!" - рычит его брат и враг. (Этот герой обходится без метафор.)
Ослепляющая яркость письма Юрия Олеши создавала иллюзию серьезного художественного открытия. Это, несомненно, преувеличение, вызванное глубоко эмоциональными причинами. Творчество Юрия Олеши никогда не выходило за норматив уже существующей поэтики и было связано с уровнем традиционного эстетического восприятия и воспроизведения мира.
Нужно иметь в виду, что искусство, как и другие виды восприятия и воспроизведения, проходит определенные стадии развития и, не становясь от этого ни лучше, ни хуже ("Фауст" не превзошел "Илиаду", "Моцарт и Сальери" оказался значительнее "Дворянского гнезда"), все время последовательно изменяет и чаще всего совершенствует метод исследования. В других видах исследования, главным образом в естественных науках, это более заметно, поэтому я приведу пример развития метода в биологии.
Система важнейших биологических открытий XVIII - первой трети XIX веков привела к методологической исчерпанности и заставила обратиться к поиску в новом пласте. После решающих исследований Шлейдена и Ивана биология перешла на новый уровень - клеточный. Радикальные открытия в физике, математике, кибернетике и химии перевели ее на молекулярную стадию.
Юрий Олеша работал после решающих исследований Шлейдена и Ивана и сравнительно легко обходится без радикальных открытий. Он хорошо работал на испытанном уровне. Это был, если продолжить метафору, без которой вообще все это рассуждение теряет смысл, клеточный уровень. Величайшие открытия мировой литературы были сделаны именно на такой ступени, и я не упрекаю за это Олешу.
Не заметив, отвергнув новую границу, с которой началось искусство Блока и Пастернака, современники Юрия Олеши продолжали писать хорошо или плохо, но совершенно независимо от новых методологических возможностей.
После многих лет твердой уверенности, что в литературе уже есть все, что нужно, пришел великий писатель Александр Солженицын, прикоснулся к системе Блока - Пастернака и сформировал уровень.
Молекулярный уровень исследования А. Солженицына связан с пристальностью анализа, то есть с извлечением исторического обобщения не из больших масс, которыми оперировала предшествующая ему литература, а из элементарной социальной частицы. Вместе с этим писатель включает в систему восприятия явления, недоступные и не представлявшие интереса для предшествующей стадии литературного развития.
Так как в первую очередь читательское внимание сосредоточивается на языковообразной системе писателя, а она у Солженицына не похожа на роскошный наряд, тщательно прикрыта и ее сравнительно легко принять за традиционное письмо, то многим он даже понравился. Поставлен-ный в систему Глеба Успенского - Леонида Леонова, писатель стал понятен и нестрашен. Я думаю, что это не очень серьезное недоразумение, возникшее из-за того, что еще просто нет большой и серьезной исследовательской литературы о его творчестве. Такая литература особенно нужна еще и потому, что некоторые славянофильские пристрастия этого писателя вводят его искусство в неорганичный для него ряд и мешают увидеть его тесные связи с Кафкой, Фолкнером и Хаксли, с Андреем Белым, Пастернаком, Цветаевой и Заболоцким (конечно, ранним).
Прославленная и поражающая образность Юрия Олеши (никогда не выходившая за ворота традиционной системы) в первые годы его литературного пути была связана с открытием новых свойств и связей бытия, а потом с воспроизведением (репродукцией) пережитого и воспоминани-ем о счастливой молодости.
Поэтому поздняя образность Юрия Олеши это его ранняя образность, но не открывающая нового.
Метафора Юрия Олеши превосходна, повышена, ограничена и традиционна. Юрий Олеша создал не новую Метафору, а усовершенствованную. Она отличается от метафор других авторов лишь тем, что она лучше и что ее больше.
Пристально и доверчиво всматривается добрый художник в стоящий перед ним шумящий, сверкающий мир.
Мир показывает всевидящему художнику неподозреваемые, удивительные неожиданности. Широко раскрытыми глазами смотрит художник на неожиданности мира, обретающие в его душе гармонию и единство формы классического танца. И тогда он возвращает людям схваченные на лету мелодии и песни. В этом зорком синеглазом художнике было что-то от наивного и простого, высокого и чистого искусства средневекового странствующего артиста, жонглера. Жизнь его была непроста и полна случайностей. И, может быть, поэтому он так высоко постиг добрый, бедный, поющий, зеленый мир. Его искусство и его судьба цветом и голосом были сродни кансоне и альбе, эскондиджу и дескорту, серене, а иногда и сирвенте бедного, молчаливого и простого рыцаря, смелого духом и прямого, бредущего от замка, графа тулузского во дворец виконта марсельского, от дофина овернского к графу родезскому по зеленой тропе Прованса, по желтой дороге Молдаванки... Исследователи установили, что "в средние века во Франции и Испании жонглерами называли странствующих музыкантов, певцов. Им, видимо, приходилось не однажды приспосаб-ливаться к новым местам и новым людям, с которыми сталкивала их жизнь, полная неожиданнос-тей. Шаткая судьба бродячих артистов жонглировала ими, а они, балансируя между призрачным кратким богатством случайной удачи и постоянными лишениями, бросали людям схваченные на лету мелодии и песни"1.
1 М. Коган. Предисловие. В кн.: Н.Э. Бауман. Искусство жонглирования. М., 1962, с. 4.
Юрий Олеша хватает на лету мелодии и песни этого мира и бросает их людям. Зорким, маленьким, синим глазом, слегка прищурившись, смотрит художник на то, что делается в мире: что нужно людям, что не нужно, что следует делать, что не следует.
Эта книга начинается с того, чем обычно кончаются книги - с исследования художественных способов писателя. Сделано это не для потрясения жанра, а по иным, более специальным причи-нам. Этих причин две. Первая заключается в том, что образные средства в судьбе Юрия Олеши играют решающую роль, а вторая связана с судьбой самого исследователя: о чем же еще говорить, если не о средствах выражения, изучая творчество Юрия Олеши? И я начинаю книгу с рассужде-ния о метафоре Юрия Олеши, чтобы таким способом показать, что все остальное в творчестве этого писателя не имеет существенного значения. Существенное значение имеет другое: характернейший, ничем не замутненный пример сдачи и гибели советского интеллигента.
Впрочем, многое из того, что сказано в других главах этой книги, имеет касательство и к взаимоотношениям, в которые вступает разрушающее усилие Рр с пределом прочности[q]п и числом циклов нагружения №..
Художника не занимает описание вещей.
Художник не описывает вещи, а приводит их в качестве примера. Он приводит примеры в доказательство своей правоты.
Художник показывает людям то, мимо чего они проходят, не поняв значения того, мимо чего проходят.
Художник - это человек, которому есть что сказать людям.
Но художник никогда не говорит прямо и просто.
Художник приводит примеры, рассказывает притчи.
Вместо того чтобы сказать "я не хочу ехать в ссылку", он говорит:
Тучки небесные, вечные странники!
Степью лазурною, цепью жемчужною
Мчитесь вы, будто как я же, изгнанники,
С милого севера в сторону южную.
О том, что он думает, художник сообщает с помощью примеров: луны, женской улыбки, истории несчастной любви, Ивана IV, хорошего или еще не оправдавшего надежд председателя месткома.
Метафора художественного творчества начинается не в строке, а в самой задаче искусства, во всей деятельности художника: об одном говорить через другое, связывать явления, систематизиро-вать мир, показывать его бессвязность и бессистемность.
Впрочем, иногда Юрий Олеша был не только прекрасным мастером метафоры, а и истинным художником.
Истинный художник это все видящий и все понимающий человек, который говорит то, что он думает и которого за это уничтожают.
Юрий Олеша не был художником, которого за это уничтожают.
Художник должен выстоять, не соблазниться, не испугаться сказать обществу, что он о нем думает, быть уничтоженным обществом.
Юрий Олеша не был художником, которого уничтожает общество.
Как часто случается, что катаклизмы Вселенной и катастрофы всемирной истории теряют значение, выцветают и блекнут, когда у нас безотказное пищеварение и вера в светлое будущее. Или когда нас долго и настойчиво разными способами убеждают, что мы неправы.
Многие художники понимали, что нельзя жить в хорошем, теплом доме, потому что социальная неустроенность мироздания из окна теплого дома кажется менее выразительной.
Однако многие считали, что знанием из окна теплого дома можно ограничиться.
Но обладающий большим мужеством художник распахнул ночью окно и ушел из дому.
Истинный художник - обязан хоть немножко поцарапать мрамор и бронзу роскошного исторического дворца, населенного героями-канделябрами и стоящими наготове кровавыми лакировщиками-временщиками. Бродя под сводами этакого мраморного Дворца Отечественной истории, величественной, как станция метро, начинаешь задумчиво читать строки поэта, которому в Версале больше всего понравилась трещина на столике Антуанетты. До того как этот художник начал подозревать что-то недоброе и отпрянул с ужасом, он понял, что эта трещина - метафора пропасти, в которую революция столкнула империю, казавшуюся нетленной и бесконечной. Потом этот художник - Маяковский понял еще больше: он понял,что выстроена несравненно более могучая и неизмеримо более бесчеловечная империя. И тогда он застрелился. Вот эту трещину, угрожающую, неотвратимую и роковую, заставленную колоннами, прикрытую поэтами, пожарниками, цензурой, групкомом, триумфами науки, блестящими воинами и круговой порукой растленного общества, обязан показать выстоявший художник, ибо за всем этим прячут правду люди, которые могут сохранить свою власть лишь благодаря лжи.
Художник знает, что люди в самые замечательные эпохи начинают предавать друг друга, извиваться в корчах тщеславия, терзаться жаждой денег, власти и славы, лицемерить и лгать, разбрызгивать апологетические фонтаны, произносить патетические монологи, выкрикивать патриотические тирады, слагать панегирические оды, растлевать малолетних, сжигать книги, запрещать думать и заливать, затапливать, наводнять жизнь липкими, непролазными, непроходимыми фразами.
Тогда создается новое измерение человеческой порядочности.
Истинной мерой человеческой порядочности служат только любовь к свободе и ненависть к тирании.
Свою первую книгу Юрий Олеша, еще размышлявший в те годы об истинной мере человечес-кой порядочности, написал о том, почему над растленным обществом разражается неотвратимая революция, которая еще не знает, что ее ждет и чем она кончится.
ПЕРВАЯ КНИГА О ТОЛСТЯКАХ
Литературный путь Юрия Олеши начинается книгой о революции, которая не сомневается в том, что после нее мир станет прекрасен.
В книге рассказано о том, как сначала сытые победили голодных, но голодные не примири-лись с поражением, через некоторое время совершили новую революцию и уничтожили старых властителей.
Писатель сообщает то, что он видел, что пережил и что было главным событием в жизни его поколения.
Первая прозаическая книга Юрия Олеши, до нее писавшего лирические стихи, рассказывала не только о том, что вообще бывает во время революции, но больше всего о том, что писатель увидел в революции сам.
Это придавало первой прозаической книге человека, писавшего до нее только лирические стихи, главное свойство лирического повествования соучастие и сопереживание с происходящим. В отличие от автобиографии в лирике совершается не самоизображение, а самовыражение поэта.
Лирический роман "Три толстяка" создавался в ту пору, когда газеты были полны черно-белой графики, изображающей толстого заводчика и худого рабочего, жирного кулака и тощего крестья-нина, а также средней толщины мечущегося интеллигента, когда мир поделен был только на красных и белых, когда закон контраста, противопоставления, противостояния, антитезы, антонима был выражен с неисчерпаемой полнотой, - вскоре после революции и гражданской войны. Когда все были твердо уверены, что тот, кто шагал не с нами, был против нас.
Психологическая предпосылка романа складывалась под влиянием быстро и резко меняющих-ся событий, очерченных выразительно и недвусмысленно. Эта черно-белая графика времени вызвала строго соответствующую ей концепцию жанра. Был условный жанр плаката, карикатуры, сатиры, сказки.
"Три толстяка" - это аллегория, это пример, приведенный в доказательство неотвратимости революции в государстве, которое охраняется "стражей с барабанами у железных мостов", где молчат "о нищете, о голодных детях, о фабриках, шахтах, тюрьмах, о крестьянах, о том, что богачи заставляют бедняков трудиться и забирают себе все, что сделано худыми руками бедня-ков", где все раздавлено и задушено и где человеческой свободы тем меньше, чем больше о ней произносится громких, сладких, воинственных, лживых, угрожающих и обольстительных фраз. Юрий Олеша написал о том, почему над растленным обществом разражается неотвратимая революция. Роман связан с Россией, с самовластием, с русской историей, которая помнит татарское иго, Ивана Грозного, Смутное время, крепостное право, окровавленные восстания, бунты и мятежи, плети, пытки, тюрьмы и казни.
Сквозь текст романа-сказки проступает сначала незаметно, а потом все явственней историчес-кая аналогия.
Юрий Олеша рассказывает о том, что видел и пережил сам и что было судьбой его поколения.
В этом рассказе автор так настойчиво подчеркивает свое заинтересованное отношение к событиям, его нескрытое вмешательство оказывает столь решительное влияние на путь романа, что происходит существенное жанровое смещение. Сказка деформируется лирикой и историей. Все оказывается сложней, чем представлялось сначала. Жанр произведения оказывается такой: сказочно-лирико-исторический.
"Три толстяка" - это исторический роман, в котором реальные события воспроизведены так, как в мифе, выражающем сущность, субстанцию, категорию; как воспроизводит социологию аллегория, эмблема, герб, флаг - общими очертаниями, окраской.
В видовом многообразии исторического романа могут быть выделены три достаточно выраженных типа: роман, в котором совершаются подлинные исторические события и действуют подлинные исторические персонажи, роман, в котором совершаются подлинные исторические события и действуют вымышленные (чаще всего вместе с подлинными) персонажи, и роман, в котором нет исторических событий и исторических персонажей, но есть великие события, крупные личности и исторические закономерности.
Книга Юрия Олеши - это исторический роман, в котором нет подлинных исторических событий и подлинных исторических персонажей, но есть великие события, крупные личности и реальные исторические закономерности. "Три толстяка" близки по типу такому историческому роману, как "Тарас Бульба".
В произведении Гоголя нет прикрепленности к определенному событию и к определенному веку. В нем есть как бы история: великие события, крупные личности, исторические закономерности. "Тарас Бульба" - это исторический роман, в котором все выдумано, кроме значительности.
(Роман Гоголя был написан в 1833-1834 годах, и его историчность была связана с недавними событиями: разгромом польского восстания 1830-1831 годов и шовинистическим припадком, который переживала большая и далеко не худшая часть русского общества.)
Может быть, естественней, чем с "Тарасом Бульбой", сравнение "Трех толстяков" с "Историей одного города", гротесковость которой, столь близкая роману Олеши, становится еще одним элементом, сближающим два произведения и закрепляющим роман Олеши в условно-историческом жанре.
Роман "Три толстяка" не беспрецедентен в истории русской литературы. Его неожиданность связана с непривычным скрещением далеких историко-литературных линий: сказки и вооружен-ного восстания. Обычно сказки писались не о вооруженных восстаниях, а вооруженные восстания описывались не в сказках, а в социально-исторических эпопеях.
Юрий Олеша написал исторический роман, потому что все надежды не продавшейся, не обманутой и не обманывающей, выстоявшей интеллигенции были связаны с революцией. Он написал о том, что только освобождение, которое интеллигенция связывала с революцией, может возродить русскую культуру.
Исторический роман оказался сказкой, вероятнее всего, потому, что его написал Юрий Олеша, художническая, психологическая организация которого искала аллегорию, притчу, удивительное, необыкновенное, небывалое и фантастическое. Сходные концепции писатели с иным характером восприятия выражают в историческом романе более или менее канонического типа. "Одеты камнем" О. Форш, "Заговор равных" И. Эренбурга, "Разин Степан" А. Чапыгина - современники "Трех толстяков".
Историческая сказка Юрия Олеши обведена горящим кольцом восстания. Воздушные шары, сливочные торты, куклы, кадрили, рапиры, пантеры, шпаги, слуги, штандарты, шандалы, гвардейцы и попугаи заполняют пространство между восстаниями. Но кольцо восстания грозно, и книга, написанная через девятнадцать лет после побежденной революции и через семь лет после победившей, повествует не о воздушных шарах, ботфортах, пистолетах и учителях танцев, но о революции. Она входит в серию революционного искусства и вызвана теми же историческими причинами, какими были вызваны "Двенадцать", "150 000 000", "Улялаевщина", "Конармия".
Сказка Юрия Олеши - это историческая аллегория, и царство "Трех толстяков" очень похоже на любое деспотическое государство. Но если нет основания и необходимости видеть в этой аллегории реальные исторические события, то есть серьезные основания видеть в ней реальные исторические закономерности.
В книге есть все, что неминуемо в революции: угнетенные и угнетатели, темная солдатская масса, верная своим классовым врагам, и сознательные солдаты, поворачивающие штыки против своих классовых врагов, вожди народа, городская буржуазия, обыватели, эмигранты, матросы, аресты, стрельбы, пожары. И самое главное - неотвратимая неизбежность революции в стране рабов, в стране господ.
Кроме того, в книге имеется серьезная попытка рассказать о том, что так же, как предреволю-ционное общество чревато революцией и в нем есть все, чтобы революция совершилась, так и революция содержит в себе все то, что возникает после нее: послереволюционное государство, общество, институты, идеологию, карательную политику, искусство.
Но я не буду долго настаивать на том, что "Три толстяка" это исторический роман.
Говоря об историчности произведения Юрия Олеши, я имею в виду то, что историческая литература - это аналогия, это сравнение эпох. Как всякое уподобление, аналогия обладает свойствами метафоры, а в метафоре соприкосновение предметов происходит лишь по частичному сходству. Поэтому метафора в качестве доказательства иссякает очень быстро.
В связи с этим не следует искать исторические события, которые имел в виду автор, работая над отдельными сценами своего произведения. И не нужно искать реальных прототипов Первого Толстяка, продавца воздушных шаров, преподавателя с прыщом и двенадцати поварят.
Но в лирическом романе события неминуемо окрашиваются воспоминанием писателя.
Его рассказ о бегстве богачей от революции напоминает хорошо известное по многим литературным источникам отступление Врангеля из Крыма.
"...огромная толпа богачей бежала в гавань, чтобы уплыть из страны, где они потеряли все: свою власть, свои деньги и привольную жизнь лентяев. Но тут их окружили матросы. Богачи были арестованы".
А литературно-исторические гвардейцы, размахивающие нагайками на страницах романа, написаны по еще не остывшим воспоминаниям о нелитературных казаках. И эти гвардейцы-казаки написаны как злодеи и каратели, и это исторически правильно. Южанин Олеша видел казаков. Он знал, что такое казак, столп режима, опора и надежа самодержавия, полицейского государства, душитель свободы, государственный разбойник, то есть такой разбойник, которого государство не прячет за решетку, а которому вручает нагайку покрепче да шашку поострее и называет защитни-ком отечества, верной опорой, героем и добрым молодцем. Олеша еще помнил обширную наигну-снейшую, реакционнейшую, наиподлейшую и верноподданнейшую литературу, воспевавшую нагайку. Прошло сорок лет, и Олеша получил возможность снова увидеть лучший образец этой разбойничьей литературы:
Бей, ременный батожок,
По сосудам, по глазам,
По зубам и по усам.
Бей по морде деревянной!
Что попортишь - не беда,
Бей, родимый, бей, ремянный,
Заплетенный в три ряда...
Мой товарищ, мой дружок,
Бей, ременный батожок!
(А. Софронов)
Писатель знал, что такое казаки в русской истории1.
Газеты революционных лет писали:
"К казачьим войскам!
Казаки! Вас употребляют для травли людей. Мы поэтому должны расправляться с вами, как с бешеными псами, и уничтожать вас любыми способами...
Совет Рабочих Депутатов города Петербурга".
1 Прошла треть века, и мы узнали, что такое казаки и в литературе.
Мы мало пишем об этом. По невыясненным причинам наша литература последних лет тридцати почему-то совершенно перестала интересоваться палаческой ролью казачества в русской истории.
Конечно, революция, изображенная Юрием Олешей, так же мало похожа на реальную русскую революцию, как пейзажи, нарисованные в романе, мало похожи на реальную русскую природу. Конечно, Юрий Олеша далек от изображения пролетарской революции или крестьянской войны, а то, что он изображает, по цветам, климату, грации, изящности жеста и обилию украшений напоминает не русскую революцию, а фронду принцев. Поскольку я не настаиваю на том, что "Три толстяка" - это традиционный исторический роман, то я и не обвиняю автора в том, что он не передал так называемую атмосферу и так называемый колорит, что он где-то напутал, что пролетарская революция или крестьянская война в России это не фронда принцев во Франции, и Степан Тимофеевич Разин ну никак не похож на принца Конде и на принца Конти, что дружина Степана Тимофеевича была (уже ты гой еси) не сплошь из пажей и маркизов эпохи Регентства и что смена государственной власти и общественного строя в России мало напоминает обстановку, столь выпукло показанную в известном труде под названием "Короли и капуста".
Я не очень настаиваю на историчности "Трех толстяков" не потому, что меня одолевают сомнения и неуверенность, но что таким способом дозирую количество исторического жанра в произведении.
Принадлежность к историческому жанру, может быть, не так важна самим "Трем толстякам", как исследованию их: несомненно, возможности извлечения широких концепций из исторического жанра больше, чем из сказки.
Я глубоко убежден, что в художественном произведении есть все для исчерпывающего литературоведческого анализа. Поэтому я утверждаю, что исследователю нужно только хорошее издание произведений писателя. Дополнительный материал чаще всего показывает, что к художественному творчеству писателя он отношения не имеет.
В связи с этим сейчас я расскажу о том, что делал Юрий Олеша в газете "Гудок".
Я с огорчением думаю об этом рассказе, и особенно потому, что не жестокой судьбой и не превратностями жизни, а собственной охотой ставлю себя в положение автора критико-биографического очерка, к которому отношусь с глубоким и давним неуважением.
Я объясню, в чем дело.
Критико-биографический очерк сообщает нам как раз такую биографию и ровно в таком количестве, из которой решительно никакое творчество не проистекает.
Вышеупомянутая биография занимает первую главу, потому что она посвящена детству и отрочеству и заканчивается как раз перед первым стихотворением (рассказом, очерком, драмой, сценарием) героя.
Все главы, начиная со второй, трактуют лишь творческий процесс, который, таким образом, как бы проистекает прямо из младенчества.
Поэтому очерк жизни и творчества писателя правильнее было бы называть очерком отрочества и творчества.
Но имеем ли мы право утверждать, что автор такого очерка может в просвещении стать с веком наравне?
На такой вопрос следует ответить отрицательно.
Я пишу о "Гудке" не для того, чтобы показать творческий исток Юрия Олеши, а для того, чтобы помешать безудержному расползанию по отечественному литературоведению еще одного заблуждения. Во имя этого я готов на жертвы. Даже на критико-биографический очерк.
Своеобразие обстоятельств, в которых было написано первое крупное произведение Юрия Олеши, заключалось в том, что писатель начинал свой литературный путь в газете, в том, что газета была не литературная, что вместе с ним в этой газете работали ставшие потом известными писатели (среди них был замечательный писатель М. А. Булгаков) и многие незначительные, но впоследствии профессиональные литераторы, что газета стала прославленной. Критика видит прямую связь между высокими достоинствами художественных произведений Юрия Олеши и его работой в органе ЦК Союза рабочих железнодорожного транспорта "Гудок".
Установление этой связи становится почтенной традицией, и поэтому предполагается, что проверке и опровержению не подлежит.
Монографии1 и мемуары2, вступительные статьи3 и литературные портреты4, критико-биографические очерки5 и литературно-критические эссе6, автобиографические сборники7 и библиографические указатели8, художественные зарисовки9 и литературные энциклопедии10, предисловия11 и авторитетные высказывания читателей12 уверенно рассказывают нам о выдающейся роли четвертой полосы газеты "Гудок" в судьбах русской культуры.
1 Л. М. Яновская. Почему вы пишете смешно? М., 1963.
2 К. Паустовский. Книга скитаний. М., 1964.
3 Б. Галанов. Мир Юрия Олеши. В кн.: Юрий Олеша. Повести и рассказы. М., 1965.
4 Лео Славин. Портреты и записки. М., 1965.
5 Б. Брайнина. Валентин Катаев. М., 1960.
6 Лев Никулин. Годы нашей жизни. Юрий Олеша. "Москва", 1965, № 2.
7 Советские писатели. Автобиографии в двух томах. Том 1, М., 1959, с. 539.
8 Летопись периодических изданий СССР. 1955-1960 г.г. Часть II. Газеты. М., 1962.
9 И. Рахтанов. Рассказы по памяти. М., 1966.
10 Краткая литературная энциклопедия. Т. 1, М., 1961.
11 Константин Симонов. Предисловие. В кн.: Илья Ильф и Евгений Петров. Двенадцать стульев. Золотой теленок. М., 1951.
12 Слово читателей. - "Гудок", 1962, 14 февраля.
Эта традиция воздвигается монументально, как циклопическая стена.
Уже одно это обстоятельство должно насторожить исследователя, потому что циклопические стены воздвигаются для защиты от врагов и чаще всего бывают преувеличены не столько по необходимости, сколько по невежеству, от неумения рассчитать, на всякий случай, от увереннос-ти, что кашу маслом не испортишь, хуже не будет и пар костей не ломит.
Все это становится опасным и угрожающим и требует решительного вмешательства.
Утверждение прямой связи между высокими достоинствами художественных произведений Юрия Олеши и его работой в газете "Гудок" мне кажется несколько поспешным и, я бы сказал, даже чересчур априорным. Я не сомневаюсь, что и поспешность, и априорность вызваны только самыми лучшими намерениями, то есть желанием лишний раз подчеркнуть, что работать в газете это очень хорошо.
Газета, в которой работал Юрий Олеша, кажется столь соблазнительной и имеет глубокое методологическое значение, потому что ее легко представить в качестве образцовой кузницы писательских кадров.
"Гудок" поражает воображение исследователей (не "Гудка") ошеломляющим для нелитера-турной газеты списком имен.
Этот список действительно прекрасен, но не должен казаться совершенно неожиданным.
Дело в том, что почти все ставшие впоследствии прославленными писатели прибыли в "Гудок" из Одессы. Они потянулись друг за другом в Москву, потому что Москва кружила голову, потому что с насиженных мест тронулась вся страна, потому что появилась редкая в эти годы возможность устроиться на работу, а в Одессе нечего было делать и роскошная дореволюци-онная Одесса померкла, потому что это старая литературная традиция - молодой человек из провинции идет покорять столицу. У Олеши было особенно много причин стремиться в Москву: он был начинающим Растиньяком.
К сожалению, моя настойчивая попытка обнаружить постоянное благотворное влияние "Гудка" на творчество Юрия Олеши и открыть в событиях и людях, описанных в его книгах, прямое влияние сигналов читателей до сих пор не увенчалась успехом.
Таинственно и маняще мерцает осиянный громкими именами и окруженный почтительными шепотами "Гудок" на темнеющем небосводе историко-литературного процесса 20-х годов.
В связи с этим таинственным мерцанием чувствуется острая потребность в том, чтобы о "Гудке" была, наконец, написана не прочувствованная страница в монографии об Ильфе и Петрове, Катаеве или Олеше, а кандидатская диссертация.
Я надеюсь, что будущий кандидат филологических наук неопровержимо установит кричащее противоречие между самым лучшим намерением и плачевным результатом.
Это противоречие нужно установить немедленно, сейчас же. Потому что обнаруживается усиливающаяся тенденция стaвить "Гудок" в пример всему написанному Oлешей независимо от "Гудка".
Эту тенденцию настойчиво, последовательно и вдохновенно внедряет лучший знаток жизни и творчества Юрия Олеши Виктор Борисович Шкловский.
С научной точки зрения знаток жизни, творчества и окружения поступает безошибочно, потому что невозможно представить, чтобы кто-нибудь стал проверять его по пыльным, как провинциальные переулки, газетам, которым исполнилось сорок пять лет.
Тремя фразами Виктор Шкловский распахнул бескрайний литературоведческий простор и положил тайну писателя на абсциссе и ординате настоящей науки.
"Зубило" знал жизнь многих. Ю. К. Олеша-романист замкнулся в свою жизнь... - уверенно пишет Виктор Шкловский. - Он создавал арки и не мог сомкнуть их своды, - может быть, потому что... перестал быть "Зубилом", потому что вокруг него не было друзей-рабкоров"1.
Определив, насколько сделанное в "Гудке" лучше сделанного после "Гудка", Виктор Шкловский одной фразой безошибочно устанавливает генезис писателя.
"В стихотворном фельетоне, на ежедневной работе, на службе пролетариату вырос прекрасный писатель"2.
И вот уже становится совершенно ясным, что, только вернувшись на дороги своей молодости, писатель смог, наконец, довести себя до полного возрождения (пять фраз):
"В последние годы Ю. К. Олеша начал писать маленькие статьи... Он вернулся с новым опытом в газету и начал собирать новые кирпичи для того, чтобы построить здание, достойное времени... Он писал статьи о новой биографии Ленина. Он писал о поездке Н. С. Хрущева в Париж. Он писал о сегодняшнем, о самом главном"3.
А для того, чтобы читателю было понятно, каких вершин достиг Юрий Олеша с помощью газеты "Гудок", Виктор Шкловский делает сравнительные замеры славы Юрия Олеши и Демьяна Бедного.
"Поэт Демьян Бедный, который в то время был не очень стар и очень знаменит, говорил мне, что его знаменитость не может быть сравнима с известностью "Зубила"4.
1 Виктор Шкловский. Об авторе и его книге. Предисловие к "Ни дня без строки" Юрия Олеши. - "Октябрь", 1961, № 7, с. 148.
2 Там же, с. 147.
3 Там же, с. 148.
4 Там же, с. 147.
Нужно немедленно написать кандидатскую, нет, докторскую диссертацию, в которой со всей непреклонностью будет установлено, что Демьян Бедный в связи с присущей ему скромностью несколько покривил душой и слегка уклонился от истины, уделив много больше, чем следовало, от своих сочных и кудрявых лавров.
Самое сильное в концепции Виктора Шкловского это его юмор.
Людям, которые не знакомы с особенностями литературной жизни, нужно объяснить причины, заставившие меня так обстоятельно рассказывать о "Гудке".
Дело в том, что газета это коллектив. В отличие от никому не видимой работы писателя за своим столом в своем кабинете, да еще часто запертом на ключ, работа в газете происходит на людях, под присмотром. Это очень полезно писателю, особенно молодому, который еще не знает окружающей действительности, а уже лезет судить о важнейших вопросах общественной и государственной жизни, о воспитании молодых кадров. Поэтому работе в газете всегда придава-лось громадное значение. В связи с этим я вынужден обильно цитировать произведения Юрия Олеши, напечатанные в "Гудке".
Самая уязвимая точка в строгой концепции Виктора Шкловского это надежда на то, что никто не совершит путешествия по пустыне.
Я, ученик В. Б. Шкловского, отправился в путешествие и привез образцы проб.
Вот так выглядят эти самые образцы.
СКУЧНАЯ ИСТОРИЯ, ТРЕБУЮЩАЯ ОСВЕЩЕНИЯ
.......................................
Поэтому деловое предложение:
Пусть тот, кто давал распоряжение
О провозке состава такого
Под видом пустого,
Пусть (не откладывая, кстати)
Даст свое разъяснение в печати!
К тому же путь недалек:
К его услугам - "Гудок",
И чтоб вышло весело и мило,
Можно обратиться к
Зубило*
* "Гудок". Газета Центрального Комитета Союза рабочих железнодорожн. транспорта. 1924, 18 января, № 1102.
ЖИТИЕ СВЯТОГО ЕВГЕНИЯ
....................................
Сколько раз о долгогривых,
О попах, стихи писал,
О пузатых,
О блудливых,
А такого не видал!
Вот уж поп! Всем батям батя!
Где уж лучшего найти:
Сколько божьей благодати
Дальше некуда идти1.
ПОКА ГРОМ НЕ ГРЯНЕТ...
У нас дела такого рода,
Есть для несчастья тьма причин:
У башни нет громоотвода,
А рядом - в баках керосин!2
Разнообразны темы и метрика поэта: от керосина он переходит к вредному влиянию алкоголя, от четырехстопного ямба к четырехстопному хорею.
ВЕСЕЛЫЕ
Пьян Федот
Не тот и тот,
Оба пьяные до точки.
Пьян Макар
Открыл он рот,
А оттуда, как из бочки!3
Я процитировал четыре отрывка, из которых первый написан в одно время с " Тремя толстяками ", а четвертый - с "Завистью".
Однако в "Гудке" Юрий Олеша был не только оперативным фельетонистом Зубило, но и гражданским лириком.
Лучшее из этой лирики он издал отдельной книгой.
Вступительная статья к этой книге называется так: "Поэт труда и революции - Зубило"4.
1 "Гудок", 1925, 13 июля, № 158.
2 "Гудок", 1926, 25 мая, № 118.
3 "Гудок", 1927, 5 июля, №171.
4 И. С. Овчинников. Поэт труда и революции - Зубило. В кн.: Зубило. Салют. Стихи (1923-1926). М., изд. "Гудок", 1927.
Вот что обнаружено в этой книге.
РОЖДЕСТВО
......................................
Нам смешно: о небесах забота!
В рай - врата! Мы видим рай иной.
Через заводские мы ворота
В рай войдем, да только - в рай земной!1
С "ГУДКОМ"
.............................................
Быт. Житейское... Совсем пустяк!
В захолустном, так сказать, масштабе...
Петр Иваныч выпить не дурак,
Будет спать с компанией в ухабе...2
ЧТОБ ПОБЕДИТЬ...
.................................
Нас воля двигает к победе...
Но как же?... Ведь как было встарь...
Ведь нашей техники так беден,
Так примитивен инвентарь!3
Можно предположить, что стихи, напечатанные в книге, не требовали такой высокой оперативности, какой требовали газетные отклики. В частности, стихотворение, посвященное Академии наук, просуществовавшей к тому времени уже двести лет, как мною установлено, создавалось в сравнительно спокойной обстановке, а не в тревожной атмосфере возможного срыва графика. Несмотря на это, печать оперативности лежит на строфах и этого произведения.
Разве это не ясно из такого примера?
Разбив самодержавия оплот,
Пройдя сквозь кровь,
Через борьбу и муку,
Вернул освободившийся народ
Украденную у него науку...4
Все это убедительно говорит о том, что между произведениями, напечатанными в газете, и произведениями, напечатанными в книге, чудовищной пропасти нет.
1 Зубило. Салют. Стихи (1923-1926). М., 1927, с. 34.
2 Там же, с. 37.
3 Там же, с. 56.
4 Там же, с. 53.
Я настойчиво и обильно цитировал сатирические и лирические строфы поэта не для того, чтобы вскрыть, как плохо писал стихи Юрий Олеша. Я настойчиво и обильно цитировал для того, чтобы показать, что не на ежедневной работе, не на службе в газете "Гудок" вырос прекрасный писатель.
Впрочем, о роли "Гудка" в последовательном росте нашей художественной литературы написано так много проникновенных и научных слов, что мои попытки выяснить, что же было на самом деле, выглядят совершенно смехотворно.
Но особенно проникновенные и научные слова о "Гудке" написал сам Юрий Олеша.
Эти слова лучше всего показывают меня в самом невыгодном свете.
Вот что написал Юрий Олеша:
"Это было в эпоху молодости моей советской Родины, и молодости нашей журналистики, и моей молодости.
Когда я думаю сейчас, как это получилось, что вот пришел когда-то в "Гудок" неизвестный молодой человек, а вскоре его псевдоним "Зубило" стал известен чуть ли не каждому железнодо-рожнику, я нахожу только один ответ. Да, он, по-видимому, умел писать стихотворные фельетоны с забавными рифмами, припевками, шутками. Но дело было не только в этом. Дело не в удаче Зубила. Его фамилия была Юрий Олеша.
Дело было прежде всего в том, что его фельетоны отражали жизнь, быт, труд железнодорож-ников. Огромную роль тут играли рабкоры. Они доставляли материалы о бюрократах, расхитите-лях, разгильдяях и прочих "деятелях", мешавших восстановлению транспорта, его укреплению, росту, развитию. Вместе с рабкорами создавались эти фельетоны...
Зубило был, по существу, коллективным явлением - созданием самих железнодорожников. Он общался со своими читателями и помощниками не только через письма. Зубило нередко бывал на линии среди сцепщиков, путеобходчиков, стрелочников. Это и была связь с жизнью, столь нужная и столь дорогая каждому журналисту, каждому писателю"1.
С нежностью вспоминает Юрий Олеша "Гудок".
Это ему кажется, что он вспоминает "Гудок".
На самом деле он вспоминает не "Гудок", а свою первую славу.
Кроме славы, он вспоминает паровозы:
"Его обдавало паром от маневрирующих паровозов, оглушало лязгом металла"2.
1 Юрий Олеша. Ни дня без строчки. - "Октябрь", 1961, № 8, с. 135.
2 Там же.
Рабкоров:
"Сегодня сердечным словом хочется вспомнить рабкоров тех лет, очень часто безымянных, всегда горячих и смелых людей, помогавших в те времена строительству транспорта"1.
Стихи, напечатанные в "Гудке", написаны не первооткрывателем, прокладывающим новый жанр и еще робко нащупывающим дорогу. Дорога газетной поэзии в русской литературе была широкой и хорошо вымощенной. Она прокладывалась такими строками:
Назови мне такую обитель,
Я такого угла не видал,
Где бы сеятель твой и хранитель,
Где бы русский мужик не стонал?...
Выдь на Волгу: чей стон раздается
Над великою русской рекой?
Этот стон у нас песней зовется...2
Теперь, мы, конечно, хорошо понимаем, что писать такие "произведения" да еще печатать их за границей, клевеща на свою любимую Родину, отвратительно, мерзко. Но тогда, конечно, люди, стоящие на очень низком идейном уровне, этого понять не могли. Впрочем, что это были за люди? Перевертыши! Наследники Смердякова! Да и те, которые печатали клеветнические измышления в адрес своей любимой Родины у себя дома тоже были не лучше. Вот что писали такие "деятели" прямо под носом у правительства (уму непостижимо!):
От увлечений, ошибок горячего века
Только "полиция в сердце" спасет человека...
.......................................................
Мысль, например, расшалится в тебе не на шутку
Тотчас ее посади ты в моральную будку...
......................................................
Кровь закипит, забуянит в тебе через меру,
С ней, не стесняясь, прими полицейскую меру...
.........................................................
Знайте ж, российские люди - и старцы и дети:
Только с "полицией в сердце" есть счастье на свете3.
1 Там же.
2 У парадного крыльца. - "Колокол", лист 61 от 15 января 1860, с. 505. (Н. А. Некрасов. Размышления у парадного подъезда. Через три года после нелегальной публикации в Лондоне у Герцена было напечатано в России: Н. А. Некрасов. Стихотворения. СПб, 1863, ч. II, с. 127-191).
3 Дмитрий Минаев. Совесть. - "Русское слово", 1863, № 1, с. 18.
А то вот еще как:
Если мы дикарями богаты,
Если мы на словах тароваты,
Если лупит слугу либерал,
Если многие спины все гибки,
Если пошлостью пахнут улыбки,
Если силу имеет нахал,
Так ведь это одни исключенья,
И бледнеют они от сравненья
С тем, что ты нам так щедро дала,
О, великая русская гласность,
Все приведшая в яркую ясность...
Тра-ла-ла, тра-ла-ла, тра-ла-ла!1
1 Петр Вейнберг. Веселая песенка. - "Искра", 1862, № 10, с. 148. (Подписано "Гейне из Тамбова", напечатано в фельетоне "Отрывочные заметки").
Я цитирую эти стихи не для того, чтобы доказать, что другие писали лучше Олеши, а для того, чтобы не создавалось впечатления, будто я преувеличиваю газетный подвиг своего героя.
"Три толстяка" так мало похожи на фельетон из газеты "Гудок", что роман и эти стихи невозможно связать в какое-то единство и понять, как газета оказывала благотворное влияние на писателя.
Все, что делал Юрий Олеша в "Гудке", оказалось связанным не с "Тремя толстяками" и не с "Завистью".
Чрезвычайно плодотворное влияние "Гудка" скажется через десять лет, после "Трех толстяков", "Зависти", рассказов "Вишневой косточки" и "Списка благодеяний". К этому времени литературное поприще Юрия Олеши будет уже совершенно.
Мои попытки некоторого укрощения "Гудка" в истории отечественной культуры, вероятно, выглядят, по меньшей мере, столь же неуместно, как в свое время скептицизм Чаадаева, Гераклита, Эпикура, Декарта, и я отдаю себе в этом отчет.
Но в то же время в моем положении есть и некоторые преимущества. Так, например, автор "философического письма", рассуждая о "законе духовной жизни", вынужден привести в свидетели Небо, я же, размышляя о газете "Гудок", могу сослаться на нечто более вещественное.
И я ссылаюсь на 8-й номер 1965 года журнала "Новый мир", в котором напечатан "Театраль-ный роман" (первоначальный вариант названия "Записки покойника") бывшего сотрудника газеты "Гудок" М. А. Булгакова, который весьма подробно останавливается на том, что мысль о самоубийстве у него возникла главным образом в связи с работой в газете. Газета в "Театральном романе" не называется "Гудок". Она называется "Вестник пароходства".
Бывший сотрудник "Гудка" рассказал без ликования и литавр о легендарном органе в автобиографическом романе, и, чтобы ни у кого не осталось сомнений в том, что роман точно воспроизводит нагую истину, сообщил свое мнение о предмете в таком ответственном документе, каким, несомненно, является автобиография.
В этом документе мы читаем удивительные и поражающие наш воспитанный на лучших образцах слух следующие неделикатные слова:
"В Москве долго мучился; чтобы поддержать существование, служил репортером и фельето-нистом в газетах и возненавидел эти звания... Заодно возненавидел редакторов, ненавижу их сейчас и буду ненавидеть до конца жизни"1.
Такой неуместный негативизм был связан с тем, что "в 1921-1924 годы М.А.Булгаков работает в качестве хроникера и фельетониста в газете "Гудок" - вместе с В. Катаевым, И. Ильфом и Е. Петровым, И. Бабелем, Ю. Oлешей"2.
Кроме того, в газете "Гудок" он работал, как и Олеша, "в качестве обработчика. Так называ-лись в этой редакции люди, которые малограмотный материал превращали в грамотный и годный к печатанию..."3
Это очень похоже на то, что вспоминает Юрий Олеша:
"Жалобе рабкора, его правильной мысли, наблюдению, пожеланию придавалась стихотворная форма - и на газетной полосе появлялись злободневные вещи, находившие живой отклик у читателя".
Оба сообщения очень близки друг другу и дают прекрасное представление о том, как именно и над чем протекала работа в редакции газеты "Гудок".
Однако в важнейшем вопросе - оценке явления - писатели иногда расходятся. Вот как вспоминает об этих днях Михаил Булгаков:
"Одно могу сказать, более отвратительной работы я не делал во всю свою жизнь. Даже сейчас она мне снится. Это был поток безнадежной серой скуки, непрерывной и неумолимой. За окном шел дождь"4.
1 М.А. Булгаков. Автобиография. В кн.: Советские писатели. Автобиографии, т. III. M., I966. с. 85.
2 Там же, с. 93.
3 Там же.
4 М.А. Булгаков. Автобиография. В кн. Советские писатели, т. III. M., 1966, с. 94.
А вот как Юрий Олеша:
"И делается радостно при мысли о том, что и ты был вместе со всеми в начале славного пути, что и ты шел вместе с теми, кто прокладывал дорогу к этим сегодняшним дням..."1
Слова М. Булгакова вступают в ненужное противоречие с проникновенными словами Ю. Олеши и вызывают недоумение. В этой полемике мы должны безоговорочно поддержать Юрия Олешу. Тем более что Булгакова не поддерживает никто, а Юрия Олешу все, и особенно Виктор Шкловский:
"Самой интересной была редакция "Гудка", - сообщает нам Виктор Шкловский, - а в "Гудке" самой интересной - четвертая полоса, в которой работали рабкоры и молодые писатели.
В этих комнатах Дворца труда вырастала профсоюзная советская печать и одновременно вырастала советская литература...
Здесь начал работать и Юрий Карлович Олеша..."2
В отдалении от этой шумной, необыкновенно талантливой молодой толпы ("таланты водятся стайками", - сказал Олеша3, которая вскоре выделит из своей среды "механиков, чекистов, рыбоводов"4, поэтов и прозаиков) тихо стоял Бабель.
Так как я начал с того, что роман "Три толстяка" никакого отношения к газете не имеет, то теперь я вынужден сказать, к чему же он имеет отношение.
Железная последовательность критико-биографического очерка делает со мной, что хочет.
Незадолго до того, как Юрий Олеша стал писать стихи о паровозах, он писал стихи о королевских гробницах.
Эти стихи звучали так:
Согнув над миром острых два плеча,
Раскрой, о вечность, желтые страницы,
Где немы королевские гробницы
И тлеет византийская парча... 5
1 Юрий Олеша. Ни дня без строчки. "Октябрь", 1961, № 8, с. 136.
2 Виктор Шкловский. Об авторе и его книге. Предисловие к "Ни дня без строчки" Юрия Олеши. - "Октябрь", 1961, № 7, с. 147.
3 Лев Славин. Портреты и записки. М., 1965, с. 13.
4 Э. Багрицкий. Победители. Стихи. М.-Л., 1932, с. 25.
Большой друг и родственник Багрицкого Юрий Олеша всегда с восхищением повторял эти превосходные по форме и содержанию стихи:
Механики, чекисты, рыбоводы,
Я ваш товарищ, мы одной породы...
5 Цит. по кн.: И. Гринберг. Эдуард Багрицкий. Л., 1940, с. 5.
Эти стихи мало похожи на произведения, напечатанные в газете "Гудок", не только потому, что они касаются вопросов вечности и византийской парчи, в то время как газетные нацелены на прямо противоположные моменты, а главным образом в связи с тем, что они (я имею в виду именно эти стихи), несмотря на традиционализм, написаны совершенно профессионально.
Но такие хорошие стихи не стали большой литературой, потому что одно из обязательных условий большой литературы это отсутствие литературности.
Юрий Олеша, как и его одесские друзья, писал условно-исторические стихи, которых так много во всех литературах, которые никогда не становятся великой литературой, которые создаются от еще не пережитого удивления вдруг открывшимся миром поэзии и на которых большие писатели не задерживаются долго, которые стали прямыми предшественниками его первого романа.
Условно-исторические стихи Юрия Олеши были хорошими и плохими, но никогда не были такими, которые определяют писательскую судьбу их автора. Они были естественным, непосред-ственным и единственным преддверием произведения, которое определило судьбу их автора.
Создается впечатление, что стихи, напечатанные в "Гудке", написаны специально для того, чтобы мы никогда так и не смогли понять, каким образом вырос прекрасный писатель.
Стихи, напечатанные в "Гудке", не случайны в судьбе Юрия Олеши и не бесследны в его творчестве.
Начиная со "Строгого юноши", настойчиво и властно орган Союза рабочих железнодорожного транспорта будет напоминать о себе в каждом новом произведении писателя.
Из всего написанного Oлешей меньше остального именно эти стихи связаны с книгой, которая создавалась одновременно с этими стихами и в этой же редакции, - с романом "Три толстяка".
С "Тремя толстяками" связаны стихи, которые Юрий Олеша писал не для "Гудка".
Многие из этих стихов он бережно перенес в роман.
В роман он перенес розу:
...Из плоской миски скромной поселянки
Какую розу мокрую достать?1
которая так прекрасно расцвела в романе:
Цветочницы продавали розы...
...какие красивые розы...
Большие розы, как лебеди, медленно плавали в мисках, полных горьковатой воды и листьев...
...три розы...
...наши розы...
...капли с мокрого цветка...
1 Юрий Олеша. Как блудный сын... Незаконченная поэма, 1920 год. Не опубликовано.
Неопубликованные стихи Ю. К. Олеши и подробности, связанные с их изданием, сообщили мне друзья писателя - Н. Л. Манухина-Шенгели, С. А. Бондарин, Д. Г. Бродский, В. А. Бугаевский, Ф. И. Гопп и С. А. Радзинский. Приношу им искреннюю и глубокую благодарность.
Рассказы этих людей носили строго информационный характер и не претендовали на то, чтобы еще один светлый образ встал перед хорошо подготовленными глазами читателей.
Иного порядка, скорее эмоционального, нежели фактического, оказались воспоминания других друзей покойного писателя, которые мне довелось слышать или читать. Эти воспоминания в первую очередь как раз связаны с созданием светлого облика. Особенно проникновенный образ был воссоздан в рассказах О. Г. Олеши (вторая жена писателя) и Я. Эльсберга (доносчик). С. Г. Нарбут (первая жена писателя, родная сестра второй жены писателя О. Г. Суок) И В. В. Ермилова (доносчик), В. Б. Шкловского (третий муж первой жены Ю. К. Олеши С. Г. Нарбут) и старшего сержанта 2-го отделения милиции Кировского района К. Н. Баскакова, в ненапечатанных и напечатанных работах Л. И. Славина и Л. В. Никулина, В. О. Перцова и Б. Е. Галанова. Их задушевные слова помогли мне многое понять в творчестве и литературной судьбе Юрия Олеши. И если с этих страниц встанет его обаятельный облик, то в значительной степени это произойдет под влиянием рассказанного, написанного и сделанного этими людьми.
Иногда их воспоминания вступали в противоречие с моим собственным впечатлением, возникшим от встреч с Юрием Олешей и чтения его произведений. Но я знал его несравненно меньше и читал не так проникновенно, как это довелось им, и поэтому ни в какой мере не претендую на дискуссию с этими специалистами по разнообразным вопросам.
Тут же я хотел бы отметить то уважение, которым пользовались творчество Юрия Олеши и его облик у людей, казалось бы, в отдельные периоды и не близких ему по стилистической манере. Больше всего в этой связи мне хочется упомянуть имя В. А. Кочетова, первого, кто после смерти Ю. К. Олеши напечатал его строки.
Перенес он из стихов в роман и историю. Правда, и в стихах, и в романе история такая, как будто она пришла не из тревожной и скорбной земной юдоли, а из театра оперы и балета.
Вот толпа из стихотворной драмы, написанной в эти же годы:
...Отсюда виден рынок.
Там бочки и плоды и множество корзинок.
Там движется народ. Идут вперед, назад.
Толпятся, смотрят вверх и кулаком грозят1.
1 Ю. Олеша. Игра в плаху. Трагикомедия. - "Тридцать дней", 1934, № 5, с. 41. Написана в 1921-1922 годах.
Толпа в романе:
"...рыночную площадь... толкался народ..." "...торговцев с графинами, мороженицами и жаровнями..." "Люди перекатывались с одного места на другое... задирали головы кверху... размахивали руками..."
Многое в ранних стихах предопределило будущий роман.
Его сказочность:
...По одуванчикам ходила Ева,
И вздрагивали, но не осыпались
Покачивающиеся головки...1
Его стилизованность:
Мы вновь живем во времена мороза,
Я мир так близко вижу губ твоих,
И как мне лучше свой закончить стих,
Как не сказав, что губы, точно роза2.
Его атмосферу, круг его героев, обстановку, место действия:
Как ей идет зеленое трико!
Она стройна, изящна, светлокудра...
Allez! Галоп! - Все высчитано мудро
И белый круг ей разорвать легко...
Ах, на коне так страшно высоко!
Смеется... Браво... Пахнет тело, пудра...
Она стройна, изящна, светлокудра,
А конь под нею бел, как молоко...3
Повышенную метафоричность:
...А шея-стебель, - драгоценный ствол,
От муки расцветанья запрокинут.
Цветет, цветет... Не отгоняй же пчел
Пусть жала сладкие водвинут...4
Литературность:
С робостью суеверной
Пробую верность муз,
Хоть знаю; выйдут, наверно,
Тройка, семерка, туз5.
1 Юрий Олеша. Агасфер. Незаконченная поэма. 1920 год. Не опубликовано.
2 Юрий Олеша. Роза. 1920 год. Не опубликовано.
3 Юрий Олеша. В цирке. - "Бомба". Журнал революционной сатиры. 1917, № 6, с. 9.
4 Юрий Олеша. Роза.
5 Юрий Олеша. Пушкиниана. 1917 год.
В то же время, когда создавались "Три толстяка", Олеша пишет поэму, в которой слышны мотивы, темы и интонация "Тараса Бульбы". Жанровым свойствам этого романа предстоит сыграть особую роль в "Трех толстяках".
Седели конские гривы,
Старели казаки в седлах,
.................................
Под Дубном дубы шумели,
От Кракова ветер веял,
Хватал казаков за чуб.
А в Ковле коней ковали,
Ковали сердце на пике,
Холодное солнце висело,
Над Вислой как лист спадало...1
Я показал в кусках наиболее характерное из того, что Юрий Олеша написал (и что сохрани-лось) в годы, предшествовавшие его первой серьезной и важной книге.
Я сделал это для того, чтобы стало яснее, откуда пришел писатель Юрий Олеша, для того, чтобы показать, как из ранних стихов вырастает сказочность, стилизованность, повышенная метафоричность, литературность, историчность романа. Главное в этих примерах были не слова "роза" или "ботинки", которые встречаются в стихах и потом попадают в роман, а круг вещей, тем и привязанностей той поры, очерченный очень определенно.
Почти все написанное в годы, предшествовавшие первому роману, поражает традиционнос-тью, литературностью и тягой к условно-историческому жанру.
Но условно-исторический жанр (эта интеллигентская прослойка в русской литературе), удивляя силой, серьезностью и несклонностью к компромиссам, вдруг засветился значительными строчками:
Там, над кустом
шумел, сиял и открывался Рай...
Струился свет, стекая, как Архангел,
меняя драгоценные цвета,
огромный свет - свет конницы небесной,
свет плата Вероники...
Свет от одежд, очей, лица, от рук
там над кустом представшей
Беатриче...2
1 Юрий Олеша. Поход. (Отрывок). "Гудок", 1924, 15 января, № 1099.
2 Юрий Олеша. Беатриче. 1920 год. Не опубликовано.
Отличие этих стихов от других условно-исторически-книжных произведений в том, что они не пересказывают то, что написал предшественник, а рассказывают о том, как этот предшественник видел.
"Беатриче" написана под неожиданным и нехарактерным для Олеши, тяготевшего к акмеис-там, влиянием символизма; она сумрачна по колориту, напряженно интонирована, трагична, темна и мистична.
Эта поэма не сыграла никакой роли в творчестве Юрия Олеши. Она не проявилась нигде - ни образами, ни концепцией, ни стилистикой в других, более поздних вещах писателя.
Лишь в "Трех толстяках" стих "двух длинных шпор - двух золотых комет" повторяется в строке "шпоры его походили на кометы", и через тридцать пять лет, уже несколько раз упомянув Данте (но никогда словами, похожими на те, которыми написана поэма), Олеша вспомнил Беатриче, имеющую отдаленное сходство с героиней его юношеской поэмы.
Я больше ничего не буду говорить об этой прекрасной поэме, потому что пишу не о прекрасных или плохих произведениях, а о судьбе писателя в истории и литературе. При этом счете хорошее и важное не всегда совпадают, и остается только важное.
В судьбе Юрия Олеши важной была не поэма "Беатриче", а роман "Три толстяка", и поэтому я говорил о поэме лишь в связи с некоторыми особенностями жанра - условно-исторического, который сыграет ответственную роль в романе.
Прямой предвестницей романа "Три толстяка" была не поэма "Беатриче", а драма "Игра в плаху".
Эта драма тесно связана с предшествующими и не бесплодна: последующие за "Игрой в плаху" "Три толстяка" окажутся непосредственно зависимыми от нее.
Больше всего сближает роман с драмой сходство мотивов и общность стилистики.
Драма кажется написанной специально для того, чтобы быть первым вариантом будущего романа. В ней есть почти все, что четыре года спустя станет главным в романе: два восстания - первое подавленное и второе победившее, герой, произносящий обличительные монологи, плахи, актеры, "эпоха - вымышленная"1, обстановка, место действия, повышенная метафоричность, условно-исторический жанр.
1 Ю. Олеша. Игра в плаху. Трагикомедия.- "Тридцать дней", 1934, № 5, с. 35.
Драматическое произведение Юрия Олеши написано в эдмонростановской сиранодебер-жераковской - щепкинокуперликовской манере, полной очарования.
Эта манера предстает в таком виде.
Кавалер. Вы сердитесь, Лильяна.
Как счастлив наш король, коль защищает рьяно
Династию его и честь его знамен
Такая женщина! Мой друг, я в вас влюблен!1
Можете себе представить, как накалены страсти в драматическом произведении, которое заканчивается таким леденящим душу аккордом:
Г а н и м е д. Молчи, тиран!
(Отрубает голову королю. Тело его, лежащее спиной к публике, в цветном халате, вздрагивает. Отсеченной головы не видно, но падение ее на площадь знаменуется криком толпы.)2
Отсеченной головы не видно... Хочется кусать руки от досады! Ведь можно было повернуть тело не спиной, а лицом к публике! Этот непростительный просчет ни в какой степени не компенсирован вздрагивающим уже без головы телом. Так безжалостно испортить творение своих собственных рук!.. Как часто впоследствии Юрий Олеша будет это делать!..
Я не могу пройти мимо того, что отсутствие визуального наблюдения отсеченной головы не единственный недостаток драмы.
Другие ее недостатки связаны опять же с самостоятельно существующей головой.
Тема самостоятельно существующей головы начинается сразу, в первой реплике произведения:
Кровавой головой размахивал палач...3
Отсеченной головой тирана заканчивается драма. Таким образом, мы находимся как бы в кольце самостоятельно действующих голов.
Вряд ли такое композиционное решение можно считать оптимальным.
Кроме того, в строке
Кровавой головой размахивал палач...
есть некоторая неясность. Не ясно, чьей именно головой: своей? чужой?
1 Ю. Олеша. Игра в плаху. Трагикомедия.- "Тридцать дней", 1934, № 5, с. 35.
2 Там. же, с. 35.
3 Там же с. 48.
Если бы не особенности композиционного решения драмы (кольцо отсеченных голов), а также наличие влюбленного Кавалера ("Мой друг! Я в вас влюблен!"), то можно было бы с серьезным основанием предположить, что это произведение рассчитано на детского зрителя. Кажется, что в любую минуту актер с фиолетовым носом выскочит на просцениум и задаст вопрос:
А ну, ребята, давайте дружно скажем:
Что такое
круглое и небольшое?
На что детский зритель с присущей ему непосредственностью и без неуместной в данном случае полемики уверенно ответит:
Помидор!!
Автор драмы "Игра в плаху" все время перемигивается со зрительным залом. Он знает, что нужно делать, чтобы достичь полного взаимопонимания с публикой. Нужно делать нечто круглое, небольшое, удобное, милое.
Вот как это делается в драме:
Тибурций. ...Мы будем их казнить, уничтожать, как моль.
Ганимед. А кто ж приговорен сегодня к новой казни?
Явление 5
Шут (пробегая через сцену). Его величество король...1
1 Ю. Олеша. Игра в плаху. Трагикомедия.- "Тридцать дней", 1934, № 5, с. 48.
Драма, созданная двадцатилетним поэтом, писавшим такие стихи:
ПИСЬМО ИСТЕРИЧНОЙ ЖЕНЩИНЫ
В половине восьмого
В загородной кофейне
На открытой веранде
Вы сидели в компаньи
Припомаженных денди
И раскрашенных дам,
И я видела ясно,
Что теперь Вы забыли
О сиреневой Ванде...
..............................
Эх, вскочил бы ты сразу
Да увидел сирени,
Да увидел бы море,
Голубое такое,
Разбросал бы стаканы,
Обругал этих дур,
А потом мы с тобою
(Только ты нехороший!)
В быстролетном моторе
Полетели б, целуясь,
В Кордильеры, на Цейлон,
А потом в Сингапур!1
и читавшим такие стихи:
Тебе привез я тонкий яд в кольце под аметистом,
Его, я знаю, выпьешь ты... И будет вечер долог...
и такие:
Влюбленных манило ее расцветшее тело...
День был манящим, дерзко-обнаженным...2
Нас мчит лазоревый дельфин...
Взлетает розовый авто!
Сегодня стулья глядят странно и печально...3
Ликуя в стоне страстных мук...
Вновь вижу край нежнейший,
Где я бродил давно,
Где медленные гейши
В лиловых кимоно...4
не может считаться полной удачей.
1 "Бомба". Журнал революционной сатиры. Одесса, 1917, № 10, с. 4.
Эти стихи так плохи, и так ошеломляюще похожи на опыты графа Д. И. Хвостова и других прославленных комедийных поэтов, что могут показаться пародийными. Такое предположение тем более соблазнительно, что они напечатаны в сатирическом журнале.
Искушению считать эти стихи пародийными нужно противопоставить железную твердость.
Это совершенно необходимо, ибо при таком взгляде на вещи все плохие стихи следует считать пародией на хорошие стихи. Если подобный прецедент будет создан, то впредь искусство нужно будет делить не на хорошее и плохое, а на хорошее и пародийное.
Это не единственное опровержение пародийности стихов Юрия Олеши. В журнале "Бомба" печатались не только сатирические стихи. Из восемнадцати стихотворений, напечатанных Oлешей в журнале, лишь одно - "Новейшее путешествие Евгения Онегина по Одессе" - сатирическое. Углубленно занимаясь проблемой сатирического стиха, я пришел к следующему окончательному выводу: стихи, которые сами могут быть объектом сатиры, не следует считать сатирическими стихами.
2 Эти стихи взяты из сборника "Серебряные трубы". Одесса, 1915.
3 Стихи из сборника "Авто в облаках". Одесса, 1915.
4 Стихи из сборника "Седьмое покрывало". Одесса, 1916.
Самой серьезной неудачей драмы был ее цветастый, нестерпимо нарядный стих. Этот стих тащил гирлянду образов: Кавалера, Дамы, придворных, "все ткани, золото, рубины, жемчуга", отрубленные головы и очень плохую литературную традицию.
Но в юношеском произведении появилась тема революции, которая оказалась решающей и определившей судьбу романа.
Это юношеское произведение было симптоматично и чревато серьезными последствиями. В нем уже было многое из того, что навсегда определило путь Юрия Олеши: повышенная метафоричность, театральность, чистота и ясность рисунка, красивости.
Драма была подступом к роману и предостерегающей неудачей.
Неудачей был стих драмы, кудрявый и роскошный. Стих-красавец, стих-pompadour.
Юрий Олеша с грустью отказался от такого стиха.
Он стал писать кудрявой и роскошной прозой.
Это уже было не так нестерпимо.
Проза с плохими наклонностями была поправлена иронией.
В прозе стало ясным, что нарочитость, выдаваемая за естественность, тягостна и как нарочитость, и как обман, а трагикомедия (так называет свое произведение автор) всегда готова соскользнуть в мелодекламацию.
"Трагикомедия для репертуара малой формы" оказалась не в состоянии исчерпать опыт человека, к восемнадцати годам пережившего три русских революции. За пределами малой формы, трагикомедии, оставались слишком важные вещи. Не примирившийся с поражением писатель создает второй вариант произведения. Этот вариант называется "Три толстяка".
В "Трех толстяках" нарочитость не выдается за естественность и становится жанром-сказкой. Условность оказывается свойством и нормой жанра: она перестает притворяться чем-то, чем она не бывает на самом деле. Самодовольный стих, этакий авто в облаках и аметистовые зори, уступает место веселой и уже тщательной прозе.
"Игра в плаху" была незначительным произведением, и Юрий Олеша никогда на ней не настаивал.
Теперь мы с вами знаем многое из того, что написал Юрий Олеша до "Трех толстяков". По крайней мере, многое из того, что удалось разыскать в старых газетах и журналах и что удалось вспомнить его друзьям1.
1 Усилиями других, идущих нам на смену историков литературы, будут восполнены зияющие пробелы. И это уже становится реальностью нашей эпохи. В те дни, когда я готов был считать дальнейшие поиски безнадежными, 11 номер 1965 года журнала "Вопросы литературы" принес своим благодарным подписчикам статью Е. Розановой "Забытая тетрадь. (Ранние стихи Олеши)". В этой статье сообщается много интересного. Самое главное заключается в том, что стихи Ю. Олеши "привлекают своей непосредственностью". В связи с этим публикуется большое количество именно таких стихов. Лучшие из них выглядят так:
Потом рассыпет гололедица
По тротуарам серебро
И месяц в холоде засветится
Печально-бледный, как Пьеро!..
Кроме того, мы получили некоторое представление о той литературе, к которой приобщился Юрий Олеша, которую он так любил и которой во многом он остался верен всю жизнь.
Значительная часть написанного в эти годы Юрием Олешей связана с историей, но с такой, которая имеет отношение не к истории, а к литературе.
В жизни Юрия Олеши назрел условно-исторический жанр.
Он сверкал, звенел, гремел мечом и переливался красками.
Это было нечто традиционное, вычитанное из книг и литературно беспомощное.
Условно-исторический жанр, "литература" обладают одной неприятной особенностью: на них не действуют никакие уговоры, увещевания, даже запугивания. Они устойчивы и равнодушны, как грипп, от которого человек выздоравливает сам без всяких неприятных последствий, или вдруг в свою здоровую в основном творческую жизнь вносит иногда болезненно красивые слова. Юрий Олеша был в основном здоров. Но раз в год в течение своей сорокалетней литературной жизни он несколько слов вносил. Сердитая Лильяна не оставляла его. Бывали случаи, когда он неожиданно заворачивал в быстрокрылом моторе то в Кордильеры, то на Цейлон, а потом даже и в Сингапур. Но многие серьезные обстоятельства, в том числе и то, что "Три толстяка" были нетрадиционным жанром, помогли писателю, как это неоднократно отмечалось критикой, "выбраться на настоящую дорогу". Растворенный в другом жанре - в сказке, сатире, гротеске, - в таком, который не дает относиться к нему серьезно, условно-исторический жанр может утратить традиционность, литературность и беспомощность.
Юрия Олешу спасло несерьезное отношение к жанру своей юности. Поэт не мог от него отказаться никогда, но в то же время не хотел на нем особенно настаивать. Он понял, что безумные волны бушующей страсти в романсе выглядят пародийно, а в пародии могут обладать высокими литературными достоинствами.
"Три толстяка" сделали несущественным все написанное до них и естественно, что все написанное до них становится интересным лишь благодаря им.
В то же время роман не опровергал стилистическую близость с юношескими стихами и драмой, но стал относиться к увлечениям молодости серьезно, жестко и озабоченно.
В связи с этим был написан веселый, мягкий и беззаботный роман.
В нем остались традиционность и литературность ранних произведений, художественно незначительных из-за традиционности и литературности. Впрочем, традиционность и литератур-ность уничтожают искусство лишь тогда, когда ничего другого в нем нет. Они серьезно повредили роману, но так как в нем имелись не они одни, как это было почти во всех ранних произведениях, то роман не был погублен.
"Три толстяка" создавались в редакции органа ЦК Союза рабочих железнодорожного транспорта "Гудок", однако влияние окружающей действительности, очевидно, не столь непосре-дственно, как привычно думаем мы, и поэтому первый роман Олеши был написан не под прямым воздействием маневрирующих или уходящих в очередные рейсы паровозов, а в связи с воспоми-наниями об одесской юности, яркой, как палитра с выдавленными на нее солнцем, морем, рододендронами и метафорами.
Непосредственной предшественницей романа был не последний номер газеты "Гудок", а "трагикомедия для репертуара малой формы" - "Игра в плаху".
Стихи, которые я сейчас процитирую, в значительной мере можно считать уменьшенной моделью всего произведения. Эти стихи двух видов. Первый вид выглядит так:
Смотри: поднялся мир. Смотри: из черной шахты
Поднялся рудокоп. Идут со всех сторон
Заводы, фабрики...
А второй так:
Вы сердитесь, Лильяна...
...мой друг, я в вас влюблен!
Стихи о том, что идут со всех сторон заводы и фабрики, определили сюжет и намерения романа, а стихи о Лильяне, в которую вместе с другими влюблен персонаж драмы, в известной мере выражают его стилистику.
"Три толстяка" были не только продолжением одесской литературной традиции, но и опровер-жением ее. Литературная традиция опровергалась иронией. Пародийность и сатиричностъ романа были выходом в новую литературную школу. Герой произведения оружейник Просперо спасается через подземный ход, что, разумеется, крайне романтично и вполне достойно "Авто в облаках". Но подземный ход начинается в кастрюле, а это наносит непоправимый ущерб высокой материи. Кастрюля делает подземный ход, романтическое бегство ироническими и пародийными. В первом значительном произведении Юрия Олеши скрещиваются пути пародии, романтического рассказа и сказки.
В искусстве Юрия Олеши этих лет начало появляться то, что делало это искусство в течение шести лет значительным и серьезным: не омраченное высшими соображениями умение сказать часть того, что он хочет.
"Три толстяка" спасли их жанр, поверхностное знание истории и не омраченное высшими соображениями отношение к окружающей действительности.
Но спасти их было очень трудно.
Для этого нужно было преодолеть книжный шкаф литературной юности.
Лучший знаток творчества Юрия Oлеши Виктор Шкловский говорит о литературном происхождении писателя, может быть, слишком остро, но покоряюще убедительно.
"Юрий Олеша талантлив и умен, - говорит Виктор Шкловский, - но старая культура, которая его преследует, плохого качества. Она из плохого книжного шкафа.
Книжные шкафы могут портить даже классиков"1.
1 Виктор Шкловский. Мир без глубины. О Юрии Oлеше. - "Литературный Ленинград", 1933, 20 ноября, № 15.
Сам Юрий Олеша обстоятельно описал книжный шкаф своего детства.
"Поговорим о книжном шкафе, - предлагает Олеша. - Он наполнен Тургеневым, Достоевским, Гончаровым, Данилевским и Григоровичем.
Толстого нет, потому что "Нива" не давала приложения Толстого.
Чехова нет, потому что ты (отец. - А. Б.) прекратил подписку на "Ниву" раньше, чем Чехов был дан приложением.
Открываю шкаф. Дух, идущий из него, не противен, нет...
В таких случаях описывают затхлость, запах мышей и пыль, поднимающуюся облаками над книгой, снятой с полки.
Не пахнет мышами из твоего шкафа".
Кроме книжного шкафа, в демонстративно такой же системе Олеша называет: "громадная рогатая раковина", подзеркальники, фуражка, дыня.
Он разъясняет читателю: "Семья у нас была мелкобуржуазная".
Обо всем этом говорится обиженным, обличительным и драматическим голосом: "Они мне навязывали это желание. Я всегда был под подозрением. Они смотрели на меня испытующе... Я говорю тебе об инженере, изобретающем летающего человека, а ты хочешь, чтобы я был инжене-ром подзеркальников, фуражек и шумящих раковин... Тут начинается затхлость... Вот почему я говорю о затхлости... Вот такой затхлостью полон твой шкаф... Вот о какой затхлости я говорю..."
К перечисленным Oлешей книгам следует прибавить еще несколько. Олеша не упоминает их, вероятно, потому что в шкафу они не помещались, и поэтому лежали на шкафу или на тумбочке, или на специальном столике. Внизу лежала самая большая, потом поменьше, еще меньше и так далее. Самой большой был "Фауст", поменьше "Потерянный" и "Возвращенный рай", еще меньше "Божественная комедия" и так далее. Некоторые клали сюда же Библию. Это были сложные полиграфические сооружения из бумаги, картона, атласа и муара, кожи и золота. Ростом они были со среднего гимназиста или с небольшой комод. Их дарили на именины или при переходе в следующий класс с похвальной грамотой, или на Рождество. Их не читали, а смотрели картинки. Это была не литература, это была красивая и дорогая вещь, и к такой вещи относились не так, как к книгам из шкафа. Все они были одинаковыми, потому что все их иллюстрировал Энгельберт Зейбертц, тоже считался иллюстрированным Гюставом Доре.
Великие книги были испорчены своим назначением, переплетами, ценой, величиной и праздниками.
Очень красивые иллюстрации Гюстава Доре, выглядевшие особенно импозантно в роскошных изданиях с золотым тиснением на коже, произвели неизгладимое впечатление на маленького Олешу и сыграли огромную роль в его жизни, когда он стал большой.
Все это становится особенно драматичным, потому что Виктор Шкловский имеет в виду не детский литературный шкаф Юрия Олеши, а литературный шкаф человека, уже написавшего свои лучшие вещи. В этом шкафу стоят: Бенвенуто Челлини, Джек Лондон, Бальзак, Пушкин, Толстой1.
1 Ю. Олеша. Кое-что из секретных записей попутчика Занда. - "Тридцать дней", 1932, № 1.
Это книжный шкаф зрелости. Выделено то, что культура писателя - "из плохого книжного шкафа" ("Книжные шкафы могут портить даже классиков").
Свое литературное происхождение, по мнению Виктора Шкловского, Юрий Олеша ведет от испорченных классиков.
Итак, одни классики были испорчены книжным шкафом, а другие роскошными переплета-ми, и поэтому Юрию Олеше ничего не оставалось, как загрузить книжный шкаф своей юности стихами о виконтах, полумасках, розовых авто, денди, грушах и гейшах, а также о газелях, мадемуазелях, иммортелях, ритурнелях, метрдотелях и красотелях.
Вскоре после того как Юрий Олеша написал стихи о королевских гробницах, он стал писать стихи о паровозах.
Можно даже сказать, что и те, и другие он писал одновременно.
Однако стихи о паровозах не сыграли существенной роли в те годы, когда они создавались. Свистя и обдавая дымом, они въехали во второй период творчества писателя. Заложенные в этих стихах свойства обнаруживали себя в более поздних произведениях, и их можно узнать, как по оттенку седины угадывается цвет уже поседевших волос, как угадывается военная выправка в прямой спине отставного полковника.
Обе тенденции проявляли себя чрезвычайно энергично, но всегда в разное время. Так, тенденция королевских гробниц (очень преображенная) плодотворно проявила себя в "Трех толстяках", а тенденция паровозов не менее плодотворно (почти не преображенная) проявила себя в "Строгом юноше" и последующих за ним произведениях.
Во всем, что написал Юрий Олеша, сначала явственно звучал голос стихов одесской юности, а потом все более определенно стали слышаться свистки паровозов.
Эти две литературы, в которых одновременно работал Юрий Олеша, но создали единства и не повлияли друг на друга. Они кое-как уживались в коммунальной квартире творчества этого человека.
Но в то же время и скандалов они друг другу не устраивали. Между элегической и публицис-тической струями в творчестве Юрия Олеши иногда возникали недоразумения, но, конечно, серьезного конфликта никогда не было. Как элегическая струя, так и публицистическая струя были между собой, несомненно, связаны. Эта связь состояла в том, что и та и другая были одина-ково плохи. Я не натравливаю элегию на публицистику, я не науськиваю публицистику на элегию.
Я сталкиваю хорошие стихи с плохими. Поэтому я разрушил единство "Беатриче" и "Игры в плаху" и решительно настаиваю на том, что "Три толстяка" к газете "Гудок" отношения не имеют.
Так подробно, долго и обстоятельно я говорю о произведениях Юрия Олеши, предшествовав-ших роману "Три толстяка", не для того, чтобы создать иллюзию пересмотра художественных ценностей и воздать должное забытым страницам.
Такого намерения у меня нет. Я говорю об этих произведениях, потому что не считаю единственной обязанностью историка литературы демонстрацию непреходящих художественных ценностей. Напротив, я думаю, что для историка литературы такая демонстрация может не быть главной, но что главной его задачей должно быть создание непрерывного ряда. В непрерывном ряду выделяются более существенные обстоятельства и лишь прочерчиваются незначительные. Все это имеет значение, если деятельность писателя рассматривается как историко-литературный отрезок историко-литературного процесса.
Лирика, поэмы и драмы Юрия Олеши, написанные до "Трех толстяков", могут стать предметом исследования только для того, чтобы не возникло подозрения, будто писатель является совершенно неожиданно, и неизвестно откуда, что он пришел не из реальной истории, а выскочил из первой главы критико-биографического очерка.
Юрий Олеша пришел из плохой литературы, но из прекрасной литературной эпохи. В этой эпохе было из чего выбирать. Юрий Олеша выбрал: плохую литературу.
Это произошло потому, что Юрий Олеша всегда, и чем дальше, тем увереннее, шел путем, который указывали наиболее в этот момент выдающиеся представители литературы и искусства. С юных лет Юрий Олеша любил вскакивать по трубе, которая трубила громче других.
Традиция Олеши не однажды была плохой, но всегда она совпадала с господствующей.
При этом он судил поверхностно и почти всегда ошибался.
В таких тревожных и неблагоприятных обстоятельствах начинался роман "Три толстяка" и с ним литературный путь Юрия Олеши.
На этом заканчивается изучение отрочества и начинается изучение творчества.
Самое удивительное в первом романе Юрия Олеши это его жанр.
Нужно сказать, что раньше всех удивился сам автор, и от удивления напечатал свою первую книгу после второй.
Он считал, что в литературу нужно входить серьезно.
"Три толстяка" Юрий Олеша напечатал через год после "Зависти".
Теперь уже удивились читатели.
Жанр "Трех толстяков", ничем особенно не удивительный сам по себе, казался удивительным для автора "Зависти".
Не нужно удивляться жанру "Трех толстяков". Он совершенно естествен, если считаться с тем, что "Три толстяка" написаны не после "Зависти", а после "Игры в плаху".
"Три толстяка" были не первой вещью Олеши. Они были его первой удачей. А первые вещи были именно такими, из которых "Три толстяка" совершенно естественно следовали.
Сказочная принадлежность вытолкнула роман Юрия Олеши из серьезной истории литературы и следом за этим из обстоятельного литературоведческого анализа. О романе писали не очень много и редко связывали его с другими романами. Поэтому произведение, в достоинствах которого сомневались одни пожилые учительницы, повисает в безвоздушном, внеисторическом, внелитературном пространстве. Соотнесенности произведения Олеши с другими произведениями-современниками, с историко-литературным процессом и с тем, что решало судьбы людей в эти годы, не было замечено.
Это произошло в известной мере потому, что в иерархии жанров сказка занимает очень высокое, но не очень большое место.
В то же время, ни один жанр мировой литературы, вероятно, не дал такого короткого - и такого блестящего списка имен, как сказка.
(Я написал эту фразу под прямым влиянием Олеши, который с огорчением через много лет после "Трех толстяков" заметил: "Очень мало было авторов, писавших сказки!")
В истории литературы весьма ответственную роль играет жанр, иерархия, субординация, социальная лестница жанров.
Исследование "Трех толстяков" имеет смысл лишь в том случае, если мы перестанем меланхолически приговаривать: "сказка есть сказка".
Перестав повторять это недостаточное и не единственно возможное соображение, обычно лежащее в фундаменте исследования сказки, мы выйдем из привычного изучения источников, мотивов и вариантов, которыми чаще всего ограничивается анализ этого жанра. Сосредоточенность лишь на морфологических проблемах вывела сказку из системы общего литературоведения и лишила ее свойств, непременных для всякого произведения словесного искусства.
Особенно неестественным это кажется в связи с литературной сказкой, создающейся в тех же обстоятельствах, в которых создается литературное произведение несказочного жанра.
Это не значит, что введение сказки в систему литературоведческого анализа, не ограниченного изучением специфических особенностей жанра, должно исключить собственно сказку. Нельзя начинать исследование с условия: "будем изучать сказку, как будто она не сказка". Изучая "Трех толстяков", не следует пренебрегать тем, что в этом произведении человека уносят воздушные шары, кукла растет, как девочка, а живую девочку взрослые, всегда подозревающие обман люди, принимают за куклу. Всем этим пренебречь нельзя, но в то же время не следует и ограничиться только этим.
В произведении Юрия Олеши есть все для того, чтобы говорить о нем в системе общелитера-турных интересов.
Важное и значительное, о чем рассказано в "Трех толстяках" , не лежит вне сказки, но и не становится незначительным без нее. Независимо от сказки, важно и значительно в романе то, что в нем происходят события, чрезвычайно похожие на те, современником которых был автор еще не написанных тогда "Трех толстяков".
Разумеется, из этого не следует, что его роман это хроника событий 1905-1917 годов, и искать в нем реальной истории не нужно. Когда художник восхищенно пишет о революции, то часто он не имеет в виду какую-нибудь конкретную революцию. Он восторженно пишет об уничтожении тирании.
Юрий Oлеша написал политический, но сказочный роман. Извлечение политической концеп-ции из него сопряжено с некоторым риском, потому что можно разрушить хрупкую оболочку сказки и попасть в положение человека, извлекающего глубоко спрятанную тайну из философии "Жили-были дед да баба".
Однако, если с политическим, но сказочным романом обращаться осторожно, стараясь не разрушать хрупкую оболочку и не попадать в смешное положение, то можно понять, что политическое значение романа лишь прикрыто и окрашено сказочностью.
Поэтому в сказочном романе нет, например, обстоятельного описания смертельной схватки одной группы дворцовой олигархии с другой группой дворцовой олигархии, схватки, неминуемой во всяком тираническом, автократическом государстве, как это было бы в социальном романе. Но, потому что роман не только сказка, в нем пробегают легкая тень, короткий штрих, проведенная сказочным пером тонкая черточка этой темы.
Вот как выглядит в политическом, но сказочном романе смертельная схватка одной группы дворцовой олигархии с другой.
"У одного из них (Толстяков. - А. Б.) под глазом темнел синяк в форме некрасивой розы или красивой лягушки. Другой Толстяк боязливо поглядывал на эту некрасивую розу.
"Это он запустил ему мяч в лицо и украсил его синяком, - подумала Суок.
Пострадавший Толстяк грозно сопел...
Рыжий секретарь... уронил от ужаса перо. Перо, отлично заостренное, вонзилось в ногу второго Толстяка. Тот закричал и завертелся на одной ноге. Первый Толстяк, обладатель синяка, злорадно хохотал: он был отомщен".
Весьма возможно, что при переводе с языка сказочного романа на язык социального это выглядело бы совсем по-иному: мы прочли бы о беспощадной борьбе между группой, которая "владеет всем хлебом" (Первый Толстяк), и группой, которой "принадлежит весь уголь" (Второй Толстяк).
Если довольствоваться только сказочным пером, легкой тенью и тонкой черточкой, то дальше наблюдения над морфологией сказки и генезисом ее мотивов мы не пойдем никуда.
Но ведь роман сказочный...
Но ведь сказка это не только сказка...
Юрий Oлеша написал политический, но сказочный роман, и о нем следует говорить как о политическом, но сказочном романе.
О сказочном аллегорическом романе "Три толстяка" нужно говорить не столько в связи с образами его героев, сколько в связи с идеями, которые потом стали образами. Нельзя писать "образ директора балагана", но можно говорить о том, что идея режиссера Орловского, который недвижно встанет через семь лет в "Списке Благодеяний", были намечены в словах и поступках директора балагана. Было бы наивностью говорить о характере вождя восстания оружейника Просперо, который пересек из конца в конец роман, держа в руках знамя, и больше ничего не сделал, или о Третьем Толстяке как личности, которому отдавил ногу Второй Толстяк, но можно говорить о том, что в героях будущих произведений Oлеши на мгновение появившиеся черты революционера Просперо заплыли жиром Первого, Второго и Третьего Толстяков.
Странное и двойственное впечатление производят серьезные рассуждения о сказке. Несоответ-ствие голосов сказочника и литературоведа вызывают усмешку и фразу о глубокомыслии, достойном лучшего применения. Когда поэт плывет в лодочке сказки, приговаривая: "И взглянула Василиса Прекрасная, и вдохнула, и пригорюнилась...", а литературовед следом угрюмо выводит: "В образе Василисы Прекрасной, воплощающем...", то наблюдается несоответствие.
Ученый анализ сказки часто смешон, потому что при анализе неминуемо сталкиваются предельно разведенные речевые системы. Так как сведение таких далеко разведенных систем является одним из условий пародии, то все это и выглядит пародийным и охотно приводится в качестве образцового отрывка из какой-нибудь злополучной диссертации.
Юрий Oлеша написал сказку не по замыслу, не по обдуманному намерению, не по особой склонности к жанру и не потому, что эпоха властно диктовала писать сказки. У Юрия Олеши сказка скорее получилась, чем была задумана.
Когда я говорю: "Писатель сделал так", то я не настаиваю на том, что писатель все делает с отчетливым представлением о цели. Обычно я хочу сказать: "У писателя так получилось". В полученном результате, несомненно, есть и осознание намерения, но оно никогда не бывает единственным, и чаще всего емy сопутствуют чутье художника, давление времени, влияние традиции, случайность. Это в большей или меньшей мере относится ко всем художникам, но, может быть, к Oлеше особенно. В то же время сам Oлеша высоко ценил осознанное мастерство и восхищался умением последовательно провести через книгу задуманное намерение. "Неужели... Марк Твен, сочиняя об остывающем обеде, - писал он, - уже знал о финале. Или финал внезапно родился из этого остывающего обеда? Как это много - провести такой ход! Какое несравненное мастерство!"1
1 Юрий Олеша. Ни дня без строчки. Из записных книжек. М., 1965, с. 2-8.
О себе же он писал: " Ничего наперед придумать не могу. Все, что писал, писал без плана. Даже пьесу. Даже авантюрный роман "Три толстяка" Ю. Олеша. Зависть. В кн.: Ю. Олеша. Избранные сочинения, с. 38.".
Юрий Олеша сделал так (сказку) не с отчетливым представлением о цели, а потому, что попал в безвыходное положение: он был уверен, что такое непомерное количество брызжущих соком метафор, какое скопилось у него, больше годится для сказочного, а не для психологического романа. А так бы он, конечно, написал не сказку, а психологический роман о зашедшей в тупик Европе. Сказка получилась из-за стилистической неопытности автора и неумения владеть собой. Жанр романа был определен его стилистикой.
Яростная метафоричность произведения связана с одесской традицией, с отцветающим акмеизмом, с уверенностью в том, что настоящая литература это такая, в которой много метафор.
Олеша стал пристраивать метафоры, но их было слишком много, они тучнели, пенились, выходили из берегов, они бурно размножались под влиянием благодатного южного климата, они требовали независимости и превращали роман в цветастое сказочное повествование.
Вот как метафоры делают вещи сначала преувеличенными, а потом сказочными.
"Дул сильный ветер. Летела пыль, вывески раскачивались и скрежетали, шляпы срывались с голов и катились под колеса прыгающих экипажей.
В одном месте по причине ветра случилось совсем невероятное происшествие: продавец детских воздушных шаров был унесен шарами на воздух".
Метафора нарастает с такой непреодолимой силой, что начинает чудовищно преувеличивать. Преувеличение превращает обычные вещи в сказочные. Роман становится сказкой не по воле и намерению автора, а оттого, что выпущено слишком много метафор и автор не может с ними справиться.
"Рыжий секретарь удрал. Ваза с цветами, которую он опрокинул на ходу, летела за ним и рвалась на части, как бомба. Полный получился скандал. Толстяк выдернул перо и швырнул его вдогонку секретарю. Но разве при этакой толщине можно быть хорошим копьеметателем! Перо угодило в зад караульному гвардейцу. Но он, как ревностный служака, остался неподвижен. Перо продолжало торчать в неподходящем месте до тех пор, пока гвардеец не сменился с караула".
Метафора делает мир гиперболичным, сказочным. Обыкновенное действие вслед человеку бросают предмет - увеличивается, вырастает до размеров, не помещающихся в кадре реального существования вещей. Метафоры требуют выпустить их, пропустить их в сказку. Они нарушают границу правдоподобия. Они толкаются, шумят, мешают друг другу.
Они стимулируют усиленный рост носа воспитателя.
Усиленный рост носа осуществляется следующим образом: "...воспитатель спрятался в кресле. Больше всего он боялся, что его длинный нос выдаст его с головой. В самом деле, этот удивитель-ный нос четко чернел на фоне звездного окна и мог быть замечен.
Но трус себя успокаивал: "Авось они подумают, что это такое украшение на ручке кресла или карниз противоположного дома".
Три фигуры, чуть освещенные желтым светом фонарей, подошли к кровати наследника...
На лбу у воспитателя выступил холодный пот. Он почувствовал, что нос его от страха растет".
Нормальные вещи (удивительный нос) вызывают вполне реальные последствия (холодный пот). Метафоры держат вещи, роман на зыбкой границе реальности и фантастики.
Но часто граница метафоры стирается, и тогда уже невозможно понять, где кончается метафора и где начинается сказка.
"Все трое сопели так сильно, что на веранде раскрывалась и закрывалась дверь".
"Гвардеец плюнул с такой злобой, что плевок полетел, как пуля, и сбил чашечку жасмина".
"Толстяки... ели больше всех. Один даже начал есть салфетку... Он оставил салфетку и тут же принялся жевать ухо Третьего Толстяка. Между прочим, оно имело вид вареника".
В системе романа метафоричность неотличима, неотделима от сказочности. Если ветер может унести человека, а перо произвести столь поразительное действие, то легко допустить, что и "колонны зашатались от восторженных криков, а Три Толстяка оглохли". В обычном романе это было бы обычной метафорой, а в сказочном, возможно, повлечет за собой серьезные сюжетные последствия.
И поэтому, когда писатель говорит: "Деревья не шумели, а пели детскими голосами", то есть нечто ничем особенно не замечательное для произведения, в котором на единицу текста приходит-ся ограниченное количество образных средств, то в произведении, задыхающемся от метафор, систематически не выходящем из кризиса перепроизводства метафор, происходит реализация образа. Метафоры Юрия Олеши отрываются от предмета, начинают самостоятельную жизнь, размахивают руками и создают другую реальность, независимую от той, которая их породила.
Поющие детскими голосами деревья подготавливаются заранее, и поэтому не вскакивают в оторопевший от неожиданности роман, а принимаются им как прописанные жители.
Подготавливаются они так:
"Как раз к этому утру удивительно похорошела природа. Даже у одной старой девы, имевшей выразительную наружность козла, перестала болеть голова, нывшая у нее с детства. Такой был воздух в это утро. Деревья не шумели, а пели детскими голосами".
В романе, в котором строго соблюдается своя юрисдикция, естественно выглядит совмещение несходных фактур и разных реальностей, и в таком романе, не удивляясь и не давая объяснений, вместе с людьми живет кукла.
В этом романе размыта граница тропа и жанра - метафоры и сказки, неотличимы фактуры человека и куклы, незаметен переход из действительности в фантастику. И поэтому кукла наделена человеческими свойствами, а люди наделены свойствами кукол. Кукольные свойства людей нельзя ни хвалить, ни порицать, потому что такова заданная система романа, и об этом приходится говорить как об особенностях этой системы, а не как о моральных качествах этих людей и не о том, что это нехорошо. Напротив, это очень хорошо. Это так же хорошо, как кукольный спектакль, в котором все - куклы. Такой спектакль чаще всего более органичен, чем тот, в котором вполне взрослые дядя и тетя играют вместе с куклами, и когда кажется, что взрослые дяди и тети вроде играют в куклы. Если бы в романе Олеши рядом с куклой появились настоящий дядя или настоящая тетя, то они выглядели бы так же устрашающе, как настоящие волосы на гипсовом манекене в витрине магазина "Мосодежда".
Это не писатель, а его метафоры пишут сказку. Они заставляют летать продавца воздушных шаров, они перекрашивают гимнаста Тибула в негра, они отращивают нос воспитателю.
Я думаю, что роман стал сказкой не потому, что его автор старательно к этому стремился, а потому, что он делал художественное произведение из своей записной книжки, переполненной брызжущих соком, ослепительных, поражающих, душераздирающих, судорожных, захлебываю-щихся, свистящих и шипящих метафор. Молодые, крепкие, как девки, метафоры нетерпеливо искали, куда пристроиться. Их взяла сказка.
Можно было бы предположить, что все это произошло, потому что Олеша писал для детей. Может быть, Олеша писал для детей. Может быть, не для детей. Я не останавливаюсь на этом, потому что изучение намерения писателя - другая область знания, нежели та, которой я занимаюсь. Я занимаюсь изучением осуществленных намерений художника - художественным произведением. Поэтому, не касаясь намерения автора, я полагаю, что книгу сделал детской ее жанр.
Но старательнее, чем строит сказку, писатель ее разрушает.
Он делает это по двум причинам: потому, что ему не очень нужна сказка, и потому, что он не слепой, он видит, как настойчиво ищут замену сказки чем-то другим, более актуальным, например, бесхитростным рассказом о том, как сделан подъемный кран.
В результате Юрий Олеша получает новый жанр: разрушенную сказку.
Разрушение сказки производится не только с помощью сообщения о том, что "время волшебников прошло", или еще хуже: что, "по всей вероятности, их никогда и не было", и не только с помощью слуги, увидевшего, как кукла лакомится пирожным. Сказка разрушается попыткой превратить ее в "серьезную литературу".
Эта попытка осуществляется таким образом:
"...я иду в рабочие кварталы. Мы должны сделать подсчет наших сил. Меня ждут рабочие. Они узнали, что я жив и на свободе".
Такими речами можно разрушить не только сказку, но и крепостную стену.
Когда на одной странице напечатано этакое произведение газетного искусства и рассказано о том, что, "по обыкновению, от тревоги Три толстяка начали жиреть...", то происходит разрушение жанра.
В числе главных разрушителей жанра (кроме самого автора) был оружейник Просперо.
Оружейник, действительно, делал вещи, которые не могли не возмущать возвышенный и тонкий вкус критиков. Он говорил: "Кончилось царство богачей и обжор", "Наступил ваш последний час".
"Он лишен жизни", "он ходячая газета" - обижались критики - "он говорит одними лозунгами".
Независимо от критиков, предпочитавших всему тончайший психологизм, надо сказать, что вождь народа в романе о восстании, просидевший весь роман в клетке и выходивший из нее для того лишь, чтобы произнести несколько газетных шапок, мог вызвать недоумение. Он и вызывал недоумение людей, не понимавших, что такие неразговорчивые герои начинают разговаривать после победы. Герой Олеши, Просперо-победитель, разговаривает после победы так:
"Я велю тебя арестовать!"1
Обиженные критики очень страдали, но если серьезно разобраться, то у них не было для этого повода. Они не понимали, что не только бедность души заставляет героя говорить такие речи, а закон жанра: плакат не может разговаривать, как герои Пруста, - с тончайшими переживаниями. Плакат говорит так: "Теперь пришел ваш последний час..."
И там, где Олеша действует по законам жанра-плаката, там все обстоит благополучно. (К оружейнику Просперо это отношения не имеет, потому что плохой плакат не может убедить в том, что сам по себе жанр плаката не хорош.)
Но писатель не всегда делает так.
Писатель разрушает жанр.
Для чего он это делает?
Для вульгарного социологизма.
Вульгарный социологизм (он считался тогда нетленным) проник не только в историческую концепцию романа. Зловонным ручейком затек он и в его педагогику. Все эти оговорки по поводу того, что "время волшебников прошло", "никаких чудес не происходило" и "чудес не бывает" связаны с вульгарно-социологическим угрюмым неодобрением жанра. Ведь волшебники и чудеса - это сказка, а сказку выволакивали на пионерский суд2.
1 Ю. Олеша. Зависть. В кн.: Ю. Олеша. Избранные сочинения, с. 38.
2 А. Кожевникова. Эй, сказка, на пионерский суд! Пьеса в 2-х действиях. М.-Л., 1925.
Олеша не понимает, что отличие социального романа от сказочного состоит в том, что социальный роман делит людей на общественные группы подробно и обстоятельно, а сказочный - только на "красных" и "белых", "наших" и "не наших". Олеша стал робко соединять один жанр с другим. А они не соединялись. Олеша нажал, жанр стал крошиться. В дальнейшем Олеша будет нажимать не один раз.
Но сказка разрушается не только вульгарным социологизмом, который разрушил и не такие пустяки. Она разрушается несказочными мотивировками.
"- Это ты, кукла? - спросил наследник Тутти, протягивая руку.
"Что же мне делать? - испугалась Суок. - Разве куклы говорят? Ах, меня не предупредили!.. Я не знаю, как себя вела та кукла, которую зарубили гвардейцы..."
Но на помощь пришел доктор Гаспар.
- Господин наследник, - сказал он торжественно. - Я вылечил вашу куклу. Как видите, я не только вернул ей жизнь, но и сделал эту жизнь более замечательной. Кукла, несомненно, похорошела, затем она получила новое великолепное платье, и самое главное - я научил вашу куклу говорить, сочинять песенки и танцевать.
- Какое счастье! - тихо сказал наследник".
Наследник верит тому, что ему сказали, не потому, что он так глуп, а потому, что это сказка.
"Я не дала бы себя так провести", - подумала Суок не потому, что она так умна, а потому что автор разрушает сказку.
Во всей этой истории от сказки только "Какое счастье!" наследника.
"Три толстяка" это сказка, которая немножко конфузится, что она сказка. Она оправдывается: "время волшебников прошло", "чудес не бывает".
У нее были основания не только конфузиться, но и дрожать от страха, потому что это время было очень опасным для сказки.
Оправдываясь, сказка становится очень серьезной. Это ее портит, как ребенка, который начинает говорить, как взрослый.
В "Трех толстяках" сказочность испуганно и поспешно снимается, и это делает произведение, которое уже в состоянии быть только сказкой, противоречивым. Умный мальчик не может отличить живую девочку от куклы, а умная девочка удивляется тому, что он не может отличить. Один герой делает сказку, а другой ее разрушает. Ведь в сказке все уславливаются, что не будут обращать внимания на вещи, которых без сказок не бывает.
Юрий Олеша не хочет сказку, потому что гораздо лучше написать психологический роман о зашедшей в тупик Европе.
Пока же писатель делает свое произведение противоречивым.
От победы над сказкой писателя спасает понимание законов жанра. Он пользуется некоторыми его особенностями и получает хороший результат.
Особенно хороший результат он получает тогда, когда ему не удается нанести чувствительное поражение жанру, то есть когда он не может смирить себя до такой степени, чтобы встать на горло собственной сказке.
Тогда писатель получает бескомпромиссный жанр и вводит в него широкий подтекст.
Юрий Олеша не пытается объяснить читателю, что его сказка это несколько искаженная история, но, поскольку он пишет для несмышленых детей, то на это можно посмотреть сквозь пальцы. Удача приходит тогда, когда писателю, не омраченному несказочными соображениями, удается вывести из не идущего на уступки жанра серьезные и большие значения.
Поэтому, когда "весь Государственный совет, вспомнив о докторе Гаспаре, запел хором:
Как лететь с земли до звезд,
Как поймать лису за хвост,
Как из камня сделать пар,
Знает доктор наш Гаспар",
то сказка не идет ни на какие уступки и приобретает серьезные и большие значения. Потому что создается такая ситуация: Государственный совет собирается на совещание, чтобы обсудить, что делать с испорченной куклой.
Вот уж что не только сказка, то уж не только сказка! Это реальнейшая история, в которой так много Государственных советов и других высших законодательных и исполнительных учрежде-ний, призванных решать судьбы народов, но предпочитающих заниматься куклами, стишками. При этом не только уверяют, что куклы и стишки чрезвычайно важны, но создают такие обстоятельства, когда они действительно приобретают несоразмерное значение, немедленно использующееся. Это не мелочность и не случайность. Это проникновение, внедрение полицейс-кого государства во все поры человеческого существования, вмешательство в частную жизнь людей, в их мысли и чувства, предписание строжайшего регламента бытия, подчинение человека полицейскому государству без остатка.
Сказочная локальность и скупость не терпит обстоятельных производственных характеристик. Если герой хороший человек, то автор прямо так и пишет: ".. .никого в стране не было мудрей и ученей доктора Гаспара". Если плохой, то автор не постесняется его обругать: "...глупый Раздватрис".
Писателю некогда разоблачать отрицательных героев исподволь, после длительной подготовки. Он их разоблачает тут же, во второй половине фразы.
Фраза начинается: "Пустяки! - говорит хорошенькая... и заканчивается: ...но востроносая барышня".
Это не случайная строчка, а прием, необходимый сказочному роману, в котором на ста страницах рассказано о двух революциях. В сказочном романе надо торопиться.
Прием осознается и повторяется:
"Красавица взвизгнула, и при этом обнаружилось, что у нее вставная челюсть..."
Сказочная минимальность, умение сказки довольствоваться немногим, отсутствие необходи-мости делать вещи подробными и обстоятельно прописывать общий план неминуемо интегрируют индивидуальные особенности предметов. Предметы становятся просто носами, просто облаками. Они утрачивают видовые, частные свойства. Нос теряет горбинку, облако - сходство с роялем. Но это не топы, не общие места, обычно проходящие через невзыскательную литературу, а свойства сказки, для которой традиционное конструирование норма. Ведь если в сказке есть волк, то он непременно съедает или пытается съесть слабого и беззащитного, если есть лиса, то она обязательно хитрит. Эта цитатность образов, характеров и ситуаций - особенность жанра, а не отсутствие мастерства, и поэтому Виктор Шкловский - лучший знаток Олеши и его круга - неправ, укоряя "пестрых" "Трех толстяков" за "цитатные приключения"1.
1 Виктор Шкловский. Мир без глубины. О Юрии Олеше. - "Литературный Ленинград". 1933, 20 ноября, № 15.
Цитатные приключения в сказке такая же особенность жанра, как постоянный эпитет в народной поэзии, как переходящие из одного сценария в другой поступки героев комедии масок, как дебют или эндшпиль, или гамбит в шахматной партии, которые не придумывают каждый раз заново, а вставляют готовыми. И поэтому пейзаж (портрет) в романе "Три толстяка" не плох, а условен и собран из деталей пейзажного (портретного) набора мировой литературы.
"Солнце стояло высоко над городом, - конструирует Юрий Олеша. - Синело чистое небо".
Такой пейзаж не развивается и не вмешивается в судьбы людей. Он стоит, как театральная декорация, недвижно, красиво.
"Вокруг парка до самой небесной черты находились луга, засыпанные цветами, рощи и пруды... Здесь росли самые интересные породы трав, здесь звенели самые красивые жуки и пели самые искусные птицы".
И прощаясь с живой природой, пейзаж "Трех толстяков" повторяет, вздыхая, отлетая, отцветая:
"Солнце ярко светило..."
"Ах, как нежно светило солнце! Ах, как синело небо!"
Отличие портрета от пейзажа в романе "Три толстяка" только в том, что пейзаж монтируется из солнца, неба, рощ и прудов, а портрет из носов, очков, ночных туфель, халата и каблуков.
Портрет в романе традиционен, потому что он воспроизводит персонажей с традиционными характерами: рассеянный ученый-гуманист, любящий свой народ, сосредоточенный ученый-индивидуалист, не любящий свой народ, вождь восстания, пламенно служащий народу, интеллигент-перебежчик, мелкий буржуа, представитель горожан.
Вот как выглядит в сказочном романе рассеянный ученый-гуманист, любящий свой народ.
"Доктор Гаспар был человек немолодой и поэтому боялся дождя и ветра. Выходя из дому, он обматывал шею толстым шарфом, надевал очки против пыли, брал трость, чтобы не споткнуться, и вообще собирался на прогулку с большими предосторожностями".
"...доктор Гаспар прошел по улице. Все было в порядке: новый шарф, новая трость, новые (хотя и старые) башмаки на красивых целых каблуках".
"...он был так взволнован... что даже не придавал значения... отсутствию... каблуков".
Вот так выглядит сосредоточенный ученый-индивидуалист, не любящий свой народ:
"Тут раздался чей-то сердитый старческий голос. Какой-то человек, шаркая туфлями, спешил из темноты...
...маленький старичок в цветном халате, в ночных туфлях.
...в полосатом белье и в ночном колпаке".
Портрет проходит по роману, приветственно помахивая каблуком:
"...потерял каблук!"
"...теряя второй каблук..."
"...обломал оба каблука..."
Это не плохие пейзажи и не плохие портреты. Это сказочные пейзажи и сказочные портреты. И оценивать их нужно не с точки зрения особенностей сказочного конструирования.
В искусстве можно что-либо понять, только войдя в законы, в систему единиц этого искусства. И поэтому люди, смотрящие живопись кубистов в системе единиц передвижников, ошибаются, спрашивая: "А это что? Нога? Такой ноги не бывает". Совершенно верно: в другом искусстве такой ноги не бывает. В другом искусстве совсем другая нога. Подобно тому, как в физической системе мер нельзя измерять длину килограммами, так в новом искусстве нельзя измерять правду жизни реалистическими ногами.
Происходит постоянное и неостановимое перемещение художественных ценностей. То, что важно в одном искусстве, в другом становится второстепенным. Нельзя оценивать одного худож-ника по тому, что хорошо у другого. У каждого художника и у каждой школы свой титульный список значимых вещей. Если оценивать Бальзака с точки зрения мастерства интерьера, то он не очень большой художник. А вот Диккенс замечательный мастер интерьера.
Метафора Пушкина не выделена и не ошеломляет неоспоримостью. Но метафора Пастернака замечательна. Дело не в том, что с недостатками мастера приходится мириться, потому что мастер, имеющий слабый интерьер, с лихвой компенсирует нас поразительным пейзажем и чудесными социальными характеристиками, но в том, что искусство этого мастера - такое искусство, которому нужны поразительные пейзажи и чудесные социальные характеристики и не нужны могучие интерьеры. В большом искусстве плохие портреты и невыразительные пейзажи происходят не от несовершенства, восполняемого чем-то другим, а от закона эстетики этого искусства.
Надев очки, натянув ночной колпак, обмотав шею шарфом и взяв в руку трость, на красивых новых каблуках, в ботфортах, в сапогах и в красных туфлях, похожих на стручки красного перца, проходят действующие лица по роману "Три толстяка", как персонажи итальянской комедии масок.
Юрий Олеша не хотел сказку.
Он хотел театр.
Театральность Олеши таилась в его метафоричности. Из всех видов театральности Олеша тянулся к красочной, думая, что театральное это красочное, и был уверен, что без красочности театральности не существует. Обильная метафоричность Олеши полна красок. Какой же иной может быть обильная метафоричность? Конечно, она может быть только обильно красочной. Обильная метафоричность не зацветает в тундре, потому что сравнивать мох с лишайником это не дело.
Южное происхождение метафоричности Олеша окрасил роман морским, солнечным, итальянским цветом, цветом курортной акации, цветущих улиц и средиземноморских камней.
Поэтому Олеша пришел на самую образную, самую метафорическую сцену страны - сцену Вахтангова, а позже (с другой задачей) - на сцену Мейерхольда.
Метафорическое происхождение театральности Олеши станет очевидным, если вглядеться в декорации, которые он ставит в "Трех толстяках".
"Горят разноцветные огни... Полукруглые окна сияют золотым сиянием. Там вдоль колонн мелькают пары. Там веселый бал. Китайские цветные фонарики кружатся над черной водой".
В "Трех толстяках" достойно представлены начала некоторых родов театрального искусства.
Например, оперы:
"Солдаты сидели на барабанах, курили трубки, играли в карты и зевали, глядя на звезды".
(В партитуре за таким куском, вне всякого сомнения, было бы сказано: "Хор солдат".)
Или водевиля:
"Тетушка Ганимед зажмурила глаза и села на пол. Вернее, не на пол, а на кошку. Кошка от ужаса запела".
"Зеленая шляпа упала, покатившись на манер самоварной трубы... Директор был вне себя и, задыхаясь от гнева, надел с размаху бумажный круг на голову испанца. Круг с треском разорвался, и голова испанца оказалась в зубчатом бумажном воротнике".
"Клоун, который ничего не видел и решил, что произошло самое ужасное, упал с того, на чем сидел, и остался без движения. Тибул поднял его за штаны".
(Это уж не водевиль, а цирковое антре.)
Кроме того, несколько менее отчетливо, но достаточно полно Олеша отразил деятельность смежных творческих союзов.
Вот как начиналось в его романе цветное кино:
"Со всех сторон наступали люди. Их было множество. Обнаженные головы, окровавленные лбы, разорванные куртки, счастливые лица... Гвардейцы смешались с ними. Красные кокарды сияли на их шляпах. Рабочие были тоже вооружены. Бедняки в коричневых одеждах, в деревянных башмаках надвигались целым войском".
Молодое, удивляющееся самому себе, цветное кино четверть века назад несло такую стилистику в самые отдаленные уголки нашей необъятной, самой свободной в мире Родины.
Изобразительное искусство представлено картинкой эпохи войны за польское наследство (1733-1735):
"Его усадили на большом турецком барабане, украшенном пунцовыми треугольниками и золотой проволокой, сплетенной в виде сетки".
Прикладное искусство присутствует в виде рождественской открытки:
"...головки женщин, окруженные таким сиянием золотых волос, что казалось, будто на плечах у них крылья".
Но, конечно, совершенно преобладает театр.
"Вся площадь была запружена народом. Доктор увидел ремесленников в серых суконных куртках с зелеными обшлагами; моряков с лицами цвета глины; зажиточных горожан в цветных жилетах с их женами, у которых юбки походили на розовые кусты; торговцев с графинами, лотками, мороженицами и жаровнями; тощих площадных актеров, зеленых, желтых и пестрых, как будто сшитых из лоскутного одеяла; совсем маленьких ребят, тянувших за хвосты рыжих веселых собак".
В доказательство того, что это не случайный абзац, я привожу еще одно подобное описание.
"Множество голов и спин самых разнообразных цветов и красок горело в ярком солнечном освещении... Повара с растопыренными пятернями, с которых, как клей с веток, стекали сладкие соки или коричневые жирные соусы; министры в разноцветных расшитых мундирах, точно обезьяны, переодетые петухами; маленькие пухлые музыканты в узких фраках; придворные дамы и кавалеры, горбатые доктора, длинноносые ученые, вихрастые скороходы; челядь, разодетая не хуже министров".
Между этими кусками лежит почти весь роман. Но приемы описания одинаковы. Рыночная толпа изображена таким же способом, каким изображается придворная толпа. Одинаковый ритм, одинаковые краски, чередования, интонации; даже одинаковая пунктуация: точка с запятой после каждого куста описания.
В отдельных случаях точка с запятой может отсутствовать. Все другие приемы описания остаются:
"Вокруг сидели чиновники, судьи и секретари. Разноцветные парики малиновые, сиреневые, ярко-зеленые, рыжие, белые и золотые - плыли в солнечных лучах".
Все это решительно напоминает эскизы к постановке "Принцессы Турандот" в театре им. Евг. Вахтангова. ("Третья студия МХАТ. Карло Гоцци. "Принцесса Турандот". Сказка в 4-х действиях и 7-ми картинах. Перевод с итальянского С.А. Осоргина... Постановка Евг. Вахтангова. Художник Игн. Нивинский. Дамские платья - И. И. Ламанова. Мужские головные уборы - И. С. Алексеева. Музыка - Н. И. Сизова и А. Д. Козловского. Оркестр - школа студии. Режиссеры К. Г. Котлубай, Ю. А. Завадский, Б. Е. Захава. Помощник режиссера - В. В. Балихин. Заведующий постановочной частью - Н. М. Горчаков. Премьера 27 февраля 1922 года".)1
1 Программа первого спектакля "Принцесса Турандот".
"Три толстяка" были написаны через два года после премьеры "Принцессы Турандот".
Как всегда великое искусство, "Турандот" имела безукоризненную мотивировку: актеры, не имеющие театра, истосковавшиеся по сцене, приходят к своему знакомому и затевают игру в спектакль. Поэтому борода из полотенца и грим, сделанный жженой пробкой, в этом спектакле не должны нести ответственности за формализм.
1922 год для такого спектакля был пределом. Позже так играть уже было нельзя.
Борода из полотенца в "Трех толстяках" выглядит менее естественно, потому что она появилась позже, и поэтому у нее не было вынужденности и абсолютной убедительности "Турандот".
"Три толстяка" выглядят, как возобновленная "Турандот".
В возобновленной "Турандот" станок сделан из плексигласа (Polyethylmetacrilat), борода Гассена из поролона (Polyurathan), а платье Зелимы из капрона (Polycaprolactam). Эти совершенные материалы уничтожили совершенную мотивировку игры в ненастоящий театр, который из-за отсутствия вообще каких бы то ни было материалов был закрыт. Он был закрыт, потому что в стране за четыре года до этого совершилась революция и полтора года назад кончилась гражданская война.
"Три толстяка" были написаны тогда, когда настоящий театр уже открылся. Поэтому игра в театр, которого нет, потеряла смысл. Скорбной, неутоленной тоски художника по искусству, горького чувства своей ненужности, тогда еще могло и не быть. Не должно было быть. Роман-игра становится явлением литературным, вторичным. Это возвращение к тому, что уже было, возобнов-ление, стилизация. И это отличает обыкновенное хорошее искусство от великого, которое ничего не повторяет и всегда открывает людям неведомый, новый, взволнованный и важный мир.
Роман не может стать театром, и если он предпринимает такую попытку, то делает не свое дело.
В театральности "Трех толстяков" многое предвещало будущий театр писателя.
Роман "Три толстяка" делает не вполне свое дело: он закладывает основы будущих произведений писателя.
Судя по тому, что роману удается, можно предположить, что лучше, если бы он делал сказку.
Автор сказочного романа не хотел сказку.
Он все время делает не то, что хотел. Он все время искал жанр, на котором можно было бы остановиться.
Этот человек, написавший за свою жизнь не очень много значительных вещей, каждую новую вещь создавал в новом для себя жанре. Юрий Олеша поэт, фельетонист, романист, драматург, сценарист, рассказчик, миниатюрист, очеркист, критик, мемуарист, автор записных книжек, инсценировщик. Жанровых повторений в творчестве Олеши почти нет. Такое разнообразие не очень удивляет у других писателей, создавших много стихов, много рассказов, романов, пьес. Тургенев писал стихи, рассказы, романы, пьесы. Но у Тургенева есть собрание сочинений в двадцати восьми томах, а у Олеши однотомник.
Жанровое разнообразие Юрия Олеши вынужденное. И это разнообразие не было поиском лучших путей, а было бегством от неудачи. И когда придет время искать, как жить, Олеша будет биться над тем, в каком жанре писать.
У Олеши другая, нежели в "Турандот", мотивировка спектакля: переизбыток метафор.
Но это не может быть единственным и главным в искусстве, которое рассчитывает выйти за пределы писательского кабинета.
Главным могло быть то, что Юрий Олеша и его поколение за пятнадцать лет пережили три русских революции и гражданскую войну.
Переизбыток или недостаток метафор, поражающее количество метонимий или горестное отсутствие синекдох может казаться писателю единственным и главным в искусстве.
Каждый из нас встречал людей, которые из-за черт знает куда девавшихся ключей предавались отчаянию и скорби.
Эта неадекватность не должна вводить в заблуждение ни по части значения ключей, ни по части душевных качеств человека, предающегося отчаянию и скорби.
Мы не всегда уверенно отвечаем на вопрос о том, что более и что менее важно, и часто ошибаемся, отвечая.
Я так долго и так настойчиво говорил о метафорическом происхождении "Трех толстяков" ( в которых заложены основы будущих произведений), потому что Юрий Олеша был легко возбуди-мым человеком и начинал художественное произведение не с выверенных концепций, а вдруг, удивившись краске, поразившись жесту, изумившись звуку.
И эту краску, этот жест, этот звук художник имеет право неправильно считать причиной создания произведения. И многие художники об этом уверенно пишут.
Я считаю недискуссионным, что писатель должен иметь выверенную концепцию, хорошо знать, что он делает, и вообще отличать ямб от хорея. Но у меня нет твердой уверенности в том, что все писатели отличают...
Кроме того, я не могу доказать, что те, которые отличают, пишут лучше тех, кто не отличает.
Юрий Олеша знал: душа художника, дыша прерывисто и торопливо, распахивается вдохновенью.
Кроме этого Ю.К. Олеша, конечно, знал, что творческий процесс возникает благодаря сложнейшим социально-историческим и психологическим взаимодействиям.
Ю. К. Олеша это хорошо знал.
Только почему-то думал об этом, когда писал свои худшие вещи.
Он думал о том, что душа распахивается вдохновенью, удивившись краске, изумившись звуку.
Как-то мы разговорились с приятелем о том о сем, потом перешли к победе "Спартака" над "Локомотивом", и я спрашиваю приятеля (не историка): в каком году индепенденты подавили левеллеров. В 1964-м, отвечает он, удивившись. Оказывается, он знал об индепендентах и левеллерах, но двадцать пять лет, после урока в школе, не думал об этом.
Юрий Олеша знал, что главное в творчестве художника не метафора, а вопросы экономики и влияние среды. Но двадцать пять лет после урока, преподанного ему критиком, не думал об этом.
Роман Олеши не прибежище для непристроенных метафор. Это книга о революции, об истории, об искусстве, о важных вещах. Это сказка, возникшая на почве гипертрофии метафор. Это исторический роман, рассказавший о взаимоотношениях интеллигенции и революции. Это лирическая поэма, в которой художник рассказал о себе и о своем поколении, пережившем пятнадцать ответственнейших лет русской истории.
Юрий Олеша знал, что книги пишутся не для реализации метафор, и "Три толстяка" были написаны, потому что писатель должен был рассказать, что он видел и что он считал важным для людей. Юрий Олеша знал, что главное в творчестве художника не метафора, а влияние среды. Но я не думаю, что именно с этой мыслью Юрий Олеша всякий раз садился за письменный стол.
Весьма определенная историчность романа, в котором совершаются великие события, действу-ют крупные личности и соответствуют реальным исторические закономерности, дает основание, не оправдываясь, говорить о том, что стоит за сказкой. Сказка становится лишь способом изложения материала. И о борьбе царя и интеллигента, подарившего ему, царю, Золотого петушка, можно говорить в связи со стремлением монархической власти ограничить творческую свободу интеллигенции. И сам автор, создавший образы царя и представителя сарачинской интеллигенции, устанавливает методологию исследования сказочного памятника: он сосредоточивает наше внимание на том, что "Сказка ложь, да в ней намек! Добрым молодцам урок "1.
1 А. С. Пушкин. Поли. собр. соч. Т. 3. М., 1948, с. 563.
На что же намекает сказка Юрия Олеши "Три толстяка"?
Сатирическая сказка "Три толстяка" изображает государство, которое полагает, что истину знает только оно, что эта истина неопровержима (в каждый данный момент), что эту истину при необходимости разрешается отменять только самому государству, что иное мнение не может быть правильным и что писателей этого иного мнения нужно убивать.
Это совершенно естественно для государства, владеющего всем, подкупающего всех и, если надо (как оно полагает), сажающего, расстреливающего, удушающего, попирающего, уничтожающего.
Писатель с обстоятельностью очевидца рассказывает о тираническом абсолютистском полицейском царстве, потому что незадолго до того, как написать роман, он сам был подданным государства, уничтожавшего всякого, кто осмеливался говорить о свободе, не доносил на того, кто говорил о свободе, государства, в котором за восемьдесят лет - с 1826 года по 1906-й, от декабри-стов, с которых начинаются политические процессы в России, до судов над участниками первой русской революции - было казнено за политические преступления сорок три человека1.
Это составляет 0,54 казненных в год. Если бы так продолжалось дальше, то через тридцать лет, то есть к 1937 году, было бы казнено 16,25 человека. Только Советская власть принесла нам избавление от ужасов террора!
Сказка Юрия Олеши повествует о властителях, которые не могут думать, не могут позволить себе думать об истине. Они думают лишь о том, чтобы удержаться, чтобы их не спихнули другие толстяки, чтобы не развалилось имение. И поэтому власть в этом государстве так катастрофична, всеобъемлюща, всепроницающа, так неустойчива и подвержена воздействию разнообразных случайностей.
Эта катастрофичность государственной власти вызвана не только неохраняемостью граждан законом, но и неохраняемостью самого закона.
Больше чем за полвека до того, как был написан роман "Три толстяка", опыт тиранической империи позволил не только обратить внимание на взаимодействие закона и власти, но и строго сформировать характер власти в связи с ее отношением к закону. "Различие между самодержави-ем и деспотизмом гр. Блудов объяснял императору Николаю тем, что самодержец может по своему произволу изменять законы, но до изменения или отмены их должен сам им повиноваться"2.
1 Энциклопедический словарь Ф. Павленкова. 2-е исправленное издание. Спб., 1907. Дополнения. Статья "Политические процессы русские", с. 2982-2984.
2 Дневник П. Л. Валуева, министра внутренних дел. В 2-х томах. Редакция, введение, биографический очерк и комментарии проф. П. А. Зайончковского. Т. 1, М., 1961, с. 77, 314.
(Поэтому, когда судили Рокотова и Файбишенко - в 60-е годы XX века, то их расстреляли не по чьему-то произволу, а по закону, который меняли всего три раза за время следствия и суда для того, чтобы расстрелять не за здорово живешь, а на законном основании.)
Юрий Олеша имеет в виду не самодержавие, а деспотизм.
Нет, Россией управляли не самодержцы, повинующиеся закону, хоть какому-нибудь... Россией управляли деспоты. Деспоты - это такие люди, которым позволяют быть деспотами. Как только им перестают позволять, они становятся очень милыми людьми, а лучшие представители - даже демократами.
Увы, история и социология не могут рассчитывать лишь на хороший характер и природные достоинства властителей, ибо известно, что если человеку, даже самому прекрасному, позволено все, то даже самый прекрасный человек становится тираном.
История и социология могут рассчитывать только на сдерживающую силу оппозиции.
Вероятно, у моего редактора хватит сообразительности, что я не анархист и что мой идеал вовсе не развалины государства. Но человеческая свобода может существовать лишь в слабом государстве, подвластном ожесточенной борьбе не дающих друг другу разгуляться общественных групп.
Я не верю в добрых радикалов и нежных католиков, в целомудренных социалистов и в любезных республиканцев.
Я верю в то, что когда добрые радикалы получают возможность убивать, то злые католики им этого не позволяют. Я верю только в оппозиционное равновесие сил, которое не дает разгуляться ни добрым, ни злым, ни целомудренным, ни любезным.
А ведь хочется разгуляться? Правда? Так, по совести говоря, ведь хочется? А? Еще как! А ведь как многим это действительно удается.
История и социология могут рассчитывать только на сопротивление угнетенных, умеряющее самые гнусные, самые отвратительные, самые разнузданные, самые извращенные инстинкты властолюбия, которые всегда даже в прекрасном человеке при благоприятных обстоятельствах готовы развязаться с тропической стихийностью.
Может быть, на свете так много тиранов из-за того, что так много возможностей стать тираном?
Герои, героизм, подвиги, военная слава, прогресс и замечательные успехи безусловно должны заставлять быстрее и радостней биться наши сердца. Но это только половина дела. Вторая половина заключается в том, чтобы герои, героизм, подвиги и другие удивительные вещи были употреблены в строго ограниченных количествах, чтобы они не превышали средний процент несчастных случаев от автомобильных и железнодорожных катастроф.
Как и многое другое в истории русских общественных отношений, это превосходно понимал Пушкин. Он сказал:
Оставь герою сердце! Что же
Он будет без него? Тиран...
Это, вероятно, не исчерпывающая социология тиранства, поскольку тиранство возникает не там, где герою оставляют сердце, а там, где ему дают развернуться.
Поэтому наследник Тутти - добрый мальчик с золотыми волосами, - став Следующим Толстяком, неминуемо будет делать то же, что делали все предшествующие ему Толстяки мировой истории.
Это не столько социологическая гипотеза, сколько реальная история, которую автор "Трех толстяков", казалось, должен был хорошо знать.
В чем историчность "Трех толстяков"? В том, что по ним можно догадаться о некоторых особенностях русской истории. Или, независимо от "Трех толстяков" и их автора, задуматься самому над этими особенностями.
Эти особенности заключаются в том, что соединив историей точки падений и взлетов русской жизни, мы получаем выраженную закономерность. Соединив одни точки - Екатерина II, Александр I, Александр II - мы замечаем, что эти точки начинали прекрасно. Они начинали с осуждения своих преступных предшественников и с самых заманчивых обещаний. Кончали они ужасно: уничтожением своих бывших единомышленников, расправой с инакомыслящими, казнями, реакцией. Так же, как их преступные предшественники. Они завершали свой путь деспотизмом, потому что абсолютистское правление давало им возможность и требовало именно так его завершить.
Переходим к другим точкам.
Десятый том "Истории Государства Российского" Карамзина, рассказывающий о событиях, наступивших после смерти Ивана IV, и написанный после убийства Павла I, начинается так:
"Первые дни по смерти тирана, - говорит римский историк, - бывают счастливейшими для народов": ибо конец страдания есть живейшее из человеческих удовольствий"1.
1 Н.М. Карамзин. История Государства Российского. Т. 10, Спб, 1889, с. 43.
И продолжает:
"...новый венценосец, боясь уподобиться своему ненавистному предшественнику и желая снискать любовь общую, легко впадает... в послабление... Сего могли опасаться... тем более, что знали необыкновенную кротость наследника Иоаннова, соединенную в нем с умом робким... На громоносном престоле свирепого мучителя Россия увидела... более для... пещеры, нежели для власти державной рожденного... Не наследовав ума царственного, Феодор не имел и сановитой наружности отца, ни мужественной красоты деда и прадеда: был росту малого... осужденный природой на всегдашнее малолетство духа..."
"... сие царствование, хотя не чуждое беззаконий, хотя и самым ужасным злодейством омраченное, казалось современникам милостию Божиею, благоденствием, златым веком: ибо наступило после Иоаннова!"1
Так открывается рассказ о том, как хорошо начинал человек, занявший трон тирана.
А вот рассказ о том, как этот человек кончил:
"...крестьяне искони имели в России гражданскую свободу... в назначенный законом срок переходить с места на место, от владельца к владельцу... без сомнения, желая добра не только владельцам, но и работникам сельским, желая утвердить между ними союз неизменный, как бы семейственный... он (Борис Годунов. - А. Б.) уничтожил свободный переход крестьян из волости в волость, из села в село, и навеки закрепил их за господами"2.
"... схватили злодеев и казнили: князю Щепину и Байковым отсекли головы на лобном месте; иных повесили или на всю жизнь заключили. Сия казнь произвела сильное впечатление в московском народе, уже отвыкшем от зрелищ кровопролития; гнушаясь адским умыслом, он живо чувствовал спасительный ужас законов для обуздания преступников.
Ревностная, благотворная деятельность верховной власти..."3
"... оказывались неповиновение и беспорядок: в Смоленске, Пскове и иных городах воеводы и не слушались ни друг друга, ни предписаний думы... носились слухи о впадении хана крымского в пределы России..."4
"Когда предали тело земле... отворили темницы, освободили всех узников..." 5
1 Н. М. Карамзин. История Государства Российского. Т. 10, СПб, 1889,с. 4-5.
2 Там же, с. 169.
3 Там же, 1889, с. 172.
4 Там же, с. 184.
5 Там же, с. 179.
Пушкин читал Карамзина с волнением, с каким в тревожные дни читают газеты. Он хорошо знал, что великая история не только сообщает факты. Он знал, что великий историк раскрывает закономерности. Следом за Карамзиным Пушкин раскрыл одну из закономерностей истории. Он писал:
"Ц а р ь.
...Я ныне должен был
Восстановить опалы, казни - можешь
Их отменить; тебя благословят,
Как твоего благословили дядю,
Когда престол он Грозного приял.
Со временем и понемногу снова
Затягивай державные бразды.
Теперь ослабь, из рук не выпуская..."1
1 А. С. Пушкин. Поли. собр. соч. Т. 7, М., 1937, с. 90.
Преуспевавшие в предшествующее царствование и поэтому презрительно и опасливо посмат-ривающие на новое, еще не разогнавшееся и не разогревшееся до нужного зверства, скривив губу и нажимая на шипящие, простуженными голосами напоминают о замечательных успехах предше-ствующего царствования. Они решительно осуждают попытки выпячивать пролитую кровь, затоптанную свободу, заплеванное человеческое достоинство. Они решительно подчеркивают великие успехи.
Великие успехи предшествующих царствований, кроме того, что они обходятся много дороже, чем стоят, оказываются однодневными и призрачными.
Все великие успехи, замечательные победы, завоевания, триумфы Ивана Грозного закончи-лись смутным временем, борьбой преемников, ревизией всего сделанного, половинчатым и робким судом над умершим тираном. После Грозного царя наступает смутное время с самозванца-ми, с легкими и соблазнительными государственными переворотами. Что такое смутное время? Наследство Грозного царя, наследство великих побед, завоеваний, тирании.
В чреве системы не завязывается чужой плод.
Яйцеживородящая проехидна не может произвести даже ветвистоусого жабронога.
Яйцеживородящая проехидна может произвести только яйцеживородящую проехидну.
Деспотическая система быстро и яростно рожает деспотов.
Литература не однажды отмечала, что народ сам строит для себя тюрьмы, возводит виселицы и выкармливает околоточных надзирателей.
В романе Олеши плотники строят десять плах.
Писатель разъясняет: "Плотники делали свое дело без особой охоты".
Но они делали свое дело. Они не могли не делать этого дела, хотя знали, кто погибнет, когда они кончат свое дело.
Движение истории связано не с осуществлением справедливости и правильным решением логической задачи, а с победой силы, равнодушной к вопросам морали и права.
Поэтому так трудно бывает понять, почему люди не сделали того, что так естественно было бы сделать.
Тем более что это ведь так просто. Вот послушайте.
Источник свидетельствует:
"После битвы при Калке: татары положили на русских доски, сели на доски и - пируют. Не ясно ли, что свободным, не связанным еще, - надо (и легко) столкнуть татар с досок"1.
После битвы при Калке татар не сталкивали еще двести пятьдесят семь лет.
Революция не совершается вследствие того, что несколько высокоодаренных интеллектуалов приходят к выводу, что ей пора совершиться.
Но когда пустая и лживая условность, на которой стояли великие предреволюционные империи, стала рассеиваться, люди увидели, что такое католическая церковь, неопровержимый авторитет абсолютистского государства, классицизм, слепая вера, выборы в райсоветы, победоносные войны, богатство и нищета, несправедливость, произвол, бесправие и кажущиеся незыблемыми истины.
Тогда начинает выясняться вековое недоразумение. Тогда становится ясным, что было только насилие, был страх властителей и был страх угнетенных. Наступает время, когда становится ясным, что нет ничего обязательного, что все изменчиво и зыбко, что великие концепции иссушают друг друга и простейшие заповеди пересекаются косыми тенями убийц.
И вся жизнь людей превращена в нарушение закона и в охрану его.
И сами люди не разделены на преступивших закон и хранящих его, но каждый занят разрушением и охраной.
Совершается распад общественной нравственностн, ожесточение и непримиримость разрушают привычные связи людей.
Тогда становится ясным, что свободным, не связанным еще тупой верой и страхом надо (и легко) столкнуть врагов с досок.
Тогда сталкивают врагов с досок.
Тогда происходит революция.
Все это нужно помнить всегда. Иначе нельзя понять, во имя чего совершается революция. Революция совершается во имя свободы. Во имя свободы совести, слова, печати, собраний и митингов, уличных шествий и демонстраций2. Во имя полного выражения человеческой воли. Она совершается не для передачи власти из одних рук, которые все это отнимали, в другие руки, которые все это могут отнять. О том, для чего необходима революция, люди узнают из книг и речей тех, кто готовит революцию и призывает к ней.
1 3. Гиппиус. См.: "Русская мысль", 1922, кн. 3-4, с. 50.
2 Конституция (Основной закон) Союза Советских Социалистических Республгк.
Вождь народа, оружейник Просперо, подробно рассказывает, почему происходит революция. Он говорит:
"... крестьяне, у которых вы отнимаете хлеб, добытый тяжелым трудом, поднимаются против помещиков... Рудокопы не хотят добывать уголь для того, чтобы вы завладели им... Матросы выбрасывают ваши грузы в море. Солдаты отказываются служить вам. Ученые... актеры переходят на сторону народа. Все, кто раньше работал на вас и получал за это гроши в то время, как вы жирели, все несчастные, обездоленные, голодные, исхудалые сироты, нищие все идут войной против вас, против жирных, богатых, заменивших сердце камнем..."
Но для того чтобы совершилась революция, для того, чтобы крестьяне поднялись против помещиков, рабочие начали ломать машины, солдаты отказались служить власти, нужно длительное накапливание страданий и социального опыта.
Это продолжается десятилетия, века. Быстро совершается подавление одних людей другими и медленно происходит накапливание социального опыта. Оно замедляется тем, что у большинства людей фасеточное видение мира: люди видят лишь разрозненные, не связанные в систему события, части, частности и осколки мира, кадрированные фасетом куски эпохи.
Поэтому сначала люди видели только пьяных попов, блудливых монахов, развращенных пап. Люди говорили: действительно, есть отдельные пьяные попы, отдельные блудливые монахи и даже еще не до конца изжиты безнравственные папы. Понадобился опыт пятнадцати столетий, чтобы люди отвлеклись от отдельных попов, монахов и пап и поняли, что дело не в случайных и нехарактерных недостатках, извращениях и наслоениях, а в основе - церкви, в самой системе, порождающей пьянство, блуд и безнравственность. Один монах, один папа... Что такое один папа? Единичные в поле зрения папы?..
И действительно, сняли в Смоленске секретаря обкома тов. Постникова М.И., ну и что же? Что изменилось от этого?
Тиранические системы неисправимы, не должны быть и не могут быть исправлены. Они могут быть только уничтожены. Важно понять, что тиранические системы не бывают хуже или лучше: они бывают только омерзительными.
Нужно сознательно пренебречь едва различимым несходством цветов и запахов деспотизма, потому что если, слишком пристально вглядываясь, очень низко наклониться над итальянским фашизмом, немецким нацизмом, испанской фалангой, португальским "Национальным союзом" и другими видами тирании, то в глазах начинают кружить кровавые кольца и пролетать горящие стрелы, в связи с этим может показаться, что эта тирания очень плоха, эта не очень, а эта, если ее вызвать в партком и продраить с песочком, может дать самые положительные результаты.
Деспотизм омерзителен всякий, и его надо ненавидеть непрерывно, неутомимо, неумолимо и не отвлекаясь ничем. Не исправляйте его и не старайтесь войти в положение, не пытайтесь понять, не стремитесь простить, посмотреть на него по-новому, переосмыслить и переоценить; в нем нельзя видеть нечто заслуживающее внимания, нельзя склоняться к том, что он исторически неизбежен, признать, что у него есть кое-какие заслуги, согласиться с тем, что он может одерживать внушительные победы; его нельзя взваливать на историю, на особенности развития и тяжелые обстоятельства; нужно понять, что когда одни фашисты развязывают войну против других фашистов, то одинаково отвратительны и те и другие, и никому из них нельзя желать победы, и ненавидеть надо и тех и других непрерывно, неутомимо и не отвлекаясь ничем.
Необходимо пристально и пристрастно исследовать фашизм и его всемирные модификации, его пути и его героев, чтобы узнавать его под любым самым привлекательным именем. Но все люди, и те, которые не могут изучать историю и социологию, должны знать, что если оскорбля-ется человеческое достоинство и не ставится ни во что человеческая личность, если человек приносится в жертву так называемым высшим интересам и если человек не в состоянии распоря-жаться своей судьбой, если попирают его волю и растаптывают его честь, если нет свободы слова, а есть лицемерные фразы о свободе, если душит страх перед властью, если государство закрывает человеку небо, если царят произвол и бесправие, и несправедливость, и проливаются потоки лицемерия, если неразборчивость в средствах достижения цели становится государственной концепцией, если уверяют, что можно развязывать войны и развязывают их, если страну распирает шовинизм, если цветут фанатизм, ханжество, ненависть и самодовольство, если государство вмешивается в частную жизнь людей, если правит бесчеловечность, мстительность, сыск, кары и казни, если народу внушают надменную уверенность в превосходстве его над другими народами, то это фашизм, тирания, деспотизм, и их надо ненавидеть страстно, самоотверженно, самозабвенно и не отвлекаясь ничем.
Нужно помнить, что искусительность, соблазнительность фашизма для многих людей, которые не любят серьезно задумываться над последствиями, или для людей, которые готовы пожертвовать всем во имя придуманных ими иллюзорных последствий, в том, что он обещает единую концепцию мира. Преимущество же единой для всех народов социальной концепции заключается в том, что она исключает национальную и иную имущественную вражду. Опыт несравненно более гуманных, искренних и доброжелательных концепций показал призрачность такой надежды.
Именно гуманная, искренняя и доброжелательная концепция раннего христианства впервые предложила социальное единство мира, и очень скоро это же раннее христианство убедительнее всех других доказало несостоятельность своей программы.
Как все казалось просто людям в рубищах, верившим всем сердцем, что нужно только взять власть во имя торжества одной веры!
Ведь как рассуждали интеллигентные люди того времени, когда христианство еще не было господствующей концепцией и обязательной государственной доктриной? Они рассуждали очень разумно: отчего так отвратительно, так несправедливо языческое общество? Очень просто. Оттого, что римляне служат Юпитеру, греки - Зевсу, иудеи - Иегове, германцы Водану, галлы - Тейтату, славяне - Перуну и так далее. От этого все войны, несправедливости, национализм, шовинизм, промышленные кризисы, неспровоцированная агрессия, гонка вооружений. Ничего подобного не будет как раз с того дня, когда все люди поймут, какие они дураки, и начнут верить в одного бога. Что им тогда делать? О чем спорить? Как сможет подняться рука одного христиани-на на голову другого христианина, то есть на голову, которая устроена так же, как и твоя?
И вот все головы стали устраивать одинаково. И устроили. И когда христианство стало господствующей концепцией и обязательной государственной доктриной, тогда христианские интеллигенты и христианские императоры, исповедующие высокий и чистый закон Христа, стали проливать столько крови других людей, исповедующих высокий и чистый закон Христа, не считая крови тех, кто исповедовал, по их мнению, никуда не годные законы Иеговы и Аллаха, равно как и тех, кто не исповедовал никакого закона, сколько не пролили крови никакие язычники, верившие в самых разнообразных, а иногда даже прямо противоположных богов.
Как всегда (или более точно: как никогда), абстрактные понятия овладевают нашим сознанием через внешне очень простые и, казалось бы, незначительные, даже заурядные вещи.
Так, понятия "тирания", "диктатура", "эпоха реакции", "удушение человеческой свободы", "полицейское государство" и т.п. овладели моим сознанием через обыкновенные, даже заурядные ботинки на микропорке.
Произошло это так.
Купила мне как-то жена ботинки на микропорке. "Носи, говорит, на здоровье, а то босиком ходить по издательствам - ноги отдавят. Увы, говорит, это тебе не античные Афины до нашей эры". В глубине души я чувствовал, что она права. Без ботинок действительно как-то не очень хорошо. Особенно весной, когда уже нет на улицах мягкого снега. Кроме того, наряду с санитарным аспектом существует еще и социально-исторический, которым мы по известным причинам пока тоже пренебрегать не можем и в силу этого вынуждены в республиканских центрах обеспечивать необходимый процент населения ботинками и даже сахарным песком. Таким образом, приобретение ботинок со всеми имеющимися плюсами и минусами носило скорее прогрессивный характер. Дело в том, что в эту эпоху были ботинки только сороковой номер. А я ношу как раз сорок второй. Однако я их все-таки взял в руки, постучал, естественно, по подошве, обтер рукавом. Потом решил примерить. Но настроение уже было испорчено. Сунул я в них ноги, нажал, потом потопал по специально подложенной газетке, вроде влез. Хожу. Душа заходится. А хожу. Чувствую, что не по дням, а по часам растет у меня на среднем пальце правой ноги мозоль. Но я знаю, что такой случай уже был в истории, и хожу. Кроме того, я же понимаю, что как хочешь, хочешь босиком ходи, хочешь в ботинках номер сорок. По существующему законодатель-ству каждый человек имеет право ходить в обуви любого размера. Но так жить дальше становится невозможно.
И стал я тогда принимать пирамидон с анальгином, по 0,25, перед ботинками за двадцать минут. Ну, более или менее. Действует приблизительно до двух - двух с половиной часов.
Но разве это выход из положения? Конечно, нет. Надо менять ботинки. Самым решительным образом надо срывать такие ботинки и надевать новые, чтобы они не мучили человека.
И тогда я понял, что паллиативы и пирамидоны далеко не во всех случаях могут разрешить противоречия исторического процесса.
И тогда я понял, как возникают непримиримые противоречия между производительными и производственными отношениями.
Социологическая концепция "Трех толстяков" проста и выразительна, как плакат, и процити-рована по учебнику политграмоты начала 20-х годов. Концепция признает только классовую борьбу. Социальный разрез общества в романе таков: финансовая (франт) и торговая (продавец шаров) буржуазия, земельная аристократия (графиня с девочкой), военная каста (капитан Бонавентура) и бюрократия (канцлер, министры). Это один лагерь. Другой лагерь - народ - представлен рабочими, ремесленниками, городской беднотой.
Между двумя лагерями-антагонистами - интеллигентская прослойка, занимающая промежу-точное положение и в таком качестве являющаяся или неподкупным слугой народа, или, наоборот, продажной служанкой буржуазии. Продажная интеллигенция, являющаяся служанкой буржуазии (воспитатель с прыщом, профессор-зоолог, клоун, учитель танцев и некоторые др.) предает народ. Часть продажной интеллигенции (силач, испанец с вращающимся глазом, директор балагана) предает вождя восстания. Ряд представителей свободных профессий (ученый доктор и некоторые др.), а также известная часть художественной интеллигенции (старый клоун, владелец балаганчи-ка, девочка-танцовщица и некоторые др.) спасают вождя восстания, несмотря на временные колебания, свойственные интеллигенции вообще в силу ее промежуточного положения.
Социальные взаимоотношения в романе и мотивы поступков таковы:
"У франта умерла тетка, имевшая много денег...
Франт получил в наследство все теткины деньги. Поэтому он был, конечно, недоволен тем, что народ поднимается против богачей".
Социальная дифференциация городского населения представлена таким образом:
"В публике тоже произошел скандал. Особенно шумели те, кто был потолще..."
Дальше следует разложение армии.
Гвардейцы кричали:
"- Да здравствует оружейник Просперо! Да здравствует гимнаст Тибул! Долой Трех толстяков!"
Крепнувшее классовое самосознание народа изображено так:
"- Мы не хотим строить плахи для ремесленников и рудокопов!"
По простоте и ясности ходов, совершаемых фигурами-масками, разыгрываемое писателем представление похоже на зрелище для народа, которое устраивает всякая победившая революция. Незадолго до Олеши подобные вещи делал Маяковский в "Мистерии Буфф" и в "150000000". А задолго до Маяковского - в 1789 году - Луи Давид.
Не вызывающие сомнений социальные взаимоотношения и мотивы поступков в романе, сведенные к черно-белой графике, были результатом не наивной социологии, а свойствами жанра.
Что же касается концепции романа, то она была не наивной, а вульгарно-социологической.
Вульгарно-социологической она была потому, что в это время господствовал вульгарный социологизм. А Юрий Олеша был не таким человеком, чтобы возражать господствующей концепции.
По этой концепции (а следом за нею и по другим) все отрицательные герои должны быть непременно дураками.
Вульгарный социологизм, утешаясь, думал, что русская монархия управлялась бездарностями и ничтожествами. А Юрий Олеша, конечно, сразу написал:
Россией управляли дурни
И воры: нужно было им
Не - чтоб ученей и культурней,
А чтоб холуй и подхалим!1
Кроме "дурней", здесь, впрочем, все верно.
Вульгарный социологизм не понимал, что в разные эпохи существуют разные представления об уме: в одних случаях умом считаются политическая прозорливость, государственная мудрость, историческое предвидение, а в других случаях признаками высокого ума считают звериную силу, ложь, лицемерие, возведение острогов и всесокрушающую наглость. И каждая эпоха пользуется тем умом, который ей больше пригоден, выгоден и доступен.
Историческая концепция автора "Трех толстяков", ну, как бы это сказать? Ну, страдает некоторым дилетантизмом.
О прошлом России автор "Трех толстяков" думает очень решительно, но, может быть, несколько более интегрально, чем следует. Это прошлое ему представляется так:
Жизнь легкая!
Воздушные мечты!
Сияющий салон императрицы:
министры, обезьяны и шуты.
...Меж франтов, дураков и палачей...
Не героинь
Видали мы на троне
И не богов
Меж тканей золотых
Убийц, распутниц, дураков в короне,
Чудовищ кровожадных и тупых!2
1 Зубило. Салют. Стихи (1923-1926 г.). М., с. 57.
2 Там же. с. 51, 53.
Здесь тоже многое было бы прекрасно, если бы не "дураки". "Дураки", как легко убедиться, являются подлежащим исторической концепции Юрия Олеши.
Это очень хорошо. Но при этом остается непонятным, каким образом государство, которым правят дураки, не только не развалилось, но даже стало жандармом Европы, могучим душителем свободы и накапливало силы, чтобы раздавить уже загнанную в угол, но еще не до конца истребленную вольную человеческую мысль.
Нет, Россией управляли не дурни... Россией управляли деспоты.
Ю. К. Олеша ни в какой степени не был политическим мыслителем. Ни в какой степени. И не нужно спрашивать с него широких и прозревающих грядущее концепций. Ю. К. Олеша хорошо знал и любил цирк1.
Поэтому он не следил за подлежащим своей исторической системы.
И он не понимал, что в истории не бывает ничего бессмысленного (дурацкого). Он не понимал, что иллюзия бессмысленности возникает в связи с тем, что люди одних представлений об уме сталкиваются с другими представлениями, держась которых многие исторические деятели видят смысл своей жизни в убийствах, обмане, удовлетворении своего тщеславия, подавлении других людей, в попрании чужих прав, в унижении человеческого достоинства, в уничтожении людей, думающих иначе, чем они, и прочих бессмысленных (дурацких) вещах.
Эстеты и снобы этого не могут стерпеть. Они возмущенно восклицают, делая при этом разнообразные жесты:
- Ах, какие они дураки! Ах, какие ничтожества! Ах, какие у них хари! Мы этого не можем вынести.
Тут все неверно, кроме блестящего по точности наблюдения над красотой харь.
Обладатели упомянутых харь не дураки и не ничтожества. Они лучшие представители своего общества, общества толстяков. Ничтожно их общество, а они часто хорошие, иногда даже замечательные исполнители гнусного дела своего ничтожного общества. И ума им довольно. И хари у них замечательные. У них именно такой ум и ровно такие хари, какие нужны их времени и их системе2.
1 Юрий Олеша. Ни дня без строчки. Из записных книжек. М., 1965, с. 108.
2 Особенно выдающиеся хари. См. "Литературная газета", 1967, 1 марта.
Люди, страдающие болезненной интеллигентностью, совершают обычную неквалифицирован-ную подмену: гнусное дело они путают с хорошим исполнением его.
Для того чтобы стать историческим романистом, недостаточно придумать большое количество поражающих воображение метафор. Нужно быть политическим мыслителем и самоотверженным человеком, готовым выстоять перед искушением и не соблазниться увидеть то, что так хочется увидеть и чего на самом деле нет.
Еще не прошли годы, когда Юрий Карлович Олеша верил в то, что писал. И еще не пришли годы, когда он стал писать, уже ни во что не веря. (В 20-е годы еще оставались люди, которые могли выстоять.)
Тиранические системы воспринимают катаклизмы истории как неприятности, которые, увы, приходится пережигь каждому. Нужно лишь немного потерпеть. Они надеются, что все кончится благополучно. В дни, наступившие после призрачной победы над первым восстанием, толстяки, обжоры, сановники и лавочники ели и веселились и уверяли всех, что ничего особенного не произошло. (Как это напоминает реальную историю, реальную Францию 1815 года, реальную Россию 1906-1907 годов.) Но бесследно революции, даже расстрелянные, не проходят ни для трех, ни для большего количества толстяков.
Оказывается, что некоторая часть тупиц, апологетов, сателлитов и прозелитов едва не рухнув-шего режима, прижатая к стене неопровержимой исторической истиной, вынуждена, несколько покосившись на устоях незыблемого (еще недавно!) учения, признать, что на свете не все столь благополучно, как думали раньше. Засмеиваемые не до конца растленной частью общества, в котором они живут, усомнившиеся начинают исповедовать некий социологический деизм.
Они утверждают: конечно, монархическая абсолютистская идея сама по себе прекрасна и неопровержима. Это не дискуссионно, и на этом стоим твердо. Но есть некоторые недостатки. Например, крепостное право, коррупция, падение нравственности, рост преступности, нищета. Все это, прямо сказать, еще далеко до идеала. Но идея - прекрасна. Правда, есть еще отдельные недостатки. Недостатки имеют место в связи с тем, что некоторые злонамеренные люди (Тито, Мао, Георгиу-Деж, Тольятти, Торез, Сталин, Хрущев) способны исказить любую, самую замечате-льную идею. Идея, конечно, очень страдает, но разве ее сущность от этого меняется? Конечно, нет. Дело обстоит таким образом: не великая, неопровержимая монархическая абсолютистская идея делает все эти пакости, а - злонамеренные люди. Идея пустила в ход неотвратимый исторический процесс, а все мелочи (коррупция, крепостное право, нравственное падение общества, нищета и некоторые другие недостатки) вызваны искажением идеи. В связи с отдельными перебоями и временными трудностями жизнь упомянутого мироздания не всегда протекает так, как этого бы хотелось.
Больше всего социологические деисты боятся вопроса: а есть ли вообще Бог? Услышав такое сомнение, они вместе с теми, кто вообще не желал считаться с печальным опытом и очевидными фактами, готовы палить в сомневающихся из пушек, что всегда приносит в высшей степени положительный результат.
Самый гнусный самодержавный режим никогда не бывает всегда, во всем и для всех гнусен. Поэтому его защитники получают возможность не только палить из пушек, но даже выдвигать аргументы. Социологические дилетанты разводят руками перед неразрешимым противоречием: враги самодержавного режима показывают нищих, раздавленных людей, тюрьмы и казни, безмолвствующий народ, растленную интеллигенцию, растоптанную демократию, а апологеты - поражающие воображение полеты в космос. И кажется, что правы и те и другие. Но в отдельности неправы и противники и апологеты. Правы они вместе, ибо истина заключается в том, что самодержавный режим может существовать, только если он в состоянии обеспечить не меньше, чем два раза в неделю поражающие воображение удивительные успехи, которые превращают подданных в нищих, требуют ускоренного строительства тюрем, все возрастающего количества казней, растаптывания демократии, растления интеллигенции, превращения людей в рабов.
Самый гнусный самодержавный тиранический полицейский режим, на котором, казалось, в состоянии расти лишь шипы и колючки, может заставить своих ученых создавать замечательные теории, своих техников строить удивительные машины, своих спортсменов завоевывать поразительные рекорды.
Все это не может служить мерой качества режима.
Замечательные теории, удивительные машины и поразительные рекорды это лишь сверкающие перстни на пальцах режима. Пальцы же, унизанные перстнями, могут душить так же прекрасно, как пальцы без перстней.
Мировой рекорд в беге на дистанцию в восемьсот метров среди мужчин, принадлежащий новозеландцу (1962 г.), не дает основания считать Новую Зеландию самой просвещенной страной на свете.
Точно так же нельзя быть уверенным, что человек, у которого синяя шуба, лучше человека, у которого черная шуба.
Нельзя также утверждать, что тот государственный строй лучше, который производит больше керосина на душу населения. Или быстрее других захватывает земли соседей.
Свифт подробно останавливается на том, что в Лилипутии "когда открывается вакансия на важную должность, вследствие смерти или опалы (что случается часто) какого-нибудь вельможи, пять или шесть соискателей подают прошение императору разрешить им развлечь его император-ское величество и двор танцами на канате. Тот, кто прыгнет выше всех, не сорвавшись с каната, получает вакантную должность. Даже министры нередко получают приказ от императора показать свою ловкость и тем доказать, что они не утратили своих способностей1.
1 Д. Свифт. Путешествия в некоторые отдаленные страны света Лемюэля Гулливера. М., 1955, с. 40.
Мерой качеств министра, таким образом, становится его умение удержаться на канате. В отношении министров самодержавной монархии это не лишено резона. Но в нормальном демокра-тическом обществе министр может и не удовлетворять требованиям, предъявляемым циркачу.
В мире должна быть установлена правильная мера качества.
Нельзя судить по какому-либо произвольно избранному признаку о достоинствах и недостатках социальных систек.
Цвет шубы или количество керосина, или оперативность захвата чужой территории, или форма носа не могут быть истинной мерой достоинств социальной системы.
Истинной мерой нормального существования общества и человека в этом обществе является лишь количество отпущенной человеку свободы.
В стране Трех толстяков, вся история которой - нескончаемое повествование о рабстве, войнах и удушениях, власть неминуемо превращается в тиранию. Абсолютистская власть давала возможность править неограниченно и необузданно, считаясь лишь с собственной фантазией, темпераментом, качествами пищеварения, бабьим капризом, наущением жандарма, запоем и церковно-приходским разумением. Каждая эпоха и каждая система выбирает людей, которые ей нужны, и заставляет их делать то, что в эту эпоху и для этой системы следует делать. Этот закон распространяется на абсолютное большинство людей, которые живут, как им велят, думают, как научили в гимназии и написали в газете, не особенно заботясь о том, хорошо это или плохо. Но из-под действия этого закона всегда выходит небольшое количество людей лучше тех, которые велят, учат и пишут в газете, знающих истину и с которыми те, в чьих руках власть, расправляются с такой кровожадной свирепостью, какую только может придумать не ограниченное чужой волей, необузданное самовластие, главной задачей которого всегда является уничтожение всего, что ему сопротивляется и угрожает.
Эпохи бывают лучше или хуже не под влиянием лунных затмений, а потому, что между людьми существуют или отсутствуют такие общественные взаимоотношения, когда спасительные противоречия создают устойчивое равновесие разнонаправленных намерений. В результате этого одни люди, которым хочется безраздельно господствовать, не дают совершать социально опасные поступки другим людям, которым хочется безраздельно господствовать. А одним людям всегда хочется захватить власть и обрушить ее на других людей, у которых власти еще нет, но которую, если они получат ее, то непременно обрушат на тех, у кого она была, и на тех, кто может ее захватить. Так как чаще всего люди становятся хорошими или плохими не по наследственным признакам (хотя это обстоятельство, которым так долго пренебрегали, ни в какой мере нельзя забывать), то по тому, какие в характере людей стимулируются и какие заглушаются социальные качества, можно отлично судить об эпохе.
Если эпоха развязывает под разными предлогами войны, преподнося их под разными названи-ями ("войны за жизненное пространство", "освободительные"), приучает восхищаться победами, парадами, наградами и патриотическими тирадами, втягивает людей в свои бесчинства, душит свободу по разным поводам и проповедует террор под разными именами, вытаптывает печать, уничтожает оппозицию, плюет на свои же законы, пытает в застенке всех, кто начал кое-что понимать, всех, кто ничего не понимает, и всех, кто никогда ничего не поймет, уничтожает сопер-ников, чтобы не угрожали, и преданных дураков, чтобы другие видели: уж если душат таких, то что же будет с нами, заставляет людей одинаково думать, и все люди привыкают думать одно, а говорить другое, если буйствует пьянство, в хохоте, плевках.в грязной ругани тонет нравственность, ранее окруженная всеобщим почтительным уважением и высокой чистотой человеческих отношений, если люди с неистовством предают друг друга из страха и выгоды, клевещут и лгут, уничтожают своих близких в бесстыжей борьбе за власть, славу и деньги, если цветут лицемерие, ханжество, продажность, порочность и жизнь человеческая плавает в высоких, благостных, воинственных, подлых, хвастливых, трескучих, сентиментальных и сладких словах, которым не верит никто, то не вызывает сомнения, каких людей отбирает такая эпоха, и по ее поступкам и представителям можно отчетливо судить о государственном, общественном и экономическом строе, который она считает идеальным. Такие качества в отобранных представителях стимулиру-ются только тоталитарным, полицейским, абсолютистским государством, где власть захвачена шайкой преступников, и эти преступники, обливаясь кровью, рвут на куски друг друга, и побеждает то одна часть шайки, то другая, но, кроме победы одной части шайки над другой частью шайки, не происходит ничего, и поэтому государственный, общественный и экономичес-кий строй, который такая эпоха считает идеальным, неизменен и недвижим.
Государство, в котором происходят события романа, всегда получает, всегда старается получить то, что ему нужно. Получигь же ему нужно как можно более преданных защитников системы. Эти защитники могут быть мерзавцами (капитан Цереп), невеждами (профессор-зоолог), убийцами (самый главный гвардеец) и дураками (канцлер). Но их качества, их ум оцениваются лишь с точки зрения того, в какой степени удачно или неудачно они защищают это государство. И если они могут его более или менее удачно защищать, то они становятся в глазах этого государст-ва, в глазах современников и потомков умными, а если не удается, то - дураками. Так, капитан дворцовой гвардии граф Бонавентура считается очень умным и очень хорошим человеком, потому что от его голоса "получалось ощущение выбитого зуба", что высоко ценится в абсолютистском государстве, а гвардеец, спасший народного вождя Тибула, считается очень плохим человеком и предателем.
Писатель строго судит людей, стоящих во главе деспотического полицейского государства. Он казнит их уродством, глупостью, бездарностью, подозрительностью, мнительностью. В конце романа (как всякий победитель) он загоняет их в клетку.
Но Юрий Олеша понимает, что в истории ничего не совершается по воле отдельных людей, а все совершается по воле спорящих общественных групп. Юрий Олеша понимает, что когда судят и осуждают эпоху, то недостаточно привлечь к ответственности за совершенные злодеяния одного главного злодея. За злодеяния самодержавной эпохи отвечают министры, жандармы, фабриканты, помещики, банкиры и интеллигенты, красиво декорировавшие самодержавие. Это обстоятельство - общую ответственность всех выкормышей режима - почему-то забыли многие историки и стали все преступления взваливать на плечи одного бедного главного злодея.
Помнивший все это в годы первого романа Юрий Олеша представил своих Трех толстяков не в скромном качестве отдельных нехороших людей, а в качестве наиболее выдающихся мерзавцев эпохи. Писатель не забывает о том, что Три толстяка отличаются от других толстяков только тем, что они толще, злее, коварнее и страшнее, что они едят больше, кричат оглушительнее и сопят громче всех. Писатель настойчиво подчеркивает, что их окружают, выдвигают и наделяют властью другие мерзавцы: "все франты... толстые лавочники, обжоры, купцы, знатные дамы, лысые генералы..." "...это все одна компания: Три толстяка, знатные старухи, франты, лавочники, гвардейцы..." "Любой лавочник был на стороне Трех толстяков, потому что сам был толст и богат".
Ничто в истории не совершается по воле отдельных людей, но бывают такие исторические эпохи, которые дают абсолютное могущество отдельным людям, и социология эпохи заключается именно в том, что один человек иногда гениальный, иногда бездарный, но всегда такой, какой в эту эпоху нужен, - решает судьбы мира. И вот тогда эти отдельные люди, получившие абсолют-ное могущество, начинают осуществлять свою безудержную, самодержавную, самовластительную волю. Именно так и произошло в Византии в эпоху Мануила I Комнина (1143-1180).
Но даже если представить себе нечто маловероятное - государственный переворот: Трех толстяков сбрасывают с раската, и на их место приходит Государственный канцлер или наследник Тутти, наконец, такой либерал, как учитель танцев Евг. Ал. Евтушенко, разве изменило бы это существо системы? Очень проблематично. Нет, это не тронуло бы именно существа, и поэтому не были бы тронуты и люди этой системы. И даже если бы капитан Бонавентура и был бы разжало-ван в лейтенанты, то все равно он и бесчисленное количество подобных ему капитанов, генералов, председателей, представителей и, конечно, интеллигентов никогда не простило бы того, что им в течение некоторого времени наступали на легко ранимые места, а в отдельных случаях пытались даже немножко прищемить. И они ждали бы своего часа и дождались бы его, и процвели бы с еще невиданной раньше силой, потому что ни Государственный канцлер, ни наследник Тутти, ни даже такой либерал, как учитель танцев Евг. Ал. Евтушенко, не посягали на систему, и посягнули только на руки, в которых эта система лежала. Они были бы лишь другими руками, держащими ту же систему. И все капитаны, разжалованные и неразжалованные, генералы, отставленные и повышенные в чине, представители и председатели и, конечно, интеллигенты, которые по причине хрупкой душевной организации вынуждены в отдельные исторические периоды доказывать, что тираны - это самые замечательные люди, все эти выскочившие в предшествующую эпоху и сохранившиеся в последующую лишь сделали бы вид, что примирились с "несчастьем"1.
1 "Ф и р с. Перед несчастьем то же было: и сова кричала, и самовар гудел бесперечь.
Г а e в. Перед каким несчастьем?
Ф и р с. Перед волей".
(А. П. Чехов. Вишневый сад)
И они смотрят на все происшедшее, как на тяжелое, но преходящее горе, они понимают, что это лишь временная неприятность, потому что очень хорошо знают, что такое царство Трех Толстяков, что не такое царство Трех Толстяков, чтобы в нем не ценили преданных мерзавцев, верных негодяев и стойких прохвостов. Надо немного подождать, потерпеть, громко осуждать (первые дни) свои ошибки, дожидаться своего часа и дождаться его.
И тогда придет свой час. И тогда все преданные мерзавцы снова будут резать и убивать, и не по службе, а по совести, потому что в такие эпохи особенное развитие своих замечательных способностей получают именно палачи, мерзавцы, негодяи и стойкие прохвосты, потому что палаческие эпохи жаждут, ждут, ищут своих мерзавцев, прохвостов и палачей.
Но пока они (некоторое время) делают опять же все, что требуется, и даже либерализм, в подходящую минуту стараясь осторожно ввернуть, что в тяжелую годину не доктор Гаспар Арнери, а они, капитаны и председатели, спасали государство Трех толстяков, и если такая година наступит снова, то не доктор Гаспар Арнери, а они, капитаны и председатели, снсва будут спасать, несмотря на то, что они всегда считали, что не следовало бы выставлять напоказ некоторые недостатки предшествующих Трех толстяков.
Пока же они делают все, что могут,для того, чтобы повернуть историю вспять.
Быстро проходят самые замечательные и самые короткие дни истории между концом господства старых Толстяков и образованием новых. После этого наступает интенсивное восста-новление уничтоженного и создаются новые ценности, которые, конечно, могут быть тоже, когда следует, отменены (и отменяются), но не бывают забыты.
Новая эпоха в первые минуты своего существования решительно требует обновления и строгого суда над эпохой-предшественницей.
Потом проходит некоторое время, новая эпоха перестает горячиться, сосредоточивается и внимательно изучает окружающую действительность.
Одной из характерных особенностей сказки Юрия Олеши было то, что в ней, казалось бы совершенно вопреки жанру, речь шла о тех же вещах, о которых люди привыкли читать в социальных романах. Этому не следует удивляться. "Три толстяка" - произведение сложное. Жанр его лирико-исторически-сказочный. В таком сложном жанре можно говорить о сложных вещах, и Юрий Олеша говорит. Он говорит о том, что происходит на границе эпох. Из сказанного в романе становится ясным, что претензии к эпохе-предшественнице карикатурно преувеличены, что легкомысленно было забыто, сколь многим новое время обязано старому, что некоторые горячие головы готовы подвергнуть скептической переоценке совершенно незыблемые понятия, что, наконец, нужно хорошенько зарубить на носу одно не подлежащее обсуждению обстоятель-ство: обе эпохи выросли из одного корня, а отдельные недостатки, имевшие место в прошлом, никто не позволит выдавать за всю эпоху. На основании изложенного становится ясным, что новая эпоха равна старой.
Но в короткий период, пока все это еще не стало окончательно ясным, в отчаянной неразбери-хе, когда не дошли руки, совершаются непоправимые промахи: кому-то удается прорваться и немножко испортить то, что создавалось годами.
Конечно, все это продолжается совсем недолго. Руки быстро доходят, промахи исправляются, прорвавшегося возмущенные до глубины души лица растаптывают на мостовой. Первый закон Французской революции об ограничении печати был издан 24 июля 1789 года, через десять дней после взятия Бастилии, павшей в значительной степени под ударами печати именно тех, кто теперь стал с нею бороться. Все входит в нормальную колею.
И в России кони цензуры не застаивались в конюшнях.
"...именным указом императора Павла I от 18 апреля 1800 года был строжайше воспрещен ввоз в империю каких бы то ни было иностранных книг, газет, журналов, нот и эстампов".
Этот указ отменен был 31 марта 1801 г., т.е. через двадцать дней после убийства Павла I в Михайловском замке. "...прошел год и новый царь... счел необходимым разъяснить, что ликвида-ция предварительной цензуры отнюдь не освобождает издателей и книгопродавцев от ответственности... (Указ от 1 апреля 1802г.)"1.
1 Ю. Оксман. Очерк истории цензуры зарубежных изданий в России в первой трети XIX века. В кн.: Н. А. Добролюбов. Статьи и материалы. Горьковский Государственный университет им. Н. И. Лобачевского. Ученые записки, выпуск 71, 1965, с. 341.
Что может быть омерзительнее возвращения временно ущемленных, жаждущих мести, жаждущих крови? Обиженные борцы за правое дело, которое они так долго и так старательно делали, щелкают зубами и засучивают рукава.
Штормы и штили русской истории получили выраженную последовательность, которая (если не настаивать на чем-то большем, чем метафора) скорее всего приближается к синусоиде.
С Екатерины II каждое новое царствование начиналось ревизией предшествующего, отличалось от предшествующего значительно большим или значительно меньшим количеством пролитой крови к концу подготавливало царствование с большим количеством пролитой крови.
Я не говорю о чем-то ином, чем окраска эпохи, и не настаиваю на том, что синусоида в состоянии объяснить все. Но темные и более светлые полосы, штормы и штили, глобальные и локальные удушения в последовательных сменах царствований Екатерины, Павла, Александра, Николая, Александра II, Александра III выражены с несомненной определенностью.
Более светлые полосы быстро переходили в более темные не случайно. Последовательность приливов и отливов деспотизма в русской истории не выдумана. Синусоида русского исторического процесса не сочинена.
Ревизия предшествующего царствования становилась неминуемой, потому что тягчайшие преступления прошлого доводили систему и вместе с ней страну до физической гибели, до политического и нравственного распада, до разрушения ее экономики, правовых, хозяйственных, государственных институтов. Нужно было спасаться, спасать себя, а уж заодно и Россию от анархии и бунта. От самоуничтожения. После все сожравшего, все истребившего деспотизма, оставившего одни голые памятники, спастись можно было, только бросив либеральную кость.
Но либеральной кости для огромного государства оказывалось мало, и вообще она только показывала широко раскрывшему глаза обществу, что творили с ним в эпоху повального деспотизма и что же оно может сделать, когда его уничтожают с меньшей настойчивостью, и, наконец, сколько же оно в состоянии создать, если его и вовсе уничтожать перестанут (утопичес-кий роман, перевод с итальянского!..).И общества с широко раскрытыми глазами начинает осуждать эпоху беспробудного деспотизма и начинает делать то, что делает всякое общество в эпохи, когда у государства появляются другие заботы, кроме расправы с врагами и возведения монументов, - оно осуществляет свою главную социальную необходимость: с наибольшей полнотой выражает себя.
Но то, что полезно лучшей части общества и большинству населения страны, глубоко противно и вредно властвующей верхушке, которая в эпоху деспотизма и тирании не только дрожала за свою шкуру, но и принимала живое участие в наиболее выдающихся начинаниях. Поэтому, испуганно уступив, чтобы удержаться, властвующая верхушка рассчитывает при подходящих обстоятельствах вернуть потерянное и еще наверстать во всю широту незабытой тиранической доктрины. Она хорошо, очень хорошо понимает, что если временно не уступит или, упаси Бог, уступит больше, чем требуется, то от нее останется только пренебрежительно написанная страница в истории отечества, и поэтому, сочтя уже доказанным, что возврата к прошлому не будет, начинает помаленьку убеждать, что либеральные затеи зашли слишком далеко и неокрепшие умы, не имеющие жизненного опыта, желают посягнуть на все святое. И тогда ищут какого-нибудь случая, чтобы все могли убедиться, до какой смуты и оскорбления святынь (в такие волнующие минуты обычная речь прекращает свое существование и начинаются шаманские заклинания) довели пособничество либерализму и мягкость властей. И такой случай, конечно, находят и начинают изо всех сил, но не очень заметно поворачивать историю вспять. И тогда, дождавшись своего часа, приходят застоявшиеся было ущемленные мерзавцы и, перебирая ногами от нетерпения, щелкают зубами и засучивают рукава.
Теперь они покажут, что такое настоящая синусоида. И показывают. Это производит большое впечатление даже на людей, не только изучавших русскую историю, но и принимавших в ней кое-какое участие. Например, на военного министра Д. А. Милютина это производит такое впечатление:
"Многие из нас не могли скрыть нервного вздрагивания от некоторых фраз фанатика-реакционера"1.
Фанатик-реакционер К. П. Победоносцев "... осмелился назвать великие реформы императора Александра II преступной ошибкой!.. это было отрицание всего, что составляет основу европейской цивилизации"2.
(Читая дневник Милютина, всякий раз вспоминаешь поразительные по точности, но несомненно более радикальные суждения доктора Гаспара Арнери.)
После легко развеянных надежд, вызванных победой 1812 года, вероятно, самым тяжелым потрясением в истории России было крушение реформистских попыток 60-х-70-х годов и возрождение идеалов Николаевского царствования, определивших будущее страны3.
1 Дневник Д. А. Милютина. Редакция и примечания П. А. Зайончковского. Т. 4. М., 1950, с. 35.
2 Там же.
3 Полного, настоящего возрождения ждали долго, с 1855 года, двадцать шесть лет. Жизнь была в эти годы какая-то смутная, непривычная. Бог с ней. После того, как скончался настоящий российский монарх, пришел какой-то хлипкий, не такой, какой нужен России. Явился такой царь-не царь, а что-то не до конца понятное и сразу стал отменять, что накопили-нажили за двадцать девять лет при покойном его родителе, отце родном. И то стало нехорошо, и это не так, и про покойного родителя, отца родного, что-то такое... чего не следовало бы. А главное, нашлись такие, кто и обрадовался, бесстыжие их души, и стали требовать: новую жизнь, чтобы была свобода.
Я думаю, что все сделанное Александром II (как в свое время его дядюшкой Александром I, наследовавшим Павлу) было связано не столько с тем, что страна погибала от деспотизма, бессмысленного самовластия и тиранства, а больше потому, что у нового царя не было выхода. Слишком любили почившего в Бозе истинно русского монарха. Нужно было сделать что-то такое, чтобы и тебя полюбили. Сажать для этого в крепость и ссылать в Сибирь уже было мало: переплюнуть почившего российского монарха у молодого, конечно, не было сил, и отца, он понял, ему не перещеголять. Нечто подобное произошло сто лет спустя, но вскоре было осуждено как волюнтаризм. Он знал, что тюрьма да Сибирь это, конечно, лучший способ для возбуждения всеобщей любви в своем отечестве. Знал он, что очень помогает также и великое военное поражение, вроде того, какое только что пережили под Евпаторией. Еще лучше разорять страну так, чтобы над ее бескрайними просторами, городами и весями, лесами, лугами и реками выл ветер, клубился пепел и кричала птица ворон, а на своем посту чтобы стоял жандарм. Все это так полезно и хорошо, потому что, кроме того что это полезно и хорошо само по себе, дает еще дополнительную возможность похватать не до конца выловленных крикунов, прищемить недовольных (всегда такие находятся) и укрепить преданность. Но всего этого новый уже не мог... Тогда он решил изловчиться и вырваться в первые люди (он обладал природно-придворной сметкой) невиданным в России способом: сделать что-нибудь хорошее. Он отменил крепостное право, запретил телесные наказания, учредил земские учреждения, отделил судебную власть от исполнительной, административной и законодательной, установил гласный суд, ввел присяжных, освободил от предварительной цензуры столичные периодические издания, ввел всеобщую воинскую повинность с семилетним (против прежнего двадцатипятилетнего) сроком службы, основал университеты Новороссийский, Варшавский и Томский. И вся страна прокляла его, ждала случая скинуть, и, несмотря на то, что он скоро вернулся на родительский след, ничего ему не простила.
Возрождение оказалось связанным с резко повысившимся влиянием Победоносцева, влившего самую опасную струю в русскую политику идеологическую1.
Воспрянувшие деятели, возродившие идеалы, поняли, что главное это не наспех повесить несколько бомбистов, а вытоптать возникшее в современных формах демократическое общест-венное движение. И оно было вытоптано.
"Взрыв в Зимнем дворце, организованный С. Н. Халтуриным 5 февраля 1880 года, вызвал полное смятение в правительственных сферах..."
Одной из первых мер, предпринятых правительством непосредственно после взрыва, явилось стремление окончательно заглушить общественное мнение. Так, в Министерство внутренних дел на заседание "Особого совещания для изыскания мер к лучшей охране спокойствия и безопаснос-ти в империи" были приглашены редакторы и издатели петербургских газет и журналов, где им было заявлено начальником главного управления по делам печати Григорьевым о новых ограничениях прессы2.
1 Один из первых советов Победоносцева новому императору (6 марта 1881 года) был сменить либерального министра народного просвещения. См. Письма Победоносцева к Александру Ш. Т. 1, М., 1925, с. 317.
2 П. А. Зайончковский. Кризис самодержавия на рубеже 1870-1880 годов. М., 1964, с. 148-149.
Несмотря на то что ограничения прессы хотя и играли глубоко положительную роль, однако они еще не были доведены до истинно людоедского совершенства, когда на благо обществу и государству рекомендовалось во всех случаях восхищаться неизъяснимой мудростью околоточ-ного надзирателя и в строго обязательном порядке биться в истерике при упоминании особ царской фамилии. При отсутствии же таких рекомендации упомянутые ограничения пока еще не в состоянии были создать всеобщее благополучие.
Значительно ближе к идеалу было предложение К.П. Победоносцева: "Я думаю, что правительство не должно выпускать из своих рук надзора за печатью. Думаю, что правительство, которое знает, на чем оно стоит и чего оно хочет (разрядка Победоносцева. - А.Б.), не может признать печать какою-то силою, независимо от него действующею"1.
1 Письма Победоносцева к Александру III. Т. I, с. 302.
Но, к счастью, все это уже происходило в чрезвычайно просвещенный век, когда никто не запрещал писать, о чем угодно, если, конечно, не касаться власти, религии, политики, нравствен-ности, особ, облеченных доверием и снискавших всеобщее уважение, а также других предметов, входящих в высочайше утвержденный специальный список. Обо всем же остальном писать разрешалось совершенно беспрепятственно, если, конечно, предмет освещался правильно.
На двадцать первый день после заседания "Особого совещания..." государь император Александр II был убит бомбой, брошенной агентом Исполнительного комитета партии "Народной воли" Игнатием Иоахимовичем Гриневицким.
Особые совещания, изыскивающие в качестве мер к охране спокойствия и безопасности ущемления печати, получают результаты, прямо противоположные тем, на которые они рассчитывают.
Нет, конечно, русская история двигалась. И усумнившийся в этом при похожих обстоятельст-вах П.Я. Чаадаев был не вполне прав. Он был бы, конечно, ближе к пониманию одного из важнейших законов русской истории, если бы сосредоточился на том, что историческое движение в нашем отечестве совершается с примерным постоянством: вперед - назад, вперед - назад, реформа - реакция, подъем - отбой.
И действительно, чуть забежали вперед с реформами, - бац! бац! полетели бомбы, повылазили нигилисты, "Современник" такое стал вытворять, что можно было подумать, будто в России уже и самодержавия нет.
Убийство императора окончательно убедило тех, кто этого хотел, а уже эти убедили тех, кто этого не хотел, в том, что вся язва именно в либерализме.
Воспрянувшие деятели, воскресившие подлинные идеалы, начали привычный самодержавный террор. Но даже они поняли, что спорадические убийства и спонтанные вытаптывания не до конца эффективны, что не в них счастье, а в том счастье, чтобы вырубить корень.
Прищемленным было деятелям стало ясно, что ежели сей же час не спасешься, то пропадешь совсем. И один такой простерший совиные крыла над Россией, лучше других знавший, что такое отечественная синусоида, закричал голосом ужасным и радостным:
"... час страшный и дело не терпит. Или теперь спасать Россию и себя, или никогда... один только и есть верный, прямой путь - встать на ноги и начать, не засыпая ни на минуту, борьбу, самую святую, какая только бывала в России. Весь народ ждет вашего властного на это решения, и как только почует державную волю, все поднимется, все оживится и в воздухе посвежеет..."1
Что нужно сделать, чтобы в воздухе посвежело? Известно что. Завещано Иваном IV Василье-вичем, Павлом I Петровичем, Николаем I Павловичем: уничтожать внутренних врагов отечества. Как с ними управиться? Разными способами. Можно намекнуть и на измену.
"Народ одно только и видит здесь - измену, - другого слова нет. И ни за что не поймут, что можно было теперь оставить прежних людей на местах.
И нельзя их оставить, ваше величество. Простите мне мою правду. Не оставляйте графа Лорис-Меликова. Я не верю ему. Он фокусник и может еще играть в двойную игру. Если вы отдадите себя в руки ему, он приведет вас и Россию к гибели. Он умел только проводить либеральные проекты и вел игру внутренней интриги... И он - не патриот русский..."2
В воздухе начинало явно свежеть. Кажется, стало даже прохладно. Кого же взамен прежним? Того, кто "...имеет еще здоровые инстинкты и русскую душу, и имя его пользуется доброй славой у здоровой части русского населения - между простыми людьми..."
"Нужно немедля разделаться с врагами отечества, которые произносили какие-то слова о прогрессе, Европе, реформах, конституции и другие, противные слуху "здоровой части русского населения", и поэтому новую политику надобно заявить немедленно и решительно. Надобно покончить разом, именно теперь, все разговоры о свободе печати, о своеволии сходок, о представительном собрании. Все это ложь пустых и дряблых людей, и ее надобно отбросить ради правды народной и блага народного..."3
1 Письма Победоносцева к Александру III. Т. 1, с. 315.
2 Там же, с. 315-318.
3 Там же.
Вот в чем зараза! Свобода печати! своеволие сходок! представительное собрание!., нет, брат, шалишь. "Здоровые инстинкты и русская душа" этого не потерпят. Это тебе не францусы, те лягушек с голоду едят, от этого их и на свободную печать потянуло.
Дело слишком серьезно, момент решительный, упустишь - пропадешь, как заяц.
"Боже, Боже! Спаси нас!..
Судьбы России на земле - в руках вашего величества. Благослови Боже вам сказать слово правды и воли, и вокруг вас соберется полк истинно русских, здоровых людей вести борьбу на жизнь и насмерть за благо, за всю будущность России"1.
Воздух свежел; становилось холодно, очень холодно.
На морозе нужно поворачиваться, а не сидеть, пока заметет. А то, упаси Бог, что-нибудь случится, и, глядишь, не успел, замели.
И вот для того, чтобы ничего похожего не произошло и днесь, и присно, и во веки веков, что надобно делать?
"...правительство... надобно чистить сверху донизу..."2
Вот что.
Итак, были произнесены слова, которые в русской истории имеют такое же значение, как "На фонарь!" во времена якобинцев, как "газават", подымающий мусульман на священную войну с неверными.
И его величество тотчас же послушался и издал писанный Победоносцевым манифест.
Это произведение было возвышеннее и прекраснее всех других произведений российской дворцовой прозы. Это была прямо-таки оратория церковно-полицеиского самодержавия:
"...Посреди великой нашей скорби глас Божий повелевает нам стоять бодро на деле правления в уповании на Божественный промысел..."3
Но торжественный и строгий зачин виолончелей сменяется изрыгающей рокот трубой, бубном, литаврой и тулумбасом, требующих "всех верных подданных служить нам и государству верой и правдой к искоренению гнусной крамолы, позорящей землю русскую, к утверждению веры и нравственности, к доброму воспитанию детей... и водворению порядка и правды..." 4
1 Письма Победоносцева к Александру III. Т. 1, с. 315-318,
2 Там же.
3 Полное собрание законов Российской империи. Собрание 3. Т. 1, № 118.
4 Там же.
(Очевидно, дворцовая проза не поражает всякий раз идеологическим и стилистическим разнообразием. Это хорошо угадал Юрий Олеша, очень тонко почувствовавший идеологию и стилистику такой прозы, что особенно заметно в приказе "правительства Трех толстяков...", подписанном Председателем Государственного совета.)
И малодушие кончилось. И всякая смута мнений тоже кончилась. И как манну небесную "народное чувство" дождалось проекта нового министра внутренних дел Н. П. Игнатьева под названием "О главных основаниях внутренней охраны". "Основанием внутренней охраны" должна была стать "артель" из дворников и швейцаров. Кроме того, в дело должны включиться "вообще все приставленные для присмотра к частным общежитиям и казенным жилым недвижи-мым имуществам". Нанимать дворников и швейцаров теперь можно было только из членов "артели". Чтобы дворники и швейцары несли службу (государственную) исправно, за ними наблюдали "инспекторы", которые уже были на прямом государственном окладе1.
Историческое движение в нашем отечестве всегда отличалось строгим и размеренным постоянством: вперед - назад. Но чаще, конечно, назад. И это, конечно, очень хорошо. Правда, это несколько нарушает красоту синусоиды и делает в ее нижней части ("назад") фигуру, напоминающую паховую грыжу, но зато утверждает прямоту истины. История России шатнулась, замерла, выпрямилась и остановилась надолго. И тогда все негодяи предшествующей выправки и все прохвосты последующей стойки вздохнули свободно. И снова наступил час, когда "...все предпринимаемые высшей властью законодательные меры были встречаемы в населении с сочувствием, а не с ропотом и критикой"2.
1 Подробности об этом замечательном учреждении сообщены в книге П. А. Зайончковского "Кризис самодержавия на рубеже 1870-1880-х годов". И., 1964.
2 Цит. по названной книге П. А. Зайончковского. С. 363.
Тираны лили кровь, разоряли страну, с исступленном самозабвением споспешествовали славе отечества. Потом они умирали или их убивали. Наследники, которые думали только об одном: как сохранить власть, вынуждены были во имя этого решительно осуждать предшествующего тирана. Но они не теряли надежды вернуться к нему же, когда все успокоители власть будет сохранена. Кроме того, все они, вместе с умершим тираном творившие преступления, пользовались удобной возможностью свалить на него все совершенные ими самими злодейства. Усопший тиран молчал. Все злодейства ушедшей эпохи совершил он сам. Больше не виноват никто. Никакого тирана не было.
Но все это или не интересовало учителя танцев Раздватриса, или он сознательно уклонялся от мучительных и как бы неразрешимых раздумий.
Всегда в эпоху реакции (и чем эпоха реакционней, тем больше) появляются тучи защитников деспотической системы, потому что в реакционные эпохи государство превращается в шайку преступников, связанных страхом за свои преступления.
Это со всей отчетливостью проявилось в эпоху кризиса Римской республики и особенно в годы диктатуры Суллы (138-78 гг. до н.э.).
У ног этой шайки ползает бездарность различных специальностей, и она защищает шайку, хорошо понимая, что если придет другая шайка, или, что уж совсем катастрофично, у власти окажется демократическое государство, то она (эта бездарность) потеряет приобретенное убийствами, предательством, лицемерием, унижением, бесчеловечностью, угодливостью, ханжеством, ложью и другими хлопотливыми способами благополучие.
Нет, самые омерзительные мерзавцы не те, которые кричат: "Патронов не жалеть!" или "Так было, так будет".
Особенно омерзительны те мерзавцы, которые говорят только прелестные слова о добродете-лях и счастье подданных. Те, которые, пришепетывая и облизываясь, очень хвалят веру, царя и отечество, православие, самодержавие и народность.
Они особенно омерзительны, потому что если первые сомнений не вызывают и все, кто сам не такой, знают им цену, то во втором случае значительная часть общества верит лжи, а значит, не протестует против нее и, значит, ей помогает.
Что заставляет этих людей с такой яростью отстаивать свое лживое, подлое, скомпрометиро-ванное и уже для всех ясное дело? Неужели люди, обливавшие клеветой Герцена, не видят, не понимают, что прав он, а не они помещики с псарями, воинские начальники, дворянские предводители, барыньки, изнемогающие от обожания к особам царской фамилии и к камер-лакеям и особенно к романистам, печатающим в "Московском телеграфе" сочинения о том, как наши доблестные войска самоотверженно спасают местное население от врагов русского государя императора? Неужели только боязнь за власть? Или убеждения? Но что такое убеждения человека, который сто раз должен был их менять и менял, сообразуясь с тем, "куда подует самовластье"? Или тщеславное нежелание согласиться с тем, что оказалось истинным, а тебя десятилетиями заставляли проклинать, и ты проклинал, а теперь должен признать, что ошибся и жизнь прожита неправильно и напрасно? Нет, только не это. Из-за одного этого помещики со своими псарями и барыньки со своими романами готовы идти чуть ли не в комбатанты.
А тут же с преданной старательностью, но несколько испуганно и суетливо делают свое дело умные, талантливые и образованные перебежчики-интеллигенты.
Испуганно и старательно за небольшую (совсем небольшую) плату делает свое дело перебежчик-интеллигент, все предавший, все продавший, все понявший, все помнящий перебеж-чик, опасный умом, образованностью и талантом, подгоняемый страхом, что ему вспомнят, что его выгонят, и опаляемый мыслью, что его презирают, и опасный тем, что он лучше всех знает, что таится в молчании друзей его молодости (когда говорят о свободе, презирают лицемерие, ненавидят насилие и читают стихи).
Интеллигент-перебежчик обладает многими данными. Как-то: подвижное мировоззрение, устраивающее других мировоззрение, согласованное с вышестоящими инстанциями мировоззре-ние. Кроме того, имеются другие дарования. Как-то: не придавать существенного значения землетрясениям мировой истории и лгать, врать, обманывать, предавать, лицемерить, фальшивить, обставлять, обводить, проводить, втирать очки, пускать пыль в глаза, вкручивать шарики и пролезать без мыла.
Интеллигенту, даже перебежчику, претит бездарная и ничтожная власть, скрутившая его по рукам и ногам. И для того чтобы не было так стыдно подчиняться этой власти, чтобы не было так гнусно на душе от своей беспомощности, интеллигент-перебежчик, судорожно глотнув слюну и набрав воздуху, начинает, взвизгивая и брызгаясь, убеждать сначала всех, а потом и себя в том, что толстяки - это самые великие умники и власть их, то есть власть великого ума - прекрасна.
Но всегда в эпохи реакции (и чем эпоха реакционнее, тем больше) истинная беда не в шайке преступников, не в защищающих шайку бездарностях различных профессий, не в умных, талант-ливых и образованных перебежчиках-интеллигентах, а в том, что миллионы людей обречены совершать вместе с шайкой, бездарностями и перебежчиками ежедневное преступление, которое эти миллионы разных людей никогда бы не совершили, но которое они совершают, потому что, если не станут его совершать, то их назовут преступниками и уничтожат.
И за то, что происходит в стране, ответственны все граждане этой страны: одни за то, что творят преступление, другие за то, что позволяют его творить, за то, что позволили, чтобы их испугали или обманули, или соблазнили, или заставили.
Мы уверенно заявляем, что народ творит историю. При этом безоговорочно предполагается, что народ творит только лучшие страницы истории, а отдельные личности, не принадлежащие к народу, - плохие страницы. Или иначе: "Фауст" и "Медный всадник" - это создание народного гения, а роман Жип "Чего хочет женщина?" или трагедия г-на Кукольника "Рука всевышнего отечество спасла" - проявления неприятных личностей.
Это понять невозможно. Несравненно последовательнее, если, конечно, не настаивать на том, что плохие личности к народу отношения не имеют, утверждать, что народ творит не только гениальную музыку (а композиторы ее лишь аранжируют) и ведет освободительные войны, но и терпит, а то и позволяет устраивать крепостное право, эпохи палачеств, цензуру, смотрит на уничтожение своих лучших сынов, сожжение книг и много других разнообразных вещей. Может быть, не все народы одинаковы: одни позволяют палачества, цензуру и уничтожение лучших своих сынов, а другие не позволяют?
Мы твердо верим, что не изысканная элита создает науку, технику, искусство и общественные институты, а их создает народ. Поэтому мы так охотно и с такими серьезными основаниями посвящаем ему наши лучшие стихи и другие художественные произведения.
И поэтому мы говорим, что древние эллины были замечательным народом, создавшим поразительные искусство и философию.
С не менее глубоким уважением и с не менее серьезным основанием мы говорим также, что немцы создали замечательные музыку, философию и литературу и в некоторые эпохи омерзите-льные социальные институты. И подобно тому, как мы хвалим народ за его философию, музыку и литературу и посвящаем ему наши лучшие художественные произведения, мы можем хвалить или порицать его за создание хороших или плохих социальных институтов. И за эти искусство, науку и социальные институты отвечает не изысканная элита, а весь народ. И нет основания считать "Фауст" произведением народного гения, а письмо Бисмарка, вызвавшее франко-прусскую войну, письмом Бисмарка. Народный характер проявляет себя во всем, а не только в великих творениях пера и кисти. И если мы считаем, что "Фауст" является достоянием и плодом всего немецкого духа, а не выражением идей действительного статского советника Иоганна Вольфганга фон Гете и его группы, то Бисмарк был тоже хорошо подготовлен иными, чем те, которые создали Гете, обстоятельствами, но и те и другие обстоятельства были созданы одним народом.
Что характерно для некоторых кругов интеллигенции после гибели общественного движения? (Особенно очевидным стало после поражения 60-х-70-х годов в России.) Усталая жажда приспо-собиться, подчиниться, выразить совершенное согласие и восторженное обожание. Покорность и страх вызвали чувство вины и потребность в ответственности. Общество жаждало, чтобы его трясли за ворот, а не дождавшись, трясло самое себя. Это были годы забегающих вперед раская-ний, самобичеваний, предательств и неукротимого стремления вырваться на простор с лучшими чувствами. Во всей убедительной полноте эти стремления и эмоции "писал с натуры А. Сухово-Кобылин. Вот как об этом рассказывает замечательный драматург:
"В а р р а в и н (нежно). Итак, возьмите друг друга легонько за ворот.
(Чиновники берут друг друга за ворот...)
Омега (подбегая). Ваше превосходительство! Меня некому за ворот взять!
Варравин. Ну сами себя возьмите.
Омега(кланяется). Слушаю-с. (Отходит и берет себя сам за ворот)"1.
1 А. В. Сухово-Кобылин. Смерть Тарелкина. В его кн.: "Трилогия". М. -Л., 1949, с. 172.
Нельзя обижаться на гнусных реакционеров Бурачка или на Аскоченского (наших коллег), или на Желтухина за то, что они писали не так, как нам бы этого хотелось. Точно так же нельзя набрасываться на Языкова (после 1844 года - "К ненашим", "К Чаадаеву") за то, что мы не таким представляем себе выразителя заветных дум и чаяний лучших его современников. Эти писатели принадлежат к чужому кругу, к другой реальности, с которой мы не соприкасаемся. Они заведомо враждебные нам люди, вызывающие лишь презрение, острое любопытства: откуда такое приходит? Наше несогласие (по ряду принципиальных вопросов) с членом Королевского совета по государственным и военным делам доном Родриго де Сандоваль де Сильва де Мандоса и де ла Серда князем де Мелито герцогом де Пастрана де Эстреммера-и-Франквила и пр. настолько велико, что практически исключает какую бы то ни было соотнесенность с ним и его делом.
Гораздо хуже другое.
Вы понимаете, что Катков М. Н. (1818-1887) никогда моим другом не был и с Павловым Н. Ф. (1805-1864) я тоже не выпивал. Больше того: ни они у меня, ни я у них жен не сманивал. Таким образом, совершенно очевидно, что мое отношение к ним лишено всякой предвзятости. И именно поэтому я могу с абсолютной объективностью утверждать, что они особенно отвратительны, потому что в молодости были вполне приличными и даже либеральными людьми, не хуже тех, с кем мы ежедневно раскланиваемся, сидим на заседаниях ученого совета университета Св. Владимира и крестим детей, не задумываясь на тем, во что превратятся эти либеральные дяди завтра. Это ведь не волкодавоподобный и собачеобразный пензенский помещик Желтухин, издававший "Журнал землевладельцев" (1858-1860), с которым мы не обсуждаем проблемы куртуазного эпоса, суфражизма и интеллектуальной эмансипации. Этот работал на себя, на свое любимое звериное отечество, раскинувшееся на полушарии, как шкура медведя, и я отношусь к нему с обыкновенным, лишенным всякого темперамента отвращением.
Но когда писатель выражал мои идеалы и делал дело, для которого был предназначен по своей душевной организации и симпатиям, а потом изменил своему делу, стал его поносить и оплевы-вать, то такой писатель вызывает у меня презрение. Поэтому Петр Андреевич Вяземский, друг Пушкина, вольнодумец и вольтерианец, саркастический ум и тонкая душа, ставший товарищем министра просвещения, того самого просвещения, которому подчинялась цензура, сообразивший, к чему могли бы привести идеалы его юности, защищающий государство мерзавцев и тянущийся вместе с вышепоименованными представителями облобызать, мне ненавистен, я считаю его изменником, приспособленцем и перебежчиком, готовым лишь из выгоды или тщеславия и страха за имение кружить на самодержавной каланче, приставив козырьком ладонь к глазам.
Впрочем, бывают такие эпохи, когда происходит частая смена концепций, и представители новой концепции ценят как раз не тех, кто был в оппозиции к предшествующему идеалу, а тех, кто проявлял преданность. Если есть преданность, то ее всегда можно направить в нужном направле-нии. И они совершенно правы. Ибо в подданном важна преданность. А если не было преданности к предшественникам, то какая гарантия, что она появится к нам. Нет, если ты верно служил тем, кого мы сменили, значит, будешь верно служить и нам.
Вы не можете себе представить, как обо всем этом трудно, иногда просто невозможно писать. Ведь еще до сих пор находятся люди, которые, чуть скажешь Чингисхан или Победоносцев, или Соловей-Разбойник, сразу начинают обижаться, размахивать руками, кричать, запрещать и вообще Бог знает что. "Это, - говорят, - все про нас. Только называется Чингисхан". Такие случаи мы неоднократно наблюдали в последнее время в Китае. Можно понять обиду, размахивание руками, крики и вообще Бог знает что "Литературной газеты", которая с отвращением напечатала "Рассказ двух очевидцев": "культурная революция", наука, "хунвейбины"... Вот о каких возмутительных фактах рассказала нам эта замечательная газета:
"Почему же, на Ваш взгляд, в современном Китае запрещена классическая литература?
- Потому, что она содержит ряд острых, критических суждений в адрес вельмож и императо-ров. Всего один конкретный пример. В пятидесятых годах был издан сборник из 300 стихотворе-ний танских поэтов (618-907 гг. н.э.). В стихах говорилось о бедственном положении народа, о его страданиях. Этот сборник объявлен черным и вредным, так как критику в адрес древних феодаль-ных правителей китайское руководство приняло на собственный счет. Воистину, на воре шапка горит"1.
1 "Литературная газета", 1966, 17 февраля, № 136.
А что мы наблюдаем в театре? В театре мы наблюдаем подтекст. Они ставят пьесу, а играют подтекст. Например, "Смерть Иоанна Грозного". Вы думаете, они доброкачественно играют злодеяния эпохи феодализма? Ничего подобного. Они хотят этим сказать о якобы бедственном положении народа о его страданиях. И, конечно, им это справедливо запрещают, потому что путем ряда острых критических суждений в адрес вельмож и императоров они хотят сказать, что в современном Китае, который добился замечательных успехов на всех фронтах науки, культуры и сельского хозяйства, то же самое.
Подлежащее фразы, которую произносит время в царстве Трех Толстяков страх. Ужас охватывает людей при звуке шагов карающей власти. Трепет овладевает людьми при виде устрашающей силы. "В зал вошли Три толстяка... Все бросились к выходам... Через минуту в зале не было лишних. Остались только ответственные лица".
Воистину:
Беда стране, где раб и льстец
Одни приближены к престолу...
В разных позах (но преимущественно согнутые), с различными жестами (но чаще с просительно протянутой рукой), с разнообразной мимикой (но с преобладанием заискивающей улыбки) проходят по страницам романа ученые и артисты, поэты и воспитатели, философы... философов в романе нет.
Несмотря на то, что в романе чрезвычайно ответственное место отведено интеллигенции, всем своим существом связанной с народом (доктор Гаспар, старый клоун), а также мечущейся, колеблющейся, трепещущей, оторванной от народа интеллигенции (испанец с вращающимся глазом, смотритель зверинца без штанов, преподаватель с прыщом) при относительно объективном освещении ее подлинной роли, философов в романе нет.
И это совершенно естественно, потому что "философия невозможна там, где страх перед последствиями мысли сильнее любви к истине".
Приложение этого наблюдения Джона Стюарта Милля к ничтожным, лживым и шумным эпохам дает чрезвычайно ценные результаты.
В царстве Трех толстяков Юрий Олеша обнаружил, что взаимоотношения интеллигенции и деспотического государства складываются так: интеллигенция разлагается, продается, покупается и становится бесплодной, или деспотическое государство свергается, и еще не растленная до конца интеллигенция начинает с ужасом, стыдом и надеждой вспоминать азы простейших заповедей чести, достоинства и свободы.
С отвращением пишет Юрий Олеша об интеллигентах, преданных власти Толстяков.
Интеллигенты эти выглядят так:
Один "прибежал... с большим блестящим клопом на носу".
Другие "... в черных одеждах и черных париках походили на закопченные ламповые стекла".
В деспотическом, полицейском, автократическом, иерархическом государстве, где все разбегаются при появлении власти и остаются "только ответственные лица", где "все были обездолены... угнетены богачами и жадными обжорами", где даже попугай - предатель1, - нельзя громко говорить о власти, разумеется, осудительно. О том, как прекрасно, необыкновенно и замечательно тираническое полицейское государство, говорить можно. Об этом можно, кроме того, писать, это можно утверждать и на этом можно настаивать.
1 Кстати, о попугае, а также о проблемах, которые играют важнейшую роль в судьбах людей, живущих в полицейском государстве. Что сделал попугай? Ничего особенно выдающегося для нравов, господствующих в тираническом государстве Трех толстяков. Попугай выполнил свой долг: он донес на Суок, на героическую девочку, которая спасла народного вождя. Он это сделал просто, без каких-либо душевных треволнений, обычно переживаемых интеллигентами опреде-ленного сорта. Он не терзался сомнениями. Его не мучил душевный разлад. Он не страдал от раздвоенности, которая пожирала душу Достоевского. Нет, он услышал один антиправительствен-ный разговор и донес. А Достоевский, представив себе аналогичную ситуацию, мучился и терзался. Вот что по этому поводу записывает в дневнике А. С. Суворин:
"В день покушения Млодецкого на Лорис-Меликова я сидел у Ф. М. Достоевского...
- Представьте себе, - говорил он, - что мы с вами стоим у окон магазина Дациаро и смотрим картины. Около нас стоит человек, который притворяется, что смотрит. Он чего-то ждет и все оглядывается. Вдруг подходит к нему другой человек и говорит: "Сейчас Зимний дворец будет взорван. Я завел машину". Мы это слышим. Представьте себе, что мы это слышим, что люди эти так возбуждены, что не соразмеряют обстоятельств и своего голоса. Как бы мы с вами поступили? Пошли ль бы мы в Зимний дворец предупредить о взрыве или обратились ли к полиции, к городовому, чтобы он арестовал этих людей? Вы пошли бы?
- Нет, не пошел бы...
- И я бы не пошел. Почему? Ведь это ужас. Это - преступление. Мы, может быть, могли бы предупредить... Я перебрал все причины, которые заставляли бы меня это сделать. Причины основательные, солидные и затем обдумал причины, которые мне не позволяли бы это сделать. Эти причины прямо ничтожные. Просто - боязнь прослыть доносчиком... Напечатают: Достоевский указал на преступников... Мне бы либералы не простили. Они измучили бы меня, довели бы до отчаяния. Разве это нормально? У нас все ненормально, оттого все это происходит, и никто не знает, как ему поступить не только в самых трудных обстоятельствах, но и в самых простых. Я бы написал об этом. Я бы мог сказать много хорошего и скверного и для общества и для правительства, а этого нельзя. У вас о самом важном нельзя говорить". (А. С. Суворин. Дневник. М.-Пгр., 1923, с. 15-16).
Достоевский понял самое главное: в тираническом полицейском государстве "о самом важном нельзя говорить". И поэтому даже человек, который с отвращением писал о врагах этого государства, терзался сомнениями, а попугай, который лишь преданно служил, никакими сомнениями не терзался. Я настойчиво подчеркиваю, что все время говорю об интеллигентах-перебежчиках. Я с глубоким неуважением отношусь к людям с реакционными убеждениями и не прощаю их и не считаю искупительным их талант. Но с омерзением я говорю о перебежчиках.
И поэтому в деспотическом полицейском государстве Трех толстяков общественного мнения нет, всеобщее непонимание, всеобщее понимание, всеобщее безверие захватило все поколения, всех мыслящих и недумающих, всех испуганных, раздавленных, святых, жаждущих, отчаявшихся, страдающих людей, где царственно раскинулось лицемерие и энтузиазм, где люди не разговарива-ют, а подмигивают друг другу, и если еще верят Трем толстякам, то лишь из боязни всмотреться и вслушаться в то, что происходит в мире, по глупости и безразличию, страшась потерять деньги и власть, и, конечно, все говорят и думают только о том, как прекрасны гуманизм, человечность, честность и братство людей, незапятнанная нравственность, торжество передовой науки, высокие идеи, светлые идеалы и устойчивые урожаи.
От страха, усталости и безразличия, от того, что ни на минуту не смолкает государственный барабан, с помощью которого внушают подданным, как прекрасна власть Толстяков и как следует ее обожать, оглушенные люди теряют представление о солидарности, о верности. "Ты сын молотобойца. Твой отец до сих пор работает на заводе. Твою сестру зовут Эли. Она прачка. Она стирает белье богачей. Быть может, ее вчера застрелили гвардейцы", - говорит революционер перебежчику. Ничего не помогает. Перебежчик с восхищением прославляет "наших милых розовых Трех толстяков".
Преступление деспотических режимов заключается не только в том, что они отнимают у людей свободу, самоуважение и независимость, но еще и в том, что они отнимают представление о достойном человека существовании.
Ограбленные Толстяками люди не знают, что есть иное представление о свободе, достоинстве и человеческих взаимоотношениях, чем то, которое им внушили государственные гвардейцы. Полинезиец думает, что он живет хорошо, если у него есть горсть ячменя, кувшин воды и тростниковая крыша над головой. Он не имеет представления о том, что человеку этого недостаточно, не должно быть достаточно и что есть люди, которые не довольствуются этим. Ограбленные Толстяками тоже не знают, что этого недостаточно и что есть люди, которые не довольствуются этим. Поэтому они не верят и негодуют, когда те, кто знает, что такое истинная свобода, подлинное достоинство и нормальные общественные взаимоотношения, говорят им, что они унижены, обездолены и порабощены. Это негодование обожают идеологические толстяки и все время ссылаются только на него. - Пожалуйста, - говорят они, послушайте, что говорит народ. Пожалуйста. Общественное мнение. Общественное мнение утверждает, что власть Трех толстяков прекрасна.
На какое общественное мнение ссылаются, к какому общественному мнению, воздев руки, апеллируют режимы-душители? На свое собственное. На то, которое они всеми способами - дезинформацией, демагогией, трудолюбивым повторением одного и того же, ложью, клеветой, пропагандой, рекламой, заискиванием, заигрыванием, запугиванием - внушили своим подданным, а потом уже в качестве их собственного мнения получили назад.
Внушив (разными способами: дезинформацией, демагогией, ложью, клеветой, пропагандой) любовь к себе, они спрашивают своих подданных: Одобряете наше замечательное государство? - Одобряем! - хором ответствуют подданные. - Еще как! (Некоторые нервно оглядываются по сторонам.)
И в значительной степени это одобрение искренне, потому что любой дезинформированный, запуганный, плавающий во лжи, ничего не знающий человек, видящий только то, что ему показывают, и кричащий то, что его заставляют кричать, лишенный возможности сравнивать, ничего не знает, кроме того, что ему говорят.
Когда людей заставляют на выборах в верховную власть выбирать, а выбирать нечего, то люди опускают бюллетень с той фамилией, которая на нем написана. - Одобряете нашу демократию? - спрашивают их. - Одобряем! - хором ответствуют избиратели. - Другой не знаем. - И еще добавляют: - И знать не хотим. - Они говорят это потому, что, ограбленные Тремя толстяками, не имеют представления о том, что есть другая свобода и другие взаимоотношения людей, нежели те, о которых им сказали, к которым их приучили. Идеологические колонизаторы больше всего боятся, что их полинезийцы узнают, что где-то есть свобода, демократия, уважение личности, право на собственное мнение и нет пожирающего страха. Преступления деспотических режимов состоят еще и в том, что эти режимы не дают возможности узнать, как живут другие люди и как могли бы жить те, у которых отнято все.
Но самое подлое это не то, что людей преследуют, лишают общественных прав, попирают их достоинство. Это омерзительно, гнусно. Но это не худшее, что придумали одни люди для других, что могут одни люди делать с другими. Люди, обладающие властью, сумели заставить преследуе-мых, лишенных прав, поруганных и порабощенных благодарить своих поработителей, оскверните-лей, воспевать их, служить им с восторженным выражением лица, принудили их делать вид, что ничего не происходит, и притащили их строить, восхищаться, созидать и рукоплескать. Такого замечательного успеха может добиться только мощное, бесстыжее, беспощадное тоталитарное государство, обладающее совершенными способами сыска и преследования. Конечно, никакие средневековые и восточные деспотии с их мизерными бюджетами, слабо развитой техникой и нелепыми предрассудками, когда хотя бы человеческая душа оставалась свободной от внедрения в нее печати, радио, кино, телевидения, церкви, рекламы, не в состоянии были добиться полной гармонии между властью и подданным. И если человек мог быть сожжен за слово, то мысль его, не тронутая современными способами идеологического разрушения, еще могла оставаться свободной. Он мог лукавить перед патером, но у него хватало сил устоять перед самим собой. Только современное государство, обладающее высоким энергетическим потенциалом, в состоянии уничтожить все.
Народы, защищающие своих Толстяков, выигрывающие для них войны и создающие им замечательные успехи, могут иной раз шепотом ругнуть своих Толстяков, тайком презирать их, потихоньку смеяться над ними, в некоторых случаях даже рассказывать анекдоты, но защищать своих Толстяков будут, выигрывать для них войны будут и создавать замечательные успехи тоже будут. Это происходит потому, что Толстяка, больше всего на свете боящиеся потерять власть, изо всех сил и всеми способами прививают своим народам шовинизм (это называется "любовь к родине") и уверенность в том, что свои Толстяки все-таки свои родные Толстяки, а вот придут чужие и начнут попирать национальное достоинство. И это неотразимо действует на людей, собственное достоинство которых заплевывается и затаптывается каждый день, отцы, деды и прадеды которых были заплеванными и затоптанными рабами и дети, внуки и правнуки которых тоже будут заплеванными и затоптанными рабами.
Но всегда, даже в самые жестокие эпохи произвола, насилия и лицемерия кто-нибудь сдавленным голосом произносит несколько фраз, в которых все узнают обрывки своих шепотов, свои пугливые мысли, свои дрожащие от страха догадки. Тогда выясняется, что все общество знает, как обманывают его и как оно обманывает себя. Но одни молчат из трусости, а другие из боязни саморазоблачения. Сдавленным голосом в эпоху произвола, насилия и лицемерия кто-нибудь произносит несколько фраз.
В романе-сказке "Три толстяка" доктор Гаспар Арнери внимательно следит за тем, что происходит в мире. "Среди ста наук, которые он изучал, была история. У доктора была большая книга в кожаном переплете. В этой книге он записывал свои рассуждения о важных событиях".
Все, что казалось до восстания твердым, построенным на века, полном силы, сверкания и блеска, оказалось пеплом, миражем, "елочной мишурой".
А вот, что думает о чем-то очень похожем реальный исторический деятель:
"Отличительные черты его (государственного управления. - А. В.) заключаются в повсемест-ном недостатке истины, в недоверии правительства к своим собственным орудиям и пренебреже-нии ко всему другому. Многочисленность форм составляет у нас сущность административной деятельности и обеспечивает всеобщую официальную ложь. Взгляните на годовые отчеты: везде сделано все возможное, везде приобретены успехи, везде водворяется если не вдруг, то по крайней мере постепенно, должный порядок... Сверху - блеск, а внизу - гниль... везде пренебрежение и нелюбовь к мысли, движущейся без особого на то приказания. Везде опека над малолетними... домашний арест на свыше 60 миллионов верноподданных..."1 (из-зa ограничительной системы выдачи заграничных паспортов. - А. Б.).
1 Думы русского во второй половине 1855 г. В кн.: Дневник П. А. Валуева, министра внутренних дел. В 2-х томах. Редакция, введение, биографический очерк и комментарии проф. П. А. Зайончковского. Т. 1, М., 1961, с. 19-20.
Это слова не оружейника Просперо и не гимнаста Тибула, а действительного статского советника, курляндского гражданского губернатора П. А. Валуева, будущего министра внутренних дел. Но замене источника не нужно придавать особенного значения, потому что в обоих случаях речь идет о деспотических полицейских режимах, а все деспотические полицейские режимы одинаковы, и поэтому не следует делать различия между режимами Рамзеса II, особенно ненавидимого мной, и Алариха, Филиппа II и Генриха VIII, Ивана IV и Анны Иоанновны, Николая I и Мендереса.
Полицейское царство Трех толстяков защищают не только обжоры, жуиры, лавочники, гвардейцы и "министры в разноцветных расшитых мундирах, точно обезьяны, переодетые петухами", что не вызывает удивления, ибо они защищают свои богатства и свою власть. И совершенно противоестественно то, что такое государство защищает развращенная, купленная за "десять золотых монет" и затравленная, запуганная, сломленная интеллигенция. И поэтому свое "я очень рад" в "Трех толстяках" произносит не "усердный льстец", вельможа, наместник края или известный профессор-пушкинист (интеллигент-перебежчик), обвешанный замирающими от восхищения студентами, обладатель безупречной репутации, авторитетный исследователь творчества великого национального поэта, воспользовавшийся случаем и вместе с жандармами засадивший в тюрьму своего ученика, а нищий, запуганный, раздавленный артист (интеллигент-перебежчик). Интеллигент-перебежчик говорит: "... позвольте поздравить вас со следующим радостным событием: сегодня палачи наших милых розовых Трех толстяков отрубят головы подлым мятежникам..." Или: "Нет нравственного оправдания" тем, кто "осмелился осуждать наше общество... нашу мораль с позиций лицемерия и низости".
Интеллигент-перебежчик никогда не выдаст, никогда не донесет с позиций лицемерия и низости. Он все это сделает совсем с других позиций. Интеллигент-перебежчик думает не о том, чтобы что-нибудь там цапнуть с позиции эгоизма. Напротив, он думает только о самых высоких идеалах, для осуществления которых необходимо сохранить себя.
"- Граждане! - в ужасе кричит интеллигент-перебежчик. - Нужно выдать Тибула гвардейцам, иначе нам будет плохо, нельзя ссориться с Тремя толстяками!
К нему присоединился директор балагана..."
Из всего этого становится совершенно ясным, что главная особенность интеллигента-перебежчика в отдельные периоды его развития заключается в том, чтобы бороться, не щадя себя, за социальную справедливость, высокие нравственные качества и бессмертные идеалы.
Можно ли строго судить бедного, жалкого перебежчика, артиста, которого в любую минуту "кожаные и железные люди" готовы схватить, задушить, раздавить? Да, конечно. Но что такое дилетантское лицемерие интеллигента в сравнении с водопадами, каскадами, лавинами, обвалами, стихиями и вихрями лицемерия и ханжества всего общества в полицейском царстве?! Что такое сопротивление человеческого материала господствующим требованиям, потребностям, сыску, страху, зависти, соблазнам, опасностям? Что может противопоставить художник разрушающему его и боящемуся его времени? Лишь волю и самоотверженность.
Но во все времена и даже эпохи растления и террора находятся люди, а среди них даже ученые и художники, которых не удается купить или развратить, или испугать. Таких людей остается только уничтожать. И их уничтожают. Так были арестованы актеры, отказавшиеся "восхвалять Трех толстяков". Так был схвачен и "...просидел среди зверей восемь лет..." великий ученый, которому приказали: "Вынь сердце мальчика и сделай для него железное сердце" и который "сказал, что нельзя лишать человека его человеческого сердца. Что никакое сердце - ни железное, ни ледяное, ни золотое - не может быть дано человеку вместо простого, настоящего человеческого сердца". Доктору Гаспару Арнери "в случае невыполнения... (приказа. - А. Б.) грозит строгая кара". Но судьба доктора трагична по особой причине1.
1 Эта причина заключается в том, что доктор Гаспар Арнери, судя по многим бесспорным признакам, еврей. (Фамилия Арнери происходит от др. евр. Наr - гора, neir - свеча, лампада, светильник.) О его происхождении говорят также некоторые портретные черты. Но главное - это отношение к нему ("специалисту") во дворце: он нужен, без него обойтись нельзя, но он вызывает насмешки и презрение, и тотчас же, как только он заканчивает научно-исследовательскую работу, которую, кроме него, никто выполнить не может, его немедленно и оскорбительно выставляют. Это обычное явление в тоталитарном, полицейском государстве. Один из первых и капитальных признаков такого государства - антисемитизм. Но антисемитизм приходит, когда такое государство находится на вершине деспотизма и беспомощности, когда оно уже больше ничего сделать не может, когда все другие способы подавления исчерпаны и остается лишь хорошо зарекомендовавшая себя возможность перекрыть русло, по которому текут угрожающие власти ненависть и отчаяние обывателей и духовная неудовлетворенность мерзавцев, и спустить их в антиеврейский канал.
Однако не все интеллигенты ощущают разрушительное давление власти. Некоторым оно доставляет прямо-таки истинное наслаждение. Эти люди, как глубоководные рыбы, могут жить лишь под большим давлением. Они гибнут, вытащенные на свободу: их разрывает надутый пузырь рыбьей рабьей жажды давления.
В детской сказке "Три толстяка" интеллигенту-перебежчику учителю танцев Раздватрису не поручается создавать социологические концепции. Ему поручается рассуждать в манере, выдающей его с головой и тут же компрометирующей. Поэтому "Раздватрис был доволен, что его вызвали во дворец: он любил Трех толстяков... Чем был богаче богач, тем больше он нравился Раздватрису. "В самом деле, - рассуждал он, - какая мне польза от бедняков?" Но ведь это только фразеология сказки, а социология - жизни. Социология Раздватриса свойственна интеллигенту, пританцовывающему господствующей концепции.
Но бывают минуты, когда даже интеллигент, которого вызывают во Дворец, задумывается не только о чести, которой его удостоили по заслугам.
Учитель танцев Раздватрис очень обрадовался приглашению. Было удивительное, необыкно-венное и поразительное утро, и социальное самочувствие учителя танцев было прекрасным. Он шел по дороге, обсаженной каштанами и дубами, размышляя о том, как изумительна эстетика господствующего класса. Потом солнце стало припекать, пролетевшая птичка неделикатно оставила похожий на гусеницу след, пришедшийся как раз по середине его шляпы, и постепенно, несмотря на прекрасное социальное самочувствие, его индивидуальное настроение стало заметно портиться.
Нет, он знал, что это не солнце ожгло его щеки, и знал он, что это не птичка, так удачно попавшая в цель, вызвала душевную боль. Он знал, что это краска стыда, что это громовые раскаты раскаяния. Учитель танцев Раздватрис принадлежал к кругу интеллигенции, мировоззре-ние которой носило следы выраженного либерализма. В кругу с выраженным либерализмом любят вспоминать свою чистую молодость. Учитель танцев вспомнил свою молодость. Он вспомнил годы, когда верил в свободу и человеческое достоинство, и как искусство его, скромно-го, но честного художника, было исполнено достоинства и свободы. Это было его молодостью и молодостью века. Все ждали социального обновления, и оно пришло. Но очень скоро что-то случилось, и люди, которых никак нельзя было заподозрить в том, что они станут Толстяками, начали уничтожать все, что мешало их власти, и в первую очередь расправились со своими недавними соратниками, которые были не лучше их самих, но обладали силой оппозиции, способной сдерживать разнузданное властолюбие. И вот тогда люди, еще недавно обещавшие свободу, равенство и братство, начали с каждым часом толстеть, превратились в Трех толстяков и стали душить все, что осталось от тощей свободы, и задушили. И все видели это, и он видел вместе с другими, как эту свободу душат и как вместо нее предлагают ежедневные победы, успехи, завоевания и триумфы. Он помнил, как сначала это не пугало его и тот круг либеральной интеллигенции, к которому он принадлежал, он не верил в это, не мог поверить. Но вскоре он увидел, что зло серьезней, чем казалось ему, и он возмущался этим бешеным натиском власти и лжи, а потом с ужасом понял, что его или перевоспитают, или просто выбросят на свалку истории (в лучшем случае), и, пометавшись в разные стороны, а также под влиянием жены стал проявлять признаки жизни и энтузиазма. И тогда он увидел, что ему на это отвечают милостивой улыбкой, и он проявил энтузиазм громче, а на следующий день его тоже пригласили во дворец Трех толстя-ков, а его друга, крупного режиссера С. Рабиновича, который наотрез отказался ставить парад-балет на площади Звезды в связи с освобождением закабаленного народа-соседа (жившего в крайне удобной в стратегическом отношении стране), пригласили в тюрьму, расположенную в крайне неудобном во всех отношениях районе. И тогда, увидев такую ширину диапазона взаимо-отношений государства и общества, терзаемый страхом и жаждой успеха, он пронзительно закричал, как прекрасна власть Трех толстяков, и уже продолжал кричать, не останавливаясь ни на минуту, даже по ночам, когда разрешалось обожать Трех толстяков молча. Теперь под влиянием жены он окончательно понял, насколько он умнее своего друга С. Рабиновича, который все равно ничего не достиг, а только навлек несчастье на себя, а главное на тех, кто имел глупость общаться с ним.
Но вдруг произошло это восстание, заставившее многих интеллигентов крепко задуматься.
Конечно, учитель танцев понимал, что он, скромный художник, который только воспевал власть Трех толстяков, ни в чем не виноват, потому что если виноват он, то тогда всех надо судить. Но все-таки, несмотря на то, что он никого ни разу не убивал и даже не донес на своего друга Рабиновича С., 1828 г.р., а просто, когда вызвали и стали задавать вопросы, он чистосердеч-но рассказал о его взглядах, подчеркнув, что никогда их не разделял, на сердце у него было неспокойно. Он не заблуждался по поводу того, что может произойти. Он очень хорошо понимал, что танцы, которые он танцевал, теперь должны будут пережить решительные изменения, и уже придется танцевать прямо в противоположную сторону. Это, конечно, всегда связано с определен-ными трудностями. (Имеются в виду особенности душевной организации интеллигента. - А. В.). - Ну, хорошо, - думал он, шагая по дороге во дворец Трех толстяков. - Хорошо. Допустим, теперь победили эти. Но мы, как наиболее социально чуткие (увы, по тяжелой своей судьбе!) круги общества начинаем понимать, что в этой победе спрятаны грядущие классовые бои, исход которых предрешен. Не сегодня-завтра победят те. Допустим, я с ними соглашусь. (Раздватрис, как многие интеллигенты-либералы, вероятно, думал, что его будут спрашивать, устанавливать победителям свою власть или подождать.) Хорошо. Что же произойдет тогда? На этом кончатся все социальные противоречия? Хорошо, прибавим десяток-другой лет на ожесточенную классовую борьбу и еще столько же на борьбу с пережитками. А тогда? Кончатся все противоре-чия, раздирающие общество, борьба за власть? Не думаю, не думаю. Что-то во всем этом есть от так называемого либерального прекраснодушия, этакая идеологическая маниловщина. Ну, хорошо, будет построено общество справедливости, девизом которого будут такие слова: труд, мир, свобода, равенство, братство, счастье (учитель танцев Раздватрис мыслил только историчес-кими прецедентами и употреблял преимущественно архаическую фразеологию. Он был совершен-но оторван от жизни). Но ведь это вовсе не значит, что борьба и, в частности, политическая должна обязательно прекратиться. (Почему интеллигент-либерал со свойственной ему ограничен-ностью рассуждал столь категорически, имея весьма смутное представление о подлинных движущих силах исторического процесса, трудно понять.) Учитель танцев вздохнул и отрица-тельно покачал головой. Потом он вдруг остановился, пристально вгляделся в приближающееся облако пыли, поднятое волами, которых гнали в борозду, и тихо воскликнул: Постойте. - И остановился сам, поскольку никого, кроме волов и погонщиков, к которым вопросы социологии не имели отношения, не было. - Постойте, постойте, - повторил он и сделал носком атласной туфли изящную дугу на пыльной дороге. - Какая же социальная борьба в обществе всеобщего социального равенства? - Учитель танцев Раздватрис застыл в интеллигентской позе неустойчи-вого равновесия посреди пыльной дороги: левая его нога опиралась на носок, правая на каблук, одна рука была приподнята вверх, как будто он преподносил цветок... - Но если будет создано общество всеобщего равенства, то какая же тогда общественная борьба, поскольку таковая есть лишь внешнее проявление социальной борьбы? - Его поза решительно переменилась: правая нога оперлась на носок, левая на каблук, одна рука упала вниз, а другая поднялась вверх, и он вытер ею струящийся со лба пот. Но в силу того, что учитель танцев Раздватрис был воспитан в либерально-демократических традициях, ему стало совершенно ясно, что если вековая мечта осуществится, то политическая борьба и другие отрицательные явления, свойственные обществу, основанному на социальном неравенстве, неминуемо отпадут. Он снова двинулся в путь, но сердце его было неспокойно, потому что он еще не до конца поверил в то, что в социально упорядоченном обществе, не знающем коверкающих человеческие души денежных отношений, уже ничего не будет. - Может быть, политическая борьба, взлетающие премьеры, слетающие лидеры, стук каблуков по социальной лестнице и другие закономерности, движущие обществен-ную жизнь, объясняются какими-то иными причинами? - растерянно подумал он и, окончательно запутавшись, как всякий интеллигент, которого убедили в том, что он самостоятельно ничего делать не может, а может только переходить с одной социальной стороны на другую, решил, что обязательно задаст этот мучительный вопрос оружейнику Просперо, которому и не на такие вопросы ответить ничего не стоит.
Но все это не снимало проблемы переходного периода. Что будет с такой силой, как интелли-генция? (Раздватрис употреблял именно такое выражение: "с такой силой, как интеллигенция".) Установление новых общественных отношений всегда связано с определенными трудностями. Особенно для интеллигентного человека, который не может же, как какой-нибудь майор, просто наплевать, когда прикажут, на знамя, которому служил, и вынужден искать убедительные мотивы внутренних побуждений к решительному изменению танца. И тогда, почитав газетку, он вспомнил, что в некоторых случаях в режиме Трех толстяков действительно было что-то пренебрежительное... Эта пренебрежительность к "черни" всегда казалась ему оскорбительной. Вот, вот. Это именно и нужно. Надо запомнить: эта пренебрежительность к "черни" всегда казалась ему оскорбительной. Теперь он будет переживать так: пренебрежительность к "черни", понимаете? Эта барственность, надменность, этот снобизм. Что может быть оскорбительнее для подлинного демократа, каким он себя всегда ощущал и каким все его знали? (Это бы не забыть, самое главное как раз то, что все его таким знали.)
Он внутренне обрек Трех толстяков на гибель и вступил под своды дворца с осторожностью человека, который знает, что ждет его обитателей, и знает, что делать ему самому.
Но когда он проходил мимо шталмейстера, откинувшего в сторону свою трость, неожиданно в его мозгу (как бы в скобках, образованных извилинами) проскочила, почти не оставив следа, странная мысль: "А какие нынче будут закупочные цены на интеллигенцию?"
Принадлежность интеллигентов к господствующей концепции вызвала в русской истории длинный список парадоксальных конфликтов, в которых высеченные сами нарезали для себя лозу.
Для этого были серьезные причины, две из которых заслуживают, как мне кажется, особенно пристального внимания. Первая причина связана с тем, что в России веками насаждалось рабство, которое делало рабами и рабовладельцев и не только по чисто психологическим мотивам, но еще и потому, что создавало выраженную субординацию, которая выстраивала все общество по росту, и более высокий плевал на того, кто пониже. Вторая причина заключается в том, что писатель в русском обществе чаще всего сам был членом этого общества - избранной элиты - и потому далеко не всегда был склонен к протесту против самого себя. В связи с этим обстоятельством не следует удивляться тому, что на почтенном цензорском поприще вдохновенно творили не одни лишь чиновники, но и превосходные писатели: Ф. Глинка, С. Аксаков, Вяземский, Тютчев, Никитенко, Гончаров, Полонский, Случевский.
Вероятно, особенно выразительным и особенно парадоксальным в истории русских общественных связей были пушкинские взаимоотношения с господствующей концепцией. Не нужно напоминать, сколько претерпел поэт от цензуры, которая всегда лучше всего выражает господствующую концепцию, и, вероятно, не нужно напоминать, как бережно об этой цензуре он порой отзывался.
Раздватрис любил Трех толстяков, любил... Силач Лапитуп прославлял милых розовых Трех толстяков, прославлял...
Если бы Олеша не понимал, что такое интеллигент-перебежчик, дорвавшийся до апологетического брандспойта, не понимал...
В романе "Три толстяка" случай Раздватриса не единственный вариант взаимоотношений интеллигента и тиранического государства. Этот случай лишь развит в сюжете. Но существование такого интеллигента возможно только при наличии других вариантов, стимулирующих его высокую калорийность.
Такие интеллигенты очень хорошо себя чувствуют в окружении других интеллигентов, которые очень хорошо все (или почти все) всегда (или чаще всего) понимают и, понимая, произносят привычные гнусные фразы, как будто бы они ничего не понимают. А когда их спрашивают, зачем они произносят эти гнусные фразы, они отвечают: "Но как же тогда жить? Ведь если не закрывать глаза на некоторые неприятные вещи, то жить станет невозможно". И они живут жизнью с гнусными фразами и думают, что такая жизнь лучше, легче и безопаснее жизни без гнусных фраз. Они говорят: "Плетью обуха не перешибешь". "Выше головы не прыгнешь". "Один в поле не воин". "Против рожна не попрешь". "С богатым не судись, с сильным не борись". Или: "Но ведь нельзя же видеть в жизни одни отрицательные стороны".
Все это неправда.
Потому что единственно возможная жизнь человека, независимо от того, что его окружает, это лишь такая жизнь, когда человек, видя порочность растленного общества, лицемерия, самообман и обман преднамеренный во имя высших или низших соображений, говорит, что он все это видит и требует, чтобы люди внимательно вгляделись в то, что их окружает, поняли, как отвратительно они живут, и, если нужно, то погибает.
Нельзя требовать от всех людей, чтобы они были героями, но от всякого человека нужно требовать, чтобы он был порядочным.
Учитель танцев Раздватрис не был героем. Он не заботился о порядочности. Раздватрис не хранил гордое терпенье и не восславил свободу в свой жестокий век.
Лирико-исторический роман "Три толстяка" во многом соотнесен с реальной историей.
В реальной истории сколько угодно таких примеров.
В реальной истории монархический брандмейстер пускает вот какую струю:
"Повелитель 60-ти миллионов подданных жил, конечно, умереннее и скромнее всех, употребляя самую простую пищу, без вина, пряностей, не куря и не нюхая табаку. И однако же исполинские труды, заботы, попечения, великие думы мало-помалу истощили организм его. Пищеварительные органы его слабели от излишней умственной деятельности, и он почти ежедневно принимал английскую соль для содействия натуре"1.
1 Тридцатилетие Европы в царствование императора Николая I. Сочинение Р.Зотова. Часть вторая. СПб., 1857, с. 279-280.
Нет, что ни говорите, а все-таки горечь овладевает нами, когда открывается до сих пор неведомый мир пищеварительных органов императора Николая Павловича!..
Впрочем, "сыну последнего потомка Чингиз-хана" (как он уверял) и деятельному сотруднику булгаринской "Северной пчелы" Рафаилу Михайловичу Зотову было что защищать.
Артисту, выступающему на подмостках ярмарочного балагана, сыну молотобойца и брату прачки защищать нечего. Ему остается лишь защищаться. Но интеллигент-перебежчик не защищается, а продается.
Однако очень скоро становится ясным, что и это не так просто в полицейском государстве. Поиск выгоды подразумевает хоть какую-нибудь свободу выбора. В полицейском государстве выбора нет. Кроме того, там не любят бросать деньги на ветер. В полицейском государстве подкупу, несомненно, отводится известная роль, но предпочитаются кары.
У интеллигенции в самодержавном государстве, в сущности, никогда ничего не было, чем бы она могла пожертвовать. Ей нечего было уступать. Она обладала всегда строгим минимумом возможностей и ничем не могла поступиться, чтобы маневрировать в пределах, допустимых даже самой снисходительной и подвижной нравственной нормой. Однако даже у интеллигенции в полицейском государстве всегда остается не очень большая, но существенная возможность, которой она так часто и так постыдно пренебрегает: не делать с восхищением и энтузиазмом, захлебываясь от счастья и перебегая дорогу коллеге, верноподданническую подлость, которую так нетерпеливо ждет и без которой не может жить полицейское государство. Хуже всего в деятельно-сти такого интеллигента это стремление сделать свою подлость лучше, полезнее, стать первым учеником. Жить трудно, очень трудно. И потому что велик соблазн, и потому что самодержавие не довольствуется лояльностью поэта, оно отвергает его охранную грамоту, оно считает, что человек, который не поет самодержавие, - против самодержавия. Самодержавие не довольствуется единовластием, оно требует единомыслия.
С подробностями, которые могут показаться неожиданными или даже неуместными в романе-сказке, Юрий Олеша серьезно и обстоятельно говорит о вопросах, вероятно, достаточно специа-льных: о том, как полицейское государство душит свободу.
Три толстяка велят привести во дворец томящегося в клетке вождя народного восстания оружейника Просперо. Они хотят поглумиться над человеком, которому собираются отрубить голову. Но человек, у которого еще есть голова на плечах, говорит им:
"...все идут войной против вас, против жирных, богатых, заменивших сердце камнем...
- Мне кажется, что он говорит лишнее, - вмешался Государственный канцлер...
- Довольно! - пискнул Третий Толстяк.
- Нужно его посадить обратно в клетку, - предложил Второй.
А Первый сказал:
- ...Народ увидит ваши трупы. У него надолго пропадет охота воевать с нами...
Тут обжоры пришли в неистовство. Слова Толстяка придали им храбрость.
- В клетку его! В клетку! - начали они кричать...
Просперо увели".
Ну, конечно. В полицейском государстве не разрешается вступать в полемику с жирными, богатыми, заменившими сердце камнем. То есть, конечно, все разрешается говорить и писать, но как? Всем известно, что в государстве Трех толстяков никому не запрещено писать о чем угодно, но весь вопрос в том, как писать. Главное - писать честно, честно глядеть в глаза своей власти.
Что это значит? Это значит, что нужно видеть не мелочные недостатки, не случайные ошибки или упущения, а сущность явлений. Нужно суметь правильно сбалансировать минутный сбой и поступь века.
Вот в чем дело. Понимаете? Вот чему учат обывателей самые проницательные умы эпохи, те самые умы, которые или вместе с Толстяками убивали своих собратьев, или писали романы, драмы, поэмы (иногда даже отвергая классические размеры), в которых убеждали, что убивать совершенно необходимо.
Выяснилось, что истина заключается в том, что нужно всеми силами бороться с пошляками, подчас выглядящими такими обаятельными и корректными, и петь в новых стихах и старых драматических трилогиях полицейских властителей или их жандармских преемников, или их городовых предшественников, при этом сегодня воспевая одни добродетели, завтра другие, а потом наоборот: воспевая охаянное, охаивая воспетое.
Какое это имеет значение? Главное состоит в том, чтобы воспеть вовремя.
Что же касается некоторых деликатных вопросов, то если уж о них кто-нибудь не хочет говорить только одни приятные слова, то, в крайнем случае, эти вопросы лучше просто обойти молчанием. До тех пор, конечно, пока не свистнут осветить эти вопросы в научном понимании.
Нет предела возмущению ошибавшихся: ведь они все делали искренне, и с самыми лучшими намерениями, или неискренне, но с самыми лучшими намерениями, или потому что было бы исторически неправильным опровергать то, что было исторически правильным.
Схватка оружейника Просперо с обществом замечательна тем, что в ней уловлены некоторые моменты, которые можно назвать непреходящими во взаимоотношениях человека и государства.
За сто сорок пять лет до "Трех толстяков" было написано и, пролежав всего пять лет, поставлено другое произведение. Это произведение написал Пьер Огюстен Карон Бомарше и называлось оно "Безумный день, или Женитьба Фигаро". В этом произведении рассказывается, что делает распираемое своим величием и успехами полицейское государство и с какой трогатель-ной заботой оно оберегает честь и достоинство своих подданных.
Я приведу (с большими сокращениями) печальный рассказ главного действующего лица, которого считали покусившимся на окруженных заботой, как тюремной стеной, подданных самого свободного в ту эпоху полицейского государства. (В комедии оно называется Испанией. Мы тоже будем иметь в виду именно это государство или государство Трех толстяков.)
Вот извлечения из этого рассказа:
Фигаро. ...украденный разбойниками, воспитанный в их понятиях, я вдруг... решил идти честным путем, и всюду меня оттесняли!.. Очертя голову устремился к театру... Я полагал, что, будучи драматургом испанским, я без зазрения совести могу нападать на Магомета. В ту же секунду некий посланник... приносит жалобу, что я в своих стихах оскорбляю Блистательную Порту, Персию, часть Индии, весь Египет, а также королевства: Барку, Триполи, Тунис, Алжир и Марокко. Ум невозможно унизить, так ему отомщают тем, что гонят его... Вскоре после этого, сидя в повозке, я увидел, как за мной опустился подъемный мост тюремного замка... Как бы мне хотелось, чтобы когда-нибудь в моих руках очутился один из этих временщиков, которые так легко подписывают самые беспощадные приговоры... Я бы ему сказал... что глупости, проникаю-щие в печать, приобретают силу лишь там, где их распространение затруднено, что где нет свободы критики, там никакая похвала не может быть приятна и что только мелкие людишки боятся мелких статеек. Когда им надоело кормить неизвестного нахлебника, меня отпустили на все четыре стороны, а так как есть хочется не только в тюрьме, но и на воле, я опять заострил перо и давай расспрашивать всех и каждого, что в настоящую минуту волнует умы. Мне ответили, что, пока я пребывал на казенных хлебах, в Мадриде была введена свободная продажа любых изделий, вплоть до изделий печатных, и что я только не имею права касаться в моих статьях власти, религии, политики, нравственности, должностных лиц, благонадежных корпораций, оперного театра, равно как и других театров, а также всех лиц, имеющих к чему-либо отношение, - обо всем же остальном я могу писать совершенно свободно под надзором двух-трех цензоров"1.
В самом передовом полицейском государстве того времени (всего за десять лет до того, как оно развалилось) все это вызвало страшное негодование.
Именно из-за этого монолога, который вселяет надежды в сердца людей уже почти двести лет, король Людовик XVI не разрешил показать комедию на сцене. Через пять лет комедия была показана на сцене. Еще через пять лет пала Бастилия. А еще через три с половиной года Людовик XVI был казнен.
В Предисловии к своей комедии, вызывавшей приступы безостановочного бешенства, поэт, который говорит правду и которому поэтому не дают говорить, спорит с малодушной, коварной, бесстыдной, злой, неблагодарной толпой.
Толпа: "Но в Безумном дне вы, вместо того чтобы бить по злоупотреблениям, позволяете себе вольности, совершенно недопустимые на сцене... тут уж вы временами переходите всякие границы".
Поэт: "Да позвольте, господа... Что вкладываю я в уста Фигаро?.. Что "глупости, проникающие в печать, приобретают силу лишь там, где их распространение затруднено". Неужели подобного рода истина может иметь опасные последствия?.."2
1 Бомарше. Безумный день, или Женитьба Фигаро. В кн.: Бомарше. Избранные произведения. М., 1954, с. 454-455.
2 Там же, с. 454-457, 362.
В мире, который окружает человека в тираническом государстве, происходит безостановочное разрушение вещей. Различна степень выносливости их, и потому одни вещи разрушаются раньше, другие - позже.
Когда разрывается снаряд, то прежде всего гаснет свет и звенит разбитое стекло. Диван или комод обычно спокойнее переносят потрясение.
В мире, который нас окружает, от взрывов деспотизма, невежества, грубой силы, бессмыслен-ной тупости и осмысленного страха за власть раньше всего и легче всего разрушается искусство.
Оно разрушается раньше всего другого потому, что общество требует, чтобы искусство изображало его не таким, какое оно на самом деле, а таким, каким это общество хочет себя видеть и каким оно себе нравится. При этом общество, конечно, решительно против украшательства и требует только одного: чтобы его изображали таким, какое оно есть. Ни лучше, ни хуже.
Поэтому общество так заботится о здоровом жизнерадостном искусстве, чуждом неверия, наплевизма, аполитизма и размагниченности .
Известный специалист в области такого жизнеутверждающего искусства доктор Геббельс в 1923 году писал по этому поводу:
"Немецкое искусство ближайших десятилетий будет героическим, будет стальным, романти-ческим, будет несентиментально объективным, будет национальным, наполненным великим пафосом, оно будет общим, обязующим и связующим или оно не будет"1.
1 Цит. по статье Ф. Шиллера "Современное литературоведение фашизма". "Литературный критик", 1934, № 1, с. 35.
Силомером гнусности тиранического режима служит искусство.
По быстроте обращения его в прах можно судить о степени гнусности этого режима.
Искусство в лирико-историческом романе Юрия Олеши воплощено в образе красивой розовой девочки, искренней, доброй, любящей, отзывчивой, реалистической, открыто тенденциозной, отвергающей абстрактный гуманизм, отражающей самые прогрессивные идеи и подающей руку помощи слаборазвитым странам.
Вот какое стихотворение о взаимоотношениях искусства и общества предлагает нашему вниманию Юрий Олеша:
"Сверкали паркеты. Она отражалась в них розовым облаком. Она была очень маленькая среди высоких залов, которые увеличивались от блеска паркетов в глубину, а в ширину - от зеркал.
Можно было подумать, что это маленькая цветочная корзинка плывет по огромной тихой воде.
Она шла веселая и улыбающаяся мимо стражи, мимо кожаных и железных людей, которые смотрели как зачарованные, мимо чиновников, которые улыбались впервые в жизни".
Маленькая цветочная корзинка плывет по огромной тихой воде...
И никто не топит ее...
Создается впечатление, что искусство - это не Орфей в аду, заставивший (на минуту) окровавленных хищников и коварных гадов оставить свои жертвы (и которого все равно растерзала толпа), а добрый Дед Мороз, принесший нам на елку интересные и полезные произведения социалистического реализма в области литературы, архитектуры и макулатуры.
Вместо грозного грома боев, вместо предрешенного суда, вместо пыток и казней, убийств из-за угла, костров и забрызганного кровью железа, вместо всего того, что бывает в жизни при соприкосновении искусства с деспотической властью, Юрий Олеша предлагает почтенной публике посмотреть пастораль "Взаимная и трогательная любовь искусства и общества".
Юрий Олеша хочет показать, что искусство даже в деспотическом государстве Трех толстяков облагораживает людей и делает их хорошими.
Он ошибается: на кожаных и железных людей искусство не производит никакого впечатления.
Искусство производит впечатление на людей, которые никогда не будут кожаными и железными.
К счастью, роман "Три толстяка" полон противоречий, и поэтому вышецитированная картинка опровергается на каждом шагу другими картинками.
Исторические обстоятельства эпохи складывались так, что приходилось отвечать на ответственные вопросы.
Позиция Юрия Олеши в эти годы уже была ложной, но не была лживой. На вопрос "С кем вы, мастера культуры?" из всего написанного им в эпоху "Трех толстяков" и "Зависти" явствует, что он ответить не мог. И он никогда не мог правильно ответить на этот вопрос, потому что этот вопрос подразумевает, что не мастера культуры решают важные вопросы жизни, а люди, далекие от культуры. Нужно отвечать на другой вопрос: "Кто с нами, мастера культуры? Ибо это мы знаем, где истина, а не вы. Поэтому вы и должны выбирать, с кем вам идти: с людьми, защищаю-щими свободу, или с карателями, попирающими ее".
Какова же судьба искусства в романе, действие которого происходит в деспотическом государстве?
В деспотическом государстве искусство изгоняется из столицы (балаганчик дядюшки Бризака).
Его пытаются расстрелять (гимнаст Тибул).
Его заставляют увеселять высшее общество (Суок).
Его используют для обмана народа (празднества на Четырнадцатом рынке).
Но когда свергается деспотическая власть и на ее место приходит другая, за несколько дней еще не успевшая стать деспотической, то совершается возрождение искусства.
Возрождению посвящена короткая сцена, обрывающаяся неожиданно и тревожно скрежетом ключа, снова запирающим тюрьму.
Его (искусство) "передавали из рук в руки... целовали, тискали на своей груди. Там под грубыми рваными куртками, покрытыми сажей и дегтем, бились исстрадавшиеся, большие, полные нежности сердца.
Она (искусство. - А. Б.) смеялась, трепала их спутанные волосы, вытирала маленькими руками свежую кровь с их лиц, тормошила детей и строила им рожи, плакала и лепетала что-то неразборчивое".
Об этом сказано коротко, на последней странице и несколько неопределенно, как будто автор еще сам не знает, что из этого выйдет.
Через двадцать два года некоторые неясности были успешно разрешены.
Разрешил их известный специалист в области жизнеутверждающего искусства А. А. Жданов после того, как был написан роман Юрия Олеши и через 13 лет после того, как была написана статья доктора Геббельса. В 1946 году он писал по этому поводу:
"Империалисты, их идейные прислужники, их литераторы и журналисты, их политики и дипломаты всячески стараются оклеветать нашу страну, представить ее в неправильном свете, оклеветать социализм. В этих условиях задача советской литературы заключается не только в том, чтобы отвечать ударом на удар против этой гнусной клеветы и нападок на нашу советскую культуру, на социализм, но и смело бичевать и нападать на буржуазную культуру, находящуюся в состоянии маразма и растления... все равно им не спасти и не поднять своей буржуазной культуры, ибо моральная основа у нее гнилая и претворная..."1.
1 А. Жданов. Доклад о журналах "Звезда" и "Ленинград". М., 1952, с. 27.
Но в деспотическом полицейском государстве Олеша изображает не только отступающих перед искусством кожаных и железных людей.
Олеша изображает кожаных и железных людей, победоносно наступающих на искусство.
Кожаным и железным людям наплевать на искусство. Литературное дело имеет для них цену лишь тогда, когда становится частью общегосударственного дела. Если же не становится, то они начинают топать ногами и кричать: "Долой литераторов беспартийных! Долой литераторов..." и всяких других. Общегосударственное же дело заключается в том, чтобы уничтожить всех, кто думает сам, а не по их распоряжениям, утвердить свою безудержную, неограниченную ничем власть над восторженно копытотопающими скотами.
Каждая эпоха ждет, жаждет, ищет своих героев, своих поэтов и палачей.
Эпоха императора Николая Павловича, расстрелявшего декабристское восстание, требовала, чтобы литература строго выполняла возложенные на нее обязанности: исправляла сердца собратьев.
Николай Павлович писал: "...я дочитал до конца Героя (речь идет о "Герое нашего времени". - А. Б.) и нахожу вторую часть отвратительной, вполне достойной быть в моде. Это то же самое изображение презренных и невероятных характеров, которые встречаются в нынешних иностран-ных романах. Такими романами портят нравы и ожесточают характер... Какой это может дать результат? Презрение или ненависть к человечеству! Но это ли цель нашего существования на земле?"1
Известному специалисту в области жизнеутверждающего искусства Николаю Павловичу не нужны были презренные и невероятные характеры, которые "...лучше бы сделали, если бы так и остались в неизвестности - чтобы не вызывать отвращения"2.
Николай Павлович ставил г. Лермонтову в пример "характер капитана", тем более что "...кавказский корпус насчитывает их немало, но редко кто умеет их разглядеть"3.
Николаю Павловичу нужен был "благородный и такой простой характер", нужен был положительный герой. И этот простой характер нужен был не столько для того, чтобы на нем воспитывать, сколько для того, чтобы показать, как прекрасна система, воспитавшая такие характеры.
Несмотря на то что Юрий Олеша возлагает преувеличенные надежды на облагораживающее воздействие искусства, иногда он все-таки показывает, что такое реальное существование искусства в деспотическом государстве.
В сказочной проекции человеческой истории, которая представлена в "Трех толстяках", есть все, в том числе и высокопоставленный болван, авторитетно судящий об искусстве. После того, как "раздались в тишине слова дирижера": "Она поет, как ангел", авторитетно высказывается высокопоставленный болван: "Только песенка ее немного странная".
Полицейское государство всегда неодобрительно относится ко всему "странному" (новому) в искусстве. Николай II тайком признавался своим близким, что его оставляет совершенно равнодушным современная живопись и литература4.
1 Цит. по кн.: Эмма Герштейн. Судьба Лермонтова. М., 1964, стр. 101.
2 Там же.
3 Там же.
4 См.: "Вестник литературы", 1921, № 10 (34).
Это сказано об одной из самых замечательных эпох русского искусства. Правда, тайком и только своим близким.
Государство Толстяков, тупых и самонадеянных невежд, лицемеров и предателей заставляет своих художников отвлекать народ от мыслей о его бедственном положении.
"Граждане! Граждане! Граждане! - было написано на афише. - Спешите на Четырнадцатый рынок! Спешите! Там будут зрелища, развлечения, спектакли! Спешите!"
" - Вот,- сказал доктор Гаспар,- все ясно. Сегодня на площади Суда предстоит казнь мятежников... Три толстяка... боятся, чтобы народ, собравшись на площади Суда, не сломал плахи, не убил палачей и не освободил своих братьев, осужденных на смерть... Они хотят отвлечь внимание от сегодняшней казни".
Искусство, которым "хотят обмануть народ", в романе аттестуется так: "...балаган называется "Троянский конь".
В государстве, которым правит толстая, сытая, самодовольная бездарность, человеческая деятельность ценится лишь с точки зрения пользы, приносимой этому государству. При этом, конечно, произносятся фразы не о пользе, которую жаждет толстая, сытая, тупая и самодовольная бездарность, а по меньшей мере о свободе, гуманизме и демократии на двух-трех соседних галактиках.
Поэтому годится все, что идет в общий котел. И поэтому никакого различия между полицейс-ким и художником в царстве Трех толстяков не делается, и это совершенно естественно, ибо и полицейский, и художник интересуют власть лишь с точки зрения "пользы, пользы" и исправле-ния "сердец собратьев". Одинаковая необходимость руководит властью, когда она увеличивает оклад городового и гонорар своего поэта. Победа полицейского государства над искусством завершается тем, что искусство, как поверженная страна, обкладывается тяжелым, непомерным агитационным налогом. И поэтому силачу Лапитупу разрешают выйти на подмостки и показать свое искусство только в том случае, если он произнесет несколько фраз, которые государство считает для себя чрезвычайно полезным. И интеллигент-перебежчик их произносит:
" - Вот! - сказал он. - Так Три толстяка разобьют лбы оружейнику Просперо и гимнасту Тибулу".
И только такое искусство нужно и нравится полицейскому государству, потому что полицей-скому государству вообще наплевать на всякое искусство и вообще наплевать на все, что есть на свете, и оно старается наплевать на все, до чего может доплюнуть, потому что его ничего не интересует, кроме своей власти, своего богатства и навязывания своей безудержной, непомерной, всепожирающей воли.
Каждую эпоху - государственную концепцию эпохи - удовлетворяет ее искусство. Эпоха только делает вид, будто это искусство ее до конца не удовлетворяет. Но это ведь так - здоровая самокритика. Получает же она всегда именно то, что ей нужно. Все дело в том, что ей нужно. Эпохе возрождения нужен был Микеланджело, абсолютизму нужен был Корнель, нацистской Германии оказалось довольно и Ганса-Гейнца Эверса, в книгах которого бродят вампиры и лежит жирная порнография, а у нас есть свои замечательные мастера художественного слова: Грибачев, Кочетов, Софронов, Фирсов, Ермилов, Шкловский, Катаев, Сельвинский. Каждая эпоха получает именно то, что ей нужно, что она хочет и что заслужила. И если время получает плохое искусство, то это значит, что такое искусство ему нужно и такое искусство оно хочет. Время заказывает интеллигенту изготовлять то, в чем оно нуждается, и в зависимости от того, каков заказчик, интеллигент выполняет заказ. Время может получить Моцарта, а может получить герцога Альбу, может получить Лаперуза, а может Аракчеева с Настасьей Минкиной в придачу. Но Моцарта и Лаперуза оно получает только в том случае, если ему не удается их вовремя перевоспитать, или купить, или убить. В человеческой истории бывают периоды, когда Моцарт и Лаперуз оказывают-ся крайне нежелательны, а требуется больше Альба и Аракчеев. В человеческой истории бывают периоды, когда самое нежелательное как раз высокое дарование и тогда вкладываются огромные средства и употребляются громадные усилия, чтобы дарование задушить, и чаще всего это удается.
Нужно понять, что талант это не просто и не только умение что-то хорошо сделать. Талант это умение хорошо делать то, что требует общество (которое, как известно, всегда все знает). Поэтому, если общество считает Кукольника талантливым, значит, обществу необходим такой талант. Нужно понять, что николаевскому обществу Герцен казался не только опасный, но и неталантливым. Николаевскому обществу казался талантливым Булгарин.
Но истинная победа полицейского государства над искусством достигается не тогда, когда полицейское государство что-то запрещает, что-то уничтожает. Это может убить художника, но еще не убивает искусство: в оставленные ему дни художник успевает сказать обществу хоть немного из того, что он о нем думает, успевает бросить в лицо ему свой стих, облитый горечью и злостью. Искусство погибает тогда, когда ему начинают советовать, предлагать, рекомендовать, когда от него начинают требовать, устраивают исторические встречи с работниками искусств, когда жандармы начинают сокрушаться о том, что художник, "описав темные времена быта России, не хочет говорить о ее светлом времени..."1
1 Письмо начальника штаба Отдельного корпуса жандармов Л. В. Дубельта М. М. Попову от 6 сентября 1837 года. В кн.: Мих. Лемке. Николаевские жандармы и литература 1826-1866 гг. По подлинным делам третьего отделения собст. е. и. величества канцелярии. Издание второе, С. В. Бунина, 1909, с. 124.
Все вянет, выцветает, гибнет, когда полицейское государство желает, чтобы искусство выполняло его поручения, чтобы художник служил у него на посылках. Тогда скрывается в пучину золотая рыбка искусства, и полицейское государство получает лишь полное корыто заверений в совершенном почтении.
Но художник может выстоять, должен выстоять. Сколько людей, не умеющих сопротивляться насилию и соблазну, погибли бесследно, а художник сопротивлялся и выжил.
Вот что случилось с Бенвенуто Челлини. Один раз ему скормили толченый берилл1, другой раз - сулему2, и - ничего. С бериллом ему, конечно, сильно повезло. Должны были скормить толче-ный алмаз, но алмаз стоил сто с лишним эскудо, а голубой берилл два карлино. Пожадничали, конечно, решили, сойдет и берилл за два карлино, и не сошло. Бенвенуто поплевал маленько, покричал, а потом ничего. А вот с сулемой дело было серьезное. Потому что, рассказывает он, "эта сулема до того сожгла мне седалищную кишку, что я совсем не держал кала"3.
1 Жизнь Бенвенуто, сына маэстро Джованни Челлини, флорентийца, написанная им самим во Флоренции. М.- Л., с. 398-403.
2 Там же, с. 664-667.
3 Там же. с.667.
При этом его хотели обмануть: говорили, что это не сулема, а какой-то ядовитый червяк, который он якобы сам заглотал. Но это, конечно, была неумная выдумка, чтобы замести следы и переложить с больной головы на здоровую.
Я внимательно изучил литературу вопроса и должен сказать, что оба случая являются исключительными и почти сверхъестественными. Нужно было, вне всякого сомнения, обладать невыносимым характером Бенвенуто, чтобы остаться целым при таких обстоятельствах.
Как бы вел себя в подобных условиях Юрий Олеша? На этот вопрос трудно ответить односложно. Известно, однако, что при несравненно менее критических обстоятельствах он сразу заболел, поплелся в "Националь", запил, всхлипнул и т.д.
Проглотил бы или не проглотил? Это главное, и, в конце концов, об этом и написана книга. Выстоял бы или не выстоял?
Всей этой книгой я хочу доказать, что не выстоял бы.
Не выдержал Юрий Олеша испытания сулемой. Съела ему сулема седалищную кишку. Тонка кишка была у Юрия Олеши, совсем тонка.
Все это очень сложно, очень сложно. Дело ведь не только в разрушающем усилии и прочности материала. Нужно все время помнить о числе циклов нагружения, о том, сколько раз жизнь гнула или давила, или тянула человека.
В дальнейшем я приложу еще больше усилий, чтобы мои утверждения, связанные с кишкой и другими сложными вопросами социологии, не показались голословными.
При этом нужно подчеркнуть, что от сулемы дохнут даже тираны с толстой кишкой.
А настоящий художник выжил.
Это произошло потому, что настоящий художник - это человек, у которого хватает душевных сил победить враждебную ничтожную и могущественную толпу и выразить свою волю. Большой художник не только вестник лучших идей своего века, но человек, сопротивляющийся своему веку, сумевший выстоять в борьбе с ним, навязать ему свою волю, выжить, выстоять и победить.
Бездарно официальное, признанное искусство в царстве Трех толстяков. Но свободное пространство, оставшееся после уничтожения великого искусства, должно быть заполнено. Оно заполняется тем, что считается полезным людьми, уничтожившими великое искусство. Так каждая эпоха получает то, что ей нужно. И так бездарная, то есть продажная, лицемерная, ханжеская, всех обманувшая эпоха получает бездарное, то есть продажное, лицемернее, ханжеское, почти всех обманувшее искусство.
Юрий Олеша не закончил роман.
Вместо конца он сделал эпилог. Он прикрыл отсутствующий конец эпилогом. Купол-эпилог произведения - фальшивый.
Под куполом "на площади Звезды был устроен спектакль для детей".
Наследник Трех толстяков Тутти, которому должно было остаться государство, весь хлеб, все железо и уголь, умный мальчик, думавший, что у него железное сердце, воспитанный на кровожадных книгах, на последней странице становится артистом и выступает на площади вместе с куклой Суок (положительная героиня), которая, как и полагается в романах с благополучным концом, оказывается его сестрой. Для того чтобы произошло такое превращение характера, между театральным дебютом бывшего наследника и ночью, когда, боясь, что он станет либеральным Толстяком, его хотели убить, нужно было написать еще один роман. Иначе вместо развития характера получается подмена одного человека другим. Правда, в сказке бывают подмены и превращения куда более неожиданные. Например, превращение лягушки в царевну. Но и в сказке важно, может ли этот характер претерпеть такие превращения или не может.
Добрый доктор Гаспар Арнери (положительный герой) затерялся где-то в середине книги на обратном пути домой из дворца и пробился сквозь толпу лишь в последних строчках, когда сюжет романа благополучно обошелся без него.
Доктор Гаспар смущенно улыбнулся в предпоследнем абзаце: больше ему нечего делать. Вероятно, он принадлежал к той категории интеллигентов, которые в эпохи социальных потрясений смущенно улыбаются и разводят руками.
Роман об интеллигенции и революции заканчивается просьбой о прощении за проявленное малодушие интеллигента, написанной в лучших традициях русской прозы.
На последней странице романа все герои выходят, как артисты после окончания спектакля.
Юрий Олеша не закончил роман, вероятно, потому, что не очень ясно представлял себе, что же произойдет дальше с его героями и с ним самим, и воплотятся ли надежды, которые вызвала революция.
Он написал лирико-исторический роман о том, что лишь вчера пережил сам.
А что будет потом?
А Суок?
А оружейник Просперо?
А Тутти?
А Трех толстяков убили?
А попугая тоже убили, да?
Писатель всю жизнь пишет одну толстую книгу, которая называется "Полное собрание сочинений".
В этой книге, как и во всякой, есть начало, из которого развивается все последующее: герои, конфликты, концепции, стилистика.
Иногда разные главы этой толстой книги вступают в противоречие друг с другом. Литературоведы впоследствии эти противоречия с большим успехом разрешают.
Писатель продолжает в своих новых книгах свои старые книги.
А что будет потом?
Читатель-ребенок любит задумываться над тем, что будет с героями дальше, в будущем, в новых книжках любимого писателя...
Эта прелестная маленькая Суок... Какой она станет, когда вырастет? Невозможно представить, чтобы эта очаровательная девочка превратилась в старую мерзавку, которая будет пилить и тиранить своего мужа и науськивать его, и без нее готового на все, делать гнусные вещи, писать гнусные книги, произносить подлые речи...
Что будет с наследником Тутти? Его связи с Тремя толстяками... Да будет вам... О, вы наивный человек...
Во что превратится в следующем романе оружейник Просперо?
Это один из самых важных вопросов книги, которую вы читаете.
Что делает актер, взяв в руки новую роль? Он читает первую и последнюю реплики героя.
Когда герой начинает так:
... скоро
Я полечу по улицам знакомым,
Усы плащом закрыв, а брови шляпой,
а заканчивает:
... о, тяжело
Пожатье каменной его десницы!
Оставь меня, пусти - пусти мне руку...
Я гибну - кончено...
то совершенно ясно, что нужно играть интенсивное превращение легкомысленного героя в серьезного.
В романе Юрия Олеши герой, решающий судьбу произведения, - оружейник Просперо, - начинает свою роль с презрительных и гордых слов о тиранах, которые хотят отрубить головы лучших людей, а заканчивает тем, что его волей "Трех толстяков загнали в клетку, ту самую, в которой сидел оружейник Просперо".
Совершенно ясно, что происходит интенсивное и последовательное превращение абстрактного гуманиста в человека, осознавшего реальные интересы своего класса.
Так как роман сказочный и гротесковый, то многие социальные трудности и нюансы общественных отношений в нем упрощены и поэтому для простоты в нем все люди разделены решеткой: одни находятся по одну сторону решетки, другие - по другую.
Происходят войны и революции.
Неужели мировая история занята только перемещением людей относительно решетки?
Роман заканчивается фразой о клетке, которая будет существенно развита в "Полном собрании сочинений" Юрия Oлеша.
Писатель направляется в историческую командировку своим временем, и время ждет, что командированный привезет именно то, за чем его послали. Поэтому один и тот же исторический материал у писателей разных эпох выглядит по-разному. Но, как всякий человек, да еще наделенный резко выраженными индивидуальными особенностями, писатель в материале ищет то, что интересует его.
Юрия Олешу больше всего интересует сложная, мучительная, важнейшая в русской истории тема взаимоотношений интеллигенции и революции.
Эта тема в русской истории имела особенное значение и была смягчена тяжелой наследствен-ностью. Здесь было много героизма, дискуссий по самым сложным вопросам, остроумия и предательств.
Художник обращается к истории не для того, чтобы уйти от современности, а для того, чтобы сказать то, что он думает о ней и о причинах, породивших ее. История приставлена к современнос-ти, как мальчик для битья к принцу Уэльскому: мальчик несет наказание за провинившегося принца.
ПОЭТ И ТОЛСТЯК
Из огромной дымящейся проносящейся мимо всемирной истории в книгу писателя попадают дары и удары, которых ему не удалось избежать.
Но непохожесть одного писателя на другого обнаруживается, что именно в обступившем писателя мире выбрала его художническая восприимчивость.
В книгах каждого большого художника своя война, своя революция, своя эпоха реакции, и каждая семья несчастлива по-своему.
Исследователь обязан не только констатировать это, но и обнаружить в войне, революции, эпохе реакции и каждой несчастливой семье, что именно оказало воздействие на художника, которым он занят.
Это неверно, что на художника воздействует сразу вся война и вся революция.
Проносящаяся мимо всемирная история воздействовала на Юрия Олешу драматическими перипетиями взаимоотношений интеллигенции и революции.
Эта тема в книге о послереволюционном государстве "Зависть", написанной следом за книгой о революции "Три толстяка", выразилась в конфликте между поэтом и обществом.
Классическая коллизия "художник и общество" в книге о революции разрешена, потому что в этой книге изображается естественная и неминуемая борьба общества с протестующим художником.
Во второй книге взаимоотношения художника и общества так же враждебны, как и в первой.
Действие второй книги происходит после революции, и враждебны взаимоотношения художника и послереволюционного общества.
В книге, написанной человеком, пережившим первое десятилетие нового государства, конфликт художника и общества возникает из-за того, что художник ждал от революции нечто иное, чем то, что она могла или должна была дать.
Художник ждал от революции свободы, но в том значении, которое придается этому слову в предреволюционном обществе.
Предреволюционное общество, прочитавшее очень много книжек по истории, знало, что революции, которые бывали раньше, приносили людям духовную свободу. Так как книги были серьезными и эрудиция русского интеллигентного общества была обширной, то имелось серьезное основание предполагать, что и эта революция будет не хуже других.
Начинается еще одна книга великой литературы о борьбе художника с веком.
Спор поэта и общества, а чаще поэта и толпы у Юрия Олеши возникает в "Трех толстяках", и все, что создал писатель, связано с этим спором.
Концепция "поэт и общество" Олеши не выходит за границы традиционных в русской литературе представлений и продолжает тему Пушкина-Блока. Эта важнейшая тема русского искусства излагается так: несмотря на то, что меж детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожнее поэт, его душа способна встрепенуться тотчас же, как только чуткого слуха коснется божественный глагол. Предполагается, что поэт по многим обстоятельствам может быть не чужд самых разнообразных недостатков. Больше того: меж детей ничтожных мира, вероятно, именно он ничтожнее всех других. В то же время, несмотря на все эти недостатки, поэт неминуемо обладает достоинством, делающим его безоговорочно выше общества. Неминуемое достоинство, делающее поэта безоговорочно выше толпы, заключается в том, что он к ногам кумира не клонит гордой головы, а также в том, что он - свободный человек, не боящийся обличать пороки общества.
Из-за чего возникает конфликт поэта и общества?
Из-за того, что поэт по своим физиологическим и профессиональным свойствам и обязаннос-тям наблюдает за обществом, видит, каково оно, и рассказывает о том, что видит. Общество же не хочет, чтобы рассказывали о том, как оно отвратительно.
Конфликт художника и общества трагичен, естествен и неминуем. Почти всегда он кончается гибелью художника. Но попытка этот конфликт, этот закон отменить, сделать вид, что его нет, не должно быть, кончается уже не только гибелью художника, но и гибелью искусства.
Из всех условий существования поэта единственное, которым нельзя пренебречь, это правда, которую он обязан говорить обществу. Эта правда в разные эпохи выражается неодинаково. Иногда она может выражаться так:
Эхо, бессонная нимфа, скиталась по брегу Пенея...
(Пушкин. Стихотворение "Эхо")
иногда иначе:
И если зажмут мой измученный рот,
Которым кричит стомильонный народ...
(Ахматова. Поэма "Реквием" )
Это ничего не меняет. Поэт говорит только правду. И ни пытки, ни казни, ни голод, ни страх, ни искушения, ни соблазны, ни кровь жены и детей, ни щепки, загоняемые под ногти, ни женщина, которую он любит и которая предает его, не в состоянии заставить поэта говорить неправду, льстить, лгать, клонить голову и славить тирана. Сдавшийся человек не может быть поэтом. Человек, испугавшийся сказать обществу, что он о нем думает, перестает быть поэтом и становится таким же ничтожным сыном мира, как и все другие ничтожные сыновья.
Искушения, жажда власти, забота о славе, малодушие, соблазны и страх мешают художнику осуществить свое право и назначение - говорить обществу, что он о нем думает и что заслуживает оно.
Между художником и обществом идет кровавое неумолимое, неостановимое побоище: общес-тво борется за то, чтобы художник изобразил его таким, каким оно себе нравится, а истинный художник изображает его таким, какое оно есть. В этой борьбе побеждают только великие худож-ники, знающие, что они ежеминутно могут погибнуть и гибнущие. Других общество уничтожает. Великие произведения так уникальны, потому что выстоять художнику еще труднее, чем создать их.
(Даже в наши дни, конечно, в совершенно исключительных случаях и только иногда возника-ют некоторые частные противоречия между плохим художником и прекрасным обществом. Они, конечно, сразу же прямо-таки в одну секунду, разрешаются, но не принимать их во внимание вовсе было бы еще преждевременным. Эти незначительные и, конечно, легко и мгновенно разрешимые противоречия чаще всего возникают в связи с имеющим кое-где место некоторым разладом между социалистическим реализмом и реалистическим социализмом.)
Пушкинская программа и традиционная концепция классического столетия русской литературы была продолжена Блоком в стихотворениях "Поэты", "Пушкинскому дому" и речи "О назначении поэта", и Олеша пересказал ее и блоковский вариант в своем романе.
Блок пишет о том, что хотя поэты "болтали цинично и пряно" и что они "золотом каждой прохожей косы пленялись со знанием дела", но с торжеством и гордостью он утверждает, что поэты "плакали горько над малым цветком, над маленькой тучкой жемчужной", и поэтому они выше и чище "милого читателя", который "доволен собой и женой", а также "Своей конституцией куцей" и которому "недоступно все это": то есть "И косы, и тучки, и век золотой".
Эта концепция и эти образы "читателя" и "поэта" девятнадцать лет спустя были воспроизведе-ны Юрием Oлешей в прозе с отчетливой близостью к блоковскому оригиналу.
По-видимому, эта близость литературно случайна, но несомненное сходство побудительных (нелитературных) причин делает ее серьезной.
Сходство было в оценке последовавших за вооруженным переворотом событий.
Через три года после поэмы "Двенадцать" Александр Блок написал:
Что за пламенные дали
Открывала нам река!
Но не эти дни мы звали,
А грядущие века.
Пропуская дней гнетущих
Кратковременный обман,
Прозревали дней грядущих
Сине-розовый туман.
Пушкин! Тайную свободу
Пели мы во след тебе!
Дай нам руку в непогоду,
Помоги в немой борьбе!1
1 А. Блок. Собр. соч. в 12-ти т. Т. 4, Л., 1932, с. 214
Эти стихи написаны не в январе 1918 года, когда были созданы "Двенадцать", а в феврале 1921, за шесть месяцев до того, как Блок трагически погиб. Не следует удивляться стихам 1921 года, предсмертным строкам, завещанию поэта. Александр Блок был одним из первых писателей, начавший революционную тему в русской литературе XX века. И он был одним из первых, кто сказал о беспокойстве за судьбу революции. Прошло несколько лет после его смерти, и эта тема появилась в произведениях Маяковского, А. Толстого, Эренбурга, Форш, Багрицкого, Асеева, Федина. (Это было в то время, когда даже такие, как А.Толстой, Эренбург, Федин еще в состоянии были беспокоиться о чем-либо, кроме своего брюха.) Разные решения темы привели к непохожим результатам. Блоку1 и Маяковскому это стоило жизни.
1 А. А. Блок был человеком очень здоровым и обладал большой физической силой. Он любил спорт, общеизвестно его увлечение борьбой. В 1918 году, вскоре после "Двенадцати", когда ему было лишь тридцать семь лет, он впервые почувствовал себя не вполне здоровым. В 1920 году его состояние сильно ухудшилось, а с весны 1921 года "процесс роковым образом шел к концу... Все заметнее и резче проявлялась ненормальность в сфере психики, главным образом в смысле угнетения; иногда, правда, были светлые промежутки, когда больному становилось лучше, он мог даже работать, но они длились очень короткое время (несколько дней). Все чаще овладевали больным апатия, равнодушие к окружающему. У меня (лечащего врача. - А. Б.) оставалась слабая надежда на возможность встряски нервно-психической сферы, так сказать, сдвига с "мертвой точки", на которой остановилась мыслительная деятельность больного, что могло бы произойти в случае перемещения его в совершенно новые условия существования, резко отличные от обычных. Такой встряской могла быть только заграничная поездка в санаторию... Все предпринимавшиеся меры лечебного характера не достигали цели, последнее время больной стал отказываться от приема лекарств, терял аппетит, быстро худел, заметно таял и угасал", "...доктор Пекелис... нашел у него сильнейшее нервное расстройство, которое определил как психастению... За месяц до смерти рассудок больного начал омрачаться. Это выражалось в крайней раздражи
тельности, удрученно апатичном состоянии и неполном сознании действительности. Бывали моменты просветления, после которых опять наступало прежнее... Психастения усилилась и, наконец, приняла резкие формы. Последние две недели были самые острые". (Судьба Блока. По документам, воспоминаниям, письмам, заметкам, дневникам, статьям и другим материалам. Составили О. Кемеровский и Ц. Вольпе. Л., 1930, с. 262, 265, 270).
Через три года после романа о революции Олеша задумался над вещами, которые раньше, казалось бы, трудно было вообразить. И, как некоторые другие писатели в эти годы, Олеша начал писать о своих раздумьях.
Книгой, лишенной сомнений, начинал свой литературный путь Юрий Олеша. Он начинал книгой о революции, которая должна была, по его мнению и даже по мнению истинно значитель-ных мыслителей и художников, принести людям свободу. Но близились коллективизация и индустриализация, началось подавление оппозиции, и Олеша, как многие интеллигенты конца 20-х годов, насторожился и с тревогой стал всматриваться в результаты революции.
Во все глаза смотрела литература конца 20-х годов на результаты революции.
Все это сразу не очень легко понять. Но, как всегда, нас выручает академическое и еще чаще сатирическое литературоведение. Оба указанных вида этой почтенной науки дают нам на этот счет абсолютно точные и не вступающие друг с другом в противоречие указания: все испортил нэп.
В самом деле: 1) нэп смутил, 2) нэп посеял сомнения, 3) огорчил, 4) поразил, 5) разочаровал, 6) сделал много других, крайне вредных (особенно для легко ранимых художественных душ) вещей. Это практически невозможно оспорить, а если бы кто и захотел, то сама медицинская статистика всем своим авторитетом ударила бы по рукам такого скептика и экспериментатора. И это было бы очень, очень правильно.
Однако некоторое обстоятельство вносит известную коррекцию в литературоведческое благообразие. Обстоятельство это заключается в том, что как раз в эпоху густого цветения нэпа были созданы произведения, полные каменной уверенности и лишенные сопливых сомнений - "Чапаев", "Железный поток", "Цемент", "Донские рассказы", "Любовь Яровая", - а в годы, когда нэп судорожно корчился в охватившей его окончательной и уже бесповоротной агонии, появились произведения, которые хороший редактор даже не захочет взять в рот.
Роль нэпа в истории советской литературы непомерно и небескорыстно преувеличена, и это естественно, потому что некоторые литературоведы считают, что гораздо приятнее связать с нэпом, о котором никогда ничего хорошего не говорилось, вещи, которые никогда никому удовольствия не доставляли.
Несмотря на это, "Багровый остров" Булгакова, "Голубые города" А. Толстого, "Братья" Федина, "Пушторг" Сельвинского - произведения, в которых герои стали заниматься в высшей степени опасным делом - размышлениями над результатами революции, - были написаны, когда уже всем стало ясно, что нэп заканчивает свое земное бытие. И появились эти произведения не потому, что их авторов смутил, огорчил, поразил и разочаровал нэп, а потому, что революция в конце 20-х годов перешла в новую фазу: началось решительное укрепление диктатуры, а людям, склонным к сомнениям и мыслящим в дореволюционных категориях о свободе, это казалось странным, а некоторым даже нежелательным.
Одна из важнейших тем русской общественной истории - взаимоотношения интеллигенции и революции, - начатая декабристами и Пушкиным, приобретала все большее значение, и после векового поиска и обретения опыта в библиотеках и кабинетах, университетах, журналах, газетах и на улицах под пулями и камнями получила математически точную формулу - я бы назвал ее "законом Блока" - "интеллигенция и революция".
Формула Блока распространяется на всю русскую общественную историю XIX-XX веков и на те послереволюционные годы, когда дореволюционная интеллигенция еще сравнивала свое представление о революции с революцией реальной и не знала, что эта революция принесет.
Кончилось первое послереволюционное десятилетие, и взаимоотношения интеллигенции и революции приобрели новую форму: начались выяснения взаимоотношений интеллигенции уже не с революцией, а с новым, послереволюционным государством, с государством в форме диктатуры пролетариата.
Эти выяснения прошли через всю русскую литературу второй половины послереволюционно-го десятилетия.
Государство в форме диктатуры пролетариата возникло, как известно, не в 1927-м, а в 1917-м. Но характер и интенсивность его проявления в разные времена были не одинаковыми. Совершен-но очевидно, что в эпоху нэпа диктатура пролетариата проявляла себя иначе, чем в годы военного коммунизма, в пору коллективизации, в годы ежовских палачеств, бериевского террора, сталинс-кого истребления народов, или в пору победоносной борьбы с космополитами, или в эпоху, которая научно стала называться так: "некоторые наслоения периода "культа личности", а художественно называется иначе:
Звезды смерти стояли над вами,
И безвинная корчилась Русь
Под кровавыми сапогами
И под шинами черных марусь.
Государство диктатуры пролетариата могло предложить интеллигенции свободу лишь в пределах, не мешавших ему.
Свобода, которую принесла революция, была, по-видимому, не совсем тем, что части дореволюционной интеллигенции казалось революция обещает.
Однако прошло совсем немного времени, и новые представления о свободе стали казаться гораздо лучше старых представлений.
Роман Юрия Олеши "Зависть" был написан в первое послереволюционное десятилетие, когда писатель, увы, еще не до конца понял, что новые представления о свободе еще лучше старых.
Поэт Юрия Олеши Николай Кавалеров думал, что свобода это то, за что боролись все протестанты, из-за чего совершались революции, велись освободительные войны, гремели фанфары и умирали герои.
Он думал о русской революции XX века в категориях французской революции XVIII века.
Наивный и недальновидный поэт, не слышавший, какие звуки звучат все громче, не понимал, что могут обещать люди, выбравшие себе псевдонимы, полно и точно выражающие идеал и программу сильной личности, мощной власти: Каменев, Молотов, Сталин.
Юрий Олеша, за три года до "Зависти" написавший книгу о революции любого века под непосредственным и недифференцированным впечатлением недавнего переворота, был уверен, что люди, совершающие революцию, берут тезис прямо из рук оружейника Просперо. Но потом писателю стало казаться, что что-то случилось, в связи с чем в его сознании неожиданно возникла литературоведческая дискуссия: от кого же эти люди происходят - от героя-революционера или от одного из Трех толстяков. Кроме чистой альтернативы, появляются осложненные предположе-ния: сначала от оружейника Просперо, а уже потом от одного из Трех толстяков.
По традиционным и неопровергнутым историографическим и социологическим представлени-ям такое превращение обычно называется словом, которое люди, изнасиловавшие демократию, по естественной ассоциации идей со страхом и ненавистью воспринимают, как в высшей степени нехорошую болезнь. Это слово начинается с буквы "т" и кончается буквой "р". Ммм... есть такое слово "термидор".
В романе Юрия Олеши конфликт поэта и общества начинается с того, что свое право и назначение поэт не в состоянии осуществить.
Право и назначение поэта в том, чтобы говорить обществу то, что он думает.
Вот что говорит поэт обществу:
" - Вы... труппа чудовищ... бродячая труппа уродов... Вы, сидящие справа под пальмочкой, - урод номер первый... Дальше: чудовище номер второй... Любуйтесь, граждане, труппа уродов проездом... Что случилось с миром?"
И вот чем это кончается:
"Меня выбросили.
Я лежал в беспамятстве".
Тогда поэт, которому не дают выполнить свое высокое святое назначение, оказывается вынужденным писать "репертуар для эстрадников": монологи и куплеты о фининспекторе, совбарышнях, нэпманах и алиментах.
В учрежденьи шум и тарарам,
Все давно смешалось там:
Машинистке Лизочке Каплан
Подарили барабан...
Так как герой Олеши думает в категориях ушедшей эпохи, а живет в обстоятельствах сущест-вующей, то он начинает догадываться, что наступает обычная борьба поэта и толпы. Борьба кончается привычным для нашей истории способом: гибелью поэта.
Выброшенный из своей среды художник во враждебном окружении кажется странным, непонятным, нелепым и жалким. С великолепием bel canto пропета его фраза о ветви, полной цветов и листьев. Но вот эта оторванная от ствола ветвь с размаху всаживается в другую среду, в песок, в почву, на которой она не может расти. Теперь эта осмеянная ветвь выглядит странно, непонятно, нелепо и жалко. Вот как она выглядит в изображении человека другой среды: "Он разразился хохотом. - Ветвь? какая ветвь? Полная цветов? Цветов и листьев? Что?" А вот как в том же изображении выглядит художник, создавший эту ветвь: "...наверное, какой-нибудь алкоголик..."
Поэт отчетливо сознает несходство своего мира с миром, в котором он живет, и враждебность этих непохожих миров. Мир поэта прекрасен, сложен, многообразен и поэтому верен. Чужой мир - схематичен, упрощен, беден, приспособлен для низменных целей и поэтому ложен. Для того чтобы хоть как-нибудь понять друг друга, людям, говорящим на разных языках, необходим перевод. Поэт иногда вынужден брать на себя обязанности переводчика.
Он переводит свой язык на язык общества, которое его не принимает и которое он не может принять.
"...сперва по-своему скажу вам: она была легче тени, ей могла бы позавидовать самая легкая из теней - тень падающего снега; да, сперва по-своему: не ухом она слушала меня, а виском, слегка наклонив голову; да, на орех похоже ее лицо, по цвету - от загара, и по форме - скулами, округлыми, суживающимися к подбородку. Это понятно вам? Нет? Так вот еще. От бега платье ее пришло в беспорядок, открылось, и я увидел: еще не вся она покрылась загаром, на груди у нее увидел я голубую рогатку весны..."
Следом за этим идет перевод. "А теперь по-вашему... Передо мной стояла девушка лет шестнадцати, почти девочка, широкая в плечах, сероглазая, с подстриженными и взлохмаченными волосами - очаровательный подросток, стройный, как шахматная фигурка (это уже по-моему!), невеликий ростом".
Решительно подчеркивает поэт несходство своего мира с миром, в котором ему пришлось жить. "Да, вот вы так, а я так", - с презрением заявляет он.
Снова начинается прерванный (разными способами)1 и, казалось бы, уже решенный спор о взаимоотношениях художника и общества или иначе: поэта и толпы.
1 Имеются в виду наши привычные домашние способы: аресты, расстрелы, расправы, запрещения, ссылки, насилия.
Поэт Юрия Олеши - это человек другого мира и другой судьбы.
Представьте себе человека, который в ответ на вопросы, где он работает (как живет, как себя чувствует, где купил шапку) отвечает стихами. Кавалеров отвечает стихами. Он говорит: "Вы... труппа чудовищ... бродячая труппа уродов..." Или: "...на груди у нее я увидел голубую рогатку весны..."1
1 Последнее слово в цитате: "весны" - вырвало вопль злобы, торжеств! и невежества из груди Ю. Андреева - автора статьи "Своевольные построения и научная объективность" ("Литератур-ная газета", 15 мая 1969, № 20, обвинившего меня в том, что я строю гнусную концепцию на омерзительных опечатках. Но авторитетному суждению Ю. Андреева следовало цитировать не "весны-, а "вены". С беднягой произошел чрезвычайно неприятный случай: он сличил цитату с текстом двух последних изданий однотомника Ю. Олеши (I960 и 1965 годы), и перед ним, человеком, вооруженным самым передовым мировоззрением, разверзлась пропасть: упомянутая пропасть разверзлась в связи с тем, что я злонамеренно и вызывающе исказил писателя: вместо "вены" со злобным шипением написал "весны".
Ю. Андреев "Зависть" (1927 год) мог и не читать. Я прекрасно понимаю, что советский критик очень занят и ему некогда читать книги, о которых он пишет. Так, например, он пишет о моей книге, которую тоже не читал, правда, не только из-за страшной занятости, но еще и потому, что в Советском Союзе она не была издана. Все это, конечно, можно понять, но ведь он мог попросить своего секретаря или тещу, или соседку заглянуть в первое издание Ю.Олеши. В черном издании однотомника (1927 год) строка в романе "Зависть" напечатан" так, как написал Олеша и процитировал я: "...голубую рогатку весны..." (Юрий Олеша. Избранное. М., 1936, с. 52).
Я цитирую именно по этому изданию, потому что считал его с рукописью Ю. К. Олеши. В рукописи написано: "весны".
Юрий Карлович, узнав, что я проделал эту работу (бесплатно), поглядел на меня, как в глубоком психологическом романе: во взгляде его скрестились тысячи кричаще противоречивых переживаний, из которых одержали победу два удивление и гадливость. После взгляда писатель-мыслитель (он вспомнил известную скульптуру Родена) долго - как в психологическом романе - сидел, опустив тяжелую, красивую, львиную и психологическую голову, шевелил губами и загибал пальцы. По прошествии определенного времени, тщательно взвешивая и металлически чеканя слова, он произнес: - На двадцать литров (водки. - А. Б.) работы. Минимум. Потом он взял мой экземпляр "Зависти" и написал (не для меня, для истории мировой литературной мысли): "С подлинным верно". Я цитирую: "... голубую рогатку весны..." С подлинным верно.
В эти же времена был написан другой роман, в котором другой интеллигент говорил тоном, заставляющим насторожиться.
Он говорил подозрительным по ямбу тоном.
"Волчица ты... тебя я презираю. К любовнику уходишь от меня. К Птибурдукову от меня уходишь. К ничтожному Птибурдукову нынче ты, мерзкая, уходишь от меня. Так вот к кому ты от меня уходишь! Ты похоти предаться хочешь с ним. Волчица старая и мерзкая притом!" "Это глупо... Это бунт индивидуальности" - кричат интеллигенту. "И этим я горжусь, - ответил Лоханкин подозрительным по ямбу тоном. - Ты недооцениваешь значения индивидуальности и вообще интеллигенции". "...Негодяй! - отвечают ему. И добавляют: - Интеллигент!"
Васисуалий Лоханкин был опровержением Кавалерова. Ильф и Петров спорили с Юрием Oлешей. Они осмеяли: "Васисуалия Лоханкина и его значение", "Лоханкина и трагедию русского либерализма", "Лоханкина и его роль в русской революции". Вместе со значением, трагедией и ролью осмеян лоханский ямб. Авторы осуждали Лоханкина со всей решительностью эпохи, в которую создавались их книги.
И они безусловно были правы. Такого интеллигента и такое значение его, несомненно, следовало осмеять. Писатели видели вокруг себя (сначала в Одессе, потом в редакции "Гудка", где они написали свой первый роман), большое количество прототипов. А что не увидели, восполнили самоанализом.
Отношение Олеши к своему герою более гуманно, осторожно, сбивчиво и противоречиво, чем отношение Ильфа и Петрова к своему. И хотя он тоже осмеивает Кавалерова за тон, подозритель-ный по ямбу, но делает это не так охотно и радостно, как его уже кое-что смекнувшие коллеги. Олеша даже не всегда осмеивает Кавалерова сам. Он поручает это неблагодарное дело другим персонажам романа, а другие персонажи - враги поэта.
Васисуалий Лоханкин и Николай Кавалеров лишь разное мнение о взаимоотношениях интеллигенции и послереволюционного государства. Но время в "Зависти" и "Золотом теленке" говорит одинаково. В "Зависти" оно говорит так: "...собираемая при убое кровь может быть перерабатываема в пищу... для изготовления колбас, или на выработку светлого и черного альбумина, клея, пуговиц, красок, землеудобрительных туков и корма для скота, птицы и рыбы. Сало-сырец..." Ветвь, полная цветов и листьев, отделена от собираемой при убое крови тремя словами: "Вечером я корректирую".
Васисуалий Лоханкин тоже, как и Кавалеров, валяется на диване, но фразу о голубой рогатке весны, как вы, вероятно, заметили, не произносит. А если бы и произнес, то она торчала бы у него изо рта, как щипцы, которыми дергают зубы. Тьфу!
(Я не развиваю тему сходства двух героев потому, что не хочу преувеличивать, и еще потому, что это сходство вскоре понадобится для несравненно более ответственной параллели.)
В "Золотом теленке" положение несколько проще, чем в " Зависти ". И это легко понять: у Ильфа и Петрова интеллигенты освистаны за то, что они думают, будто революция посягает на демократию. За такое дело авторы их, конечно, не только освистывают, но и показывают в образе людей, больше похожих не то на членов редколлегии журнала "Октябрь", не то членов ученого совета при хане Батые. И это совершенно правильно. Но в то же время такой показ не дает исчерпывающего ответа на все вопросы.
Функционирование интеллигенции в полицейском царстве Трех толстяков имеет такое большое значение, потому что пространство между государством и народом столь велико, что одни не слышат, что говорят другие. Интеллигенция же бегает где-то между государством и народом, и поэтому плохо ли, хорошо может играть роль посредника.
Эта игра вызывает многочисленные недоразумения, которые, начиная с Елизаветы Петровны, приходится все время выяснять.
Что же касается взаимоотношений интеллигенции и революции, то необходимость выяснить их возникла по причине более простой, чем это могло показаться при чтении многих книг, а также и этой книги.
Простота причины заключается в том, что победителям в революции 1917 года больше как с интеллигенцией не с кем было выяснять взаимоотношения.
Победители не выясняли взаимоотношений с крестьянами, которые были на стороне револю-ции, когда революция дала им землю. Когда же эту землю стали отбирать и крестьяне начали выступать против революции (не хотели идти в колхоз), то ими в ряде случаев пришлось пожерт-вовать во имя общих интересов. Взаимоотношения с прежними господствующими классами также были очень просты: эти классы сразу же были уничтожены. (Во имя общих интересов.) Следовало бы специально остановиться на том, что в состав этих классов входила и вся русская демократия, на протяжении столетия подготавливавшая революцию. Так как революция считалась пролетарской (не большевистской), то сначала показалось, что с пролетариями выяснять нечего, а когда обнаружилось, что остается кое-что невыясненным, то можно было расстрелять Кронштадтское восстание 1921 года и после этого уже ничего не выяснять, а просто разъяснять понятным народу языком.
С интеллигенцией, увы, все было гораздо сложнее: интеллигенция уничтожалась только в тех случаях, когда становилось ясным, что у нее могут начаться идейные шатания и кричащие противоречия. Интеллигенция была нужна, ее выгоднее было использовать, чем уничтожить. И вот с этой-то ничтожной, прости Господи, так называемой прослойкой, которую достаточно только положить на наковальню и стукнуть тяжелым молотом по лицу (о чем в двух своих произведениях упоминает Юрий Олеша), чтобы от нее, в сущности, ничего не осталось, пришлось выяснять отношения. Вместо того чтобы просто стукнуть молоточком. А ведь не стукнешь, потому что без нее современное промышленное государство, которое в числе прочего изготовляет такие молоточки, существовать не может. И кроме того, с одними дворниками тоже не превра-тишь в исторически короткий отрезок времени целый народ в громадное мычащее стадо скота.
Для этого, кроме дворников, нужны были еще хорошие, образованные интеллигентные люди, которые научно докажут, что мычащее стадо исторически прогрессивнее акмеизма. Вот когда план по основным показателям был выполнен и были созданы кадры собственных налетчиков на демократию, философию, право, искусство, тогда, конечно, можно было перейти к более полному удовлетворению культурных запросов населения. Но пока план по основным показателям оставался невыполненным, уничтожить всю интеллигенцию было преждевременно.
И вот между еще не уничтоженной и не ушедшей в изгнание интеллигенцией и победителями начались длинные переговоры, которые стали называться "интеллигенция и революция".
Потом сочтено было, что на такие пустяки, т.е. на переговоры, истрачено слишком много драгоценного времени. Да и характер переговоров сильно переменился.
Почти у каждого из писателей этих лет был свой Лоханкин, и каждый из писателей то больше, то меньше, то сам, то препоручая такую ответственную работу своим героям, срамил своего Лоханкина. Этой в высшей степени респектабельной деятельности предавалась большая и, конечно, лучшая часть нашей литературы приблизительно два десятилетия, и только к концу 30-х годов сочла свою задачу по ряду главных показателей в основном выполненной.
Независимо от этой литературы существовала другая, которая не оспаривала наличность громадного количества Лоханкиных в истории русской общественности, но полагала, что бывают не только они. При этом особенных иллюзий по части якобы незначительной роли Лоханкиных она не имела. Напротив, было сразу заявлено: "Нас мало. Нас может быть трое..." Столь резкое снижение показателей (трое!) происходило, вероятнее всего, потому,что подобная литература просто не берегла своих героев. Она сама говорила о них: "Таких в монастыри ссылают и на кострах высоких жгут". Ни больше, ни меньше. Хорошенькое дело.
Эта литература показала русского интеллигента другим. У интеллигента были свои недостатки. Он часто ошибался. Иногда совершенно непростительно. Но в то же время у него были и известные достоинства. Например, у А. Ахматовой была совесть:
...А я всю ночь веду переговоры
С неукротимой совестью своей.
Я говорю: "Твое несу я бремя,
Тяжелое, ты знаешь, сколько лет".
Но для нее не существует время,
И для нее пространства в мире нет...
М. Цветаева взваливает на свои бедные, стертые жизнью плечи тяжкую кладь:
...А покамест еще в тенетах
Не увязла - людских кривизн,
Буду брать - труднейшую ноту,
Буду петь последнюю жизнь!..
А Осип Эмильевич Мандельштам понимал, что в гибнущей Вселенной стоит обреченный человек:
Нельзя дышать, и твердь кишит червями,
И ни одна звезда не говорит...
Б. Пастернак сбивается с пути, падает, гибнет. Но лучше поиск, протест, гибель, лучше туда, куда ни одна нога не ступала, чем вытоптанное поле, проезжая дорога, где все известно, измерено и ложно:
...Метался, стучался во все ворота,
Кругом озирался, смерчом с мостовой...
- Не тот это город, и полночь не та,
И ты заблудился, ее вестовой!
Но ты мне шепнул, вестовой, неспроста.
В посаде, куда ни один двуногий...
Я тоже какой-то... я сбился с дороги:
- Не тот это город, и полночь не та.
Но еще разрушительнее и опасней, когда художник знает, что можно избежать гибели, уклониться от победы и что это так легко и доступно:
Столетье с лишним - не вчера,
А сила прежняя в соблазне
В надежде славы и добра
Глядеть на вещи без боязни.
Хотеть, в отличье от хлыща
В его существованьи кратком,
Труда со всеми сообща
И заодно с правопорядком.
И тот же тотчас же тупик
При встрече с умственною ленью,
И те же выписки из книг,
И тех же эр сопоставленье...
Увы, русский интеллигент был сложнее и разнообразней, чем тот, которого столь метко изобразили Ильф и Петров и которого, сбиваясь, то так, то этак изображал Юрий Олеша.
Интеллигент, которого изобразил Юрий Олеша, напугал его самого.
Этот интеллигент был непонятен Юрию Олеше, иногда даже неприятен и чужд. Он вызывал необыкновенно сложную гамму чувств, в полутонах которой, в черных бемолях, диезах, иногда слышались едва различимые отголоски чего-то неясного, неосязаемого, неуловимого, быть может, зависти. Юрий Олеша, вероятно, понимал, что Васисуалий Лоханкин не в состоянии охватить все оттенки русской общественной мысли, но интеллигентов, которые были ему непонятны, неприят-ны и чужды, он предпочитал изображать как людей, говорящих подозрительным по ямбу тоном.
И это ему вполне удавалось. По крайней мере до тех пор, пока он не опоминался перед альтернативой: поэт (Кавалеров) или толпа (Бабичев).
Происходила какая-то ошибка. Она была непреодолима, потому что была ошибкой замысла, и если бы она оказалась преодолена, то получилась бы другая книга и написал бы ее другой писатель. В книге с ошибкой писатель сделал своего героя высоким поэтом. Этого достаточно, чтобы герой получил право на серьезность суждений и оценок. Автор срамит своего героя за оторванную пуговицу и лежание на чужом диване, но в спор о его поэтической значительности не вступает. Он выводит на страницу высокого поэта, и поэт, естественно, тотчас же начинает обличать толпу. Создается ситуация, которую мы уже знаем по классической литературе и традиционной социологии. Изображена она так:
Поэт на лире вдохновенной
Рукой рассеянной бряцал...
...а хладный и надменный
Кругом народ непосвященный
Ему бессмысленно внимал...
И толковала чернь тупая...
О чем бренчит?..
Столетье, прошедшее между этими стихами и их прозаическим переложением, научило писателей более трезвому отношению к поэтическому порыву. В отдельных случаях происходит решительная переоценка поступков и высказываний поэта.
В русской литературе все знают, что поэт это хорошо, а толпа - плохо. Это утверждал Пушкин и опровергал Жданов. Но со Ждановым многие не согласились (особенно те, кто попал за это в тюрьму). Олеша выводит на страницу высокого поэта и поэт, естественно, тотчас же начинает обличать Жда... толпу. Так как советская толпа прекрасна, а поэт-индивидуалист отвратителен, то в связи с этим обстоятельством Юрий Олеша заставляет своего поэта произносить сладкие звуки и молитвы в пивной. Он хочет выказать этим свое максимальное презрение к поэту. Выказывая презрение не в абстрактной, а в осязательной форме, он вынужден создать ситуацию. Эта ситуация все равно такова: поэт и толпа. Юрий Олеша ходит по кругу: он не понимает, что если есть поэт, то есть и ситуация - поэт и толпа.
Толпа хохочет, улюлюкает, уничтожает.
Весь роман сотрясает хохот над поэтом.
"...Целый град шуток посыпался мне вслед... Мужчина вдогонку гоготал басом". Бабичев "разразился хохотом", "Рабочие смеялись вокруг..." "...Валя хохотала над ним..." "...вот эти... они смеялись..." "Все смеялись вокруг".
Затравленный поэт огрызается с ненавистью, с яростью:
" - Знаешь ли ты, как ты смеялся? Ты издавал те звуки, которые издает пустой клистир..."
Поэт знает, почему он смеется над ним: "Непонятное - либо смешно, либо страшно". "Никто не понимает меня. - Говорит поэт. - Непонятное кажется смешным или страшным".
За полтора десятилетия до Кавалерова другой поэт - Александр Блок - с отвращением и торжеством говорил обществу:
О, как смеялись вы над нами,
Как ненавидели вы нас
За то, что тихими стихами
Мы громко обличали вас!
Художник вырастает из-под земли, пробивается сквозь камень и, как карающий воскресший царевич, говорит обществу, что он о нем думает. Поэт вырывается, кричит, он падает, приподнимается, погибает.
Через тридцать лет Олеша скажет о другом поэте:
"...надо мной смеялись".
"...повторяю, надо мной смеялись!"
"Мальчики хохотали, мне было стыдно..."
"...хохотали и улюлюкали..."1
1 Юрий Олеша. Ни дня без строчки... Из записных книжек. М., 1965, с. 17, 30, 270.
Это он говорит о себе в годы, когда выяснения взаимоотношений интеллигенции и революции завершились замечательной победой. Победа была одержана к началу 30-х годов, а закреплена к концу 1937 года.
Выяснения были возможны, когда имелся выбор: работать этой интеллигенции с советской властью, быть лояльной, уйти в эмиграцию, бороться. К концу 30-х годов лояльность, эмиграция и борьба были исключены, и, таким образом, был исключен выбор. Это создавало новую ситуацию: старая интеллигенция, не пожелавшая работать с советской властью, вступала уже в недискусси-онные отношения с государством, значение которого в жизни людей все решительнее усилива-лось. Произошло замещение утратившей былую роль проблемы интеллигенции и революции новой. Новая была такая: взаимоотношения личности и государства. С конца 30-х годов внимание к вопросам взаимоотношений личности и государства становилось все более сосредоточенным.
Быстрыми и уверенными шагами входит хозяин романа Андрей Петрович Бабичев.
"На груди у него... был шрам... Бабичев был на каторге".
Его "...должны были положить затылком на наковальню и должны были молотом ударить по лицу". "Он убегал, в него стреляли".
"Замечательный человек, Андрей Бабичев, член общества политкаторжан".
"Большой человек! Удивительный человек! Совершенная личность..."
"...прославленный человек! Замечательный деятель..."
"...замечательный человек..."
"...член правительства".
Замечательный деятель подобрал выброшенного из пивной поэта и привез его в свой дом.
В то время, когда Кавалеров валяется на диване, Бабичев работает. "Перед ним листы бумаги, записные книжки, маленькие листочки с колонками цифр..." "Андрей Бабичев - был гигант, - говорит автор. - Он работал день, работал половину ночи".
Быстрыми и уверенными шагами входит враг-хозяин Андрей Петрович Бабичев.
"Он обжора".
"У него нет воображения".
"...барин..."
"...тупой сановник".
"...липа".
"...сановник, невежественный и тупой, как все сановники, которые были до... и будут после... И, как все сановники... самодур".
"...сановник..."
"Самоупоение..."
"...самодовольство..."
"Высокопоставленный чиновник..."
"..заурядная личность..."
"...обыкновенный обыватель..."
"...обыкновенный барин, эгоист, сластолюбец, тупица, уверенный в том, что все сойдет ему благополучно".
"...тупица..."
Медленно и неотвратимо проступают сквозь розовые упитанные щеки череп и берцовые кости.
"...тупица, смеявшийся над ветвью, полной цветов и листьев..."
Он ("образцовая мужская особь") стал директором треста, "одним из замечательных людей государства", заведующим "всем, что касается жранья", зажрался.
Андрей Бабичев - предупреждение об опасности.
Об опасности перерождения. Или того, что называется другим словом термидор.
Оказывается, что положительный герой тов. Бабичев А. П. ничем не замечательный человек.
Оказывается, что положительный герой тов. Бабичев А. П. "заурядная личность, вознесенная на завидную высоту благодаря единственно внешним условиям".
Его величие и успех связаны не с нынешней деятельностью, а с его прошлым.
Другой герой романа, поэт Николай Кавалеров, сравнивая свою участь с участью хозяина, говорит: "Судьба моя сложилась так, что ни каторги, ни революционного стажа нет за мной. Мне не поручат столь ответственного дела..." Автор осложняет роман и судьбу своего заведующего жраньем. Он налегает на то, что член правительства Бабичев столь вознесен за свои прошлые заслуги перед революцией. Он был героем, когда можно было быть героем, и он был им, а теперь...
А теперь он защищает свои завоевания.
Все было значительным, когда совершалась революция, люди, идеи, поступки. (Так утвержда-ет автор в своем романе о революции.) А потом выпущенный из клетки вождь восстания оружей-ник Просперо был посажен в контору и стал: "...обыкновенный барин, эгоист, сластолюбец, тупица..."
И тогда оказывается (утверждает автор), что герой романа о революции крупная личность, умный, талантливый и значительный человек, а герой романа о послереволюционном времени - "просто сановник, невежественный и тупой, как все сановники, которые были до... и будут после..."
"Большой человек", "замечательный человек", "заурядная личность", "тупой сановник". С одной стороны, с другой стороны...
С одной стороны - его революционные заслуги, с другой - термидор. Так вот и вертится положительный герой тов. Бабичев А. П. С одной стороны, с другой стороны... "Спина... Нежно желтело мясо его тела... По наследству передалась комиссару тонкость кожи, благородный цвет и чистая пигментация... на пояснице его я увидел родинку, особенную, наследственную дворянскую родинку, - ту самую, полную крови, просвечивающую, нежную штучку, отстающую от тела на стебельке..." "Но он повернулся грудью. На груди у него, под правой ключицей, был шрам... Бабичев был на каторге. Он убегал, в него стреляли". Так вот и вертится положительный герой тов. Бабичев А. П., только успевает поворачиваться. И так постепенно в его судьбе (не только в его судьбе) прошлое все настойчивее и все решительнее начинает вытеснять толстая, сытая, жирная, раскормленная, самодовольная спина. Товарищ Бабичев продолжает свой победоносный триумфальный путь в будущее - спиной.
И все, что делает Андрей Бабичев, обречено наудачу и осмеяние, и все дело его обречено наудачу и осмеяние. Он действительно создал необыкновенную колбасу, но колбаса осмеяна фразой "она не проваливается в один день", он построил грандиозную столовую, где можно получить обед за четвертак, но бабичевский "Четвертак" скомпрометирован: писатель все подстраивает таким образом, что "четвертак" получает и проститутка.
И вот тогда выясняется нечто совершенно сокрушительное.
Выясняется, что положительный герой тов. А. П. Бабичев, политкаторжанин, участник революции и гражданской войны, член правительства, о котором "один нарком в речи отозвался... с высокой похвалой, назвав его одним из замечательных людей государства" - Толстяк.
Эта тема начинается на первой странице романа.
"В нем весу шесть пудов" - сказано на первой странице.
На третьей странице сказано, что "он похож на большого мальчика-толстяка".
На шестой - "...толстое лицо..."
И дальше - бегом по всему роману:
"...узко его крупному телу".
"...тучный..."
"Толстый! Вот так толстый!"
"...он был толст".
Положительный герой романа о послереволюционном государстве Андрей Петрович Бабичев тоже Толстяк, такой же, как его предшественники.
Такой же, невежественный и тупой, как все Толстяки, которые были до и будут после, которые будут всегда.
Андрей Петрович Бабичев - "...правитель, коммунист..." такой же Толстяк, как его дореволюционные некоммунистические предшественники. Ничего не изменилось, начинаем догадываться мы. По-прежнему торжествуют Толстяки и люди, протестующие против них.
Андрей Петрович Бабичев - "один из замечательных людей государства" главный Толстяк творчества Юрия Олеши.
Первый роман Юрия Олеши, повествующий о революции, называется "Три толстяка", а второй его роман, повествующий о последствиях победы революции, почему-то называется "Зависть", а не "Четвертый толстяк".
Три толстяка, четыре толстяка, все Толстяки на свете думают, действуют и говорят одинаково. И поэтому не следует удивляться тому, что Толстяк из первого романа обращается к своему врагу так: "Ты забыл, с кем хочешь воевать", а Толстяк из второго романа спрашивает своего врага: "Против кого ты воюешь?"
Похожие слова, очевидно, произносятся людьми, похожими друг на друга.
Это сходство подтверждается неоднократно. Оно переходит из одного романа в другой, связывает между собой разные произведения и, казалось бы, разных людей.
Автор настаивает на сходстве: "Тогда я убью тебя, Андрей Петрович, пишет (не серьезно) представитель нового мира Володя Макаров Бабичеву. Честное слово".
"Все кончено... - говорит (думая, что серьезно) представитель старого мира Николай Кавалеров. - Теперь я убью вас, товарищ Бабичев".
В произведении Юрия Олеши начинают происходить какие-то странные и не свойственные этому осторожному и хорошо знающему, что он делает, человеку вещи.
Юрий Олеша в "Зависти" противопоставляет и разводит концепции как людей на поединке: "Я собью спеси буржуазному миру" - угрожающе говорит представитель молодого мира. "Мы собьем спеси молодому миру" - угрожающе говорит представитель буржуазного мира.
Но сходство произнесенных слов заставляет думать о близости людей и концепций, о близости методов, намерений и стремлений.
И поэтому, когда два человека говорят одинаковые слова, то это не композиционная особен-ность и не стилистическая небрежность, а способ, которым пользуется писатель для того, чтобы подчеркнуть сходство говорящих. Писатель снимает разницу между одним человеком и другим, между одним и другим миром, и говорит об одном мире - мире победителей-толстяков.
Почему революции делают герои и гиганты, а потом революции превращают их в пигмеев и трусов?
Все это было бы совершенно непонятно и даже непостижимо и вступило бы в разрушительное противоречие с тем, что написал Юрий Олеша до этого, и особенно с тем, что он написал после, если бы в его книге имелось строгое единство, казалось бы, разведенных концепций. Но в книге строгого единства нет, и поэтому Юрий Олеша ненадолго задерживается на этом странном недоразумении. Его, конечно, больше интересует, как представитель молодого мира собьет спесь старому миру. И он показывает это очень выпукло. Однако в книге Юрия Олеши странное недоразумение все-таки есть, как, несомненно, есть и отрицательные явления, и автор, человек, которому было в высокой степени свойственно гражданское мужество, не замазывает своих ошибок.
Я задержался на этом обстоятельстве специально для того, чтобы обратить внимание на одно распространенное заблуждение и предостеречь.
Такая потребность возникла у меня в дни, когда я был еще очень, очень молод и у меня еще были силы с надеждой заглядывать в издательства. И вот в одном из них (сейчас его уже нет, а где оно было - вырыт огромный водоем) я услышал оказавший на меня решающее творческое влияние диалог.
- Да... - сказал один редактор одному автору. - Да, да, конечно. Но нельзя же все так мрачно. Конечно, были отдельные наслоения. Но ведь были не только одни наслоения.
- Да... - сказал один автор одному редактору. - Да, да, конечно. А вот в этом романе? Разве были только одни положительные явления?
Вскоре разговор перешел в плоскость таких высоких материй, связанных с тем, что полезно и что вредно целым народам и континентам, что это стало недоступно моему пониманию, и я пошел к Юрию Карловичу, чтобы он мне объяснил. Но по дороге на протяжении двадцати лет я думал, думал, мучительно думал, стараясь не отвлекаться, о том, что, когда писатель приносит в издательство роман, то от него никогда не требуют отдельных наслоений, а когда писатель приносит в издательство роман с отдельными наслоениями, то ему приводят в свидетели высокие материи, небо и землю, народы и континенты, в результате чего он сразу убеждается в том, что положительные явления гораздо лучше.
Случилось так, что уж если в книге (то есть в рукописи, которой не всегда удается стать книгой) и есть отдельные наслоения и частные отрицательные явления, то от нее требуют сразу такого количества невообразимых достоинств и такого широкого охвата окружающей действите-льности, которые по силам лишь целой национальной литературе. Преимущества книги с положительными явлениями совершенно очевидны: от нее требуют гораздо меньшего - только положительных явлений, которые прекрасно выражают всю окружающую действительность.
В конце 20-х годов эти прописи, над которыми мы сейчас уже не задумываемся, были еще не всем ясны, и поэтому на "Зависть", особенно за Бабичева, очень обиделись.
Выражая общее мнение, лучший знаток Юрия Олеши и его круга Виктор Шкловский писал:
"Вещь построена неправильно..."
Виктор Шкловский про Олешу всегда знал все. А в эти годы он даже мог доказать некоторые свои положения и доказывал: "...потому что метод видения, - утверждал он, - который проведен через весь роман, - это метод отрицательных героев - Кавалерова и Бабичева"1.
(Очевидно, Ивана Бабичева.)
Прошли годы и выяснилось, что вещь построена правильно. В связи с этим Андрей Петрович Бабичев претерпел в сознании критики радикальную эволюцию. Он был враждебно встречен критиками-современниками, и должны были произойти громадные исторические свершения, свержения и преображения, чтобы уже посмертно реабилитированный светлый облик этого простого, обаятельного и кипучего человека навсегда остался в наших сердцах. (В 1937 году тов. Бабичев А. П. был незаконно репрессирован.) В частности, именно такой облик остался (с 1956 года) в сердце критика Б. Галанова. Этот облик выглядит так: "Андрей Бабичев поэт добрых дел"2.
1 В. Шкловский. Мир без глубины. О Юрии Олеше. - "Литературный Ленинград", 1933, 20 ноября, № 15.
2 Читая эти замечательные слова, я расхохотался. Б. Галанов. Мир Юрия Олеши. В кн.: Юрий Олеша. Повести и рассказы. М., 1965, с. 9.
Однако это произошло не сразу.
Сначала критика, недовольно глядя на Бабичева, обиженно хныкала:
"Трудно подыскать фигуру более неподходящую для воплощения социалистического строительства, вдохновляющего любовь к людям, заботу о человеке, чем Андрей Бабичев"1.
Прошли годы.
И вот Бабичев раскрылся в неожиданном для критики конца 20-х годов обаянии, широте и заложенных в нем перспективах. Тогда критики, переглянувшись, перемигнувшись, сообразили, что именно такой образ и нужен. И один критик уверенно заявил:
"Да, Андрею Бабичеву, бесспорно, свойственны и доброта, и нежность, и деликатность, и даже своеобразная романтическая приподнятость..."2
Это очень, очень верно замечено: и нежностей деликатность, и романтическая приподнятость. А другой критик (после девятнадцати лет напряженных раздумий и поняв, наконец, что в нашем деле главное это единство противоречий) не менее уверенно заявил:
"...он хороший человек, а не только хороший организатор... Бабичев мечтает освободить женщину от кухонного рабства, создать "Четвертак" величайшую столовую, где здоровый, вкусный обед из двух блюд будет стоить четвертак"3.
1 В. Перцов. О книгах, вышедших десять лет тому назад. - "Литературная газета", 1937, 26 июня, № 34.
2 Б. Галанов. Мир Юрия Oлеши. В кн.: Юрий Олеша. Повести и рассказы. М., 1965, с. 10.
3 В. Перцов. Юрий Олеша. В кн.: Ю.Олеша. Избранные сочинения. М., 1956, с. 11.
Б. Галанов в роскошной статье, обставленной дорогими эпитетами "меткий", "зоркий", "оригинальный", "честный", как посольский особняк старинной мебелью, допускает отдельные методологические просчеты. Эти просчеты чрезвычайно отрицательно сказываются на всей системе. Б. Галанов (с ссылкой на чуткого критика и члена правительства Анатолия Васильевича Луначарского) защищает Олешу и Бабичева так:
"...от автора и нельзя требовать, чтобы его положительный герой знаменовал собой какой-то "синтетический коммунизм": "Нет и не может быть такого коммуниста, который знаменовал бы собою совокупность всех свойственных коммунизму черт "... Бабичев в своей деятельности отражал только одну, хотя очень важную, "линию коммунизма" - его практическое строительство".
То есть, если бы у Бабичева была еще линия искусства и линия истории древней литературы ("Иокаста"), а также линия культуры чувств (любовь), которые он мог бы в известной степени позаимствовать у Кавалерова, который отнюдь не дурен, хотя, конечно, худощав, или у своего брата Ивана, который, если сказать правду, тоже, хоть и толст, а ведь очень видный мужчина, то все было бы превосходно. И вообще если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича, да взять сколько-нибудь развязности, какая у Балтазара Балтазаровича, да, пожалуй, прибавить к этому еще дородности Ивана Павловича, я бы тогда тотчас же решилась...
Как, вне всякого сомнения, догадался читатель, последние строки предшествующего абзаца принадлежат не кандидату филологических наук Б. Е. Галанову, не члену правительства наркому Луначарскому и не мне, вовсе не имеющему ученой степени, а Н. В. Гоголю. Эти строки выража-ют эссенцию и субстанцию концепции Агафьи Тихоновны. Неутоленная последовательность критика привела нас к неумолимой логике Агафьи Тихоновны. Я не развиваю дальше эту мысль, потому что боюсь натяжек в сравнительной характеристике: Агафья Тихоновна, раздираемая кричащими противоречиями и моральным максимализмом, терзается вопросом, кого выбирать, критик уверенно пишет, не выбирая: "...правда не на его, Кавалерова, стороне. Андрей Бабичев поэт добрых дел"1.
1 Б. Галанов. Мир Юрия Олеши. В кн.: Юрий Олеша. Повести и рассказы. М., 1965, с. 9.
Положение Олеши было весьма щекотливым: критики не могли закрывать глаза на то, что писатель с иронией и презрением относится к своему герою, пытаясь выдать его за образец не для себя, конечно, а для своих читателей. Все это было очень, очень сложно, потому что Бабичев, несомненно, обладал заслугами, шрамами и т.д., которые должны были импонировать. Читатели догадались, что Бабичев должен быть для них идеалом, но в то же время было совершенно очевидно, что этот идеал кажется автору ничтожеством. Это было оскорбительно.
Юрий Олеша, конечно, не хотел оскорблять читателей. Особенно тех, кто занимал ответственное положение. Он попытался лишь сообщить людям то, что заметил он, художник, чего еще не замечали они и о чем не хотели слушать историки, социологи, философы и администраторы.
Юрий Олеша коснулся вещей, которым предстояло сыграть важнейшую роль в нашей истории. Он сказал (вероятно, повинуясь лишь зрению и интуиции художника и не претендуя на исторический прогноз) несколько слов, которые сейчас кажутся достаточно симптоматическими. Он сказал о неограниченной власти, которая стала накапливаться у его положительного героя Андрея Петровича Бабичева. Юрий Олеша и поэт Николай Кавалеров внимательно всматриваются в сильную личность Андрея Петровича.
Сильная личность, вооруженная тремя банальностями, следуя, быть может, своим первоисточ-никам1, если "постарается", чтобы "человека выслали или... посадили в сумасшедший дом", то человека вышлют и посадят.
1 Я имею в виду статью Ленина "Три источника и три составные части марксизма".
Сильная личность, быть может, и не стала бы себя так некрасиво вести, но - не может: натура не позволяет. Социология натуры, которая не позволяет, заключается в том, что исторические обстоятельства в некоторых случаях развязывают самые отвратительные инстинкты, которые не только подвергают всяким превратностям жизнь окружающих людей, но и вызывают самоотрав-ление. Так возникают концепции и ситуации, получившие известность под названием "боги жаждут".
Юрий Олеша говорил о серьезных вещах.
Несмотря на то, что он подсаживает Бабичева на возвышение, дает понять, что очень любит его и настаивает на том, что все должны его любить, все равно из этого ничего не получается. Писатель создал человека - не гипсовое подобие положительного героя, а реального человека, - который вызывал тревогу.
Реальная толпа в романе, воплощенная своим лучшим представителем Андреем Петровичем Бабичевым, выглядит так.
Читатель и друг, довольный собой и женой, своей конституцией куцей, Андрей Петрович Бабичев не желает знать главного во взаимоотношениях человека и общества: он не понимает, что нельзя лишать человека права на убеждения, которые кажутся ложными. Он не понимает, что нужно спорить не с правом человека на ложные убеждения, а с самими ложными убеждениями, потому что убеждения, которые можно счесть ложными, могут быть и не ложны, а если их заведомо считать ложными, то тогда естественно возникает желание не спорить с ними, а уничтожать их.
И вот люди, считающие, что их убеждения правильны, начинают бороться с людьми, убеждения которых (по их представлениям) ложны.
Проходят годы. Выясняется, что убеждения, считавшиеся в свое время правильными, теперь становятся проблематичными или сомнительными, или даже просто ошибочными.
Писатель считал Бабичева ничтожеством не потому, что не сумел должным образом оценить выведение новой породы колбасы, и не потому, что не сумел понять необходимости выведения новой породы людей, и даже не потому, что его герою заказаны высокие и тонкие чувства, но потому, что начал догадываться, каким станет этот герой в будущем.
Олеша предостережительно рассказал о том, как бабичевы обволакивают жизнь выспренней и лживой фразой, за которой клубится мохнатым туманом безбрежная пустота. Он показал, как колбасник превращается в социолога, рассуждающего о "жизни нового человечества", о "новом мире", и как от концепции подобного рода веет жестокой социальной безнравственностью. Он показал, как в вихрях и протуберанцах энтузиазма появляется сытая морда и сквозь жир проступают череп и берцовые кости.
Олеша пишет о том, что человек, обладающий бесконтрольной властью, с необыкновенной легкостью и убедительностью превращает свою ненависть к другому человеку в общественный конфликт и в этом конфликте обрушивается на ненавистного человека не как на своего врага, а как на врага государства. Поэтому спор с братом так легко и естественно он превращает в расправу.
"Я велю тебя арестовать!"
"Его надо расстрелять!"
"В ГПУ!"
Конечно, конфликт братьев Бабичевых вызван не домашними неурядицами, а общественными причинами (и такие романы, как "Братья", "Сестры", "Отцы и дети" пишутся, конечно, не о домашних, а о социальных конфликтах).
Но Юрий Олеша показывает, что происходит подмена, замещение властителей самой властью. Кавалеров пишет Бабичеву: "Против кого ты воюешь, негодяй? - крикнули вы вашему брату. - Не знаю, кого имели вы в виду: себя ли, партию вашу, фабрики ваши, магазины ли, пасеки, - не знаю! А я воюю против вас: против обыкновенного барина-эгоиста, сластолюбца, тупицы, уверенного в том, что все сойдет благополучно".
Какой широкий голос у поэта. Этот голос смел, строг, ясен и сух. Таким голосом он разговаривает с прославленным человеком, удивительным человеком, замечательным деятелем, совершенной личностью. Но как меняется этот голос, когда поэт обращается к самому себе.
Кавалеров трусит, не додумывает до конца, топчется на месте, боится расширить конфликт. Ничтожность Кавалерова не в том, что он спит с вдовой Прокопович, а в том, что он не нашел сил настоять на своей правоте и сдался. Кавалеров не может бороться со своим врагом. Он лишь стыдит Бабичева за то, что у него, видите ли, нет души. "У меня есть колбаса", надменно отвечает Бабичев. Увы, некоторые литературоведы до сих пор настаивают на том, что Бабичев прав. Они говорят: исторически прав. То есть в то время, когда страна только начала оправляться от потрясений и т.д., колбаса была важнее души и т.д. А так как человечество всегда или переживает потрясения, или оправляется от них, то получается, что колбаса права во всех случаях, а поэзия - лишь в отдельные исторические периоды. Считаю это мнение глубоко ошибочным. Я утверждаю, что нет таких обстоятельств, при которых душа была бы менее существенна, чем самые дорогие сорта колбасы. Я считаю глубоко вредным такую постановку вопроса, когда выпирает ничем не прикрытое желание поссорить между собой различные продукты. Для теорети-ков литературы, которые с успехом умеют выявлять и выявляют любые противоречия, спешу сообщить, что я не подменяю метафору реальным предметом. Я с пеной у рта настаиваю на том, что колбаса для Бабичева это не метафора. А если и метафора, то все той же колбасы, только величиной с фабричную трубу.
Андрей Петрович Бабичев, обладающий колбасой, трубами и громадной бесконтрольной властью, плюет на ветвь, полную цветов и листьев, равно как и на голубую рогатку весны. Андрей Петрович так не по-хозяйски разбазаривает явления природы не потому, что он администратор или техник, нелюбящий поэзию, но потому, что он не любит такую поэзию. Эти люди любят совсем другую: хрустальные люстры и сливочные торты. Они любят деликатное обращение и вообще ценные вещи. Они требуют колонн, памятников, фонтанов, красивых (лучше полных) женщин, станций метро из сплошного мрамора, победителей на коне, сытной еды и глубокого уважения. Им нужно, чтобы все было, как в лучших домах, чтобы было солидно, прочно, богато и хорошо поставлено на великое историческое прошлое. Ну, как в доброе старое время. Они отбрасывают современников эпохе-предшественнице революции. Пройдет несколько лет и они не на живот, а насмерть начнут тяжелую, изнурительную и победоносную борьбу за бороду, зипун и охабень. Пройдет несколько лет, и этот герой, эта машина, этот мерзавец, перерожденец, термидо-рианец, предатель, убийца создаст ситуацию и идеал, которые разовьют лучшие идеи концепции и в более полном и усовершенствованном виде станут называться "культом личности" - ничтож-ными словами, лишь краешком соприкасающимися с невиданным в истории мира уничтожением людей, идей, чести, нравственности, жизни на земле.
В эти же годы закладывается и другая традиция, особенно привлекательная тем, что в ней, казалось бы, только польза, польза и польза.
Начинается увлеченное извлечение из далекого исторического прошлого некоторых концепций, которые, несомненно, требовали более пристального изучения и более осторожного применения, нежели то, на которое были способны дореволюционные военные кадры.
Бесхитростное соединение любви к родине с доброй традицией казалось необыкновенно привлекательным и выглядело так:
"Но вот и пехота и рабочие батальоны прошли, стих оркестр, а сердце сильнее забилось.
- Тра-тра-та-та-та... - Это наш старый, знакомый кавалерийский сигнал "Рысь!" Неужели появившаяся у Исторического музея конница перейдет в рысь?
Перешла, и глаза впиваются в прекрасных коней, в отличную посадку комсостава.
На рысях же проходит и артиллерия в конных запряжках: первая батарея на рыжих. "Неужели вторая пройдет на вороных? Так и есть. А третья - на гнедых? Быть не может!" - думаю я. И радостно становится, что русские военные традиции сохранены...
...и хочется снять шляпу не только перед знаменами, заслуженными в боях, но и перед рабочи-ми и техниками, превратившими мою родину из кабальной - в могучую, гордую, независимую от заграниц страну..."1
1 А. А. Игнатьев. Пятьдесят лет в строю. (В двух томах). Т. 2. М., 1955, с. 449-450.
Так пишет вернувшийся на родину патриот сначала своей монархической, потом своей социалистической родины, сначала императорский военный агент, потом советский член Союза писателей товарищ граф Алексей Алексеевич Игнатьев.
"Зависть" была написана еще в ту пору, когда между старым и новым миром велась жестокая, непримиримая борьба.
Ни в "Зависти", ни особенно в поздних вещах Олеша не хотел понять или признаться, что понимает, что в его положительном герое спрятано стремление к разрушительной власти с фанфарами, фонтанами, штандартами и сочной исторической традицией.
Рысью прошли рыжие, потом вороные, гнедые. Пронесся автомобиль Андрея Петровича Бабичева.
А за восемьдесят пять лет до него на одной из важнейших страниц русской литературы пронесся другой транспорт.
Это была незабываемая птица-тройка.
Она неслась, оставляя за собой все народы и государства.
Она безудержно и неотвратимо стремилась в будущее.
Тройка была заложена в бричку, а в бричку был заложен Павел Иванович Чичиков.
Можно предположить, что тройка неслась так быстро, что исследователи просто не успели заметить это решающее обстоятельство.
Оно все еще ждет своего внимательного исследователя.
Теперь неотложной задачей является синтезирование тройки, брички и Чичикова, потому что до сих пор тройка, летящая в грядущее, совершенно ненаучно отрывалась от брички, а бричка от Чичикова.
Но мы ведь знаем, что тройка летела не сама, а везла именно Павла Ивановича Чичикова.
Когда приехали, Павел Иванович вылез из брички и огляделся по сторонам. Глаз у него был опытный, нос вострый, а ум быстрый.
- Ничего, - сказал Павел Иванович, окинув опытным глазом, - ничего-о. И добавил: - То есть в том именно смысле, что ничего особенного не изменилось. - И повел налево-направо носом вострым и чутким. - Дороги не в пример лучше стали. Особенно стратегические. И жандарм будто крупнее из себя нынче, - отметил он. - А как по части мертвых? - с быстротой молнии пронеслась мысль в его мозгу. - Больше их против Венгерской, тьфу, прости Господи, Турецкой 1828-1829 гг. кампании? Или после прошлогоднего недороду-то и других целительных забот и мероприятий? - Оценив прибыль целительных забот и мероприятий, Павел Иванович понял, что не ошибся дорогой и велел Селифану распрягать.
Несется бричка с Чичиковым, летит автомобиль с Бабичевым, оставляя за собой все народы и государства...
"Зависть" была одной из ранних книг русской литературы, в которой уже начал слегка размахивать руками герой, вскоре затопавший ногами, закричавший, застучавший кулаком по столу.
Вскоре после того, как Трех толстяков загнали в клетку, из которой только что выпустили оружейника Просперо, начинаются события и процессы, завершающиеся назначением тов. Бабичева А. П. директором треста пищевой промышленности.
Смекнувши, что реальные обстоятельства складываются иначе, чем это представлялось раньше, тов. Бабичев А. П. начинает прокладывать дорогу своей карьере.
Два человека встретились на дороге, столкнулись, поняли, что их свело не уличное движение, а история. Один сказал: "мертвец". Другой сказал: "тупица".
"Мертвец" - это поэт. "Тупица" - это член правительства.
Между поэтом и правительством начинается борьба, в которой правительство одерживает победы.
Но в конце двадцатых годов государство еще не расчистило дорогу для идеологических (и иных) танков, и члена правительства товарища Бабичева крайне раздражало то, что на этой дороге стоит поэт, не желающий быть перерабатываемым в пищу и не терпящий, чтобы из него извлекали пользу, заявляющий, что он не хочет быть кирпичом строящегося здания, а также частью общепролетарского дела.
Конечно, такого человека ничего не стоит изобразить Васисуалием Лоханкиным, и многие, очень многие того вполне заслуживали. Но были такие, с которыми этого никак не удавалось сделать.
Через три года после гибели заплеванного поэта Олеша (он незадолго до этого работал в "Гудке" рядом с людьми, которые, пристально вглядываясь в лица своих знакомых, писали типизированный образ Лоханкина, призванный отобразить всю интеллигенцию, претендовавшую на собственное мнение), даже Олеша вложил в уста своей героини (за несколько дней до ее гибели) гамлетовские слова о флейте "...вот в этом маленьком инструменте много музыки, у него прелест-ный звук - и все же вы не заставите его звучать. Черт возьми! Или вы думаете, что на мне легче играть, чем на дудке!"
Юрий Олеша совершенно напрасно усложнял. Он преувеличивал трудности. Он просто не понимал, что играть на дудке, конечно, труднее. В годы, когда многие люди позволили превратить себя в винтики, а на все готовые писатели в дудки, Юрий Олеша стал писать так, как будто бы ничего не случилось, а если это становилось все-таки слишком заметным, то он делал вид, что уступил настойчивым просьбам умных и проницательных родственников. При этом он, конечно, чрезвычайно обогащал и разнообразил свою палитру.
В этих обстоятельствах, когда стеной встала перед писателем проблема личности и коллекти-ва, который во что бы то ни стало по-товарищески заставляет личность звучать понятно, так, чтобы это доставляло коллективу эстетическое наслаждение, ничтожная часть оторвавшихся личностей начинает путаться в ногах.
(Эта фраза, вероятно, должна неприятно резануть читательское ухо, ибо в привычном словоупотреблении "коллектив" стал понятием заранее обреченным на уважение и правоту. Я имею в виду другую возможность: собрание людей, отнюдь не безупречных в своих суждениях, мнение которых опровергает художник. С таким обстоятельством мы не раз сталкивались в истории, и последующие события часто подтверждали правоту именно художника.)
Но писатель создает здоровую атмосферу, и в этой атмосфере все оторвавшиеся личности начинают немедленно выздоравливать, как мухи.
Общество так могущественно и богато, что оно может позволить себе разведение целой галереи образов, которые бросаются травить неугодного ему героя. Оно уничтожает неугодного героя руками ему подобных из других книг.
Литература этих лет дружно наваливается на Николая Кавалерова.
Она показывает, что может произойти, если не прекратить это безобразие, если не щелкнуть Кавалерова по носу и не ударить по столу кулаком.
И вот в 1933 году щелкнул своего героя - отъявленного индивидуалиста и себялюбивого тщеславца - Борис Левин ("Юноша").
А в 1934 году еще крепче щелкнул своего социального ублюдка Илья Эренбург ("День второй").
Этому юноше - Кавалерову - будут годами выражать всяческие неодобрения и неудоволь-ствия, объявлять выговоры, ставить на вид, увольнять, выгонять, и наконец доведут его до образа Володи Софронова, который, как известно, был стопроцентным мерзавцем и социальным дегенератом, докатившимся до любви к Достоевскому (в 1934 году, когда вопрос любви к нему еще не только не был решен, но даже не был поставлен!) и вследствие этого - до подстрекатель-ства к диверсии и заслуженного самоубийства.
Таким образом, через семь лет после Николая Кавалерова пришло еще несколько молодых людей, к которым отнеслись столь же неодобрительно и сухо.
В литературе, как и в человеческом обществе, осуществляется представительство различных слоев населения. При этом появляется не один представитель слоя - Вертер, - а список кандидатов его партии; Джакопо Ортис итальянца Уго Фосколо, у французов Рене Шатобриана, Оберманн Сенанкура, Чаттертон Виньи.
Поэтому в пределах списка, эпохи, школы так часты параллели, сходство художников, героев, стилистики, материала, концепций.
Но все-таки лучше всех щелкнули Илья Ильф и Евгений Петров.
Я особенно настаиваю на этом, потому что не случайно "Золотой теленок" и "Зависть" набирали сок в редакции "Гудка", потому что сходные исторические обстоятельства выдвигают список кандидатов одной партии, потому, что параллель Кавалеров - Лоханкин (настораживаю-ще симптоматичная) неминуемо вынуждает задуматься о дальнейшем контрапункте героев "Зависть" и "Золотого теленка", и при этом обнаруживается сходство Анички Прокопович и мадам Грицацуевой. Но самое главное то, что тогда становится очевидным, что в своем победоносном беге к золотому теленку Остап Бендер задел плечом Андрея Бабичева.
Вам кажется странным сравнение крупного хозяйственного деятеля с жуликом? Государст-венного мужа с авантюристом?
Что же тут удивительного? Разве литература не знала такие случаи? Сколько угодно. Например: банкир Нюсинжен и каторжник Вотрен.
Впрочем, все эти параллели, даже если согласиться с ними, не очень существенны, и я бы не стал на них останавливаться. Дело, конечно, не в том, больше или меньше сходства между тупицей Бабичевым и умным Бендером, а в том, что уже была нарисована стрелка движения Бабичева, его путь к золотому теленку, власти, успеху. Писатель начинал смутно догадываться о неблагополучии своего героя. Но Юрий Олеша не был социальным пророком, и он не мог представить себе, что наступит время, когда его преуспевающий герой начнет вытеснять своим весом из окружающей среды остальную часть народонаселения, не приспособленную добывать успех таким способом.
Юрий Олеша не был социальным пророком.
И потому что он не был социальным пророком, он и не стал великим писателем.
Великий писатель и есть социальный пророк, хотя он может вовсе не подозревать за собой такого и не видеть в этом своего назначения, и писать совсем не об исторических, а о геологических катастрофах. А многие великие писатели не в состоянии справиться даже с геологией, у них хватает лишь сил на любовь и ботанику. И поэтому Петрарка, даже если бы он был только автором "Il Canzoniere", остался бы великим социальным пророком, несмотря на то что в его книге преобладающее место занимает поэтическое воспроизведение быстротекущего эфира, вступающего в более или менее непосредственное соприкосновение с ланитами и устами мадонны Лауры.
Я решительно не согласен с тем, что писателя нельзя винить за то, что он не может или не хочет быть социальным пророком (для чего необязательно описание исторических катаклизмов), за то, что он искренне, как и многие другие люди, верит в явно нелепые, а иногда и гнусные вещи, за то, что он не считает важным быть умным, оставшись совершенно одиноким, а предпочитает лучше ошибаться, но зато вместе со всеми.
Искренность заблуждений может иногда прибавить человеку почтенности, но не в состоянии прибавить ему ума. Искренность вообще к тому, что человек делает, никакого отношения не имеет и оправданием служить не может. От того, что Чингисхан, или Гитлер, или Кочетов искренне верят в свои человеконенавистнические идеи и, следуя им, стараются уничтожить все, до чего удается дотянуть руки, преступления этих замечательных политических мыслителей не становятся меньше.
Человек должен быть искренним. Но искренность не может быть единственной добродетелью, оправдывающей его сомнительные или злодейские поступки. Искренность не заменяет других добродетелей. Иногда она может заменить глупость. Но никогда ей не удавалось заменить ум.
Писатель должен быть умным.
Он не должен заблуждаться.
Он должен знать твердо: вот список благодеяний, вот список преступлений.
И почти всегда он это знает. Но почти никогда в этом не признается.
Он считает, что нужно приносить жертвы. И он начинает с того, что приносит в жертву свою совесть.
В то время, когда Юрия Олешу занимали узкие вопросы взаимоотношений художника и послереволюционного государства, других писателей волновали иные, часто более жизненные вопросы. Например, писатель А. Новиков-Прибой рассказывал своим читателям, какие вопросы волнуют его:
"В настоящее время работаю над большой повестью... В этой повести изображаю жизнь художника и собаки на фоне провинциального города и сибирской тайги"1.
1 "Хроника. Писатели о себе. А. Новиков-Прибой". "На литературном посту", 1929, № 4-5, с. 120.
Повесть или, точнее, - части повести - про художника и собаку, как удалось установить по трудам археологов, вызвала дружное одобрение, хотя и не породила столь обширную литературу, как "Зависть".
Все это сейчас, через четыре десятилетия, наполненных громадными историческими события-ми, можно понять или, по крайней мере, приблизиться к научной постановке проблемы. Но в те годы, когда еще не было Института мировой литературы (создан в 1923 году), а Институт русской литературы (Пушкинский дом, создан в 1905 году) влачил жалкое существование, многое казалось крайне неясным, а иногда просто туманным.
Необходимость понять сложные взаимоотношения художника и послереволюционного государства создала писателя Юрия Олешу, потому что он догадался, как это важно для русской истории, и написал об этом свои лучшие произведения, и погубила его, ибо он надеялся, что этот вопрос можно будет обсуждать серьезно и вечно, в то время как было решено, что уже и так все ясно, поскольку взаимоотношения художника и государства сложились крайне благоприятно и главное недискуссионно.
Но пока это еще не было окончательно решено, и об этом еще можно было писать, Юрий Олеша метался, задевая за внутренние противоречия, между любовью к поэту и колбаснику.
Когда человек любит безнадежно и обреченно, он придумывает женщине, из-за которой он так несчастен, невыносимый характер, жестокое сердце, предпочтение тебя идиоту, просто ничтожес-тву, кретину, легкомыслие и такой эгоизм, которого еще никто не видал, капризы и мелочность, а в отдельных случаях даже прыщи. Это очень помогает. Я это знаю.
Юрий Олеша придумал своему поэту Кавалерову: пьянство, оборванную пуговицу, приплюс-нутый нос, нежелание заниматься общественно-полезным трудом, зависть.
Олеше это очень помогло. О, как помогло это ему!.. Вместо ответной и, в сущности, совершен-но бесполезной, может быть даже вредной любви Кавалерова, он получил несравненно более существенную любовь доктора филологических наук, профессора Я. Эльсберга1.
Готовно откликающийся на чувство Я. Эльсберг в любовном письме, поданном в "двухнедель-ный журнал марксистской критики" PAППa "На литературном посту", настоящим сообщал, что:
"...3. В соотношении с этим ни в Олеше, ни в Кавалерове нет и следа влияний отсталой крестьянской идеологии, влияний столь значительных среди попутчиков.
4. Ю. Олеша является в "Зависти", безусловно, одним из наиболее близких нам современных попутчиков, представителем новой интеллигенции, не имеющей почти никаких связей с дореволюционным миром...
5. Ю. Олеша создал блестящую, яркую, радующую художественную форму"2.
Это очень, очень помогло, очень хорошо... Да, да, да... Очень, очень, очень хорошо... Как трудно жить на свете!..
1 Проф. Я.Е.Эльсберг - один из самых выдающихся и опытных доносчиков в советской литературе. Слова "настоящим сообщаю" - обычная формула, с которой начинался донос. Я этo очень хорошо знаю по доносам на меня другого доктора филологических наук, профессора В.В.Ермилова, члена Союза писателей СССР Н.С.Евдокимова, члена Союза журналистов СССР Г.Шерговой. С их доносами меня познакомили при освобождении из лагеря.
2 Я. Эльсберг. "Зависть" Ю. Олеши как драма современного индивидуализма. - "На литературном посту", 1928, № 6, с. 50-51.
И вот приходят трагические ночи, и ни любовь другой женщины, которая тебя страстно ласкает за то, что ты один из самых близких попутчиков, за то, что на тебе нет и следа отсталой крестьянской идеологии, а также за то, что ты создал такую яркую, радующую художественную форму (черт с ней!), в эти трагические ночи тебя не радует любовь старой опытной проститутки, доктора филологических наук, и ты страстно тоскуешь по любимому поэту с приплюснутым носом. И ты уже забываешь, что приплюснутый нос нужен был для того, чтобы забыть прелест-ный, смешной и милый, симпатичный носик, для того, чтобы он скомпрометировал нежелание заниматься общественно-полезным трудом и главным образом смешал с грязью зависть, эту отвратительную язву зависть, чтобы он показал, как она омерзительна, ничтожна и в условиях социалистического общества абсолютно нетерпима, чтобы она вызвала чувство подлинно научной и идейно-художественной гадливости.
И безнадежно влюбленный автор заставляет своего героя рассуждать в манере, неопровержи-мо свидетельствующей о том, что у этого героя невыносимый характер, просто поражающее легкомыслие и предпочтение замечательным вещам идиотских, ничтожных, просто каких-то кретинических.
Нет, вы только послушайте, что он говорит!
" - В Европе одаренному человеку большой простор для достижения славы... У нас нет пути для индивидуального достижения успеха...
В нашей стране дороги славы заграждены шлагбаумами. Одаренный человек либо должен потускнеть, либо решиться на то, чтобы с большим скандалом поднять шлагбаум. Мне, например, хочется спорить. Мне хочется показать силу своей личности".
Чего?
Вот так. Действительно, с жиру бесится бабенка, и ее (Кавалерова) совершенно правильно одергивают. Послушайте, как в два счета его разбивает еще один учитель танцев Раздватрис:
"Кто сказал Кавалерову, что у нас замечательная личность ничто?., может быть, это ему приснилось?.. - кипит негодованием учитель танцев. Чем уязвлена "собственная" слава Станиславского, Мейерхольда... Олеши... Кто заграждает им дороги к славе шлагбаумами?"1
1 А. Гурвич. Юрий Oлеша. - "Красная новь", 1934, № 3, с. 214.
Что касается Олеши, которого вместе с другими прославленными людьми упоминает А. Гурвич, то здесь произошла ошибка. Дело в том, что "Зависть", о которой говорит и из которой цитирует критик, была первой изданной книгой Олеши и никакой "славы" еще не было. (И в этом все дело!) Была не слава, а жажда славы, зависть. А когда пришла слава, то все это на некоторое время (до 1934 года) потеряло значение.
В романе подробно рассказано о том, какая слава лучше и какая хуже. Выясняется, что Кавале-ров предпочитает традиционные жанры: ученый, нарком, музыкант, полководец, спортсмен, авантюрист. Начинается спор между старым представлением о славе и новым. Роман становится серьезнее: выясняется, что это спор века ушедшего с наступившим.
Конфликт Кавалерова со временем осложняется тем, что в эти годы все большую популярность приобретает тезис, которому в ближайшие годы суждено будет распространиться с быстротой и летучестью песни: у нас героем становится любой. - Нет, не любой, - упрямо твердит Кавалеров, - ученый, нарком, музыкант.
Так как для Олеши главное это заглушить любовь к своему герою (и еще важнее, чтобы никто о ней не догадался: впоследствии, выведенный из себя, он саморазоблачится), а для того, чтобы заглушить, нужны невыносимый характер, эгоизм, эгоцентризм, космополитизм и прыщи, а то и прямой обман, то автор заставляет своего поэта говорить заведомую ложь и клевету, и тот, как дурак, повторяет, что личность у нас не может проявить себя, должна потускнеть, не в состоянии выделиться, и тому подобное. Вот уж, что чепуха, то чепуха. Если не хуже. Это чепуха, потому что у нас личность могла проявлять себя сколько угодно, и в этом мы все убедились на примере одной личности, путь которой никто не заграждал шлагбаумами, а даже, наоборот, создавал вокруг нее в течение некоторого времени что-то вроде культа.
Ошибка Кавалерова и Олеши, равно как и других многочисленных учителей танцев раздватри-сов, в том, что они не поняли главного: как изменились способы проявления личности. А понять надо было, что каждое время ценит то, что ему нужно, и прибегает к способам, которые близки и доходчивы. Николай Кавалеров не стал Андреем Бабичевым, потому что он не того хотел и действовал не такими, как Бабичев, методами.
И так бывает очень часто. Человек с утраченными иллюзиями, поэт Люсьен де Рюбампре не стал префектом парижской полиции, потому что поэт не хотел быть префектом полиции, да и, по правде сказать, не сумел бы справиться с возложенными на него обязанностями.
Юрий Олеша сдавался не просто, а как хорошая квартира с газом и паровым отоплением. Он хотел, чтобы это было выгодно. Еще можно было и не сдаваться, но у писателя были серьезные причины поспешить. Главной была зависть.
Я не спорю о том, что желание Юрия Олеши добиться успеха Федора Панферова прекрасно. Но я решительно протестую против того, что автор "Зависти" вместо того, чтобы со всей серьез-ностью подойти к вопросу и действовать, как его более опытные собратья по перу и известный в литературе беглый каторжник Жак Колен из романа Бальзака "Утраченные иллюзии", справедли-во считавший, что "надо врываться в толпу, как пушечное ядро" (впоследствии каторжник занял пост практически равный должности первого секретаря Союза писателей СССР Федина: он стал префектом парижской полиции), вместо того, чтобы врываться, Юрий Карлович все чаще забегал в "Националь", а чтобы уж не бегать слишком часто, решил остаться там навсегда. Юрий Олеша не стал Федором Панферовым, потому что только страстно хотел этого, но не умел. А одного страстного, душераздирающего желания и любой зависти еще мало. В этом деле важны трудолюбие, умение и трудодни. Ничего этого у Юрия Олеши не было.
Ю. Олеша, который не сумел стать Панферовым, рассказывает о своей неудаче способом, к какому прибегает всякий лирический поэт: через своего героя.
И вот для того, чтобы все выглядело предельно убедительно, автор отправляет поэта в другую комнату, может быть, даже в подвал, а на открытую для обозрения эстраду выводит людей, которые должны показать подлинный моральный облик этого героя.
Автор выводит этих людей потому, что ему мучительно хочется показать, к кому ушла эгоистка. И он показывает.
Поэтому выдвинутые на первый план фигуры лишь меланхолические миннезингеры в сравнении со своими куда более решительными двойниками.
Двойник Кавалерова Иван Бабичев говорит:
"Погибать: это ясно. Так обставьте ж свою гибель, украсьте ее фейерверком, попрощайтесь так, чтоб ваше "до свиданья" раскатилось по векам".
Двойник Андрея Бабичева Володя Макаров заявляет:
"Гони его к черту!" "...не жалей его", "...к чертовой матери..." "...морду набью..." "...я человек индустриальный".
Ну, что это такое?.. К чертовой матери, морда... Нехорошо.
Двойники героев, как все двойники мировой литературы, нужны для того, чтобы показать, каким свойствам героя угрожает обеспокаивающее развитие.
Иван и Кавалеров знают все наперед. Они знают, что проиграли, что "... все идет к гибели, все предначертано, выхода нет..." И тогда остается одно: "... устроить скандал... уйти с треском..."
"...друг и учитель и утешитель" Кавалерова Иван Бабичев не устает говорить о сходстве и общности своих и кавалеровских мыслей, целей, судьбы.
Подобие фигур устанавливается с геометрической неопровержимостью. Кавалеров тихо сказал: "Наша судьба схожа". "...судьба наша схожа... сказал Иван".
Сходство все время подчеркивается. Кавалеров выдумывает метафоры. Иван - машину-метафору Офелию.
Это настойчиво подчеркнутое сходство, это нарочитое подобие фигур нужно не только для того, чтобы убедить одного героя извлечь урок из печальной судьбы другого. (Увы, чужой опыт хорош не для того, чтобы им пользоваться, а для того, чтобы укорять тех, кто ошибся.) Сходство Кавалерова и Ивана нужно писателю, чтобы показать, что все трагические последствия заложены в них самих. Сходство показывает, что их уничтожает не посторонняя враждебная сила, но что они уничтожают друг друга, что они уничтожают сами себя. Не от вражеской руки, а от руки себе подобного приходит гибель. Так перерезала горло Остапа рука Ипполита Матвеевича Воробьяни-нова, соратника, и так покарала героя не враждебная ему власть, но своя же "сигуранца прокля-тая". С намерением покарать своего же написана Юрием Oлешей и машина Ивана "Офелия". Она изобретена и построена для того, чтобы доказать, что обреченного человека губит творение его же собственных рук. Нет, не другие виноваты в твоей гибели. Если другие, то может быть борьба, и ты можешь в этой борьбе победить. Ты гибнешь потому, что таков закон исторического развития. И если от других тебя может спасти осторожность, изобретательность и сила, то от исторического закона не может спасти ничто.
И поэтому, когда Кавалеров готов по-новому осмыслить мир, свою горькую, неудавшуюся жизнь, ему наносит смертельный удар его друг, его двойник, теоретик концепции Иван Бабичев.
Иван Бабичев настигает его в состоянии, которое в русской литературе называется "воскресением".
Следом за этим идет сцена преображения, второго рождения, прозрения интеллигента, полная высокого и трепетного звучания и написанная в лучших традициях русской прозы.
"Возникли сладчайшие ощущения - томление, радость... он стоял, задрав голову и вытянув руки".
Но в ту же "секунду он почувствовал, что вот наступил срок... срок катастрофы..." Ужас объял его. Он увидел гибель, свою смерть, как будто бомба быстрее и быстрее, ближе и ближе, так что уже видны были искры трубки и слышно роковое посвистывание, упала к его ногам... Ужас - холодный, исключающий все другие мысли и чувства, ужас объял все существо его. ..И в этом было нечто, такое страшное, важное и требующее ответа не словами, но жизнью, как будто бы свою судьбу решал не молодой поэт Николай Кавалеров, а за семьдесят лет до него его сверстник, другой начинающий писатель, судьба которого решалась здесь, перед упавшей к его ногам сейчас разорвущейся бомбой, подпоручик легкой № 3 батареи II-й артиллерийской бригады Лев Николаевич Толстой.
Олеша заставляет Кавалерова понять "степень своего падения". Нужно, чтобы поэт не выстоял, сдался. Падение "должно было произойти. Слишком легкой, самонадеянной жизнью жил он, слишком высокого был он о себе мнения, - он, ленивый, нечистый и похотливый..."
Безо всякого намерения Олеша делает нечто похожее на то, что за двадцать один год до него сделал О. Генри. Здесь важно обратить внимание не на известное сходство ситуации, а на несходство мотивов. Главный мотив О. Генри - уничтожение одного из противников. Для Олеши имеет значение другое: самоуничтожение героя.
Американский вариант воскресения сделан так:
"Он выкарабкается из грязи, он опять станет человеком, он победит зло, которое сделало его своим пленником... Он воскресит в себе прежние честолюбивые мечты и энергично возьмется за их осуществление... Завтра утром он... найдет себе работу... Он хочет быть человеком... Он...
Сопи почувствовал, как чья-то рука опустилась на его плечо"1.
1 О. Генри. Избранные произведения в 2-х т. Т. 1, М., 1954, с. 223.
Так заканчивает О. Генри рассказ "Фараон и хорал".
На плечо Кавалерова опустилась чья-то рука.
Это была рука Ивана.
"Выпьем, Кавалеров... - сказал Иван. - И сегодня, кстати... слушайте: я... сообщу вам приятное... сегодня, Кавалеров, ваша очередь спать с Аничкой. Ура!"
Печально заканчивает большая литература свои книги.
Нельзя вырваться из жизни, которая тебе суждена, на которую ты обречен.
Пришла неотвратимая очередь спать с Аничкой.
Как немного надо, чтобы он упал...
Легчайшее прикосновение, тишайший толчок.
Человек должен упасть, и он падает, потому что до легчайшего прикосновения и тишайшего толчка на него наваливается неразрешимый для него и неприемлющий его век. И когда поэт стреляет себе в сердце, то на его палец давит не любовная неудача, а социальные катастрофы эпохи. Он может этого и не знать. Так было с Вертером.
Но Юрий Олеша хорошо знает, как это случается, какая в этом неотвратимость и как немного надо, чтобы человек не выдержал и упал.
Легчайшее прикосновение, тишайший толчок и гибель происходит так:
"В белую ночь возвращался я подвыпивший домой, в Европейскую гостиницу, и увидел бегущую на меня вдоль стены крысу. Вдали, откуда бежала крыса, хохотали и улюлюкали шоферы... Я размахнулся ногой, чтобы ударить по крысе так, как ударяют по футбольному мячу. Тут же я потерял равновесие и упал, постыдно, по-пьяному, вызвав еще большее улюлюканье. Крыса, невредимая, пронеслась дальше, исчезая среди оград и кустов. Поднявшись к себе в комнату, я увидел на штанах пониже колена пыльный, осыпающийся от прикосновения след тонкопалой крохотной ступни. Возможно, таким образом, что меня толкнула крыса, причиной моего падения было также и то, что она меня толкнула, крыса"1.
Он пал.
"Он вернулся, подобрал подтяжки, оделся... он покинул дом... И снова он вернулся.
- Выпьем... сегодня... ваша очередь..."
Конфликт поэта с обществом кончается безраздельной победой общества.
Общество так могущественно (особенно в эпоху расцвета), что ему даже и не надо самому уничтожать художника. Оно уничтожает художника руками ему подобных.
Подобие, которое должно напугать главного героя, выглядит угрожающе и обреченно. На голову подобия нахлобучен котелок, рубашка на пузе вылезает из штанов, моральный облик вызывает глубокое разочарование.
Иван Бабичев говорит о гордости, о зависти, а сам ходит по кабакам, выклянчивая кружку пива. Более чем странно слышать от такого человека патетические слова об индивидуализме, не правда ли? Скорее можно было бы ждать от него лишенных всякого достоинства слов о том, что когда тебе плюют в лицо, то в этом нет ничего особенного. Такие слова уже были произнесены в свое время одним героем в кавычках. Вот как это звучало:
"...самое большое, если кто-нибудь из них плюнет в глаза, вот и все... Ведь иным плевали несколько раз, ей-Богу! Я знаю тоже одного, прекраснейший собой мужчина, румянец во всю щеку: до тех пор егозил и надоедал своему начальнику о прибавке жалованья, что тот наконец не вынес - плюнул в самое лицо, ей-Богу! "Вот тебе, говорит, твоя прибавка, отвяжись, сатана!" А жалованье, однако же, все-таки прибавил. Так что же из того, что плюнет? Если бы, другое дело, был далеко платок, а то ведь он тут же в кармане взял да и вытер"2.
1 Юрий Олеша. Ни дня без строчки... Из записных книжек. М., 1965, с. 270.
2 Н. В. Гоголь. Полн. собр. соч. в 14-ти т. Т. V, 1949, с. 39-40.
Вы, конечно, понимаете, что в устах подобных людей слова о высоком назначении индивиду-ума, о красоте, женственности и других необыкновенных вещах звучат совершенно неубедитель-но. А Иван Бабичев именно так и написан: что он говорит, должно звучать неубедительно. Не умея как следует скомпрометировать поэта, Олеша успешно компрометирует нечто такое, что следует считать его подобием.
Смертельная опасность толкает Ивана Бабичева к бегству из гибельной для него социальной ситуации. Неприемлемые и непобедимые общественные взаимоотношения он хочет разрешить на таком театре военных действий, где он чувствует себя серьезным противником (глубокое заблуж-дение). Таким театром представляется ему техника. (Теперь, в век технической революции, мы имеем возможность убедиться, как наивны были расчеты Ивана Бабичева, до какой степени они были построены на песке.) Иван Бабичев изобретает "Офелию" некую супермашину, которая якобы может уничтожить все, что пожелает ее творец. По характеру своего мышления, по всему своему складу Иван Бабичев представляет собой пример технократа. (Роман был создан в годы бурного расцвета конструктивизма, и Иван Бабичев многими чертами напоминает одну из осно-вательниц этой литературной группы.) Технократ Иван Бабичев, думая о спасении, неминуемо пренебрегает историческими социальными связями и все свои расчеты связывает только с машинной цивилизацией.
Ошибка же Ивана, по мнению Олеши, заключается в том, что тот не понимает, насколько машинная цивилизация, попавшая в хозяйственные руки, оказывается беспощаднее самых кровожадных несовершенных и лишенных стабильности социальных структур. Эти структуры не в состоянии учесть всего и поэтому оставляют надежду на то, что в хаосе и неразберихе (созданными ими самими), человек может иногда проскользнуть и выжить.
Вся эта история напоминает случай, описанный в старинном (вторая половина XVI века) португальском сборнике анекдотов, новелл, фаблио и притч.
В одной из новелл этого сборника рассказано о ландскнехте, которому пронзили копьем голову в битве при Франкенгаузене (25 мая 1525 года) во время Великой крестьянской войны. Через шесть часов пятнадцать минут после того, как его пронзили, ландскнехт прибыл из Франкенгаузена к воротам приемного пункта на том свете и остановился перед приемщиком. Приемщик его спрашивает:
- В какой ад желаете? В лютеранский или католический?
- В лютеранский, - коротко отвечает ландскнехт.
Приемщик от удивления сваливается со стула.
- В лютеранский? - переспрашивает он, искоса поглядывая на дыру от копья в голове вновь поступившего. - Не ослышался ли я, господин ландскнехт? Может ли это быть? Ведь вы только что с того (то есть с этого. - А. Б.) света. Вы же знаете, что такое ад в Швабии, Тироле, Эльзасе, Саксоно-Тюрингской области и Франконии, занятых вашими единоверцами?! Подумайте, господин ландскнехт.
- Прошу не вступать со мной в торговлю, - нетерпеливо перебил новоприбывший. - Я все обдумал, господин приемщик, - холодно и с достоинством обрезал ландскнехт. - Прошу вас не пытаться оказать на меня давление. Я отдаю себе полный отчет в своих словах и поступках. Не будем терять времени.
- Пожалуйста... - явно растерявшись, пробормотал приемщик, пожалуйста. Я уже много лет работаю на этом месте. Я хорошо помню Третью Пуническую войну. О, я старый покойник... да, да, господин ландскнехт... Я только хотел... Я вам не враг, господин ландскнехт...
- Благодарю вас, - ледяным голосом произнес новенький (он тоже был уже не молод). - Я не делаю тайны из своего желания попасть именно в тот ад, который указал, господин приемщик, в ад, подобный тому, из которого я только что прибыл и который я презираю. Дело в том, - сухо и с ноткой надменности продолжал он, - что мои соотечественники и единоверцы (последнее обстоятельство я настойчиво подчеркиваю), повинуясь своей железной и противоречащей элементарному человеческому опыту религиозной догме, в исторически короткий срок разрушили хозяйство своей страны до такой степени, что существование людей стало невыносимым. Я сам из Шварцвальда, занятого, как вам известно, отрядами Губмайера, будь он тысячу раз проклят... Пардон.
- Пожалуйста, пожалуйста, - поспешно ответил приемщик, - у нас все такие.
- Благодарю вас, - учтиво, но с достоинством поклонился ландскнехт. Итак я продолжаю. Я происхожу из Шварцвальда, занятого Губмайером (будь он десять тысяч раз проклят) еще осенью 1524 года, то есть, собственно, до начала войны как таковой. Поверьте мне, господин приемщик, уже через полгода здесь можно было умереть с голоду (у нас в Шварцвальде!), людям не было чем прикрыть тело от холода, у них не было крыши над головой. Вы бы ошиблись, господин приемщик, если бы подумали, что я жил на нищей, не родящей земле...
- Шварцвальд!.. - воскликнул приемщик, кто не знает, что такое Шварцвальд!.. Я с болью в сердце слушаю вас, господин ландскнехт.
- Нет, Шварцвальд это не пустыня, и люди, которые там живут, совсем не ленивый и не глупый народ. Нет, нет, это всем хорошо известно. Но мои единоверцы за несколько месяцев ухитрились сделать землю бесплодной, а людей беспомощными. В силу всего изложенного, - голос его снова стал жестким, и резкие складки обозначились у его губ, - я настойчиво прошу вас, господин приемщик, направить меня в лютеранский ад. Причины: в связи с безобразной бесхозяйственностью и полным отсутствием заинтересованности постоянно наблюдаются перебои со снабжением серой, почти непрекращающееся отсутствие сковородок, утечка керосина, нарушение температурного режима. Вот мои документы.
Характерной чертой идеологии уходящей эпохи является бесплодная, бесплотная надежда на возможные просчеты в историческом законе. Это иллюзии людей завершающихся эпох.
Иван Бабичев - это Рим эпохи упадка. Вот именно. Он говорит, как патриций перед тем, как лезть в ванну, прихватив ножик. Патриций Ваня периода коллективизации и начала индустриали-зации говорит: "Эпоха умирает с моим именем на устах". Иван Бабичев знает, что его ждет гибель, и единственное утешение находит в том, что те, кто погубят его, - варвары. Только презрение к ним способно утешить человека в котелке.
Это невыдуманая тема в русской литературе. Она возникала во все революционные эпохи. Брюсовские "Грядущие гунны", написанные в 1905 году, заканчиваются такими стихами:
Но вас, кто меня уничтожит,
Встречаю приветственным гимном.
Всякий раз, когда возникают сомнения в фатальной прогрессивности новой эпохи, идущей на смену старой, подвертывается удобная аналогия, с кажущейся легкостью разрешающая мучитель-ные сомнения. В таких случаях охотно вспоминают, как в Риме эпохи раннего христианства люди с законченным высшим образованием испуганно и гадливо смотрели на нечесаных христиан, уничтожавших великую античную культуру. Прошли века, и оказалось, что нечесаные завоевате-ли, разрушители, уничтожив, а затем возродив великую античную культуру, создали еще более высокую. Ну вот, а вы нервничали! торжествуют оппоненты. Нужно отметить, что торжество их преждевременно.
Дело в том, что римляне, имея дело с реальными разрушителями, хорошо знали, какую цивилизацию им несут. Эти реальные разрушители не только ничего не принесли, но ничего хорошего и не обещали. Они и не собирались делать что-нибудь хорошее, и, если бы могли быть последовательными, то и не сделали бы. Великая цивилизация, воздвигнутая ими, есть прямой результат неумения довести свое дело до конца. Все, что они сделали, было следствием не намерения, а вынужденности, уступкой, исторической необходимостью, разрушавшей цельность и чистоту идеи. Еще не испорченное искушениями и соблазнами раннее христианство обращало в пепел даже римскую (сомнительную) демократию. Христианство этой поры было хорошо лишь там, где оно опровергало себя и противоречило своему первоначальному намерению. Но ведь это бывает не во все эпохи, характерные стремлением уничтожить свободу людей, человеческое достоинство, духовные ценности. Ведь не однажды бывало, что обстоятельства складывались удивительно, прямо-таки поражающе благоприятно именно для самых гнусных, самых омерзите-льных и кровожадных концепций, особенно отвратительных тем, что они прикрывались розовой фразой о свободе, демократии и других необыкновенных вещах.
Поэтому не во всех случаях следует встречать приветственным гимном всех, кто стремится тебя уничтожить.
Мысли об упомянутом гимне, торжественной увертюре, а также об эвентуальном битии в тулумбасы приобретают влияние всякий раз, когда ограничивается возможность сопротивляться несправедливости, когда люди, боящиеся борьбы и поражения, ищут выглядящей вполне достойно возможности сдаться (Тацит). Тогда начинают уверять, что всякая последующая эпоха вне всякого сомнения прогрессивнее предшествующей (И. Флавий). И это совершенно естественно, ибо известно, что в конце концов торжествует добро (д-р Панглос). А исторический опыт неоспоримо свидетельствует, что тот, кто принял на вооружение указанную систему идей, вне всякого сомнения, никогда и нигде не пропадет (В. И. Лебедев-Кумач).
Скромность, стыдливость и ряд других превосходных качеств останавливают меня от желания вступить в научную дискуссию с перечисленными авторитетами. Но в то же время я не могу не думать о том, что было бы хорошо, если бы Тацит, И. Флавий, д-р Панглос и В. И. Лебедев-Кумач объяснили мне, как именно следует расценивать якобинский террор, директорию, консульство и империю, наступивших после взятия Бастилии.
Обращает на себя внимание, что в жизни человеческой периодически возникают ситуации, которые следует изучать не по сочинениям историков, социологов, философов, экономистов, статистиков, а по произведениям О. Генри "Короли и капуста" и М. Е. Салтыкова-Щедрина "История одного города".
Обеспокоенный судьбой любимого героя, поэта, Олеша хочет немножко перевоспитать его, показав на примере Ивана Бабичева, к каким тяжелым последствиям может иногда привести крайний индивидуализм.
Без надежды на перевоспитательный эффект показывает писатель Андрею Бабичеву его двойника.
Да-а... Рядом со своим двойником Андрей Бабичев вроде бы и не толстяк, а щенок. Вот именно. Что Андрей Бабичев! Ну, поет человек по утрам в клозете. Ну, и что? А вот двойник - Володя Макаров - в клозете не поет. Не такой он человек, чтобы петь и вообще предаваться упаднической лирике. Куда Бабичеву с его пением и дворянской родинкой! У него еще остались хоть какие-то не изжитые до конца человеческие черты и кричащие противоречия. А бывают случаи, когда ему вдруг ударяет в голову самый настоящий тонкий интеллектуализм! Понимаете? В такую минуту он вдруг совершенно безо всякой подготовки может спросить: "Кто такая Иокас-та?" Понимаете? Несравненно более высокую ступень представляет собой молодое поколение, высовывающееся из-за спины Андрея Бабичева в лице Володи Макарова, футболиста.
Володя Макаров, футболист, представляющий несравненно более высокую ступень, поучает Андрея Бабичева и посмеивается над ним: "...ты слабенький, обидеть тебя легко... - пошучивает он, - доверчивый... Добрый... у тебя работа такая, настраивает на чувствительность: фрукты, травки, пчелки, телята и всякое такое", "...слюнтяй..." Вот так. "А я человек индустриальный". "Я человек-машина... Я превратился в машину... Я хочу быть машиной... буду машиной..." И становится. Бесчувственной, бессмысленной машиной. "Чем я хуже ее? Мы же ее выдумали, создали, а она оказалась куда свирепее нас... Хочу и я быть таким..." И становится.
Эта машина задает себе выдуманные, надуманные испытания на выносливость и сокрушитель-но выдерживает их. Торжество машины не омрачается тем, что испытание нелепо. Такой герой был осмеян за полвека до Юрия Олеши. "Воля" Макарова разительно напоминает "железную волю" героя лесковской повести. И макаровские речи о том, что "через четыре года поженимся... Первый раз поцелуемся с ней, когда откроется твой "Четвертак" и прочее, как цитата из речей и дел Пекторалиса входит в роман.
"...совершенно новый человек", как его называет Бабичев, или "я... уже новое поколение", как называет он себя сам, все понимает. Он еще и в глаза не видал Кавалерова, а уже все понял. Он говорит про Кавалерова: "хитрованец", "вшей напустит", про Ивана Бабичева: "дешевка... и шарлатан". Наконец "Эдисон нового века" сделал то, что Андрей Бабичев, пожалуй, и в мыслях не имел, а Кавалеров о чем лишь смутно догадывался: он совершил социально-психологическую поляризацию героев и устроил два враждебных лагеря: объединил Кавалерова с Иваном и противопоставил им группу Бабичева.
И в романе сказано без обиняков: "Весь лагерь". Не брат Андрей Петрович против своего брата Ивана Петровича, а политическое слово из газетного набора: "лагерь".
Два лагеря сталкиваются так.
" - Стой! - воскликнул во весь голос человек. - Стой, комиссар!.. Брат... Почему ты ездишь в автомобиле, а я хожу пешком. Открой дверцу, отодвинься, впусти меня. Мне тоже не подобает ходить пешком. Ты вождь, но я вождь также...
И стащил его брат Андрей с высоты... и швырнул милиционеру" .
Во втором романе Олеши, как и в первом, два лагеря, и, как в первом, задан роковой вопрос: "Против кого воюешь?"
Писателя не очень интересует бытовой конфликт. Он обобщает, увеличивает конфликт до размеров мифа. Космогонические катаклизмы и эсхатологические катастрофы сотрясают роман, "...конец эпохи..." "...погибающая эпоха..." "...новая эпоха..." "...расплата за эпоху..." "...борьба эпох..." "...старый мир..." "...новый мир..." "...наступает тьма, жизнь не вернется..." "...гибель и смерть..." И спор братьев писатель превращает в поединок эпох.
Поединок сделан с подчеркнутой эпичностью, в ритмике библейского стиха, с инверсиями и синтаксисом Библии, с характерным и традиционным полисиндетоном эпоса: "И будто выбежал из толпы с тротуара его брат Иван..." "И ничего не оставалось шоферу..." "И все смолкло" "И стащил его брат Андрей с высоты..." А в словах "брат", "вождь", "...он вознесся над толпой..." явственно слышится голос священного писания.
Но миф снижен пародией:
"И стащил его брат Андрей с высоты, схватил за штаны на животе жменей. Так он и швырнул его милиционеру.
- В ГПУ! - сказал он".
Библейское "Ад" снижено бытовым синонимом "ГПУ".
Все это построения эпоса, мифа. Все это нужно для предельного противопоставления явлений: самое страшное воплощение власти и самый слабый ее подданный.
В роман вводятся мотивы легенд, эпосов, бродячих сюжетов. Писатель повторяет ситуацию многочисленных сказаний, уподобляя своего героя дьяволу. "Гость удалился... и тотчас же будто обнаружилось, что портвейн во всех бутылках, стоявших на пиршественном столе, превратился в воду". Это очень близко к эпизоду из "Фауста" ("Погреб Ауэрбаха в Лейпциге", "Фауст"), но как снижен бес! Это не поражающий воображение бес легенд и трагедий, яркая личность! Куда там, это - так, хромой бес Гевары, Лесажа, сологубовский мелкий бес...
Роман аллегоричен, многозначителен. В нем все время одно уподобляется другому, но в уменьшенном или увеличенном виде. Бытовой факт лишь метонимия истории и социологии. Кавалерова выгнали из дома Бабичева. Можете быть уверены, что через несколько страниц это будет возведено в высокий социальный чин. Проходит несколько страниц. Читаем: "Вас выгнали?.. Вы расплату за себя можете соединить с расплатой за эпоху..."
"... не столкновение людей, а столкновение идей"1 видит писатель в своем произведении.
1 Ю. Олеша. Заговор чувств. Пьеса в 7-ми картинах. М., 1930, с. 11. (В этом издании напечатаны только статьи о пьесе. Текста пьесы в нем нет.) Ю. Олеша говорит об инсценировке "Зависти" ("Заговор чувств"), но это не имеет значения, потому что по этой части пьеса не разошлась с романом.
Обобщенность, типизированность, абстрактность, мифологичность романа вызваны тем, что в нем происходит ничем не омраченное столкновение идей.
"Великий кондитер, колбасник и повар" Андрей Петрович Бабичев не удовлетворил современников в качестве образца.
Еще решительнее был отвергнут Николай Кавалеров, поэт.
И тогда оказалось, что в романе нет главного: борьбы положительного и отрицательного героев и победы положительного.
Роман получился сложней, значительней и противоречивей, чем, по-видимому, думал сам автор. Это произошло из-за несколько необычного (по крайней мере для той литературы, в которой существовал Олеша) обстоятельства: из-за того, что писатель надеялся, будто ему не придется решать, кто положительный, а кто отрицательный герой. Но как только рукопись стала книгой, то есть как только судьбу ее перестал решать автор, а стали решать другие люди, оказалось, что самое главное - это именно спор о том, кто хороший и кто плохой, и что спор должен быть решен победой хорошего. В социологической теореме, которую время задало писателю, требовалось доказать, что один герой (Кавалеров) плох, а другой - (Бабичев) хорош.
Но тогда еще Олеша не мог просто взять и доказать. (Он еще был молод.) А вместе с тем если бы он так сделал, то спор разрешился бы с такой простотой, что было бы даже непонятно, почему он возник.
Но спор был, и время задавало писателю теоремку, и требовалось доказать, и всему этому не следует удивляться, потому что в романе Николай Кавалеров и Андрей Бабичев изображены не только как представители и даже не только как типы, а куда менее академично: им поручено ответить на важнейший вопрос: кто "хороший" и кто "плохой" сын века.
Юрий Олеша написал противоречивую книгу. Герой, который обязан быть положительным, вызывает отвращение у читателей, а герой, которому симпатизирует автор, не имеет права нравиться.
А что думает обо всем этом автор, трудно сказать.
Создается впечатление, что его мучают неразрешимые противоречия.
Эту неразрешимость писатель создает сам.
Противоречие книги возникает из-за того, что автор не решил, кто из его героев прав.
Он решил лишь, кто ему больше нравится и кого (в эти годы) следует защищать.
Юрий Олеша защищает поэта.
Поэта он защищает самоотверженно. Он прикрывает его своим телом. "...Кавалеров смотрел на мир моими глазами", - заявляет автор. Он говорит тоном, не вызывающим сомнений и двусмысленных толкований.
Критики и читатели дружно и обрадованно навалились на Олешу за Кавалерова. Они навалились на автора не потому, что Кавалеров отрицательный, а потому что сообразили, что автор выдает его за положительного.
Автор выдает его за положительного.
Спор о хорошем и плохом, о положительном или отрицательном герое Олеша вывел за пределы романа. Он продолжил спор в одном из самых ответственных своих произведений: в речи на Первом Всесоюзном съезде писателей.
"Мне говорили, что в Кавалерове есть много моего, что этот тип является автобиографичес-ким, что Кавалеров - это я сам.
Да, Кавалеров смотрел на мир моими глазами. Краски, цвета, образы, сравнения, метафоры и умозаключения Кавалерова принадлежали мне. И это были наиболее свежие, наиболее яркие краски, которые я видел. Многие из них пришли из детства, были вынуты из самого заветного уголка, из ящика неповторимых наблюдений.
Как художник проявил я в Кавалерове наиболее чистую силу, силу первой вещи, силу пересказа первых впечатлений. И тут сказали, что Кавалеров пошляк и ничтожество. Зная, что в Кавалерове много есть моего личного, я принял на себя это обвинение в ничтожестве и пошлости, и оно меня потрясло.
Я не поверил и притаился. Я не поверил, что человек со свежим вниманием и умением видеть мир по-своему может быть пошляком и ничтожеством. Я сказал себе - значит, все это умение, все это твое собственное, все то, что ты сам считаешь силой, есть ничтожество и пошлость. Так ли это? Мне хотелось верить, что товарищи, критиковавшие меня (это были критики-коммунисты), правы, и я им верил. Я стал думать, что то, что мне казалось сокровищем, есть на самом деле нищета"1.
Так думает писатель, который, как многие интеллигентные люди, думает о себе сдержанно, но хорошо.
Прошло семь месяцев двадцать пять дней, а Юрий Олеша все еще не отступился от своих слов!
В беседе с начинающими писателями он прямо так и заявил:
".. .Я уже сказал, что в Кавалерове какие-то автобиографические черты. Какие-то черты в нем мои"2.
Правда, это сказано в устной беседе. В беседе, которая стала статьей3, об этом не говорится ни слова.
1 Первый Всесоюзный съезд советских писателей. Стенографический отчет. М., 1934, с. 235.
2 Беседа Ю. К. Олеши с начинающими писателями. Стенограмма, 16 апреля 1935 года.
3 Юрий Олеша. Беседа с читателями. - "Литературный критик", 1935, № 12.
Вскоре после этого обстоятельства сложились так, что писателю нестерпимо захотелось поверить, что товарищи, критиковавшие его (это были критики-коммунисты), правы, и он им поверил. Он решил, что Кавалеров пошляк и ничтожество.
Но проходит некоторое время, обстоятельства складываются так, что писатель приходит в себя и обнаруживает, что все нападки на Кавалерова, который так важен, так дорог, несправедливы и лживы. Он пытается "защитить" свою "свежесть от утверждения, что она не нужна, от утвержде-ния, что свежесть есть пошлость, ничтожество".
Хорошо зная, что автор признался в сходстве с Кавалеровым (да еще в знаменитой речи!), а Кавалеров, как это уже давно всем известно, был самым настоящим индивидуалистом, мерзавцем и прогульщиком, литературные портретисты из всех сил это сходство стали опровергать. И действительно, им больше ничего не оставалось, так как гнусность Кавалерова казалась самооче-видной. Был, правда, еще и другой выход - проверить эту самоочевидность и посмотреть, кто же на самом деле Кавалеров и так ли он плох, как это представлялось сразу, - но для этого нужно было пойти на серьезные осложнения.
Впрочем, это еще пустяки, когда Олеша заявляет, что он Кавалеров.
Потеряв всякий контроль над собой, он вдруг выпаливает, что он - Иван Бабичев. (С ума сойти!)
"Я, например, знаю точно, - заявляет он, - что внешний облик Ивана Бабичева, те черты, которые я вдруг увидел, - когда обдумывал этот образ наружность опустившегося, набрякше-го от нечистой жизни человека в странной шляпе, нищего, бродяги и философа, этот образ есть не что иное, как воспоминание мое о том бродяге - мистере Марвелле, который похитил у Невидим-ки волшебные книги. Там есть место, где мистер Марвелл убегает от Невидимки - задыхающий-ся толстяк на коротких ножках... Зеленая мурава, летний день и бежит толстяк... Кто помнит "Зависть", тот согласится со мной, что Иван Бабичев очень похож на этого толстяка... Образ, о котором я говорю, как видно, сильно поразил меня. Кроме "Зависти", он возникает у меня еще в одной вещи. В рассказе "Цепь"...
Тут я говорю о самом себе..."1
Убедительнее всех это мнимое и недостойное сходство опроверг лучший знаток творчества Олеши, неутомимый пропагандист каждой его строки и некоторых строк о нем Л. Славин. Этот портретист пишет по интересующему нас вопросу совершенно недвусмысленно:
"Есть неверные изображения Олеши. Однажды я встретился с попыткой сравнить его с героем романа "Зависть" Кавалеровым. (У Л. Славина, действительно, один раз была такая возможность. И он не пренебрег ею. - А. Б.) Большое заблуждение! Если и есть в Кавалерове что-то от Олеши, то только в том смысле, в каком Флобер на вопрос, с кого он писал мадам Бовари, ответил: "Эмма - это я"2.
Я не знаю, что именно имел в виду Л. Славин, опровергая "неверные изображения Олеши". Трудно сказать, что именно имел он в виду: статью или высказывание, или предисловие, или какую-нибудь рукопись, в которую ему удалось заглянуть, и он, посоветовавшись с друзьями и родственниками покойного, решил дезавуировать сравнение автора романа с его героем заранее.
Важно подчеркнуть, что Л. Славин не был одинок в этом благородном мероприятии. За тридцать шесть лет до него совершенно подобную и столь же успешную попытку предпринял В. В. Ермилов. Он сказал: "Несомненно, однако, что Юрий Олеша стоит на гораздо более высоком уровне, чем его герой Кавалеров, он сделал гораздо больше шагов к эпохе, чем последний..."3
1 Юрий Олеша. Беседа с читателями. - "Литературный критик", 1035, № 12, стр. 157.
2 Лео Славин. Портреты и записки. М., 1965, с. 16.
3 В. Ермилов. Буржуазия и попутническая литература. В кн.: Ежегодник литературы и искусства на 1929 год. М., 1929, с. 72.
Значит, все-таки даже лучший знаток творчества Олеши и его круга Л. Славин считает, что сравнение не исключено. Вопрос лишь в том, с кем сравнивать. Может быть, автор литературного портрета считает, что правильнее было бы сравнивать Олешу с Андреем Бабичевым? Может быть, с прелестной девушкой Валей, похожей на шахматную фигурку? Может быть. Может быть, Л. Славин заглядывал в чужую рукопись и очень встревожился, а в " Зависть" и в речь на съезде писателей не заглядывал?
Очевидно, Л. Славин хочет сказать, что писатель в известной мере должен пережить ощуще-ния своего героя, вызвать в своей душе состояние, чувства своих героев. Если Флобер (как его понимает Л. Славин) сказал "Эмма - это я", то можно предположить, что он мог бы сказать, что св. Антоний это тоже он. Не правда ли? Или он мог бы сказать: "Аптекарь Омэ - это я". Тогда почему бы Олеше не сказать: "Андрей Бабичев - это я, и Иван Бабичев - это я, и Аничка Прокопович - это все я". А сам Л. Славин, очевидно, должен был бы настаивать на том, что мадам Ксидиас - это он и Мишель Бродский из его пьесы "Интервенция" - это он, и поп, стибривший икону в его рассказе "Неугодная жертва" - тоже он. А Гоголь мог бы заявить, что он - Коробочка, а Шекспир, несмотря на то что свою жену не душил, - что он Отелло. Не правда ли? Это превосходный метод чрезвычайно широкого профиля, которым охотно пользуются не только критики и приятели, но также органы дознания и суда. Все, кто хоть немного осведомлен в истории новозеландской литературы XX века, хорошо знают знаменитый процесс (февраль, 1965 год) над двумя писателями, которых сделали ответственными за поступки и высказывания их героев (разумеется, отрицательных) и, разумеется, жестоко осудили. Так, значит, все-таки дело в том, с кем сравнивать, а в иных случаях и отождествлять?
Но, может быть, экстракт, субстрат и аппарат блестящих и полных литературоведческих глубин наблюдений Л. Славина это слова "в том смысле"? А "тот смысл" заключается в том, что автор не имеет отношения ко многим своим героям, но в образы некоторых вкладывает свое собственное отношение к миру, и поэтому мы можем утверждать, что Наполеон в значительно меньшей мере, чем Платон Каратаев, выражает стремления, личность и идеалы Толстого, а следователь Ларцев, конечно, в несравненно большей степени, чем подследственный Галкин, является выражением души братьев Тур и Л. Шейнина.
Да, Флобер сказал "Эмма - это я". Но ведь он не сказал: "Пошляк и мерзавец Родольф - это я". Значит, в некотором смысле он все-таки признается в сходстве со своей героиней, и именно с ней, а не с кем-нибудь другим.
Конечно, Кавалеров - это Oлеша только и именно в том смысле, какой имел в виду Флобер.
Этого совершенно достаточно.
Поэтому мы не будем говорить, что Кавалеров - это Олеша. Мы будем говорить, что "...Кавалеров смотрел на мир... глазами..." Олеши.
Мне тоже всегда казалось, что Олеша похож на свои писания. При этом мне никогда не казалось, что он похож на гимнаста Тибула или на Володьку-футболиста, или на Дискобола. Из всех своих писаний Олеша больше всего похож на Николая Кавалерова. Он похож на Кавалерова своими тщетными попытками попасть "в ту недостижимую сторону", годами молчания, когда он писал свое "В учрежденьи шум и тарарам" и другой "репертуар для эстрадников", своей завистью, противоречиями и жалкой своей судьбой.
Все это важно. Это важно потому, что Кавалеров общепризнанное в нашей критике дерьмо, а Олеша общепризнанная в нашей критике драгоценность. Поэтому признание тождества Олеши с Кавалеровым равносильно признанию тождества драгоценности и дерьма. Тогда в мире нечего ценить, нечем дорожить, все одно, все одинаково и все ничтожно. Полемика, связанная с очисткой Олеши от Кавалерова, выходит из берегов канала, прорытого портретистами. Этого портретисты не понимают, хотя кое-кто из них люди необыкновенно образованные; некоторые получили церковно-приходское образование в Литературном институте, и каждый льет в свой канал. Один такой канал наполняется нижетекущей прочувствованной водой: "Было бы нелепо и, попросту говоря, оскорбительно для памяти Олеши-писателя соглашаться с теми критиками, которые в пылу полемики чуть ли не отождествляли автора с его героем..."1
1 Б. Галанов. Мир Юрия Олеши. В кн.: Юрий Олеша. Повести и рассказы. М., 1965, с. 10.
О, если бы дело было только в этом... Я не вступаю в полемику с человеком, награжденным от природы даром методического и учащенного выброса интеллектуальных квантов.
Но, пренебрегая суетностью полемики, я не могу без волнения пройти мимо того, что оба лучших знатока жизни и лучших знатока творчества Юрия Олеши и других, как бы сговорившись, утверждают одно и то же и об одном и том же молчат. О чем они говорят, я уже рассказал, а о чем молчат, скажу. Они молчат о том, с кем сравнивать. Они молчат об этом не потому, что вовсе не обязательно во всех случаях сравнивать всех авторов со всеми их героями или с некоторыми, а потому, что уж если с кем-нибудь сравнивать автора "Зависти" из его героев, то стоит сравнивать только с одним: Николаем Кавалеровым. Юрий Олеша был умнее обслуживающего персонала на лучших знатоков, который состоял при нем, и сам сравнивал себя с Кавалеровым. Он хорошо понимал, что это высокая и недопустимая ему честь быть похожим на Кавалерова - художника, не забегавшего вперед с рациональными предложениями и сдавшегося лишь на последней странице.
Спор о том, хорош или плох Кавалеров, важен и неразрешим.
Он неразрешим, потому что из спора о человеческих достоинствах и недостатках неотвратимо и быстро скользит в вопрос о поприще человека, о назначении поэта. Но тогда следует говорить не об одном ответе, годном на все случаи, а об ответе для каждой эпохи.
Он важен, потому что выходит за пределы "образа Кавалерова" и связывается с центральным конфликтом и главной проблемой романа.
Неразрешимый и бесплодный спор в пределах "образа Кавалерова" ведется так.
Противники Кавалерова полагают (не без основания), что пошляк, ничтожество, пьяница, сплетник, бездельник и пр., перекатывающийся с дивана Бабичева на кровать Анички Прокопо-вич, плохой человек.
Защитники Кавалерова ищут для спора другую плоскость. Они заявляют (с достаточной убедительностью): "Да, пошляк и ничтожество, пьяница, бездельник, Аничка Прокопович и пр. Ну и что же? Нет, милый читатель, мой критик слепой! Да, да, да, мелкий человек, гнусный, грязный, заразный и пр. Но косы и тучки, и век золотой! Но - высокий поэт! А высокий поэт в отличие от маленького человека не домашняя преходящая частность, существенная для жены и соседей, но общественно значимый факт".
Маленький человек и большой поэт? Может ли невысокий человек достать высоко стоящую книгу? Не может (без лестницы, стула и т.д.). Может ли маленький человек быть большим поэтом? Немного сократим фразу: может ли маленький быть большим? Нелепость.
Человек может стать маленьким по многим причинам. Одной из наиболее распространенных причин бывает такая: ему отрубают голову, или ноги, или сгибают его в три погибели. Эти опера-ции сравнительно легко произвести и над большим человеком при наличии хороших, опытных санитаров и опытного хирурга. Разница между большим и маленьким заключается в том, что большой человек при подобных деформациях сопротивляется и погибает, а маленький охотно идет навстречу по дороге, указанной санитарами. Николай Кавалеров сопротивляется и погибает. У него не хватает сил преодолеть разрушающее усилие (Рр), прямо пропорциональное пределу человеческой стойкости ([qr]),только потому, что обратно пропорциональное число циклов, обрушивающихся на человека бед (нагружений fn), непомерно, неисчислимо велико.
Конечно, пьяный и грязный Кавалеров не вызывает особенной симпатии.
Это очень, очень неприятно, но приходится признать, что и до Кавалерова уже были такие прискорбные случаи. Даже еще хуже. Например Франсуа Вийон. Этот, можно сказать, совсем был пропащий человек: убил священника, бежал из Парижа, сидел за кражу, бежал, путался с бродягами, сидел в тюрьме, бежал, был приговорен к смертной казни, бежал. Так начиналась в европейской литературе тема "поэт и общество". Ужасно. Писал гениальные стихи. Ужасно.
Нас пять везли на казнь в позорной колеснице.
И плоть, что мы откармливали столько дней,
Уж расползлась и сделалась темней...
Ну, что хорошего?
Нет, конечно, Кавалеров и подобные ему грязные свиньи ни в коем случае не должны вызывать симпатии. Да это и понятно. Ведь "в печати надо все благородное: идеалов надо, а тут..." На это в свое время еще Достоевский указывал1.
Но даже одни идеалы не в состоянии до конца разрешить небольшой вопрос. До сих пор некоторые утверждают, что Гоголь, например, был не всегда очень симпатичным. Много также рассказывают и про Степана Разина. Историки наперебой сообщают, что Марат, например, тоже очаровывал не всех и не сразу. "Он имел бесстыдство принять явившуюся к нему "гражданку", когда он сидел в ванне..."2 - рассказывает кипящий негодованием историк. Рассказ сопровожда-ется картинками. На картинках изображены некрасивый Марат (с. 67) и красивая Шарлотта Корде (с. 84). Это не производит того впечатления, на которое рассчитывает историк-монархист. Это естественно: ведь многие уже научились ценить и осуждать людей не за то, как они выглядят, а за то, что они делают.
1 Ф.М. Достоевский. Собр. соч. в 10-ти т. Т. 10, М., 1958, с. 541.
2 Оскар Иегер. Всеобщая история в 4-х томах. Изд. 5-е, СПб, т. 4, с. 84.
Некрасивый Николай Кавалеров делает следующее: он борется за свое право сказать обществу, что он о нем думает.
Всякий человек в жизни и в искусстве (разумеется, в таком искусстве, которому не навязыва-ют зловещих концепций "идеального героя" или жизнеутверждающего финала) наделен чем-то хорошим и чем-то плохим. Талант художника, например, это прекрасно. А вот бытовое разложе-ние, например, очень плохо. Не так ли? Без всякой полемики совершенно очевидно, что это действительно так. Но в то же время подобная калькуляция человеческого характера кажется несколько кабинетной и немного надуманной. Дело в том, что "талант художника" это не слагаемое в сумме человеческих свойств, а производное их. Поэтому талант Кавалерова нечто большее и нечто иное, нежели одна из гирь, брошенных на весы для решения вопроса о месте его (Кавалерова) в эпоху перехода к развернутому строительству бесклассового общества.
Обстоятельства складывались так, что в качестве положительного героя такой поэт, как Кавалеров, становился неприемлемым.
Его неприемлемость была связана не только с обстоятельствами, независимыми от Олеши, и с тем, что в эти годы сам Олеша еще искренне старался понять, хорош или плох такой поэт и такие взаимоотношения поэта и общества.
Олеша колеблется делать Кавалерова несостоятельным или полноценным, и поэтому на всякий случай делает его некрасивым.
Так как по причинам, независимым от него, и по неопределенности собственного отношения Олеша не мог написать Кавалерова хорошим, но в то же время не мог написать его и плохим, и вся контроверза образа оказалась в высшей степени неопределенной и нерешительной, то важным становится не облик образа, а его функция.
Функция же его такова: Кавалеров исполняет обязанности высокого поэта в обстоятельствах, когда понимание роли и назначения поэта решительно и необратимо изменилось.
Николай Кавалеров родился в те годы, когда считалось, что назначение поэта заключается в утверждении независимости творчества, в борьбе с обществом за свободу и в праве обличать пороки этого общества.
Но Кавалеров начал писать в те годы, когда назначением поэта стало утверждение высоких достоинств общества, борьба с индивидуализмом и право обличать пороки врагов этого общества.
Такие обязанности не имели ничего общего с теми, которые были понятны Кавалерову. Это был совсем другой род деятельности, просто другая профессия, имеющая отношение не к поэзии, а к ремеслу беглого каторжника, и Кавалеров, который этому не учился, не мог и не хотел делать того, что от него властно требовала эпоха.
"Мне хочется показать силу своей личности", - говорит поэт.
Ему не разрешают.
"Храните гордое терпенье", - говорит другой поэт.
Герою Юрия Олеши не удалось показать силу своей личности и сохранить гордое терпенье.
Но ему удалось погибнуть, не встав на колени.
Это горькое и тяжкое право в русской литературе не всем удалось отстоять.
"Покой и воля", о которых тихо просил Пушкин, покой, который покрывала своим воем толпа, и воля, которую она топтала, их не было.
"...покой и волю тоже отнимают, - через восемьдесят семь лет с горечью скажет Блок. - И поэт умирает, потому что дышать ему уже нечем, жизнь потеряла смысл".
Но Блок приходит в себя и говорит голосом строгим и громким, голосом, каким за семь лет до этого говорил в "Ямбах", "Покоя - нет". Он говорит:
"Любезные чиновники, которые мешали поэту испытывать гармонией сердца, навсегда сохранили за собой кличку черни...
Пускай же остерегутся от худшей клички те чиновники, которые собираются направлять поэзию по каким-то собственным руслам, посягая на ее тайную свободу и препятствуя ей выполнять ее таинственное назначение. Мы умираем, а искусство остается"1.
Юрий Олеша хотел, чтобы эпоха была прогрессивной и чтобы она ему нравилась.
Это давало ему внутреннее право самому нравиться эпохе.
Но Юрий Олеша понимал, что с героем такого романа, как "Зависть", Николаем Кавалеровым это не так просто. Он прикидывал с большим количеством вариантов, приглядывался...
Он написал так своего героя, что создается впечатление, будто бы тот никогда не умывался, и это должно вызвать у нас антипатию.
Олеша не хотел и не мог показать силу своей личности.
Как уже отмечалось, В. Ермилов совершенно правильно заметил, что "...Юрий Олеша стоит на гораздо более высоком уровне, чем его герой Кавалеров..." Не менее важно и свидетельство Я. Эльсберга: "...вполне возможно, что Олеша "кавалеровщину" уже преодолел..."2
1 А. Блок. Собр. соч. в 12-ти т. Т. 8. Л., 1936.
2 Я. Элъсберг. "Зависть" Ю. Олеши как драма современного индивидуализма. - "На литературном посту", 1928, № 6, с. 61.
Но в то же время мы не можем сказать с абсолютной твердостью: да, окончательно преодолел, да, стоит совсем на другом уровне. И потому, что мы не можем этого сказать с абсолютной твердостью, мы неуверенно должны отметить, что совершалось совсем другое: происходили разнообразные, но всегда мучительные переживания.
Если суммировать все переживания, то можно в итоге сказать, что неумытый Кавалеров был уступкой и неразрешимым противоречием писателя.
Но независимо от переживаний, уступок, противоречий и намерений писателя, главное оставалось незыблемым: поэт, общество, борьба поэта и общества.
Спор о победителе в этой борьбе связан с центральным конфликтом произведения, потому что в этом конфликте победа должна достаться хорошему.
Центральный конфликт произведения начинается сразу.
Два человека встретились, поняли, как они далеко разведены, и безошибочно определили друг друга. "У него нет воображения", - с презрением думает один, "...ты - обыватель, Кавалеров", - всем своим видом показывает другой. Это сообщено на первых страницах романа. На тринадца-той странице поэт говорит государственному деятелю "Вы хам!", а через тридцать пять страниц после этого государственный деятель отвешивает поэту затрещину. Еще через двадцать страниц фразы, эмфазы, переживания, восклицания и затрещины собираются в отчетливые формулы конфликта.
Формулы эти таковы:
Иван Бабичев. - ...целый ряд человеческих чувств кажется мне подлежащим уничтожению...
Следователь.- Например? Чувства...
Иван Бабичев. - ...жалости, нежности, гордости, ревности, любви, словом, почти все чувства, из которых состояла душа человека кончающйся эры. Эра социализма создает взамен прежних чувствований новую серию состояний человеческой души.
Следователь. - Так-с.
Иван Бабичев. - Я вижу: вы не понимаете меня. Гонениям подвергается коммунист, ужаленный змеей ревности. И жалостливый коммунист также подвергается гонениям. Лютик жалости, ящерица тщеславия, змея ревности эта флора и фауна должны быть изгнаны из сердца нового человека.
...Таким образом, видим мы, что новый человек приучает себя презирать старинные, прославленные поэтами и самой музой истории чувства.
А через десять страниц Андрей Бабичев опровергает брата Ивана:
"Значит, там, в новом мире, будет тоже цвести любовь между сыном и отцом. Тогда я получаю право ликовать: тогда я вправе любить его и как сына, и как нового человека. Иван, Иван, ничтожен твой заговор. Не все чувства погибнут. Зря ты бесишься, Иван! Кое-что останется".
Все это совершенно естественно: если был пролеткульт, то должен быть и пролетчувств. Не может не быть.
Но еще раньше, чем Андрей брата, Иван опровергает самого себя:
"Я думал, - говорит Иван, - что женщина - это наше, что нежность и любовь - это только наше, - но вот... я ошибся".
Один брат думает так, а другой - ничего? Даже еще проще: один брат полагает, что так должен думать другой брат. От спора ничего не остается; он распадается, разваливается. На второй фразе становится ясным, что спорить не о чем.
Иван и Кавалеров говорят (не очень уверенно и часто в пивной), что новый мир уничтожит все человеческие достоинства. Андрей утверждает, что этого не произойдет.
Совершенно ясно, что Иван и Кавалеров ошибаются.
Ну и что же?
А конфликт?
А роман?
Ведь не на этом же построен конфликт, построен роман?
На этом.
Один из характернейших романов русской литературы построен на недоразумении.
Несостоявшаяся коллизия романа, несостоявшаяся трагедия заключаются в том, что ссора с веком возникает из-за того, что он упразднил нежность, любовь, благородные порывы, возмож-ность прославиться. Но, оказывается, что ничего подобного не произошло. В чем же трагедия?
Ведь недоразумение не может породить трагедию. Из недоразумения может получиться водевиль. Трагедия, о которой мы узнаем, возникает не из-за того, что герои не хотят толком понять друг друга, а из реальных жестоких и неминуемых столкновений человека с эпохой.
Это реальное жестокое и неминуемое столкновение в романе и есть трагедия.
Но столкновение происходит не на той теме, которая предлагается.
Предлагаются зависть, заговор чувств...
Все это оказалось не очень важным, не очень верным и очень скоро потерявшим значение.
Важным оказался конфликт значительный и точно написанный, конфликт подлинный, а не мнимый, и этот конфликт заключался в том, что при замещении одного общественного слоя другим гибнут люди, умирают концепции, рождаются концепции, разрушаются иллюзии, рождаются иллюзии.
Зависть же и заговор чувств - это лишь синонимы, лишь метафоры конфликта. Конфликт без синонимов и метафор и был бы такой: поэт и Толстяк. И чем дальше уходят реальные частности эпохи, тем меньшее значение имеют реальные частности спора, но не теряет значение конфликт человека и государства и не уходит в небытие конфликт поэта и общества.
В этом конфликте важно то, что Кавалеров умен, талантлив и значителен. Важно то, что в другую эпоху он мог бы сделать многое, что в другую эпоху главным были бы не все раздавившие Толстяки, а сдерживающая разнузданные инстинкты диктатуры оппозиция, что разные эпохи ищут в людях разные качества, и, если в эпоху разнузданных инстинктов диктатуры Кавалеров пьяница и куплетист, то, может быть, в Риме он был бы Брутом или Периклесом в Афинах. Ведь тот, рожденный в оковах, кого поэт видел Брутом и Периклесом, был тоже осмеян, освистан, ошельмован, объявлен безумцем. Кавалеров талантлив и умен. Если бы он был бездарен, то не было бы конфликта и не было бы романа. Если он только завистник, то социальная драма разрушается и начинается физиологический очерк, быт, нравы, характеры, случаи из жизни.
Настоящий конфликт это, конечно, такой: "поэт и толпа".
Но, конечно, Олеша не может решиться на этакое дело. Поэтому он немножко улучшает толпу и немножко ухудшает поэта. В результате означенных мероприятий конфликт тоже становится немножко меньше.
Но это не всегда хорошо получается.
Иногда даже получается совсем не то, что хочет писатель.
Например, писатель хочет показать, какой мерзавец отрицательный герой Кавалеров, а показывает, какой мерзавец положительный герой Бабичев.
Сначала все идет хорошо.
Конечно, чего ждать от человека (т. е. Кавалерова), который не только оклеветал своего благодетеля (т. е. Бабичева), но даже бросил тень на честь девицы?
От такого человека ничего хорошего ждать нельзя.
И прекрасно. Ведь именно это и нужно было, чтобы книга, наконец, стала художественной.
Но потом оказывается, что все не так замечательно, как хотелось бы и, несомненно, могло быть.
И вот уже в драме "Заговор чувств", сделанной Ю. Oлешей по роману "Зависть", упомянутый благодетель действительно соблазняет указанную девицу, оставаясь при этом совершенно положительным.
Позвольте, но в таком случае Кавалеров, высказывающий в романе предположение, что "Андрей Петрович успеет побаловаться Валей в достаточной степени...", вовсе не оклеветал положительного благодетеля и не был уж так далек от истины?
В романе баловства не было. Чего не было, того не было.
Но уже был человек, который мог побаловаться.
Для того чтобы уклониться от всех этих конфликтов, социальных драм, навязших в зубах мировых катастроф, из-за которых всегда возникает ряд дополнительных трудностей, больше того - вообще вся жизнь утрачивает свое подкупающее обаяние, люди сочиняют утешительные концепции.
Про Юрия Олешу сочинили такую.
Зачем конфликты, социальные драмы и мировые катастрофы?
В самом деле?
Мы же знаем, что ничего подобного не было.
То есть было, но при чем здесь Олеша?
Никаких социальных драм и мировых катастроф. Жизнь и так необыкновенно сложна. А эти драмы так мешают, так мешают жить и издаваться часто и большими тиражами.
Все, все выглядело совершенно иначе.
Добрые дяди с безупречной репутацией из дружбы к Олеше, с мягкой улыбкой разбивая стекла, уверяют, что их приятель никогда в жизни даже не произнес слова "конфликт", а так называемые "мировые катастрофы" вообще были вне его поля зрения.
Юрий Карлович, будучи легко ранимым человеком, совсем не собирался писать о конфликтах и катастрофах и еще Бог знает о чем, а просто, без всяких хитростей или жульничества скромно хотел к уже имеющимся произведениям мировой литературы на разные темы прибавить нечто свое. В самом деле, отчего бы к великим произведениям о грандиозных человеческих страстях - любви, ненависти, честолюбии, алчности - не прибавить художественное изображение зависти? Ну, как у Шекспира о честолюбии или там у Мольера о скупости. Пушкин, Бальзак. Понятно? А Олеша о зависти. Потому что о зависти, в общем, никто толком не написал, хотя некоторые (Эсхил, Тассо, Диккенс, Лев Толстой) крутились где-то совсем рядом. Действительно, почему бы не прибавить? Я тоже часто подумывал об этом. Но едва я успел об этом подумать, как лучший знаток жизни и творчества Юрия Олеши Л. Славин сразу сказал: "К мировым произведениям о больших страстях - о ревности, о честолюбии, о любви, о скупости Олеша захотел прибавить поэтическое исследование зависти. Вскрыть не только его психологические, но и общественные корни". Сказано - сделано. Захотел и прибавил. "Мне кажется, продолжает Славин, - что это ему удалось на очень высоком уровне ". В самом деле, Юрий Олеша берет и прибавляет к великим произведениям о великих страстях произведение о зависти. Не только Л. Славин, но и многие другие находят, что у него это тоже хорошо получилось. И сам Олеша был не плохого мнения о себе. "У меня есть убеждение, - потупившись, как-то шепнул он, что я написал книгу ("Зависть"), которая будет жить века". И потом уже громче добавил: "У меня сохранился ее черновик, написанный мною от руки. От этих листов исходит эманация изящества". И снова потупившись: "Вот как я говорю о себе"1.
Именно потому, что в произведении есть невыдуманный конфликт, писатель может подвергнуть своего героя всяческим испытаниям - на крепость, на стойкость. Но, обеспокоенный натиском противников Кавалерова, автор начинает подыгрывать победителям. Он придумывает своему герою толстый нос, пиджак с оборванными пуговицами и душевную нечистоплотность. Для того чтобы показать недоброкачественность идеологии Николая Кавалерова, писатель устраивает ему моральное разложение.
Все это уступки, боязнь серьезного спора, попытка ускользнуть.
Но в произведении есть невыдуманный конфликт, и трагизм романа в том, что герой не может проявить своего ума, таланта и значительности в обстоятельствах, созданных Бабичевым.
Кавалеров не может стать героем бабичевского времени.
Пристально и тревожно всматривается поэт в проносящуюся мимо, лязгающую железом историю.
"...глаза, - говорит поэт, - единственное, что у меня есть. Одни глаза. Больше ничего. Я все вижу"2.
1 Юрий Олеша. Ни дня без строчки. Из записных книжек. М., 1965, с. 161.
2 Юрий Олеша. Заговор чувств. Пьеса в четырех действиях и 7-ми картинах. На правах рукописи. "Модпик", с. 52.
Ему показывают колбасу. Но он все видит.
Писатель уступает, оглядывается, уверяет, что его неправильно поняли. Он дает понять, что человек с толстым носом вообще не может быть героем. Это, конечно, заблуждение дилетанта. На самом деле все было не так. Научно установлено, что толстые носы фридриховских полководцев во время Семилетней войны по мере продвижения в Силезию (1756-1763) начали методически выравниваться, а после исторической победы под Фрейбергом немедленно стали римскими (1762). Чувствуется, что писатель не знает этого научного факта.
Но в эти годы уступки писателя еще не носили разрушительного характера, и сложная противоречивость романа была связана преимущественно не с ними. Она была связана с тем, что Кавалеров жил в переломную эпоху, а переломная эпоха это такая, которая переломлена на старую и новую. И в этих еще не соединившихся частях Кавалеров - из старой эпохи. Трагизм перелом-ных эпох в том, что люди старой эпохи не входят в новую естественно и легко, что многие люди сламываются и уничтожаются этой сменой. Если бы люди одной эпохи без тяжелых усилий могли стать людьми другой, то не было бы революции. Преемственность и наследственность истории заключается не в том, что все люди до революции делают одно, а после нее начинают делать другое, а в том, что после революции часть людей продолжает дело, начатое до нее, старается на свою сторону привлечь как можно больше союзников и уничтожает сопротивляющихся.
Что же касается Кавалерова, то Олеша говорит, что в его "лице... хотел изобразить представи-теля той части интеллигенции, которая находится на бездорожьи. Лучшие и умнейшие найдут новые пути, а те, которые не смогут отказаться от своего высокопарного "я", обречены на гибель"!1 К какой части интеллигенции, стоящей на бездорожьи, - к той ли, которая может отказаться от своего высокопарного "я", или к той, которая не может этого сделать, относится Кавалеров, Олеша не говорит.
1 Ю. Олеша. Заговор чувств. Пьеса в 7-ми картинах. М., 1930, с. 11.
Через четыре года после этой декларации писатель высказывается более решительно. Он заявляет: "Кавалеров смотрел на мир моими глазами".
Писатель защищает своего героя, но от гибели не спасает. Он заставляет его совершать отвратительные поступки, но восхищается его поэтичностью и верой в свою правоту.
Происходит нечто такое, что привычно называется "противоречием".
Противоречие возникает между неким явлением, именуемым "индивидуализмом" (в романе это тоже называется "завистью"), к которому писатель считал себя обязанным относиться отрицательно, и реальным человеком в реальных исторических обстоятельствах. В судьбе этого человека писатель был лично заинтересован. Противоречие возникло от безвыходного положения. Но главное оставалось незыблемым: поэт общество, борьба поэта и общества. В реальных исторических обстоятельствах, человек, не отказавшийся от своего "я", мог быть только небритым поэтом, верящим в свое высокое назначение и в свою правоту, не находящим себе дела, не вынесшим позора мелочных обид, задыхающимся от отчаяния, погибающим.
Реальный, жестокий и неминуемый конфликт в романе Юрия Олеши "Зависть" происходит не из-за невразумительного недоразумения с чувствами, а из-за права на победу.
Право на победу в социально-метафорическом романе Юрия Олеши называется "завистью".
Николай Кавалеров завидует тем, "которых созвали ради большого и важного дела", он осознает "полную ненужность... оторванность от всего большого..." Ему хочется туда, на "эту недостижимую сторону". "Я оттуда", кричит он. "Вы не оттуда", - холодно отвечают ему. Щемящей, тоскующей фразой жалуется изгнанный человек: "Но праздник, шумевший там, манил меня".
Кавалерову не досталось славы, успеха, дела. Все это досталось бездарностям и ничтожествам. Среди них ходит Жюльен-Сорель-Кавалеров. Он растерянно говорит о молодости века, о своей молодости. Он не понимает, что его век, как и за сто лет до него век Сореля, прошел. Революция закончена. Наполеон томится на острове. Пришло время людей настойчивых, холодных, не брезгающих ничем. Абстрактный конфликт человека и общества, существующий во все времена, в реальных условиях диктатуры приобретает точное выражение: победа отбирается у значительного человека и отдается бездарному. Это происходит в послереволюционном государстве, и кажется особенно отвратительным потому, что самую серьезную переоценку ценностей совершает именно революция. Но реставрация - и одно из важнейших ее проявлений невозможность полного самораскрытия человека - к революции отношения не имеет. Она имеет отношение к послереволюционному государству, которое неминуемо возникнет в результате неизбежного перерождения революции. Это неопровержимый закон всех революций, связанный с тем, что они должны создавать мощное государство для того, чтобы защитить себя. Но мощное государство создается для того, чтобы своей мощью раздавить все, что ему мешает, и поэтому оно может быть только государством диктатуры. Такое государство оказывается естественным следствием революции, но к намерениям, с которыми совершается революция, оно отношения не имеет.
Зависть в романе Юрия Олеши это лишь условное название очень широкого круга чувств, состояний, отношений, коллизий.
В эту эпоху Бабичев создает прославившую его колбасу.
Славу колбасника Кавалеров презирает.
Олеша показывает, что такое настоящая слава: немецкий футболист Гецкэ, пролетающий в романе коротко и стремительно, как мяч. Это западная индивидуальная, старая слава. Гецкэ был человеком, который "дорожил только собственным успехом".
О чем же роман? Ведь не о том же, чья слава слаще - директора треста пищевой промышлен-ности или спортсмена.
В романе Юрия Олеши завистью называются разные вещи. Но чаще всего завистью называется неудовлетворенная жажца справедливости. "Почему ты ездишь в автомобиле, а я хожу пешком?" Писатель спрашивает: у кого больше права на победу, кто прав?
Почему Андрей Бабичев ездит в автомобиле и проходит на аэродром, а Иван и Кавалеров ходят пешком и на аэродром их не пускают? Это совершенно ясно: все это происходит потому, что Андрей был на каторге, совершал революцию и теперь получил власть.
Но в романе не сказано главное: что же изменилось от того, что власть у одних людей была отобрана другими людьми, что же произошло из-за смены власти, что же дала революция.
В романе не сказано, что революция отобрала власть у худших и передала ее лучшим.
Надо же понять, что смысл и назначение революции - во благо.
Одно из условий возникновения революции заключается в том, что огромное большинство людей и среди них наиболее значительные, мыслящие и талантливые не могут с достаточной полнотой выразить себя.
Революция может начаться тогда, когда голодают и не хотят работать крестьяне, когда голодают и бастуют рабочие, когда остатки еще не сдавшейся, еще не продавшейся интеллиген-ции предпочитают смерть рабству, когда властители прячутся в дворцах за крепостными стенами и рвами, когда грохочет военщина, хохочут над своими законами законодатели и ненависть всех ко всем сжигает сердца. Тогда может начаться революция. И она нужна для того, чтобы огромному большинству людей стало лучше и свободнее жить. И только это может быть мерой необходимости и правильности революции.
Но если огромное большинство людей и особенно самые значительные, мыслящие и талантли-вые снова утрачивают возможность полного социального самовыражения, то это значит, что революция исчерпала себя. Некоторые современные государства ведут свое начало от революции. Но они считают, чтo революция, приведшая их к власти, - конечно, последняя.
С горестью и неохотой расстается художник со своими героями, ощущениями, волнениями. И этой неохотой предопределена последовательность и связанность его пути. Из книги в книгу несет художник свои любимые мысли, метафоры, наблюдения, воспоминания, краски, слова, героев, ощущения, волнения.
Из "Трех толстяков" Юрий Oлеша взял слово "зависть".
До того как это слово стало названием и главной метафорой самого значительного произведения писателя, оно появилось в первом его романе.
"Зависть - дурное чувство" - наставительно сообщено в романе-сказке голосом сказочника.
"...нас гложет зависть... Ужасна изжога зависти. Как тяжело завидовать! Зависть сдавливает горло спазмой, выдавливает глаза из орбит", "...да, зависть. Тут должна разыграться драма, одна из тех грандиозных драм на театре истории, которые долго вызывают плач, восторги, сожаления и гнев человечества", - сказано в социальном романе голосом, полным тревоги. "Я говорю о зависти... О, как прекрасен поднимающийся мир, о, как разблистается праздник, куда нас не пустят!" - голосом, полным горечи и тоски, говорит изгнанник.
Через годы писательского пути проходит метафора "зависть".
Метафора сопоставляет эпохи и оценивает их.
"Кончается эпоха... Ворота закрываются". "Погибающая эпоха завидует тому, что идет ей на смену".
Это говорит писатель, который знает, что "...в глазные прорези маски мерцающим взглядом следит за нами история".
На метафоре зависти строится главный конфликт романа, главный конфликт творчества Юрия Олеши - конфликт поэта и общества.
Конфликт поэта и общества вводит роман в систему важнейших проблем литературы и не связывает его только с частным случаем десятилетия.
В самых ответственных местах писатель извлекает из метафоры корень первоначальных значений.
Последовательность и связанность пути Юрия Олеши были определены событиями истории - революцией, гражданской войной, нэпом, послереволюционным государством диктатуры пролетариата.
Поэтому после книги об интеллигенции и революции он пишет о сложной и важной проблеме взаимоотношений интеллигенции и послереволюционного государства.
Писатель знает: как в предреволюционном обществе скрыта революция, так и в революции есть все, чему суждено быть после нее: революционное государство, общество, институты, идеология.
Писатель начинает догадываться, что революция легко уничтожает старых Толстяков, но широко открывает ворота новым.
Он настаивает на серьезной оценке взаимоотношений интеллигенции и государства. В своем романе он показал неудачные, но симптоматичные варианты этих взаимоотношений: пути, уводящие с исторического театра, и пути, ведущие к перерождению и культу властителя.
Юрий Олеша не исчерпал всех возможностей и не сказал о пути, о железной дороге, по которой зашагала история, оставляя за собой насыпи узкие, столбики, рельсы, мосты и отдельные составные части скелета (косточки).
Он не сказал об этом пути, потому что думал в те годы естественно и просто и не обманывая себя и других. Он еще думал, что человек должен делать только то, что он может делать хорошо, и то, что он считает нужным делать. Олеша оправдывался: "В то время... страна строила заводы... Это не было моей темой... Я не был в этой теме настоящим художником. Я бы лгал, выдумывал; у меня не было бы того, что называется вдохновением. Мне трудно понять тип рабочего, тип героя-революционера... Это выше моих сил, выше моего понимания. Поэтому я об этом не пишу"1.
1 Первый Всесоюзный съезд советских писателей. Стенографический отчет. М., 1934, с. 235-236.
И действительно, об этом он не писал. Но после того как критика выразила "Зависти" некоторое неудовольствие, Юрий Олеша стал писать немного иначе. Даже в "теме", где он был "настоящим художником".
Писатель старается объяснить, что его неправильно поняли. Что он вовсе не хотел. Ну, как не так. Это уже попахивает передержкой. Вот именно.
Сдаваясь,он написал второй вариант "Зависти". Этот вариант называется "Заговор чувств" и представляет собой инсценировку романа.
В инсценировке сохранены главные герои и повторены основные события "Зависти". Но в отличие от романа, где не все было ясным, в пьесе становится ясным все. Из пьесы мы узнаем, что Кавалеров - ничтожество и мерзавец, а Андрей Бабичев - замечательный человек и герой.
При инсценировании роман искажается очень легко. Мастер достигает этого с помощью минимума выразительных средста.
Наиболее простой и безошибочный способ заключается в передаче реплик одного действую-щего лица другому. Так, реплики, которые в романе принадлежали Кавалерову и должны были выражать его глубокую поэтичность, теперь переданы Бабичеву для выражения того же.
В романе Кавалеров говорит:
"Комната где-то когда-то будет ярко освещена солнцем, будет синий таз стоять у окна, в тазу будет плясать окно..."
А в драме Олеша не дает Кавалерову говорить поэтические слова.
Теперь их говорит Бабичев.
Бабичев. - Смотрите, какой синий таз. Красота! Вон там окно, а пожалуйте, если нагнуться, то видно, как окно пляшет в тазу...
В некоторых случаях реплики не передаются, а изменяются таким образом, что герой опять же становится очень нехорошим человеком.
В романе герой, о котором еще не известно, хороший он человек или плохой, говорит:
"Я хотел бы родиться в маленьком французском городке, расти в мечтаньях, поставить себе какую-нибудь высокую цель и в прекрасный день уйти из города и пешком прийти в столицу и там, фанатически работая, добиться цели. Но я не родился на Западе".
(Это напоминает молодого Растиньяка, собирающегося завоевать Париж, а также молодого Олешу, устремившегося из Одессы в Москву.)
В драме последняя фраза исправлена:
"Но, к сожалению, я родился в России".
Из этого соображения становится совершенно ясным уже на первых страницах, что Кавалеров очень плохой человек.
В романе этот человек говорит, что убьет Бабичева. Он говорит это, получив от Бабичева пощечину. Можно предположить, что в таких случаях всегда говорят что-нибудь в высшей степени радикальное. Например: "Провались ты сквозь землю". Или: "Черт бы тебя взял". Или: "Чтоб ты сдох". Или что-нибудь еще в этом роде. Хотя каждый человек, не склонный ввязываться по любому поводу в спор, вероятно, согласится, что ни один из намеченных вариантов, в сущности, совершенно не реален.
В пьесе Кавалеров абсолютно серьезно собирается убить Бабичева и даже припасает для этого бритву. Но так как он жалкий человек, которому ничего не удается, то естественно, что в самый решительный момент он "уронил бритву" и произнес нижеследующие слова:
"Что ж... теперь и я прошу минутку внимания... Андрей Петрович, я поднял на вас руку... и не могу... судите меня... накажите... выколите мне глаза... я хочу быть слепым... Я должен быть слепым, чтобы не видеть вас... вашего праздника... вашего мира".
А в театре сделали даже еще лучше: там решили, что этого недостаточно, и эту самую оброненную бритву подняли и стали резать ею колбасу. И это, конечно, была та самая колбаса, которую вывел Андрей Бабичев.
Олеша отступал.
Он уступал людям (я имею в виду критиков из правления РАППа), которые считали, что искусство только тогда бывает хорошим, когда выполняет требования, которые ему предъявляют соответствующие инстанции (правление РАППа).
Это было одним их первых отступлений Юрия Олеши.
Но уже тогда становилось ясным, как бесплоден, опасен и непростителен этот путь.
Тревожно всматривается писатель в проносящееся мимо десятилетие, ударов которого ему не удалось избежать.
Глаза - единственное, что есть у писателя. Одни глаза. Он все видит.
Для того чтобы правильно оценить век, нужны лишь обычные, нормальные, не склонные зажмуриваться или расширяться глаза. Люди, не обладающие такими глазами, смотрят на век априориями, схемами, преднамеренностями и предвзятостями. И поэтому они видят то, чего нет, не видят то, что есть.
Но бывают минуты, когда, ослепленный событиями, сообщениями о событиях, писатель прикрывает глаза, как будто его поразил необыкновенной яркости свет.
Тогда ему кажется, что все прекрасно; кроме того, он считает, что не следует лить воду на вражескую мельницу, говоря все, что видит.
И тогда он наспех посрамляет героя, загоняет его в угол, сует ему в руки бритву и торопливо нахлобучивает на роман конец, как на пьяного Кавалерова шапку.
Но главная коллизия романа остается угрожающе неразрешенной, и поэтому роман не мог быть завершен.
Эта неразрешенность, незаконченность возникла из-за того, что писатель не решился выбрать. Он не мог решиться, потому что выбирать приходилось между людьми, из которых один был не нужен, а другой - опасен.
Опасный герой, не сомневающийся в своем высоком предназначении, заканчивает пребывание в романе величественным жестом: он протягивает руку девушке.
Ненужный герой, сомневающийся во всем, "уползает" из произведения, "как насекомое, сложившее крылья".
Но до того как опустить крылья, опустить руки, уйти навсегда, поэт получает последнюю возможность выбора.
Перед ним впервые и на мгновенье распахнулась неповторимая возможность... "...Он почувст-вовал, что вот проведена грань между двумя существованиями... порвать, порвать со всем, что было... сейчас, немедленно, в два сердечных толчка, не больше, - нужно переступить грань, и жизнь, отвратительная, безобразная, не его - чужая, насильственная жизнь останется позади..."
Но преображения не происходит.
Юрий Олеша не подменяет одного героя другим и роман о ненужном герое романом о нужном.
Поэтому Юрий Олеша не может позволить себе даже немногое: дать своему герою тихо и разочарованно уйти из романа.
Поэта выгоняют из книги, выталкивают.
Автор знает, что не одно и то же - выгнанный и ушедший сам человек.
Выгнанный человек хочет вернуться.
Кавалеров возвращается.
Это нужно для того, чтобы создать безвыходность.
"Как трудно мне жить на свете", - говорит Кавалеров на первых страницах романа. "Как трудно мне жить на свете", - повторяет он на последних страницах.
Кольцом этих фраз сдавлена жизнь поэта. Она выделена этими фразами из действительности, из существования других людей, как обведенное, одинокое, не связанное с миром яблоко на холсте кубиста.
Поэт погибает.
Перед тем как погибнуть, другой поэт, великий художник Александр Блок написал: "...сейчас у меня ни души, ни тела нет, я болен, как не был никогда еще...
...Слопала-таки поганая, гугнивая, родимая матушка Россия, как чушка своего поросенка"1.
Толпа была сильнее поэта.
Смерть поэта в русской истории - это убийство поэта.
Поэта убивают за его свободный, смелый дар.
Смолкают звуки чудных песен в предгорьи трусов и трусих.
Тяжек жребий русского поэта.
Писатель, создавший роман о трудной и горькой жизни поэта, еще писал иногда правду и еще не всегда боялся ее, и не часто придавал ей значения иного, чем то, которое ей свойственно.
Просто, честно и трезво смотрел еще писатель в эти годы на мир.
Он еще понимал в те годы, что правда - это когда человек говорит то, что он думает, стараясь как можно ближе подойти к истине.
Он еще не ясно представлял, во что может превратиться истина, когда от нее требуется "высшая правда".
Спаси нас Бог от "высшей правды", во имя которой одна часть человечества, не верящая ни в какую правду, обманывает и убивает другую часть человечества, обманывающую только себя.
1 См.: Письмо А. Блока от 26 мая 1921 года.
ЦВЕТОК, САДОВНИК, УЗНИК И КАМЕНЩИК
После "Зависти" Юрия Олешу ругали долго и дружно, и от души желали ему всяческих благ.
Один замечательный негодяй - известный советский критик Корнелий Зелинский даже "видел Олешу во сне"1.
Критику снилось: что именно надлежит предпринять, чтобы Олеша начал, в конце концов, писать, как следует.
Ему желали добра. И только добра.
Несмотря на таких авторитетных защитников "Зависти", как Ермилов и Эльсберг, критики все же не безоговорочно восхищались романом. Но Ермилов и Эльсберг - два самых популярных в ту отдаленную эпоху стукача - были, конечно, умнее, прогрессивнее и дальновиднее.
В этом смысле даже такой необыкновенно чуткий, хорошо осведомленный, умный и прогрес-сивный, но, увы, менее дальновидный критик, как Корнелий Зелинский, стоял, несомненно, на более отсталых позициях. Несмотря на это, он старался помочь как мог, и часто ему это действительно удавалось. Особенно там, где возникали сложнейшие вопросы социологии, философии и поэтики. Автор "Змеи в букете" старался объяснить Юрию Олеше, что "метафора может быть пролетарской, но может быть и буржуазной"2, и настойчиво убеждал брать пролетарскую.
1 Корнелий Зелинский. Змея в букете, или О сущности попутничества. В кн.: Критические письма. М., 1932, с. 127.
2 Там же, с. 136.
Юрий Олеша сначала отказывался.
Он хотел писать так, как писал "Зависть", не выбирая.
Как протянутые тоскующие руки тянутся к "Зависти" рассказы, собранные в книге "Вишневая косточка".
Роман не был исчерпан, потому что взаимоотношения интеллигенции и послереволюционного государства были сложны и драматичны, и эти взаимоотношения еще не очень пытались представить в виде пасторали, полной грации и изящества.
Еще не пришел грозный год великого перелома, еще только начиналось массовое уничтожение людей, еще только забрезжили в зарозовевшей заре сверкающие вершины великого ума, но уже с этих вершин с нарастающим свистом стали съезжать деятели в крепких челюстях, готовые уничто-жить все, что считали ужасно вредным и страшно опасным, и торопящиеся затопить страну, недавно пережившую революцию и гражданскую войну, лопающимися, хлопающими фразами о безудержных успехах, безостановочных ликованиях, необыкновенных завоеваниях, невиданных свершениях, невидимых урожаях и несравненных триумфах. Но они еще только спускались с сияющих и льдистых вершин в темные низменности отечественной истории, и до прихода основных сил еще можно было серьезно думать, и даже говорить и писать о том, что в стране, пережившей революцию и гражданскую войну, победители уничтожают побежденных, подавляет-ся общественная оппозиция и что между художником и государством идет глухая, а иногда и открытая борьба.
Формула "интеллигенция и революция" подразумевает близость интеллигенции революции и враждебность ее государству, против которого направлена революция. В послереволюционном государстве старое значение формулы должно потерять смысл, потому что между интеллигенцией и государством должны быть исключены враждебные взаимоотношения.
В таком случае после победы революции те взаимоотношения, которые создает концепция "интеллигенция и революция", должны исчезнуть.
И действительно, когда революция завершилась и послереволюционное государство оконча-тельно приобрело форму диктатуры пролетариата, то есть, когда заканчивался нэп и начинались индустриализация и коллективизация страны, тема интеллигенции и революции прекратила свое существование. Завершилась одна из важнейших и драматичнейших эпох в истории русской общественной жизни. Отличие этой эпохи от последующей заключалось в том, что в эти годы интеллигенция еще имела строго определенное положение и позицию: между интеллигенцией и революцией шел спор, и интеллигенция была стороной в споре.
Но судьбу интеллигенции определил не нэп и его завершение. Влияние социологии, филосо-фии и быта нэпа имело чрезвычайное значение, но было несравненно менее важным, чем события последующих лет: победа над оппозицией во внутрипартийной борьбе, индустриализация и коллективизация, концентрация власти, безоговорочная диктатура государства, уничтожение демократии, разгул террора, господство тирании.
Медленно поворачивается десятилетие в книгах Юрия Олеши.
После "Зависти" Олеша еще продолжает писать, полагая, что у него осталось что-то вроде концепции и надежды.
Вероятно, он еще не все понимал. По-видимому, с ним случилось нечто похожее на то, что в свое время произошло с матросом в киплинговском рассказе.
Матрос сорвался с реи и упал за борт. Плыли акулы. Белая акула откусила матросу ноги. Его подняли на палубу. Подпрыгивая на обрубках, матрос приблизился к капитану и доложил.
Он думал, что ничего не произошло.
Он упал, обливаясь кровью, не закончив рапорта.
Юрий Олеша еще продолжал писать, стараясь не думать о том, что с ним произошло нечто непоправимое. Он торопился, потому что пока можно было делать вид, будто ничего особенного не произошло, и можно было с достоинством отступать на вполне приличные позиции.
Из двух тем - интеллигенция и революция и интеллигенция и послереволюционное государство, - определивших борьбу Юрия Олеши, первая к началу 30-х годов оказалась исчерпанной, а вторая (как ее представлял писатель) не вполне желательной.
Еще возможный в эпоху "Зависти" конфликт поэта и общества (или, по крайней мере, возмож-ность говорить о нем) становился также все более нежелательным. Лучше было писать не о нем, а о чем-нибудь другом. Читатели и особенно критики, которые созданы специально для того, чтобы точно формулировать, что именно необходимо читателям, все время настойчиво говорили об этом.
Как и роман, рассказы "Вишневой косточки" построены на борьбе старой и новой эпох, и эта борьба, как и в романе, ведется в сфере моральных категорий и в сфере человеческих чувств.
Но, в отличие от "Зависти", где один человек был носителем чувств старой эпохи, а другой человек носителем чувств новой и между этими людьми шла борьба, в рассказах "Вишневой косточки" чувства старой и новой эпох совмещаются в одном человеке. Юрий Олеша сдался еще раз. Вместо борьбы государства и общества оставались лишь внутренние противоречия в душе отрицательного героя, который хочет (и скоро станет) положительным.
Юрий Олеша, принадлежа к интеллигентному сословию, хорошо знает, что такое внутренние противоречия.
Сразу же после "Зависти" он пишет рассказ "Человеческий материал", в котором до того, как наладить внутреннюю борьбу своих героев, говорит о том, как тяжело пережил ее сам.
"Я хватаю в себе самого себя, хватаю за горло того меня, которому вдруг хочется повернуться и вытянуть руки к прошлому. .. - заявляет писатель. - Я хочу задавить в себе второе "я", третье и все "я", которые выползают из прошлого".
В этом признании было пророческое забегание вперед, ибо желание схватить за горло, зада-вить в себе "я" и другие части организма даже опередило аналогичную потребность Народного комиссариата внутренних дел СССР.
Произведения, написанные после "Зависти", становились все безнадежней.
Все быстрей и все неотвратимей отмирают чувства, вещи, частицы мира, плоти.
"С каждым днем количество вещей уменьшалось... Сперва количество вещей уменьшалось по периферии, далеко от него, - затем уменьшение стало приближаться все скорее к центру, к нему, к сердцу - во двор, в дом, в коридор, в комнату... Исчезли страны, Америка, возможность быть красивым или богатым, семья..."
"Так создается одиночество - навсегда, одинокая судьба, удел человеку оставаться одиноким везде и во всем".
"Я очень стар... мне тридцать один год..."
Идут годы, меняется время; что-то происходит не то с возрастом человека, не то со временем. Олеша думает, что с возрастом.
Незначительными и ничтожными становятся люди в зрелости. Но какими тонкими были они в детстве, какой сложной была система души маленького человека, как много он знал, сколь многим интересовался, сколь малым из житейских забот был занят.
Умен, интересен и своеобразен маленький герой рассказа "Лиомпа".
"...мальчик действовал совершенно по-взрослому, больше того, он действовал так, как может действовать только некоторое количество взрослых: он действовал в полном согласии с наукой".
Вот во что превратился герой рассказа "Цепь":
"Посмотри на меня, так недалеко удалился я от тебя, - и уже, смотри: я набряк, переполнил-ся... Смотри, как мне трудно бежать..."
Рассказы "Вишневой косточки" трагичнее и безвыходней "Зависти", потому что Олеша видел, как все непоправимей расходится его искусство с тем, что от него требует государство.
Юрий Олеша (чуткий художник) уже предчувствовал неотвратимость выбора между искусством и властным требованием эпохи.
Но раньше, чем решиться выбрать, Олеша попытался искусство и намерения примирить.
Эта попытка явственна во всей книге и особенно очевидна в рассказе "Вишневая косточка", не только давшем название всему циклу, но и характерно окрасившему его.
За годы, прошедшие между "Завистью" и рассказом "Вишневая косточка", Олеша, вдумчиво и сосредоточенно изучая мир, пришел к выводу, что в условиях индустриализации железобетон и вишневые деревья могут жить, не вступая в вооруженный конфликт.
В рассказе "Альдебаран", написанном через два года после "Вишневой косточки", в 1931 году, Олеша вновь подтверждает свой вывод: оказывается, хорошо уживаются также звезды и республика.
Наконец, в это же время административно-хозяйственный жеребец Андрей Петрович Бабичев, любящий топать ногами и сажать в ГПУ, Андрей Петрович Бабичев, у которого, как известно, "нет воображения", совершает некоторую эволюцию, и превращается вовсе не в Каина, как это можно было естественно предположить, а в кроткого Авеля (такое имя у героя рассказа), у которого воображение есть и который взывает к чужому воображению. "Я надеюсь, что у вас есть воображение. Воображайте, не бойтесь!!!" - разрешает, даже требует Бабичев-Авель в "Вишневой косточке". (Этому не следует удивляться: изменилась историческая обстановка и тов. Бабичева бросили на другой участок.)
Из "Зависти" в рассказы "Вишневой косточки" Олеша перенес не только конфликт, но и недоразумение.
Когда человек читает книгу, он как бы уславливается сам с собой. Он говорит себе: "Это Толстой". Или: "Это Свифт", или: "Это Мандельштам". Читающий человек считается с тем, что это Толстой или Свифт, или Мандельштам, то есть он принимает во внимание особенности манеры писателя, он настраивает свое восприятие именно на этого писателя.
Читательское восприятие настраивается на волну, излучаемую произведением.
Поэтому следует считаться с юрисдикцией каждого писателя, не искать того, чего у него нет, не требовать во всех случаях психологии и только за нее ставить писателю памятник.
Точно так же не от всех замечательных писателей должно требовать замечательных метафор и осуждать за отсутствие таковых или говорить о ничем не замечательных метафорах, что они замечательные, и поэтому нельзя любить Пушкина за то же, за что любят Гоголя.
Особенность писательской манеры Юрия Олеши заключается в том, что он берет схематичес-кий минимум социального явления и наращивает на него плоть (метафоры). При этом социальная схема почти всегда проступает вполне отчетливо, несмотря на густой слой метафор. Все это оказалось не трудно разрешимым противоречием, а естественным свойством творчества писателя. Достаточно традиционный мастер, никогда не посягавший на художественный норматив своего времени, Юрий Олеша неожиданно обращается к одному из характернейших приемов современ-ной живописи: он показывает существование скрытых поверхностью форм. В произведениях Юрия Олеши создается условная комбинация идей, которую разрешают живые, страдающие, мучающиеся, мечущиеся, добрые, злые, хорошие и плохие люди. И поэтому ложные конфликты, конфликты-недоразумения его книг это не литературная неудача, а независимые от автора реальные обстоятельства, определяющие замысел.
Конфликты-недоразумения бывают поразительными по простоте и легкости, с которой они могут быть разрешимы.
Железобетонный корпус, оказывается, следует расположить полукругом, и тогда отпадает необходимость рубить вишневый сад.
В "Вишневом саде" Чехову не удалось совместить новые общественные отношения с поэзией, и в результате "слышится отдаленный звук, точно с неба, звук лопнувшей струны, замирающий, печальный. Наступает тишина и только слышно, как далеко в саду топором стучат по дереву". А в "Вишневой косточке" у Олеши досадное недоразумение немедленно преодолевается, и рассказ заканчивается совсем иным звуком, нежели звук лопнувшей струны.
Рассказ заканчивается звуком топнувшей ноги: "Он (Авель. - А. Б.) остановился, взмахнув ногой. Он взмахнул еще раз. И еще. Он топнул ногой".
(Начиная с "Зависти", многие произведения Юрия Олеши стали заканчиваться звуком топнувшей ноги.)
Следом за ногой идет коротенький рассказ о недоразумении.
"...Дорогая Наташа, - пишет герой "Вишневой косточки" девушке, которую он любит и которая не любит его. - Дорогая Наташа, я упустил из виду главное: план. Существует План. Я действовал, не спросившись Плана. Через пять лет на том месте, где нынче пустота, канава, бесполезные стены, будет воздвигнут бетонный гигант... Весной начнут класть фундамент - и куда денется моя глупая косточка!..
Экскурсанты придут к бетонному гиганту.
Они не увидят вашего дерева...
Письмо это - воображаемое. Я не писал его. Я мог бы написать его, если бы Авель не сказал того, что он сказал.
- Корпус этот будет расположен полукругом, - сказал Авель. - Вся внутренность полукруга будет заполнена садом. У вас есть воображение?
- Есть, - сказал я. - Я вижу, Авель. Я вижу ясно. Здесь будет сад. И на том месте, где стоите вы, будет расти вишневое дерево".
Таким образом, мы начинаем понимать не только социалистический гуманизм индустриали-зации, но и целительный политический конформизм писателя.
Недоразумения в книгах Юрия Олеши чаще всего такие легкие и простые, как будто автор уже в те годы предчувствовал наступление литературной эпохи, для которой был характерен конфликт хорошего с лучшим.
В "Альдебаране" конфликт даже и не недоразумение, а как бы каламбур. Что-то вроде этого. Каламбур этот - так, средней руки.
" - Звезд не было, - сказал он.
- Звезды были... Мы были в планетарии, - сказал Цвибол.
- Техника, - вздохнула Катя".
В рассказе "Любовь" недоразумение проходит не в далеких вариациях, а в главной теме. Недоразумение здесь не случайное и как бы не входящее в намерение автора, а, как чаще всего у Олеши, независимое от него условие, которого он не в состоянии избежать и которое, не избежав, он хорошо подготавливает. Недоразумение заключается в том, что вопрос - что такое истина, решают люди, обреченные из-за неправильного восприятия мира на неправильный ответ - влюбленный и дальтоник.
О том, что влюбленный и дальтоник неправильно воспринимают мир, сказано прямо. "Дальтоник ошибался, но Шувалов (влюбленный. - А. В.) ошибался еще грубее".
Однако дальтоник (существо в высшей степени прозаическое) предостерегает влюбленного поэта. "Вы на опасном пути", - говорит прозаик.
Обостряющийся конфликт поэта и общества, опасный путь поэта тревожил в эти годы не одного Олешу. Пастернак лучше других понимавший, как трудна судьба художника, писал: "Оставлена вакансия поэта: Она опасна, если не пуста".
В споре влюбленного с дальтоником, поэта с прозаиком, все явственней слышна горькая и безнадежная строчка: "Глухой глухого звал к суду судьи глухого..." "Я ем синие груши", - говорит дальтоник, "...когда вокруг вас летают птицы, то получается город, воображаемые линии..." - отвечает влюбленный. "Вы видите то, чего нет", - говорит дальтоник. "Меня бы стошнило от синей груши", - отвечает влюбленный. "Глухой кричал: "Моя им сведена корова!" - "Помилуй, - возопил глухой тому в ответ: - Сей пустошью владел еще покойный дед..."
Писатель думал, что нас никто не понимает. (Это для себя.)
Что мы никого не понимаем. (Для других.)
Что никто никого не понимает. (Для литературы.)
Это уже приобретало подлинную значительность: писатель выходил из частного случая и получал широкое поле.
Широкое поле размышлений о том, что люди не могут сговориться о самых простых и самых важных вещах...
Трагическая тема неразрешимости противоречий поэта и общества в рассказах "Вишневой косточки" становится все более важной.
Она выходит за пределы конфликта соседних - предреволюционных и революционных - эпох и распространяется на всю человеческую историю. Мысли, чувства и ощущения героя автобиографических рассказов и героя рассказов о других людях оказываются сходными, и сами герои повторяют друг друга в характерах, портрете, намерениях и речах.
"Я очень стар", - говорит в автобиографических "Записках писателя" Юрий Oлеша.
"Я очень стар..." - повторяет через год герой его рассказа "Альдебаран".
Неслучайное сходство двух фраз создано неслучайным сходством контекстов.
В обоих рассказах слова о старости окружены воспоминаниями.
"Извещение огромными буквами на первой странице газеты о том, что мир заключен, я прочел сам. А это было заключение мира после Японской войны", вспоминает писатель.
"Я помню, как танцевали в Париже канкан", - вспоминает его герой.
Двадцать пять лет отделяет героя от события в автобиографических "Записках писателя".
Герой рассказа "Альдебаран" спускается под своды истории.
"Я - дело Дрейфуса, - говорит он, - я - королева Виктория, я открытие Суэцкого канала". События отодвигаются на тридцать лет, на полстолетия, на столетие... "Он стал размышлять о веке просвещенного абсолютизма. Герцогиня дю-Барри. Салоны. И многое другое. Директория. Баррас. Возвышение Бонапарта. Госпожа Рекамье. Женщины говорили по-латыни. Игра ума. Нити политики в маленькой ручке. Жорж Санд. Шопен. Ида Рубинштейн". Полтора столетия, столетие... "При других объективных обстоятельствах она (Катя. - А. Б.) - вертела бы историей".
Отход от автобиографии дает возможность писателю конфликт поэта и общества распространить на века, на историю, сделать его вечным.
Автобиографические произведения - "Человеческий материал", "Я смотрю в прошлое", "Цепь", "Записки писателя" - как бы написаны "толстяком на коротких ножках", так похожим на Кавалерова. Между автобиографическими рассказами и рассказами о других людях граница стирается.
Эту границу стирает сам писатель.
Он говорит: я и мой герой это одно и то же.
""...мне трудно бежать, но я бегу, хоть задыхаюсь, хоть вязнут ноги, бегу за гремящей бурей века!" - ...я говорю о себе..."1
Это не было сорвавшимся словом, полемикой, фразой, сказанной в запальчивости. Прошло полтора года после речи на съезде, восемь лет после романа, а писатель все возвращается к этой теме.
Приходят трагические размышления о себе и о мире. Приходит лирика.
В художественных произведениях, в лирике настойчиво и тревожно звучит тема умирания, потерь, трагического конца. "Мысли о смерти образуют никогда не утихающую бурю".
Услышав такое, критика ахнула, но не отвернулась от Юрия Олеши.
Напротив, она протянула писателю спасительную руку.
Как всегда в таких случаях, наиболее предупредительной была братская рука В. Шкловского, лучшего знатока Юрия Олеши и его круга, превосходно чувствующего, что особенно полезно в каждый данный момент:
"Художник (Олеша. - А. Б.) не может охватывать сюжетом вещи.
То есть он не может показать изменения жизнеотношений.
Олеша переходит на систему деклараций. Он рассказывает о своих эмоциях по поводу того, как он не может охватить мир".2
1 Ю. Олеша. Беседа с читателями. - "Литературный критик", 1935, № 12, с. 157.
2 В. Шкловский. Дневник. М., 1939, с. 145.
Олеша переходит на систему деклараций.
В декларациях этого времени Юрий Олеша высказывает очень много бодрых суждений.
"Мы, писатели-интеллигенты, должны писать о самих себе, должны разоблачать самих себя, свою "интеллигентность", - требует Олеша.
Нам, тридцатилетним, порою трудно посмотреть в лицо новому миру, и мы должны вырабо-тать в себе умение расставаться с "высокой" постановкой вопроса о своей личности" - заявляет автор "Зависти" в 1930 году.
А немного позже, в 1934 году, переломном в истории русской литературы году и переломном в творчестве Олеши - в этом году был написан "Строгий юноша", произведение симптоматичное и настораживающее, - бодрые суждения крепчают прямо-таки на глазах.
В это время он, разоблачив себя, написал о том, что стал "инженером человеческого материала".
Это произошло сразу же после того, как другой известный писатель Иосиф Виссарионович Сталин написал о том, что писатели - инженеры человеческих душ.
Став инженером, Олеша заявляет: "Ко мне вдруг, неизвестно почему, вернулась молодость...
я понял, что дело не во мне, а дело в том, что окружает меня. Свою молодость я не утратил... принимая от рабочего и комсомола пожелания, как я должен жить и работать, я знаю, что это не есть тот разговор, когда один говорит, а другой молчит и слушает, а разговор, когда двое, очень близко прижавшись друг к другу, обсуждают, как бы найти наилучший выход... Я не стал нищим. Богатство, которым я обладал, осталось: богатство, выражающееся в знании, что мир с его травами, зорями, красками прекрасен... Этот мир при власти денег был фантастическим и превратным. Теперь, впервые в истории культуры, он стал реальным и справедливым "1.
1 Первый Всесоюзный съезд советских писателей... Стенографический отчет. М., 1934, с. 235-236.
Юрий Олеша старательно убеждает себя в том, что все прекрасно и что ничего особенного не произошло.
В течение некоторого времени ему это удается.
Именно в этот период в творчестве Юрия Олеши появились противоречия, то есть он запел разными голосами: то так, то не так.
Подобные случаи и раньше отмечались в науке.
Известно, что девочки-американки Милли-Христина, родились соединенными в тазовой области. Они вошли в историю под именем "двухголосого соловья" одна из них пела сопрано, другая - контральто.
Они вступили в противоречие.
Упомянутое явление в науке получило название тератология.
Между трагическими рассказами и бодрыми выступлениями писатель перекидывает мост. Может быть, он перекидывает не мост, а роет тоннель, может быть, даже не тоннель, а так, узкий лаз, по которому придется ползти на животе. Может быть. Все может быть. Дело, конечно, не в типе коммуникаций, а в том, куда эти коммуникации привели. Писатель хотел соединить прекрасные намерения с жизненной правдой и получить художественное произведение. Но почему-то у него это стало получаться не всегда достаточно хорошо. Оказалось, что прекрасные намерения требуют совсем другую правду, а в некоторых случаях даже предпочитают вообще обходиться без нее. Что же касается самого художественного произведения, то, как это часто бывает, повышенная роль прекрасных намерений делает второстепенным вопрос о художествен-ных качествах, а иногда даже и о самих художественных произведениях. Было создано некоторое среднее арифметическое между прекрасными намерениями и искусством писателя, строгим и точным (1924-1927 гг.). Началась игра в полуправду. Но какого же художника удовлетворяет полуправда?
Громадное трагическое Мироздание окружило поэта.
Громадное трагическое Мироздание всегда окружало поэтов.
Время от времени в нем раздавались выстрелы и умирали поэты.
Пуля ставила точку в конце путаницы и невнятицы во взаимоотношениях поэта и общества.
Оказывалось, что эти взаимоотношения трагичны.
Не верили, считали - бредни...
Подобные Этне, эти выстрелы, раздававшиеся в предгорье, были выбором, а не признанием вины.
Все яснее становилось, что значит усомниться в правильности соображения относительно шагающих с нами или против нас.
В эпоху "Зависти", когда общественная дифференциация была выражена чрезвычайно остро, конфликт поэта с обществом мог не одобряться, но общество не могло не признавать существова-ние конфликта. Художнику страшно не поражение, а вынужденный отказ от борьбы. И в такие эпохи, когда общество еще социально многообразно и противоречиво, конфликт может отсутство-вать только в том случае, когда общество окончательно и безоговорочно подчиняет себе художника.
Складывалась другая концепция, которую можно было принять за прежнюю.
Усомнившись в прочности соединения прекрасных намерений с искусством и обнаружив, что при соединении остаются почему-то лишь прекрасные намерения, Олеша понял, что время сомнений закончилось.
И тогда остались только прекрасные намерения.
Писатель сделал неправильный выбор, потому что он думал, что можно выбирать между тем, чтобы писать то, что хочется, и тем, что не хочется, а можно было выбирать лишь между тем, чтобы писать то, что не хочется, или не писать вовсе.
Впрочем, время действовало на Олешу не по одним ведомственным каналам. Больше чем рапповское нашествие на его литературный путь оказали влияние обстоятельства, породившие этих завоевателей.
Выбрав прекрасные намерения, он закономерно оказался перед необходимостью пересмотреть свое старое представление о назначении искусства.
Ранними плодами пересмотра были "Строгий юноша" и обильные высказывания на эстетические темы.
Все, что сделал Юрий Олеша в течение последних двадцати шести лет жизни, было начато в это время.
Складывалась новая эстетическая концепция, которую так легко было принять за прежнюю. Которую так легко было выдать за прежнюю себе и другим.
Для того чтобы спутать концепции, нужно было лишь "закрывать веками... свои глаза". Этими словами "Толковый словарь живого великорусского языка" Владимира Ивановича Даля объясняет слово "зажмуривать, - ся". "Он зажмурился, зажмурил глаза, - продолжает Даль, - или не хочет видеть, слышать, что делается".
Отличие новой эстетической концепции от старой заключалось в том, что прежде Олеша считал неизбежными противоречия поэта и общества при всех обстоятельствах, теперь же он понял, что противоречия возникают только в том случае, когда поэт начинает шагать против общества.
Новая концепция не легко и не сразу давалась Юрию Олеше. Она потребовала жертв, и Юрий Олеша принес их.
Одной из первых жертв был Шостакович, ближайший друг, которым он восхищался и о котором сказал:
"Когда я писал какую-нибудь новую вещь, мне среди прочего было также очень важно, что скажет о моей новой вещи Шостакович, и когда появлялись новые вещи Шостаковича, я всегда восторженно хвалил их".
Не желая видеть, слышать, что делается, и желая зажмуривать, - ся, Юрий Олеша сказал:
" - И вдруг я читаю в газете "Правда", что опера Шостаковича есть "Сумбур вместо музыки". Это сказала "Правда". Как же мне быть с моим отношением к Шостаковичу?
Статья, помещенная в "Правде", носит характер принципиальный, это мнение коллективное, значит: либо я ошибаюсь, либо ошибается "Правда". Легче всего было бы сказать себе: я не ошибаюсь, и отвергнуть для самого себя, внутри, мнение "Правды".
К чему бы это привело? К очень тяжелым психологическим последствиям.
У нас, товарищи, весь рисунок общественной жизни чрезвычайно сцеплен. У нас нет в жизни и деятельности государства самостоятельно растущих и развивающихся линий. Все части рисунка сцеплены, зависят друг от друга и подчинены одной линии. Эта линия есть забота и неусыпная, страстная мысль о пользе народа, о том, чтобы народу было хорошо. Если я не соглашусь с этой линией в каком-либо отрезке, то весь сложный рисунок жизни, о котором я думаю и пишу, для меня лично рухнет: мне должно перестать нравиться многое, что кажется мне таким обаятельным. Например, то, что молодой рабочий в одну ночь произвел переворот в деле добычи угля и стал всемирно знаменитым... Или то, что советские стрелки в состязании с американскими оказывают-ся победителями, или то, что ответы Сталина Рой Говарду с восторженным уважением цитирует печать всего мира.
Если я не соглашусь со статьями "Правды" об искусстве, то я не имею права получать патриотическое удовольствие от восприятия этих превосходных вещей - от восприятия этого аромата новизны, победоносности, удачи, который мне так нравится и который говорит о том, что уже есть большой стиль советской жизни, стиль великой державы (Аплодисменты). И поэтому я соглашаюсь и говорю, что на этом отрезке, на отрезке искусства, партия, как и во всем, права (Аплодисменты). И с этих позиций я начинаю думать о музыке Шостаковича. Как и прежде, она мне продолжает нравиться. Но я вспоминаю: в некоторых местах она всегда казалась мне какой-то пренебрежительной (Аплодисменты). К кому пренебрежительной? Ко мне. Эта пренебрежитель-ность к "черни" и рождает некоторые особенности музыки Шостаковича - те неясности, причуды, которые нужны только ему и которые принижают нас.
Вот причуды, которые рождаются из пренебрежительности, названы в "Правде" сумбуром и кривлянием. Мелодия есть лучшее, что может извлечь художник из мира. Я выпрашиваю у Шостаковича мелодию, он ломает ее в угоду неизвестно чему, и это меня принижает. У нас совсем особая жизнь и у нас видят правду (Аплодисменты).
Все дело в том, что у нас единственное, из чего исходит мысль руководства, - есть мысль о народе. Интересы народа руководителям дороже, чем интересы того искусства, так называемого изысканного, рафинированного, которое нам иногда кажется милым и которое в конце концов является так или иначе отголоском упадка искусства Запада.
Товарищи, читая статьи в "Правде", я подумал о том, что под этими статьями подписался бы Лев Толстой... (Аплодисменты)"1.
1 "Великое народное искусство. Из речи тов. Ю. Oлеши". - "Литературная газета", 1936, 20 марта, № 17 (580).
Он понимал, что это значит, когда говорит "Правда". Он - понимал, что такое долг. Он знал, что такое неумолимое требование эпохи и непоколебимые законы социально-экономического развития. Так надо. На горло собственной песне. Какой должна быть твоя жизнь? Он знал, какой:
Юноше,
обдумывающему житье,
решающему
сделать бы жизнь с кого,
скажу,
не задумываясь
Делай ее
с товарища
Дзержинского1.
Также твердо он знал, что:
"...если он (век, эпоха.- А.Б.) скажет: "Солги" - солги. Но если он скажет: "Убей" - убей"2.
1 В. Маяковский. Поли. собр. соч. в 12-ти т. Т. 6, М., 1940, с. 335.
2 Э. Багрицкий. Победители. Стихи. М.-Л., 1932, с. 34.
В эти годы особенно значительные идеи внедрялись с ошеломляющей силой, и оторопевший художник лишь разводил руками, поражаясь, как он мог до сих пор жить в неведении и темноте.
Когда очень много говорят и хочется, чтобы говорили еще и еще о чем-нибудь прекрасном - о цветах или об успехах в области водопровода, то в один неповторимый миг на людей это начинает действовать совершенно поразительно: как удар по голове. Они теряют сознание, и в это время с ними можно делать что хочешь.
Подобные явления восходят к практике удаления кариозного зуба в эпоху временного татарского ига (1237-1480).
Зубы в ту замечательную эпоху драли так:
Несчастного сажали на пень, четыре мужика заламывали ему руки-ноги, пятый с разбегу стукал деревянной кувалдой по голове, шестой - драл.
Научно доказано, что для подлинного понимания какого бы то ни было явления, его - это явление - следует рассматривать на социально-историческом фоне. Каков же был социально-исторический фон выступления Юрия Олеши? А вот каков.
Замечательный негодяй Д. Заславский в своей знаменитой статье отметил, что "композитор, видимо, не поставил перед собой задачи прислушаться к тому, чего ждет, чего ищет в музыке советская аудитория. Он словно нарочито зашифровал свою музыку, перепутал все звучания в ней так, чтобы дошла его музыка только до потерявших здоровый вкус эстетов-формалистов. Он прошел мимо требований советской культуры изгнать грубость и дикость из всех углов советского быта"1. "Эта игра в заумные вещи, которая может кончиться очень плохо..."2
А Олеша говорил совсем не так. Он говорит совсем без боли, без этой ужасной деревянной кувалды и татарского ига.
"Но я вспоминаю: в некоторых местах она (музыка Шостаковича. - А. Б.) всегда казалась мне какой-то пренебрежительной... Эта пренебрежительность к "черни" и рождает... те неясности, причуды, которые нужны только ему и которые принижают нас".
Д. Заславский говорит:
"Если композитору случается попасть на дорожку простой и понятной мелодии, то он немедленно, словно испугавшись такой беды, бросается в дебри музыкального сумбура, местами превращающегося в какофонию"3.
1Д. Заславский. Об опере "Леди Макбет Мценского уезда". В кн.: "Против формализма и натурализма в искусстве". М., 1937, с. 7.
2 Там же, с. 6.
3 Там же.
А Олеша говорит:
"Мелодия есть лучшее, что может извлечь художник из мира. Я выпрашиваю у Шостаковича мелодию, он ломает ее в угоду неизвестно чему, и это меня принижает..."
Мелодия, мелодия...
То есть я хочу напомнить, что мелодия Ю. Олеши ничем не отличалась от той, которую наигрывала наиболее просвещенная часть интеллигенции этой сложной, а в отдельные моменты даже противоречивой эпохи. Но зато как она звучит у Д. Заславского и как у Олеши!.. Разница этих звучаний говорит сама за себя.
Конечно, то, что Олеша сказал о Шостаковиче, было придумано не вдруг. Это было выношено давно, накапливалось, созревало. Он сам говорит: "Мне всегда казалось, что в музыке Шостакови-ча есть нечто такое..." Но говорить это раньше, когда Шостакович имел успех, на который никто не посягал, он не хотел. Олеша был мягким и деликатным человеком, ему казалось неуместным омрачать радость своего друга. Вот когда у друга начались неприятности, тут он понял, что дальше молчать нельзя, что это может только повредить Шостаковичу, если тот не узнает горькую, но, увы, необходимую правду. И он вместе с Д. Заславским и другими товарищами, которые больше всего ценят газету "Правда" и понятное советскому народу искусство, ее - правду сказал.
Речь Юрия Карловича Олеши была одной из самых ранних и одной их самых блестящих моделей предательства образца 1934-1953 годов. Многие, даже более талантливые люди делали это гораздо хуже. Но в то же время она не была совсем уже неожиданной Кипридой на берегах общественной мысли нашего отечества. С этой точки зрения она кое-что теряла в оригинальности замысла. Но субъективно никаких плагиаторских намерений у Ю. К. Олеши не было, поскольку он был невежественным человеком и не знал откуда берет. Конечно, объективно значение его модели понижается в связи с тем, что главную идею связь всех явлений жизни - он все-таки заимство-вал. И заимствовал он ее не их комплекта журнала "Нива" за 1906 год, и не из комплекта журнала "Красная Нива" за 1926 год, и даже не из бесед с соседом учителем, а заимствовал он ее у известного философа Гегеля.
Влияние же определенного рода идей Гегеля (в нелучшие времена) на общественную жизнь России предшествующего исторического периода было сложным и не во всех случаях безоговорочно прогрессивным.
Об этом странном явлении историк говорит так:
"...мощь николаевского государства, не внушавшая в себе никаких сомнений и вне России, на время ослепляет ищущие умы, и, закрывая глаза на грубый эгоизм сословно-бюрократического строя, они готовы, ради прекрасного в фантазии целого, подавить законные права и притязания составляющих целое частей"1.
1 Ч. Вертинский (В.Е. Чешихин). Сороковые XIX века. В кн.: "История русской литературы XIX века". Под редакцией Д. Н. Овсянико-Куликовского, тома I-V, т. II, М., 1911, с. 91.
Как мы видим, Юрий Олеша воспринял далеко не лучшую идею из диалектики великого философа.
Однако, кроме восхождения к указанному автору, была внутренняя опора на менее удаленный прецедент.
Выступление Олеши было полно предвидений и предчувствий.
В частности, весьма знаменательным оказалось предчувствие грядущей победоносной борьбы с космополитизмом, одной антипатриотической группой критиков, а также предвидение блестя-щих успехов на драматургическом поприще, связанных с появлением нескольких проникновен-ных произведений.
Писатель, ранее думавший, что в вечной тяжбе поэта и общества прав поэт, под влиянием блестящих успехов окружающей действительности прозрел и увидел, что поэт никогда прав быть не может.
Совершенно убежденный в собственной честности, прелести и обаятельности, Юрий Олеша убедил себя в том, что Шостакович делает нехорошее дело. Юрий Олеша позволил решительно пересмотреть свое предшествующее мировоззрение, полное ошибок и заблуждений. После пере-смотра во всей своей угрожающей и страшной наготе представилась ему пропасть: не осуждая, не проклиная, не оплевывая, отравлялся он чуждой нам оперой.
Это было время ранних и дальних выстрелов еще одной, уже второй мировой войны.
Как обрушившееся здание, была весть о гибели испанского города, имя которого несло отзвуки канонады - Гвадалахара.
На разных широтах искрились войны, обугливались и голодали люди.
Социология Планеты была черной, красной и дымной.
Рушились города и разрушались концепции.
В эпохи, когда происходят события, угрожающие человеческому существованию, легче, чем в другое время, заставить людей понять, что они должны делать не то, что им кажется естественным и нужным, а то, что им рекомендуют лица, помещенные для этого на специальную историческую вышку, с которой открываются широчайшие перспективы. Поэтому вместо того, чтобы делать то, что кажется естественным и нужным, люди начинают делать то, что считают нужным люди, попавшие на вышку, как выясняется впоследствии, благодаря единственно внешним условиям.
Были поиски и смятения, и некоторые интеллигенты были иногда вполне искренни в этом занятии.
Андре Жид еще любил советскую власть.
Советская власть еще любила Андре Жида.
Пикассо, который тогда еще не был борцом за мир, писал пессимистические картины.
Мальро, который тогда еще не был министром в правительстве де Голля, писал оптимистичес-кие романы.
Чуткий художник Юрий Олеша прислушивался к дыханию Мира, к тому, что говорят, кого хвалят, кого ругают.
Хвалили Мальро, ругали Пикассо.
Искренне и проникновенно Юрий Олеша говорил:
"По миру мечется нервный, вдохновенный, умный Мальро, и всякий раз он прилетает к нам. Он более рафинирован, чем все наши формалисты, он более утончен, больше видел и знает, - однако его душа, душа настоящего артиста видит, что идея Запада умерла... Неужели ему, который даже такого большого, такого первого в своем смысле художника, как Пикассо, считает уже мертвым, - неужели ему интересны эпигоны, подражатели, эклектики, какими являются наши формалисты?"1
1 "Великое народное искусство. Из речи тов. Ю. Олеши". - "Литературная газета", 1936, 20 марта, № 17.
А после того как Олеша понял, что Шостаковичу следует крепко задуматься над своими ошибками, и после того, как с помощью хорошего Мальро он поносил плохого Пикассо, в том же театре, что и раньше, снова была поставлена опера, которая в течение четверти столетия - максимальный срок тюремного заключения - была олицетворением всего самого отвратительно-го и гнусного в искусстве и уборке зерновых. Та опера, на которую ссылались каждый раз, когда нужно было показать, к каким серьезным последствиям может привести необдуманная любовь к музыке и притупление бдительности в эпоху победоносной ловли шпионов. И когда нужно было показать, кто враг номер один, тогда называли оперу Шостаковича и империалистическую политику Черчилля.
Но все меняется и иногда даже советская власть это замечает.
Пикассо становится борцом за мир и великим художником.
Мальро становится министром в правительстве де Голля и соответственно ничтожным писакой.
И то и другое совершенно естественно, потому что, если у художника отсталое мировоззрение, то он оказывается совершенно бесплодным, и наоборот: если он обладает передовым мировоззре-нием, то с каждым днем делает все большие и большие творческие успехи. Особенно ярко это раскрывается на сопоставлении Гете, мировоззрение которого (особенно во второй период) страдало серьезными изъянами, с Евг. Долматовским, который с каждым днем делает все большие и большие творческие успехи.
Все меняется, все меняется. Ведь еще совсем недавно люди думали, что жизнь это форма существования белковых тел... Как заблуждаются люди! Как часто и как опасно!
В идеологическом хозяйстве некоторой (незначительной) части интеллигенции предвоенной эпохи обнаруживаются перерасходы и недостачи, в связи с чем начинается полоса переучета и переинвентаризации.
Анализ данных переучета и переинвентаризации показывает, что, несмотря на ряд неудобств, человек должен стараться думать более или менее самостоятельно, если может, то даже независимо, наконец, просто смело! И вообще черт знает что! Но это в исключительных случаях.
Положение о самостоятельности, независимости и даже смелости следует распространить на ряд областей человеческой деятельности, в частности, даже на такую отсталую, как поэзия. Объек-тивные данные убеждают нас, что в некоторых случаях поэт должен быть сам своим высшим судом, что он, несомненно, строже других может оценить свой труд, а стало быть, соответственно относиться к суду глупца и смеху толпы, оставаясь холодным и твердым.
Но бывают такие случаи, когда работников культуры прямо-таки одолевает безудержное стремление сделать что-нибудь приятное покупателям книг или билетов в цирк.
Тогда они говорят: "У нас самый замечательный в мире читатель (зритель, слушатель)".
Или действуют иначе. Например, таким способом.
Удачно исполнив номер, артист кланяется публике.
Этот поклон называется комплимент.
Комплимент делается так.
Быстро семеня ногами и все убыстряя семенение, артист выбегает из-за кулисы, сгибает ноги в коленях, как будто ему прицепили к заду гирьку в полкило весом, и разводит руками. Потом, не выпрямляясь и быстро семеня ногами, он, не поворачиваясь к публике задом с прицепленной гирькой, убегает за кулису. И так несколько раз, пока самый замечательный зритель не плюнет на все это и не подастся в буфет.
Быстро семеня ногами и все усиливая и усиливая семенение, Юрий Олеша делает публике комплимент.
"Никакой творящей идеи у художников Запада нет"1, - заявляет он. Аплодисменты. Комплимент.
1 "Великое народное искусство. Из речи тов. Ю. Олеши". - "Литературная газета", 1936, 20 марта, № 17.
В конфликте художника с обществом нельзя быть заранее уверенным, что художник всегда неправ, а общество всегда право.
В связи с этим соображением возникают разнообразные вопросы, представляющие не только академический интерес.
Например, хотелось бы выяснить, кто был прав, великий поэт Осип Мандельштам, написавший стихотворение, которое не понравилось, или люди, которые его за это убили?
Не подвергавшаяся сомнению и проверке уверенность в том, что уж если конфликт есть, то, разумеется, неправ художник, исключала дискуссию.
Центральный пункт социологии исторического процесса свидетельствует, что в случаях, когда исключаются дискуссии, начинаются репрессии.
По неопровержимым законам социологии начались репрессии.
Трагедия эпохи была не только в том, что шло методическое уничтожение талантливых и мыслящих людей, но еще в том, что не уничтоженных заставляли делать то, что запрещает делать человеческая совесть, что не позволяет делать честь, ум и талант. Чтобы это все-таки делать, нужно было в первую очередь убедить самих себя в том, что лучше этого дела, которое заставляют делать, ничего не бывает. Не уничтоженные сначала делали вид, а потом начинали вроде искренне верить, что кажущееся им странным, бессмысленным, даже вредным делается во имя чего-то неведомого и прекрасного. Не уничтоженные уничтожали самих себя и других еще не уничтожен-ных. Это происходило из-за круговой ответственности всех членов общества. Например, если Зощенко сделал что-нибудь, что не понравилось, то отвечал за это не один Михаил Михайлович, а все. Поэтому общество смотрело во все глаза, чтобы какой-нибудь его представитель, зазевавшись, не повредил бы как-нибудь всем.
А. Солженицын об этой эпохе и приблизительно об этих же обстоятельствах говорит с точностью и строгостью судьи: "На то придумана бригада... бригада это такое устройство, чтоб не начальство зэков понукало, а зэки друг друга. Тут так: или всем дополнительное или все подыхайте. Ты не работаешь, гад, а я из-за тебя голодным сидеть буду? Нет, вкалывай, падло!"1.
1 А. Солженицын. Один день Ивана Денисовича. М., 1963, с. 29-30.
Но "трагедия" и "эпоха" это не то же, что, например, "климат" или "корпускулярные излучения солнца", то есть нечто независимое от людей. Трагедии и эпохи делаются людьми, всеми вместе и каждым в отдельности, и поэтому, кроме проблематичной ответственности времени и гипотетичной ответственности человечества, существует реальная, подлежащая обследованию ответственность каждого человека.
Никакой ответственности, кроме персональной, в обществе не существует.
Если человек совершает преступление, то кроме вины общества, времени, эпохи, существует вина преступника.
Так как художник это чаще всего взрослый человек, а взрослый человек обязан знать, что делает, что ему нравится и что у него вызывает отвращение, то не следует освобождать его от ответственности, сваливая все на печальные обстоятельства.
Но, может быть, художник не знает, что делает, что ему нравится, что вызывает у него отвращение?
Значит, выбор такой: знал или не знал?
Как же отнестись к человеку, который знал о событиях трагической эпохи и молчал?
Как отнестись к человеку, который не знал, не видел, не понимал, что происходит вокруг?
Кровав и трагичен результат этих бескорыстных и этих небескорыстных иллюзий, заблуждений и успешных самовнушений.
И поэтому негодяй, написавший, что тиран на самом деле не тиран, а лучший друг интеллиге-нции, искусства и языкознания, подлежит более строгому суду, чем художник, ушедший в лирику, пейзаж и историю.
Время и люди равно подлежат суду, только разных инстанций: время судит история, а человека уголовный суд.
И, как часто бывает, подсудимый старается свою вину свалить на другого.
Поэтому люди, принесшие другим людям много горя, винят в своей вине не себя, а время и обстоятельства.
Виноваты не только обстоятельства, не только соседний мерзавец, который пишет романы, снимает картины, поет романсы и ставит спектакли о том, что власть прекрасна, а ты сам, если написал, снял, спел о том, что власть тирана прекрасна.
Юрий Олеша написал о том, что власть тирана прекрасна.
Как очень многие люди, и особенно интеллигенты, и особенно люди искусства, и особенно писатели, Юрий Олеша был и жертвой эпохи, и ее садовником, ее узником и ее каменщиком.
Различны были жертвы обстоятельств.
Одних убивали.
Других заставляли молчать.
Третьих заставляли писать.
Для Олеши эта эпоха началась с того, что он стал старательно убеждать себя, что лучше дела, чем то, которое заставляют делать, не бывает, а кончилось тем, что он стал с необыкновенным усердием писать несравненно лучше, чем писал до этого, т. е. так как все замечательно писали в эту замечательную эпоху.
Сквозь эти годы пробивались, как в горящем лесу, и одни гибли, другие выходили искалеченными, немногие сохранились.
Юрий Олеша был одной из первых жертв времени.
В отличие от больших писателей Олеша не замолчал, а стал помалкивать.
Олеше очень не повезло.
Он ни разу не попал ни в какое постановление, его никогда не "прорабатывали" так, чтобы уже нечего было терять.
Это заставляло его дорожить тем, что у него оставалось.
И поэтому он не написал своего "Реквиема", как это сделала "проработанная" Анна Ахматова, не написал своего "Доктора Живаго", как это сделал затравленный Борис Пастернак.
Разные беды обрушиваются на художника.
Юрию Олеше пришлось пережить то, что он не попал в "историческое" постановление.
Юрий Олеша был хорошо подготовлен к тому, чтобы в нужный момент начать писать замечательно.
Некоторым даже стало казаться, что он совсем перестал писать. Но это, конечно, было неверно. Наоборот, многие стали настойчиво утверждать, что новый творческий этап гораздо лучше и плодотворнее предшествующего.
Перед тем как все это произошло, Юрий Олеша подвергся облучению быстротекущих концепций, которые еще за пять минут до своей гибели почитались вечными, непреложными, незыблемыми и непререкаемыми.
Если бы он знал, что на свете все так быстро меняется!
Я уверен, что если бы он (и не один он!) это знал, то никогда бы так не делал. Но разве люди в состоянии предвидеть, кого будут завтра хвалить, кого ругать? Еще недавно, например, люди клялись, что кибернетика - это буржуазная лженаука, а потом оказалось, что совсем не лженаука, а некоторые даже стали доказывать, что она и буржуазной-то никогда не была! Господи, во что только не верят люди! Или как говорил Бабель: "Чего делают... Боже, чего делают..."
Он делал то же дело, что и другие - его товарищи по перу, приятели по ресторану и друзья по стадиону "Динамо", соседи по дому, подруги его жены и братья по кассе взаимопомощи. Он делал все то же, что делали и другие. Только, будучи наделен от природы роскошным воображением со сверхъестественными метафорами, он взял элегантную фразу, полную выразительной пластики и вибрирующих переживаний.
И поэтому то, что он сказал вместе со всеми своими товарищами по перу и смежным областям гадость о Шостаковиче, это не важно. Важно то, что он сказал это фразами, полными выразитель-ной пластики и вибрирующих переживаний. (Надо отметить, что у этого приема был серьезный недостаток: он не во всем был понятен нашему читателю.)
История общественных отношений знает не один пример превращения гнусности в нечто преисполненное грации, женственности и обаяния. Чтобы не утомлять читателя, я начну приво-дить примеры не из истории первобытной орды и даже не из истории древневосточных деспотий (хотя с известной точки зрения они представляют особенный интерес), а прямо со средних веков и эпохи Возрождения.
Дело было так. В одном старинном хорошо укрепленном замке пили чай. Дамы были в роскошных туалетах. Мужчины в черных фраках, с копьями. Было необыкновенно весело. Рассказывали анекдоты о короле Артуре, потом перешли на рыцаря Ланселота и королеву Дженерву. То-сё. Бросали собакам кости. Дамы в отдельных случаях нежно загорались румянцем и ловили блох. Потом кому-то набили морду (барону Иоахиму фон Швабелю цур Гогенпфепфе-ру?). Но в этот момент грянули скрипки, начались танцы. Танцы, танцы, танцы, танцы... В первой паре шла владетельная герцогиня с таинственным рыцарем в черной маске. Он просто очаровал герцогиню. Но в это время старинные башенные часы, захваченные герцогом при разгроме швейцарской фирмы "Лонжин", пробили двенадцать ударов. Нервно вздрогнув, рыцарь в черной маске стал собираться якобы домой. Герцогиня сдвинула брови и величественно повернула голову на своей шее. Усмехнувшись, она потребовала, чтобы доблестный рыцарь снял маску. Тот отказывается. Герцогиня настаивает. Тот отказывается. Герцогиня настаивает. Тот отказывается.
"Терпсихора! - властно воскликнула разгневанная герцогиня. - Бобик! взять его". Положение было очень сложным. Два волкодава, а за ними вся замковая псарня прижала лапами бычьи кости и выразительно вгляделась в еще теплое мясо в черной маске. Тогда мясо неохотно снимает маску. И в этот момент владетельная герцогиня падает в объятия владетельного герцога. Взмахнув руками, падают скрипки. По залу бежит шепот: "Это бергенский палач. Кошмар". Тогда владетельный герцог, бросив свою идиотку, которая все время связывала его по рукам и ногам, вырвал из ножен сверкающий меч. Все отпрянули. А герцог, выгнувшись, как пантера, готовящая-ся к прыжку, мягкими шагами приблизился к ошалевшей от всех этих аристократических предрас-судков и снобизма маске и ударил ее мечом по плечу. Вздох восторга и облегчения пронесся по залу. Вы не можете себе представить, как все были поражены этим актом гуманизма и мудрости: одним ударом тиран превратил палача в рыцаря, смыл оскорбление и вписал страницу в историю.
Некоторые комментаторы впоследствии сконцентрировали внимание на том, что всех смутило не то, что палач, а то, что недворянин. Понимаете? В самом деле, как это владетельная герцогиня в родовом замке могла танцевать с недворянином?! С палачом - пожалуйста, а с недворянином ни за какие диадемы или восточные пряности, или еще за что-нибудь представляющее собой большую ценность.
А вот коротко, что случилось в эпоху Возрождения (XIV-XVI вв.).
Одна бестолковая женщина впопыхах выскочила на улицу, не покрыв голову. Зная, как это неприлично, она задрала юбку и прикрыла голову, обнажив задницу. Некоторые комментаторы, проходя мимо, заметили вскользь: "Глупая женщина. Неужели она не понимает, что при всех обстоятельствах обнаженная задница хуже, чем обнаженная голова".
Иногда художник эпохи Возрождения и других эпох не понимает, что более важно, что менее. Например, пропустить удовольствие сделать гадость своему ближнему или оставить по себе грязный след на чистейших страницах истории общественных отношений.
Сдаваясь, художник отдает за минутный успех, из страха перед неприятностями хорошее место в истории искусств. Он прикрывает голову. Он обнажает задницу. Комментаторы внимательно вглядываются.
Внимательно вглядываясь в творчество Юрия Олеши, мы замечаем, что он старательно и успешно избегал конфликта. Он предпочитал приемлемый и достойный компромисс. Компромисс был найден более чем умеренный: писатель предложил примирить План с вишневым деревом и звезды с пользой республике. В 1928-1931 годах это еще годилось.
Автор "Вишневой косточки" не очень боялся городского железа, наступающего на природу. Его не страшило то, что "бежит по степям... Железной ноздрей храпя, на лапах чугунный поезд", так напугавший Есенина. Олеша не дорожил "гречневыми просторами", "ковыльной пущей" и "рязанским небом". Он был городским человеком, не склонным противопоставлять культуре природу: он любил город, авиацию, автомобили, книги.
Спор железобетона с вишневым деревом для Олеши - только метафора, только пример, приводимый в доказательство.
Есенин говорит:
Как в смирительную рубашку,
Мы природу берем в бетон.
Есенину сначала жалко дерева, а потом уж действительность, которая уходит вместе с этим деревом. Он деревенский человек, этот художник.
Юрий Олеша не жалеет дерева. Он сажает его только для того, чтобы затеять спор.
В споре Юрий Олеша уступает охотно и быстро: он изменяет первоначальный проект железобетонного здания. Писатель округляет фасад и делает вид, что нашел подходящий для всех выход из положения.
Писатель изменяет проект, выгибает линию, сглаживает углы.
Он ищет приемлемого и достойного компромисса.
Но время идет, и оказывается, что компромисса мало. Нужна капитуляция, а не уступки.
И тогда Юрий Олеша начинает слегка, совсем немножко оправдывать человеческие слабости, отступление и готовность человека сдаться.
Иллюзорно и призрачно самостоятельное и независимое от писателя бытие его книги. Книга - это поступок писателя, такой же, как и всякий другой, как помощь нуждающемуся или как карманная кража, как поданная в беде рука или как содержание притона, и человек, который написал гнусную книгу, такой же мерзавец, как тот, который оболгал женщину или настрочил донос. Наши книги - это наши поступки, остановившиеся и застывшие в слове. Не может быть хорошего человека, совершающего плохие поступки, и поэтому путь к равенству "хороший художник - хороший человек" сложен, противоречив, часто непоследователен и неминуем.
Но бывают такие обстоятельства (и навстречу им бегут такие люди), когда выгибаются не только железобетонные гиганты, но даже непоколебимые в борьбе за святую истину писательские спины.
Бывают даже такие случаи.
В башкирской повести было написано "местная интеллигенция". Переводчица оказалась чрезвычайно образованной и относящейся с чувством глубокого уважения к национальным кадрам бывших окраин царской России. В связи с этими двумя обстоятельствами она перевела так: "локальные интеллектуалы".
Не все, однако, некоторые еще существующие в наших рядах отдельные представители предпочитают не сморкаться, а обходиться с помощью платка. Или вместо того, чтобы по-товарищески просто и прямо сказагь своему собрату: "Что ты пишешь, сукин сын?!" считают более правильным сказать: "Будем надеяться, что автор восполнит этот пробел..." Или превраща-ют местную интеллигенцию в локальных интеллектуалов. Это судьба робких, слабых и не очень значительных личностей, художнических натур, жалких сердец, людей испуганных и болезненных и умеющих договариваться с представителями администрации и со своей совестью.
Веселый и легкий, как весенний зонтик, Юрий Олеша прожил счастливую жизнь.
Иногда ему казалось, что жизнь его не так счастлива, как хотелось бы; но проходили полчаса, час и становилось совершенно ясно, что это лишь легкое облачко на сверкающем небосводе, и он, негромко напевая песенку, которая скоро будет написана и приобретет необыкновенную популярность в самых широких кругах интеллигенции: "Мы будем петь - и смеяться, как дети. Среди упорной борьбы и труда"1- или другую: "С песнями, борясь и побеждая..." - смотрел в окно на замечательные успехи в области приборостроения или осуществлял свои творческие замыслы.
1 См. В. Лебедев-Кумач. Не вполне понятно, почему именно в такие ответственные моменты, как "упорная борьба" и "труд", поэт настаивает на том, что мы обязательно "будем петь и смеяться, как дети".
Почему выпала ему такая улыбающаяся судьба?
На это может быть дан только один ответ.
Такая улыбающаяся судьба выпала ему, потому что у него никогда не было конфликта с окружающей действительностью.
И вот это нам особенно дорого и ценно в творчестве замечательного советского писателя Юрия Олеши.
И мы ценим в Юрии Олеше не то, что он был пьяница и лгунишка, не то, что он был позер и фат, невежественный человек и незначительный художник, а то, что он был настоящий, простой человек, писавший понятным советскому правительству языком.
Но все это, конечно, не давалось само собой. Преодолевая неимоверные трудности в процессе роста, писатель становился, наконец, подлинным реалистом.
Юрий Олеша прилагал много стараний, чтобы избежать ненужного конфликта с окружающей его действительностью. И он был совершенно прав, потому что это могло привести к очень тяжелым психологическим последствиям. Так как он был достаточно рассудительным человеком, умевшим учитывать печальный опыт других, то почти всегда избежать конфликта ему удавалось.
И в самом деле, часто он благополучно проскальзывал в таких обстоятельствах, когда практически это казалось совершенно нереальным.
Например, в эпоху, когда некоторые литературные администраторы полагали, что если на художника сесть верхом и пинать его сапогом в живот, то он начнет, наконец, отражать окружающую действительность, как следует.
Такое представление о взаимоотношениях художника и общества на строго научной основе было заложено в период творческой деятельности Российской ассоциации пролетарских писателей - РАПП.
Эта деятельность, часто вызывавшая в памяти эпизоды из эпохи татарского ига, а также из истории борьбы с альбигойской ересью, Юрию Олеше нравилась.
Он был добрым и отзывчивым человеком, и всегда избегал говорить что-нибудь нехорошее даже в таких случаях, когда это уже было можно.
Был даже такой случай: когда РАППу пришлось совсем туго, Юрий Олеша не пихнул ногой издыхающего льва, хотя на это уже имелось разрешение, а нашел в себе душевные силы и подлинное гражданское мужество воздать ему должное1 (с оговорками)2.
1 Дело в том, что концепция РАППа - она считалось в свое время нетленной - была до этого господствующей, а Юрий Олеша всегда одобрял такие концепции.
2 Оговорки возникали в связи с тем, что время, когда концепция РАППа считалась нетленной, кончилось.
Прислушайтесь, с каким достоинством и сдержанностью он говорит о людях, предавших мучениям всех писателей, у которых к тому времени еще сохранились силы отстаивать свою честь, независимость и правоту:
"Наш пленум проходит под знаком выяснения отношений между рапповцами и отдельными писателями. Каждый писатель выходит и говорит, как раппы его мучили. Меня раппы не мучили, и счета к ним я предъявить не могу. Наоборот, скажу я, что наиболее культурные статьи писались обо мне критиками-рапповцами"1.
1 Выступление Ю. Олеши на первом пленуме Оргкомитета Союза Советских писателей. В кн.: "Советская литература на новом этапе. Стенограмма первого пленума Оргкомитета Союза Советских писателей (29 октября - 3 ноября 1932)". М., 1933, с. 239. Документально засвидетель-ствовано, что раппы Олешу не мучили. Точно так же научно доказано, что они действительно писали о нем самые квалифицированные статьи и успешно защищали его от нападок. Особенно должен быть благодарен Ю. Олеша В. Ермилову, так квалифицированно и в отдельных случаях и самоотверженно защищавшего его от нападок. Вот как квалифицированно, а в отдельных случаях и самоотверженно защищал Ю. Олешу В. Ермилов:
"...скажем несколько слов о самом значительном художественном произведении за истекший (1927. - А. Б. ) год - да и не только за истекший... Это роман Юрия Олеши "Зависть"... Олеша подлинный художник... он разоблачает индивидуализм изнутри... роман является не только разоблачением, но и саморазоблачением определенной интеллигентской группы... роман... дает полное основание считать его самым значительным произведением подлинно-попутнической литературы за последний период... в лице Олеши советская литература обогатилась новым, по-настоящему талантливым и своеобразным художником..." (В. Ермилов. Буржуазия и попутничес-кая литература. В кн.: Ежегодник литературы и искусства на 1929 год. М., 1929, с. 71-73).
Вне всякого сомнения, это мог сказать лишь человек, имеющий громадное самообладание.
Но в то же время это производит несколько странное и, может быть, не вполне благоприятное впечатление, потому что, если его, Олешу, "раппы не мучили", то это не значит, что они так же прекрасно относились к другим (не правда ли?), а это Олеша хорошо знал.
Впрочем, такое умозаключение не должно нас удивлять, а должно только радовать. Потому что подобная социально-историческая позиция, как справедливо утверждают физиотерапевты, сохраняет, а в отдельных случаях даже укрепляет нашу нервную систему. В этом смысле пример учителя танцев Раздватриса не может не поразить нас своей убедительностью. Ведь мы хорошо помним: "Раздватрис был доволен, это его вызвали во дворец..." Это явление, то есть чувство удовольствия, испытываемого в связи с вызовом во дворец, связано с тем, что Раздватрис думал не о социальных катаклизмах, а только о своем личном, индивидуальном благополучии. Он не думал, что других людей (а таких подавляющее большинство) во дворец не вызывают и что эти другие люди могли бы выйти и говорить, как их мучили. Нет, его раппы не мучили, и счета к ним он предъявить не мог. Другие же люди учителя танцев Раздватриса не интересовали.
Замечательная особенность некоторых видов интеллигенции, в частности, вида "учитель танцев Раздватрис" (Magister) состоит в том, что этот вид необыкновенно охотно соглашается с уничтожением соседей, полагая, что его это не касается, или надеясь на то, что уничтожение соседей отведет удар от него. В мозгу интеллигента вида учитель танцев Раздватрис заложены мюнхенские соглашения.
Этот вид надеется, что, отдав не имеющую для него непосредственного значения Чехослова-кию, он тем самым сохранит, а может быть, даже укрепит свою нервную систему. Поэтому, когда во второй половине 20-х годов начались некоторые осложнения в деревне, эти интеллигенты с презрительной усмешкой цедили сквозь зубы: "Нас не раскулачите. (Стучит по лбу.) Все здесь"1 (указывает на свой череп). Но это, конечно, была очередная социологическая иллюзия, лишенная всякого основания. Фронт раскулачивания был чрезвычайно широк и захватил, кроме деревни, также Академию наук и ряд творческих организаций. Увы, учитель танцев не понимает, что уступленная Чехословакия, не имеющая для него непосредственного значения и не играющая существенной роли в его жизни, прибавляет силы тем, кто ее оккупировал и вселяет уверенность в том, что можно оккупировать все остальное. И те, кто оккупирует, не ошибаются в своей уверенности.
1 А. Афиногенов. Страх. В кв.: А. Афиногенов. Пьесы. М.-Л., 1947, с. 111.
Это было прямым следствием того, что, к величайшему счастью для Олеши и для всей советской литературы, у него не было самого главного конфликта: конфликта со временем.
Он всегда умел в нужный момент понять, что именно требует время.
Если же иногда безоблачное согласие между писателем и эпохой почему-либо начинало омрачаться, то Олеша как бы брал больничный лист и болел, пока социальная драма благополучно не разрешалась.
В связи с ликвидацией РАППа открывались чрезвычайно широкие возможности, и такой чуткий человек, как Юрий Олеша, это, конечно, понял и оценил.
Вот что он заявил по этому отнюдь не только оргвопросу:
"Мне бы хотелось, чтобы целый ряд таких пленумов, как тот, который происходил в эти дни, был организован в дальнейшем по вопросам творчества. Нужно, чтобы были чисто творческие пленумы, глубоко, специфически творческие. Мне хотелось бы, чтобы Оргкомитет собрал писателей, скажем, для обсуждения каких-нибудь технологических вопросов. Мне хотелось бы, чтобы был пленум по метафорам, по эпитетам, по разработке абзаца и т. д... Но у нас нет общей академии, где были бы кожаные стулья, где можно было бы сидеть и по-настоящему говорить, хорошо говорить о литературе друг друга со стенографисткой. Пускай все это будет записано..." 1
То есть, чтобы было наконец покончено с хаосом и неразберихой в этих вопросах и чтобы пленум вынес соответствующее постановление, в котором бы одни метафоры были осуждены, а другие выставлены в качестве образца и чтобы впредь все писали только такими метафорами. В связи с этим далеко не частным делом каждого отдельного писателя следовало бы учредить Главное управление метафоризации литературного процесса при ССП, а тов. Олешу Ю. К. утвердить его заведующим.
Но все-таки некоторые вещи не вызывали сочувствия Юрия Олеши, и он, никого не боясь, говорил:
"Что меня конечно раздражало, это главенство одной литературной группы, распространяв-шейся на все остальные..."2
1 Выступление Ю. Олеши на первом пленуме Оргкомитета Союза Советских писателей. В кн.: Советская литература на новом этапе. Стенограмма первого пленума Оргкомитета Союза Советских писателей (29 октября - 3 ноября 1932). М., 1933, с. 239.
2 Там же, с. 239.
Высказанное Ю. Oлешей неудовольствие РАППом следует считать только черной неблагодар-ностью. Не хотите ли почитать, что писали об Олеше и о некоторых других писателях раппы в дни своего самого лютого зверствовавия? Пожалуйста!
"Надо решительнее бороться с благодушием, с этим отвратительным советским барством, которое пустило кое-где корни. "Советский барин" добродушно похвалит какого-нибудь Булгакова с его "Бегом" и "Зойкиной квартирой"... чрезвычайно почтительно отнесется ко всему окруженному ореолом "большого имени", хотя бы оно и не представляло научной и эстетической ценности, и в то же время он отнесется с барским пренебрежением ко всему свежему, молодому, здоровому, хотя бы оно было подлинно талантливым. Советские баре носят разные личины, в том числе личину критика, с почтительным вниманием относящегося к Сергееву-Ценскому, Пильняку, Всеволоду Иванову, даже Вл. Лидину, потому что они "маститые", и замалчивающего или поругивающего таких писателей, как Ю. Олеша, М. Слонимский, А. Малышкин, потому что эти последние не "лакируют" действительность (очевидно, Булгаков и Пильняк вызывают отвращение журнала тем, что они "лакировали" действительность. - А. Б.), потому что они не хотят работать на мещанина" ("Правая опасность в области искусства". "На литературном посту", 1929, № 4-5, с. 6. Передовая статья).
Окончание главенства одной литературной группы следовало только приветствовать. Правда, все было несколько иначе, потому что РАПП не был одной-единственной литературной группой. Вот когда его скинули, то уж вместе с ним как бы сами собой исчезли и все прочие литературные группы. Так как всем было известно, что они в сто раз хуже РАППа, то некоторые даже полагали, что главным предметом забот были именно они, а не РАПП.
Но окончание главенства одной литературной группы пахло действительно необыкновенно аппетитно. К сожалению, Юрий Олеша уже не мог или не хотел заглянуть немного вперед и попытаться увидеть, что именно может произойти, если проглотить решение по этому вопросу. Он не знал или не хотел знать, что через несколько секунд после заглатывания несчастные чувствова-ли страшную резь в животе и через некоторое время умирали в адских мучениях.
Острие этого дела рапповцы обмазали сладкими и успокаивающими фразами.
Знаете ли вы, как охотятся на медведя?
Я понятия не имел о том, как охотятся на медведя до тех пор, пока Юрий Олеша, хищно сверкнув глазом, не рассказал мне.
Оказывается, на медведя охотятся так:
По медвежьей тропе разбрасывают катыши сала.
В катышах спрятана туго свернутая стальная пружина с остро отточенными концами.
Медведь заглатывает сало.
Через несколько секунд сало растапливается.
Пружина рвет медведя.
Если она рвет медвежье брюхо, то легко понять, что она может сделать с хрупким и впечатлительным писательским организмом.
Заглатывающий писатель старается не думать о том, что он делает и что теперь сделают с ним.
Он старался думать о приятных и полезных вещах: о том, что теперь кое-кому из его дружков в кавычках, которые топтали его коваными копытами, покажут, наконец, где раки зимуют, в кавычках.
Он охотно думал, что вот теперь-то он некоторое время поживет.
Юрий Олеша был замечательным человеком и мыслителем.
(Я опасаюсь, что эта книга может быть воспринята лишь как безудержная, безумная апология любимого писателя. Подобные явления уже были справедливо осуждены нашей литературной общественностью. Я не хотел бы, чтобы у читателя создалось впечатление, будто восхищение героем ослепляет меня и лишает возможности видеть некоторые его теневые стороны! Возможно, следует говорить не столько о теневых сторонах, сколько о художественных особенностях творче-ского развития замечательного таланта. Конечно, лучше говорить об особенностях творческого пути и о других художествах, а не о теневых сторонах.)
Я никогда не стал бы говорить о теневых сторонах и о так называемых досадных срывах этого чистейшего человека, мужественного борца за справедливость и замечательного писателя, а если иногда и вынужден останавливаться на некоторых особенностях его творческого роста, то исключительно для того, чтобы сделать его портрет еще более выпуклым.
Уж если у такого писателя, как Юрий Олеша, были некоторые особенности социально-эстетического развития, то каковы же они были у его замечательных коллег!
Это обстоятельство я настойчиво подчеркиваю, но не преувеличиваю. Я не хочу отрывать Юрия Олешу от литературы, которая его вскормила, в которой он существовал, для которой он сделал столько хорошего и которая столько хорошего сделала для него.)
Близилось время, когда, кроме одних замечательных побед, людям уже ничего больше не оставалось.
В связи с этим мощный, но еще совершенно разобщенный отряд отечественных литераторов стал стремительно готовиться к генеральной переоценке своих художественных ценностей.
Вместе с другими готовился и Юрий Олеша.
Для него это было особенно важно, потому что, как всему миру известно, в прошлом он допускал громадное количество ошибок.
Так, например, он писал: "...предпосылка превращения меня в милиционера - неразделенная любовь" (?!?!).
Юрий Олеша с большим количеством черновиков чрезвычайно удачно писал об успехах и победах. Но даже там, где это были успехи и победы громадного исторического звучания, он не всегда мог подняться до уровня таких мастеров прозы, как А. Первенцев, Ф. Гладков, Б. Горбатов, В. Закруткин, Н. Вирта или Е. Пермяк, хотя, конечно, и Олеша, и эти писатели делали одно общее дело.
Но чем более Юрий Олеша становился зрелым, тем чаще он старался показать, что он на пути к окончательному и на этот раз уже самому последнему исправлению. Поэтому Юрий Олеша не стал разрушать бетонный гигант, как в свое время ошибочно разрушил фабрику-кухню Андрея Бабичева. Правда, это была лишь сказка1, а не то, чтобы Олеша действительно пошел не такое страшное дело. Но все-таки разрушительные помыслы за ним водились.
1 "Сказка о встрече двух братьев" в романе "Зависть".
Он прозябал на границе эпох. Он мог остаться в своем времени, в литературе десятилетия, которое хоть что-то создало, и мог перебежать в новую эпоху. Но Олеша хотел сразу и того, и другого. Он топтался на месте, где-то между 20-ми и 30-ми годами, и как следует не перебежал в новые обстоятельства. Он жил на непрочном шве двух эпох и, по мере надобности, перебегал из одной эпохи в другую. Он жил, как Вольтер в своем замке в Ферне: замок стоял на границе Франции и Швейцарии, слуга смотрел на дорогу и, завидев французского жандарма, кричал. Хозяин перебегал через границу. Но Вольтер вполне заслужил свою участь: у него не было ничего святого; он оплевывал все, что попадалось ему на глаза. Олеша же был безвинен: он ничего плохого не сделал. Плохо сделали критики и приятели, которые, не имея лучшего образца, выдали Юрия Олешу за жертву в борьбе за свободу. После смерти этого образца они выдвинули Евгения Евтушенко.
Юрий Олеша стал бояться не лжи, а неприятностей.
Он пересматривал концепцию не потому, что она была ложной, но потому, что она становилась опасной.
Истина в эти годы как-то сразу переставала интересовать Юрия Олешу, если из-за нее могли быть неприятности. Такая истина была плохой, вредной и никому не нужной, с ней просто не стоило связываться.
Писатель не понимал, уже не хотел понять, ему не нужно было понимать, что истина не бывает ни плохой, ни хорошей, а значит, выгодной или невыгодной, что она может быть только истинной, или она не истина.
Он не понимал, что если истина меряется пользой, то может наступить такое время, когда истинное станет второстепенным, а первостепенным нужное кому-то.
В таких случаях, "жонглируя кольцами боковым каскадом, можно снова перейти на обыкновенное жонглирование"1, и с легкостью превращать черное в белое, если нужно белое, и плохое в хорошее, если зачем-то понадобилось такое.
Именно потому, что от истины начинают требовать не правды, а пользы, становится возможным утверждать (как это имело место в новозеландском литературоведении), что Пиндар очень хороший (полезный) поэт, а Лукиан очень плохой (вредный).
Это было ужасно.
Но Юрий Олеша в надежде славы и добра без боязни глядел вперед.
Он видел "ясно. Здесь будет сад. И на том месте... будет расти вишневое дерево".
Он думал, что дерево из вишневого сада его поэзии будет расти вечно.
Он не слышал, как далеко в саду топором стучат по дереву...
1 Н.Э. Бауман. Искусство жонглирования. М., 1962, с. 23.
ПРОГЛОЧЕННАЯ ФЛЕЙТА
"Список благодеяний" продолжает и развивает "Зависть" и делает ее безвыходной.
Пьеса договаривает роман и обнаруживает неразрешимость его.
Круг бедствий художника расширяется, потому что из России он попадает на Запад, и исчерпывается, потому что социология автора ничего, кроме России и Запада, не предусматривает.
Теперь исследование вопроса приобретает хорошо знакомые русской общественной мысли формы спора "Россия и Европа".
Именно в те годы старинная тяжба наконец была благополучно разрешена, и это было в высшей степени своевременно.
Следует подчеркнуть громадное значение этого факта, особенно высоко оцененного только в 40-х годах, ибо на протяжении своей трехсотлетней истории посрамление Европы и апофеоз России не во все периоды получали достаточно прогрессивное освещение.
Неминуемая историческая предрешенность лишила вопрос чисто академического интереса и превратила его в ультиматум. Ультиматум был сух, строг и суров. Он не похож на выбор, он похож на изгнанье: или Россия или Европа.
В "Зависти" Николай Кавалеров жалуется на советскую Россию и надеется на буржуазную Европу.
В "Списке благодеяний" Елена Гончарова, жалующаяся на Россию, попадает в Европу.
Артистка Елена Гончарова продолжает и развивает концепцию поэта Николая Кавалерова и делает ее безвыходной.
Елена Гончарова - это Николай Кавалеров, попавший в Европу.
"Список благодеяний" не только продолжает и развивает "Зависть", но и опровергает ее. Автор убеждает нас в том, что неудачи Кавалерова в тысячу раз лучше попыток Гончаровой убежать от этих неудач на Запад.
Неудачи актрисы начинаются с того, что на родине ее заставляют играть в "современных пьесах", а "современные пьесы схематичны, лживы, лишены фантазии, прямолинейны"1.
1 Юрий Олеша. Список благодеяний. М., 1931, с. 5.
Она не хочет играть в таких пьесах.
Поэта заставляют писать куплеты: "В учрежденьи шум и тарарам..." Он не хочет писать такие куплеты.
Оставив в Советском Союзе поэта, пишущего эстрадные песенки, то есть дающего не то, что он хочет, может и должен делать, Юрий Олеша посылает в Европу другого художника, который в Советском Союзе тоже делает не то, что хочет, может и должен.
Юрий Олеша не упускает случая подчеркнуть сходство, родственное происхождение и близость судеб своих героев. И не упускает случая сказать, что надежды, которые он на них возлагает, - одинаковы.
Уступая тяжелым обстоятельствам, писатель сделал Кавалерова некрасивым и грязным.
Елену Гончарову он сделал красивой, потому что надеялся, что ее раскаяние будет рассмотрено как смягчающее обстоятельство и ей разрешат быть положительной.
Сделать красивым Николая Кавалерова он, конечно, не рискнул.
Елена Гончарова - это умытый Николай Кавалеров.
Не нашедший выхода в России, Кавалеров хочет уехать на Запад.
Красивая женщина, знаменитая актриса уезжает в Европу, о которой мечтает Николай Кавалеров.
Коснувшись в нескольких словах того, что в Советском Союзе есть некоторые недостатки, как-то: "очереди", "отсутствие продуктов", "преступления против личности", деклассированные негодяи (Дунька), провокаторы (Баранский), охранители-тупицы, решающие судьбы искусства (Орловский), еще какие-то пустяки, писатель распахивает Запад, таинственную, мерцающую Европу, жестокую, обреченную, непоправимую и безвыходную.
В Европе все оказывается отвратительным, иллюзии рушатся, надежды не остается.
Автор помогает своей героине: он обнажает язвы Запада и показывает их Гончаровой. Гончарова смотрит и начинает кое-что понимать. Наибольшее впечатление на нее производят требования французского рабочего класса: "Ясли детям. Зеленые города... дома... рабочим. Дворцы культуры! Курорты трудящимся! Охрану труда! Отпуска беременным! Прекратить эксплуатацию подростков! Большие кухни на помощь женам! Свободу нациям! Шестичасовой рабочий день! Фабрики рабочим! Заводы! Землю отнять у помещиков! Науку на службу пролетариату! Всю власть трудящимся!"
Услышав это все, Елена Гончарова как бы просыпается: "Я помню... я помню... я вспомнила все! Сады, театры, искусство рабочим!... Я видела глобус в руках пастуха. Я видела Красную армию... Я видела знания в глазах пролетария. Я слышала лозунг: долой войну! Я вспомнила все... Читайте, читайте список благодеяний".
Увидев своими глазами то, о чем она читала в России, и убедившись, что ее не обманывали, Елена Гончарова заявляет: "...я все поняла... раскаялась".
Все это сделано писателем с воспитательной целью. Есть испытанный способ научить ребенка не хвататься за горячий чайник: ему разрешают один раз схватиться.
В пьесе с испытанным способом Юрий Олеша дает своей героине схватиться за Европу. Но героиня держала горячий чайник так долго, что получила ожоги, от которых скоро умерла в ужасных мучениях.
Однако, ничему не научившись сама, она на своем примере, несомненно, воспитала многих других.
Обнесенный историей у себя на родине Николай Кавалеров хочет уехать на Запад.
Он стремится туда, где рассчитывает, что сможет выполнить свое назначение, где сможет сказать: "я жил, я сделал то, что хотел".
Николай Кавалеров бежит не от революции, а от Бабичева.
И, конечно, так же как Кавалеров бежит не от революции, а от директора треста тов. Бабичева, так и его двойник, его продолжение и его трагическое разрешение Елена Гончарова бежит от директора театра тов. Орловского.
Почему же так стремятся герои Олеши на Запад?
Николай Кавалеров стремится на Запад, потому что ему "хочется показать силу своей личности". Ему "хочется спорить". Он стремится на Запад, потому что "у нас боятся уделить внимание человеку", потому что он "хочет большего внимания", потому что "В нашей стране дороги славы заграждены шлагбаумами".
Слабыми руками Елена Гончарова пытается приподнять шлагбаум. Но она не собиралась изменить родине, и об этом убедительно говорится во всех восьми сценах пьесы. В четвертой же сцене, где начинаются события, сыгравшие особенно важную роль в ее судьбе, о ее намерениях и воззрениях сказано очень определенно:
"Т а т а р о в. Это правда, что в России уничтожают интеллигенцию?
Леля. Как уничтожают?
Т а т а р о в. Физически.
Леля. Расстреливают?
Т а т а р о в. Да.
Леля. Расстреливают тех, кто мешает строить государство.
Татаров. Я стою в стороне от политических споров, но говорят, что большевики расстрели-вают лучших людей России.
Леля. Теперь ведь России нет.
Татаров. Как нет России?!
Леля. Есть Союз советских республик.
Татаров. Ну, да. Новое название.
Леля. Нет, это иначе. Если завтра произойдет революция в Европе... скажем: в Польше или Германии... тогда эта часть войдет в состав Союза. Какая же это Россия, если это Польша или Германия? Таким образом, советская территория не есть понятие географическое.
Татаров. А какое же?
Леля. Диалектическое. Поэтому качества людей надо расценивать диалектически. Вы понимаете? С диалектической точки зрения самый хороший человек может оказаться негодяем.
Татаров. Так. Я удовлетворен. Следовательно, некоторые расстрелы вы оправдываете?
Леля. Да.
Татаров. И не считаете их преступлениями советской власти?
Л е л я. Я вообще не знаю преступлений советской власти. Наоборот: я могу вам прочесть длинный список ее благодеяний".
Душа русского интеллигента образца 1917-1931 г. в пьесе Юрия Олеши предстает перед нами не в виде зеленоватого дрожащего студня, который подавало к столу искусство тех лет и не в виде тумана цвета соплей, медленно всплывающего на заре, а в образах двух плотного сложения и закаленных жизнью мужчин: Федотова и Татарова, один из которых ходит с наганом, а другой ворует из чемодана дневник.
Эти образы являются персонификацией двух списков - благодеяний и преступлений советской власти, - которые ведет Елена Гончарова.
В толстой тетрадке, разделенной пополам, - первая половина озаглавлена "Список благодеяний", вторая "Список преступлений" советской власти.
Эта тетрадка в высоко художественной форме должна отразить душевное смятение русского интеллигента эпохи завершения нэпа, начала коллективизации и разгара индустриализации.
Вот диалог, весьма точно рисующий нам схему расстановки сил в душе Елены Николаевны:
"Федотов. Зачем вы пришли сюда?
Т а т а р о в. Борьба за душу. Ангел... вы. Я, конечно, дьявол..."
Так формулируется начатая с первых же реплик пьесы тема, которую писатель считает важнейшей в нашей судьбе: борьба черно-белых субстанций в душе русского послереволюцион-ного интеллигента.
Но плотного сложения мужчины, явно враждебные друг другу, равно как и враждебные списки благодеяний и преступлений, лишь олицетворение двух половинок ее мающейся души...
Тяжесть положения усугублена тем, что ни одна из упомянутых половинок не в состоянии ни победить другую, ни отказаться от изнуряющей и, в сущности, безысходной борьбы.
Сама Елена Николаевна совершенно отчетливо представляет себе композицию собственной души.
Вот как эта душа выглядит в более или менее объективном изложении ее обладательницы.
"Леля. Есть среди нас люди, которые носят в душе своей только один список. Если это список преступлений, если эти люди ненавидят советскую власть - они счастливы. Одни из них - смелые - восстают или бегут за границу. Другие - трусы, благополучные люди, которых я ненавижу, - лгут и записывают анекдоты...
Если в человеке другой список - благодеяний, - такой человек восторженно строит новый мир. Это его родина, его дом. А во мне два списка: и я не могу ни бежать, ни восставать, ни лгать, ни строить. Я могу только понимать и молчать...
Жизнь человека естественна тогда, когда мысль и ощущение образуют гармонию. Я была лишена этой гармонии".
Серьезным упущением Елены Николаевны Гончаровой является то, что она принадлежит к категории интеллигентов, которые спорят сами с собой, а не с другими, что они не могут ни строить новый мир, ни восстать против него, что они сидят между двумя списками, как между двумя стульями.
Можно надеяться, что читатель уже более или менее полно уяснил, каким именно образом выглядят половинки души Елены Гончаровой. Поэтому в дальнейшем мы не будем употреблять такие выражения, как "одна половинка души" и "другая половинка души", а будем говорить: "Федотов", "Татаров".
Итак, внутренний конфликт достигает необычайного нагрева:
"Т а т а р о в. Здравствуйте...
Федотов... Елена Николаевна, не разговаривайте с этим человеком... Что вам угодно?
Татаров... я пришел поговорить с артисткой, бежавшей из Москвы...
Л е л я. Я не знаю вас...
Федотов. Уходите отсюда немедленно.
Татаров. Милостивый государь...
Л е л я... Пусть он улетучится, как тень. (Уходит с Федотовым.)
Татаров (один). Тень? Хорошо! Но чья тень? - Твоя".
Резюмирую: две половинки души послереволюционного интеллигента разговаривают друг с другом таким образом:
- Уходите отсюда немедленно.
- Милостивый государь...
Так начинается битва за душу Елены Николаевны Гончаровой, и протекает она приблизитель-но в таких обстоятельствах и выражениях:
Ангел (Федотов А.И.)
Дух беспокойный. Дух порочный,
Кто звал тебя во тьме полночной?
Твоих поклонников здесь нет...
Демон (Татаров Н.И.)
Она моя! - сказал он грозно,
Оставь ее, она моя!
Явился ты, защитник, поздно.
И ей, как мне, ты не судья,
На сердце, полное гордыни,
Я наложил печать мою:
Здесь больше нет твоей святыни,
Здесь я владею и люблю!
Вот так. В связи с изложенным происходит следующее:
И ангел (Федотов. - А. Б.) грустными очами
На жертву бедную (Гончарову. - А. В.) взглянул
И медленно, взмахнув крылами,
В эфире неба потонул.
Следом за тем, как Ангел (Федотов А.И.), взмахнув крылами, потонул в небесном эфире, Демон (Татаров Н.И.) ухватил нашу героиню за половинку и стремительно направился в Западную Европу.
По дороге они увидели много интересного.
Хотя, конечно, так называемая "западная цивилизация" уже давно сгнила и доживает свои последние дни.
И вот они плывут над залитым морем ослепительных огней вечерним Парижем, в который она так страстно стремилась и который по мере продвижения вглубь оказывается подлинным адом.
Во время путешествия Душа видит в Париже какие-то странные вещи, как-то: любовницу Демона Н.И., поступками, речами и обликом подозрительно напоминающую московскую Дуньку, сыгравшую важнейшую роль в формировании ее отрицательного отношения к окружающей действительности. Следом за этим она сталкивается с административно-хозяйственным дураком Федотовым (Ангел), выразительно похожим на мелкого жулика Татарова (Демона), который, по представлению автора, является типичным образцом политического врага. Затем на ее пути встают двое полицейских, поразительно смахивающих на соседа по коммунальной квартире Баронского. Дальше происходит роковая встреча с директором парижского мюзик-холла Маржеретом, разительно сходного с директором московского театра Орловским. Потом оказывается, что вместо Чаплина ей подсовывают некоего сексуального мага, а сам Чаплин, как и следовало ожидать, превращается в бездомного артиста, выброшенного на улицу машиной капиталистических отношений.
Но вот после долгого и изнурительного пути она прибывает к месту назначения. Стоп машина. Приехали. Станция Березайка, кому надо, вылезай-ка. Душа вылезает.
По медленной и тихой дуге плывут полные слез глаза трагической актрисы.
Сдваивается, расплывается, расслаивается, косо кренится Париж в полных слезами глазах.
Полные слез глаза трагической актрисы видят горе людей и секундное счастье, похожее на короткие далекие вспышки, и длинный, тяжелый, громоздкий, переваливающий через рвы и рытвины, ковыляющий, ползущий, обваливающийся обоз дней, ночей, зим, лет, веков и тысячелетий человеческой жизни.
Глаза - единственное, что есть у художника. Одни глаза. Он все видит.
Если он свободный человек.
Плывущие по широкой дуге глаза увидели театр.
Так, так.
Театр называется хотя и традиционно, но неплохо - "Глобус".
И традиция эта тоже неплохая: за триста с лишним лет до того, как Елена Гончарова начала попеременно вздыхать то на Собачьей площадке, то на площади Рон-Пуэн-де-ла-Вилет (предположительно), труппа "Слуги лорда Камергера", возглавляемая трагическим актером Ричардом Бербеджем, другом и соратником Шекспира, давала спектакли в лондонском публичном театре того же названия.
Как, надо думать, преуспел театр "Глобус" за это время!
Вследствие того, что человека в первую очередь должна интересовать его производственная практика, естественно, что Елена Гончарова тотчас же обратилась к театру.
Поскольку маршрут Демона совпал с наиболее близкой нам дорожкой искусства, то мы с радостью отойдем от во многом еще неясных путей мировой истории, политики, экономики, астронавтики, кибернетики и эйдетики и задержимся на упомянутой дорожке несколько дольше.
Итак, знаменитая советская актриса встретилась со знаменитым европейским импресарио.
Как это, должно быть, восхитительно! Как замечательно!
Знаменитая актриса твердо уверена в том, что ее мечта о подлинном искусстве, которую она не могла осуществить у себя на родине, наконец, воплотится здесь.
Сейчас мы увидим, что из этого вышло.
Автор пьесы как бы сталкивает нас только с одними объективными фактами. Он как бы умывает руки; похоже, что он хочет сказать; не сам, а словами другого, такого же хорошего поэта Генриха Гейне:
Я не знаю, кто тут прав
Пусть другие то решают...
Не правда ли?
За некоторое время до того, как сама Елена Гончарова высказалась на социально-историчес-кую тему, человек, эмигрировавший из Советской России, Татаров (Демон), заявляет, что она не сможет устоять перед искушением так называемой свободы творчества. Даже она, а ведь "ей разрешалось многое. Она ставила "Гамлета"... "Гамлета" - в стране, где искусство низведено до агитации за разведение свиней, за рытье силосных ям..." Он уверяет: несмотря на то, что "советская власть избаловала ее... самым пылким ее желанием было - бежать сюда..." "Сюда" же она так стремилась "бежать", потому что "в России - рабство. Мир говорит об этом. Но что слышит мир! Он слышит жалобы лесорубов, темное мычание рабов, которые не могут ни мыслить, ни кричать..." Но теперь он может "извлечь жалобу из высокоодаренного существа... И миру станет вдвое страшней. Знаменитая актриса из страны рабов закричит миру: не верьте, не верьте моей славе! Я получила ее за отказ мыслить. Не верьте моей свободе: я была рабой, несмотря ни на что".
И еще что-то в том же роде.
Эти злобные и безответственные выпады, поскольку они делаются в Париже, а не в Москве, автор не оставляет безнаказанными. Никакой поблажки он не дает. (Это вообще заслуженный удел белой эмиграции.) Уже в те годы Юрий Олеша был начисто избавлен от того, что мы еще в некоторых случаях до сих пор не изжили из своих рядов, - от так называемого абстрактного гуманизма. Этим Юрий Олеша не страдал никогда. Писатель круто расправляется с человеком, клеветнически утверждающим, что в Советском Союзе "искусство низведено до агитации за разведение свиней", что "в России - рабство" и пр. За это Юрий Олеша жестоко карает своего героя: он превращает его в ничтожного эмигранта, лишенного всякой опоры в народе. И это является одним из главных достоинств пьесы. Писатель разоблачает его внутреннюю опустошен-ность и выбрасывает его из своего творчества. Железной метлой.
И вот тут-то наступает, наконец, момент, когда Юрий Олеша показывает своей героине, что такое настоящее европейское искусство!
Вместо замечательного расцвета она видит жалкую и в то же время естественную в эпоху империализма деградацию.
Да, да, прошло его (европейского искусства) времечко. Было да сплыло. Закатилось солнышко за лысую горку. Был Шекспир, а стал Маржерет, и больше ничего теперь нет. То есть писатель хочет этим сказать, что директор мюзик-холла, в сущности, не имеет почти ничего общего ни с Бербеджем, ни тем более с Шекспиром. Вот тебе и "Глобус"! Федот да не тот. Вот именно. Тов. Федотов, положительный герой пьесы "Список благодеяний", который все знает, очень хорошо объяснил: "...тот Париж, который в мечтах у вас, этого Парижа нет теперь, он уже призрак. Культура (Запада. - А. Б.) обречена на смерть... Это развалившийся храм..."
Так говорит дурак Федотов. А умный Олеша говорит совсем не так: "Никакой творящей идеи у художников Запада нет".
Таким образом, быстро и убедительно доказывается вырождение европейского искусства и вообще культуры.
Итак, мы узнаем из произведений Ю. К. Олеши, что к 1931 году в Европе вместо искусства остались одни балаганы, возглавляемые грязными скотами, играющими на низких инстинктах буржуазной публики с помощью грязных певцов-сексуалов.
Елена Гончарова приходит к европейскому режиссеру эпохи империализма и предлагает ему "Гамлета".
Чего?
"Гамлет", "Гамлет" Шекспира, понимаете?
Ничего не понимает.
Европейский худрук слабо разбирается в драматургии Елизаветинской эпохи. Да и вообще из всей эпохи Возрождения его несколько заинтересовала лишь флейта.
"- Нет, нет, нет, - говорит он, - не годится.
- Почему?
- Не интересно. Флейта, да... интересная работа с флейтой может быть такой..."
В пьесе "Список благодеяний" сталкиваются художник и общество.
Художник предлагает свое искусство.
Общество предъявляет свои требования.
Художник. - Я хочу сыграть сцену из "Гамлета".
Общество. - Не интересно, флейта, да... Сперва вы играете на флейте... Какой-нибудь менуэт... Чтобы публика настроилась на грустный лад. Вот. Затем вы флейту проглатываете... Публика ахает. Переключение настроения: удивление, тревога. Затем вы поворачиваетесь к публике спиной, и оказывается, что флейта торчит у вас из того места, откуда никогда не торчат флейты. Это тем пикантнее, что вы женщина. Вот. Слушайте меня, это замечательно. Затем вы начинаете дуть во флейту, так сказать, противоположной стороной - и тут уже не менуэт, а что-нибудь повеселее: "Томи, Томи, встретимся во вторник". Понимаете? Публика в восторге, хохот, буря аплодисментов.
Европейский худрук знает дело: буржуазное общество эпохи империализма не желает настраиваться на грустный лад. Оно желает что-нибудь повеселее.
Но художник любой эпохи - империализма или феодализма, или какой-нибудь еще - не хочет, чтобы флейта торчала у него из того места, откуда никогда не торчат флейты.
Общество заставляет художника проглотить флейту.
Оно загоняет флейту в глотку художника.
Бедный, слабый, сдавшийся художник проглатывает флейту.
- Кру-гом! - командует общество. - На месте, шагом арш!
Сдавшийся художник поворачивается: торчит флейта.
Он начинает дуть во флейту противоположной стороной.
Такое искусство всегда устраивает общество. Публика в восторге, хохот, аплодисменты.
Зажатые уста, язык за зубами, прижатый к губам палец, тишайшие "Тсс!" и "Ш-шш!", свистевшие, трубившие, оглушительно громыхавшие по векам, все это придумало общество, чтобы хоть как-нибудь помешать художнику до конца осуществить его назначение.
Поэта заставляют писать "В учрежденьи шум и тарарам..."
Художник уступает, пишет "Стансы".
Неужели все искусство это лишь несколько звуков, которые успел произнести свободный человек - художник, - пока его не заставили проглотить флейту?
Уязвленная в самое сердце Душа в отчаянии бредет по Парижу. Ей кажется, что люди, с которыми она жила раньше, и люди, с которыми она живет сейчас, не осложненные отвлекающи-ми подробностями, - одинаковы. Что одинаковы театры и зрители одни и те же, и жизнь - та же. И театры, и люди, и жизнь... Кончилась жизнь.
И она начинает думать, что между директором театра Орловским и директором театра Марже-ретом разницы нет. Но если это так, то зачем же ума искать и ездить так далеко - в Европу? В самом деле? Все это она могла с избытком получить и у себя дома без лишних расходов и трепки нервов.
Но свобода, жизнь, смерть, искусство, выбор, судьба. Право на свободу...
Но вот мир, в котором советский директор Орловский цыкает на нее, и вот мир, где ходит, не застегнув пуговицы, европейский директор Маржерет. И ей надо выбрать, что лучше.
Она говорит: "Я хочу домой... Как там спектакли идут без меня? Родина, я хочу слышать шум твоих диспутов..." Вот Орловский...
Конечно, Орловский цыкает. А что еще прикажете ему делать? Пьесы ставить? Ну, нет. Избавьте его от этого утомительного бремени. Тов. Орловский может только руководить. Что же ему еще остается, как не руководить, возглавлять, приказывать, вызывать куда следует, запрещать, тащить? Что он еще может? Звонить в колокольчик? Свистеть в свисток?
А Маржерет? У этого хватает фантазии лишь на то, чтобы дуть задом во флейту. А духовные запросы? Что можно ждать от человека, который ничего не понял в знаменитом диалоге Гамлета с Гильденстерном, акт II, сцена 2?
Она вспоминает, что говорит о "Гамлете" европейский буржуа:
"Нет, нет, нет, не годится... Не интересно... не годится" - говорит он.
И что говорят о "Гамлете" советские зрители:
"Эта пьеса... "Гамлет" - очевидно, писалась для интеллигенции. Рабочий зритель ничего в ней не понимает, это иностранщина и дела давно минувших дней. Зачем ее показывают?"
Елена Гончарова думала, что если ее обидел директор театра Орловский, то у нее остается надежда найти пристанище у директора театра Маржерета.
Если бы человек разочаровался в Маржерете, то утешился бы надеждой на Орловского.
Но если обиженный одним он попадает к другому, который обижает его так же жестоко, как и первый, то из этого неотвратимо следует, что выхода у человека нет.
Тогда он в отчаянии говорит:
Я ранен!..
из этого мира я получил отставку, ручаюсь...
Пропал, погиб...
Эти слова произносит юноша, смертельно раненный из-под руки друга: он дрался с человеком, который хотел убить его друга, но тот пытался помешать поединку, и юноша погиб. Из-под руки друга.
И вот тогда выясняется, что части души, расколотой надвое, не соединяются, что они не могут соединиться, что не может быть победы одного списка над другим, что выбора нет и ничего не может быть разрешено.
Не нашедшая выхода на Западе, Гончарова хочет вернуться в Россию.
Но Гончарова уехала на Запад именно потому, что в России ей многое не нравилось. Теперь она хочет вернуться в Россию не потому, что там все стало таким, каким бы ей хотелось, но потому, что на Западе оказывается еще хуже.
Выбор, который должна сделать Гончарова, это выбор не между злом (Запад) и добром (СССР), а выбор из двух зол (Запад, СССР). Она выбирает то, что ей кажется меньшим злом (СССР).
Наступает разочарование в Европе.
Почему это должно сделать очаровательным то, что до сих пор казалось отвратительным, сказать невозможно.
Разочарование в России, разочарование в Европе...
Быть может, Елена Гончарова думает, что все на свете одинаково, что все едино, что одно похоже на другое и что один мир не хуже и не лучше другого?..
Жизнь ставит перед героиней трудные вопросы. Жизнь требует ответить:
Каково решенье ваше?
Чья религия мудрее?
Героиня уверяет, что теперь ей ничего не стоит ответить на трудные вопросы, потому что она "все поняла", увидев, какова эта Европа, в которую она так стремилась.
Если человек уезжает из СССР, который он осуждает, и приезжает в Европу, где его убивают, то создается впечатление одинаковости и безвыходности.
Или, быть может, вяло глядя на окружающую действительность и гладя пальчиком лоб, после краткого раздумья она отвечает, что не может решить, кто прав, но оба запаха ей кажутся одинаково противными?
Из России она стремится в Европу, из Европы в Россию...
Впрочем, она уверяет, что "все поняла" и что Россия разрешила ее сомнения.
Но все происходящее в пьесе заставляет думать о том, что один мир не хуже и не лучше другого.
От того, что Запад оказался плохой и там был обнаружен список злодеяний капиталистов, список преступлений не перестал существовать и не стал лучше.
Однако Гончарова выбирает Россию.
Выбор происходит на почве прозрения и предпочтения меньшего зла.
Автор делает вид, что предлагает нам два варианта социального бытия, но по добрым и чуть ироническим лучикам, бегущим от его слегка прищуренных глаз, мы догадываемся, что ему давно уже все ясно, и он теперь думает лишь о том, как лучше прикокнуть свою героиню.
Этому доброму и уже уставшему человеку нужны суд, смерть, кара и казнь.
Но что такое просто зарезать человека? Будет ли это достаточно художественно? Этого нельзя утверждать.
Тончайший художник Юрий Олеша не душит потихоньку свою героиню где-нибудь в застенке, а расстреливает с леденящими сердце подробностями. Героиня погибает из-под руки человека, которого она должна спасти. Этим автор хочет сказать, что ее преступление не прощается. "Гончарову убивает белоэмигрант из советского револьвера. Таким образом, - объясняет Олеша на диспуте в Теаклубе, - я показываю, что обе стороны казнят Гончарову"1.
1 А. Гурвич. Под камнем Европы. - "Советский театр", 1931, № 9, с. 28.
Убивая героиню, прикрывшую вождя парижского пролетариата, Юрий Олеша повторил еще один шекспировский мотив, которых (вместе с другими) и без того много в его пьесе: убийство Меркуцио из-под руки Ромео.
Но ведь Меркуцио умирает, потому что Шекспиру нужно показать, как отвратительны мир Монтекки и мир Капулетти, что они равны, и для того, чтобы проклясть оба этих мира. И прекрас-ный юный человек, попавший в черный облитый кровью средневековый мир, из которого выхода нет и в котором обе половины одинаковы, произносит первую фразу новой эпохи.
Он говорит:
Чума на оба ваши дома!
Я ранен!
Чума на оба ваши дома! Я пропал...
Царапина, царапина пустая;
Но и ее довольно...
Приходи завтра, и ты найдешь меня спокойным человеком. Из этого мира я получил отставку, ручаюсь. Чума на оба ваши дома!..
Чума, чума на оба ваши дома!
Я из-за них пойду червям на пищу,
Пропал, погиб. Чума на оба ваши дома!
"Список благодеяний" завершил перечисление доступных автору вариантов социального бытия и вызвал независимый от намерения угрожающий вывод.
Последний из поставленных писателем социальных опытов неожиданно показал не высокие достоинства одного мира и низменные недостатки другого, а совершенно неуместное тождество обоих миров.
Оказалось, что конфликт человека и общества неотвратим и что он возникает во всех случаях социального существования.
Я утверждаю, что это неминуемо следует из текста произведения, в котором все время получается что-то иное, нежели хотел автор.
Автор, конечно, ничего подобного не хотел.
Он хотел совсем другое: показать, как загнивает буржуазное общество.
Таким образом, становится совершенно ясно, что автор получил совсем не то, что ему нужно. Ему нужно получить бесспорные преимущества, а получил сомнительное сходство.
Уже немолодой и изрядно потрепанный жизнью писатель принимает несколько странную для его комплекции и мировоззрения позу прекрасной и юной Донны Бланки (в девичестве Бланш Бурбон), жены короля Кастилии Педро Жестокого (1334-1369), и теперь, фактически, совершенно иначе подходит к сложнейшему историческому вопросу.
Ну, что можно сказать обо всем этом?
Так как решение этого сложнейшего вопроса уже было в общих чертах сформулировано Г. Гейне, много лет посвятившего разработке аналогичных проблем, то мы и предлагаем слово выдающемуся представителю немецкой демократической поэзии.
Пожалуйста:
"Вы скажите ваше мненье
О сцепившихся героях,
Капуцина иль раввина
Предпочтете их обоих?"
Донна Бланка смотрит вяло,
Гладит пальцем лобик нежный,
После краткого раздумья
Отвечает безмятежно:
"Я не знаю, кто тут прав
Пусть другие то решают,
Но раввин и капуцин
Одинаково воняют"1.
1 Генрих Гейне. Лирика и сатира. М., 1948, с. 141.
Вот какую странную мысль может внушить пьеса "Список благодеяний".
Впрочем, не следует думать об авторе хуже, чем он заслуживает: никаких странных мыслей он не собирался внушать. Автор хотел показать, как загнивает Европа в эпоху империализма. И это ему удалось сделать с большой художественной силой. Все же остальное получилось оттого, что очень трудно писать хорошие пьесы.
У этого автора никогда дурных намерений не было.
Он никогда не был Спинозой, чтобы выделывать ногами кренделя.
Автор шел прямо и твердо.
К "Строгому юноше".
И эта дорога была столь же прекрасна, как последний путь Джордано Бруно.
Это замечательно, но в то же время приходится иной раз поражаться "политической близору-кости" (как сказал в связи с другим автором один из друзей Юрия Олеши), в силу которой (то есть политической близорукости) никто из писавших о пьесе никогда не обратил внимания на то, что это произведение было создано в особенно знаменательное время и в особенно знаменательных обстоятельствах.
Именно в это время создавались обстоятельства, настроения и концепция, выраженные в формуле "если враг не сдается, его уничтожают".
Эту формулу создал не Сталин.
И не враги народа.
Ее создал Горький.
Горький создавал литературные формулировки политики Сталина.
А литературные критики в это время определяли свою задачу таким образом:
"Сломать руку, запущенную в советскую казну, - это критика... Затравить, загнать на скотный двор головановщину и всякую иную культурную чубаровщину, - это тоже критика... Критика должна иметь последствия: аресты, судебные процессы, суровые приговоры, физические и моральные расстрелы... В советской печати критика - не зубоскальство, не злорадное обывательское хихиканье, а тяжелая шершавая рука класса, которая, опускаясь на спину врага, дробит хребет и крошит лопатки... "Добей его!" - вот призыв, который звучит во всех речах руководителей советского государства..."1
1 С. Ингулов. Критика не отрицающая, а утверждающая. - "Красная нива", 1928, 6 мая, № 19, с. 2. (Передовая статья.)
В связи с концепцией, известной под названием "боги жаждут", о которой так часто приходится говорить на страницах этой книги, необходимо напомнить о том, что С. Б. Ингулов (1898-1931), член КПСС с 1918 г., зам. зав. Агитпропом ЦК ВКП(б), начальник Главлито, то есть один из руководителей советского государства, получил все то, что он с воодушевлением людоеда требовал для других: в связи со строжпйше запрещенными советским законом методами ведения следствия шершавая рука раздробила ему хребет, раскрошила лопатки, загнала, затравила и расстреляла. Реабилитирован посмертно. В статье "Наш первый редактор" ("Учительская газета", 1963, 27 апреля, № 51) любовно воссоздается светлый облик этого обаятельного человека и писателя-гуманиста.
Еще лучший облик воспроизвел В. П. Катаев на страницах своего прочувствованного произведения "Трава забвения". Вот как на этих страницах выглядит этот качественный облик: "Как сейчас вижу сердитое лицо моего старшего товарища и друга Сергея Ингулова, здоровое, цвета сырого мяса, с раздвоенным, как помидор, подбородком. В пенсне с толстыми стеклами без ободков, с несколько юмористически сжатыми губами провинциального фельетониста, слегка подражающего Аркадию Аверченко, и вместе с тем волевое, даже иногда грозно-беспощадное лицо большевика-подпольщика, верного ленинца, как бы опаленное пламенем тех незабвенных лет". ("Новый мир", 1967, № 3, с. 80). А перед этим приводится рассказ самого Ингулова, и рассказ этот кончается так: "Поэты и поэтессы, вы сумели воспеть любовь Данте и Беатриче, разве вам не постичь трагической любви штабс-капитана и девушки из партшколы?" В самом же рассказе о трагической любви девушки из партшколы и штабс-капитана сообщается о том, как по заданию губчека девушка проникла в организацию, возглавляемую штабс-капитаном. "В губчека... ей приказали влюбить в себя штабс-капитана". Этот приказ она выполнила, и, уже независимо от приказа, влюбилась сама. Но это в план губчека не входило. У губчека были совсем иные плавы. И в связи с ними девушка "твердо исполнила свой партийный революционный долг, ни на минуту не выпуская из виду своего возлюбленного до тех пор, пока они не были вместе арестованы, сидели рядом в камерах, перестукивались, пересылали записки. Затем он был расстрелян. Она освобожде-на". (Там же, с. 80).
Она и начальник секретно-оперативной части губчека служили в доме, который возвышался над всем городом, как Акрополь. "Бессонный, как совесть, он беспощадно озарял самые темные закоулки человеческого сознания, где, быть может, еще гнездились преступные мысли, порожден-ные моралью старого мира". (Там же, с. 81).
Потом и она и начальник секретно-оперативной части губчека, который давал ей задания, были арестованы. Потом были реабилитированы.
Пьеса "Список благодеяний" была создана сразу же после одного из самых первых и одного из самых значительных судебных процессов нашего века, процесса Промпартии.
И она была ответом писателя на призыв отразить в полноценных художественных образах события эпохи.
Юрий Олеша проводит процесс Е. Н. Гончаровой после суда над Рамзиным, Ларичевым, Черновским и другими членами "...подпольной контрреволюционной вредительско-шпионской организации верхушечной части буржуазной технич. интеллигенции, действовавшей с 1926-го по 1930-й по заданию фр. разведки"1.
Дело слушалось в Москве с 25 ноября по 7 декабря 1930 года Специальным присутствием Верховного суда СССР под председательством т. Вышинского.
В стране выходили газеты и журналы и эти газеты и журналы Юрий Олеша читал.
Некоторые статьи он, вероятно, читал особенно внимательно. Например, такую:
" Помещая статью об этом процессе в литературном журнале... хочется в заключение еще раз подчеркнуть, что и на литературном фронте происходит... активизация враждебных пролетариату сил. От советских пролетарских писателей, как и от всего рабочего класса, требуется в связи с этим максимум классовой бдительности, максимум политической зоркости... ...мы должны неустанно разоблачать всех кулацких агентов в литературе, объективно работающих на реставрацию капитализма.
Процесс "Промпартии" для нас - литераторов, драматургов, писателей должен послужить могучим стимулом в борьбе с "гуманизмом" и "объективизмом" в литературе, которые являются литературными эквивалентами "лояльности" и "аполитичности", демаскированных и разгромлен-ных на историческом процессе, контрреволюции"2.
1 Большая Советская энциклопедия. Т. 47, 1940, с. 238-239.
2 Тур. Узлы развязаны. - "Стройка". Иллюстрированный десятидневник литературы, критики, публицистики. 1930, № 30, с. 7.
За пять дней до начала процесса, 20 ноября 1930 года "Литературная газета" печатает подборку "Писатели выходят на трибуну общественного обвинения".
На трибуну общественного обвинения выходит писатель Виктор Шкловский. Он говорит:
"Людям дали огромные творческие возможности. А эти люди, как героиня мопассановского рассказа, хотели породить уродов: уроды-заводы, уроды-планы. Действия этих людей говорят о том, что наступление на Страну Советов очень близко".
Следом за В. Шкловским выходит А. Эфрос. Он говорит:
"Мы должны убить тех, кто хотел убить СССР".
Его сменяет Е. Зозуля. Он говорит:
"Мы приветствуем ОГПУ, раскрывшее заговор..."
"Н. Адуев вместо речи зачитал монолог члена Верхсуда Брагинского из своей пьесы "Октябрь". В нем говорится о тех агентах международного капитала, которые неумолимо будут "списаны диктатурой пролетариата в расход"".
"И. Сельвинский в большой содержательной речи, анализируя классовую сущность разоблаченной вредительской организации, вскрыл органическую связь интервенционистских попыток со стороны зарубежных империалистов с общим загниванием капитализма, вступившего в полосу невиданных в истории кризисов".
Б. Ромашев также произносит большую и содержательную речь.
"Мы, драматурги, тоже ответственны: вместо подлинной картины вредительства, как проявле-ния классовой борьбы, в огромном количестве пьес мы показываем жалкий штампованный образ злодея-вредителя, не разоблачая его как агента международного капитала. Наша драматургия должна поднять боевое знамя, каждый драматург должен встать на своем драматургическом посту со своим драматургическим оружием".
Следом за этими выступлениями была напечатана "Резолюция писателей".
В ней было сказано: "Мы, советские писатели и драматурги, горячо приветствуем верного часового революции - ОГПУ и ходатайствуем перед правительством о награждении ОГПУ орденом Ленина.
Поставим свое творчество на службу пролетарской революции!
Поведем непримиримую борьбу с буржуазными агентами!
На фронте искусства и литературы - сорвем маски с классовых врагов!
Смерть контрреволюционерам и заговорщикам!"1
1 "Писатели выходят на трибуну общественного обвинения". "Литературная газета", 1930, 20 ноября.
Во время таких хлыстовских радений художественная интеллигенция взвинчивала себя до советского патриотического экстаза и вступала в состояние содомии. Тут уж невозможно было понять, кто кого сгреб, кто кого убивает, кто с кем спит, кто на кого донос строчит. Начался свальный грех советской интеллигенции.
Он был исторически необходим в связи с тем, что страна готовилась идти от победы к победе. Именно поэтому, как мы уже знаем, "Шершавая рука класса, опускаясь на спину врага, дробит хребет и крошит лопатки... "Добей его!" - вот призыв, который звучит во всех речах руководите-лей советского государства. .."
Призыв оглушительно звучал, гремел, несся над страной и его поддерживали выстрелы и стоны расстреливаемых.
"А где шум по поводу образцовых процессов, против мерзавцев, злоупотребляющих новой экономической политикой? Этого шума нет, ибо этих процессов нет. НКЮст "забыл", что это его дело, что не суметь подтянуть, встряхнуть, перетряхнуть нарсуды, научить их карать беспощадно, вплоть до расстрела и быстро за злоупотребления новой экономи-ческой политикой, это долг НКЮста...
Каждого члена коллегии НКЮста, каждого деятеля этого ведомства надо бы оценивать по послужному списку, после справки: скольких коммунистов ты закатал в тюрьму втрое строже, чем беспартийных за те же проступки? скольких бюрократов ты закатал в тюрьму за бюрократизм и волокиту? скольких купцов за злоупотребление нэпом ты подвел под расстрел или под другое не игрушечное... наказание? Не можешь ответить, на этот вопрос? - значит ты шалопай, которого надо гнать из партии за "комболтовню" и за "комчванство"...
Председатель СНК В. Ульянов (Ленин).
P. S. Ни малейшего упоминания в печати о моем письме быть не должно. Пусть, кто хочет, выступает за своей подписью, не упоминая меня и побольше конкретных данных".
"С особой просьбой: не размножать, только показывать под расписку, не дать разболтать, не проболтать перед врагами. 20.11.1922"1.
1 В. И. Ленин. О задачах Наркомюста в условиях новой экономической политики. Письмо Д. И. Курскому. В кн.: В. И. Ленин. Полн. собр. соч. Т. 44, М., 1964, с. 396-400.
"Список благодеяний" был напечатан в журнале "Красная новь" в августе 1931 года, ректором которого был т. Ермилов.
Я утверждаю, что эта пьеса была ответом советского писателя-патриота на вызов мировой реакции. Юрий Oлеша отражал происки. Он оказывал советскому правосудию моральную поддержку. Написав пьесу об измене родине в дни, когда происходил суд над изменниками родине, Юрий Oлеша способствовал созданию атмосферы бдительности и мобилизационной готовности.
Oлеша судит и осуждает свою героиню в преддверии длинного списка процессов и тайных судилищ 30-х годов. По своему характеру это процесс 30-х годов.
В нем уже есть все, что нужно обвинению, и уже нет ничего, что нужно обвиняемому.
В нем есть нарушение процессуальных норм и нет правовых гарантий; есть фальсификация, лжесвидетельство, клятвопреступление, подлог, запугивание, жажда сенсационных разоблачений, априоризм и злонамеренность и нет объективности; есть ложные доносы, аресты родственников, оговор, клевета, заведомо ложные обещания сохранить жизнь и предрешенность и нет защиты, помогающей обвиняемому; есть недоразумения и нет интереса к истине. Процессу тридцатых годов неминуемо предшествуют пытки, гипноз, голод, бессонница, конвейерные допросы, наркотические вещества - все то, что при разоблачениях становится известным под именем "строжайше запрещенных законом методов ведения следствия".
Наиболее характерные черты процесса тридцатых годов присутствуют в пьесе Олеши.
Он был чутким человеком, хорошим современником, добрым соседом всяких людей, своим человеком эпохи. Его гнал страх.
В этой пьесе драматург со всей суровостью карает свою героиню. Лучше всего, конечно, расправиться так, чтобы все было кончено сразу, и концы в воду.
Олеша был опытным писателем, и поэтому такие вещи, как убийство героев, он не решал на ходу или на скаку, в обстановке нездоровой штурмовщины.
Через три года после "Списка благодеяний" писатель обобщает накопленный опыт. Он пишет:
"Меня интересует вопрос о физическом уничтожении персонажей в пьесах".
Этому вопросу посвящено превосходно написанное, чрезвычайно насыщенное фактическим материалом исследование1.
1 Заметки драматурга, I. В кн.: Ю. Олеша. Избранные произведения. М., 1956, с. 401.
Кто оплачет смерть героини?
Во всей пьесе нет ни одной души, которой бы героиня была дорога.
Ее может оплакать только автор. Но автор переходит на другую сторону улицы. (Есть такой испытанный способ.) Он делает вид, что не знаком с героиней. По крайней мере, с ее сомнениями, с ее списками. То есть, конечно, немного знаком, иногда встречались, в театре, у Мейерхольдов, ах нет, у Мейерхольдов никогда не встречались, вообще не бывал, где-то еще, точно не помню. Но взглядов ее не разделял. Ни в коем случае.
Автор настойчиво и издалека подготавливает убийство героини, и для этого вводит специаль-ного персонажа, который больше ни за чем не нужен. Это весьма распространенное явление при политическом убийстве.
Не менее серьезно подготавливается к смерти и жертва. Исподволь и задолго убеждают человека в том, что ему больше ничего не остается, как умереть.
В таком случае убийство ничем не отличается от самоубийства, и в чьей руке был выстрелив-ший пистолет - убийцы или самоубийцы, - не существенно. Важно, чтобы пистолет выстрелил. Для убийства поэтов к нему делается приспособление. Это приспособление может называться "Дантес" или "Мартынов", или "Социальные условия эпохи".
В исторически необходимой атмосфере побед, расправ, убийств и судилищ Юрий Олеша старался поспеть, хоть задыхаясь, за гремящей бурей века.
Юрий Олеша очень хотел быть великим писателем. И часто ему казалось, что он уже стал им. Он старался все делать, как эти замечательные люди. Великие писатели всегда делают так: они пишут о том, что важно для всего человечества.
Юрий Олеша тоже так делал.
С конца 20-х годов для человечества самым важным были процессы и пьесы.
Особенно такие процессы, которые кончались расстрелом изменников родины.
Изменники бежали на Запад, потому что (клеветнически утверждали они) "в нашей стране дороги славы заграждены шлагбаумами".
Именно такая вражеская вылазка - бегство и клевета - рассматриваются и караются по статьям 58-1а и 58-10, часть 1 Уголовного кодекса РСФСР в пьесе Юрия Олеши "Список благодеяний".
Елена Гончарова едет в Париж, чтобы увидеть фильмы Чаплина "Цирк" и "Золотую лихорад-ку", а ее судят за измену родине.
Это делается не сразу. Для того чтобы публика поверила, что человек, которого судят, изменник, нужно сначала убедить ее в том, что он жулик.
Олеша сначала убеждает, что человек, которого он судит, жулик.
Будучи опытным писателем, прошедшим основательную школу, уже видавшим политические процессы и внутренне подготовленным к новым, он начинает не с решающих социальных катаклизмов, а с маленького морального разложения.
Маленькое моральное разложение происходит в связи с платьем.
Это платье играет роль коготка в драматическом повествовании о гибели интеллигентской птички.
Интеллигентская птичка разыгрывает нижеследующий сюжет.
Заглядевшись на парижское платье (контаминация мотивов, связанных с взаимоотношениями вороны и лисицы, и страстной потребности сшить шинель), героиня забывает заветный чемоданчик. В заветном чемоданчике - "Тайна русской интеллигенции": тетрадка со "Списком благодеяний" и "Списком преступлений" советской власти.
В эту тетрадку, в два ее списка пишет, что знает о жизни, женщина, актриса, которую так и не научили лгать и которая хочет понять, какой список истинный.
Эту тетрадку выкрадывает злодей, и интеллигентская птичка, пискнув "простите меня", сцена восьмая, страница 96, пропадает.
Все это сделано для того, чтобы скомпрометировать героиню.
Для того чтобы показать, как оборачиваются так называемые "маленькие" или "простые", или "человеческие" радости в эпоху ожесточенных классовых битв.
По старой доброй отечественной традиции маленькие, простые и человеческие радости смешиваются с грязью, чтобы никто не путал их с величественными подвигами.
Процесс компрометации указанных радостей и их духовных вождей начинается с того, что морально неустойчивый человек соблазняется заграничным барахлом. Он продает свое первород-ство за чечевичную похлебку в форме буржуазных штанов.
Никогда нельзя начинать прямо с компрометации убеждений человека. Это ведь, знаете, еще кому как покажется. В понятии "убежденность" всегда есть нечто, вызывающее уважение. Поэтому нужно скомпрометировать человека уже скомпрометированными вещами. Например, воровством. Воровство мало кто станет оправдывать изысканными побуждениями, как это было во времена Виктора Гюго. Но вообще свет клином не сошелся на воровстве. В последнее время хорошо разработана методология смешения человека с грязью за низкопоклонство или не отвечающий кондициям рисунок профиля. (Варианты: 1. Врач (убийца в белом халате) кусает грудь любовницы. 2. Торговля старинными русскими иконами). Вот когда людям, обладающим высоким нравственным чувством (а все читатели газет, к которым апеллируют с похлебкой, низкопоклонством и рисунком профиля, обладают самым высоким нравственным чувством, и ни при каких обстоятельствах всяких безобразий не делают), докажут, что преступник продавал первородство и кусал грудь, тогда можно переходить к следующему этапу. Следующий этап соединяется с предшествующим таким образом: морально разложившийся субъект может совершить любой, самый отвратительный поступок.
Морально разложившийся субъект начинает совершать любые, самые отвратительные поступки.
В зависимости от серьезности проступка повышается градус морального распада, и поэтому в серьезных случаях подсудимого повергают в такое моральное разложение, которое по силам только казачьему эскадрону, вырвавшемуся на оперативный простор.
По существующей номенклатуре преступнику приписываются: а) пьянки в ресторанах и на даче, б) погоня за иностранными тряпками (вариант: иностранной валютой, зажигалками, шариковыми ручками), в) желание выделиться, г) хамское обращение с подчиненными, д) неспускание за собой воды в уборной, е) брошенных детей, ж) умирающую от голода мать-старушку, з) убитого горем отца, и) замученную бабушку, к) затравленного дедушку, л) терроризированных соседей. При этом всем с самого начала бывает абсолютно ясно, с каким прохвостом и морально разложившимся субъектом, способным на любое, самое отвратительное преступление, они имеют дело.
Это классическая традиция русской литературы, начатая в былинном эпосе, развитая в назида-тельной повести, получившая наиболее полное выражение в "Капитанской дочке" (моральное разложение изменника-Швабрина) и дошедшая до наших дней.
Можно представить, что в результате судебной ошибки героиня привлекается к ответственнос-ти за измену родине.
(Бывают такие эпохи, главное содержание которых составляют разнообразные ошибки, в том числе и судебные.
В эти эпохи судебным ошибкам противопоставляются индустриальные гиганты, которые с хохотом посрамляют судебные ошибки и указывают им место.)
Для привлечения героини к судебной ответственности по статье об измене родине, есть, несомненно, самые серьезные основания.
Согласно показаниям свидетелей, бесспорным вещественным доказательствам, а также признанию самой обвиняемой, она в разговоре со своей знакомой по театру гражданкой Семено-вой Екатериной Ивановной, артисткой, беспартийной, образование среднее, член профсоюза, утверждала, что "есть многое в политике нашей власти, с чем я не могу примириться. Я говорю о преступлениях против личности".
За это судить и казнить человека действительно необходимо. Не правда ли?
А ее судят за то, что дневник, который она вела, состоит из двух частей: списка благодеяний и списка преступлений, - и, помимо ее воли, в эмигрантскую печать попадает одна часть.
Но разве может человек нести ответственность за часть, которую выдают за целое? Ведь даже в пределах фразы одна половина может придать другой прямо противоположный смысл.
О нерасторжимости частей Гончарова говорит необыкновенно патетически: "Как? Оторвать половину? Нет, эта тетрадка не разрывается".
Подобно тому как нельзя судить человека, поджегшего дом, по статье об изготовлении фальшивых денег, так и нельзя судить даже сомневающегося человека за преступления, которых он не совершал. Как и всяких людей, так и усомнившихся в самых замечательных идеалах, не следует судить по ложному доносу.
Можно представить себе охотников судить человека за измену.
Можно даже представить на мгновение, что человека оправдали!
Но ее судят не за измену.
Елену Гончарову судят за сомнения, за то, что она не принимает безоговорочно чужую правоту, за то, что она осмелилась задавать вопросы, за то, что она не побоялась сказать о преступлениях.
Ее судят за мысли.
Юрий Олеша начинает один из первых политических процессов нашего времени и судит человека за мысли, за идеологию, за то, что он размышляет над тем, чей же социальный вариант лучше - России или Запада.
Я повторяю: Гончарова Елена Николаевна, артистка, из интеллигентов, беспартийная, образование среднее, член профсоюза, не сделала ничего, нарушающего закон. Ее судят и приговаривают к высшей мере наказания расстрелу - только за то, что она отстаивает свое человеческое, священное право на выбор.
Разочарованным в России, разочаровавшимся в Западе героям Юрия Олеши ничего не остается в этой социальной галактике. Но выхода за ее пределы нет.
Герои Олеши лишены выбора. Милая, добрая художница, плохой социолог Леля Гончарова думает, что ей предлагают пусть жестокий, пусть ультимативный выбор, - или Россия, или Европа. Она ошибается: ей предлагают другой выбор: или Россия, или смерть.
Герои Олеши приговариваются к смерти.
Выход из социологической дискуссии разрешается выстрелом.
Юрий Олеша пользуется очень распространенным приемом: разрешать стрельбой социальную безвыходность. На этой концепции построена не только поэтика "Страданий молодого Вертера", но и политика мировых войн.
Уже в те годы, всем сердцем ненавидя лакировку, Юрий Олеша смело обнажил все язвы Запада, и, таким образом, удачно разрешил тяжбу России и Европы.
На этом пьеса заканчивается.
На этом пьеса даже не начинается.
Все это придумано задолго до пьесы, а ее автор просто халатно относится к своим обязаннос-тям, когда развертывает перед нами преимущества Советского Союза в сравнении с буржуазной Европой.
И автору, и зрителям совершенно не нужно развертывание преимуществ, потому что все прекрасно знают, что Советский Союз выйдет победителем их этого спора.
Пьеса, в которой спрашивается, что лучше - Советский Союз или буржуазная Европа, - обречена на неизбежный успех.
Юрий Олеша хочет написать пьесу на тему: какой строй лучше социалистический или капиталистический? А? Какой, какой? А ну, пройдемте, пожалуйста.
Об этом невозможно написать серьезную пьесу, потому что ответ в ней предрешен. Какая уж это пьеса... Вы можете представить "Отелло", в котором все известно заранее? Или "Ревизора"? или "Чайку"?
Впрочем, художественные достоинства в искусстве вообще не всегда обязательны. Я это понял в детстве, читая журнал "Огонек" 1929 года, № 2. В журнале, который я читаю до сих пор, потому что он мало изменился и всегда напоминает мне мое раннее детство, было написано:
"Примитивность и прямолинейность сюжета не мешают зрителю дополнять своим личным опытом картины, предложенные театром"1.
1 Н. Волков. В дни борьбы. - "Огонек", 1929, № 2, с. 15.
Это высказывание оказало большое влияние на мою жизнь, и теперь мне ничего не мешает, когда я смотрю некоторые спектакли и кинофильмы, читаю некоторые книги или слушаю некоторую музыку, потому что примитивность и прямолинейность легко дополняю своим личным опытом.
Драматургу так трудно развертывать перед зрителем преимущества Советского Союза сравнительно с буржуазной Европой не только потому, что зритель уже много слышал об этом, но главным образом потому, что подавляющее большинство людей догадывается, зачем это понадобилось.
И драматург бросает это неблагодарное дело и начинает развертывать перед зрителем нечто иное: что следует сделать с человеком, который задает неуместные вопросы.
Драматург считает, что самое лучшее это его расстрелять.
Так как пьеса о преимуществах Советского Союза перед буржуазной Европой не нужна, потому что предполагается, что это так же очевидно, как то, что Волга течет в Каспийское море, то начинается пьеса совсем о другом.
Начинается пьеса о том, что Волга течет в Балтийское море.
Начинается схематичная, лишенная фантазии, прямолинейная пьеса.
Юрий Олеша пишет вещь, в которой три часа доказывается неоспоримая необходимость убить человека, который захотел сам убедиться в преимуществах Советского Союза перед буржуазной Европой.
Ничего худшего этот человек не сделал.
Я настойчиво повторяю: пьеса "Список благодеяний" написана о том, как быстрее и лучше расправиться с человеком.
Много ли для этого надо?
Очень немного.
Но автор затевает целое побоище.
Можно подумать, что он жаждет уничтожения не одной слабой женщины, а всей русской интеллигенции.
Одну слабую женщину уничтожают: директор театра (ничтожество), гнусная воровка, двое соседей-мерзавцев, двое звероподобных фанатиков, тупой маньяк, негодяй-белоэмигрант и его омерзительная любовница, трое полицейских в штатском, двое полицейских в форме, антрепренер (грязное животное), сдавшийся и погибший художник, обреченный юноша, пожилой господин, расчищающий дорогу полиции, продажный агитатор, руководитель стачки.
Я назвал двадцать действующих лиц из двадцати шести.
Шесть остальных, второстепенных, появляются лишь в эпизодах. Они даже не успевают получить имя. У них не имена, а названия: посыльный, юноша, фонарщик, человечек...
Художника, интеллигента, свободного человека убивают за то, что он поставил под сомнение нечто, не подлежащее обсуждению, за то, что он не осудил без оговорок и без проверки Европу, за то, что он стал сомневаться, рассуждать, сравнивать, размышлять и страдать; это наказание за альтернативу, за то, что смел подумать, допустить мысль об одинаковости двух миров, за право на выбор; убивают за то, что он сравнил списки, за то, что поставил на одну доску список благодея-ний и список преступлений, за то, что усомнился в списке благодеяний. Это не казнь, а месть, потому что свободного человека наказывают тогда, когда он раскаялся и признал себя виновным, поднял руки, сдался; это предупреждение другим и острастка. Свободного человека убивают, несмотря на раскаяние и признанье, на которые он был обречен, но его раскаяние и его признание ничего не значат, потому что может появиться следом за ним другой человек, который осмелится не только прикоснуться, не только усомниться, не только сравнить, но и опровергнуть многое из того, что представлялось совершенно неприкосновенным и абсолютно неопровержимым. Не надо сомневаться, не надо колебаться, не надо сравнивать, думать, выбирать, размышлять, настаивать и опровергать.
Надо слушать, что тебе говорят.
И поэтому героиню убивают не тупые защитники реакции - полицейские и не злобные защитники империализма - драгуны, и даже не чем-то родственный ей, во всем сомневающийся обреченный юноша, называющий ее невестой, а убивает ее автор.
Как все герои Юрия Олеши, Гончарова тоже гибнет от руки своего: Кавалерова губит свой Иван Бабичев, а Гончарову - автор.
Смерть героини так плохо задумана и так плохо написана, что вину автора даже нельзя переложить на его героев или на его редактора, или на режиссера. За такие штуки автор должен нести ответственность сам.
Он пишет незначительного человека и поручает ему решать громадные вопросы, и, когда выясняется, что незначительный человек не в состоянии этого вопроса решить, убивает его, торжествует победу и уверяет, что дело не в убогости этого человека, а в том, что эти вопросы должны решать только ответственные лица и что вообще уже все решено. Автор знает, с кем он справится: он пишет пьесу о слабой женщине-актрисе, а не о сильном мужчине-социологе.
Эта победа необходима Юрию Олеше. Она имеет для него воспитательное значение; он пугает себя: вот что бывает в случаях, когда начинают сомневаться... не выбирай, не настаивай, не опровергай.
Шло время, и поэт понял, что исправляться все равно придется, и он приступил к исправле-нию, хотя сначала это было совсем не так просто. Однако в своем поступательном движении вперед писатель берет все новые и новые рубежи: если Кавалерова он только срамит, то Гончарову он убивает.
Плывут по истории герои Юрия Олеши, интеллигенты, плывет автор; не правят веслом, не сопротивляются, плывут, гибнут...
Начинается эпоха повального перевоспитания кадров русской интеллигенции.
Стало ясно, что с такими героями, как Кавалеров да Гончарова, надо кончать.
Было необходимо решительное осуждение Кавалерова, и в связи с этим был написан "Список благодеяний".
Всю жизнь Юрий Олеша расплачивается за лучшее, что он сделал - за роман "Зависть".
Юрий Олеша опровергает Кавалерова, самого себя и тех интеллигентов, которые затевают совершенно неуместный спор и дискуссии о свободе, человеческом достоинстве, то да сё, туда-сюда с инстанциями, лучше их разбирающимися в подобных вопросах. Как будто это первобытная орда! Или, прости Господи, парламентская республика. Тьфу!
Юрий Олеша опровергает себя, Кавалерова и этих интеллигентов охотно, поспешно и немедленно.
Как автор "Зависти" по дороге к "Строгому юноше" мог сделать все это?
Он сделал это не потому, что испугался неприятностей, а потому, что понял: так он может принести больше пользы читателям.
Но, конечно, он не мог, в частности, не думать о том, что тяжелая шершавая рука класса начнет дробить его хребет и крошить его лопатки.
Нельзя сказать, что у него не было некоторых оснований опасаться за хребет и лопатки.
Русская литература - дело не шуточное.
Время ломало писателю руку, запущенную во всякого рода сомнительные умозрения.
Черные тучи сгущались над ним.
Ему грозили расправой.
Он был привлечен к суду.
Состоялся "Общественный суд над драматургами, не пишущими женских ролей".
Сообщение о состоявшемся "Общественном суде, организованном теаклубом над драматурга-ми Ю. Олешей, В. Катаевым, Е. Яновским и др..." помещено в " Плане ближайших выпусков материалов теаклуба". "План" напечатан на третьей странице обложки журнала "Рабис" № 18 за 1931 г.
Невозможно представить, чтобы все это было серьезно. Вероятно, это шутка, номер клубного капустника.
Но ведь ни один из остальных шестнадцати выпусков "Плана" за шутку принять нельзя.
Ведь не в шутку же объявлены доклады Генерального секретаря Профинтерна С. А. Лозовско-го "Международное рабочее движение и задачи рабочего театра"; зам. Председателя ЦК Осовиа-хима Н. А. Семашко "Искусство и оборона", А. В. Луначарского "Диалектический материализм и драма", "Театр и диалектический материализм"; секретаря ЦК Рабис Я. О. Боярского "Интелли-генция и война". Объявлены также явно не шуточные доклады Натальи Сац, В. И. Пудовкина, Ф. Н. Каверина и других деятелей театра и кино.
Кроме общественного суда над драматургами, не пишущими женских ролей, под № 16 значится "Общественный суд в связи со срывом выездного спектакля Московского Художест-венного театра в клубе "Красный богатырь"".
Все это мало похоже на номера клубного капустника.
Несмотря на все это, общественный суд над драматургами, не пишущими женских ролей, может быть, и шутка. Может быть.
Каждое время судит по-своему. Каждое время шутит по-своему.
Это было трудное время, оно шутило не часто и относилось к этому очень серьезно: ломало руки, крошило хребет.
В этом, несомненно, была бездна иронии и юмора. Что ж, каждый шутит, как умеет, как его учили, но всегда в надежде понравиться своей аудитории. Психология и социология шутки связаны со временем, со средой, с национальной традицией, с требованиями общества.
18-й номер журнала "Рабис" обещал "...общественный суд над драматургами, не пишущими женских ролей. Стенограмма общественного суда, организованного теаклубом над драматургами Ю. Oлешей, В. Катаевым, Е. Яновским и др. (обвинительный акт, допрос обвиняемых, приговор), а 19-й номер напечатал "итоги"1 суда.
1 "Рабис", 1931, № 19, с. 14. См. также ЦГАЛИ. Фонд 358, опись I, ед. хр. 21.
Суд был, несомненно, скорый и праведный. Он продолжался всего два дня, несмотря на тяжесть преступления и обилие преступников, а приговор был суровым, но справедливым. В нем было сказано:
"...вынесла спектаклю приговор:
Для Юрия Олеши "Список благодеяний" новое поражение, для театра ошибка, которую он должен исправить".
Защиты не было.
Перед вынесением приговора выступали свидетели обвинения. Они утверждали:
1. "Ничтожная группа, которую представляет Олеша, щелкающая на счетах свои расчеты с революцией, имеет слишком ничтожный удельный вес, чтобы стоило говорить о ней таким высокопарным голосом... Нужно быть социально слепым, чтобы ставить вопрос так, как его ставит Олеша. Его пьеса обращена лицом к прошлому, а не к будущему. Поэтому она реакционна".
2. "...Елена Гончарова - продолжение развития образа Ивана Бабичева из "Заговора чувств". Но Бабичев разоблачается автором, а Гончарова нет. Следовательно, новая пьеса Олеши отступление, а не продвижение вперед".
"Защитников у спектакля... не было, если не считать автора спектакля Ю. Олешу и В. Мейер-хольда и неудачное выступление М. Морозова", который есть "эхо революционного обывателя".
В своем выступлении Ю. Олеша заявил: "Тема типична для 75% интеллигенции... пьеса современна, потому что талантлива...
Пьеса должна была быть им написана, потому что без этой ступеньки он не может перейти к работе над пролетарской тематикой"1.
1 "Рабис", 1931, № 19, с. 14.
Однако не все подсудимые драматурги так и остались нераскаянными злодеями. Вот, например, драматург Е. Яновский, еще не успев получить по заслугам, уже исправился в том же сезоне. Он написал пьесу, которая называлась "Женщина". "Драма в 4-х действиях. 9 картинах. ГРК лит. "б", № 2.001, 11 мужских, 9 женских. Цена 6 руб. 50 коп. Тема: борьба с женской беспризорностью и рост женщин на производстве". ("Советский театр", 1932, № 8, 3-я страница обложки. Объявления Всеросскомдрама. Отдел распространения).
Нужен был суд, а когда позарез нужен суд, то совершено или не совершено преступление, значения не имеет. Главное, чтобы был человек, а статья для него найдется. Олешу, вероятно, нельзя было судить, за что хотелось бы деятелям вроде Ингулова. Поэтому его судили за отсутствие женских ролей.
Это лишь повод, придирка.
Когда по каким-либо причинам еще нет ордера на арест, то человека задерживают на улице по подозрению в ограблений квартиры.
Никто и не пытался скрыть, что это лишь предлог.
В "Списке благодеяний" главная роль - женская.
Нужна была не такая женщина.
Нужна была женщина такая, как у Тренева, как у Лавренева. (Незадолго до этого были написаны "Любовь Яровая", "Разлом", пьесы, с которых начинается советская театральная классика. В этих классических советских пьесах героини выдавали своих идеологически чуждых им мужей, которых казнили революционные массы.)
Перед "Списком благодеяний" был написан "Заговор чувств", пьеса с пятью женскими ролями.
Все это пустяки. Нужен был суд, а не женщины. А суд, если он нужен, может быть и за то, что в пьесе на одного брюнета приходится два блондина.
Это были тяжелые годы ожесточенных классовых битв, и лучшие писатели, конечно, хорошо понимали, что борьба с людьми, которых они охотно считали врагами (то есть людьми, которые о некоторых вещах думали иначе, чем эти писатели), будет не однодневной кампанией, а мероприя-тием целой эпохи и вызовет определенные трудности. Но советской литературе всегда был свойствен оптимизм и в то же время реальное представление о трудностях в каждый данный момент. Тема героической борьбы со всеми, кто попадается, но преимущественно с инакомысля-щими складывалась долгие годы и получила свое наиболее полное и блестящее выражение в словах Маяковского:
Мы их
всех,
конечно, скрутим,
но всех
скрутить
ужасно трудно1.
Поэт-гражданин, конечно, не ошибся: несмотря на известные трудности, практически всех врагов в конце концов все-таки скрутить удалось. А в тех случаях, когда представлялось не вполне ясным, является ли человек врагом, то его скручивали из профилактических соображений. Потому что всем известно, что лучше покарать десять невинных, чем пропустить одного виновного, не правда ли?
То, о чем Маяковский говорил лишь в общей форме, Oлеша два года спустя развил в образах пьесы "Список благодеяний", через пять лет углубил в сценарии "Строгий юноша" и обосновал с неопровержимыми фактами в руках всей логической и образной тканью в известной статье 1937 года "Фашисты перед судом народа"2.
1 В. В. Маяковский. Полн. собр. соч. в 12-ти томах. Т. 10, М., 1941, с. 27.
2 "Литературная газета", 1937, 26 января, № 5.
В эти тяжелые дни ожесточенных классовых битв было ясно, что на происки классового врага нужно отвечать не элегией, а его же оружием. Международная обстановка требовала повышенной бдительности и это, конечно, отразилось на внутренней жизни страны, и, в частности, на упрочении ее законности. В связи с этим состоялся "показательный суд в Всерабисе".
Что же произошло во Всерабисе?
Там произошел "...показательный суд над музыкантами... В союзе состоят свыше пятнадцати лет. Малограмотные. Все безработные свыше года... Музыканты узнают, где свадьба, и все предлагают свои услуги. Отсюда конкуренция и свобода самой ужасной эксплуатации со стороны нанимателей. Обхождение тарелкой, вымаливание пряника, встреча маршем гостей. Музыканты еще нанимают за свой счет лакеев, отсюда вытекает эксплуатация одного члена союза другим. Прикрывать глаза на эти явления нам не следует"1.
А вот что произошло в московском автогенно-сварочном техникуме.
Там "происходил общественно-показательный процесс. Судили группу студентов, замкнув-шихся в сугубо академическую учебу. Так, по крайней мере, казалось! Это был настоящий процесс "академ. партии".
Наиболее сильные в академическом отношении, они сначала объединились для углубленной проработки материала, потом стали свысока смотреть на отстающий актив, затем начали вводить в тупик каверзными вопросами активистов при сдаче зачетов, и, наконец, докатились до дискреди-тации актива в глазах преподавателей и некоторых преподавателей в глазах студенчества"2.
А вот как высказалась возмущенная общественность, которая считает, что если напечатано в газете или журнале, то все правильно и ей, общественности, нужно только поспеть безошибочно плюнуть.
"Гнать из комсомола.
Если до письма в "Смене" коллектив нашел возможным оставить Семенко в рядах комсомола, то после этого письма нужно немедленно гнать его из комсомола и из вуза...
Он хочет приобрести "основы знания", он за академизм, но вести общественную работу... он не желает...
А это в свою очередь может толкнуть еще дальше, - в сторону наших классовых врагов, разных Громовых и Рамзиных, предателей советской власти"3.
1 "Театральная неделя". Одесса. 1925, № 4, 19 февраля, с. 10.
2 "Крепостью науки овладеют большевики". В. Гундосов. Письмо в редакцию. "Смена", 1931, № 10, с. 23.
3 "Крепостью науки овладеют большевики". Б. Фетисов. Письмо в редакцию. "Смена", 1931, № 13, с. 17.
Этот процесс происходил в том же - 1931 году, что и процесс Е. Н. Гончаровой, на котором в качестве обвинителя выступил Ю. К. Олеша.
Однако строгая объективность настойчиво требует настоятельно подчеркнуть, что не все процессы имели такой поучительный исход. Бывали отдельные случаи, когда выносился и оправдательный приговор, имевший при этом также воспитательное значение.
Такой поражающий человеческое воображение случай произошел в 1925 году. Произошел он вот таким образом:
"Демьян Бедный на скамье подсудимых.
Как одно из глубоких достижений необходимо отметить проведенный литературным кружком "Совслужащих" под руководством лектора тов. Богуславского литсуд над Д. Бедным.
Д. Бедного посадили на скамью подсудимых барон Врангель, поп, кулак, спекулянт и вычищенный из партии комиссар, взяточник. Все они обвинили Д. Бедного в оклеветании их в печати.
Защиту любимого пролетарского поэта взяли на себя рабочий, работница, красноармеец и ликбезница-крестьянка, которые в своих показаниях дали отповедь "милой" компании обвинителей и ярко обрисовали ценность творчества Д. Бедного для трудящихся масс.
Общим голосованием всей присутствующей на суде публики Д. Бедному был вынесен оправдательный приговор.
Суд вызвал к себе большой интерес и был выслушан с начала до конца с неослабеваемым интересом"1.
1 "Театральная неделя". Одесса. 1925, № 10, 7 мая, с. 12.
Как все это сейчас выглядит трогательно и наивно!.. А подчас даже смешно. Не правда ли? Эти страсти, клокотавшие в мстительных и гордых сердцах... Да, да... Сегодня замкнулся в сугубо академическую учебу, а завтра перекинулся к классовому врагу... Утром криво улыбнулся, прочитав стишок в газетке, а вечером, пожалуйста, - продал первородство.
Нужен суд. Нужен суд. Нужно наказать. Нужно показать. Нужно отбить. Нужен страх.
Итак, судили Олешу.
Как и полагается среди цивилизованных людей, если не на процессе, то хоть дома или даже в журнале непременно должен быть защитник.
Был, конечно, защитник и у Олеши.
(Я так обстоятельно рассматриваю частные вопросы дознания, судопроизводства, уголовного права и юридических норм, потому что, как это выяснится в скором времени, вне этих вопросов невозможно понять ни "Список благодеяний", ни обстоятельств, в которых он создавался.)
Наиболее доброжелательные и проницательные критики, думающие о будущем русской литературы, а не о том только, чтобы погладить собачку самолюбия очередного вельможи, пытались защитить Олешу.
Защищали они его так:
"Олеша не оклеветал интеллигенцию, хотя он не видит усиленного процесса ее дифферен-циации, - писал критик, искренне стараясь помочь писателю. Однако, имея некоторые основания опасаться не только за Олешу, но и за себя, критик вынужден был занять более умеренную позицию. - Но, сам того не ведая, он оклеветал советскую власть, оклеветал коммунистическую партию, - писал критик, искренне стараясь помочь себе. - Не из злых побуждений, а благодаря неумению понять смысл революции, неумению прочесть ее подлинный список благодеяний, - писал критик, искренне стараясь помочь писателю. - Он оклеветал пролетариат, замешав его в убийстве Гончаровой, приписав ему свой смертный приговор интеллигенции..."1
Произведение, которое "...породило целую критическую литературу"2, вызвало переполох в истории общественной мысли и социальных взаимоотношений граждан. Многие писатели высказали о "Списке благодеяний" самые противоположные мысли. Это вызывает особенную тревогу в связи с тем, что единство мнений, которое так необходимо читателям, чтобы им не приходилось выбирать, или, что еще хуже - думать самим, отсутствовало в большой и дружной семье лучших знатоков жизни и творчества Олеши.
Я приведу примеры различных точек зрения:
"...Олеша был мастером диалога, поистине королем реплик..."3
"И все-таки пьесы ему не удавались..."4
1 А. Гурвич. Под камнем Европы. - "Советский театр", 1931, № 9, с. 28.
2 Лев Славин. Портреты и записки. М., 1965, с. 15.
3 Там же.
4А. Прозоров. О "Списке благодеяний" Ю. Олеши. - "На литературном посту", 1931, № 19, с. 31.
Отсутствие единства мнений в таких важнейших вопросах, несомненно, крайне отрицатель-ный факт. Но следует ли из этого делать вывод, что люди должны читать только "Пятизначные таблицы логарифмов", в которых все совершенно точно? Я думаю, что нет. Тем более что история резких расхождений среди критиков имеет глубокую и прогрессивную традицию. Различные точки зрения в конце концов составили гармоническое единство.
Мымры и грымзы доблестного отечественного литературоведения, думающие о будущем русской литературы, а не о том только, чтобы погладить собачку самолюбия очередного вельмо-жи, писали:
"...центральная героиня - Гончарова - испытывает идеологический кризис, она поставлена в такое положение, какое выявляет необходимость для нее мировоззрительной перестройки".
"В целом пьеса, возможно, задуманная Олешей как произведение, толкающее раздвоенную интеллигенцию к перестройке, объективно выполняет скорее функцию торможения подлинной мировоззрительной перестройки мелкобуржуазной интеллигенции"1.
Еще больше, чем отсутствие подлинной перестройки, угнетающее впечатление на критиков производит идиотское, прямо-таки метафизическое утверждение, что даже в революционную эпоху художник должен думать медленно (?!).
Ну, как за это не сломать руку? В самом деле, как не затравить, не загнать на скотный двор?
"Уважаемые товарищи! Я полагаю, что в эпоху быстрых темпов художник должен думать медленно", - торжественно заявляет на театральном диспуте Гончарова (явно в голос с самим автором - Олешей)... - пишет критик, употребляя большие усилия, чтобы не выйти за рамки приличия. Действительно желающий перестроиться интеллигент должен взглянуть на себя с точки зрения развития объективной действительности... а не закапываться внутрь себя самого. Медленное самокопание никому не нужно... Не звучит ли в контексте всей пьесы требование Олеши думать медленно, как требование замедления темпов мировоззренческой перестройки интеллигенции..."2
Последнее соображение не лишено остроумия и тонкой язвительности, если не считать, что оно похоже на донос. Что же, критика должна иметь последствия: аресты, судебные процессы, суровые приговоры, физические и моральные расстрелы...
После всего этого Олеша стал немедленно, просто безудержно исправляться.
Иногда даже казалось, что это происходит вследствие тех же обстоятельств, по которым больные начинают выздоравливать, как мухи.
Для того чтобы все было хорошо, чтобы никто не обижался и не подумали что-нибудь такое, он был готов на многое. Даже на опечатку.
Понять, как именно начал исправляться Юрий Олеша, можно только с помощью тщательного текстологического анализа.
Обратимся к двум вариантам памятника драматургического искусства Юрия Олеши - журнальному3 и отдельному изданию4.
1 А. Прозоров. О "Списке благодеяний" Ю. Олеши. - "На литературном посту", 1931, № 19, с. 31.
2 Там же.
3 "Красная новь", 1931, № 8.
4 Отдельное издание "Список благодеяний" появилось в том же году, что и полная журнальная публикация, - в 1931, - но, разумеется, после выхода журнала.
Социологический анализ эпохи, а также филологическая экзегеза вариантов заставляют нас задуматься над проблемами, имеющими отнюдь не частное историко-литературное значение и входящими в область широких историко-социальных пространств.
Но сначала следует показать глубокую эволюцию текста памятника.
Остановимся на одном характерном случае, выразительно отражающем социальную динамику эстетики Ю. Олеши.
В журнальном варианте пьесы имеется такой текст:
"Я полагаю, что в эпоху быстрых темпов художник должен думать м е д л е н н о"1. (Разрядка моя. - А. Б.).
Здесь имеет место выраженная антитеза, являющаяся существенным моментом в характерис-тике еще не до конца перестроившейся интеллигенции.
Проходит некоторое время, чрезвычайно исторически насыщенное, и Юрий Олеша создает новый вариант реплики.
В новом варианте реплика звучит так:
"Я полагаю, что в эпоху быстрых темпов художник должен думать немедленно2. (Разрядка моя. - А. Б.).
Здесь не имеет места выраженная антитеза, являющаяся существенным моментом в характеристике еще не до конца перестроившейся интеллигенции.
Что же могло оказать такое решающее влияние на мировоззрение автора?
Несомненно то, что в это время происходили важнейшие исторические события: конец нэпа, начало коллективизации, разгар индустриализации, судебные процессы, повальное перевоспита-ние еще не перевоспитанных кадров русской интеллигенции.
Эти события оказали решающее влияние на писателя, и он, успешно перестраиваясь на ходу, предложил вниманию почтенной публики вышеозначенный вариант литературно-драматического номера.
Этот номер делается так:
"Сначала исполнитель закручивает на конце ноги диск. Затем он раскручивает на зубнике тазик и берет зубник в рот. Потом надо на правой ноге закрутить обруч и лишь после этого можно перейти к жонглированию"3.
1 Ю. Олеша. Список благодеяний. - "Красная новь", 1931, № 8, с. 4.
2 Ю. Олеша. Список благодеяний. М., 1931, с. 5.
3 Н. Э. Бауман. Искусство жонглирования. М., 1961, с. 73.
Тщательная филологическая интерпретация второго варианта реплики на фоне историко-социального анализа эпохи и общеэстетического процесса заставляет с известной долей основательности предполагать, что в текст отдельного издания драмы вкралась наиковарнейшая из опечаток.
Опечатка это ошибка, но не случайная, и от автора она не свободна.
Можно настаивать на том, что разные люди делают разные опечатки.
Если мы не покорены иллюзией личной психической свободы, то согласимся, что у опечатки есть логика и закономерность.
Эта опечатка несомненно связана с феноменом, который Фрейд называет вытеснением: человек избавляется от сдавленного тайного желания. Писатель хотел сказать "быстро". От него требовали, чтобы он так сказал. Но сказать так можно было, только вступив в противоречие с тем, что он говорил раньше.
Автор развернутого учения об ошибочных действиях - обмолвке, описке, очитке, ослышке - Зигмунд Фрейд считает, "что все ошибочные действия имеют свой смысл"1.
Вот некоторые его соображения об ошибочных действиях.
"...самой обыкновенной и в то же время самой поразительной формой обмолвки2 будет та, когда говорят как раз противоположное тому, что хотели сказать... Председатель нашей законодательной палаты однажды открыл заседание словами: Господа, я признаю наличие законного числа членов и поэтому объявляю заседание закрытым..."3
"...такое (ошибочное. - А. В.) действие на самом деле как будто вовсе не ошибка, а совершен-но правильный поступок, только заменивший тот другой, которого ждали и предполагали... Если председатель палаты депутатов закрывает заседание уже в первом своем слове, вместо того чтобы открыть его, и если знаешь условия, в которых произошла эта обмолвка, то вдруг начинаешь понимать, что это ошибочное действие далеко не бессмысленно. Председатель, не ожидая для себя ничего хорошего от этого заседания, был бы рад закрыть его с самого начала..."4
1 З. Фрейд. Лекции по введению в психоанализ. М.-ПГр., 1923, с. 64.
2 Фрейд не видит принципиальной разницы между видами ошибок. Описка отличается от очитки только тем, что первая может быть сделана при письме, а вторая при чтении. В такой же мере это относится и к опечатке. Следует лишь прибавить, что опечатка это ошибочное действие не одного человека, а нескольких - наборщика, корректора, редактора, автора.
3 З. Фрейд. Лекции по введению в психоанализ. М.-ПГр., 1923, с. 39.
4 Там же, с. 41.
"Почти все обмолвки имеют смысл, противоположный тому, что собирался сказать допустивший их, таким образом, ошибочный поступок является выражением борьбы между двумя несовместимыми стремлениями"1.
Но оказывается, что некоторые случаи ошибок "можно объяснить столкновением, интерференцией двух различных желаний"2.
1 З. Фрейд. Лекции по введению в психоанализ. М.-Пг., 1923, с. 68.
2 Там же, с. 48.
Эта опечатка, несомненно, связана с желанием человека избавиться от сдавленного, тайного желания. От писателя требовалось, чтобы он сказал "быстро", и писатель вовсе не прочь бы так сказать. Но сказать так можно было, только вступив в противоречие с тем, что он говорил раньше. В то же время он не хотел вступать в противоречия с теми, чье мнение для него было далеко не безразлично. Сказать то, что хотели бы от него услышать, было желанной, но слишком легкой сдачей. Поэтому, он не говорит "быстро". Он говорит нечто очень похожее на то, что говорил раньше, фонетически почти тождественное. Он говорит "немедленно".
В конце 20-х годов, когда старая эпоха сдалась новой, Юрий Олеша почувствовал первые приступы желания говорить то, что от него хотели бы слышать.
Поэтому он не возражал, чтобы художник в эпоху быстрых темпов думал несколько быстрее, чем в эпоху медленных темпов. И поэтому хорошо подготовленная нервная материя разрешила эту опечатку: нервная материя знала больше, чем Юрий Олеша. Она знала, что искажение намерения не произойдет. Произойдет именно то, что должно произойти: согласие художника на опровержение себя самого. А опечатка это лишь полиграфический дефект, случайность, пустяк.
Научно доказано, что "над этой знаменитой опечаткой в свое время много смеялись, - в первую голову Олеша" (Л. Славин). (Как мы уже знаем, слава Олеши была столь велика, что даже его опечатки немедленно становились знаменитыми.)
Я не оспариваю веселого смеха над знаменитой опечаткой. Однако это решительно ничего не опровергает, потому что смеявшийся в первую голову Олеша смеялся после того, как уже пропустил опечатку. Можно уронить чашку и огорчиться. Можно, бродя по городу, набрести на памятник архитектуры XVI века и обрадоваться. Ни огорчение, ни радость к разбитой чашке и к обретенному памятнику отношения не имеют. Действие совершено. Отношение к нему может быть предметом изучения. Но это другая тема. Поэтому смех самого автора и лучших знатоков его смеха и творчества не в состоянии смахнуть факта. Что же касается серьезности, с которой я занимаюсь этим смехотворным фактом и которая может показаться неуместной, то ведь также может показаться неуместной и легкомысленность, с какой игнорируется факт и особенно обстоятельства, вызвавшие его.
Юрий Олеша хотел так написать.
Он хотел сдаться.
Он хотел, чтобы к нему хорошо относились и чтобы была почва под ногами.
Он устал, и ему все это надоело.
В связи с таким уважительным обстоятельством Юрий Олеша в это время делает не только опечатки.
Он делает другую пьесу под названием "Список благодеяний" , никогда целиком не напечатанную и никогда не поставленную, которая так же мало похожа на "Список благодеяний", напечатанный целиком и поставленный, как мало похоже сотворение мира, лишь в общих чертах намеченное в "Книге Бытия", на тот же процесс, но уже детально разработанный в романе "Сотворение мира" Виталием Закруткиным.
Две сцены первого "Списка благодеяний" были напечатаны в журнале "30 дней"1 за восемь месяцев до появления всей пьесы в журнале "Красная новь"2.
1 "30 дней", 1930, № 12.
2 "Краевая новь", 1931, № 8.
В разночтениях текста есть тоже нечто похожее на опечатку.
В журнале "30 дней" сказано так:
"Л е л я... Теперь я хочу начать жизнь сначала".
А в журнале "Красная новь" так:
"Л е л я... Ведь мне не надо начинать сначала".
По закону опечатки сказано противоположное тому, что получилось, и именно то, что хотелось сказать.
Юрий Олеша хотел так сказать.
Реплика в первом "Списке..." звучит так:
"Л е л я... Я хочу голодать, хочу быть нищей на камне Европы... у себя на родине я была известная... если хотите... знаменитая артистка. Теперь я хочу начать жизнь сначала".
Во втором "Списке..." эта сцена заканчивается иначе:
"Леля... спасибо... я скоро вернусь... я очень горжусь тем, что я артистка страны Советов".
Когда художник перестал думать медленно и вынужден был начать немедленно повторять то, что думают другие, произошло весьма существенное в его жизни обстоятельство: вместо одной пьесы ему пришлось написать другую.
В первой пьесе быстро и обреченно идет женщина, которая без страха обнаруживает, что в ее душе "путаница и ложь".
"Ложь! Мы всегда лжем нашей власти, лжем классу, который правит нами... У нас нет родины... У всех. Нет родины, есть новый мир. Я не знаю, как жить по-человечески в новом мире...
Если революция хочет сравнять все головы - я проклинаю революцию".
В другой пьесе тихо и безнадежно бредет женщина, ведущая "сама с собой мучительный долгий спор, от которого сохнет мозг". Это не разночтения, а противоположения, исключающие одна другую позиции.
Начиная с "Заговора чувств", становится ясно, что Олешу все больше интересует, что получится, если сначала написать так, а потом иначе. Эти опыты давали иногда исключительно ценные результаты.
Несмотря на взаимоисключающие задачи двух текстов, главное намерение автора - покарать, убить свою героиню - в обоих случаях остается неизменным.
Пьеса в варианте "30 дней" была так же противоречива, как и в варианте "Красной нови". Но она не казалась такой чудовищно несправедливой, неправосудность ее приговора не была столь вызывающей, потому что резиньяции и рефлексии героини "Красной нови" еще не залили мятежа и протеста героини "30 дней".
Такое пренебрежение явными преимуществами первого варианта перед вторым Юрий Олеша и люди его литературного окружения настойчиво объясняли дьявольскими происками Вс. Мейер-хольда, на которого, как известно, дьявольски вредно влияла его жена. Это, несомненно, было очень убедительно особенно после того, как Мейерхольда и его жену убили1.
1 Подробности, связанные с тем, как именно обижали Юрия Олешу, мы узнали совсем недавно из литературного портрета, принадлежащего кисти лучшего знатока творчества писателя и его круга Л. Славина. (См.: "Портреты и размышления...").
"Он (Олеша. - А. Б.) быстро подружился с Мейерхольдом... Но у Олеши не было ложных богов" - узнаем мы. Действительно, другие источники также подтверждают, что Олеша очень серьезно относился к людям: у Мейерхольда в это время уже начались неприятности.
"Неохотно, но все же он признался мне, что Мейерхольд дополнил "Список благодеяний" своими поправками, выбрасывал одни эпизоды, перемонтировал другие. (В другом месте Л. Славин пишет еще более решительно: "Пьеса была в дальнейшем искажена. Помню, как жаловался мне Олеша на то, что Мейерхольд портил ему пьесу, выбрасывая одни сцены, перемонтируя другие, чтобы исполнительнице роли Гончаровой, малоодаренной актрисе З. Райх (жене Мейерхольда. - А. Б.) было легче и удобнее играть").
Легко ли было это пережить писателю, который каждое слово вбивал, как устой моста!" - торжественной фанфарой завершает свой хорал Л. Славин.
Все это вызывает восхищение. И будит мысль. Разбуженная мысль начинает искать выхода. Что же происходит? Ведь если Юрий Oлеша был такой замечательный герой, то зачем же он позволял Мейерхольду выбрасывать одни эпизоды, перемонтировать другие?
Разбуженная мысль не в состоянии разрешить этот вопрос. Но она еще в состоянии задавать другие. В частности, она спрашивает: какое отношение Мейерхольд имеет к печатному тексту "Списка благодеяний", о котором и только о котором идет речь? Ведь пьеса была напечатана до того, как Мейерхольд дополнил ее своими поправками. К напечатанному тексту Мейерхольд никакого отношения не имеет. Если даже допустить, что он каким-нибудь таинственным образом (под дьявольским влиянием жены, когда на башне собора св. Франциска пробило двенадцать ударов) без столь необходимой бережности отнесся к рукописному тексту пьесы, то, печатая текст, Юрий Oлеша мог восстановить все то, что Мейерхольд так бесцеремонно испортил. Ничего не выходит: текст, напечатанный Oлешей, это его текст, а не Мейерхольда, и никуда от этого не уйдешь. Не являемся ли мы здесь невольными свидетелями случая, который в другом месте сам Л. Славин так точно и в афористической форме определил как "перекладывание с больной головы на здоровую"?
(При всем этом Вс. Мейерхольд был человеком разнообразным. Он мог многое: быть великим художником, создателем концепции нового театра и автором пошлых статеек и ничтожных речей.)
В возрасте писателя появилась первая роковая цифра... Ему исполнилось тридцать лет...
Ему надоело несерьезное отношение к жизни...
Но этот вопрос еще ждет своего исследования.
Страна переживала трудные дни. Стали встречаться люди, которые, поспешно завершив кое-какие социально-нравственные обязанности, торопясь и захлебываясь, приступили к наслаждению жизнью.
В связи с этим на данном этапе были затребованы пирожные со сливочным кремом, галстуки в голубую клеточку, дворцы культуры из настоящего мрамора, сочные женщины с розовым оттенком, мировые рекорды и глубокое уважение.
В жизни Юрия Олеши также наступил новый период.
Правда, Юрий Oлеша не получил в личное пользование ни пирожных со сливочным кремом, ни дворцов культуры из сплошного мрамора, ни даже сочных женщин с розовым оттенком.
Правда, он недополучил по вышеприведенному списку благодеяний причитающееся не потому, что считал себя недостойным или с презрением отвергал цветы наслаждений, а потому что до него уже все расхватали.
Но зато Юрий Oлеша обрел еще более твердую уверенность в том, что он на пути к сверкающим вершинам.
Новый период в жизни Юрия Олеши ознаменовался медленной, беспробудной и уже ничем не остановимой сдачей.
Сдавшийся человек, согласившийся на измену, боится и не любит своего прошлого. Он начинает расправляться со старыми концепциями, с недавними иллюзиями, со своими героями.
От сдачи, начавшейся так прекрасно, потянуло дымком самосожжения.
Здесь началась новая судьба.
Он не подозревал, что последняя строка "Зависти" была последней независимой, а значит, последней имеющей художественное и общественное значение строкой в его жизни. Он не мог думать о том, что все кончено и что теперь он обреченно и безостановочно все быстрей и быстрей падает вверх к холодной сверкающей ледяной и бесчеловечной, уже различимой в зарозовевшей заре вершине, именуемой "Строгий юноша".
Новая эпоха в его судьбе началась одновременно с великим переломом в жизни советского крестьянина.
Намечались еще кой-какие великие переломы, в частности, в истории русской интеллигенции, литературе, философии и прочем.
Ничего непохожего на то, что было с другими, с Олешей не произошло.
Он был послушен времени, как послушна была общественная мысль и вся жизнь страны, и никаких попыток выйти из послушания не предпринимал.
И поэтому свои капитулянтские вещи он начал писать в преддверии 30-х годов, когда их начали писать и другие, почти все, и поэтому он начал писать плохо, как и другие, как почти все, и поэтому, быть может, он выжил. Он писал, неуверенно ощупывая словами мир. Он все больше старался писать, как все, и все чаще это ему удавалось.
А такие не изменившие себе художники, как Мандельштам, Бабель, Заболоцкий (20-х годов), Ахматова, Пастернак, были или уничтожены, или вынуждены были молчать годами, или писать безнадежно и тайно.
Юрий Олеша не хотел писать безнадежно и тайно.
Юрий Олеша знал, что делает с человеком время. Он рассказал об этом с похвальной обстоятельностью и рассудительностью.
"Есть среди нас люди, - разъясняет Олеша, - которые носят в душе своей только один список. Если это список преступлений, если эти люди ненавидят советскую власть - они счастливы. Одни из них - смелые - восстают или бегут за границу. Другие - трусы, благопо-лучные люди, которых я ненавижу, - лгут и записывают анекдоты... Если в человеке другой список - благодеяний, такой человек восторженно строит новый мир. Это его родина, его дом. А во мне два списка: и я не могу ни бежать, ни восстать, ни лгать, ни строить. Я могу только понимать и молчать".
Писатель прикидывает на себя один из четырех вариантов: восстать, или лгать, или строить, или понимать и молчать.
Юрий Олеша понимал и молчал.
Путь и эволюция Юрия Олеши, его духовное и художественное развитие были длинной цепью уступок мелочным и преходящим обстоятельствам. И если в первый период, кончившийся "Завистью", эти уступки были вызваны искренней верой в то, что нужно делать именно так, как велят, ибо в этом есть некая высшая, может быть, не всегда доступная простому человеческому пониманию, но, вне всякого сомнения, самая ослепительная правда, то после "Зависти", и чем дальше, тем сильнее, обреченнее и уже не имея сил и желания остановиться, он стал делать, как велят, не по внутреннему убеждению, но из страха.
Олеша не скрывал, что он делает не то, что хочет.
Он скрывал, что делает это из страха.
В это время была создана концепция, которая блестяще разрешала, если не проблему взаимоотношений поэта и общества, то, по крайней мере, проблему поведения поэта в случае, когда он делает то, что ему не хочется делать.
Я говорю об одной из самых зловещих концепций в русском искусстве, в русской жизни, о загадочной и неразрешимой альтернативе, получившей классическую и полную трагизма формулу.
Формула была такая:
"Но я себя смирял, становясь на горло собственной песне".
Это устраивало многих, потому что объясняло благородными побуждениями появление плохих книг вместо хороших.
(Человек, создавший эту формулу, вероятно, еще не очень ясно представлял себе, что ею будут прикрывать и кто ею будет прикрываться.) Почему художник должен становиться на горло собственной песне и почему это полезно обществу, понять невозможно.
Может быть, поэт хочет петь песню, которую обществу неприятно слышать?
Может быть, может быть.
Если же поэт по каким-либо причинам не хочет становиться на горло собственной песне, то общество начинает убеждать поэта, что песня его нехороша, очень нехороша, или, по крайней мере, чрезвычайно несвоевременна, что вообще он петь не умеет.
- Да, да, - говорит поэт. - Ая-яй, ая-яй. Как же это я раньше не понимал?..
В отдельных случаях поэт не говорит "Да, да" и стреляется.
Все это было бы не так плохо, если бы поэт сам мог решать, петь ему или не петь то, что обществу так неприятно слышать.
Юрий Олеша делал вид, что он выбирает, петь ему или не петь, и что выбрал - не петь.
Все это возвышающий нашу душу обман. Не такой человек был Юрий Олеша, чтобы делать то, что кому-то не нравится. Выбирал Пастернак, а не Олеша. Олеша же был мягким, хорошо воспитанным человеком, всегда избегавшим делать неприятности уважаемым людям.
Олеша переживал тяжелую внутреннюю борьбу.
И это совершенно естественно, не правда ли? Ведь предлагалось выбирать между желанием писать хорошо и приносимой пользой.
Формула же предлагала одно из двух.
Юрий Олеша переживал тяжелую внутреннюю борьбу на тему: что должен принести в жертву интеллигент, чтобы заслужить прощение за то, что он до сих пор недостаточно хорошо перестро-ился, а также, что нужно сделать для того, чтобы и из этого положения выйти без неприятностей и с достоинством.
Было решено, что при данных обстоятельствах до особого распоряжения встать на горло собственной песне.
Зачем это все? Зачем это смирение, это вытаптывание себя? Зачем это насилие поэта над собой? Нужно ли это? Во имя чего нужно? Высших целей? Которые устанавливает кто-то другой, такой же ошибающийся смертный, только облеченный разрушительной властью? Почему художник должен делать не то, что хочет он, а то, что хочет кто-то другой, облеченный разруши-тельной властью? Откуда эта уверенность, что другие знают лучше, что надо делать, что истинно и что ложно, а он не знает? Разве правильно, что поэт послушался кого-то и вместо того, чтобы писать поэмы, стал рисовать плакаты? Разве это правильно, что другой поэт вынужден писать куплеты для эстрадников и не имеет возможности писать то, что он хочет и может писать? Разве это правильно, что артистка, которая может играть Гамлета, вынуждена играть в пьесах, которые она считает "схематичными, лживыми, лишенными фантазии, прямолинейными", сочиненными Киршоном и Микитенко и им подобными рапповскими злодеями? Почему плохое стало выдаваться за нужное, а потом и за хорошее, а через пять лет будет выдаваться за единственное?
По каким причинам человек делает не то, что он хотел бы делать, почему он наступает на горло собственной песне?
Когда он считает, что то, что он делает, - прекрасно; когда он глуп и не отличает вреда от пользы; когда ему безразлично, каково дело, которое он делает, и его занимает лишь, какую из этого дела он извлечет для себя выгоду; когда ему все безразлично; когда он боится, что если не будет делать, что велят, то у него будут неприятности.
Олеша не был глуп, он в те годы еще не искал выгоды, не был безразличен и не верил в то, что дело, которое он делал, прекрасно.
Он делал это дело, потому что боялся, что у него будут неприятности.
Испуганный и раскаивающийся, он стал поспешно убивать своих героев.
Юрий Олеша убивает своих героев за то, что было ему самому так дорого, необходимо и близко. И что стало казаться ему недостижимым.
Испуганный человек, сдающийся художник убивает своих героев за обреченную жажду свободы.
Жажда свободы гонит этих людей из России на Запад.
Юрий Олеша написал пьесу о том, как трагичен, тяжел и горек их путь.
"Зависть" оборвалась в ту минуту, когда судьба героя оказалась исчерпанной.
Она оборвалась, когда стало ясно, что герою остается или прозябание, или веревка.
Выбор был невелик: с возможными удобствами расположиться под кровом вдовы Прокопович и ждать конца, подобного тому, какого дождался Обломов под сенью вдовы Пшеницыной, или перерезать себе горло.
Но расставаясь с "Завистью", Юрий Олеша пишет еще одно разночтение жизненного пути своего любимого и единственного героя.
Этому герою предлагаются иные социальные обстоятельства. Но гибельными оказываются и они.
Олеша думает, что поэт - свободы сеятель пустынный - обречен на поражение в борьбе с окружившим его миром.
И тогда становится ясным, что писатель развертывает перед нами различные комбинации конфликта человека и общества, и хочет убедить нас в том, что непримиримость должна неминуемо кончиться поражением и смертью.
С этого момента можно ждать, что писатель вскоре порадует своих читателей окончательным и единственно возможным решением судьбы отечественной интеллигенции.
Это событие произошло через три года.
Но раньше, чем оно произошло, Юрий Олеша успел-таки совершить несколько грубых ошибок.
Одна из наиболее грубых заключалась в том, что писатель позволил своим героям сомневаться, осуждать и, что уж совсем недопустимо, - выбирать.
Люди, которые не делали революцию, но которые ей и не мешали, думают, что у них еще остается право лояльности с вытекающим из него правом выбора.
Тайный конец "Зависти" приоткрывал судьбу героя: становилось ясным, что Кавалерову нечего делать в России.
Это было прологом нового произведения и началом новых отношений с миром, в котором писатель жил.
Николай Кавалеров не разоблачается, не посрамляется и не зачеркивается. Он утверждается как сторона в споре.
Автор полагает, что Кавалерова не нужно уничтожать.
Несмотря на то, что революция делалась не кавалеровыми, ее благое начало должно быть распространено и на них, полагает автор. Потому что, когда благое начало революции распро-страняется только на победителей, революции угрожает превращение лишь в сопровождаемую перестрелкой процедуру перехода власти из одних рук в другие.
В намерение совершающих революцию может не входить ничего иного, кроме стремления взять власть. Но этот переход власти сопровождается глубочайшими превращениями и потрясе-ниями всего общества, и поэтому революция касается не только непосредственных участников, но и всех, кто оказался в зоне, где свистят пули, совершаются казни, творится возмездие и существует намерение установить справедливость.
Революция не сделала Кавалерову ничего плохого и ничего хорошего. Поэтому он может без предвзятости определить свое отношение к ней. Нет никаких оснований утверждать, что Кавалеров враждебно думает о революции.
Конфликт Кавалерова с действительностью, в которой он прозябает, возникает не из-за неприятия революции, а из-за отвращения к тому, что стало с победителями.
Победители стали бабичевыми.
Но для того, чтобы с этим согласиться, нужно понять, что революция и бабичевы враждебны друг другу.
Вместо революции Кавалеров видит перед собой толстую спину и жирную морду Бабичева.
Морда и спина выдаются за истинное олицетворение революции.
Такое олицетворение вызывает у Кавалерова тошноту.
Кавалеров (как это часто бывает с современниками событий) не понимает, что произошло расслоение революции. Революция расслоилась на собственно революцию, занятую удовлетворением высоких человеческих намерений, и бабичевых, которые прекрасно удовлетворяют лишь самих себя. Между расслоившимися частями идет непримиримая война. Война заканчивается безоговорочной победой бабичевых.
Кавалеров не видит расслоения, дифференциации. Он видит перед собой жирный интеграл эпохи нэпа в образе изогнувшей толстую шею колбасы.
Эта колбаса озадачивала некоторую часть русской интеллигенции, которая, как подавляющее большинство людей, революцию не совершала, но которая оказалась в районе, где свистели пули и должна была быть установлена справедливость.
Эти люди смотрели на вещи проще, чем историки, которые очень часто находят блестящие подтверждения своей правоты.
Некоторая часть русской интеллигенции думала, что назначение революции в том, чтобы вернуть человеческим отношениям естественность, уничтожить условность и всегда связанные с нею несправедливость, лицемерие, ложь, бесправие, ограниченность. Революция уничтожает историческое право и устанавливает естественное. Поэтому в революции часто много логики и всегда мало почтительности.
В прошлой истории люди претерпевали только события, и эти события почти ничего не меняли в жизни людей. Менялись обстоятельства, а жизнь людей оставалась неизменной. Проходили войны и революции, уходили одни режимы, приходили другие, а бытие человеческое, жизнь миллионов человеческих существ или не менялась вовсе, или менялась независимо от ударов истории. Исторического потрясения хватает ненадолго, и роль его сводится лишь к тому, чтобы одних властителей заменить другими. Потом в лучах славы и в ручьях крови являются новые властители. Иногда с ними возвращаются когда-то изгнанные люди (очень редко) и институты (часто). Есть какая-то обреченность каждого народа на свой исторический путь. Она заложена в географии и метеорологии, в земле, на которой он расселен, в близости его к морю. Казалось бы, именно народы с тяжелой исторической судьбой, претерпевающие частые и необратимые потрясения, имеют больше возможностей изменить свое существование. Но в реальной истории все происходит по-другому, и в жизни этих народов совершается лишь замена одного кровавого режима другим кровавым режимом, все остается, как было, обновления бытия не происходит.
И это всегда бывает так, где деспотизм и тирания лишь отступают в трудные дни, но хорошо знают, что нужно укрыться, переждать до поры и дождаться, когда позовут снова. Деспотизм и тирания знают, что их не убьют, что их ждут, их найдут, позовут и они снова придут и будут трубить победу.
Вот что мы знаем об особенностях развития деспотизма и тирании:
"Бацилла чумы никогда не умирает и не исчезает, десятки лет она спит в мебели и белье, терпеливо ждет в комнатах, погребах, корзинах, платках и бумагах, и, быть может, придет день, когда на горе и для поучения людей она снова разбудит своих крыс и пошлет умирать в счастливый город"1.
1 А. Камю. Чума. Цит. по статье С. Великовского. "На очной ставке с историей (Заметки о творчестве Альбера Камю)". - "Вопросы литературы", 1965, № 1, с. 123.
Но самая жестокая, лицемерная и тираническая власть не может удержаться только на жестокости, лицемерии и тирании. Такая власть не просто ссылается на исторический прецедент, но и действительно имеет его. Должны быть в исторической судьбе, социальных навыках, национальном характере, в прошлом народа причины, по которым противоестественное правление возникло, смогло закрепиться и длительное время существовать.
Не следует удивляться тому, что каждая новая эпоха имеет свой прецедент в истории. Жестокость, лицемерие и тирания находят себя в прошлом и в этом видят свое оправдание и закономерность своего исторического бытия.
Следует напомнить, что всегда перед историческим потрясением выносится на некоторое время шитая шелками программа, единственно возможная, неописуемо прекрасная и созданная на вечные времена.
(Клянутся в святой верности программе два раза: первый раз, когда лишь зацветает концепция, порождающая программу, и второй, когда концепция издыхает в зловонных клубах лжи, ханжества и лицемерия).
Каждая программа непременно ссылается на великих предшественников, которые завещали поступать только так, как поступают творцы программы, и которые (предшественники) были бы необыкновенно счастливы, если бы, воскреснув, увидели удивительно замечательное торжество своих идей и действий.
Как много в истории было счастливых идей и как мало было счастливых народов!..
Но проходит немного времени, и становится ясным, что жизнь миллионов человеческих существ, для которых создавались программы, не стала лучше. И тогда придумывают внешних и внутренних врагов в неописуемых количествах для того, чтобы объяснить: если столько внешних и внутренних врагов, то обещания свободы и хлеба, как вы понимаете, выполнены пока быть не могут. В перерывы между врагами устраиваются всемирно-исторические победы разной величины.
Грош цена концепциям и программам, которые прекрасны, необыкновенны, поразительны и неотразимы и в которых нет реальных путей осуществления самих себя. На свете уже было так много прекрасных, необыкновенных и проникновенных программ и концепций и так мало было проку от них... Христианство... Утописты... Чартисты... Фабианские социалисты... Все они были поразительны и неотразимы, и у всех не было реальных возможностей осуществления.
В истории нет глупостей, а есть обреченность, вынужденность делать глупости. В одно и то же время всегда предлагается несколько разных ответов, и каждая отвечающая группа чаще всего выбирает лучший, но лучший в меру своего разумения. Все дело в том, что такое ее разумение. Оно чаще всего ничтожно потому, что срок исторической предназначенности каждой группы, пришедшей к власти, неизмеримо меньше, чем ее победоносная борьба за эту власть.
Историческое деяние и время действия исторического события более коротко, чем это хотелось бы историческим деятелям.
Исторические деятели настойчиво пытаются извлечь себя из прошлого, продолжить себя в прецеденте, в предшественниках и единомышленниках, завещавших им осуществление идеала.
Но историческое явление слишком быстро себя исчерпывает и попытки его задержать всегда связаны с подавлением новых и более нужных общественных форм.
Историческое деяние гораздо больше связано со своим временем, чем кажется, и значительно менее пригодно для будущего, чем этого бы хотелось. Исторический деятель укладывается в свою эпоху и на другую эпоху не распространяется. Поэтому он не ответственен за поступки деятелей других эпох, ссылающихся на него. И поэтому то, что прекрасно у исторического деятеля в его эпоху, может оказаться отвратительным у другого исторического деятеля, пытающегося осуществить идеи предшественника в иное время.
Нет сомнения в том, что Ги Молле думает во многом так же, как думал Максимильен Робеспьер. Но Робеспьер не ответственен за Ги Молле, потому что его последователь применил тезисы, пригодные для эпохи буржуазной революции, к эпохе противобуржуазных революций. Или, например, Кромвель был, несомненно, прекрасен. А вот Гейтскелл уже так прекрасен не был. Или возьмем, например, красные рубашки, которые носили революционеры под знаменем Гарибальди, и черные рубашки, которые напялили на себя фашисты Муссолини, уверявшие, что их рубашки скроены по историческому фасону. Мы с чувством глубокого неудовлетворения произносим имя Леона Блюма. И некоторые считают, что именно так и следует это имя произно-сить. Но Леон Блюм, несомненно, порожден Прудоном, о котором, как бы этого ни хотелось, однако нельзя сказать, что его долго ждали медленный огонь, сера и сковородка. Прудон же в свою очередь проистекает из Луи Блана, обладавшего известными достоинствами. А Луи Блан с рядом оговорок восходит к Бланки, о котором даже мы не можем сказать ничего плохого. Бланки порожден Бабефом, который всем нам служит высоким идеалом в борьбе с тиранией, несправедливостью, лицемерием, бесправием и деспотизмом.
Но как не нужно и невозможно требовать от исторического деятеля ушедших времен, чтобы он наставлял нас, так нельзя и осуждать его за жалкий результат, полученный умеющими лишь преклоняться последователями.
Генрих Штейн, так много сделавший для объединения Германии, не отвечает за то, что через столетие после его смерти начались разнузданные военные захваты.
Социологические идеи существуют в реальной истории, и в голове исторического деятеля обычно возникают умозаключения, связанные с определенными историческими обстоятельствами. В другое время существуют иные исторические обстоятельства, и поэтому излишняя настойчи-вость эпигонов, пытающихся приложить созданные до них идеи к своим надобностям, ни к чему хорошему не приводит.
Герцен не повинен в том, что, создав высокие образцы агитации за свободу, справедливость и человеческое достоинство, открыл дорогу растленной, продажной и подлой журналистике, агитировавшей за свободу, справедливость и человеческое достоинство.
Исторический прецедент не годится для дальнейшего использования: он слишком быстро изнашивается в своем времени.
Увы, исторического предшественника не хватает больше, чем на эпиграф. А его так часто пытаются сделать организатором ряда ответственных мероприятий.
Впрочем, культивирование деятелей-покойников можно понять. Деятель-покойник так необходим, потому что у него безупречная репутация. Так как предполагается, что человек с безупречной репутацией ничего омерзительного делать не станет, то свои сомнительные деяния потомки подсовывают ему.
В связи с тем, что общение с покойниками очень распространенное явление, было придумано специальное слово, чтобы долго не объясняться. Это слово - некролатрия - обожествление умерших - особенно часто произносится (или подразумевается) в государствах классицизма, уставленных колоннами, традициями, благородными подвигами, высокой моралью, громкими речами и пронзительными взвизгиваниями.
Главное это, конечно, традиция. Историческое прошлое и исторический деятель всегда нужны для установления традиций, прецедента, исторического права.
Характерная психологическая особенность той части русской интеллигенции, к которой принадлежат герои Юрия Oлеши и особенно его главный, лучший и любимый герой Николай Кавалеров, заключается в том, что эти люди, видя непохожесть революционной эпохи на предреволюционную, не видят, как по-новому стали выглядеть в революционную эпоху предреволюционные вещи, слова и понятия. Они думают, что сменилась лишь система властителей, в то время как произошло смещение социальных, исторических и психологических пластов. После революции они ищут того же, что было в предреволюционных категориях. "Вещи. Слова. Понятия... Жасмин... Нет, это был обыкновенный жасмин... Но я вдруг подумала: жасмин, находящийся в другом измерении, не вещь, а идея... Потому что это жасмин нового мира... это связано: значение жасмина со значением порядка, в котором он существует. Ощущение запаха и цвета жасмина становится неполноценным... он превращается в блуждающее понятие, потому что разрушился ряд привычных ассоциаций... Многие понятия блуждают, скользят по глазам и слуху и не попадают в сознание... Например, невеста, жених, гость, дружба, награда, девственность, слава..."
После революции некоторая часть русской интеллигенции ищет того же, что было в предрево-люционных вещах, словах, понятиях. (Пауза). Свобода. Что?! Нет, это была обыкновенная, простая человеческая свобода. Некоторая часть русской интеллигенции думала, что свобода это независимость поступков, совести, мнений, высказываний, убеждений. Но в послереволюционную эпоху оказалось, что свобода это ничем не ограниченная возможность действий, направленных на пользу победившего класса. Может быть, потому что эти люди не были победившим классом, такое определение свободы им не казалось достаточным.
Спустя несколько лет после "Списка благодеяний" и после "Строгого юноши" в определении и требовании свободы они будут ссылаться на Конституцию, в которой предусмотрены свободы совести, слова, печати, собраний и митингов, уличных шествий и демонстраций, объединения в различные общественные организации и общества1.
1 Конституция (Основной закон) Союза Советских Социалистических Республик. Статья 124-126.
Уверенные в том, что они пользуются правом, гарантированным Основным законом государ-ства, люди, думающие о свободе, как о каком-то дореволюционном жасмине или допотопном динозавре, начинают высказывать соображения, которые не всем людям ласкают слух.
Но при этом статьи Конституции, говорящие о свободах, существуют, и в этих статьях свободы не ограничены оговорками.
Люди, которым некоторые соображения кажутся не вполне ласкающими слух, стараются завести дискуссию о наличии или отсутствии свободы в другую плоскость: как понимать слова
"В соответствии с интересами трудящихся и в целях укрепления социалистического строя..."1
1 Конституция (Основной закон) Союза Советских Социалистических Республик, статья 125.
Начинается новая дискуссия: в соответствии или не в соответствии с интересами трудящихся и в целях укрепления социалистического строя подавлять людей, думающих о свободе в категориях предреволюционной эпохи.
Когда исчерпывается и эта тема, между людьми, высказывающими некоторые соображения, и людьми, которым эти соображения неприятно слушать, происходит такой типовой разговор.
Конституция советская? Советская. Для советских людей?
Для советских. Какой же советский человек станет пользоваться правами, предоставленными его, советской, Конституцией, чтобы вредить самому себе? Советский человек не станет. А кто станет, тот не советский человек. А для него советская конституция и не писана. Ясно?
В самом деле. Какая всесжигающая логика! И, заметьте, это логика не какого-нибудь вдохно-венного дифирамба или безразличного тяп-ляп, а глубоко продуманная и имеющая богатейшую традицию и жирный корень. Корень этот завелся во время творческих дискуссий Первого Никейского собора (325 г.), набирал силу на Первом Константинопольском (381 г.), Эфесском
(431 г.), Македонском (451 г.) и Втором Константинопольском (553 г.) соборах, окончательно утвердился на Третьем Константинопольском (670 г.) и был подтвержден Вторым Никейским
(787 г.). Лучшую формулировку концепции создали ибибио-эфикские схоласты-догматики (находившиеся под сильным китайско-албанским влиянием) проходя Бабель-Мандебским проливом на пути из Бабуган-Яйла в Джау-эль Милах с остановкой в Курия-Мурия. И выглядит формулировка концепции так:
"Может ли Бог создать камень, который он не сможет поднять?"
Особое значение концепция и вырастающие на ней плоды приобретают во время дознания в застенках, в бурсе, а также на философских факультетах университетов в эпохи расцвета всех творческих сил.
Начинается новая дискуссия: в соответствии или не в соответствии с интересами трудящихся подавлять людей, думающих о свободе в категориях предреволюционной эпохи.
Все это стоит жизни и судьбы.
За недоразумения, за пустяки, за то, что не могли что-то объяснить, что-то понять...
Разве это важно - за что заплачено...
Важно, сколько заплачено...
Заплачено человеческой кровью, жизнью.
Переплатили, переплатили.
Но жизнь отдана за истинный, а не ложный, за невыдуманный, за трагический конфликт, о котором никто не хотел говорить.
Нельзя было говорить о том, что жизнь отдана за свободу.
О неистребимой жажде свободы написана пьеса "Список благодеяний".
В метафорическом искусстве Юрия Олеши только говорится "Гамлет", а подразумевается - "свобода".
Героиня заявляет, что в Советском Союзе не ставят "Гамлета", а думает, что в Советском Союзе - нет свободы.
Об этом, разумеется, смешно было спорить, не так ли? Никто почему-то не хотел спорить, есть в Советском Союзе свобода или нет. И поэтому спор очень скоро переходил в иную плоскость.
Это кажется, что пьеса написана о жажде свободы.
О фразах, цветах красноречия, лицемерии, лжи и страхе написана пьеса с метафорами "Список благодеяний".
Добровольно поставленный на горло собственной песне и даже еще забежавший вперед художник решил, что не нужно писать о свободе, то есть нужно писать о свободе, но не о той свободе, о которой писали, когда не знали, что такое свобода, а о той свободе, которая действительно является свободой, но свободой в истинном значении, а не той свободой, которая только кажется свободой, на самом деле не являясь свободой, в то время, как никто никогда не запрещал писать: свобода, свободы, свободе, свободу, свободой, о свободе.
Сдавшийся художник понял, что следует писать о фразах, цветах красноречия, лицемерии, лжи, ханжестве, уверяя, что это и есть высшая правда.
Нужно просто и ясно смотреть на мир. Нужно жить сосредоточенно, серьезно и здраво. Нельзя обманывать людей и нельзя позволять, чтобы обманывали тебя. Нельзя обманывать себя самого. Нужно знать, что нет ничего важнее свободы и что свободу ничто заменить не может: ни деньги, ни власть, ни слава. Помните: свободы нет там, где о ней говорят много, красноречиво и громко. Одну из самых главных фраз в истории России сказал писатель Велимир Хлебников. Он сказал: "Свобода приходит нагая".
Юрий Олеша вызвал прямо-таки сумятицу в интеллигентских сердцах. Эта сумятица имеет глубокие корни. Олеша хорошо писал, то есть он писал с большим количеством хороших метафор, и его за это не сажали. Это было странным, потому что Мандельштам и Бабель тоже хорошо писали, и их за это убили. Для того чтобы успокоить сумятицу, обладатели упомянутых сердец решили драматизм коллизии слегка убавить и успокоиться на том, что рядом с нами живет писатель трагической судьбы и что этот трагизм не вызван конфликтом писателя с веком.
Приняв во внимание это соображение, мы можем легче понять жизненный и творческий путь Юрия Олеши в процессе развития.
В тот же год, когда Ю. Олеша написал "Список благодеяний", и на ту же тему, на фоне производственной практики в момент, когда "захлопало и затрещало доменное дутье" (сцена 1-я), написана другая пьеса. Эту пьесу написал Дм. Щеглов, и называлась она "Радость".
В пьесе Дм. Щеглова "Радость" героиня не получает заграничной командировки и собирается отправиться за границу в силу того, что она "аристократочка... интеллигенция... В противоречиях запуталась". И как раз в это время снова "затрещало и завыло над головами открытое доменное дутье". (Сцена 2-я.)
На самом же деле ни в каких противоречиях она не запуталась, а напротив, твердо уверена в том, что, "чтобы хорошо жить в советской стране, надо примазываться". И это она говорит спустя лишь несколько минут после того, как "нервно загудел сменный гудок. Загромыхали близлежащие заводские цеха". (Сцена 3-я.)
Все эти и остальные факты происходят оттого, что она не может жить, как живут простые советские люди: "Я - иная, - заявляет героиня. - И... я уезжаю. Да... Заграницу... Не будем говорить об этом, как обыватели". И в этот момент "загудел и взвизгнул сталью резальный нож прокатного цеха". (Сцена 4-я.)
Но у пьесы Дм. Щеглова есть серьезное преимущество в сравнении с пьесой Юрия Олеши. Автор учел: "для того, чтобы перевоспитываться, нет нужды ехать за границу".
Никаких других преимуществ у пьесы Дм. Щеглова "Радость" перед пьесой Ю. Олеши "Список благодеяний" нет, и никаких других преимуществ у пьесы Ю. Олеши "Список благодеяний" в сравнении с пьесой Дм. Щеглова "Радость" тоже нет.
Это были месяцы очередной кампании, в которой преобладали процессы и пьесы.
Пьеса Юрия Олеши была такой же, как многие пьесы тех месяцев, и все, что писал Юрий Олеша, было таким же, как многие другие романы, рассказы и очерки тех месяцев, когда он писал.
Юрий Олеша возобладал над толпой других, не открывших ничего нового в искусстве писателей, потому что он так же тщательно, как над строкой, работал над своей биографией. И его биография, его писательская судьба, действительно была прекрасно отделана и чрезвычайно художественна. Идея его судьбы была такая: высокий художник, всем сердцем стремящийся постичь новую действительность, понимающий, как она высока и как он еще не дорос до нее, изнемогающий от переживаний.
Трагический конфликт героев Юрия Олеши с действительностью заканчивается печально.
Перед гибелью каждый из них предъявляет свой список преступлений.
Список Кавалерова "Я не буду уже ни красивым, ни знаменитым... я не буду ни полководцем, ни наркомом, ни ученым, ни бегуном, ни авантюристом. Я мечтал всю жизнь о необычайной любви. Скоро я вернусь на старую квартиру... Там грустное соседство: вдова Прокопович".
С горечью вписывает в список преступлений Елена Гончарова свою строчку - "По всей вероятности, никогда русским зрителям показывать "Гамлета" не будут", - одну из многих строчек длинного списка. Она хочет "...смотреть Чаплина..." "...смотреть знаменитые кинофильмы, которых мы никогда не увидим здесь".
Все это критики, писавшие об Олеше, яростно опровергают.
По мере того как выясняется, что это так легко опровергнуть (высказывание писателя сравнивается с жизнью и раз! - писатель с треском опровергается!!), они становятся все злее.
Как дважды два, критики разбивают всю эту олешинскую музыку.
Они доказали, что, вопреки утверждениям, вишневые деревья в нашей стране растут.
"В рассказе "Вишневая косточка", как мы знаем, Олеша бродит по советской земле в поисках места, где можно посадить вишневую косточку. Где там! Страна покрыта железобетоном. У большевиков не хватит воображения подумать о цветах, о деревьях. В конце рассказа Олеша сдается. "Я вижу ясно, - обращается он к руководителю экскурсии, - здесь будет сад""1.
"В садах Мичурина и его учеников Олеша не узнал бы своего вишневого дерева, не узнал бы винограда, который видят все его герои, лишь только закрывают глаза.
Он увидел бы там вишневое дерево, на котором прозрачные алые вишни растут тяжелыми виноградными гроздьями. Он увидел бы там плоды - каким жалким кажется по сравнению с ними рог изобилия кавалеровских снов! плоды, которые уже не яблоки и еще не груши, чудесные гибриды, пахнущие лимонами и апельсинами"2.
И вообще, если бы Олеша съездил в город Козлов или по крайней мере на завод "Богатырь", то никакой проблемы взаимоотношений интеллигенции и революции в его произведениях не возникло бы. Понятно? Вот так.
И с "Гамлетом" у Олеши тоже ничего не выходит.
Олеша говорит, что "Гамлет" советскому зрителю не нужен и приводит высказывания советского зрителя по этому поводу. "Эта пьеса, которую нам показывали... очевидно, писалась для интеллигенции. Рабочий зритель ничего в ней не понимает..."
"В эпоху реконструкции, когда бешеный темп строительства захватил всех, противно слушать нудные самокопания вашего "Гамлета"".
"Зачем ставить "Гамлета", разве нет современных пьес?"
Критик заявляет, что Олеша, деликатно выражаясь, несколько удалился от истины, ссылается на Маркса и Энгельса, которые думали о "Гамлете" совсем не так, как эти крайне отсталые слои населения, и настаивает на том, что спектакль "неослабно смотрится рабочими"3.
1 А. Гурвич. Юрий Олеша. - "Красная новь", 1934, № 3, с. 221.
2 Там же, с. 214.
3 Там же, с. 219.
Происходит нечто необъяснимое.
Олеша заявляет: не вырастут вишневые деревья. А ему авторитетно отвечают: пожалуйста, приезжайте к нам в колхоз.
Писатель уверяет, что у нас не показывают Чаплина. А критики, торжествуя и похохатывая, с достоинством идут на "Парижанку" и "Золотую лихорадку".
Писатель настаивает на том, что не будут показывать "Гамлета". А критики, посмеиваясь, утверждают, что будут. Говорят, даже в разных трактовках. В отдельных случаях даже совершенно размагниченного.
Между Юрием Олешей и его читателями идет длинный и странный спор.
Спор, которого быть не может.
Писателя опровергают жизнью.
Деревьями, кинокартинами, "Гамлетом", хотя, как всему миру известно, советские зрители не во всем согласны с рядом положений принца. В частности, они не согласны, что герой обзывает при всех, а не наедине, с глазу на глаз девушку "проституткой", "потаскухой", "шлюхой" и явно собирается обозвать "блядью", а в отдельных случаях даже "проблядью". Мы вообще отвергаем, когда произносят вслух унижающие человеческое достоинство слова. Мы уже не говорим о том, что отца этой, так называемой "проститутки", "потаскухи", "шлюхи" и даже "бляди", а в отдельных случаях даже "пробляди", человека в высшей степени приличного, занимающего один из самых ответственных постов в государстве, он вообще убивает.
Создается впечатление, что писатель не выходит на улицу, не читает газет, не изучает жизнь, говорит Бог знает что.
Но тогда все это несерьезно, и спорить с ним не о чем.
Или он сознательно обманывает? Говорит, что деревья не растут, а сам знает, что растут?
Происходит недоразумение, причем внешне скорее даже не социальное, а какое-то филологическое.
Когда критик Раздватрис-Гурвич говорит, что у нас растут замечательные вишневые деревья, то он это и думает: замечательные вишневые деревья. Он искренне удивляется, как это Олеша не видит их.
Но когда Юрий Олеша говорит, что ему некуда посадить вишневую косточку, из которой выросло бы дерево в память его неразделенной любви, то он думает не о дереве, не о вишнях и даже не о варенье, а он думает о том, что гибнет все легко ранимое, тонкое и прекрасное, отмеченное неповторимой индивидуальностью. Гибнут вишневое дерево, жасмин, невеста, дружба, награда, девственность, слава...
Критик полагает, что между ним и писателем происходит такой разговор.
Писатель: Вишневые деревья не будут расти.
Критик: Нет, будут.
А на самом деле происходит совсем другой разговор:
Писатель: Гибнет поэзия.
Критик: Дадим стране 156 тыс. кубометров деловой древесины.
Такого разговора быть не может.
Такой разговор тысячелетиями ведут люди друг с другом, чудовищный разговор, прерываю-щийся войнами, мятежами, заговорами, убийствами, изменами, предательством и отчаянием.
Добрый, хороший человек Юрий Олеша полагает, что если бы люди слушали друг друга, были бы внимательны и терпеливы, то они без особенного труда смогли бы договориться. Но в реальной жизни, видит Олеша, все это получается совсем не так: системы нет, мышление людей деструктивно, каждый думает и говорит о своем, договориться ни о чем невозможно.
Не одного Олешу тревожило неумение людей договориться или уж хотя бы выслушать друг друга. Идеи, близкие тем, которые были так милы автору "Списка благодеяний", лежали в основе всех концепций общественного договора.
С настойчивой периодичностью они повторяются в истории социологической мысли и разнообразными вариациями доходят до наших дней. Вариации эти бывают подчас поражающими своим максимализмом и всеобщностью значения. Я процитирую один памятник такого рода мышления, такого рода мышлению.
"Различные виды борьбы, которую ведет в настоящее время человечество, - войны, диплома-тические сношения, конкуренция в производстве, диспуты в прессе и пр. и пр., - все это ведется дилетантским способом. Тот факт, что войны в наше время представляются еще необходимыми, объясняется лишь малой культурностью современных людей, ибо человечество имеет другие возможности для удовлетворения своих стремлений к прогрессу и к торжеству права и здоровых этических начал. Конечно, уяснить это людям будет трудной задачей, так как они не хотят слушать, но эта задача облегчится в тот момент, когда учение о борьбе станет наукой".
Так пишет замечательный человек, не поэт, не фантаст, не фанатик, не ослепленный доктриной политический деятель, не партийный маньяк, не церковный безумец, не демагог, не доктринер, не прожектер, не утопист, не аскет. Так пишет человек, создавший одну из самых трезвых, точных и широких концепций. Этот человек утверждает, что есть различные способы положить конец социальной борьбе, в том числе и войнам - наиболее алогичной и жестокой из форм социальной борьбы. Человек широкого, трезвого и точного ума не утверждает, что его метод - единственный и идеальный. Но даже его несовершенный метод, один из возможных и, вероятно, не лучший, уже сейчас мог бы разрешить наиболее значительные и наиболее опасные противоречия человечества. Для того чтобы это осуществилось, не нужно отбирать у людей хлеб и радости жизни, отнимать счастье, свободу и независимость. Не нужно подавлять людей, ущемлять, заставлять, принуждать их. Для того чтобы это произошло, нужно научить людей хорошо играть в шахматы.
"Своеобразная математика какого-нибудь вида шахматной игры далеко еще не разрешает, конечно, всей грандиозной проблемы обоснования жизненной борьбы. Она только ставит эту проблему, указывает направление для ее решения, но самый большой шаг предстоит еще сделать в будущем"1.
Так думает замечательный человек, один из блестящих, вдохновенных, здравых и сдержанных умов века, математик, философ, мыслитель, создавший классическую теорию здравого смысла в шахматах, гениальный шахматист Эмануил Ласкер.
Несомненно, некоторые из приведенных положений можно было бы оспорить, и я счел бы это своим долгом. Но за сорок лет до того, как у меня возникло такое намерение, издательство, выпустившее книгу Ласкера, поспешило это сделать само. И как всякий может убедиться, сделало это с блеском, тактом и эрудицией.
Имея большой опыт воспитания идиотов, издательство немедленно дезавуирует своего автора.
И делает совершенно правильно, потому что читатель-идиот (а для того, чтобы выкормить такого, издательства приложили бездну ума, энергии и изобретательности) не подумал бы, упаси Бог! что-нибудь не так.
"Как всякий большой специалист, - поясняет издательство, - Ласкер тут увлекается своим любимым делом настолько, что предполагает разрешить при посредстве шахмат труднейшие вопросы социальной жизни и классовой борьбы. Редакция не сомневается, конечно, в том, что советский читатель сумет подойти критически к подобным утверждениям и простит автору его увлечение"2.
1 Эмануил Ласкер. Учебник шахматной игры. Изд. 2-е стереотипное. М.-Л., 1927, с. 301, 302.
2 Там же, с. 301.
Создается впечатление, что редакция сомневается, ох, сомневается в том, что советский читатель всегда сумеет критически подойти.
Пункты общественного договора во все времена последовательно разрушались ударами концепции "Глухой глухого звал к суду судьи глухого".
В общественном договоре всегда слишком много выбора и слишком мало вынужденности.
Олеша предлагает различные варианты разговора глухого с глухим.
Во всех вариантах Олеша и его противники оказываются опровергнутыми.
То, что в обеих концепциях - Олеши и его противников - нет выхода, не единственное, что роднит обе эти концепции.
И поэтому не случайно то, что Олеша и его противники так долго не могут понять друг друга только из-за недоразумения.
- Не поставят "Гамлета", - заявляет Олеша.
- Нет, поставят, - заявляют противники.
- Нет, не поставят.
- Нет, поставят.
Ну, поставили бы "Гамлета". Ну, пошел бы "Гамлет" в разных театрах и даже в разных трактовках. Ну, и что же? Разве Гончарова, говоря о "Гамлете", думает только о знаменитой пьесе (1601 г.) знаменитого драматурга (1564-1616)? Ей же отвечают только "Гамлетом", спектаклем, идущим в театре...
Художник пользуется "Гамлетом", да не "Гамлетом", а словом, символом индивидуализма, сложного, недоступного, а критик побивает его реальным спектаклем, на который даже в эпоху реконструкции, когда бешеный темп строительства захватил всех и когда больше идти некуда, может иногда пойти человек, купив билет за 15 руб. 50 коп.
Художник говорит о гибели индивидуализма, о сдаче интеллигенции, о катастрофах истории, а ему отвечают: - Смотрите, вишня какая сочная! и очереди почти совсем нет.
Когда критик заявляет: "В садах Мичурина и его учеников Олеша не узнал бы своего вишневого дерева...", то становится ясным, что у него есть воображение. И при наличии такового, он найдет выход: вместо того, чтобы гнать корпус, ни на что не глядя, он аккуратненько пустит его полукругом, и, таким образом, обойдет дерево.
Критик-Авель утверждает дерево.
Судя по всему остальному в его статье, дружба или девственность к этому дереву отношения не имеют.
У Олеши все наоборот: его не интересует дерево. Его интересуют дружба или девственность.
Идет длинный, странный, бесплодный спор реального предмета с метафорой, конкретных, единичных вещей с образами, ассоциациями.
Это всеобщее, всечеловеческое непонимание, полное трагизма и глубины, бившееся в великой судьбе русского искусства, проскальзывает и в нескольких фразах Юрия Олеши.
Метафора не только самый любимый, самый лучший троп поэтики Юрия Олеши, но единственный отпущенный ему способ мышления.
Произведения Юрия Олеши славны не только тем, что в них есть много метафор, но и тем, что замысел каждого его произведения - метафоричен.
Метафора-слово лишь частный случай, лишь производное метафорического искусства, метафорического мышления Юрия Олеши.
В метафорическом искусстве Юрия Олеши главными были метафора-понятие, метафора-суждение, связывание сходством разрозненных и разнообразных частей мира. Метафоричность Олеши не ограничена сходствами, схваченными наблюдающим внимательным и настороженным глазом.
Заглядевшись на олешинские метафоры, я забыл сказать, что весьма странное впечатление производит одно обстоятельство: никто из оппонентов Олеши не опровергал его простым способом, все время прибегали к каким-то очень уж сложным. Под простым способом я подразумеваю такой: "Вы говорите, не ставят "Гамлета", а он идет в театре..." Вот про деревья говорили совершенно определенно, и уж тут изобличали писателя как следует, с резко возрастающей силой. А что касается "Гамлета", то здесь разговор поспешно и даже несколько нервозно переводили в область разведения руками, в сферу глупостей и в систему патетических восклицаний.
Чтобы покончить с этой темой, следует во имя торжества истины, которая всегда лежала в основе истории отечественного театрального искусства, сообщить, что "Гамлет" как размагни-чивающее явление в эти годы в советском театре не ставился.
Написав о том, что Елене Гончаровой разрешили ставить "Гамлета", Юрий Олеша, как это с ним бывало частенько, приукрасил действительность и выдал желанное за уже реально существующее.
В Москве "Гамлет" не ставился с 1924-го по 1932-й год, а в Ленинграде с 1919-го по 1938-й.
То, что писал Олеша, оказалось серьезнее того, что писали о нем критики. Критики рассчитывали одолеть Олешу, показав ему всю несерьезность конфликтов его произведений. Они проверяли писателя испытанным приемом жизнью (по меньшей мере!). "Вот видите, - заявляли они, - вы говорите... А на самом деле..."
Это несерьезный конфликт, когда один утверждает, что не будут ставить спектакль, а другой опровергает его, тыча в афишу.
Настоящий конфликт начинается, когда становится ясным, что общество хочет отделаться пустячком: на метафору поэта, в которой за единичным значением предмета стоит много значений, общество отвечает единичным значением, конкретным предметом, арифметическим фактом, эмпирической частностью, ничем не являющимися и ничего не выражающими, кроме этого определенного предмета, факта, частности, этого дерева, этого "Гамлета". Общество прикидывается искренне не понимающим, чего хочет поэт. Герои Олеши хотят не только ставить "Гамлета" в театре им. Азизбекова, но иметь право на свободу, сомнения и выбор. Они хотят, чтобы в проекте была запланирована не только посадка фруктово-ягодных и декоративных. Они требуют незапланированную индивидуальность и незавизированную лирику.
Критики и некоторые другие люди, с которыми Олеше, поверьте, никак не желавшему этого, пришлось все-таки вступить в спор, не хотели уступать ничего, и они ничего не могли уступить.
Эти критики понимали, что, уступив сегодня "Гамлета", завтра они вынуждены будут ставить "Кукольный дом". Ну, а после этого уже вообще ничего не остается, как открыть чайные домики. Пожалуйста, милости просим! Надо быть последовательными. Сказав А, нужно сказать и Б. Поэтому, открыв чайные домики, следует закрыть фабрики-кухни, академические театры, спортивные стадионы, музеи, школы, цирки, университеты, ясли, клубы, парки культуры и отдыха, кинотеатры, библиотеки и другие культурные учреждения, ибо кто же станет смотреть кино или ходить в ясли, если можно пойти в чайный домик?!
Критики, с которыми даже такой умеренный и на многое согласный человек, как Олеша, оказался втянутым в спор, обладали высокоразвитой последовательностью и были по-своему правы. Они предложили зазевавшимся людям такое условие задачи, при котором, сказав упомянутое А, зазевавшиеся люди вынуждены были к своему величайшему удивлению растерянно бормотать означенное Б. Они ничего не могли поделать. Они вынуждены были запрещать "Гамлета", потому что они боялись за "Чудесный сплав".
Но эти люди ошибались, уверяя, что такова логика борьбы. Это была не логика борьбы, а неправильные условия задачи. Ложная последовательность и иллюзорная самоочевидность привели к ложному и иллюзорному выводу. Казалось незыблемым и бесспорным, что если в тебя палят из 203-мм гаубицы, то неминуемо следует отвечать тоже гаубицей, а не пращой или вовсе - элегией (?!). Но это такая же лживая, надуманная, неумная и лишенная фантазии ясность, как и уверенность в том, что кто сегодня посмотрел сомнительную картину, тот завтра обязательно зарежет родную мать. На выстрел не всегда следует отвечать выстрелом, а на подлость - подлостью не следует отвечать никогда.
Установив такую зависимость между искусством и жизнью, по которой вполне приличный зритель, едва успев посмотреть сомнительную картину, спешит зарезать родную мать, некоторые критики устанавливают и другую зависимость. По этой зависимости хорошее произведение искусства равно выигранному сражению или введению в строй промышленного гиганта, а плохое произведение соответственно равно проигранному сражению или выведению из строя гиганта.
Настаивая на зависимости независимых друг от друга вещей, можно получить любую реку, текущую в какое угодно море.
Течет Волга в Балтийское море.
В схематичной, лживой, лишенной фантазии, прямолинейной жизни, которую выдумали такие критики, течет Волга в Балтийское море.
Цепь последовательных рассуждений неопровержимо убеждает нас: течет.
Должна течь.
Так вот же вам, последовательные тупицы и непроглядные слепцы, скопцы и схоласты, ханжи и холопы, методические фанатики и педантические маньяки, иконоборцы, лицемеры, лакеи, святые отцы, непогрешимые, истерики, психопаты, шизофреники, параноики, олигофреники, рабы, господа, голубые мундиры и послушные им подданные, сегодня ешьте рыбу, а завтра, будьте последовательны! - крысу.
Жабу, кошку, хорька, гадюку, ехидну, шакала, ядозуба, древогрыза, стегоцефала, трихоцефала, клоачных и однопроходных, грибляка штриховатого, дизодия выемчатого и фораминиферу!!
В случаях, когда вспять начинают течь реки, не менее неожиданным образом начинают течь мысли.
Тогда происходят события, легко вступающие в противоречие с истиной, но, по мнению осведомленных людей, приносящие громадную пользу.
Обладающие большими знаниями и опытом люди считают, что в отдельные периоды преимущественное значение должна иметь не истина, а острастка.
Это очень правильно.
Между прочим, при таком взгляде на вещи одного человека можно спутать с другим.
Или сделать с одним человеком то, что следует сделать с другим.
Мир утрачивает ненужную жесткость и обретает широкую гуманную и свободную пластичность.
Это приносит громадную пользу.
Если же истина теряет свое конструктоструктурное кристаллообразующее значение, вследствие чего (опускаю посредствующие звенья) на одного человека могут быть перенесены действия, предназначенные для другого, то появляются основания судить или не судить человека (полемически обостряю), или вместо одного человека судить другого.
Ну, а если можно немножко спутать в уголовном процессе, то в литературе и вовсе делай что хочешь.
Это очень хорошо.
Стали путать в литературе.
Ну и что?
Л а х т и н (читая газету). В белогвардейской газете "Россия" помещена статейка, где сказано, что вчера в некоем пансионе ты, советский гражданин Федотов, выстрелом из револьвера убил сотрудника газеты "России" Татарова... допускаю, что ты вышеуказанного Татарникова...
Федотов. Татарова.
Л а х т и н. Неважно. Я допускаю, что ты этого Татарникова не убил... Я верю даже, что у тебя и в мыслях не было стрелять в этого Татарниковского...
Федотов. Ложь.
З о т о в. А вы не помните такого Тверитинова? Я как-то осенью задержал его.
Следователь. А почему вы спрашиваете?..
Зотов. Да просто так... интересно... чем кончилось.
Следователь. Разберутся и с вашим Тверикиным. У нас брака не бывает.
Этот разговор начали в 1930 году два хороших, добрых, простых человека Федотов и Лахтин в пьесе Юрия Олеши "Список благодеяний", а продолжили в 1941 году два других хороших, добрых, простых человека Зотов и следователь в рассказе А. Солженицына "Случай на станции Кречетовка".
Больше десяти лет длившийся разговор договаривался еще больше десятилетия.
Разговор этот рос, крепчал, становился все громче, покрывал стоны и заглушал предостережительные голоса.
Предостережительные голоса утверждали, что страну захлестывает волна необоснованных репрессий.
Это называлось клеветой и категорически отвергалось.
Никакой разницы между первыми четырьмя и последними четырьмя репликами этого разговора нет: первые произносят люди с незыблемой и непоколебимой верой в свою правоту и последние произносят люди, уверенность которых в своей правоте непоколебима и незыблема.
В обоих случаях дело кончается жестокой расправой с людьми.
Но если трудно отличить героев первого диалога от героев второго и не удается обнаружить отличие в их поступках, то несомненна решающая непохожесть авторов.
Эта решающая непохожесть заключается в отношении к героям, в оценке их дел и в том, что Олеша очарован этими людьми и от души радуется их успехам, а Солженицын с горечью и отвращением видит преступность людей, не понимающих и не хотящих понимать ничего иного, кроме того, что им внушают. И поэтому Солженицын пишет о гибели невинного человека, а Юрий Олеша прибегает к разнообразным методам ведения следствия, чтобы подвести человека под расстрел.
Такое решающее несходство между первой и второй частью диалога совершенно естественно, потому что первую написал ничего не понявший писатель, а вторую - все понимающий.
Конечно, между непониманием Олеши и пониманием Солженицына лежит тридцать три года - срок, за который многому научился даже Илья Муромец. Но ведь люди могут понимать или не понимать совсем не потому, что они обретают исторический опыт. Были люди, которые многое понимали в год премьеры "Списка благодеяний", есть люди, которые ничего не поняли в год публикации "Случая на станции Кречетовка". А есть и такие, которые уже успели забыть то, что еще недавно так хорошо понимали.
Хронология наличествующего понимания на данное число представляет значительный интерес, несомненно выходящий за пределы только академического. Ведь из-за того, что писатель Юрий Олеша и некоторые другие наши самые умные, самые гуманные, самые большие писатели, а также бывший комбриг Федотов, лейтенант Зотов и много других прекрасных, простых, до конца преданных нашему делу людей никак не могли понять, что происходит, пришлось расплачиваться многим другим, не менее хорошим, чем Федотов и Зотов, людям - Мейерхольду, Мандельштаму, Бабелю, Пильняку, Солженицыну.
Юрий Олеша не понимал, во что превращаются люди, навязывающие другим противоестест-венные, сочиненные исторические законы. Он не подумал, до каких колоколен фанатизма могут подпрыгнуть прекрасные, простые люди, которым безразлично все, кроме победы. Он знать не желал, что люди, которые тупо и слепо верят только в себя, что люди, которые верят, будто лишь им дано знать правду, у которых не бывает брака, могут на некоторое время задержать наше поступательное движение.
Юрий Олеша написал, поставил и напечатал "Список благодеяний", увидел, что ничего страшного не произошло, и пошел жить дальше.
Это было началом новой дороги.
Сказав А среднего достоинства, последовательный человек Юрий Олеша быстро побежал вниз по тридцати трем ступенькам русской азбуки, задерживаясь иногда на самых нехороших буквах.
Об одной из таких задержек я сейчас расскажу вам.
Юрий Олеша начал думать немедленно.
Он придумал:
"Строгий юноша. Пьеса для кинематографа".
Эта пьеса была одним их первых произведений советской литературы о капитуляции человека перед сильной личностью, властителем и вождем.
Уже наступило время, когда стало ясным, что лояльности или компромисса мало.
И тогда Юрий Олеша начинает объяснять и оправдывать сдачу и гибель советского интеллигента.
От других подлых вещей на эту тему произведение Юрия Олеши отличалось лишь известной тщательностью отделки. Кроме этого, иногда создавалось впечатление, что автор еще не утратил способности в чем-то сомневаться и не приобрел уверенности в том, что он всегда прав.
Юрия Карловича Олешу всегда интересовала идея подчинения, поклонения, безоговорочного служения. Он говорил об этом с людьми, писал об этом сценарии и рассказы, изливался в записной книжке. Он связывал это с историей, философией и собственной судьбой. Он жаждал успеха, и понимал, что жажда может быть верной дорогой к успеху.
Вот как идея, столь занимавшая автора "Строгого юноши", представлена в историческом аспекте.
"Витте приводит рассказ Николая о том, как Вильгельм II, будучи еще наследным принцем, однажды, когда императора Александра Третьего провожали из Берлина, бросился отнимать плащ у казака, который тот держал, готовый подать императору. Он сам решил подать его императору"1.
Писатель-философ Юрий Карлович не ограничивается эмпирическим наблюдением. Он делает широкие (и совершенно правильные для огромного большинства людей) обобщения.
"Эта давняя идея поклонения избранному, поклонения вождю, властителю. Идея беспрекосло-вной дисциплины, радостного уничиженного служения старшему"2.
1 Юрий Олеша. Ни дня без строчки. Из записных книжек. М., 1965, с. 182.
2 Там же.
Юрий Олеша принадлежал к той категории писателей, которые пишут не разные книги, но разные главы одной книги. Такие книги пишутся всю жизнь.
Герои в главах этой книги жизни выглядят не одинаково, они могут быть молодыми или старыми, победителями или побежденными, но задача, возложенная на них, не меняется.
В книге, которую писал Юрий Олеша в 1927 году, была глава под названием "Зависть", в 1934 году была глава под названием "Строгий юноша".
"Строгий юноша" это "Зависть" новой эпохи.
Со "Строгого юноши" в творчестве Юрия Олеши начинается литература 30-х годов, литература, которой уже не было.
В то время когда многие писатели еще умели писать хорошо и когда это даже не запрещалось, Юрий Олеша, который всегда делал только то, что другие, тоже писал хорошо. Он даже немного перестарался. Правда,не так, как Мандельштам или Ахматова, или Пастернак, но несколько талантливых страниц все-таки водилось за ним. Это были страницы лучшей его книги - "Зависти", и за них он расплачивался всю жизнь.
Но я не хочу доводить вас до отчаяния. Юрий Олеша, к счастью, был не из тех людей, которые любят невинно страдать. Он стал сразу же исправляться, то есть писать, как все в начале 30-х годов, то есть - плохо. Но несколько прекрасных страниц "Зависти" были написаны, и с этим уже ничего нельзя было сделать и этого ему никогда не простили.
Вся история с этими проклятыми страницами произвела на Юрия Олешу отталкивающее впечатление.
Он сдавался. Он понял, как неуместно легкомысленное отношение к окружающей действительности.
Через десять лет после "Трех толстяков", после того как уже были написаны "Зависть", "Вишневая косточка" и "Список благодеяний", на всех парах въехал орган Центрального Комитета Союза рабочих железнодорожного транспорта "Гудок" в творческую жизнь Юрия Олеши.
То, что было лишь предчувствием в романе, в сценарии выросло, созрело и расцвело.
Предчувствия не обманули художника.
Неразрешимую, незаконченную и противоречивую "Зависть" писатель пытался разрешить и закончить в "Строгом юноше".
Но значительность романа была именно в том, что его неразрешимость и противоречия оставляли надежду.
В "Строгом юноше" все решено, противоречия отсутствуют, концепция перечеркнута и надежда утрачена.
Все начинается сначала. В новой главе книги, которую Олеша писал всю жизнь, снова обсуждается список чувств. Только теперь этот список предлагают положительные герои.
Шел год 1934-й, год убийства Кирова, начала массового уничтожения людей, создания Союза Писателей СССР. Для того чтобы убивать людей, создавать творческие союзы, нужно было воспитать сильных, здоровых, смелых, бодрых, выносливых и готовых на подвиг людей. Наступило время, когда социально-эстетические проблемы становятся лишь частью обширного комплекса готовности к труду и обороне ("ГТО").
Обширный комплекс ГТО развертывается в "Строгом юноше", написанном в 1934 году, не сразу. Начинается он с портрета идеального комсомольца, образцовой особи нового мира. Этот гражданин выглядит так: "Светлые глаза, светлые волосы, худощавое лицо, треугольный торс, мускулистая грудь, - вот тип современной мужской красоты"1.
Такая красота связана с оружием, с войной. "Из-под кожаного козырька шлема пилота, как правило, смотрят на вас серые глаза... когда летчик снимает шлем, то перед вами блеснут светлые волосы... танкист тоже оказывается светлоглазым"2.
(Это было написано через год после прихода к власти нацистов в Германии и через 17 лет после прихода коммунистов к власти в России.)
За комплексом физических качеств следует сентенции, которые должны популярно разъяснить некоторые психофизиологические идеи: "...если желания не исполняются, тогда человек делается несчастным. Нельзя подавлять желания. Подавленные желания вызывают горечь. Есть такая теория"3.
После столь обстоятельной подготовки Олеша приступает к главному. Главное выглядит так:
"- Он составил третий комплекс ГТО...
- Какой же это комплекс?
- Моральный... Комплекс душевных качеств. Какие душевные качества должен выработать в себе комсомолец?.. Скромность. Это, во-первых. Чтобы не было грубости и развязности. Дальше: искренность. Чтобы говорить правду. Дальше: великодушие... Щедрость. Чтобы изжить чувство собственности... сентиментальность... чтобы не только марши любить, но и вальсы... жестокое отношение к эгоизму... целомудрие...
- Так ведь это буржуазные качества.
- Нет, это человеческие качества.
- Что это значит человеческие?..
- Буржуазия извратила эти понятия. Потому что была власть денег.
- А раз теперь власти денег нет, то все эти чувства получают свою чистоту"4.
1 Юрий Олеша. Строгий юноша. Пьеса для кинематографа. В кн.: Юрий Олеша. Избранное. М., 1936, с. 211.
2 Там же.
3 Юрий Олеша. Строгий юноша. Пьеса для кинематографа, с. 227. Имеется в виду теория З. Фрейда. ("Лекции по введению в психоанализ". М., 1928, с. 222-237).
4 Там же, с. 219-220.
Как раз в это время происходил бурный расцвет исторического жанра в советской литературе: все чаще стали появляться произведения о любви к людям, гуманизме, доброте, человечности.
В списке, приведенном в "Зависти", преобладают плохие чувства, потому что этот список составлен представителем старого мира. В списке, приведенном в "Строгом юноше", преобладают хорошие чувства, потому что список составлен представителем нового мира.
"Моральный комплекс ГТО" перечисляет необходимый минимум достоинств человека бесклассового общества. Может быть, следовало бы что-либо добавить? Может быть, что-либо убрать? Может быть, может быть. Только это все совершенно безразлично, все это не имеет никакого отношения к делу, к героям, к произведению, потому что все эти достоинства не влияют на сюжет произведения и характеры героев. Они (достоинства) существуют сами по себе, а сюжет и характеры тоже сами по себе. Замечательные душевные качества (скромность, великодушие, искренность) повешены на человека, как плакаты на стену. Их можно снять, можно заменить другими. Можно вообще держать свернутыми в трубочку. Стена от этого не потерпит никакого ущерба и не претерпит никакого превращения.
Можно представить себе, что какой-нибудь отдельный писатель решит в связи с отсутствием подлинного знания жизни выразить художественными средствами образ героя, который должен быть образцом и воплощением лучших черт. Ну, что же, во все эпохи бывают такие одиночки, то изобретающие перпетуум-мобиле, то стремящиеся к раскрепощению женщины. Наконец, мировая литература тоже в отдельных случаях знает попытки представить в зрительных образах такого героя (назовем его условно "идеальным"). Действительно, подобные попытки мы наблюдаем в творчестве писателей-утопистов и сатириков. Так, в частности, этого вопроса касается Томас Мор на страницах своего романа "Утопия" и Джонатан Свифт в известном рассказе о лунатиках на страницах романа "Путешествие Лемюэля Гулливера в разные страны".
Я не против этого. Не возражаю. Идеальный герой. Человек будущего, добраться до которого в силу нашего собственного несовершенства не так-то просто, достаточно проблематичен, и именно в этой проблематичности содержится его допустимая убедительность: можно предполо-жить, что еще не ясный во всех деталях процесс исторического развития создаст существо, непохожее на нас, простых и далеких от подлинно научно-фантастического идеала людей.
Но когда мне предлагают в качестве этого научного идеала товарища, с которым мы работаем в одном цеху на кондитерской фабрике "Большевичка", то я начинаю громко и безудержно хохотать и говорю, что это, увы, лишь неуместная иллюзия. - О нет, - говорю я, - тут уж вы мне, уважаемая коллега, не заправляйте. Это вы про какого Гришу? - Да про Фокина, отвечает. - Из обливного? - Ну да, из него самого. Да что ты раззявился, Гришку не знаешь? - Вот тут я начинаю решительно возражать. - Не нужно проходить школу агностицизма, - говорю я, - в вариациях от Юма до семантической философии (А. Кожибский, С. Чейз, С. Хаякава и др.), чтобы понять, с помощью сколь малого количества интеллектуального вещества тебя хотят обкрутить. Это наш-то Гришка? - спрашиваю я. - То есть вы хотите сказать, что не в результате длительного исторического процесса, в котором еще много неясного, возможно появление идеального героя, а уже сейчас имеется такое существо или пусть даже росток, который и есть представитель будущего? Так я вас понимаю? - И тут я начинаю повторно громко и безудержно хохотать, и говорю: - Это наш Гриша? Из обливного? Гришка Фокин?! Тот самый? О нет, мои товарищи по нашему трудному ремеслу, - говорю я, резко оборвав хохот. - Так дело не пойдет. Не в том суть, что Гришу мы знаем как облупленного, в чем, можно сказать, мать родила. (Прошу извинить, в академических институтах и творческих организациях это, вероятно, покажется неуместным вульгаризмом.) Не в том суть, повторяю, что мы все его знаем в том смысле, что он еще не вполне идеальный герой будущего, ничего, будет работать над собой, дозреет, и не в том дело, что мы-то знаем, все мы же искусствоведы, историки, писатели, социологи! мы же знаем, что это туфта и никакого образцово-показательного Гриши нет, а его выдвинул наш местком, профком, ширпотреб исполнять обязанности идеального героя по общественной линии (они-то все и затеяли. Qui bono! Им план по культмассовой работе выполнять), мы-то знаем своего Гришаньку из обливного, который позавчера Райку Цыкину на складе готовой продукции переинвентаризировал, хотя он и план перевыполняет (с помощью нормировщика), и ведет себя как человек будущего, и голубой галстук с такой композицией купил, какую я могу вспомнить только у Иеронима Босха. Не в том суть. А в том, мои дорогие товарищи по нашему нестерпимо трудному ремеслу, что чего в нем есть, плюс к этому тенденция дальнейшего роста, а все равно нас это не устраивает. Может, нашему месткому таких героев и надо, а я скажу по-простому, по-нашему, в манере зрелого Рабле: идите вы к такой-то матери со своим идеальным героем, который в самом-то своем лучшем виде будет только что производительность перевыполнять, не будет баб лапать, всюду будет повышать свой морально-технический уровень, да в космос летать. Dixi.
Но ведь мы знаем, что человечество со времен первобытной орды стремилось к этому идеальному образу, стремилось и создавало его, перевыполняющего норму, работающего над собой, пылкого мечтателя, патриота своей родины, полного чистоты, вдохновения, обаяния. И этот образ делал все, что видели лишь в грядущем идеале его лучшие современники. Но мировая история гремела и перекатывалась по разбитым дорогам, и заливала колеи кровью, и над нею стоял легкий розовый пар.
И если даже не один Гриша Фокин, а все мы станем перевыполнять норму и летать в космос, то произойдет ли самое главное, произойдет ли то, что заставляет человечество от первобытной орды до всемирно-исторических побед на фронте литературы и искусства думать, писать, страдать, произойдет ли главное: изменится ли отношение людей друг к другу?
Нет.
Не изменится.
Человек может быть только таким, какой он есть. Он не может быть ни существенно перевоспитан, ни биологически переделан. Он может быть лишь коррегирован другими челове-ческими волями, каждая из которых поправлена противопоставленной им волей иных людей.
Поэтому для нормального существования человека необходимо одно ничем не заменимое условие: свобода.
Этих условий, существующих в достаточной полноте, никогда не было в прошлом. Только некоторые демократии XX века открыли эту возможность.
Ничего похожего на свободу у Гриши Фокина нет. И поэтому мы отказываемся следовать за ним по его трудной, благородной и бесплодной дороге к цели, которой не существует.
В "Строгом юноше", произведении, с которого начинается второй и окончательный период творчества Юрия Олеши, характеров нет, и это связано с тем, что в созданных писателем обстоятельствах им нечего делать. Характеры без определенных занятий слоняются по художественному произведению, натыкаются друг на друга, скучают, от безделья начинают придумывать моральный комплекс и, насупив брови, выяснять, может ли простой комсомолец любить жену профессора.
В первые же минуты концепции, когда дитя ее, не успев пискнуть, уже обнаруживало несомненные признаки удушия, Олеша и его собратья-акушеры, не глядя на задушенного, напирали на последовательное мировоззрение и проистекающую из него пользу.
С каждым днем становилось все более и более ясным, что мировоззрение первый сорт. А это для некоторых критиков-раздватрисов составляет основы современной эстетики: главное, чтобы было правильное мировоззрение. Тем более что вышеозначенное мировоззрение придумывают не какие-то писатели-одиночки, каждый кто в лес, кто по дрова, а спускают бюро секции критики, ученые советы академических институтов и правление добровольного спортивного общества пенсионеров гуманитарного профиля.
Несмотря на то что за эти годы в сознании писателя произошли необратимые изменения, старые его темы не были замещены другими. Темы интеллигенции и революции, интеллигенции и послереволюционного государства незыблемо и непоколебимо стоят в книгах Юрия Oлеши.
Писатель не может, не в состоянии вырваться из кольца старых тем. Писатель сторожит свои темы. Темы сторожат своего писателя. Писатель бережно хранит весь круг мотивов, материала, образов и фразеологии.
Олеша знал об этом, и пытался объяснить, почему писателю и, в частности, ему, так трудно выйти из замкнутого круга.
"В течение многих лет растут и развиваются в писателе темы. И вдруг в один прекрасный день писатель видит, что эти темы, которые были его жизнью, оказываются ненужными. Это чудовищ-ной силы потрясение. Темы, неинтересные общественности, из записной книжки вычеркиваются. Но выход ли это? Помогает ли вычеркнуть? Ведь они остаются в мозгу. Вычеркнутая тема может подняться и стать поперек мозга.
Образуются кладбища тем. Они гниют - эти индивидуалистические мертвецы - и отравляют мозг. Их вынести некуда. Только на бумагу. А знание о них, что они не нужны (не потому, что критика сказала, а потому, что понимаешь сам) - это знание не позволяет вынести их на бумагу"1.
Художник.с такой глубиной и беспощадностью вскрывший свои внутренние противоречия, заслуживает особенно чуткого отношения. И критики сразу поняли "...сколь мучительна была для писателя (Ю. Олеши. - А. Б.) драма отторжения от новой действительности, приводившая к творческой депрессии"2.
1 Ю. Олеша. Необходимость перестройки мне ясна. - "30 дней". 1932, № 5, с. 68.
2 А. Волков. А. М. Горький и литературное движение советской эпохи. М., 1958, с. 265.
В эти годы тема интеллигенции и революции исчерпала себя, а тему интеллигенции и послереволюционного государства было рекомендовано решать так: вся интеллигенция дружно и восторженно приветствует послереволюционное государство.
Это был поспешный и далекий от реальной действительности вывод, родившийся и созревший в головах, опаленных социалистическим реализмом, которые (головы) всегда отличались одной замечательной особенностью: уверять, что уже есть то, что хочется, чтобы было.
На самом же деле взаимоотношения интеллигенции и государства были еще сравнительно далеки от идеала, и одной из причин этого был именно вульгарный социологизм.
(Бывают минуты, когда мне становится страшно при мысли, что мое увлечение вульгарным социологизмом может показаться безумным.)
Но если не обливать грязью вульгарный социологизм, то что же тогда делать?
Что же тогда остается? Тогда человек должен накапливать в своем организме всевозможные продукты распада? Должен самоотравляться? Да?
Вульгарный социологизм это последнее пристанище и последняя точка приложения критических сил. И если отберут и его, то останутся только отдельные нетипические недостатки в подготовке инвентаря.
Но ведь надо жить, надо писать, надо хоть как-нибудь помешать безостановочному нравственному распаду.
Как жить, как сохранить сердце, простую человеческую порядочность?
Поэтому, когда я говорю о вульгарном социологизме несколько более решительно, чем этого бы хотелось некоторым представителям умственного труда, прогрессивной общественности и другим людям с легко ранимым сердцем, у меня возникает желание уступить, не спорить. Наверное, я ошибаюсь, преувеличиваю. Пусть, думаю я, пусть тогда имеющиеся излишки неприязни к вульгарному социологизму будут списаны в фонд других концепций, которые считаются более удачными и обсуждению не подлежат. Это будет очень своевременно.
В связи с органически свойственным мне явным преувеличением некоторых особенностей вульгарного социологизма, который, вне всякого сомнения, был не худшим из всего, что создавалось в жанре тотальных концепций, у меня частенько возникает чувство, подобное тому, которое в другое время и в связи с совершенно другими обстоятельствами толкало Чацкого на безумные поступки, и мне хочется сказать некоторым вульгарным социологам его словами, что
Ваш век бранил я беспощадно.
Предоставляю вам во власть:
Отбросьте часть
Хоть нашим временам в придачу.
Уж так и быть я не заплачу.
Возвращаюсь к пьесе для кинематографа "Строгий юноша". В этой пьесе очень подробно и убедительно рассказано, как жить, как сохранить сердце или хотя бы уж простую человеческую порядочность. Всего этого можно достичь, если строго следовать примеру автора и его положительного героя.
В эти трудные годы, надолго определившие судьбы искусства, Юрий Олеша рискнул лишь на робкую и неуверенную дискуссию с социологизмом (получив сведения, что не сегодня-завтра тот станет вульгарным).
Человеческих качеств в природе нет - утверждал социологизм (который до тех пор, как стал вульгарным, очень убедительно утверждал, что другой истины, кроме той, которую он провозгла-шает, быть не может). "Что значит человеческие?" - рычит социологизм, твердо уверенный, что никогда вульгарным не будет.
Снова, как и в "Зависти", выясняется, что не все старые чувства умрут в новую эпоху. "Кое-что останется".
Снова начинается очередное недоразумение. Недоразумение состоит в том, что цитату из Маркса принимают за цитату из Гамсуна. Это нужно для того, чтобы показать, что чувства одной эпохи вполне приемлемы для другой.
И опять, как в романе, над всеми чувствами преобладает зависть. И еще больше, чем в романе, зависть оказывается лишь метафорой, лишь аллегорией социального неравенства.
Метафорический слой романа плотнее, чем сценария. Люди, события, идеи проступают сквозь образность "Зависти" не так отчетливо, как в "Строгом юноше". Сценарий проще, яснее романа, менее значителен. Метафора "зависть" в "Строгом юноше" очень быстро реализуется в понятие "социальное неравенство". Это социологическое понятие в 1934 году оказалось иным, чем то, которое было в 1927-м.
В 1927 году Юрий Олеша писал, что между бедным поэтом и директором треста пищевой промышленности идет яростная война.
В 1934 году между молодым рабочим и великим, знаменитым, замечательным, увенчанным, чтимым, почтенным и проч. академиком яростная война отменяется.
Вместо войны предлагается дискуссия на тему: "Сохранится ли в бесклассовом обществе власть человека над человеком".
Все произведение Юрия Олеши именно такая дискуссия.
И, несмотря на то что в конце победителю, как в рыцарском романе, достается прекрасная женщина, ни дискуссии, ни победы в произведении нет.
Дискуссия заменяется высказываниями враждующих сторон, каждая из которых говорит о своем и другого не слышит. Создается еще один вариант важнейшей и любимой темы в истории русской интеллигенции; "Глухой глухого звал к суду судьи глухого".
Для ученого, почтенного, знаменитого и замечательного героя будущее общество хорошо не тем, что в нем не будет того, что было в прошлом, а тем, что в нем все-таки останется немножко от прошлого. Этот герой соглашается на будущее общество только потому, что в нем не все будут праздники, и потому, что "уничтожение капитала еще не говорит об уничтожении несчастий".
От старого замечательный деятель хотел бы оставить не только элегию "чередующихся смен радости и печали", но и приживала, который таскает за ним "шляпу и трость", которому можно кричать "дурак", "подлец", "гадина" и "пошел вон". В 1927 году директор треста пищевой промышленности только один раз бил по щекам бедного поэта, а в 1934 году богатый и знатный герой все время "гневается", "хватается за бутылку", "кидает... бутылкой".
Юрия Олешу уже не очень интересует молодой рабочий, даже перевыполняющий норму и занимающийся физкультурой. Его интересует культ личности.
Апологией увенчанного, чтимого, чванного героя стало произведение Юрия Олеши.
Этот герой - "великий ум", как он именуется в "Строгом юноше",- в других художествен-ных,или не очень художественных, или вовсе не художественных произведениях изумительных и ослепительных 30-х годов и последующих освежающих десятилетий представлялся то в образе рулевого, то в образе зодчего.
Юрий Олеша пошел дальше: он представил его в образе хирурга.
Писатель в своем воображении дорисовал образ.
Запах крови исходит от страниц киносценария "Строгий юноша" Юрия Олеши.
Этому дорисованному образу отдалась великая литература.
Одновременно с нею отдались также: скульптура, архитектура, культура и карикатура.
Кроме того отдались: живопись, музыка, театр всех жанров, история и историография, философия и историософия, геология и минералогия, археология и ихтиология, а также общественная мысль, цивилизация, рационализация, электрификация и демократизация целой эпохи.
А молодой рабочий, перевыполняющий норму по качеству, номенклатуре и физкультуре, заявляет:
"Равенства нет и не может быть. Само понятие соревнования уничтожает понятие равенства. Равенство есть неподвижность..."
По необразованности (Гриша Фокин не учился в Ришельевской гимназии) он немножко спутал. Гриша Фокин спутал интеллектуальное и нравственное неравенство с социальным. Гришанька считает, что это все одно. От его деклараций на социологические темы пронзительно пахнет продуктами распада замученных постоянным перевоспитанием мечущихся интеллигентов, приживалов, вассалов и раздватрисов. Замученный постоянно перевоспитывающимся автором, несчастный человек произносит церковным голосом: "Отдавай дань восхищения высоким умам..." После этого становится совершенно очевидным, что произошла подмена. На этот раз социология подменяется тяжелым вздохом. Спор начался о власти человека над человеком, а кончился тем, что на земле всегда будут умные и дураки.
Подмена социального конфликта пустяком не снимает ощущения разбитости, побежденности, обреченности героя.
Снова разрешение конфликта мнимо: писатель получил не то, что хотел, не то, что ему было нужно. Он хотел разрешить социальный конфликт, а разрешил любовный.
Но это недоразумение было задумано. Олеша оказался вынужденным пойти на недоразумение. Ему больше ничего не оставалось, потому что в 1934 году, когда уже было объявлено, что общество "...вскоре будет бесклассовым...", не мог же он в самом деле в своем произведении устраивать классовую борьбу. Он притворился, что никакой классовой борьбы нет, и социальный конфликт подменил победой красивого блондина, полного жизненных соков, над молодой и мающейся женой стареющего профессора.
А мир по-прежнему был поделен на победителей и побежденных, на имеющих власть и лишенных ее.
Каждое произведение Юрия Олеши пересекает забор.
По одну сторону забора располагаются процветающие победители, по другую - жмутся прозябающие побежденные. (Побежденные у Олеши это не те, кого победили в борьбе, а те, кто от усталости, обреченности, лени, пьянства и отношения к ним автора позволяют делать с собой все что угодно.)
Социология забора подчеркивается автором недвусмысленно.
Забору в произведениях Юрия Олеши придается решающее значение.
В "Зависти" он возводится на странице, где происходит решивший все в судьбах героев конфликт.
"Я бросился к калитке, к выходу на поле. Но меня задержали. Военный сказал "нельзя" и положил руку на верхнее ребро калитки...
Нечто более значительное, чем просто желание видеть все вблизи, заставило меня полезть на стену. Я вдруг ясно осознал свою непринадлежность к тем, которых созвали ради большого и важного дела, полную ненужность моего присутствия среди них, оторванность от всего большого, что делали эти люди, - здесь ли на поле, или где-нибудь в других местах.
- Товарищ, я не простой гражданин, - заволновался я (лучшей фразы для упорядочения мешанины, происшедшей в моих мыслях, я не мог бы придумать). Что я вам? Обыватель? Будьте добры пропустить. Я оттуда...
- Вы не оттуда..."
Вот, что такое забор в творчестве Юрия Олеши.
Такой забор стоит во всех произведениях писателя.
"...стена..."
"...барьер..."
"...за барьером..."
"...в ту недостижимую сторону..."
В той недостижимой стороне, по ту сторону стены процветающие победители, по эту сторону - прозябающие побежденные.
Прозябающего побежденного к процветающим победителям не пускают.
Такая ситуация в классовом государстве более или менее естественна, и побежденные могут обижаться, негодовать и бороться, но удивляться тут нечему. Произошла замена одной власти другой, и победители вытолкали побежденных.
Проходит семь лет, и в другом произведении снова строится забор, и этот забор еще выше, чем был раньше. Высокая каменная ограда вырастает в произведении Юрия Олеши.
В той недостижимой стороне, по ту сторону высокой каменной ограды живут процветающие побежденные, по эту сторону - прозябающие победители.
Процветающий побежденный так разговаривает с прозябающим победителем:
" - Ну? Почему же вы опустили голову? Хочется на вечер?... Но у вас и фрака нет. У вас есть фрак? Нету?... Прощайте, серенький... Живите своей серенькой жизнью... Чужая ограда".
"Ограда".
"За оградой..."
"Чужая ограда".
"Чужой богатый дом за оградой".
"Ворота".
"Закрываются ворота".
Совершается поражающий и настораживающий социальный парадокс: вытолкнутыми оказываются победители.
Был не парадокс. Была иллюзия. Была характернейшая иллюзия эпохи нэпа, которую охотно сохраняли еще целое десятилетие после того, как нэп кончился.
Дело в том, что никаких победителей не было.
Были люди, которые совершили революцию, а потом оказались оттесненными нэпом, и так и остались по другую сторону стены.
Эти люди нужны были только для того, чтобы совершить революцию, а когда революция была совершена, ее плодами воспользовались другие. Кончилась революция, и завоеванная власть перешла к другим людям.
Вытолкнутые победили не могут понять, в чем дело:
"Это, значит, неверие... полное неверие в нас... в молодых... в наши силы, умы... в культуру... мы тоже будем великими..."
И приживал, холоп, лакей, испуганный интеллигент, продажная сволочь, шкура, перебежчик, мерзавец, который вымаливает теплое местечко, сигару, сытный обед и общественное положение у хозяина, именуемого в произведении "великим человеком", "великим умом" и "гением", заявляет: "Стало быть, вы согласны, что социализм - это неравенство".
Вытолкнутые победители возмущались, размахивали руками и предъявляли претензии.
Иногда они стреляли, как героиня рассказа А. Толстого "Гадюка", иногда стрелялись, как герой романа И. Эренбурга "Жизнь и гибель Николая Курбова".
Как всегда в революции, они казались слишком левыми тем, кто революцию завершил и получил послереволюционное государство.
Получившие послереволюционное государство боялись тех, кто совершал революцию.
Борис Пильняк написал "Повесть непогашенной луны", в которой рассказал о том, как победитель послал на гибель человека, совершившего революцию.
В "Строгом юноше" спор о социальном неравенстве, который велся до этого во всех книгах Юрия Олеши, заканчивается:
"Ф о к и н. Это чистая власть. Он не банкир... он гений...
Дискобол. А власть гения остается?..
Фокин. Власть гения? Поклонение гению?.. Да. Остается... Да... Влияние великого ума... Это прекрасная власть..."
Такое решение спора было естественным и заслуженным, потому что заведомая уверенность в своей неправоте должна была завершиться безоговорочной капитуляцией перед чужой правотой.
Эта странная склонность, эта скверная привычка кланяться, склоняться, преклоняться и поклоняться не однажды настигала Олешу. Сначала это были короткие и судорожные припадки. Но все больше, все чаще и все настойчивее предается он гибельной привычке. Перед тем как склонить положительных героев, склоняется и последовательный автор. В громкую ораторию хвалы и лести Юрий Олеша вплетает свою лирическую кантилену. Наступила пора самой зловещей темы русской культуры: глобального обожания хирурга.
Юрий Карлович Олеша был к этому хорошо подготовлен. Он думал об этом, писал, связывал концепцию с историей и собственной судьбой.
Вот, как это выглядит в эстетическом аспекте:
"Не всегда хочется идти под власть чужой индивидуальности. Она должна быть очень высокой, чтобы я с радостью пошел под ее власть!"1.
Вот как это выглядит в бытовом:
"Василий Васильевич Шкваркин рассказывал мне о так называемом "цуке", как он применял-ся в Николаевском кавалерийском училище, где он учился. Старший юнкер мог заставить сделать младшего самые невероятные вещи. Младшие вовсе не протестовали, наоборот - с воодушевле-нием выполняли все нелепости, очень часто доставлявшие им физические страдания.
- Как же так, - сочувствовал я младшим, - ведь это ужасно! Как же на это соглашались?
- Юра, - сказал Василий Васильевич картавя, - никто ведь не заставлял их подчиняться цуку. Когда юнкер только поступал в училище, его спрашивали, по цуку ли он будет жить или ему не хочется по цуку?
- И он мог не согласиться?
- Боже мой, ну, разумеется, но если он отказывался от цука, то его могли не принять в какой-нибудь приличный полк. Тогда уж на задворки!"2.
1 Юрий Олеша. Беседа с читателями. - "Литературный критик", 1935, № 12, с. 165.
2 Юрий Олеша. Ни дня без строчки. Из записных книжек. М., 1965, с. 183.
Как часто под давлением обстоятельств человек вынужден жить по цуку!.. И как часто без давления обстоятельств люди живут так, лишь бы попасть в какой-нибудь приличный полк!
Юрий Карлович хотел попасть в приличный полк и попал. Мандельштам не попал. Ахматова не попала. А Юрий Карлович всех обошел: и в полк попал, и невинным страдальцем русской литературы вышел.
Писатель настойчиво идет к примирению, то есть к сдаче и к поражению, то есть к гибели.
Гибель героя торжественно завершается в "Строгом юноше", где он признает свое поражение, требует его и радуется ему.
Общественность, раньше с некоторой настороженностью, а то и с опасливостью относившаяся к автору "Зависти", чрезвычайно одобрительно отнеслась к "Строгому юноше".
Это произведение очень понравилось лучшим представителям советского народа, т. е. литературным критикам, которые сразу поняли, что Олеша нащупал, понимаете, как бы это сказать? ну, напал на жилу, что ли, почуял, что этому плоду Музы новой эпохи тучнеть, цвести и наливаться. Будь здоров! Почти без оговорок они принимают новое произведение Юрия Олеши, а если и оговаривают, то так, пустяки.
Начиная со "Списка благодеяний" и особенно после "Строгого юноши" многие полюбили Юрия Олешу.
Вот как полюбили Юрия Олешу на Первом Всесоюзном съезде советских писателей:
""Строгий юноша" - это новый человек в новом мире, который целиком принят Oлешей и вернул ему самому его утраченную молодость"1.
Это сказал не какой-нибудь либеральчик и добрый дядя, а тов. В. Киршон, красивый молодой злодей и рапповский главарь.
А вот как полюбили Юрия Олешу благодарные читатели:
"Пьеса для кинематографа "Строгий юноша" - первое произведение, в котором Олеша попробовал реализовать свои новые творческие установки..."2
Юрий Олеша хотел и умел нравиться.
Многое предчувствуя, он писал в связи со "Строгим юношей":
"Я считаю, что мы должны обобщать, видеть лучшее, идеализировать. Я хочу видеть только хорошее. Были герои в мировой литературе, которыми мы хотели быть. Были идеалы, которые вызывали в нас чувство подражания. Теперь мы сами должны создавать таких героев"3.
1 Первый Всесоюзный съезд советских писателей. Стенографический отчет. М., 1934, с. 396.
2 "Письмо "старой комсомолки" Юрию Карловичу Oлеше".- "Молодая гвардия", 1935, № 1, с. 157. ("Старая комсомолка", "Комсомолка Чернова" стала впоследствии известным литератур-ным критиком. Ее фамилия Л. П. Жак. Псевдоним раскрыт по ее просьбе).
3 Юрий Олеша. Комсомолка Чернова. (Ответ на письмо, напечатанное в № 1 "Молодой гвардии"). - "Молодая гвардия", 1935, № 4, с. 160.
Таким образом, в пьесе для кинематографа "Строгий юноша" появляется уже не только власть великого ума, которая прекрасна, но и идеальный герой. Это совершенно естественно: при власти великого ума должны быть только идеальные герои. Если же они идеальными не были, то их отправляли исправляться.
Страстная любовь к власти великого ума последовательно привела Юрия Олешу к необходи-мости идеализировать, видеть только хорошее, трудиться на ниве создания идеального героя и подражания ему, то есть ко всему тому, что некоторое время спустя стало главными пунктами художественной концепции целой эпохи. У этой эпохи были замечательные победы, но в то же время нельзя не отметить и некоторые серьезные упущения. В частности, были недоосвещены вопросы материальной заинтересованности населения в связи с резким увеличением потребнос-тей. Юрий Олеша вместе с другими писателями закладывал первые камни фундамента новой художественной эпохи.
И в связи с этим он получил замечательный подарок.
Этот подарок он получил на Первом Всесоюзном съезде советских писателей 1 сентября 1934 года.
Юрию Олеше была оказана огромная честь.
С высокой трибуны съезда ему было поручено зачитать приветствие Центральному Комитету Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков).
И Юрий Олеша зачитал.
"Под знаменем социалистического реализма шла и будет идти дальше наша работа. Под руководством партии Ленина-Сталина идем мы на идейный штурм старого мира и капиталистического общества...
Мы знаем также, что мы преодолели и будем преодолевать все трудности, ибо непобедимо учение Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина, ибо во главе ленинского ЦК стоит наш друг и учитель, любимый вождь угнетенных всего мира - Сталин".
Так читал, говорил и писал безвинный страдалец и несчастная жертва в неравной борьбе Юрий Олеша.
Ему было поручено зачитать такое ответственное приветствие. Это нужно было заслужить.
Этого не заслужили другие делегаты съезда - Бабель, Пастернак.
Это заслужил Юрий Олеша.
Заслуженный писатель стал зачитывать приветствия и писать произведения о замечательных успехах, возникших под властью великого ума.
На этом кончается живое искусство.
Начинается схематичная, лживая, лишенная фантазии, прямолинейная пьеса.
Несчастье обрушилось на его слабые плечи, не подождав. Еще совсем недавно Юрий Олеша хотел написать совсем другую пьесу. За год до "Строгого юноши" он писал:
"Я не знаю другого превосходства, кроме доброты".
Это сказал Бетховен...
Это будет эпиграфом к моей новой пьесе о бесклассовом обществе..."1.
Но эпиграфом это не стало. И пьеса о доброте не была написана. Была написана пьеса о поклонении избранному, о поклонении вождю, властителю, пьеса о том, что власть великого ума - это прекрасная власть.
Как это делается? Очень просто.
Писатель берет флейту, прикладывает ее к губам и начинает высвистывать нечто лирическое. Потом он проглатывает флейту, и мы слышим бодрую мелодию, поднимающуюся из недр художника, неодолимую, покоряющую и сметающую все на своем победоносном пути.
1Альманах "Чукоккала". Запись от 5 июня 1933 г.
Приношу глубокую благодарность К. И. Чуковскому, разрешившему процитировать неопубликованный текст.
"Чукоккала" опубликована издательством "Искусство" в 1979 году. Запись Oлеши на с. 364. - Ред.
"СОБИРАЙТЕ МЕТАЛЛОЛОМ!"
Мы живем в мире, полном чистейших намерений, благородных пожеланий и смелых порывов.
"Держись правой стороны!" - зовут нас плакаты, и я верю в то, что в них больше любви к людям и подлинного гуманизма, чем в крикливых декларациях многочисленных обществ по охране прав домашних животных.
"Покупатель и продавец! Будьте взаимно вежливы!" - по этим высоким началам общественной нравственности учатся наши дети.
Меня никогда не оставляла вера в то, что "честный труд обеспечивает культурный досуг", и я знаю, что лучшая часть моего духовного облика формировалась под влиянием именно этой концепции.
"Не уверен - не обгоняй" и "Соблюдайте рядность!" - одергивают нас надписи на грузовиках, и в этих словах есть нечто, что выходит за ограниченные пределы водительской этики и входит в неисчерпаемую область социальной психологии.
"Собирайте металлолом!"1
1 Спичечная коробка. Кировский СНХ, ф-ка Белка. Гост 1820-56 х 60 шт.
Общеизвестно высказывание Гете о том, что если бы "Римские элегии" он написал размером "Дон Жуана", то они были бы непристойны. Легко представить себе, что интонация и лексика "Гаргантюа и Пантагрюэля", попав в пролог "Медного всадника", показались бы странными.
Я не хочу сказать иного, чем сказано в предпоследней строфе "Домика в Коломне":
"- Как, разве все тут? шутите!"
- Ей-Богу.
"- Так вот куда октавы нас вели!
- К чему ж такую подняли тревогу..."
Взволнованные, полные высокого гуманизма призывы собирать металлолом в такой же мере, как и всякая речь, подчинены законам контекста, и поэтому они в том случае, когда соблюдают закон, - прекрасны, а в случае, когда его нарушают, - вызывают недоумение.
Но бывают такие литературные эпохи, когда художника вынуждают нарушать стилистическое единство, и тогда он вводит металлолом в контекст, подчиненный иному стилистическому закону.
Лучшими помощниками в этом деле бывают тяжелые обстоятельства, отсутствие выдержки, слабая человеческая воля художника.
В контексте автора "Зависти" появляются слова, сюжеты и идеи, которые начинают казаться размером "Дон Жуана" в "Римских элегиях".
Юрий Олеша пишет:
"...история небывалых успехов на хозяйственном и культурном фронте..."
"Он погиб, спасая социалистическую собственность".
"... я думал о наших прославленных летчиках".
Про успехи на хозяйственном и культурном фронте, равно как и о спасении социалистической собственности, автор "Зависти" начал говорить после того, как он стал автором "Строгого юноши".
И это было совершенно естественно, ибо идея собственного ничтожества в сравнении с властью великого ума неминуемо должна была привести к фразеологии, ничем не отличающейся от той, которая свойственна людям, живущим чужим умом. Закон единства формы и содержания торжествовал здесь свою самую большую и самую разрушительную победу.
Все рассуждения о языке художника как-то сразу теряют для меня цену, когда становится ясным, что они не идут дальше рассуждения о языке. Язык это выражение сознания, мысли, и скудный язык выражает скудную мысль. Люди, говорящие тощим, чахлым, вымученным, чахоточным, испуганным и смиренным языком, это люди тощей, чахлой, вымученной, чахоточной, испуганной и смиренной мысли, жизни, судьбы. И учить этих людей нужно не стилистике, а порядочности.
Олеша еще ничего не понимает. Он не понимает, что произошло и куда завела его власть великого ума.
Он прибегает к способу, весьма распространенному в истории русской интеллигенции: переоценке ценностей. "Я стал думать, - говорит он, - что то, что мне казалось сокровищем, есть на самом деле нищета"1.
1 Ю. К. Олеша. Речь на Первом Всесоюзном съезде советских писателен. Первый Всесоюзный съезд советских писателей. Стенографический отчет. М., 1934, с. 235.
С чувством глубокого внутреннего удовлетворения писатель старается показать, как чудовищно он неправ и как далеко зашел он в своих заблуждениях.
Он требует обратить на него особое внимание. Он подчеркивает необходимость учесть всю серьезность аргументации, приводимой им в доказательство своего ничтожества.
Юрий Олеша умел и любил сдаваться. У него это так хорошо получалось, потому что репутация его была в прекрасном состоянии, производственная характеристика в полном порядке, а если художник вдруг начинает делать что-нибудь такое, то все мы понимаем, что это не он, а редактор, тяжелые обстоятельства, голодные дети, больная жена. Некоторые при этом добавляют: а также слабая человеческая воля художника.
Когда в профессиональном и претендующем на порядочность тексте появляется металлолом, то можно не сомневаться, что художник подает сигнал бедствия. "Это не я! - кричит художник. - Это редактор, тяжелые обстоятельства, голодные дети, больная жена".
Тогда я вспоминаю пленных эсэсовцев.
На допросах эсэсовцы говорили, что они хорошие, никого не обижали и поспешно доставали бумажку. Радостно и уверенно достает эсэсовец бумажку и кладет ее перед майором.
На бумажке написано:
"Справка. Выдана штурмбаннфюреру СС Шпурре. Настаящим удаставеряю што каспадин шкура атнасился ка мне очень даже замичатильна. Студентка 5-го курса Всесоюзной сельскохозяйственной академии Татьяна Кострова".
Студентки, агрономы, медсестры, крестьянки, кончившие и не кончившие академии и школы, писали одни более, другие менее грамотно, но никогда на своем родном языке человек без заранее обдуманного намерения, возникающего под дулом автомата, не напишет "атнасился ка мне очинь даже замичатильна".
"Очинь даже замичатильна" у Олеши вынужденные. Если бы ему были созданы социальные условия, стимулирующие развитие порядочности, то Олеша этого никогда бы не сделал.
Но поскольку эти условия еще не были созданы, то он сделал:
"...будущее мира строится у нас".
"...как полноценна вся жизнь в нашей стране".
"С каждым днем все более убеждаешься в том, что молодежь нашей страны растет..."
Он думал, что, как Татьяну Кострову, написавшую, что она студентка 5-го курса, его спасет подпись: "Юрий Олеша".
Ведь всякому ясно, что Юрий Олеша так писать не может, не станет.
И эта подпись спасала его. По крайней мере во мнении тех, кто делает еще более гнусное дело.
Это не он написал. Это редактор, тяжелые обстоятельства, больная жена, голодные дети, слабая, жалкая его воля, трусость и душа раба, тяжкая и горькая судьба русского художника.
Через многочисленные высказывания Олеши этой поры нитью, ставшей от стыда красной, проходит мысль о том, что он "встает на четвереньки и осторожно проползает между ногами первого (партнера. - А. Б.)"1.
Не один Олеша размышлял о своих взаимоотношениях со временем.
В общественной мысли 30-х годов началась широкая кампания за подлинную идейность.
"Шахматы или пятилетка?" Под таким названием, стоящим в ряду с угрожающими речениями типа "жизнь или смерть" и "жизнь или кошелек", была напечатана статья, требующая недвусмысленного ответа.
"Во многих наших изданиях (и газетах и журналах) мы встречаем шахматные отделы... ...Я, конечно, не против этого... Мне лишь хочется сказать несколько слов о том, как, по-моему, не нужно продвигать шахматы в массы...
Раньше, чем обратиться к шахматному отделу (почти каждому!), просмотрите то издание, в котором этот отдел печатается. Каждая строчка, каждая буква его (издания) кричит о пятилетке, промфинплане, о колхозах и севе. А на последней странице, в шахматном отделе: "...Черный король имеет целых шесть свободных полей!!"2
1.Н Э.Бауман. Искусство жонглирования. М., 1902, с. 88.
2 "Смена", 1931, № 10, с. 26.
Именно в это время Юрий Олеша с мучительными переживаниями тоже решал мировые загадки, как то: "Звезды или республика" и "Любовь или план".
Но дело, конечно, было не в одних шахматах.
Значительно серьезнее оказалось положение на фронте поэзии. Здесь дать достойный отпор было не так-то просто. Однако после ликвидации кулачества все силы были брошены на поэзию.
Теперь, когда мы с вышки громадного исторического опыта можем окинуть взором историю этих лет, становится ясным, что положение было совершенно нетерпимым.
Но в то же время с этой вышки мы видим и людей, которые уже в те годы давили идеологических диверсантов еще в зародыше.
Вот как они это делали:
"С добрым утром!" - приветствует читателя издательство "Федерация" в одно прекрасное утро 1931 года.
"С добрым утром!" - и в этом мягком, успокаивающем приветствии читатель слышит что-то давно знакомое, приятно ласкающее ухо...
Да, это, кажется, было еще до революции.
Более молодой читатель на этом кончает свои рассуждения по поводу анекдотического заголовка книжки стихов Ивана Приблудного...
У Приблудного нет квартиры. Это печальное обстоятельство обуславливает скептическое отношение Ивана Приблудного к окружающей действительности... отчужденность от социалистического строительства... его бездеятельность.
Автор голову склонил
Над линейкой и бумагой,
Ткнул пером во тьму чернил
С древнерыцарской отвагой.
Думал десять с лишним лет,
Где быть хлебу, где быть лесу,
И придумал напослед
Замечательную пьесу.
Пьеса принята страной и т.д.
Это ли не пасквиль на нашу пятилетку? План, выработанный и выполняемый благодаря невиданному творческому подъему и энтузиазму широких рабочих масс под руководством партии, представляется Приблудным как досужая выдумка какого-то чудака ("Думал десять с лишним лет"). Вся суть пятилетки сводится автором к распределению "хлеба и леса".
Не менее показательно для Приблудного стихотворение "Штукатур". Автор проливает слезы над упавшим во время работы и разбившимся штукатуром:
За какие-то тридцать рублей, (!!)
За обещанный лифчик жене
Поплатился ты жизнью своей,
Неподвижный лежишь на спине.
"Автору не приходит в голову, что у рабочего могут быть какие-либо иные стимулы к труду, кроме необходимости покупать жене лифчики..."1
1 А. Волков, Н. Любович. Дайте Приблудному удобную квартиру! "Смена", 1931, № 14, с. 22.
Какие же должны были произойти исторические сдвиги, какие прошуметь войны, сколько жизней пришлось отдать в борьбе за свободу от колониального ига, сколько сил было брошено на улучшение работы Главкинопроката, чтобы критики и другие деятели идеологического фронта, перестроив в новых исторических условиях свое сознание, за слова "С добрым утром!" уже не требовали крови и мяса!
Прошла треть века.
Произошли исторические сдвиги.
Основные фонды СССР увеличились на 650% (в круглых цифрах)1.
В связи с этим мы можем позволить некоторым поэтам говорить уже не только "С добрым утром!", но даже "Доброй ночи!"2
Или уже нечто такое, что вообще невозможно было представить себе: "С добрым утром, с добрым утром и с хорошим днем!"3
1 См. в кн.: СССР в цифрах. Статистический сборник. Центр. статистическое управление при Совете Министров СССР. М., 1958, с. 14.
2 "Доброй ночи!" Слова О. Фадеевой. Музыка В. М. Юровского. В сб.: "Шесть романсов для среднего голоса с фортепиано". М., 1956.
3 "С добрым утром!" Слова О. Фадеевой. Музыка О. Б. Фельцмана. Впервые эта песня прозвучала по радио 29 мая 1960 года. Первые ее такты стали позывными еженедельной воскресной передачи "С добрым утром!"
Но необходимо ко всему подходить исторически: что было абсолютно неприемлемым в обстановке ожесточенной классовой борьбы, стало возможным и даже в отдельных случаях полезным в других исторических условиях.
Может быть, еще через треть века, когда основные фонды СССР увеличатся еще на 650%
(в круглых цифрах), мы издадим "Стихотворения" Осипа Мандельштама и не будем спускать ассенизационный коллектор на литератора, который сказал не так. С добрым утром! Доброй ночи! Приятного аппетита!
Дайте писателю удобную квартиру с теплым ватером!
И ведь, действительно, дают. Особенно тем, кто хорошо пишет.
Более обобщенный образ художественной жизни этих лет дает нам решение Федерации организаций советских писателей.
Из этого документа мы узнаем о десятке деятелей литературы, театра и музыки, приложивших громадные усилия, чтобы создать гнусные произведения во всех доступных им жанрах.
"Фракция (Ленинградского отдела ФОСПа. - А. Б.) относит к числу неприкрыто чуждых и вредных произведений последний роман Каверина "Художник неизвестен", воспроизводящий сугубо идеалистические взгляды на искусство и роль художника. "Сумасшедший корабль" Ольги Форш, - вещь, помещенная без всякого редакционного примечания со стороны редакции журнала "Звезда" также проникнута идеалистическими тенденциями и носит враждебный ленинской культурной революции характер.
Законченным пасквилем, клеветой на партию и рабочий класс является произведение Правдухина "Гугенот в табакерке"...
Такой же клеветой является "П и н г-п о н г" Грабаря...
Фракция отмечает далее тяжелые, опасные срывы в творчестве А.Толстого, выражающиеся в том, что вслед за приспособленческой халтурной пьесой "Это будет", осужденной ЛОКАФ'ом и всей общественностью, писатель выступил с двумя "романами" - "Черное золото" и "Необычайное приключение на волжском пароходе", являющимися образцами буржуазной бульварной литературы...
Явным влиянием реакционно-формалистического лагеря объясняется последнее выступление композитора Шостаковича, опубликовавшего откровенно индивидуалистическую декларацию "прав композитора"...
Фракция считает необходимым усиление классовой бдительности и большевистской принципиальной нетерпимости на всех участках идеологического фронта..."1
1 "Больше классовой бдительности на фронте литературы и искусства. Из резолюции фракции ФОСП'а". - "Рабочий и театр", 1932, № 1, с. 5.
На такого впечатлительного человека, каким был Юрий Олеша, все это не могло не произвести огромного впечатления. А так как истинный художник всегда опережает своей век, то, конечно, Юрий Олеша успел сделать все необходимое.
Но это ведь дается не сразу, и он некоторое время колебался, стараясь выбрать наиболее достойный творческий путь.
В связи с этим Олеша, поняв, что неправ он, а правы другие, написал рассказ "Летом", в котором скрестились старые пороки с новыми добродетелями.
Он цепляется за старое (пороки):
"С первого взгляда он мне не понравился... Мне показалось, что он принадлежит к тем людям, которые пользуются благами жизни с чересчур уж заметным увлечением. Я не любил таких людей... Он меня раздражал..."
Потом он хватается за новое (добродетели): "Он получил эти земли и звезды в наследство. Он получил в наследство знание".
Так мучается и мечется писатель через два года после того, как он поднял руку, поднял руки, опустил руки, сдался в роковом "Строгом юноше".
Но оказалось, это был "молодой рабочий, сделавшийся писателем... очаровательный молодой человек".
Произошла ошибка: человека приняли за Толстяка, а оказалось, что он поэт.
С поэтом приходит в рассказ образность, человечность, свежесть и чистота.
"В тишине и свете, над уснувшим миром висела звезда - зеленоватая, полная, свежая, почти влажная".
Для того чтобы пролилась в мир эта прохладная и прозрачная фраза, нужно, чтобы к художнику вернулась вера, и вдохновение, и счастье, и творчество.
Так снова заговорил на мгновенье пришедший в себя художник, который когда-то писал хорошо.
Слышали ли вы оркестр перед оперой? Тянет свою скучную, пустынную ноту кларнет, хрипит свою квинту фагот, злорадно взвизгивает флейта, бубнит литавра. И вдруг над этим мелочным и ничтожным, завистливым и бранящимся миром пролетает, легко взмахнув крылами, чистая и законченная мелодия, фраза, произнесенная классически изваянным ртом.
Так приходит и так уходит призрачная и неуловимая победа художника, истекающая в мелочном и ничтожном, завистливом и бранящемся мире.
Закрытый, еще неясный рассказ, как замок, открывается фразой: "Вега, Капелла, Арктур. Получается дактиль".
И распахнутое произведение наполняется стихом, искусством, поэзией.
Снова появились взаимоотношения людей, быстро меняющиеся, точно мотивированные, появился характер, образ человека, - молодого рабочего, ставшего писателем, тонким и впечатлительным.
(Правда, перед тем как сказать "все изменилось" и "очаровательный молодой человек", Олеша пишет: "Он сказал, что знает меня еще с тех пор, когда был слесарем в железнодорожном депо.
- Я читал ваши фельетоны в "Гудке"...)
В минуту пробуждения художник возвращается к старой и вечной теме: поэт и люди, "которые пользуются благами жизни", поэт и толпа.
На мгновенье проступает сквозь решетку зловещих слов - "Власть гения... Это прекрасная власть..." - чистое и высокое чело художника.
Художник говорит об искусстве, о звездах.
Но тема была прервана, нить оборвана.
Писатель начинает понимать, что произошло.
И тогда в отчаянии он перестает писать о людях и начинает писать о зверях.
Писатель заметался. Он ищет среди железа и камня, исписанной бумаги, концепций, лжи и измен тайную зеленую лужайку.
Оказывается, это очень просто.
И ездить далеко не надо.
И мировоззрение не претерпевает особенного ущерба.
"Десять минут езды на трамвае отделяет нас от фантастического мира".
Да, да... Цивилизация, природа, вечные и неразрешимые противоречия... Впрочем, отчего же неразрешимые? Человек укрощает природу, "и она все меньше рычит и все больше мурлычет у него в руках, как прирученный барсенок на площадке молодняка в зоосаде".
Но звери приходят в мировую литературу, когда из двух зол хотят выбрать меньшее.
Отчаяние Юрия Олеши было так велико, что из своего рассказа "Мы в центре города" он изгнал всех отрицательных персонажей. Все двадцать его героев - положительные!
Положительные тигры! Положительные пингвины! Положительные кенгуру! Положительные страусы! Помесь львицы и тигра тоже положительная!
Юрий Олеша садится в трамвай, покупает билет, спрашивает: - Вы у Кудринской выходите? Ну, и не лезьте тогда, - и уезжает в другую социологию.
Он приезжает на тайную зеленую лужайку.
На зеленой лужайке пасет метафоры Юрий Олеша.
"Животные как ничто другое дают повод для метафор, - заявляет Юрий Олеша, безусловный авторитет в этой области. - О, я берусь из любой пасти, самой маленькой, вытащить целую ленту сравнений!"
И вытаскивает:
"...лань, раскрашенная, как мухомор...
...черепаха величиной с походную кухню.... Защитный цвет. Кастрюлеобразное тело...
...сойка. Чей изысканный вкус прибавил к ее коричневому платью две черно-белые, точно полосатые, нашивки?!
...Тигр... Какая великолепная морда! Желтая в белых разводах. Как будто обляпанная известью.
...чайка - это торпеда... она - совершеннейшего вида моноплан с низко поставленными крыльями...
А вот попугаи...
Мне показалось, что я вижу перед собой картину какой-то странной осени. Как будто распадалось передо мной прекрасное дерево. Разлетались в разные стороны его ветви, листья - в каком-то пустом саду, где осталось только солнце".
Так создается литературно-художественный этюд на тему "Метафоры, извлекаемые из любой пасти".
В литературно-художественном этюде явное, не скрываемое соревнование с Хлебниковым, похожее на старинный турнир поэтов.
Это состязание, несмотря на отличное качество попугаев, Юрий Олеша проигрывает.
Он проигрывает не потому, что не получился тигр и не удалась чайка, но потому, что у Хлебникова была большая, а у него маленькая задача.
Потому что Хлебников писал поэму не как экзерсис, взяв отпуск у эпохи, а как художествен-ное произведение, и поэтому в художественном произведении Хлебникова, кроме блестящих метафор, были спрятаны "прекрасные возможности", а у Олеши ничего не было спрятано.
И поэтому, кроме звериных метафор, у Хлебникова появилась еще одна, не звериная, и из-за этой метафоры была выстроена вся поэма, и каждый стих этой поэмы, - лишь ступень постамента, на вершине которого - храм:
"Где в зверях погибают какие-то прекрасные возможности, как вписанное в Часослов "Слово о Полку Игореве".
Эпическая значительность и апокалиптичность хлебниковской поэмы разрешается метафорой-обобщением, за которой стоят история и эпос.
Значительность Хлебников подготовляет исподволь. Интонационная окраска произведения - патетическая: "О Сад, Сад!" История, эпос введены системой уподоблений зверям.
"Где верблюд знает разгадку буддизма и затаил ужимку Китая..."
"...влагая древний смысл в правду..."
"...нетопыри висят подобно сердцу современного русского".
"...на свете потому так много зверей, что они умеют по-разному видеть Бога".
"...небо..."
"...старинный обряд родовой вражды..."
"...падают... как кумиры во время землетрясения..."
"...носит в бело-красных глазах неугасимую ярость низверженного царя... И в нем затаен Иван Грозный"1.
1 В. Хлебников. Стихотворения. Библиотека поэта. Малая серия, Л., 1940, стр. 3-7.
Олеша сделал описательный, непритязательный рассказ о том, что "мир, не имеющий ничего общего с городом, находится как раз там, где город проявляется в своих самых ярких формах".
Что это? Противопоставление сделанного нерукотворному? Постылой и пыльной цивилизации - природе? Может быть. Впрочем, нет, не противопоставление: "...как трудно сделать такой узор!.. Кто же этот гениальный мастер? Природа... Мы посетили выставку природы, ее стенды. И опять мы в городе. Мы среди машин... Здесь человек проявляет себя мастером такой же силы, как и природа".
Как раз наоборот - единство: творит природа и творит человек. Но человек "сильнее ее. Он отнимает ее тайны и заставляет ее служить себе".
В этом было что-то новое, потому что до сих пор мировая литература противопоставляла природу цивилизации и укоряла цивилизацию.
Был протест против цивилизации, созданной враждебным свободному человеку, художнику обществом, природа и цивилизация были только флагами разных цветов в борьбе между людьми, жаждущими свободы, и абсолютизмом.
Противопоставление природы цивилизации было столь значительно, потому что утверждало общественную борьбу, свободу, равенство и братство, достоинство человека и неоспоримую правоту санкюлотов, а согласие вело лишь к почтенному соображению, что нехорошо сидеть сложа руки.
Во все эпохи разложения и распада, когда философия истреблена, экономика разрушена, нравственность заменена ханжеством, когда уже нет концепции, а есть только религия, в которую никто не верит, люди, стоящие у власти, уничтожают все живое и мыслящее, ссылаясь на историческое право. А загнанная, изгнанная, раздавленная, уже совсем, казалось бы, уничтожен-ная живая и мыслящая, едва различимая, казалось бы, навсегда истребленная часть общества противопоставляет тирании, лицемерию, невежеству и самодовольству естественное право.
Но главным был не спор на историко-литературные темы.
Главным было то, что высокий и чистый художник, а не льстец, поняв, чему он слагал свободную хвалу, какие выражал чувства и о чем говорил языком сердца, бежал от людей к зверям.
(Есть такая социология.)
Все литературы мира сравнивали, кто лучше: человек или зверь.
Ситуация, в которой возникал такой вопрос, предрешала исход: зверь лучше.
Зверь лучше, потому что человек был еще хуже.
Из двух зол всегда стараются выбрать меньшее.
Об этом рассказывает античный миф, персидский эпос, арабская поэма и европейский роман.
Юрий Олеша коснулся одной из самых разработанных в мировой литературе тем и предложил свой вариант.
Юрий Олеша предложил попробовать сделать наоборот. Пусть природа и цивилизация будут в хороших отношениях.
Ничего значительного из этого не получилось.
Трагична судьба русского писателя. Когда ему становится очень плохо, он стреляется, уходит ночью через окно из дому, спивается, перестает писать.
Особенно тяжело несут свой крест те, кто так старался, так старался всегда идти в ногу со временем (да еще при этом на цыпочках).
Самое неприятное было то, что слишком часто приходилось переменять ногу. Но ведь не все могут это делать легко и быстро, гуляючи, припеваючи, играючи, напевая, танцуя, плюясь и сморкаясь.
Во все революционные и особенно послереволюционные эпохи, когда человеку приходится заново налаживать взаимоотношения с миром, неминуемо появляется большое количество людей, занятых главным образом тем, чтобы вовремя поспеть.
Один из первых документов, обративших внимание на таких вовремя поспевающих, был издан в эпоху Французской революции - 11 мессидора 1 года Республики (1793). Документ подписан председателем комиссии по народному просвещению Пэйаном. В нем сказано: "Есть множество юрких авторов, постоянно следящих за злобой дня; они знают моду и окраску данного сезона; знают, когда надо надеть красный колпак и когда скинуть... В итоге они лишь развращают вкус и принижают искусство. Истинный гений творит вдумчиво и воплощает свои замыслы в бронзе, а посредственность, притаившись под эгидой свободы, похищает ее именем мимолетное торжество и срывает цветы эфемерного успеха..."1
1 "Дом искусств". Пб., 1921, № 1, с. 43.
Юрий Олеша никак не мог стать по-настоящему юрким автором; он часто путал моду и окраску данного сезона; он не умел ловко похищать мимолетное торжество и срывать цветы эфемерного успеха. И, несмотря на большие усилия в этой области, так до конца ему никогда и не удалось преуспеть.
Медленно и необыкновенно поворачивается на оси десятилетие в книгах Юрия Олеши.
Через десять лет после романа о революции, в год, когда был написан "Строгий юноша", в решающий для истории русской литературы и поэтому русской общественной мысли год
1934-й Юрий Олеша сказал:
"Власть гения... Это прекрасная власть..."
Он поверил в то, что власть гения это - прекрасная власть.
По крайней мере поверил в то, что в это необходимо верить.
Он прикладывал огромные усилия к тому, чтобы верить. И часто верил не без успеха.
Вера, страх, привычка, отвращение перед необходимостью перечеркнуть свое прошлое, ужас перед одиночеством, боязнь нищеты, трепет перед тюрьмой, надежда на то, что все это, может быть, не так, а если так, то, может быть, удастся перетерпеть, необыкновенные и невиданные успехи, искусственная и безвыходная альтернатива - или ты советский художник, или враг, все это создавало ситуацию, когда еще без гадливости можно было сказать (чуть притворившись, чуть испугавшись, чуть веря), что власть великого ума прекрасна.
Но шли годы, и оказалось, что такой малостью ограничиться уже нельзя.
Увы, многие писатели полагали, что нужно все пуще писать о том, как необыкновенна, удивительна, восхитительна, замечательна и изумительна власть великого ума, карающего, уничтожающего, хорошо разумеющего, что творящего, отбрасывающего страну вспять, разруша-ющего ее хозяйство, разлагающего ее общество, сметающего ее интеллигенцию, растаптывающего ее демократию, конечно же, во имя процветания ее хозяйства, благоденствия ее общества и расцвета ее демократии. И чем более кровава и разрушительна была эта власть, тем проникновеннее и гуще следовало писать о том, что она прекрасна.
Медленно и неотвратимо длинными языками сползала ложь.
Она могла слизать общественное мнение, проникнуть в человеческое сердце, залить, затопить страну, потому что против нее не было выставлено никакого соединенного сопротивления.
Больше всего преследовалось именно соединенное сопротивление.
Шла методическая и целеустремленная расправа со всеми, кто думал иначе, нежели великий ум. И чем больше было уничтожено тех, кто думал иначе, тем больше накапливалось власти в его руках.
Но люди еще не знали, как обрушится на них эта лавина власти. Они чему-то верили, чему-то не верили, боялись поверить, приговаривали: "Подумать только, Петра Николаевича сегодня ночью взяли. И профессора Буйновского тоже. И Семку-водопроводчика. Просто в голове не помещается. Чтобы профессор Буйновский тоже?.. Но, с другой стороны, меня же вот не берут?" В следующую ночь взяли.
Люди не решались поверить в злодеяние, потому что оно казалось бессмысленным, потому что рассказы о нем для многих были скомпрометированы источником - буржуазной прессой, потому что люди видели, что в царской России не было нефтеперерабатывающей промышлен-ности, а теперь она есть, потому что летали лучше всех, дальше всех, выше всех, потому что больше ничего не оставалось, как быть безмерно счастливыми.
Люди были готовы примириться со многим, потому что в Европе фашизм обрушивался на тех, кто дорожил свободой, попирал общественное мнение, расправлялся со всякими попытками сопротивления, уничтожал евреев, расстреливал писателей, растлевал интеллигенцию, закрывал театры, запрещал книги, фильмы, оперы и симфонии. Печать всего мира приводит "многочислен-ные примеры репрессий правительства Гитлера в отношении немецкой и в особенности еврейской интеллигенции, выражает свое удивление по поводу того, что правительство в то же время отрицает эти факты, считая, что сведения, распространяемые на этот счет за границей, ложны и имеют целью "скомпрометировать" нац.-социалистов в глазах народов. Вышло правительственное распоряжение, в силу которого всякий, имеющий родственников и знакомых за границей, обязан через них опровергнуть соответствующие сообщения мировой прессы... На смену разгромленной литературы фашисты выдвигают свою. Извлекается на свет старая фашистская литература... военно-патриотические романы"1.
Испуганные безвыходностью, люди думали:
"У нас... весь рисунок общественной жизни чрезвычайно сцеплен... Все части рисунка сцеплены, зависят друг от друга и подчинены одной линии"2.
1 "В лагере фашизма. Писателям - тюрьмы, книгам - костры (Германия)". - "Литературный критик", 1933, 1, с.162.
2 "Великое народное искусство". Из речи тов. Ю. Олеши". "Литературная газета", 1936, 20 марта, № 17 (580).
Боязнь обнаружить при помощи одного порока некоторые другие заставила искать и находить оправдание тому, что само по себе, вне сцепления с другими частями рисунка, показалось бы неправильным и несправедливым.
Но ложь явилась не сразу во весь рост и загремела не сразу во весь голос. Она росла и вздувалась день ото дня, год от года, от победы к победе. Она преподносилась, подавалась, предлагалась, просовывалась, всовывалась, всучивалась, заправлялась, просачивалась и вкручивалась не раз навсегда, как единовременное пособие, но как ежемесячный заработок за верную службу.
Все это произошло не в один день, и никогда социологические смещения такой значительности не происходят в один день. Для этого должно пройти столько времени, чтобы одни забыли истину, другие еще не успели ее узнать, третьи поколебались, а четвертые были заняты не истиной, но главным образом окраской данного сезона.
Медленно и неотвратимо сползали всеобщий восторг и ликование. И неутолимо росла уверенность в том, что сопротивляться этому невозможно.
Но еще ранним утром эпохи начали просыпаться люди, готовые восторженно принять угрюмого младенца, энтузиасты и доброхоты, кормильцы и мейстерзингеры несправедливости.
Но оставались люди, пытавшиеся сопротивляться или старавшиеся хоть не принимать участия в этой несправедливости.
Юрий Олеша читал газеты каждый день. Но там ничего не было сказано о том, что наступила самая тяжелая полоса в великой трагедии народа. Поэтому он писал много и хорошо, ведя к новым победам себя и других. Он начал привычно и восторженно бормотать. Как бормашина.
"...умственный уровень страны чрезвычайно вырос".
".. .только у нас поэзия и философия стали доступны всем".
"Люди шли побеждать пустыню".
"...мечты стали действительностью".
Но острое чувство стиля не до конца оставляет писателя даже и в эти годы. Даже в эти годы он понимал, что такое речь художника и как она непохожа на нищую, ничтожную речь широкого потребления. Ему трудно написать общую фразу; общая фраза оговаривается, объясняется, писатель просит за нее прощенье, он заявляет: я знаю, что делаю. "Он хотел сказать, что гордится своим народом, но он подумал, что эта фраза, сказанная без связи со всеми теми мыслями, которые переполняли его, покажется общей".
Юрий Олеша давно знает, что делает.
Он давно знает, что такое общая, казенная фраза.
Еще с 1932 года (по крайней мере) знает.
Это вам не дилемма, слоны - мастодонты! и вообще всякие интеллигентские рефлексы. Эней - Русс. Из-под Калуги. Точка.
Подлинная любовь к отечеству всегда споспешествовала самым значительным начинаниям не только в истории, но и в поэзии. Понимая, как неприятно должны действовать на патриотическое русское ухо заграничные имена гомеровских героев, Осип Иванович Сенковский перевел их на родимый язык следующим образом: Agamemnon Atreides - Распребешан Невпопадович, Klytemnestre Tydreis - Славнопридана Драчуновна, Antigone Agamemnoneis Выродок Распребешановна, Electre - Безложница, Iphigenie - Дебелощека или правильнее Дебелоподбо-родная, Selene (Helene) - Шкатулка, Paris Priamidis - Маклер Откупович, Hekoube - Самоходка, Penelope - Мучисковородка, Ajas Telemonides - Меч Портупеевич1.
1 Собр. соч. Сенковского (Барона Брамбеуса). Т. 7. СПб, 1859, с. 499-501, 504, 506, 508.
Через 92 года в 1950 году мы остановились, остолбенев, перед другим научным открытием, стимулирующим еще более плодотворный поиск.
Несмотря на отсутствие в эпоху феодализма подлинно научного мировоззрения, ученый исследователь эпохи социализма нам сообщает: "могучие творческие силы русского народа" уже имели столь "ярко выраженную самобытность", что привели к стихийному "изобретению русской печки"1.
1 А. М. Орлов. Русская отопительная и вентиляционная техника. М., 1950, с. 26.
Не прошло и ста лет, как Юрий Олеша, продолжая традицию национальной печки, быстро и художественно набросал в той же манере рассказец "Друзья".
И за это вам, тов. писатель, наше громадное читательское русское спасибо.
В эти годы шла упорная научная борьба за хорошее происхождение, но с родословным деревом что-то случилось, потому что его ветки стали расти куда-то вбок и даже, я бы сказал, назад. В результате такого ботанического феномена в повитой туманом дали все явственнее стали проступать очертания княжеских мечей, патриарших крестов, ключей Царьграда... А также лесов, рек и озер Западной Украины и Белоруссии, Бессарабии, Эстонии, Латвии и Литвы.
Зачем я говорю о рассказе Юрия Олеши "Друзья"? Из-за поэтического восторга, согревающе-го исследователя этого произведения, и еще из-за лягушки.
В этой главе, как и полагается исследователю творчества Юрия Олеши, кроме слонов и мастодонтов, я уже касался ряда других животных и птиц. На предыдущих страницах были освещены с большей или меньшей полнотой тигр, пингвин, черепаха, чайка, кенгуру, попугай и др. Сейчас я предполагаю остановиться на представителе класса земноводных - лягушке (Ranidere).
В истории мировой литературы происходят многообразные, но всегда строго детерминирован-ные жизнью, превращения одного явления в другое.
Дезавуируя антигуманистическую традицию, превращающую царевну в лягушку, писатель лягушку превращает в царевну.
Этот процесс совершается в рамках той же поэтики и той же социологии, в каких совершался процесс превращения слонов в мастодонтов.
Юрий Олеша был заслуженным деятелем искусства писать как раз то, что следует.
Способ превращения лягушек в нечто прекрасное довольно сложен, но обойти его нам не удается, потому что он всеми нитями связан с генеральной темой предлагаемого труда: судьба художника, который не сумел выполнить свое высокое, святое назначение. При этом следует особо сконцентрировать внимание на роли сахара, являющегося одним из важнейших ингредиентов исходного продукта.
Итак, Юрий Oлеша предлагает нашему вниманию представителя семейства бесхвостых земноводных.
Имеется в виду не какой-нибудь один из тысячи шестиста видов данного семейства и даже не лягушка вообще, а совершенно определенная конкретная лягушка, именно та, которая сыграла выдающуюся роль в жизни и творчестве великого русского писателя-реалиста Н. В. Гоголя и уже через него - в истории русской общественной мысли.
Великий писатель-реалист, подвергнув острейшему осмеянию лягушку в первом томе своего труда "Мертвые души", во втором томе, то есть в конце своего творческого пути, крайне неожиданно сделал ее вполне съедобной.
Обращает на себя внимание то обстоятельство, что во втором томе по невыясненным академическим литературоведением причинам предложенное блюдо писатель-реалист лягушкой не называл.
Однако, по прочтении поэмы, наиболее чуткие современники заметили, что незаметно для себя заглотали лягушку.
В первом томе поэмы функция лягушки была очерчена совершенно определенно и не требовала дополнительной экспликации. Цитирую:
"- Что ж, душа моя, - сказал Собакевич, - если б я сам это делал, но я тебе прямо в глаза скажу, что я гадостей не стану есть. Мне лягушку хоть сахаром облепи, не возьму ее в рот..."1.
1 Н. В. Гоголь. Полн. собр. соч. в 14-ти т. Т. 6. М., 1952, с. 98.
В конце своего творческого пути Юрий Олеша крайне неожиданно представил лягушку не лишенной соблазнительности.
Эту совсем маленькую, почти незаметную лягушку он обсыпает чрезвычайно большим количеством сахара, в связи с чем многие даже и не замечают, что заглотали что-то соблазнительное, но гнусное.
Приведя в русскую литературу мастодонта, Юрий Олеша мог бы считать завершенным свое художественное поприще.
Но случилось не так. Он был тщеславен и трудолюбив.
Безвозмездно, взволнованно и торжественно Юрий Олеша, сверкая метафорами, внес на высоко поднятых руках в русскую? литературу представителя класса бесхвостых земноводных.
Последовательна и неумолима судьба предательства: человек начинает мамонтом или еще прекрасней - мастодонтом, а кончает ничтожно и подло жабой.
В вопросе о потреблении лягушек я целиком на стороне Собакевича.
Я за Собакевича в некоторых сложных вопросах идеологии.
Последовательна и неумолима судьба человеческой слабости: человек начинает мамонтом или еще прекрасней - мастодонтом, а кончает замечательными рассказами.
Я за Собакевича в сложных вопросах теории литературы.
Мне лягушку хоть сахаром облепи, не возьму ее в рот ни за что, как бы этой лягушкой меня ни угощали в стихах и прозе, в живописи, скульптуре и архитектуре, в симфонической музыке и вокальной, инструментальной и эпохальной.
Вы, наверное, думаете, что я чем-то раздражен, не правда ли?
Это все у вас от неожиданности. Вы ведь привыкли, чтобы писатель прямо-таки знойно любил вас.
Вы привыкли к тому, что вы замечательные, а кто вас описывает, должен считать за честь, что вы позволяете, чтобы вас описывали.
Описываю вас.
Знаю я вас.
Я знаю, как вас десятилетиями развращали. Вам говорили, какие вы необыкновенные, чуткие, доброжелательные, взыскательные, добрые, строгие и чем больше вы становились холопами чужого мнения и чужой воли, тем больше вы утверждались в своих незабываемых добродетелях.
Вам говорили, что литература - для вас! скульптура - для вас! культура, физкультура, макулатура - для вас!! для воспитания в вас величественных достижений. Ого-го! Будь здоров, дорогой, самый чуткий и благожелательный читатель!..
А критики, а критики! Господи, прочти они это, у них лопнули бы пузыри! Писаки русские толпой...
Наиболее тяжелые для литературы эпохи согреваются страстной любовью писателей к читателям. Чем хуже, чем гаже литература, тем больше писатели обожают читателей. Прямо хоть ты что - обожают и все тут. И еще: чем хуже, гаже литература, тем мощнее ее нахваливают.
Это сияющие литературные эпохи со страстью корят себя и в отчаянии жалуются на судьбу. Пушкинская эпоха рыдает от своего ничтожества. "У нас и литература едва ли существует"1 - без всякой надежды сообщает Пушкин в год "Медного Всадника". "Русская литература, несмотря на свою незначительность, несмотря даже на сомнительность своего существования, которое теперь многими признается за мечту..."2 - с мрачным торжеством заявляет Белинский в год "Ревизора".
1 А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти т. Т. 2, М., 1937, с. 220.
2 В. Г. Белинский. Собр. соч. в 3-х томах. Т. 1, М., 1948, с. 100.
А вот иные эпохи прямо захлебываются от восхищения своими безудержными успехами. При этом кричат так оглушительно, будто торгуют на собачьем рынке.
Все это так понятно. Ведь когда всучивают тухлую рыбу, то делают две вещи: изо всех сил нахваливают товар и говорят хозяйке, какая она полненькая.
В эпохи, поражающие материальным великолепием и духовной красотой, чрезвычайно объемно проявляют себя поэты, прозаики, драматурги, критики, детские и юношеские писатели в полном составе, научно-фантастические деятели, переводчики целым классом, сценаристы отрядами, жанристы семействами, трубачи родами, танцмейстеры, хормейстеры, церемониймейс-теры, полицеймейстеры. Они, истекая слюной и обаятельно улыбаясь, сообщают почтенной публике: "Мы слуги народа", "мы воспеваем вас", "мы часто ошибаемся", "мы ничтожества", "мы слизняки", "мы бездарности", "мы официанты", "мы швейцары", "лифтеры", "полотеры", "подчищалы", "подлипалы", "мусорщики", "водопроводчики" и даже "ассенизаторы" и "водовозы", "а вот народ - голова всему делу".
Но - странно - в связи со всем этим не наблюдается обновление общественной нравственности, литературы человеческого бытия.
Книгу, которую вы дочитываете, я рассматриваю лишь в качестве короткого вступления, подготовительного наброска и попытки проложить путь к генеральной монографии, воспроизво-дящей становление, развитие и гибель иллюзий советского интеллигента.
После всего, что я уже сказал, остается выяснить лишь одно: зачем об этом жалком человеке и не очень хорошем писателе написана книга.
Так как у книги есть не скрытая попытка поколебать традицию, созданную другими книгами, на которых десятилетиями воспитывали и воспитали самого прогрессивного и чуткого читателя, то я допускаю, что этот самый прогрессивный и чуткий читатель может задавать идиотские вопросы.
Я готов отвечать на идиотские вопросы.
Я отвечу, зачем написана эта книга.
В сезоне потрясения основ, человеческое общество всякий раз в муках рождает своих якобинцев, своих карбонариев, своих монтаньяров, бомбистов, либералов и либеральтесс русской общественной мысли.
В связи с таким бурлящим и имеющим тенденцию дальнейшего развития процессом органически прокладывается новая магистральная тема: наше отношение к либералам и либераль-тессам русской общественной мысли.
Процесс прокладывания темы вызвал в среде наиболее остро мыслящих дееспособных и полных жизненных соков представителей нации чрезвычайное оживление и резкое повышение обмена веществ.
Спор между лидерами и богатырями различных идей принимает такую остроту, атмосфера накаляется до такой степени, что представители одной стороны вынуждены заявить представите-лям другой стороны: "Ну, знаете ли!.." На что представители другой стороны вынуждены отвечать представителям одной стороны: "Ну, дальше вообще!.."
Сущность братоубийственной войны заключается в следующем.
Так как некоторые формы отечественного либерализма со времен Алексея Михайловича (1629-1676) были не однажды скомпрометированы, то, как и следовало ожидать, в период бурной общественной перистальтики и стремительной поляризации различных либеральных тенденций произошло обильное выделение экстремистов.
Выделенные экстремисты, конечно, не останавливаясь ни перед чем, скривив губы в саркастическую и нигилистическую полуулыбку, ставят вопрос, несомненно, посягающий на все или на большую часть самого святого: "Кто лучше - Боткин или Муравьев-вешатель? "
И с той же саркастической и нигилистической полуулыбкой, кривящей их губы, отвечают: "Муравьев-вешатель, черт возьми!" Ну, и что же?
Да нет, ничего.
(Бывают такие эпохи, когда радикализм людей граничит с безумием.)
Подобные явления всегда оказываются следствием ожесточенной борьбы с ультрамонтанами, вандейцами, казаками, черносотенцами, колонизаторами и неоколониалистами восточной и западной общественной мысли.
Можно с уверенностью сказать, что эти отчаянные люди, нахально заявляющие, что они предпочитают Муравьева-вешателя Боткину, неправы. Дело не в том, что Муравьев-вешатель действительно хуже Боткина, а в том, что альтернатива "Боткин - Муравьев-вешатель" - метафора и, как всякая метафора, она выходит за пределы определенного факта и распространяет-ся на другие, которые в своем конкретном значении имеют иной смысл. Все эти карбонарии, якобинцы, монтаньяры, ужасные драчуны, шальные головы и отчаянные ребята делают то же дело, какое делают ультрамонтаны, вандейцы, казаки и черносотенцы общественной мысли, но представляют это дело привлекательным и не лишенным обаяния, гармонии, поэзии и чистоты, а ультрамонтаны считают, что они хороши и так, без обаяния.
Я не люблю своего героя потому, что он не был третьей силой. Он был таким же, как две другие силы, мешающие друг другу, но помогающие друг другу в общем деле.
Литературовед не обязан во что бы то ни стало считать своего героя самым лучшим и самым добродетельным из всех героев.
Любовь к предмету исследования может существовать или отсутствовать, но к исследованию это отношение не имеет.
Самые значительные открытия в паразитологии с любовью к клещам не были связаны.
Не вижу причин, по которым литературоведение в своем отношении к объекту должно отличаться от других наук.
Нужно понять, что привычная добродетель - любовь ученого к своему герою - науке безразлична.
Но ученому не безразлично, может он или не может сказать о своем веке то, что считает нужным.
Для того чтобы сказать, что я думаю о вас и о вашей литературе, мне не нужно искать румяного и белоснежного героя.
Я написал книгу о ничтожном человеке (таком, как все люди его социального круга и его поколения), и не очень хорошем писателе (таком, как все писатели его социального круга и его поколения), потому что задачу историка литературы вижу не в анализе выдающихся художест-венных образов и творений, а в исследовании причин, определяющих возникновение и характер художественного произведения, строго зависимого от взаимоотношений художника с обществом.
Я забыл сделать одну не очень существенную, но имеющую некоторое значение оговорку: мой герой - такой же, как все герои эпохи, - иногда бывал - по более пологому углу падения и по более высокому модулю эстетичности - все-таки получше других героев эпохи, бросившихся умываться и менять белье еще в конце двадцатых годов.
Выбор такого героя вызван чисто методологическими соображениями: для того, чтобы вы поняли, что уж если этот таков, то каковы же другие!
Продолжаю отвечать на идиотские вопросы.
Навязчивая идея добродетельного героя зачата той же страстью к положительному образцу, которая причинила безмерные и непоправимые беды художественной литературы.
Но в художественной литературе эта идея была лишь идеальной мечтой, к воплощению которой только иногда, в особенно победоносные периоды удавалось приблизиться до такой степени, что уже становилась почти осязаемой окончательная победа в образе свежевырытой могилы, в которую уверенно и навсегда запихивают некогда замечательную (по сохранившимся руинам, а также по отрывочным свидетельствам историков) литературу.
В отличие от художественной литературы литературоведение оказалось как раз тем полем, на котором победа доброго начала была полной, блистательной, сияющей, лучезарной и безоговороч-ной, как капитуляция. Представить себе самоуверенно шагающего по этому полю отрицательного героя - совершенно невозможно. Еще в художественной литературе, туда-сюда, глядишь, и проскочит какой-нибудь так называемый персонаж весь в соплях и с острым желанием отрастить бороду и не мыть шею, а уж в литературоведении такой деятель (Пастернак, Ахматова, Бабель и др.) просто немыслим.
- Монография о плохом писателе? - спрашивают вас. - Да вы с ума сошли!
Я не хочу преувеличивать возможностей Юрия Олеши. Напротив, я считаю, что они были весьма ограничены. По крайней мере, сравнительно с другими писателями.
Все-таки одно дело, немножко покривив душой, написать, что Кюхельбекер не рассердился на Пушкина за обидные стихи, и совсем другое дело, что Малюта Скуратов, или как в народе его любовно называют "наш малютка", был очень хорошим человеком. Светлый образ этого борца за высокие идеалы, без малого четыреста лет маявшегося в поисках подлинного научного отражения себя в отечественной словесности, наконец, пройдя мимо отворотившейся с гадливостью и ужасом от него русской литературы двух веков, заставил-таки вдохновенно забиться сердце поэта1.
1 Забившееся сердце поэта (И. Л. Сельвинского) обнаружило в это время поражающую широту, достаточную для того, чтобы вместить не одного Малюту Скуратова. Однако поэт (И. Л. Сельвинский) всегда покорял нас не только крупномасштабным историческим эпосом, но и пронзительной лирикой. В лирике же необходимо еще более глубоко и проникновенно войти в образ. Если в эпосе отождествление героя и автора нелепо, а иногда и преступно, то в лирике оно естественно. Для того, чтобы проникновение в образ получилось достаточно хорошо, И. Л. Сельвинскому, который убеждал нас в непреходящих достоинствах опричника, приходится войти в образ самому. И он входит. И с 1946 года (по крайней мере) никак не хочет из него выйти. Художник, с такой убедительностью воспевший убийцу и палача, пережив состояние своего героя, вырывается из истории, чтобы с глубоким чувством передать богатство своей души. Это ему удается особенно хорошо в известном стихотворении "Отцы, не раздражайте ваших чад!" ("Огонек", 1959, № 11, с. 25), в котором с таким успехом он, наконец, расправляется с Пастерна-ком. Внимательно проследив творческий путь И. Л. Сельвинского, особенно от образа Малюты Скуратова до этих пронзительных стихов, мы начинаем понимать, что имеем дело с хорошо подготовленным человеком, рука которого не дрогнет.
Но в истории русской общественной мысли было четыре (по другим данным - три) случая, когда она, то есть общественная мысль, категорически возражала, чтобы ей плевали в лицо на столь близком расстоянии. (Последний раз такой случай произошел в 1868 году. Я имею в виду статью Герцена "Нашим врагам"). Но традиция не оборвалась. И М. Л. Левин - через девяносто один год после Герцена - ответил продолжателю дела Малюты в новых исторических условиях. Он писал:
...всех учителей моих
от Пушкина до Пастернака!
(Из старых стихов И. Сельвинского)
Человечье упустил я счастье;
Не забил ни одного гвоздя.
(Из новых стихов И. Сельвинского)
Все позади
и слава и опала,
остались зависть и тупая злость...
Когда толпа учителя распяла,
пришли и вы
забить ваш первый гвоздь.
(Не опубликовано)
Это было посильным вкладом в общее дело и творческим ответом на призыв выкорчевать с корнем презренных космополитов, которые сидят и нахваливают западное кино, а сами в это время трескают русское сало. Именно в эти 40-е годы - была подвергнута решительной ревизии вся доблестная отечественная история с замечательными завоеваниями и поразительными удушениями и были представлены на основе подлинно научных данных в сверкающем великоле-пии мудрости, гуманизма и заботы о детях самых отъявленные негодяи, убийцы, извращенцы, проходимцы, тупицы, тираны, кровопийцы, душители, изверги и параноики.
В первую голову были отрыты и выставлены образцы в области патриотизма и государствен-ной мудрости (Иван Грозный) и политической дальновидности, преданности и гуманизма (Малюта Скуратов).
В отличие от Эйзенштейна, который в "Иване Грозном" обнаружил невежество в изображении исторических фактов, представив прогрессивное войско опричников Ивана Грозного в виде шайки дегенератов, наподобие американского ку-клукс-клана, а Ивана Грозного, человека с сильной волей и характером, - слабохарактерным и безвольным, чем-то вроде Гамлета, литература этого времени и, в частности, поэт И.Л. Сельвинский не проявил невежества и представил и войско опричников, и Ивана Грозного, и Малюту Скуратова борцами за самые высокие добродетели.
Я верю, что потомки не забудут этого поэтического подвига и когда-нибудь напомнят о нем поэту.
Но в эти годы (а также предшествующие и последующие) главным была не история и не истина, а сметающая на своем пути все преграды прямо-таки разрушительная любовь к своему великому отечеству, всепрощающая и слепая, и прямо-таки необузданная страсть к феодальному, жандармскому, реакционнейшему государству. И поэтому из отечественной истории выбиралось только самое лучшее.
В то же время следует отметить, что порочность и идейная неполноценность Эйзейнштейна, возможно, была несколько преувеличена. Все-таки в его картине слабохарактерный и безвольный Иван Грозный льет ведрами кровь, жрет человечье мясо и ликвидирует все, что подвертывается под руку. Ну, может быть, не в том количестве, какое требовала обстановка, но все-таки.
А вот в 40-х годах как раз этого-то было недостаточно.
Гнусность, которая уже раз произошла, опасна не только тем, что она сама сделала, но еще больше тем, что она не угасает, о ней не забывают те, кому она нужна, и, когда наступают подходящие условия, все становится ясно: нужно лишь слегка разгрести золу, подуть, и гнусность снова начтет плясать веселыми язычками огня.
Под тонким слоем легкого пепла несколько лет таилось научное освещение подлинной роли царя Ивана Васильевича. Потом наступили подходящие условия, слегка разгребли золу, подули и получилось подлинное научно-художественное освещение.
Этот фотоидеологический эффект произошел в 1965 году в произведении Всеволода Кочетова "Записи военных лет".
И я не удержался от искушения переписать лучшие строки в книжку, которую вы сейчас читаете.
Вот они, эти строки: "Между прочим скажу вам, чтобы Россией-матушкой управлять, надо на плечах, ой, ой, какую большую иметь голову! Одной наглости маловато... а Шуйский, что он? Так себе, выскочка. Покуражился, покорчил из себя царя российского, да и слетел с престола безо всякой славы... Иван Грозный, видите ли, их род обидел. А Иван был личность"1.
Прочитав эти взволнованные строфы, мы начинаем донимать, что не перевелись и не переведутся в ближайшее время почитатели дыбы и топора.
Но, кроме И. Л. Сельвинского и В. А. Кочетова, над Иваном Грозным задумался великий художник Сергей Эйзенштейн2.
1 Всеволод Кочетов. Записи военных лет. - "Октябрь", 1965, № 5, с. 97.
2 О фильме С. Эйзенштейна "Иван Грозный" написано превосходное исследование Н. Зоркой. (Н. Зоркая. Портреты. М., 1966).
Произведение Сергея Эйзенштейна смотрят целые народы и изучают научно-исследователь-ские институты.
В этом произведении есть свойства, благодаря которым совершаются серьезные открытия в эстетике.
Я думаю, что из всех случаев, когда возникает вопрос, может ли лживая и подлая концепция создать великое произведение, случай Эйзенштейна самый плодотворный для изучения.
Изобразительность произведения С. Эйзенштейна гениальна.
С гениальной изобретательностью (вспомните пляску опричников с личиной! Сцену в соборе!) художник утверждает, что пытки, казни, палачества, удушение человеческой свободы, растапты-вание достоинства людей, убийства из-за угла, наговоры, застенок, разбойничьи войны, культ личности, ложь, обман и насилие необходимы. Автор уверяет, что завоеванное море лучше свободы. Это художественное произведение сделано для того, чтобы показать историческую преемственность и оправданность политики Сталина, для того, чтобы показать ее органичность, необходимость и плодотворность, чтобы понравиться Сталину.
Картину гениального художника Сергея Эйзенштейна видел гениальный художник Чарли Чаплин. Она его поразила.
Можно предположить, что Чаплин не очень хорошо знал, кто таков Иван Грозный, не очень хорошо знал русскую историю и очень хорошо в те годы думал о Сталине: он не был историком, социологом, политиком и не служил на Московской ордена Ленина киностудии "Мосфильм".
Другие люди, смотрящие картины, читающие книги, слушающие музыку, тоже чаще всего не бывают историками, социологами и политиками. Поэтому они не могут оценивать художествен-ное произведение с исторической, социологической и политической точек зрения. Они оценивают его с эстетической точки зрения, то есть по воздействию его художественной изобразительности.
Более того, даже историки, социологи и политики оценивают произведения предшествующих эпох, не считая решающим их исторический, социологический и политический тезис.
Именно поэтому мы без отвращения читаем "Илиаду", в которой рассказано о том, что тоталитарное государство Спарта совершило явную неспровоцированную агрессию против миролюбивого суверенного государства Троя (начало XII в. до н. э.), что безоговорочно осуждается всеми людьми доброй воли.
Несправедливая, агрессивная война оставила гениальный эпос. Гнусная эпоха палачеств, разбойничьих войн, культа царя-убийцы через четыреста лет породила художественное произведение, которое смотрят пораженные народы и изучают ничему не удивляющиеся научно-исследовательские институты.
Несомненно, в истории искусства есть произведения, обладающие свойствами, благодаря которым совершаются важнейшие открытия в эстетике.
Иногда великие открытия в эстетике совершают не одни только научно-исследовательские институты, но и отдельные великие писатели.
Один такой писатель - А. Солженицын - заметил неразрешимую загадочность произведения С. Эйзенштейна. Писатель не пытался эту загадочность разрешить, но он лучше всех рассказал о вековом споре: может ли быть создано великое произведение искусства на гнусной концепции. Он задал вопрос, на который отвечают веками и будут отвечать века и в ответе на который всегда будет главной не попытка установить истину, а стремление определить позицию отвечающего.
Вот как А. Солженицын рассказал о вековом споре:
"- Нет, батенька, - мягко э так, попуская, говорит Цезарь, объективность требует признать, что Эйзенштейн гениален. "Иоанн Грозный" разве это не гениально? Пляска опричников с личиной! Сцена в соборе!
- Кривлянье! - ложку перед ртом задержа, сердится X-123. - Так много искусства, что уже и не искусство. Перец и мак вместо хлеба насущного! И потом же гнуснейшая политическая идея - оправдание единоличной тирании...
- Но какую трактовку пропустили бы иначе?..
- Ах, пропустили бы?! Так не говорите, что гений! Скажите, что подхалим, заказ собачий выполнял. Гении не подгоняют под вкус тиранов!"1
1 А. Солженицын. Один день Ивана Денисовича. М., 1963, с. 71.
Я, 1-Б 860, считаю, что прав Х-123.
Я считаю, что "гнуснейшая политическая идея" лишает искусство возможности и права вмешиваться в жизнь общества.
А. Солженицын понял все: он понял, что спор, в котором заданы такие условия, неразрешим. Он неразрешим, потому что зависимость явлений, ставших предметом спора, лежит большей своей частью за пределами искусства.
Зависимость художественных достоинств произведения от его исторической, социологической и политической концепции так же формальна, как формальна связь элементов в такой задаче: поезд шел из пункта А в пункт В. Сколько стоит цибик чая? Нельзя подчиняться призрачной зависимости явлений и выводить стоимость чая из движения поезда, искусство художника из господствующей идеологии. Образ искусства шире исторической, социологической и политичес-кой идеи, и поэтому, пренебрегая традиционным и неправильным единством, следует говорить не о гнусности искусства "Ивана Грозного", а о безнравственности художника Сергея Эйзенштейна.
Единство великого произведения и его жалкого создателя возможно потому, что существуют два способа проявления художника.
Художник может проявиться только в искусстве перевоплощения и самовыражения.
Для искусства перевоплощения душевные качества художника значения не имеют.
Поэтому преданный царю и отечеству отставной коллежский асессор может создать разрушительную комедию, ничтожный игрок и бретер - взволнованную поэму, пьяница - чистейшую мелодию, обскурант и нечистоплотный человек великий роман, беспробудный дурак может потрясти зал вдохновенными словами маркиза Позы. Писатель, получавший самые большие доходы за свои произведения, был самым замечательным певцом народной скорби. Писатель, создавший в романах бессмертные образы ущемления плоти, в дневнике рассказал нечто такое, что производит впечатление и на драгуна. Писатель, из всех сил клеймивший различные формы эксплуатации человека человеком, выписал для своих внучек негритенка, чтобы им не скучать с безжизненными куклами. Это искусство перевоплощения.
Искусство самовыражения этого не знает. Оно может выражать только самого художника, и в этом случае, каков художник, таково и его искусство. И поэтому подлец и лгун создает подлое и лживое искусство, а правдолюбец правдивое.
Безнравственный художник Сергей Эйзенштейн следовал искусству перевоплощения.
Может ли великое произведение стоять на безнравственной исторической, социологической и политической концепции?
В искусстве перевоплощения меня всегда настораживала возможность получить вместо подлинного художественного образа что-нибудь другое. Например, лягушку. Это меня очень пугало и заставляло серьезно задумываться. Не люблю я эту лягушку. Ты мне ее и сахаром облепи, и не называй вовсе лягушкой, ну, ни за что не возьму в рот, хоть в исполнении народного артиста СССР Н. Черкасова, хоть в связи с воспитанием любви к историческому прошлому.
Замечательный художник в искусстве перевоплощения может выполнять собачий заказ.
В искусстве самовыражения я сразу вижу, что мне дают. Даже без вступительной статьи, написанной понятным языком.
Время настаивает на том искусстве, которое ему нужно. Конечно, в эпохи, когда главным становится стремление раздавить человеческую личность, искусство самовыражения кажется отвратительным. В самом деле, как эта личность (какая личность?!) желает себя выражать, когда она обязана выражать, что ей велят?! При этих обстоятельствах, конечно, требуется только перевоплощение: человек такой, какой он есть, должен перевоплотиться в другого, - в такого, который нужен.
Юрий Олеша не писал о том, как прекрасен, великолепен, мудр, гуманен, прозорлив и целомудрен злодей Иван Грозный. Он писал о том, как прекрасен, великолепен, мудр, гуманен, прозорлив, целомудрен Сталин.
Иван Грозный и культ сильной личности диктатора, самодержца дышит и топает ногой во всех произведениях Юрия Олеши 30-х-40-х годов. Поэтому я вынужден был обстоятельно остановить-ся на этой теме, которой стала определяться чистота и благонамеренность идеологии десятилетия.
Я не настаиваю: Юрий Олеша действительно ни разу в жизни не написал романа или трагедии, или киносценария, или хотя бы записок о замечательных тиранах далекого прошлого, принесших столько пользы отечеству. Писатель-патриот всегда писал только о том, что пользу отечеству приносили не тираны, а гуманисты.
Особенно увлекся он этим сюжетом в годы, когда к гуманистам русского происхождения стали относиться с уважением, придыханием, замиранием и обожанием.
"- Архимед... Коперник... Галилей... Ньютон... Ломоносов... Гриша, он смотрит вверх...
- Кто?
- Ломоносов...
- На северное сияние, мама! Менделеев... Подумай, он составил таблицу элементов, и до сих пор Европа...
- Дарвин, Гриша... Смотри, Дарвин!
- А это видишь? В знак преклонения Оксфордский университет прислал ему тогу и этот берет. Тимирязев... И Павлов, мама!
- Павлов, да... Гриша...
- Что?
- Вот как надо любить Москву!.."1
1 Юрий Олеша. Стена ученых. - "Огонек", 1947, № 22, с. 23.
И эта любовь к великим русским ученым и к г. Москве поразительно гармонировала с оценкой других борцов с космополитизмом и пронзительно совпадала с их мнением, которое как раз в этом году и как раз в том же журнале "Огонек" они излагали таким образом:
"- Кому принадлежит честь изобретения танка?
- Русским! Это малоизвестный, но непреложный исторический факт. Еще в 1911 году..."1
И как раз именно в то время стало не менее непреложным научным фактом, что Россия не только родина слонов, но, что гораздо важнее, - мамонтов, а теми, кто еще более беззаветно любил свое отечество, настаивал, что этого мало и следует считать Россию родиной мастодонтов, было установлено много других замечательных вещей.
Эта тема не была специальным пристрастием или особенностью издательского профиля журнала "Огонек". Многие другие журналы, альманахи, сборники и газеты, романы, повести и рассказы, стихотворения и поэмы, трагедии, драмы, комедии, водевили и оперетты, кинофильмы, ученые записки, словари, справочники и энциклопедии, а также все остальные типы полиграфиче-ской продукции и все прогрессивные типы советского общества были нацелены именно на этот предмет и проявляли лихорадочный, а в отдельных случаях даже горячечный интерес к вопросу о приоритете в различных областях знания. При этом каждый день совершались выдающиеся открытия.
Кому принадлежит честь изобретения трактора?
"Россия - родина трактора"2.
В том же году неопровержимо доказан "приоритет отечественной науки в кожевенной промышленности"3.
1 М. Д. Соломатин. Советские танки. - Там же, № 37, с. 2.
2 Л. Д. Давыдов. Россия - родина трактора. Стенограмма публичной лекции, прочитанной в Центральном лектории Общества по распространению политических и научных знаний. М., 1949.
3 История техники. Библиографический указатель. 1949 г. М., 1952, с. 30. См. также: "Легкая промышленность", 1949, № 8, с. 17-18; № 11, с. 22.
В связи с тем, что во всех решающих областях науки и техники приоритет уже был установлен, оставалось лишь закончить исследование этого вопроса во второстепенных деталях, завершить внедрение его в жизнь и сделать обобщающий вывод.
Я вовсе не против чести изобретения танка (конечно, если мне докажут, что это правда).
Я против некоторых весьма определенных намерений, которые бывают связаны не столько с жаждой истины, сколько с национальным тщеславием, ненавистью ко всему чужому и стремлением заставить всех думать одинаково.
Сталинская эстетика была производным сталинской политики, и если бы начала, например, снова категорически внедряться парадно-мундирная живопись, то по логике вещей следовало бы ожидать внедрения и некоторых других моментов, прямо к искусству отношения не имеющих.
Ведущиеся сейчас споры об этом предмете лишь фразеологические вариации одного вопроса: соотношения вреда и пользы, принесенных Сталиным.
Защитники преобладающей пользы говорят о том, что были воздвигнуты металлургические гиганты и созданы захватывающие шедевры. При этом они поспешно добавляют: "Несмотря на..."
Если придерживаться такого образа мыслей, то нужно сказать, что людям на пользу все. Но такое рассуждение попирает идею, во имя которой совершаются революции, ведутся войны за свободу и творятся подвиги. Ведь речь идет о наиболее благоприятных социальных условиях существования человека. А если можно, несмотря на притеснения, несправедливости, преследова-ния и невежественное вмешательство, творить материальные и духовные ценности, то значит равны все эпохи и все формации и значит добро равно злу.
Что же происходит в произведениях Юрия Олеши этого времени?
В произведениях Юрия Олеши этого времени происходит превращение слонов в мастодонтов.
Это был мучительный процесс.
Проблема "слоны - мамонты - мастодонты" в истории русской общественной мысли играет чрезвычайно ответственную роль.
Однако нельзя сказать, что ее значение во все периоды было первостепенным. История и главным образом археология засвидетельствовали, что бывали минуты некоторого падения перевозбужденности и даже застоя. Но в эпохи фантастических успехов, неслыханных триумфов и побед, которых не бывает, становилось совершенно очевидным, что без решительного торжества мастодонтов историческое развитие может быть и не перевыполнено.
Обеспокоенный интеллектуал, трясущимися руками собиравший рассыпавшиеся иллюзии, переживший все мыслимые формы идеологического вспучивания и метеоризма, с достоинством отвергал тех, кто тупо настаивал на слонах.
Он приветствовал все молодое и прогрессивное, - борющееся во имя мамонтов.
Вспышки и извержения интеллектуализма такого толка пережили годы суровых испытаний и в отдельных случаях кое-где дожили до наших дней.
Юрий Олеша любил отстаивать преимущества мастодонтов перед слонами.
В связи с этим ему иногда приходилось думать не над тем, что есть истина, а над тем, как сделать приятным для уха то, что уважаемые, но лишенные душевного изящества коллеги делали столь противным.
Поразительно умение истинного художника схватить и выразить то, что носится в воздухе эпохи.
Понимаете, люди что-то чувствуют, что-то ощущают, то, се, а выразить не могут.
Так, например, в 1935 году в воздухе эпохи носилось неодобрение Хемингуэя.
Однако в этом было что-то невнятное, было то, се, но точной формулы ненависти не нащупывалось.
Вот как писали о Хемингуэе в 1935 году.
"В современной американской литературе X. - наиболее значительный представитель т. н. "потерянного поколения", части мелкобуржуазной интеллигенции, пораженной шоком империа-листической войны... Пессимизм X. носит абстрактный характер, его "ссора" с буржуазной цивилизацией не возвышается до социального протеста. С другой стороны традиционализм и католицизм сближают его с реакцией"1.
Ну, разве это литература! Какой-то лошадиный топот.
Тонкий стилист, страстотерпец и рыцарь русской литературы Юрий Олеша не настаивает на том, что Россия родина слонов.
Юрий Олеша (тонкий стилист) настаивает: Россия родина мастодонтов.
С какой естественностью он обращается к своим слушателям на ту же тему и в том же 1935-м году, как выразительна, искренна и обаятельна его речь:
"Последнее время много говорят о Хемингуэе... Это модное имя. Действительно это хороший писатель. Но надо ли так писать? Мне кажется, что не надо. Этот писатель говорит: жить страшно. Между тем я считаю, что писатель должен говорить: жить прекрасно. Стало быть, для меня лично Хемингуэй писатель плохой. Как бы он ни был хорош в о о б щ е"2.
Шли годы. И вот в 1960 году в воздухе стало носиться одобрение Хемингуэю.
Люди что-то чувствовали, что-то ощущали, то, се, а найти точную формулу своей признательности никак не могли.
Вот как писали о Хемингуэе в 1960 году:
"После 1-й мировой войны X. создал романы, в которых выражен глубокий протест против войны, тонко переданы настроения т. н. потерянного поколения, разочарование в буржуазной действительности... Творчество X. отличает своеобразие стиля, богатство психологических оттенков, высокое мастерство в раскрытии душевной жизни"3.
1 Большая Советская энциклопедия. Т. 59, с. 496.
2 Ю. Олеша Беседа с читателями. - "Литературный критик", 1935, № 12,
3 Малая Советская энциклопедия. Т. 10, 1960, с. 41. с. 165.
Тонкий стилист и рыцарь Юрий Олеша с благородной выразительностью, искренностью и обаятельностью на ту же тему в том же 1960 году говорит:
"Художественная сила Хемингуэя исключительна... Не будет смелостью сказать, что это написано близко к уровню знаменитых военных сцен "Войны и мира"... Хемингуэй в состоянии задеть любые струны души читателя..."1
1 Ю. Олеша. Ни дня без строчки. Из записных книжек. М., 1976, с. 239-243.
Поразительно умение истинного художника схватить и выразить то, чем насыщен воздух времени.
Писатель может писать только так, как может писать.
Не правда ли?
Или так, как хотят другие, чтобы он писал.
Юрий Олеша, несомненно, был человеком, который мог с достоинством повторить за поэтом:
Я не рожден, чтобы три раза
Смотреть по-разному в глаза.
Не правда ли?
Или за другим поэтом:
- Повернем истории карусель,
Как сказал Жан-Жак Руссель.
- Товарищ, не Руссель, а Руссо.
- Хорошо, повернем истории колесо!
Несомненно, человек может сначала думать, что Хемингуэй плохой писатель, а потом, что хороший. Я это знаю по себе. Мне было уже семь лет, я отлично читал и писал и уже доставлял много неприятностей своим домашним. Однажды я уткнулся в валявшийся на диване томик Аристофана и буквально через пять минут бросил его с отвращением. Прошла треть века. За это время мое мнение об Аристофане решительно изменилось. И теперь, когда я пишу эти строки, я твердо знаю, что если бы мое отношение к афинскому сатирику осталось неизменным, то процесс моего интеллектуального развития был бы сильно задержан, а может быть, даже просто приостановлен. Вне всякого сомнения человек может сначала подумать, что Хемингуэй плохой писатель, а потом, что хороший. Конечно, Олеша в тридцать пять лет, уже умея читать и еще умея писать, имел право по-разному относиться к Хемингуэю. Но странно, что писатель и в тридцать пять лет, и в шестьдесят, и во всяком ином возрасте, и во многих иных случаях так удачно совпадает в своем мнении с мнением различных изданий энциклопедий, газет, журналов, высказываний и других авторитетных источников.
Юрий Oлеша совпадал всегда.
Тем, кто мог подумать, что эти совпадения случайны, он недвусмысленно разъяснил:
"Если я в чем-нибудь не соглашусь со страной, то вся картина жизни должна для меня потускнеть, потому что все части, все детали этой картины связаны, возникают одна за другой, и ни одна из них не может быть порочной"1.
Менялось не только мнение Олеши о Шостаковиче и Хемингуэе.
Менялось мнение критиков об Олеше и Кавалерове.
Вот как думал о писателе и его герое критик Перцов в 1937 году:
"Олеша мог бы гордиться своей художественной проницательностью, предвосхитившей в образе Николая Кавалерова зарождение одного их тех гнусных типов человеконенавистничества, из которых подготовлялись впоследствии кадры троцкистских бандитов; мог бы гордиться, если бы трактовал эту фигуру не в оправдании зависти, а в духе презрения к ней и возбуждения чувства бдительности..."2
А вот как думал о писателе и его герое Перцов в 1956 году:
"Живой, умный, нелепый человек сознает весь ужас своего неучастия в жизни...
В образе Кавалерова есть трагизм, исторически присущий этому типу. Картина революцион-ного изменения мира, созданная советской литературой, была бы неполной без этой книги, в которой с большой художественной силой раскрыта трагедия созерцателя"3.
О, конечно, мнение человека может меняться, и человек в различные годы об одних и тех же людях может думать неодинаково. Может меняться мнение даже самых авторитетных источников, и это тоже вполне понятно.
Но я писал не об этом. Я писал не о меняющемся мнении, а об удивительном постоянном совпадении мнений писателя и авторитетных источников.
Какие загадки на каждом шагу задает нам наука и жизнь!
Я все время пишу лишь о том, что такое человек, как Юрий Олеша никогда не солгал и никогда не позволял этого делать другим. Он любил только одно: правду. Всеми клетками своего тела, больше того или точней: всеми клетками, белками, тканями и органами. А их у человека среднего роста, каким как раз и был Юрий Олеша, - клеток 35.000.000.000.000 120 сортов; белков 100.000; тканей 30 типов; органов 500.0004.
1 "Великое народное искусство". Из речи тов. Ю. Олеши. - "Литературная газета", 1936, 20 марта, № 17 (580).
2 В. Перцов. О книгах, вышедших десять лет тому назад. - "Литературная газета", 1937, 26 июня, № 34.
3 В. Перцов. Юрий Олеша. В кн.: Ю. Олеша. Избранные сочинения. М., 1956, с. 10, 13, 16, 17.
4 А. Н. Студистский. Строящийся организм. М., 1956, с. 56.
Представляете, сколько нужно правды, чтобы насытить 35.000.000.000.000 клеток 120 сортов; белков 100.000; тканей 30 типов; органов 500.000! Несмотря на это, Юрий Олеша признавал только одно: правду, правду и правду. Поэтому он так любил секцию прозы СП СССР, где состоял на учете, на знамени которой написано только одно: правда, правда и правда.
Он был чутким человеком с легко ранимой душой, открытой всему чистому, светлому, искреннему и прекрасному. Всем своим сердцем он ненавидел различные виды мошенничества, особенно искусство жульничества. В разные периоды жизни Юрий Олеша не любил и любил Мальро и Пикассо, с отвращением и обожанием относился к Хемингуэю, ненавидел так называемый "патриотизм", на деле оборачивающийся белогвардейским шовинизмом ("маршал, который вступит в Москву, будет действовать сурово, как русский патриот" )1 ,был в подходящее время (эпоха позднего вульгарного социологизма) убежденным космополитом ("Мы не семья, мы - человечество")2.
1 Юрий Олеша. Список благодеяний. М., 1931, с. 79.
2 Ю. Олеша. Зависть. В кн.: "Избранные сочинения". М., 1956, с. 96.
При этом он никогда не плелся в хвосте, а поспевал всегда вовремя. Ну, может быть, отставал на день, на два, поскольку не получал сведения непосредственно из авторитетных источников, а узнавал, что делается из газет или от людей, которые лучше его знали что к чему.
Но социально-психологическая трагедия, которую он пережил, заключалась в том, что он не умел забегать вперед. Даже не совсем в этом: забегать вперед вообще никому не положено. Трагедия была, была. Но подлинный, глубинный смысл ее заключался в том, что он кричал не таким голосом, который требовался - чистым и громким, - а осложненным неуместными переживаниями. Считалось, что обладатель такого голоса может вдруг ни с того ни с сего запеть какую-нибудь неподходяшую мелодию (один из многочисленных предрассудков тех лет). Особенной уверенности он не вызывал. И это, конечно, рождало чувство обиды, которая, увы, - не всегда врачевалась даже такими сильно действующими средствами, как венчик страдания и ореол отверженности.
Только великий писатель не повторяет ходячие фразы.
Великий писатель создает идеи, которые иногда повторяют за ним, а чаще отвергают люди, не всегда и не сразу могущие понять значение этих идей.
Только у великого писателя хватает смелости на великие идеи, которые сразу могут быть и не поняты всеми.
От обыкновенного хорошего писателя обычно удается получить все, что угодно.
С великим писателем этого не происходит, потому что великий писатель лучше знает, что нужно и что не нужно людям.
Особенностью обычных хороших писателей является то, что они умеют создавать иллюзию весьма оригинальной мысли, в то время как на самом деле они умеют создавать лишь весьма оригинальные фразы.
Такие писатели не спешат разойтись с господствующим мнением. Они лишь переживают мучительный процесс превращения слонов в мастодонтов.
Существует уверенность, что призвание художника заключается именно в том, чтобы выражать чье-то мнение, общее мнение. При этом, очевидно, предполагается, что сам художник ничего выдумать не может, а только становится на ту или иную сторону. (При такой позиции можно и перебегать.)
Юрий Олеша понял в отчаянии, что его судьба повторять то, что говорят какие-то случайные люди, приобретающие минутное влияние.
С испугом понял, что он не может быть, не должен быть и что он будет садовником и каменщиком случайных, преходящих обстоятельств.
И тогда он стал их узником и их жертвой.
История выбросила человека в глухую, завывающую Вселенную и оставила на длинном, ледяном, свистящем ветру.
Как немного нужно было для того, чтобы Юрий Олеша стал прекрасным писателем.
Для этого нужно было, чтобы он перестал писать.
По крайней мере то, что создает лишь иллюзию оригинальной мысли.
Юрий Олеша не был прекрасным писателем.
У него не было сил и смелости противостоять обстоятельствам и хранить гордое терпенье.
Обстоятельства получали от Юрия Олеши, что хотели.
Юрий Олеша хотел нравиться.
Тогда произошло нечто странное - все стали озабоченно шептаться: "Олеша замолчал".
Почему же замолчал Юрий Олеша?
О том, как это бывает, он рассказал сам.
"Л е л я - Г а м л е т. Ну, так видишь, каким вы меня считаете ничтожеством. Вы хотели бы сказать, что умеете за меня взяться, хотели бы вырвать у меня самую душу моей тайны; хотели бы извлечь из меня все звуки от самого низкого до самого высокого. А вот в этом маленьком инструменте много музыки, у него прелестный звук - и все же вы не заставите его звучать... назовите меня каким угодно инструментом. Хоть вы и можете меня расстроить, но не можете играть на мне"1.
1 Юрий Олеша. Список благодеяний. М., 1931, с. 7.
Через пятнадцать лет после того, как писатель вложил эти слова в уста героини, он убедился в том, что на нем самом тоже захотели кое-что сыграть.
Но произошло нечто не вполне обычное в истории литературы: писатель не всегда звучал, как этого хотели. Его удалось лишь расстроить. Поздние вещи написаны человеком, голос которого расстроен.
Увы, Юрий Oлеша был не только флейтой. Он был еще и музыкантом, играющим на этой флейте. Музыкант не очень возражал играть разные мелодии. Но вот инструмент... Инструмент это ведь только дерево и железо, он не может выдержать то, что выдерживает человек. Инструмент не выдерживал некоторые мелодии и начинал издавать сначала фальшивый звук (это было не очень существенно), но затем и вовсе захлебывался и начинал играть Бог знает что.
При таких обстоятельствах Юрий Олеша на какое-то время замолкал, а когда начинал играть, то захлебывался. Он замолчал не потому, что вдруг прозрел, стряхнул с себя что-то такое, широко раскрыл глаза, сделал глубокий вздох, поднял руки (но я, кажется, с анализа причин творческого кризиса писателя перешел на урок гимнастики) и все понял. Он замолчал не потому, что видел невидимое другими, но потому что просто не умел так неистово, самозабвенно, неистощимо, фантастически, фанатически, с таким энтузиазмом и увлекательностью, с такой изобретательнос-тью и находчивостью, захлебываясь от самоотверженности, весьма часто видеть то, чего на самом деле в столь полной мере еще не было. Он просто не умел это делать достаточно хорошо, ну, как некоторые люди не умеют хорошо пилить дрова или не умеют нырять в прорубь. Юрий Олеша по состоянию здоровья не мог делать то, что могли иные его товарищи по перу.
Это было трудное время, и тяжесть его была не только в том, что тяжелы были задачи, которые оно ставило, а в том, что так часто ставились неверные условия.
Но каждая эпоха всегда выбирает то, что ей нужно, и это трудное десятилетие выбирало наиболее молодых, сильных, здоровых и проявляющих тенденцию дальнейшего роста.
Юрий Олеша не был выбран эпохой, потому что не мог выполнить ее задание.
Эпоха ищет подходящих людей. Как хозяин, она берет на работу тех, кто не станет даром есть свой хлеб.
В разное время истории требуются разные люди.
Юрий Олеша не был писателем, годным для истории 40-х годов.
Больше как на 30-е он не тянул.
История 40-х годов искала других людей.
В эти годы жили люди, которые полагали, что задача писателя заключается в том, чтобы, не брезгуя ничем, а если надо, то даже идя на серьезные преступления, воспитывать читателя.
Они были отличники боевой и политической подготовки.
Изнемогая от убежденности в чистоте, высоте, ширине и глубине своих побуждений, они писали так:
"Современники самой великой из всех эпох в истории человечества сталинской эпохи, мы испытываем чувство гордости за наше прекрасное, за наше справедливое, за наше свободное отечество... выпестованное гением самых славных сынов народа и отцов его - Ленина и Сталина"1.
Из-за несколько излишней щепетильности и обидчивости 40-е годы не желали понять, что между беспомощным бормо-таньем Олеши и фанфарами отличников боевой и политической подготовки принципиальной разницы нет.
Я думаю, что Олешу недооценили.
И вот в эти годы, когда бурно колосились поля и с бешенством расцветало языкознание, выяснилось, что Юрий Олеша замолчал.
Это произвело ужасное впечатление. Особенно на тех, кто наблюдал издали и у кого не было лишних шести лет жизни на исследование художественных особенностей творческого развития Юрия Олеши.
Итак, мы начинаем невеселый рассказ об одном из самых сложных и загадочных явлений, которое в истории русской литературы называется таинственно и тревожно: "годы молчания Юрия Олеши".
О молчании Юрия Олеши писали читатели и писатели, критики и литературоведы. Об этом говорили с профессорских кафедр, с трибун съездов, за столиками кафе и в издательских кабинетах.
Лучшие знатоки жизни и творчества Юрия Олеши писали так:
"Все это (то есть "Три толстяка", "Зависть", рассказы, драмы. - А. Б.) было сделано во второй половине двадцатых годов, примерно в течение каких-нибудь 5-6 лет. Потом Олеша замолчал"2.
"Юрий Карлович создал прекрасные новеллы, пьесы, говорил речи, которые волновали всех советских писателей; потом на несколько лет замолчал"3.
"Говорили разное о причинах долголетнего молчания Юрия Олеши как писателя"4.
"Были годы, когда он надолго замолчал"5.
"...это было драматическое молчание..." 6.
1 В. Ермилов. Н. В. Гоголь. М., 1953, с. 442.
2 В. Перцов. Юрий Олеша. В кн.: Ю. Олеша. Избранные произведения. М., 1956, с. 5.
3 Виктор Шкловский. Об авторе и его книге. Предисловие к "Ни дня без строчки" Юрия Олеша. - "Октябрь", 1961, № 7, с. 147.
4 Владимир Огнев. Ни дня без таланта. - "Неделя", 1965, 12-18 дек., № 51.
5 Вл. Лидин. Люди и встречи. - "Наш современник", 1960, № 5, с. 249.
6 Владимир Швейцер. Диалог с прошлым. Воспоминания, этюды. М., 1966, с. 142.
Острый болезненный стон пронзил русскую критику и литературоведение: "Олеша замолчал!..."
Тридцать лет, застыв с заломленными руками и раскачиваясь из стороны в сторону, критика с литературоведением шепчут побелевшими губами: "Замолчал..."
Слово "замолчал" в приложении к творческому пути Юрия Олеши следует понимать совершенно иначе.
Лучше всего его понимать прямо наоборот.
Это утверждение было бы, несомненно, чистой абстракцией и бесплодным априоризмом, которые с негодованием отвергает наше литературоведение как субъективистские, если бы не реальные факты, которые с негодованием отвергает наше литературоведение как объективистские.
Отверженный разными способами нашим литературоведением, я обращаюсь к другой науке, к арифметике, которая, конечно, принесла тоже немало вреда, но, по единодушному утверждению специалистов, не столько, сколько литературоведение.
Арифметика, введенная в социально-исторический и историко-социальный анализ, производит ряд опустошительных разрушений.
Она вычитает из однотомника Олеши 1956 года его же однотомник 1936 года и обнаруживает, что в позднем однотомнике на тринадцать рассказов больше, чем в раннем, и что вообще он в два раза больше раннего.
Не успокоившись, она продолжает свои сомнительные и настораживающие операции, вскрывая при этом, что однотомник 1965 года на сто страниц больше однотомника 1956 года. Дальше она делит последний однотомник на первый и устанавливает, что последний больше первого в 2,4 раза. К последнему однотомнику она прибавляет книгу "Ни дня без строчки", вычтя напечатанные отрывки из нее в однотомнике, и в результате сообщает, что с 1934 года по 1960-й Юрий Олеша написал в 3,3 раза больше, чем с 1924 года по 1934-й.
Арифметика нам сообщает, что с 1934 года по 1960-й, т. е. со времени, когда в историю русской литературы была вписана трагическая строчка "Олеша замолчал", до смерти писателя им было молча напечатано и переиздано 162 произведения.
Но здесь следует сделать одну оговорку. Приведенные цифры не вполне точны, потому что счет идет по избранным произведениям, вошедшим в однотомники, куда включалось самое лучшее из того, что было написано. Кроме самого лучшего, было написано и то, что автор самым лучшим не считал, но считал вполне достойным печатания. И печатал.
Такого вполне достойного печатания и напечатанного за двадцать шесть лет оказалось не так уж мало.
Таким образом, мы обнаруживаем, что после 1934 года - последняя дата первого однотомни-ка, дата "Строгого юноши" - Олеша напечатал больше, чем до 1934 года. В связи с чем мы наблюдаем несомненный рост.
Указанные обстоятельства делают совершенно необходимым рассказ об аналогичном явлении в Орловской области.
Это явление было вскрыто в выступлении представителя областной писательской организации.
В своем выступлении представитель писательской организации, отметив замечательные успехи в области снегозадержания, заявил, что литература области пришла на данное число с замечательными успехами. Это становится особенно ярким, если сравнить, чем располагала бывшая захолустная губерния царской России и чем она располагает сейчас. Бывшая захолустная губерния царской России располагала всего шестью именами писателей! (Возмущение в зале.) Как-то: Тургенев И.С., Лесков Н. С., Андреев Л. Н. и другие. Всего шесть и обчелся! Сейчас областная писательская организация насчитывает двадцать семь членов! (Аплодисменты.) Шесть и двадцать семь! Это рост в четыре и пять десятых раза. (Бурные аплодисменты.) Такого роста не знают Англия, Франция, Бельгия, Голландия и Люксембург, вместе взятые. (Бурные аплодисмен-ты.) Область уже обогнала их, и уже наступает на пятки самой богатой капиталистической стране - оплоту реакции - Соединенным Штатам. (Бурные аплодисменты.)
Темпы прироста, столь явно проявившиеся на примере упомянутой области, лишь одно из свидетельств замечательного расцвета жанров и форм.
Несмотря на то, что в творчестве Юрия Олеши мы не наблюдаем столь стремительного роста, как это имеет место в указанной области, однако по ряду показателей писатель уверенно вышел вперед.
В том числе:
1) по сценариям (в %% к 1934 г.) - 1,82
2) по рассказам ( - " - ) - 1,30
что составляет - 1,56 (в соизмеримых ценах).
Если произвести анализ статистических данных по тем же показателям за отчетный период для ряда писателей различных областей, то мы получим аналогичную картину.
Таблица 1 (данные таблицы)
№№
п/п
Ф.И.О.
Обл.
Жанр
В % к 34 г.
1
Гладков Ф.В
Моск.
Прозаик
1,24
2
Сельвинский И. Л.
Моск.
Поэт
2,31
3
Нурбердыев (Мургабыл)
Туркм.
Поэт
2,31
4
Закруткин В.А.
Рост.
Прозаик
1,64
5
Пидсуха А.Н.
Укр.
Поэт
1,52
6
Арбузов А.Н.
Моск.
Драмат.
1,45
7
Фирсов В. И.
Моск.
Поэт
1,99
Кландадзе Л. Г.
Груз.
Критик
1,40
что составляет - 1,73 (в соизмеримых ценах).
Анализ приведенных данных показывает, что творчество Олеши Ю. К. занимает промежуточ-ное положение между творчеством Закруткина В. А. и творчеством Пидсухи А. Н.
Таким образом, приведенные факты с треском разоблачают клеветнические утверждения, что Олеша замолчал.
Но когда творчество Юрия Олеши заняло промежуточное положение между творчеством писателя Евгения Пермяка и творчеством писателя Александра Пидсухи, то стало казаться, будто бы оно и вовсе не существует.
Так наступили годы трагического и героического молчания в жизни и творчестве замечательного писателя Юрия Олеши.
Что же такое "годы молчания" в жизни писателя Юрия Олеши?
Во всей обширной литературе о творчестве Юрия Олеши только один человек сказал во весь голос, громко, так, что многие даже испугались: Никакого молчания не было!
"Ничего не может быть более неверного, чем утверждение, что в последний период своей жизни Олеша замолчал...
Случалось, проходили годы, он ничего не публиковал. Но это не были годы молчания. Это были годы поисков, непрерывной, я бы даже сказал неистовой работы, бесконечных проб, вариантов"1.
1 Лев Славин. Портреты и записки. М., 1966, с. 25-27.
Тут каждое слово истина. Кроме шести слов и одной запятой. Эти шесть слов и запятая возникли в результате еще не до конца преодоленного заблуждения. Я говорю о таких шести словах и запятой: "...проходили годы, он ничего не публиковал".
Таких лет не было.
Так как я вступаю в ожесточенную полемику с лучшим знатоком жизни и творчества Юрия Олеши, то, естественно, моими поступками начинают руководить два главных стремления: любовь к истине и страх перед разоблачением. В связи с этим я вынужден говорить куда более осмотрительно, чем делал это до сих пор. Шесть слов и одна запятая моего оппонента тоже истина, но для того, чтобы она была совершенной истиной, в ней нужно изменить два слова. Даже еще меньше: два окончания. Что же касается остальных четырех слов и одной запятой, то они решительно ни в каких поправках не нуждаются. Изменив два окончания, мы получим текст, на этот раз представляющий уже совершенную и неопровержимую истину. В таком виде он выглядит следующим образом:
"...проходил год, он ничего не публиковал".
Этим годом был 1941-й, и, вероятно, то, что он ничего не публиковал, связано с войной и эвакуацией.
Таким образом, из двадцати пяти лет двадцать четыре года в "годы молчания" Юрий Олеша публиковал. Где угодно, сколько угодно и что угодно.
Я написал книгу, в которой пытался рассказать о том, что советская власть может растоптать все. И делает это особенно хорошо тогда, когда ей не оказывают сопротивления. Когда ей оказывают сопротивление, она может убить, как убила Мандельштама, может пойти на компромисс, как пошла с Зощенко, и отступить, если с ней борются неуступившие и несдавшиеся художники - Ахматова, Пастернак, Булгаков, Солженицын.
Юрий Карлович не оказывал сопротивления советской власти.
Нижеследующая таблица, диаграмма и кривая наглядно демонстрируют правильность нашего вывода:
ТАБЛИЦА, ДИАГРАММА И КРИВАЯ ТВОРЧЕСКОГО
РОСТА ПИСАТЕЛЯ ОЛЕШИ Ю. К. В ПЕРИОД
"ГОДЫ МОЛЧАНИЯ" (1935 - I960)
Год
Количество публикаций
Объем в знаках
1935
9
87.600
1936
16
117.480
1937
30
271.860
1938
6
42.860
1939
6
35.580
1940
6
44.370
1941
1942
1
28.980
1943
4
29.600
1944
2
17.000
1945
15
10.970\1161
1940
1
15.499
1947
14
111.480\851
1948
8
30.160\51
1949
3
10.400
1950
3
10.300\6151
1951
4
18.800
1952
2
10.600
1953
1
25.300
1954
3
11.200
1955
2
8.000
1956
4
8.100\31
1957
4
51.800
1958
2
19.300\6941
1959
1
4.100
1960
16
117.5402
Фиг. 1.Таблиц а.
Из данных таблицы, диаграммы и кривой следует, что среднее число публикаций в год за период 1935-1960 гг. равно 6. Рассматривая эти данные как статистическую выборку и вычисляя второй, третий и четвертый центральные выборочные моменты3, мы получим
m2=42, m3=618, m4=13800
Количественными характеристиками отклонения выборок от нормального распределения являются, как известно, асимметрияG, и эксцесс Gz.
В нашем случае они соответственно равны
G,=2,3 и Gz=4,8
1 Стихотворные строки.
2 Включая посмертные публикации.
3 См. Б. Л. Ван дер Варден. Математическая статистика. М., 1960, с. 281. При обработке данных таблицы, диаграммы и кривой мы взяли для последнего года число публикаций равным десяти, исключив, таким образом, посмертные издания.
Эти расчеты произведены на Электронно-вычислительной цифровой машине ЭВЦМ М-30 доктором физических наук, профессором М. Л. Левиным. Приношу ему глубокую и искреннюю благодарность.
Совершенно очевидно, что такое большое значение эксцесса (символ) обусловлено в первую очередь публикациями 1937 года. Беря для сравнения укороченную выборку относящуюся к более спокойному интервалу 1939-1959 гг., будем иметь
G,=1,7 и Gz=2,2
то есть уменьшение эксцесса более чем в два раза. Заметим, что для этой укороченной выборки среднее число публикаций в год равно четырем.
Итак, Юрий Олеша за двадцать пять лет молча напечатал и переиздал сто шестьдесят два произведения.
Напечатанного и переизданного в "годы молчания" оказалось в 8,4 раза больше, чем было опубликовано в годы, которые в истории русской литературы называются "эпоха ренессанса в творчестве Юрия Олеши".
Это меньше, чем Гете (143 тома), меньше, чем Вольтер (97 томов) и Лев Толстой (90 томов), но почти столько же, сколько Евг. Пермяк и Александр Пидсуха.
Существует игра, которая называется "литературоведение" ("искусствоведение", "критика", "история", "философия"). У этой игры есть правила (иногда их даже называют "методологией", "стилем" и другими словами), составляемые на каждую эпоху. Одна эпоха никогда не играет по правилам другой. (Ничтожные эпигонские эпохи, впрочем, не гнушаются и этим. Но тогда это уже называется не эпигонством, а славными традициями.) По ныне действующим правилам говорить о том, как жил писатель, все равно что, ни на что не глядя, лезть слоном по вертикали. Такого шахматиста сразу выкидывают из игры.
Юрий Олеша нарушал правила. Не часто, но в отдельных случаях он все-таки ходил не туда, и это были лучшие его шаги. В таких случаях его хватали за ноги, и он, не упираясь, начинал ходить, как следует, и сразу же оказывался партнером по партии Льву Никулину.
Один раз Юрий Олеша нарушил правила так:
"Делакруа пишет в дневнике о материальных лишениях Дидро...
Я вспомнил об этой записи Делакруа, когда шел сегодня по Пятницкой, рассчитывая, хватит ли у меня денег на двести граммов сахара, и имел ли я поэтому право купить газету. Три года назад, когда жил в этом (же. - А. В.) районе, было то же самое: я иногда выходил на улицу, чтобы у кого-нибудь из писателей одолжить трешницу на завтрак для себя и для жены. Если прошли три года с тех пор, а все то же, то и я могу подумать, что это не случайность, а именно удел"1.
1 Как член комиссии по литературному наследству Ю. К. Oлеши, я разбирал архив покойного писателя. Публикуемый мною текст является подлинным. Составители книги "Ни дня без строчки" почему-то сочли нужным внести некоторые сокращения. Это очень хорошо. Потому что в таком виде все выглядит гораздо благополучнее и достойнее и, что особенно важно несравненно больше соответствует истине, чем это пытался изобразить сам Олеша.
Но писателя схватили за ногу, и в такой позиции он стал делать более короткие шаги в русской литературе.
Не нарушающий правила Юрий Олеша теперь выглядит так: "Делакруа пишет в дневнике о материальных лишениях Дидро...
Я вспомнил об этой записи у Делакруа, когда шел сегодня по Пятницкой. Три года тому назад, когда жил в этом же районе, было то же самое: я иногда выходил, чтобы у кого-нибудь из писателей одолжить трешницу на завтрак".
Таким образом, мы видим, как Юрий Олеша оказался партнером по партии Виктору Шкловскому. Правда, уже после смерти. На страницах 169-170 книги "Ни дня без строчки", изданной благодаря усилиям и с предисловием Виктора Шкловского.
Нарушивший вдруг правила, Юрий Олеша написал одни из самых чистых и горьких своих строк.
Их точность, строгость, сосредоточенность и беспощадность таковы, что могут даже оказать влияние на прочитавшего их человека. Этого почти никогда не бывает.
Вниз с большой высоты бросился человек на голый и белый издательский камень.
Автор "Строгого юноши" знал, что это опасно, и за двадцать шесть лет, прошедших после киноповести, старался совершать опасные поступки как можно реже. Но ведь он же был, был когда-то большим художником! И что-то мощное, но уже искалеченное и тогда, нечто без рук и ног тяжко ворочалось в нем, и он повторял то, что говорило ему это искреннее и значительное существо, которое люди зовут искусством, и тогда он делал искренние и значительные вещи, без которых не бывает искусства.
Но это, конечно, случалось не каждый день, и роль такого явления не следует преувеличивать.
В связи с этим особенно интересно понять, как Юрий Олеша стал несчастным страдальцем русской литературы. Это обстоятельство заслуживает самого пристального внимания, ибо установлено, что истинные страдальцы русской литературы - только те, кто может говорить искренние и значительные вещи и кому их говорить не дают.
Те, кто не может их говорить, страдальцами не являются. Те, кому не запрещают их говорить, обладают счастьем, выше которого ничего нет, ибо это счастье творчества и свободы.
Юрий Олеша страдал ошибочно.
Юрий Олеша не пережил самого страшного несчастья, какое может выпасть на долю писателя: запрет говорить людям то, что он знает о них.
Все остальное писатель пережить может: голод, пытку, гибель близких, тюрьму, непризнан-ность, клевету, истязания, разбитые надежды, несправедливость.
Так как Юрий Олеша говорил людям все, что считал нужным, и никогда не знал никакого запрета, то представление его к почетному званию заслуженного страдальца республики лишено всякого основания.
Его нужно представить к другому званию: любимого умельца почтенной публики.
В самом деле:
Товарищ Руссель из ЦК партии срочно требует повернуть в данный момент карусель.
Юрий Олеша поворачивает.
Потом этого товарища расстреливают и товарища Руссо назначают на его место. У еще не расстрелянного товарища совершенно другое отношение к данному моменту. Он требует немедленно повернуть колесо.
Юрий Олеша поворачивает.
Он всегда вместе со всей его литературой поворачивал, куда велят. И поэтому он и вся его литература полвека вертят карусель и колеса истории, и каждый новый круг приносит новые страдания, беды и горе людям этой обреченной страны.
Юрий Олеша печатал все, что писал. Он не печатал только то, что не написал.
После его смерти завершается и печатается все то, что он сам не успел завершить и напечатать.
Он не пережил самого страшного несчастья, какое читатели придумали для писателя: не давать ему говорить.
Все остальные беды писатель может, а многие и должен перенести.
Но ведь и их не было.
Его читали с восторгом, писали о нем с восхищением, чтили, сочувствовали, аплодировали, восторгались, пересказывали его слова, разносили его остроты, придумывали их за него.
Его просили писать, его умоляли печатать, и он писал и печатал. У него не было конфликта с обществом, в котором он жил. Он не изведал непризнанности: его стихи в "Гудке" создали ему славу, его первый напечатанный роман вызвал сенсацию. Он не знал семейной трагедии и не пережил голода, тюрьмы, непризнанности, клеветы, истязаний, несправедливости. Но разбитые надежды ему пришлось пережить, по некоторым данным можно заключить, что он рассчитывал со временем заменить Льва Толстого в русской литературе и, кроме того, он предполагал получить орден "Знак почета". Но эти надежды не оправдались. Ни первая, ни тем более другая.
(Сохранилось одно историческое свидетельство, которое я приведу.)
Лучший знаток жизни и творчества Юрия Олеши Л. Славин, исследуя эти вопросы, в известной мере приближается к сходным с моими выводам:
"Он жаждал шума вокруг себя, чтоб на него указывали пальцем на улице, как на Толстого: "Вот Олеша!"
Его обошли орденом. Он страдал"1.
1 Лев Славин. Портреты и записки. М., 1965, с. 14.
Он страдал. И как всякий человек сложной душевной организации, он страдал, конечно, не только из-за того, что в общем так никогда и не стал Львом Толстым, и из-за того, что у него буквально из рук вырвали орден "Знак почета". Он не был до конца счастлив, счастлив спокойно, уверенно и твердо. Все было хорошо, а жил он, как человек, которого ранили и в теле которого застрял осколок: иногда ночью, во время бессонницы, когда лишь свет звезды падает на воспоми-нания и никто не слышит тебя, и мрак прячет краску стыда, тогда сердце, которое днем на заседаниях Литфонда и в периоды других видов общественной деятельности бьется размеренно и ритмично, начинает кровоточить.
Люди с неосознанным уважением относятся к ночи. Ночью говорят тише и слышат лучше. Ночью расстреливают людей.
Как хорошо, что Юрий Олеша был здоровым, крепким человеком и любил поесть и поспать.
Днем же человеку всегда некогда, и обычно его мало занимают мысли об осколке. Юрий Олеша предпочитал мраку ночи свет дня. Он любил лето, солнце, зеленую добрую землю, летящих стрекоз, строящиеся здания, веселые лица и успехи на хозяйственном и культурном фронте. Он был осторожен, умен и завистлив.
Он думал не об осколке. Он думал, что необходимо быть несчастным, потому что без этого человек не может быть великим писателем. Но Юрий Олеша не был несчастным человеком. Он был человеком с плохим настроением. Он был осторожен, умен и тщеславен.
Итак, за двадцать шесть лет - от "Строгого юноши" до своей смерти Юрий Олеша еще сто шестьдесят два раза публиковал свои произведения.
Будучи уже немолодым человеком, он, со всей серьезностью, всмотрелся в пройденный им творческий путь. Он увидел, что теперь может, наконец, изжить свою интеллигентность, поторопиться с перестройкой и взяться, хоть и с большим опозданием, но с огромным зарядом энергии за творческую работу. Результаты не замедлили сказаться: именно в эти годы и было создано громадное, с трудом подлежащее учету, количество произведений, сразу же превратив-ших Юрия Олешу из сомнительного покачивающегося попутчика в одного из наиболее ярких и характерных представителей советской литературы эпохи расцвета.
Всего этого он достиг только тогда, когда твердо встал на горло собственной песне и двадцать пять лет, не сходя, простоял в такой позе, создавая высокохудожественные и понятные народу произведения. Но слишком поздно он сообразил, что нужно бросить это интеллигентное манерничанье, это "у меня, знаете ли, свое мнение" и пр. Слишком поздно... Слишком поздно он всем своим чутким, отзывчивым и ранимым сердцем понял, что надо создавать подлинно художественные ценности. Он хорошо себя знал. Уж он-то знал цену всем этим принципам, убеждениям, сомнениям, побуждениям и почем нынче торгуют. Он все знал. Обо всех. И о самом себе. О себе самом особенно хорошо:
"...я был не воин, не мужчина, трус, мыслитель, добряк, старик, дерьмо..."1
1 Юрий Олеша. Ни дня без строчки. Из записных книжек. М., 1965, с. 30.
Человек с таким характером и с такой судьбой стал флагом отечественного благородства, страстотерпчества и моральной вершиной. Все, кто слишком много наврал и по постановлению июньского (1957 г.) пленума ЦК неожиданно почувствовал угрызения совести, берут в руки его томик и через некоторое время чувствуют себя очистившимися.
Человеку с таким характером было, конечно, нелегко в наш динамический и насыщенный продуктами ядерного распада век.
А страдания и переживания? Постойте, постойте, ведь всем известно, что у Юрия Олеши были страдания и переживания. Где муки и поиски, где страстная жажда гармонии? Бессонные ночи, горькие дни? Безнадежность, усталость, сжигающие раздумья, обжигающее отчаяние, горечь и скорбь, желание забыться, зарыться в подушку, опьянеть, чтобы не думать, не знать, не видеть? Где же все это? Где? Во вступительных статьях Виктора Шкловского к двум публикациям "Ни дня без строчки", в книге Льва Славина "Портреты и записки", в предисловии В. Перцова к "Избранным сочинениям", в предисловии Б. Галанова к "Повестям и рассказам", в книге И. Рахтанова "Рассказы по памяти", в статье В. Огнева, воспоминаниях писателей, в разговорах приятелей, в высоком артистизме натуры, в искусстве перевоплощения.
Решающее отличие произведений, написанных в "годы молчания", от произведений, написанных во второй половине 20-х годов, в том, что произошло благотворное возвращение к традиции "Гудка", к художественной практике Зубила. И в этом смысле Виктор Шкловский был прав, говоря, что неудачи писателя связаны с тем, что "он перестал быть "Зубилом", потому что вокруг него не было друзей рабкоров"1 (а может быть, было бы еще лучше приставить к нему кого из напостовцев, и тогда он стал бы премного одаренней содержанием). Удачи же Юрия Олеши безусловно вызваны тем, что "он вернулся с новым опытом в газету и начал собирать новые кирпичи для того, чтобы построить здание, достойное времени"2.
1 Виктор Шкловский. Об авторе и его книге. Предисловие к "Ни дня без строки" Ю. Олеши. - "Октябрь", 1961, № 7, с. 148.
2 Там же.
Широкое идеологическое возрождение "Гудка" было абсолютно органичным и вызвало серьезный резонанс во всем сложном сооружении, которое в бытовой, ненаучной речи именуется просто "писатель". Это возрождение немедленно стимулировало повторение приема эпохи "Гудка": снова одним из капитальных способов изображения становится противопоставление, контраст, антитеза. И снова писателю это удается прекрасно. Внимательно вглядываясь в возрожденный и усовершенствованный прием, поражаешься искусству художника, сумевшего так наивно, поэтично и естественно перепутать седые усы выжившего из ума старика с развевающи-мися хвостами пионерского галстука. Здесь органически совместились огромный жизненный опыт пожилого писателя и его литературной эпохи с очарованием юного литкружковца.
Искусство контраста развело в противоположные стороны героев, намерения, стилистические ряды, авторские симпатии. С большим или меньшим преобладанием прием присутствовал и в газетном фельетоне, и в романах, и в "Списке благодеяний" , и позднее в публицистике Юрия Олеши. И это искусство было лучшим или худшим, но всегда находящимся в прямой и ненарушаемой зависимости от того, куда в этот момент дула вся литература, чего она требовала от писателя и сколько писатель ей уступал.
И в этом смысле наиболее замечательным является программное произведение Юрия Олеши "Наша Родина - Российская Социалистическая республика".
Что же так важно и значительно в этом произведении?
Чувство гордости за Российскую Социалистическую республику.
Безоговорочное растворение автора в коллективе.
Безупречное единство формы и содержания.
Сложная простота зрелого классического искусства.
Патриотический порыв.
"Необъятные размеры. Неисчислимые богатства. Самая большая республика Советского Союза"1.
"Природа ее разнообразна и прекрасна".
"Сосны, кедры, степи, Волга, горы Урала, тайга"2.
1 Юрий Олеша. Наша Родина - Российская Социалистическая республика. "Тридцать дней". 1938, № 4.
2 См. об этом более подробно: История СССР. Краткий курс. Учебник для 3 и 4 класса. Под ред. проф. А. В. Шестикова. М., 1938.с. 7-8.
"РСФСР - с ее величественной Москвой."
И снова - как бы спокойная панорама, могучие крылья полета, покачивающееся пространство...
"Железный Ленинград... юный Комсомольск... Город, где родился Ленин, город, где родился Горький, город, носящий имя Сталина".
Если говорить о чисто литературном значении введения этого сложного при кажущейся простоте приема перечисления, то можно сказать, что Юрий Олеша стоял у истока традиции художественных явлений, сыгравших решающую роль в судьбах советской культуры и роста благосостояния трудящихся. Я имею в виду один из наиболее тщательно разработанных приемов советской классики: повышенное количество географической номенклатуры на единицу текста. Высшим выражением этого приема является классическое произведение В. И. Лебедева-Кумача "Песня о Родине" (со стихами "От Москвы до самых до окраин, С южных гор до северных морей"), несомненно, оказавшее влияние (как и все творчество этого удивительного поэта) на формирование художественной системы Юрия Олеши последнего двадцатипятилетия его литературной жизни.
Дальше происходит разрушительный перелом текста. Здесь следовало бы, конечно, говорить об эмфазе, экстатическом выбросе, взрыве.
"Великая Октябрьская Социалистическая революция подняла к свободной творческой жизни ранее угнетенные национальности. И в этом подъеме большую роль сыграл русский народ. В социалистическом содружестве народов - русский народ старший среди равных..."
Уже в те годы, когда еще никому не приходило в голову, какую роль приобретает тема русского народа и борьбы с космополитизмом, Юрий Олеша задел и ее. Это было лишь легким прикосновением к теме, микроимпульсом, сообщившим огромному литературно-патриотическому потенциалу стремительное, все разрушающее на своем пути движение. И это прикосновение сразу же поставило Юрия Олешу рядом с лучшими писателями эпохи, в том числе и с таким писателем, как Константин Симонов, своей поэмой "Ледовое побоище" (написана в том же 1938 году), возродившим линию патриотического порыва русской литературы.
Все это и много другое, начатое в "Гудке", окончательно сформулированное в "Строгом юноше", в эти годы и, в частности, в лучшем произведении этого периода "Наша Родина - Российская Социалистическая республика" приобрело классически законченные очертания. Все это и многое другое определило художественный образ Юрия Олеши и его место в истории советской культуры.
Если говорить об определяющей характерности творчества Юрия Oлеши", то в первую очередь следует назвать точность.
Точность мысли, точность видения, точность знания.
Под его пером введенная в искусство античастица (цифра), масса и спин1 которой равны массе и спину данной частицы искусства (слова-образа), немедленно вызывает образование эстетическо-го антитела. Вот в этом и заключается несомненная характерность и особенность искусства Юрия Олеши, неповторимая и свойственная только ему. С наибольшей полнотой это выражено в произведении, которое мы с вами читаем сейчас.
1 Спин (англ. spin - вращаться) - собственный механический момент количества движения элементарной частицы (электрона, протона, нейтрона) или атомного ядра, обусловленных их квантовой природой.
"На полях, которые принадлежали помещикам, цветут колхозы. Их более 173 тысяч! Промышленность нашей республики достигла уровня промышленности Европы и Америки и во многих отраслях опередила их". Это написано в 1938 году! Здесь мы, несомненно, сталкиваемся с феноменом, именуемым антиципацией, то есть предвосхищением, прозрением явлений или событий.
"География страны стала еще прекрасней (разрядка моя. - А. Б.) от человеческих сооружений. Башни заводов, конструкции электростанций внесли прекрасную (разрядка моя. - А. Б.) новизну в российский пейзаж. Эти сооружения созданы для того, чтобы делать жизнь народа более сытой, более удобной, более культурной - более счастливой! (Разрядка моя. - А. Б.).
Это не те достижения техники, которые обогащают предпринимателей, как на Западе... это великая техника социализма, мудрая, работающая на благо человеку, созданная и улучшаемая народом для самого себя..."
Что это?
Это безоговорочная победа некогда робкой надежды героя "Вишневой косточки", человека, который уже тогда, девять лет назад, знал и робко верил, знал, ждал и надеялся, что его скоро перевоспитают, что именно коллектив разрешит мучительный вопрос: железобетонный гигант или вишневое дерево. И Юрий Олеша его разрешил: железобетонные гиганты!! И вишневые деревья!! Сочная, спелая вишня, наливка, компот, варенье, повидло, джем!!
Повествовательная динамика произведения, казалось бы уже достигшая предела, у этого писателя предела не имеет. Здесь происходит явление, о котором один из наиболее авторитетных исследователей эстетического восприятия А. Моль пишет:
"...следует принять за аксиому, что существует некий максимальный предел восприятия индивидуумом информации N за элементарный отрезок времени ("плотность восприятия"), или, если эта плотность восприятия может быть приравнена к постоянной, что существует максимальная скорость восприятия информации N за промежуток О (или за единицу времени, в зависимости от метода рассуждений). И тогда сразу же можно заметить, что эта максимальная скорость усвоения воспринимаемой информации значительно ниже скорости поступления информации от окружающих нас источников информации: видимых, слышимых или осязаемых. Иными словами, мы используем лишь очень малую (разрядка моя. - А. Б.) долю информации, которая приходит к нам из внешнего мира.
В психологии этот факт общеизвестен. Последние работы, посвященные восприятию человека, показывают, что предельное значение скорости восприятия информации равно, примерно, 10-20 бит/сек"1.
1 А. Моль. Теория информации и эстетического восприятия. М., 1966, с. 110-111.
Сказанное имеет самое непосредственное отношение к тексту Олеши. Сейчас мы увидим это на одном из высших пунктов повествования:
"Сталинская Конституция закрепила победы социалистической революции и все ее великие завоевания. На основании Сталинской Конституции мы, граждане РСФСР, будем выбирать наших представителей в Верховный Совет РСФСР. Жители Ленинграда, Казани, жители городов Сибири и Дальнего Востока будут опускать бюллетени с именами кандидатов в избирательные урны".
Так писал Ю. Олеша, о неподкупности которого сказано столько прекрасных слов.
Размышляя над одним из наиболее сложных произведений Юрия Олеши и пытаясь понять его художественную природу, я заметил, что мои мысли все время обращаются к музыкальным образам. Сначала я подумал, что это простая случайность или, быть может, следствие того, что я как раз в это время был занят "Spiegal der Orgelmacher und Organisten", 1511 год ("Зеркало органных строителей и органистов"), гейдельбергского органиста Арнольда Шлика, а также табулатурными и основными книгами для органа Коттера (1513 г.), Клебера (1524 г.) и Бухнера (около 1525 г.). Но вскоре я понял, что мои музыкальные ассоциации связаны не с "Зеркалом органных строителей и органистов" и не с табулатурными книгами и даже не с их авторами: Коттером, Клебером и Бухнером, а с поразительной внутренней музыкальностью произведения Юрия Олеши. И тогда я увидел, что произошло важнейшее событие в творческой судьбе моего героя, а также лучших знатоков его жизни и творчества. Это событие заключалось в том, что именно в это время (1937-1938 годы) Юрий Олеша и другие знатоки жизни и творчества поняли, наконец, великую правду окружающей их действительности, и тогда глубокая гармония соединила его и лучших знатоков с миром, в котором все они жили. Эта гармония, эта пластичность сняли внутренние противоречия, которые нет-нет, а вдруг и вспыхивали в его мятежной душе, и теперь художник заговорил голосом широким, звонким и сочным, и главное - свободным.
И тогда он стал писать так:
"Вот встреча Ленина со Сталиным. Круг стоящих возле Ленина раздвинулся, к столу подходит человек с лицом, которое трудно описать, такое на нем выражение оживления, внимания, радости.
Ленин любовно смотрит на подошедшего"1.
Так Юрий Олеша писал за пять месяцев до статьи о выборах в Верховный Совет РСФСР в связи с выборами в Верховный Совет СССР. Все это о том же - о взаимоотношениях человека и общества, но разрешившихся наконец с помощью самой яркой демократии Земли.
Как зачарованный вглядывается писатель в самую яркую демократию Земли и не может от нее оторваться:
"...Когда мы2 в ночь на 13 декабря подсчитывали голоса - иногда в конвертах обнаружива-лись маленькие записки.
1 Юрий Олеша. Огни праздника. - "Вечерняя Москва", 1937, 10 ноября, № 257.
2 Как явствует из этой фразы, Ю. К. Олеша был удостоен высокой чести состоять членом участковой избирательной комиссии по выборам в Верховный Совет СССР 1-го созыва.
"Привет великому Сталину!"
"Да здравствует первый депутат Сталин!"
Всем хотелось голосовать за Сталина. Но избирательный закон разрешает голосовать за данного кандидата только по тому району, по которому депутат утвержден... Нельзя приписывать никаких имен к бюллетеню... Но в конверты вкладывались записки с именем Сталина.
Эти записки выпадали из конвертов, как лепестки огромного венка, окружающего закон"1.
Глаз художника-гражданина подмечает все. И все, что настоящий художник увидел, выходит за пределы частного, единичного. Все это обобщается, и мы уже понимаем, что стоит за мелочами нашего ежедневного бытия:
"В Москве очень хорошие вывески.
Некоторые - длинные из синего стекла со словом "рыба" или "бакалея" просто великолепны. В такой магазин непременно хочется войти...
"Гастроном".
О том, что когда-то были затруднения, лишь изредка и улыбаясь, вспоминают хозяйки.
"Гастроном". Это слово говорит о выборе, об удовлетворении вкуса. Об изобилии...
...трудно предположить, чтобы у нас могло происходить то, что происходит в Америке с ее высоким уровнем техники во всех областях. Чтобы могла найтись мать, которая была бы не в состоянии преподнести сыну эскимо на маленькой, вращающейся в пальцах палочке.
В капиталистической Америке это будет всегда"2.
Все, что он создавал теперь, было естественным продолжением старых концепций и форм. И поэтому одна из генеральных тем молодого Олеши - Россия и Запад, прошедшая через все годы его литературного пути и получившая особое значение в "Зависти" и "Списке благодеяний", - теперь обретает окончательное решение. Но как непохоже новое решение на те сомнительные паллиативы и компромиссы, которые в эпоху "Зависти" и "Списка благодеяний" казались венцом интеллектуального совершенства!.. Обобщенный образ империалистической язвы приобретает такую экспрессию, что выскакивает из гастронома и вскакивает в огромный безумный мир. Став выскочкой, Oлеша пишет одно из программных своих произведений "День мира"3.
1 Юрий Олеша. В день выборов. - "Литературная газета", 1937, 15 декабря, № 68.
2 Ю. Олеша. Перед праздником. - "За пищевую индустрию". 1936, 5 ноября, № 256.
3 Ю. Олеша. День мира. - "Молодая гвардия", 1937, №№ 10-11, с. 314-345.
Вот эти два мира в один день.
"В дне Англии ярче всего отражена гнусная путаница капиталистического мира. Это самый запутанный, самый неясный, самый туманный день. И только светится в этом тумане плакат коммунистической партии:
"Национальное правительство готовится совершить грязную сделку с Муссолини!.."
Устав от гнусных предательств и сделок английской буржуазии, Юрий Олеша заходит в родную советскую "Рыбу" или "Бакалею".
Подкрепившись рыбой и бакалеей, он возвращается к проблемам социологии, филологии и теологии.
"Мы забываем, между прочим, - замечает писатель, - что в капиталистических странах существует Бог! Существует церковь!.."
Это невозможно стерпеть. Юрий Олеша забегает в избирательный участок глотнуть свежего воздуха, а, если удастся, то пропустить и рюмочку.
Набрав сил и глотнув, писатель снова окунается в борьбу. Окунается он так:
"Но вот мир жандармов; кошмаров и ужасов. Мир бездарных, тщеславных политиканов, которые только во имя власти, только во имя своей власти заламывают руки и зажимают рот своему народу и обещают и уже начали заламывать руки и зажимать рот другим народам.
День Германии!.. Эта страна начинает казаться огромным сборищем людей, которых кучка авантюристов сводит с ума..." - пишет Олеша.
На воздух! На воздух! В "Гастроном"! В "Рыбу"! На избирательный участок! Здесь он, свободный человек самой свободной в мире страны, может, не согласовав с райкомом, закричать во все горло: "Да здравствует милый, родной и великий Сталин!" и 15 декабря в статье, напечатанной "Литературной газетой", нравственный эталон советского интеллигента Юрий Олеша так именно и кричит.
"День СССР.
Москва. 27 сентября "Правда" печатает отклики трудящихся красной столицы на декрет правительства об отмене карточной системы и снижении цен на продукты питания.
Голодные в Германии. Голодные в Америке. Изобилие и сытая жизнь в СССР..."
Искусство контраста, которым без промаха во все стороны владел Юрий Олеша, развело в противоположные и враждебные стороны два мира, метафорические ряды, авторские симпатии и антипатии, а также художественную литературу и обожаемую партию.
Голосом, в котором слышится уверенная поступь миллионов, он говорит:
"День СССР.
В Кремль приглашено 25 человек. Сейчас им будут розданы ордена...
День СССР...
Колхозные портнихи в Калуге обсуждают новые фасоны заказчиц, а заказчицы стали требовательными. Да и материалы не те. Что годилось ситцу, не годится шелку".
Это, конечно, могло быть сказано только в эпоху, когда товарищ Сталин учил нас, что "самое ценное это люди, кадры". В шелковых платьях.
"День СССР.
Земля. Наша священная, социалистическая земля отдана колхозникам навечно...
День наступил только у нас. На Западе продолжалась ночь..."
Затем он читает доклад о международном положении в исполнении на трубе.
"День 27 сентября этого, 1937 года окрашен несколько иначе. Мир начал многое понимать... Объединяются силы прогрессивного человечества. Капитализм обнажен. Появляется новый патриотизм. Патриотизм народа, полного ненависти к захватчикам, к насильникам, интервентам. И народ понимает, что ненавистное ему рождено капитализмом".
В столице нашей родины Москве люди, слушающие такой доклад с высокой трибуны, говорят - "простенько, но со вкусом".
Юрий Олеша достает из сундука трубу и играет такую симфоническую музыку:
"Вино 1600 бутылок, морковь 445,5 килограммов, ячмень - 859, пшеница жареная - 386, помидоры сушеные - 103,2..."1.
1 Юрий Олеша. Эшелон. В кн.: "В бою и труде". Ашхабад, 1943, с. 86.
Когда Олеша говорит, то хочется, затаив дыхание, впитывать в себя каждое его слово, хочется, чтобы он говорил всегда, не останавливаясь ни на минуту. Об этом вы можете прочесть у всякого, кто имел счастье слышать его и имел несчастье о нем писать. Это непреодолимое желание впитать в себя каждое слово Олеши невольно заставляет думать о том, что писатель, сказав о 1600 бутыл-ках вина, о моркови, ячмене, пшенице жареной и помидорах сушеных, так ничего и не сказал о металлоломе. А вместе с тем его роль в народном хозяйстве страны неуклонно повышается. Но как в свое время тонко отметил Б. Галанов, "будем же благодарны Олеше за то, что он сделал".
Идут годы, но неотдыхающая история трудного нашего века не меняет голос художника. Художник пишет о поэзии:
"Главная же ценность этого стихотворения в мысли, заключенной в нем. Слава тех, кто строит ныне коммунизм - бессмертна"1.
Художник пишет о войне:
Книга Мотицура Хасимото "...потрясает, ее нельзя читать без огромного волнения, без чувства гнева против капитализма, совершающего чудовищное насилие над человеческим духом..."2
Художник пишет о "необыкновенной повседневности, нашей советской повседневности":
"Целый отряд советского народа идет в "Третьяковку"..."3
1 Юрий Олеша. История человека-торпеды. - "Новый мир", 1957, № 5, с. 26.
2 Юрий Олеша. Ни дня без строчки. Из записных книжек. М., 1965, с. 275.
3 Там же, с. 276.
Художник пишет о фотографии:
"Как радует то обстоятельство, что появляется все больше и больше фотографов-любителей... В них, в этих снимках, будущий историк увидит, как изменилось лицо великой страны социализма".
1937, 1938, 1943, 1952, 1957, 1960... Годы, десятилетия...
Все дни этого замечательного человека были густо исписаны такими строчками. Но отдельные периоды были застроены многоэтажным эпосом. В такие периоды он создавал киносценарии. В киносценариях "Вальтер" и "Лагерь на болоте" Юрий Oлеша рассказал о том, что люди читали ежедневно в газетах и журналах, и, если это получилось хуже, чем в газетах и журналах, то винить следует не Юрия Олешу, а то, что искусство не в состоянии стерпеть то, что стерпит газетка.
Я приведу несколько образцов. Образцы эти выглядят так:
"Наша сила в единстве".
"На рабочем классе Германии лежит огромная историческая ответственность".
В кино Юрий Олеша тоже был королем реплик.
Юрий Олеша очень старался, работая над сценарием "Вальтер". Однако многое ему было все-таки еще не под силу, несмотря на огромный опыт, который он приобрел во время создания другого киносценария - "Строгий юноша".
Все решительно изменилось, когда вместо одного писателя, или правильнее вместе с ним, начал стараться большой творческий коллектив (А. Мачерет, Е. Андриканис, А. Бергер, А. Вайсфелд, Л. Шварц, Б. Филимонов). Вот тогда дело быстро пошло на лад.
"Болотные солдаты", несомненно, принадлежат к числу вечно цветущих произведений искусства"1.
1 Лев Славин. Портреты и записки. М., 1966, с. 13.
К самым важным достижениям фильма следует отнести образы главных героев-коммунистов. Они изображены цельными, твердыми, несгибаемыми, глубоко принципиальными, до конца преданными делу рабочего класса, обаятельными, безо всякого труда разбивающими идеологи-ческого противника, нежными с друзьями и беспощадными к врагам, внутренне прекрасными.
Полной противоположностью подлинным героям являются фашисты с их раздвоенностью, тупой твердостью, бесчеловечной несгибаемостью, абсолютной беспринципностью, преданностью самым оголтелым империалистическим кругам, не имеющими ничего противопоставить своим идеологическим противникам, предающими друзей и беспощадными к врагам, внутренне отвратительными.
Очерки рабочего движения, которые требуют огромной опытности и политического такта, особенно удались Ю. Олеше. Но было бы неправильно думать, что фашистская тема сделана с меньшим мастерством и чувством историзма. Для этого нет абсолютно никаких оснований. Напротив, вся картина сделана очень ровно. При этом необходимо считаться с существованием одного из наиболее постоянно действующих законов эстетики, по которому страшное всегда кажется некоторым отсталым слоям зрителей более привлекательным, чем с такой же силой написанные сцены, призванные воспитывать в душах людей наиболее употребительные добродетели. Поэтому фильм, в котором головы растаптывают каблуками, кованными железом, бьют по голове лопатой (крупный план), пытаются изнасиловать женщину (развернуто), обстоятельно показывают проституток и расстреливают на близком расстоянии, смотрится с неослабевающим интересом.
Именно это обстоятельство и вызвало высокую оценку фильма. Я подчеркиваю - фильма.
В сценарии меньше ужасов, крови, стрельбы, фашизма, который только убивает. И это важно, потому что фашизм творит еще более страшное преступление, чем убийство: он перевоспитывает людей. Из обыкновенных людей он делает предателей, убийц, лжецов, негодяев, маньяков.
По сценарию еще можно догадаться, что такое жизнь в стране, где власть захвачена жандармами и передана овчаркам. Еще можно понять, что такое ад медленный, многолетний, лишенный праздничных костров из книг и не имеющий площадей, вымощенных человеческими черепами.
В литературном сценарии "Вальтер" и в фильме "Болотные солдаты" лучшими знатоками прозы, поэзии, публицистики, журналистики, критики и кинодраматургии Юрия Олеши было сразу же обнаружено высокое мастерство в художественных образах.
Растерянным голосом и сильно смущаясь я должен сказать своим читателям, что я в этом вечно цветущем произведении искусства не обнаружил высокого мастерства в художественных образах. Поэтому я рассказал главным образом о том, что, вероятно, хотел бы показать Юрий Олеша, но почему-то не показал.
Вместо высокого мастерства в художественных образах мы получили через стол заказов комплект-набор для средней антифашистской ленты.
Через двадцать восемь лет после премьеры "Болотных солдат", в пустом зале киноархива я снова смотрел пожелтевшую ленту, слушал потрескивание кинопроектора и узнавал в этом цвете и этом звуке сухой хруст старого газетного листа. История была нищей и горькой, - сухой, хрустящий сухарь, тронутый зеленоватой плесенью.
За двадцать восемь лет после премьеры фильм "Болотные солдаты" сильно улучшился. Из кинохроники с художественными образами он превратился в трагическую историю, которая не кончилась. То, что в годы нацистского младенчества многим казалось случайностью или преувеличением, или годным только для той страны и тех лет, стало проверенным законом истории целой эпохи.
В эти годы накопилось обобщенное представление о фашизме, о его многообразии, неожиданных и всегда похожих проявлениях, о его несходном происхождении и всегда одинаковых последствиях. В 1938 году газеты, журналы и кинофильм "Болотные солдаты" обличали удушение свободы, выкручивание рук, демагогические барабаны, антисемитизм, уничтожение интеллигенции или низведение ее до состояния сытых, довольных, дрожащих от страха скотов, шовинизм, национализм, дозволенность любых методов для достижения цели (которая всегда выдавалась за самую высокую), ложь, лицемерие и насилие в Германии.
По проверенному закону истории целой эпохи самым существенным в фашизме оказалось не то, что он уничтожает внутренних врагов, и не то, что он уничтожает внешних, не то, что он ведет захватнические войны и оплевывает демократию. Все это умели хорошо делать и обыкновенные старые деспотии. Самым существенным в фашизме оказалось то, что он уничтожает с в о и х, и эти свои чаще всего бывают или такими же мерзавцами, как те, которые их уничтожают, или искренне верящими в мерзавцев болванами, или далекими от политической жизни людьми. И это уничтожение своих самое характерное и существенное в фашизме не потому, что бесчеловечно, нелепо и вредно (как часто кажется людям, не знающим, что такое фашизм), но потому, что без этого фашизм существовать не может.
Не нужно удивляться и делать круглые глаза в моменты, когда мы обнаруживаем, что тотали-тарные государства на каждом шагу совершают глупости, достойные подражания, нелепости, поражающие воображение, безумства, вредность которых для этого государства очевидна даже чиновникам министерства пропаганды. Казалось бы, не нужно ума и таланта, государственной мудрости и политической проницательности (на которые не приходится рассчитывать у господствующей шайки), а нужно простое практическое благоразумие (которое требуется даже от нее), чтобы не совершать каждый день что-либо обязательно во вред себе.
Но это простое рассуждение, это нормальное недоумение может иметь касательство к нормальному демократическому государству, потому что только в нормальном демократическом государстве его интересы и интересы большей части населения не вступают в противоречия, которые могут быть разрешены или уничтожением государства, или уничтожением населения.
К тоталитарному государству нормальный ход мысли и нормальная методология изучения неприложимы. Подобно тому как существует нормальная анатомия и патологическая, существует нормальная и патологическая социология.
Изучение истории тоталитарного государства может быть плодотворным только по законам патологической социологии.
Тоталитарное государство создается людьми с железной волей и животными инстинктами. Таким существам наплевать на пользу государства, то есть подавляющего большинства населения (хотя они говорят только о ней), им важна своя польза.
Внешняя и внутренняя политика тоталитарного режима образуется в результате стремления к победе в борьбе между различными видами политических животных и общественными стаями.
Но когда в фашистском заведении происходят какие-нибудь очередные потрясения основ, в результате чего один злодей заступает место другого, в связи с чем злодейства предшествующего исторического периода нужно с негодованием осудить, чтобы приступить к злодействам нового исторического периода, то совершается вызывающая восхищение и бодрость возвышающая ложь (а какой же фашизм может хоть час прожить без всепожирающей, беспробудной лжи?). Подавляющему большинству людей такая ложь кажется очень привлекательной. Назначение этой лжи заключается в том, чтобы заставить думать, будто все пострадавшие в предшествующий период фашистской истории пострадали невинно.
Оказывается это очень выгодно. Для фашистов и по фашистской логике.
Шло время. Шли процессы и пьесы. Прошел процесс Промпартии, прошла пьеса "Список благодеяний". Шло время. Пришли новые процессы. В связи с новыми процессами появляется большое количество новых художественных произведений. Среди них чрезвычайно заметное место занимает сценарий Юрия Олеши "Ошибка инженера Кочина", написанный по пьесе братьев Тур и Л. Шейнина "Очная ставка", - одной из первых и наиболее значительных пьес, заложивших замечательную традицию показа на советской сцене морального облика шпионов, вредителей, изменников и диверсантов, буквально наводнивших нашу страну.
В связи с последним обстоятельством необходимое количество злодеев попало в тюрьму и лагеря, а отдельные типизированные представители - на сцену. Показ этих отрицательных персонажей в ярком свете рампы и выносных софитов был необходим для того, чтобы дать возможность народу безошибочно определять в каждом прохожем, соседке, отце с матерью и особенно женам в мужьях, совершили они уже измену и шпионаж или в них еще только имеется подходящая почва.
Типизированные представители не покладая рук фотографировали чертежи, пускали под откос поезда, совершали террористические акты, взрывали мосты, соблазняли неустойчивые элементы и изменяли родине. В редкие минуты отдыха они дрожали от страха и презирали страну, которая их вскормила, воспитала, одела, умыла и дала высшее образование.
Это было искусство подлинной жизненной правды.
Год 1937-й был хорошо подготовлен, и из многого, что его подготовило, был разгром вульгарного социологизма, который еще в какой-то степени оставался хранителем идей или, по крайней мере, надежд революции. Вульгарный социологизм был смят шовинизмом, патриотиз-мом, развязавшим руки тем, кто не любил революцию, но обожал отечество. Обожание отечества было у некоторых выражено так сильно, что даже давало возможность не обращать внимания на то, что в свое время произошла революция. Приобщение энергичных кадров к творческому труду разрешало делать теперь все что угодно. Опыт последующего десятилетия показал, что можно делать из любви к отечеству.
Расправа с вульгарным социологизмом производилась одновременно с уничтожением оппозиции, потому что вульгарный социологизм был одним из проявлений оппозиции. Возникшая система - без опозиции, без сопротивления давала возможность захватчику, не боясь наказания, делать все, что ему хочется. А в таких случаях хочется только одного: авторитарной неограниченной власти, обожествления и обожания.
В этих обстоятельствах требовались настоящие, серьезные идеи, и вульгарный социологизм с его космополитизмом, романтизмом в политике, широкими концепциями, тупым доктринерством, полетами над реальной жизнью, совершенным непониманием психологии людей и требований века был смешон и нелеп, как интеллигент в сюртуке и пенсне, выскочивший на хоккейное поле в острый момент игры.
Несмотря на нестерпимое отвращение, которое вызывает вульгарный социологизм, он, несомненно, не обладал достоинствами сменившей его концепции. Его роковой недостаток был в том, что он оказался несостоятельным в качестве общенародной идеи. Для этого он был слишком интеллигентен и нереалистичен. Он мог разрушить культуру страны, наводнить мир зловещими фантазиями, но играть общенациональную роль он не мог. Он не в состоянии был выйти из редак-ций журналов, академических аудиторий, издательских кабинетов, интеллигентских дискуссий и научно-исследовательских кровопролитий. Он метался между реальным уничтожением традици-онных институтов и нереальным созданием фантастических. Для того чтобы сплотить вокруг себя население огромной страны с тягчайшей исторической наследственностью, понятия не имевшей о демократии, перенесшей мировую войну, революцию, гражданскую войну, коллективизацию, индустриализацию, уничтожение оппозиции, установление однопартийной системы и диктатуры пролетариата, было недостаточно космополитических и классовых абстракций вульгарного социологизма. Понятными и привлекательными были великие традиции, замечательное историческое прошлое, частые напоминания о преклонении перед народом, салюты в связи с присоединением исконно русских земель, чрезвычайно импонирующие народному чувству.
Ничего этого дать народу вульгарный социологизм, конечно, не мог.
Великие традиции и салюты вызвали острую потребность в идеальном герое.
Разрозненные части трепетной мечты о таком наглядном пособии стали складываться в единое целое. Трепетная мечта крепчала, и, набрав силу, стала предъявлять художественной интеллиген-ции законные требования, потому что такое, казавшееся совсем недавно ни с чем несообразное явление, как идеальный герой (наглядное пособие), уже появилось в жизни. А искусство, конечно, все никак не могло его ухватить.
Вульгарный социологизм, естественно, с отвращением отворачивался от идеального героя. Оперируя только космогоническими абстракциями и перечеркиванием мировой истории, он в лучшем случае мог представить себе такого или в образе Человека из научно-фантастической поэмы Горького, или в образе фосфорической женщины из сатирической комедии Маяковского.
Вульгарный социологизм был скептиком, но хвастуном не был. Он говорил, что страна живет плохо, что отстала она в промышленности на полвека от Запада, что сельское хозяйство разорено и искусство у нас неважное, а иной раз и подловатое, но когда созреет новый человек, очищенный от скверны первобытной орды, рабовладельческого общества, феодализма и капитализма, то все будет прекрасно.
Новая концепция заявила, что граждане уже созрели, очистились и отмылись, и на этом основании тех же, недооцененных вульгарным социологизмом людей, ту же промышленность, то же сельское хозяйство и то же искусство следует считать прекрасными.
Проиграв матч, вульгарный социологизм не ушел с поля. Он прищуренными глазами огляделся окрест, понял, учел и, пихнув соседа, потихонечку пошел играть дальше, и с большим успехом стал одерживать победы, хорошо приспособившись к последним правилам, часто оказывая на них серьезное влияние.
Вульгарному социологизму было безразлично, кто изобрел трактор и где именно находится родина слонов. Наоборот, ему даже выгодно было, чтобы трактор и слоны появились на Западе, поскольку это лишний раз доказывало превосходство капиталистического способа производства над феодальным. Но государству, которое считало необходимым держать свой народ в состоянии мобилизационной готовности, нужно было уверить этот на все готовый народ, что это он изобрел трактор, что слоны впервые завелись в окрестностях г. Калуги, и поэтому такому народу есть что защищать, и он будет защищать и разгромит всех внешних и уж, конечно, внутренних врагов. А за африканских слонов или за американский трактор, или за своего же князя Владимира, если он является не национальным героем, а представителем самодержавия, никому воевать или перевыполнять план неохота.
Ничего этого вульгарный социологизм, конечно, не понимал. Идеи космополитизма он считает "великими" и чествует "проповедников" этих идей.
Например:
"Не только мы, коммунисты, еще в те времена, когда назывались социал-демократами, но даже такие предшественники, как Чернышевский и его единомышленники, всегда были западниками...
...надо понимать, что... наш коммунизм является отпрыском Запада..."1
1 А. Луначарский. Наше западничество. - "Огонек", 1929, № 5, с. 4.
Понимая, что борьба за великие идеи космополитизма, вне всякого сомнения, приведет к полной победе, хотя потребуется еще очень много, чтобы покончить с монархистами, шовинистами, националистами, антисемитами, милитаристами и всякой иной сволочью, вульгарный социологизм подходил к этому вопросу с чувством большой ответственности и внедрял концепцию без малого два десятилетия всюду, где удавалось.
В 1936 году было покончено с формализмом, чтобы дать народу понятное ему и любимое им искусство, то есть такое, с помощью которого можно легко убедить делать так, как это считается нужным, было покончено также и с вульгарным социологизмом, который оставлял совершенно равнодушными лучшие струны народной души. Теперь государство уже не только пламенно заботилось о народе, но вызывало ответную пламенную любовь и благодарность, которые очень помогали в укреплении промышленности, создании предпосылок дальнейшего расцвета сельского хозяйства, развития неслыханных успехов в области литературы и искусства, в стремительном развитии производства консервов. В 1936 году была принята самая демократическая конституция в мире, и теперь народ и государство представляли собой монолитное единство. Это создавало превосходные предпосылки для дальнейшего развития исторического процесса.
Замечательные победы создали чрезвычайно благоприятные условия для развития исторического процесса, который начался в 1937 году.
Грандиозные общественные преобразования этой эпохи нашли свое яркое выражение в творчестве лучших советских драматургов, романистов, сценаристов, очеркистов, фольклористов и фельетонистов. Представители других жанров также создали громадное количество художественных произведений о том, что мешает и что помогает народу окончательно построить счастливую жизнь.
В этот период построить счастливую жизнь больше всего мешали шпионы, а помогали следователи.
Именно в связи с этим вместе с самыми лучшими представителями творческой интеллигенции Юрий Олеша стал активно вмешиваться в жизнь, что привело к созданию сценария "Ошибка инженера Кочина".
Чуткий организм писателя мгновенно реагирует на события, происходящие в окружающей действительности. А в эти годы в окружающей действительности как раз происходили процессы Пятакова, Радека и других, Тухачевского, Якира и других, Бухарина, Рыкова и других, аресты Мейерхольда, Бабеля и других.
Юрий Олеша понимал всю серьезность окружающей действительности.
Вот заголовки газетной страницы, на которой напечатано выступление Юрия Олеши "Фашисты перед судом народа":
"23 января начался суд над антисоветским троцкистским центром".
"Гнусные преступники признали себя виновными в предъявленных им обвинениях".
"Безграничен гнев советского народа, единодушно требующего стереть с лица земли кровавых лакеев фашизма".
Ю. Олеша:
"Люди, которых сейчас судят, вызывают омерзение...
Это не люди, а револьверы. Человек-револьвер, человек-маузер... Маузер, направленный в каждого, кто хоть частью своей души сочувствует социализму...
Мерзавцы, жалкие люди, шпионы, честолюбцы, завистники хотели поднять руку на того, кому народ сказал: ты сделал меня счастливым, я тебя люблю. Это сказал народ! Отношение народа к Сталину рождает такое же волнение, какое рождает искусство! Это уже - песня..."1
Так он писал в публицистических произведениях, полных гражданского пафоса.
А вот как та же тема преломляется в его художественных произведениях, которые никогда не вступали в противоречие с другими жанрами, с мнениями лиц, пользующихся уважением, и с тем, что он думал и говорил в интимном кругу.
Юрий Олеша не только экранизирует классическую пьесу "Очная ставка" братьев Тур и Л. Шейнина, но и сам борется за искусство, с одной стороны, понятное народу, с другой стороны, помогающее ловить шпионов.
Так жил, страдал и работал замечательный писатель, создавая свои лучшие произведения.
И. А. Рахтанов передает подлинный рассказ Ю. Олеши:
"После первого съезда писателей Фадеев говорил мне: "мы все для тебя сделаем, Юра, только пиши..." Понимаете, я сам, собственноручно довел себя... Я был бы первым писателем. Саша так и сказал мне: "мы все сделаем, Юра..."2
1 "Литературная газета", 1937, 26 января, № 5.
2 И. Рахтанов. Рассказы по памяти. М., 1966, с. 118-119.
Его умоляли стать первым писателем. Перед ним цепенели от восхищения. Известны случаи резкого падения сосудистого тонуса (коллапс) при мысли о том, что он вообще покинет литературу. Были жертвы. Но самые твердые лица не теряли надежды. Они говорили, что сейчас ему лучше всего просто немножко перестроиться, и это вольет в него новые внутренние силы. Они знали своего друга и прекрасно понимали, что если за ним проследить, то он сделает все, что нужно. Правда, были некоторые опасения, что найдутся субъекты, которые не поверят в перестройку, и что он может услышать бестактные хохот и улюлюкание. Но от этого следует немедленно оградить.
Как мало нужно было, чтобы он упал, этот человек на нетвердых ногах, всегда раскачиваю-щийся между истиной и желанным самообманом. Легкий толчок, небольшое усилие.
Но в него уже были влиты новые внутренние силы, и он, конечно, хорошо понимал, какая ответственность лежит на нем.
Поэтому он так естественно сравнивал себя (не без выгоды) с Томасом Манном1, Жюлем Ренаром2, Делакруа3 (чуть извиняясь и как бы иронизируя) и другими великими художниками.
1 Юрий Олеша. Ни дня без строчки. Из записных книжек. М., 1965, с. 235.
2 Юрий Олеша. Повести и рассказы. М., 1965, с. 516.
3 Там же, с. 261.
Юрий Олеша любил жизнь. Он принадлежал к великим жизнелюбцам. Юрий Олеша любил хорошую жизнь с громадным успехом, со славой, летящей на крыльях аплодисментов, с преклонением перед ним, желательно с большими гонорарами. И если вся программа не была выполнена целиком, то ответственность за недовыполнение лежит не на Олеше, который (это надо признать) был не всегда последовательным и не проявлял должной настойчивости, а безусловно на крайне неудачно сложившихся обстоятельствах.
И, конечно, не эти неудачно сложившиеся обстоятельства окрасили творчество и судьбу Юрия Олеши. Это было не характерно. Нужна была совсем иная окраска. Дело в том, что по своей натуре Юрий Карлович Олеша не был акварелистом. Розовая, голубая, зеленая, оранжевая краски его книг и его жизни - не акварель, сквозь которую все видно, а непрозрачная, прячущая, что за ней, показывающая только себя гуашь.
Бывают, однако, случаи, когда даже гуашь не может скрыть правду, и поэтому в жизни Юрия Олеши иногда бывали неудачно сложившиеся обстоятельства.
В таких случаях он старался предпринять необходимые меры, чтобы не допустить что-нибудь лишнее и тем самым не повредить себе еще больше. Этот великий жизнелюбец даже придавал большое значение формам небытия. Олеша серьезно относился к этим вопросам, и, в частности, к вопросу о том, к какому разряду он будет отнесен соответствующими инстанциями после смерти.
Л. Никулин донес до нас это драгоценное свидетельство:
"...он как-то шутя цитировал, что бы написали о нем и как редактор будет сокращать некролог:
- "Высоко талантливый"... Ну, это слишком. "Талантливый"... Или лучше "даровитый". "Да, оставим "даровитый"... А впрочем?.."1
1 Лев Никулин. Годы нашей жизни. Юрий Олеша. - "Москва", 1965, № 2, с. 199.
Он считал, что, конечно, лучше не писать что-нибудь такое особенно неприличное, а лучше написать что-нибудь такое же, но обрызганное неслыханными метафорами, что вполне прилично и сразу же покажет, кто он такой.
Но в те годы это было уже ненужным и раздражающим. Это было оскорбительно, и никто не хотел знать, кто он такой. В те годы стали говорить: "Подумаешь!" Поэтому в этой поездке и в этом трамвае его положение отличалось от положения других пассажиров, и он так и не был до конца признан своим пассажиром в этом трамвае, и в его лицо излишне внимательно всматривался холодный, нетерпеливый и придирчивый век. Это было ошибкой.
Он плыл в этой литературе, и он делал все то же, что делали и другие, и даже еще лучше, и оттого, что он делал все то же, что делали и другие, только делал это лучше других, он принес русской литературе и русскому общественному самосознанию больше вреда, чем те, которые делали это же дело плохо. Но его падение сохранило след тяжелой и горькой беды, и оставило в памяти людей чувство, с каким провожают безвременно погибшего, не успевшего сделать своего главного дела значительного человека. Это чувство трагизма не исчезает, потому что другие ничего не умели делать, а он умел. Он не делал то настоящее дело, которое он мог бы хорошо делать, а он знал, что его настоящее дело - это великий спор поэта и черни. Но он уклонился от своего настоящего дела, и поэтому от того дела, которое он делал, ничего не осталось, кроме иллюзии чистоты и трагизма, а он делал то же, что и те, кто воспитывал и воспитал в людях тупое самодовольство, безразличие к средствам достижения цели, презрение к человеческому достоинству, тупое подчинение, страх, слепую веру, нетерпимость, отвращение к демократии, лицемерие, ненависть к людям, думающим иначе, чем они.
Казалось, уже все кончено. Он одержал громадную победу над сомнениями, этим мучительным бременем, характерным для его социальной прослойки с ее трагическими переживаниями при сравнительно благополучном исходе, над нелепыми либеральными представлениями о демократии, даже над метафорами, отвлекающими широкого читателя.
Это совпало с тем периодом развития эстетики, когда было неопровержимо доказано, что писать нужно только на высоком идейно-художественном уровне. Спорить с этим могли лишь неокрепшие умы, или продажные буржуазные писаки, или клинические параноики. Все, решительно все со всей убедительностью говорило: писать нужно только на высоком идейно-художественном уровне. Всякий другой способ мог принести только огромный вред.
И Олеша понял, чем может все это кончиться, если он не прислушается к голосу разума и не внемлет бесспорным и неопровержимым аргументам.
И он стал писать только на высоком идейно-художественном уровне.
И тогда оказалось, что его новые произведения так прекрасны, потому что в них ничего нет, кроме высокого идейно-художественного уровня.
Сначала он отказывался, хотя решительно все, как дважды два, доказывали ему, себе и другим, что ничего другого делать нельзя, что выхода нет.
Но оказалось, что в расчеты и доказательства вкрались незаметные, но существенные ошибки. Все эти вычисления и аргументы не принимали во внимание сильной человеческой воли, веры в свою правоту и сознательно упускали вычисления и аргументы, в которых была подлинная истина, а не минутная выгода. Он не понимал, что нельзя соглашаться, не проверив, с тем, что похоже на дважды два, с тем что, ну, решительно каждому представляется совершенно очевидным, с тем, что тебе кричит в ухо общее мнение.
Никогда нельзя делать то, что тебе шепчет общее мнение, и то, что тебе самому не кажется правильным. Оно шепчет тебе в ухо то, что считает правильным для себя. Но если ты думаешь об истине, а не о том, чтобы выскочить из очередной неприятности или подскочить с рационализа-торским предложением, то ты один можешь знать больше и лучше, что нужно обществу и тебе.
Человек скептического ума, большого жизненного опыта и хорошо знающий цену общему мнению Станислав Лем написал рассказ ("Друг Автоматея") о роботе, в ухе которого помещался счетно-вычислительный советчик. Робот попадает в кораблекрушение, оказывается на необитае-мом острове. Советчик сообщает, что оптимальное решение - самоубийство. Робот отказывается следовать рекомендации советчика. К острову подплывает корабль, не входивший в расчеты советчика.
Как часто мы оказываемся в безвыходном положении, терпим крушения, переживаем несчастья, и советчики, которые желают нам только добра, шепчут, твердят, кричат, орут благим матом в оба уха оптимальный вариант: сдайся, подпиши, не подпиши, пиши, не пиши, уступи, уйди, и как редко у нас хватает сил слушаться не уха, а разума.
Юрий Олеша стал слушаться советчиков, которые все знают. Он уже почти совсем перестроился. Вдали хохотали и улюлюкали... Он потерял равновесие и упал, вызвав еще большее улюлюкание. Но у него еще хватило сил подняться. И тогда он увидел на штанах пониже колена пыльный, осыпающийся от прикосновения след тонкопалой крохотной ступни. Возможно, что его толкнула крыса, причиной его падения было также и то, что она его толкнула, крыса.
Писатель-остров в литературе не существует. Течет река истории литературы, и обыкновенные хорошие, обыкновенные посредственные и обыкновенные плохие писатели плывут по этой реке. Обыкновенный писатель всегда хорош или плох от того, хороша или плоха литература, в которой он живет. Только великий писатель может не иметь отношения к своей литературе. Фет закончил "Вечерние огни", и Чехов создал свои лучшие рассказы в одно из самых пустынных десятилетий русской литературы.
Юрий Олеша был обыкновенным хорошим и обыкновенным плохим писателем, он плыл по реке и писал хорошо, когда выходил на широкую чистую воду, и плохо, когда река начинала скудеть.
Трагическая судьба Юрия Олеши, который по своей художнической физиологии был, несомненно, большим писателем, в том, что он не стал им, и не стал потому, что никогда не делал ничего сам. Он не был человеком с биографией, в которой играл главную роль. Он был человеком судьбы. Он только плыл, и плыл не к назначенному месту, а туда, куда принесет волна. Он только повторял время, процесс, историю литературы, и поэтому он написал свои лучшие книги, когда все писали свои лучшие книги и когда плохо писать считалось неприличным, и свои плохие книги, когда все писали плохие книги и когда считалось, что следует писать именно так. Судьба Юрия Олеши равна судьбе литературы его времени. Но литература может быть большой только тогда, когда ее мужества хватает на сопротивление расплющивающей силе, уничтожающей главное назначение искусства - говорить правду. Нужно быть мужественным человеком, чтобы иметь талант.
Разрушающее усилие времени прямо пропорционально пределу выносливости художника и обратно пропорционально количеству предъявленных ему обществом требований.
В связи с большим количеством читательских заявок Юрий Oлеша в период, который называется "годы молчания", написал большое количество удовлетворяющих общество художественных произведений.
Из этого следует, что периода "годы молчания" в творчестве Юрия Олеши не было. Были не годы молчания, а годы высокохудожественного писания.
Он стал писать так, как пишут другие.
И когда творчество Юрия Олеши заняло промежуточное положение между творчеством писателя Я. и творчеством писателя Ш. или между творчеством писателя И. и творчеством писателя Н., то стало казаться, будто оно и не существует.
Все, что написал в эти десятилетия Юрий Олеша, имеет значение лишь потому, что дает возможность проследить, как не умеющий и боящийся сопротивляться временным, преходящим обстоятельствам, трудностям, которые нужно мужественно преодолеть, художник поднимает руки и замолкает.
Гибель художника начинается в ту минуту, когда он медленно и неуверенно и с отчаянием толчками приподнимает... поднимает руки.
Остальное все просто: тру-ля-ля! Поднявший руки художник лишь выбирает форму гибели.
Формы гибели художнику предлагаются в ограниченном ассортименте: не писать вовсе, писать "Собирайте металлолом".
Юрий Олеша не пошел привычным путем охотника за слонами: писать "Собирайте металлолом". Он выбрал путь охотника за мастодонтами. Такие охотники пишут вот как: "Удивительным, необыкновенным и поразительным утром как хорошо собирать прекрасный металлолом!"
Для того чтобы, упаси Бог, не подумали, что у него какие-нибудь там сомнения или там неприятный осадок, или еще какая-нибудь гниль, он прибавил третью форму гибели: благородную осанку и четвертую: энтузиазм.
Всегда виноваты вместе: художник и обстоятельства.
Одни и те же обстоятельства одних людей могут заставить делать то, что не следует делать, а других не могут заставить. Обстоятельства преуспевают лишь в том случае, когда им помогают, когда жаждут им покориться, когда их боятся, когда они могут убедить в своей правоте (наиболее редкий случай). Поэтому происходит постоянное маневрирование, передислокация более нужных, менее нужных, мешающих людей. Одни люди выдвигаются вперед, другие отводятся в тыл, третьи уходят со сцены.
Нельзя перекладывать на тяжелые обстоятельства ответственности за все непотребства, которые происходят на свете.
Не перекладывайте на тяжелые обстоятельства свое падение. Человек может вынести все. Может, обязан выстоять и обязан не стать негодяем. А если не вынес, не выстоял, значит, он жалкий человек и плохой художник.
Всегда виноваты оба: человек и обстоятельства.
Всегда в одно время живут убийцы и праведники, растлители и страстотерпцы, палачи и жертвы, сатрапы и мученики, купцы и поэты.
Различные обстоятельства вскармливают, воспитывают, пестуют, ласкают, одаривают, ободряют, удобряют, поливают одних и выталкивают, запугивают, перевоспитывают, унижают, уничтожают, убивают других.
Или одни и те же обстоятельства по-разному действуют на разных людей: одних делают убийцами, других - праведниками, одних - растлителями, других - страстотерпцами, одних - палачами, сатрапами и купцами, других жертвами, мучениками и поэтами.
Поэтому для историка свойства характера его героя не безразличны, и пристальный интерес к социальной устойчивости человека не то же самое, что всестороннее исследование его пиджака.
Даже истинный художник под ударами тягчайших, трагических, катастрофических обстоя-тельств в случаях исключительных, из ряда вон выходящих, искупая вину свою за содеянное преступление всю оставшуюся жизнь, сквозь зубы с отвращением и гадливостью цедит в иной кровью залитый час "собирайте металлолом".
Я допускаю, что это может быть прощено. Но я безоговорочно исключаю, что это может быть оправдано. Это можно простить только когда человек не пытается объяснить свою слабость правом на сдачу и не называет свое падение долгожданным исцелением от слепоты. Можно простить слабое человеческое тело, но оправдать, разрешить ложь нельзя. Содрогнувшись от омерзения, художник, солгав, все оставшиеся ему дни еще громче, требовательнее и взыскательнее обязан говорить правду.
Бывают такие эпохи, когда люди, видя распад и растление общества, не в состоянии вмешаться и этому помешать. Но таких эпох, когда люди не могут хотя бы уйти от соучастия в омерзительном преступлении, нет. У человека может не хватить сил и самоотверженности для борьбы, но должно хватить порядочности и чувства самосохранения, чтобы не верить в злодейство, прикрытое цветочком, не соглашаться с поработителями, помнить, что тебя превращают в соучастника преступления и всеми силами сопротивляться этому, не позволять, чтобы тебя подкупили или унизили, и, если уже всякое сопротивление невозможно, - хранить гордое терпенье. Не каждый человек может стать протестантом и подняться на эшафот, но каждый человек обязан быть порядочным и не помогать злодеям в их деле.
Но ни под пыткой, ни перед казнью, ни по журчащему увещанию безнадежно любимой женщины художник не имеет права написать большое, тщательно обдуманное во всех частях и словах произведение о том, что власть великого ума - прекрасна.
Юрий Олеша, сначала веря, а потом не веря в то, что делает, долго писал большое, тщательно обдуманное во всех частях и словах произведение о том, что власть человека, который принес своей стране и своему народу, другим странам и другим народам столько горя, прекрасна.
Особенность и противоречивость литературной позиции Юрия Oлеши заключалась в том, что, искренне приветствуя и с глубоким удовлетворением принимая концепцию новой эпохи, которая не признает самостоятельно растущих и движущихся линий, он был не всегда в состоянии до конца отказаться от представлений предшествующей эпохи о взаимоотношениях художника и общества.
Взаимоотношения художника и общества в предшествующую эпоху были враждебными.
Неразрешимость неминуемой и столетиями не прекращавшейся борьбы художника и общества были связана с тем, что художник стремился показать общество таким, какое оно есть, а общество требовало, чтобы художник показал его таким, каким оно хочет себя видеть.
Обществу почти всегда действительно удавалось получить то, что оно хочет. Такие удачи были особенно полны и часты в эпохи социального распада и истощения концепции, в эпохи, когда общества уже нет, когда оно съедено государством.
Я все время говорю о таком обществе, которого нет, которое съедено государством.
Совершенно естественно, что общество враждебно художнику и боится его, потому что художник по своей профессиональной обязанности наблюдает за обществом и рассказывает о том, что видит.
Однако в истории борьбы общества и искусства общество не всегда одерживает одни безоблачные победы. Разумеется, каждая реакционная эпоха стремилась уничтожить своих художников, и в зависимости от обстоятельств уничтожала их то более, то менее ожесточенно и с большим или меньшим успехом. Но именно из-за неодинаковой степени ожесточенности в одни эпохи искусство еще могло что-то сказать, а в другие уже ничего не могло. В то же время обыкновенные попытки уничтожить художника голодом, или запретом, или тюрьмой не достигали совершенного успеха. Совершенный успех мог быть достигнут только в одном случае, только в том случае, когда художника удавалось заставить изображать отвратительное общество прекрасным.
В этой никогда не останавливающейся борьбе общества с искусством поражения общества очень редки, и они происходят, лишь когда общество вступает в борьбу с великими художниками, которых очень немного и которых всегда можно перебить. Но до того, как общество сообразит это сделать, великие художники успевают сказать, что они думают, и это в значительной мере снижает ценность убийства. Однако неудовлетворительное течение всемирной истории в большей степени связано с тем, что ничтожное общество, терпя поражение за поражением в схватке с Аристофаном и Лукианом, которые появляются далеко не каждый день, строит стратегию успеха на союзе с художником-прохвостом, и одерживает замечательные победы, выпуская Аркадия Аверченко1 и М. Лифшица2 с фельетонами на великое искусство.
1 Аркадий Аверченко. Крыса на подносе. Юмористический рассказ. "Правда", 1962, 21 декабря.
2 Мих. Лифшиц. Почему я не модернист? - "Литерат. газета", 1966, 8 октября, № 119. Его же. Осторожно-человечество. - "Лит. газета", 1967, 15 февраля, № 7.
Во взаимоотношениях с художником общество решает три задачи: оно стремится приспособить художника для своих нужд, или опровергнуть его, или его убить.
Не имея возможности опровергнуть художника, общество или приспосабливает, или убивает его.
Так как приспособить можно лишь жалкого человека, то убивать, естественно, приходится великого.
Смерть художника всегда вызывает подозрение в преднамеренном убийстве.
Поэтому, когда художник попадает под лошадь, то виноваты в его гибели не он сам и не лошадь, а виновато общество.
Это обстоятельство подробно рассмотрено в романе Мопассана "Сильна как смерть", в котором парижское общество бросает художника под колеса омнибуса, и в романе Голсуорси "Сага о Форсайтах", в котором под колеса омнибуса бросает художника лондонское общество.
История искусства, то есть история борьбы художника с обществом, страшнее, и кровопролитней, и безнадежней, чем принято думать в академических кругах.
Эта борьба так жестока потому, что общество посильно мешает художнику осуществить его неизменную задачу - сказать обществу, что он о нем думает.
И поэтому неоспоримое стремление искусства говорить то, что оно считает обязанным говорить, осуществляется лишь в исключительных случаях.
Такие исключительные случаи называются великим искусством.
Великое искусство редко, единично, разрозненно, прерывисто и неповторимо. Его очень мало, и его влияние на людей преувеличено.
На большинство людей влияет не это уникальное искусство, а искусство широко распростра-няемое, захватывающее население, проникающее в жилища, формирующее мировоззрение, управляющее жизнью человека теми же недостойными способами, какими пользуются церковь, реклама, продажная печать, школа, общественное мнение.
Это ничтожное искусство верно служит реакционному обществу, и сквозь него, сквозь жизнь, полную условностей, неестественности, несправедливости и лжи, великому художнику иногда удается прорваться, оторваться от своего времени, от его требований, от его прихотей, от его потребностей, вырваться и бросить в лицо обществу стих, облитый горечью и злостью.
Тогда создаются "Прометей", "Ад", "Страшный суд", "Гамлет", "Гулливер", "Героическая симфония", произведения Байрона и Гейне, Бальзака, Гоголя, Достоевского, Льва Толстого, Вагнера, Врубеля, Пикассо и Пастернака.
Образ мира в искусстве так редко осуществим, потому что этому сопротивляется всесильное общество, обваливающееся на художника своими армией, церковью, рекламой, карательными органами, соблазнами, прессой, мнением. Лишь художник, отраженный в своем творчестве, оказывается той частицей, по которой восстанавливается бытие его века.
Мы заблуждаемся, преувеличивая познавательное назначение искусства, думая, что важно именно это назначение и что из искусства мы узнаем о том, что такое скупец или страдающая женщина, или бедный чиновник, или лицемер, или патриот. Все это иллюзия. В действительности, мы знаем не скупца, не страдающую женщину, не бедного чиновника, не лицемера, не патриота. Из художественного произведения мы узнаем, что думает о скупце Мольер, какой видит страдающую женщину Гете, каким представляет себе бедного чиновника Гоголь, что знает о лицемере Свифт, какие мысли о патриоте переполняют мозг М. А. Шолохова.
Главная реальность искусства - это личность художника, и поэтому самое естественное, самое органическое и самое выраженное искусство - это лирика.
В связи с этим обстоятельством становится еще более очевидным, что теория искусства не имеет никакого значения, если она не желает быть исторической теорией, а желает навязывать разным временам одинаковые законы. Несмотря на это, некоторые закономерности одной эстетической эпохи могут иметь значение для другой. И поэтому образ Первого Толстяка, образ Второго Толстяка, Третьего, Четвертого, а также образ воспитателя с Первым Клопом на носу, образ воспитателя со Вторым Клопом на носу, равно как и образ королевы Джиневры или резкое изменение в метрике Катулла после путешествия в Малую Азию в свите претора Меммия, 57 г. до н. э. (см. "Аттис"), вне всякого сомнения важны и без них нельзя представить себе серьезного исследования, но в то же время особенный интерес они вызывают именно в связи с проявленной в них личностью художника.
Анализ выдающихся художественных образов лишь малая часть искусствоведческой задачи, сумевшей, однако, под могучим и благотворным влиянием бессмертной науки, проходимой в неполной средней школе, раздавить все другие задачи.
В эпохи, когда искусство уже умерло, искусствоведческие науки продолжают еще некоторое время существовать. Искусства уже нет, а науки о нем еще живут. Они растут, как борода у двух-трехдневного покойника. И на фоне распада, растления и смерти искусства эти пробивающиеся искусствоведческие волосы представляются крайне плодотворными и имеющими громадные перспективы. Прерывисто и быстро пробегают фразы о том, что чем хуже искусство, тем лучше искусствоведение. Не правда ли? Во что превратилась бы жизнь, если бы у людей отняли последнюю надежду? Но главное - это не договаривать до конца. Потому что, если договорить, то может получиться, что искусство растет на своей земле, искусствоведение на своей, интеллектуальное бытие общества разрознено, части его независимы, друг с другом не связаны и гибнут или процветают, когда считают это для себя подходящим.
В эпохи, когда общество уже съедено государством, на обуглившейся, мертвой земле то там, то здесь вспыхивают и мерцают разнообразные иллюзии и затепливаются надежды. Не умея и боясь признаться в том, что война за свободу проиграна, люди дрожащим голосом спрашивают друг друга: - Ведь правда, еще не все кончено? Правда? Было ведь еще хуже? Правда?
Но в самую зловещую, и темную, и безнадежную эпоху остается тайная зеленая лужайка вольной человеческой мысли, и на ней собираются люди, которые думают трезво, знают твердо, говорят строго, что все пороки общества начинаются там, где ущемляется свобода людей и особенно там, где ущемление называется высшей и самой замечательной свободой.
Вот как это происходило.
Семь молодых дам и трое молодых людей приходят на тайную зеленую лужайку и десять дней рассказывают, как безумен, горек, бедствен, жесток, безнадежен, несправедлив и неисправим мир.
Человек, который думал трезво, знал твердо и говорил строго, понял, что без зеленой лужайки вольной человеческой мысли, где каждый имеет право рассуждать, о чем ему заблагорассудится, мир существовать не может.
Он писал:
"Итак, скажу, что со времени благотворного вочеловечения Сына Божия минуло 1348 лет, когда славную Флоренцию, прекраснейший из всех итальянских городов, постигла смертоносная чума, которая, под влиянием ли небесных светил, или по нашим грехам посланная праведным гневом Божиим на смертных, за несколько лет перед тем открылась в областях Востока и, лишив их бесчисленного количества жителей, безостановочно подвигаясь с места на место, дошла, разрастаясь плачевно, и до Запада...
...в начале болезни у мужчин и у женщин показывались в пахах или подмышками какие-то опухоли, разраставшиеся до величины обыкновенного яблока или яйца... а затем признак указанного недуга изменялся в черные и багровые пятна, появлявшиеся у многих на руках и бедрах и на всех частях тела... И как опухоль являлась вначале, да и позднее оставалась вернейшим признаком близкой смерти, таковыми были пятна, у кого они выступали...
...в среду, на рассвете, дамы с несколькими прислужницами и трое молодых людей с тремя слугами, выйдя из города, пустились в путь...
И вот все направились к лужайке с высокой зеленой травой... когда по приказанию избранной на этот день королевы все уселись кругом на зеленой траве, она сказала:
... - Коли вам это понравится, - сказала королева, - то я решаю, чтобы... каждому вольно было рассуждать о таких предметах, о каких ему заблагорассудится"1.
1 Джованни Боккаччо. Декамерон. М., 1955, с. 33, 34, 42, 44-45.
А кругом - чума; бушуют войны, казни, костры, мятежи; стоит церковь, кружит пожар, курятся пепел, песок и зола, и бессмертное учение сияет сквозь мрак.
Но слава Богу, что все это, то есть средние века, уже позади.
Общество не могло примириться с тем, что кому-то удалось избежать всеобщей чумы и рассуждать, как ему заблагорассудится. Оно требовало, чтобы все делали то же дело, какое делает оно, чтобы все были связаны круговой порукой, чтобы некому было судить совершенное преступление. Общество хочет, чтобы художник изобразил его таким, каким оно себе нравится.
В связи с этим иной смысл и назначение приобретает исследование этого общества и, в частности, его искусства.
Смысл и назначение искусствоведческого творчества все больше становится подобным работе художника, потому что искусствовед занят своим предметом лишь для того, чтобы сказать что-то более значительное о других предметах.
Искусствовед, как всякий писатель, разумеется, не безразличен к материалу, который он вводит в исследование. Но сам по себе материал не имеет особенной ценности: он интересует ученого только с точки зрения того, удобен ли он для выражения его намерений или неудобен.
Поэтому исследование творчества Евгения Евтушенко, или Всеволода Кочетова, или других выдающихся представителей интересно главным образом с точки зрения того, сколь замечательно, обильно и полно проступили сквозь них черные и багровые пятна времени.
Писатель и его книги все больше начинают интересовать исследователя лишь как пример, приводимый в доказательство.
Нужно научиться понимать, что литературоведение это не бытовое обслуживание писателя и не бытовое обслуживание читателя, а самостоятельная область культуры. Нужно понять, что научная ботаника не то же самое, что прикладное садоводство, и литературоведение не то же, что самоучитель для начинающего знаменитого поэта.
В самостоятельной области культуры, какой является литературоведение, исследователь пользуется литературным явлением, в том числе и писателем, так же, как сам писатель пользуется облаками, сосной, женской улыбкой, Третьей Пунической войной, стогом сена, разливом реки и другими вещами, с помощью которых он сообщает то, что ему нужно, то, что он хочет сообщить и что, конечно, ни в какой степени не ограничивается облаками, сосной, женской улыбкой, Третьей Пунической войной.
В блестящем и точном исследовании "Цветок" Пушкин обстоятельно говорит о природе художественного намерения, убедительно показывая, что материал это лишь знак, лишь прообраз того, что хочет сказать художник.
Вот что говорит Пушкин по этому поводу:
Цветок засохший, безуханный,
Забытый в книге вижу я;
И вот уже мечтою странной
Душа наполнилась моя:
Где цвел? когда? какой весною?
И долго ль цвел? и сорван кем,
Чужой, знакомой ли рукою?
И положен сюда зачем?
На память нежного ль свиданья,
Или разлуки роковой,
Иль одинокого гулянья
В тиши полей, в тени лесной?
И жив ли тот, и та жива ли?
И нынче где их уголок?
Или уже они увяли,
Как сей неведомый цветок?
Совершенно очевидно, что для автора засохший, безуханный цветок сам по себе не обладает значительной ценностью. Однако ценность засохшего цветка резко возрастает, когда обнаружива-ется, что в нем заложены многочисленные значения. Извлечение их становится задачей художника. Материал, предмет, введенный в художественное произведение, это еще не образ. Это лишь молекула образа, в которой заключены элементы художественного намерения, но которые еще надо высвободить. Назначение материала двойственное: он сам может играть более или менее самостоятельную роль, и он всегда является объектом, из которого извлекаются многочисленные значения. Превращение материала в образ связано с извлечением заложенных в материале значений.
Но другое искусствоведение, выросшее не на покойнике, а на живом искусстве, осколки которого сохраняются даже в самые зловещие эпохи, с презрением отвергает бытовое обслуживание, выходит в самостоятельную область культуры и старается выяснить, как растленное общество уничтожает искусство.
Это искусствоведение знает, чем занимается. Оно занимается исследованием причин, по которым общество уничтожает свое искусство.
Законченное художественное произведение представляет собой испорченный под ударами времени вариант первоначального замысла. Исследователь должен понять, как художник портит свое произведение. Художник, думающий, что он делает то, что хочет, заблуждается: еще до того, как он начал делать, он сам уже искажен обществом, в котором живет и для которого работает. Великое произведение искусства отличается от ничтожного еще и тем, что великий художник может осуществить свой замысел с гораздо большей полнотой, чем ничтожный художник.
Время и произведение связывает судьбы писателя. Писатель принимает на себя воздействия времени и разными способами переводит их в произведение. В зависимости от характера времени и остроты писательского переживания мы получаем то "Фауста", то "Ивана Выжигина".
Время мешает художнику делать его главное, его единственное дело: говорить то, что он думает. Нужно обладать высокой социальной устойчивостью, чтобы не переделать с нужным очищением свою трагедию в историческую повесть или роман наподобие Вальтера Скотта, быть убитым в двадцать шесть лет, не писать "Ивана Выжигина", не славить тирана, не позволять обманывать себя и не позволять себе обманывать других.
Как же обманывает себя и других художник и как черные и багровые пятна времени проступают сквозь искусство?
Это можно понять, внимательно исследуя единственную реальность искусства - личность художника, проявленную в образе.
Искусство мастерски выводит на чистую воду.
При этом с одинаковым мастерством оно выводит не только своих героев, но и своих художников.
Гамлет хорошо знал эту возможность искусства: он заставил актеров играть "Мышеловку" и изобличил сходством короля-убийцу.
Все искусство - это мышеловка, в которую попадают те, кто уклоняется от своей ничем не заменяемой обязанности: говорить правду.
Я заканчиваю книгу о прославленном мастере и еще до сих пор не сказал ничего серьезного о его прославленном мастерстве.
Я умолчал об этом не потому, что пренебрег, и не потому, что меня интересовало иное.
Я не могу дописать последние страницы, не сказав, что произошло.
В замысле этой книги, в ее строении и сюжете спрятана некоторая тайна.
Для того чтобы вы не подумали, что я лучшего мнения о себе, чем предусмотрено кондицией авторской скромности, я скомпрометирую эту фразу иронией. Очень хорошо. Скажем: "роковая тайна".
Итак, в замысле этой книги, в ее строении и сюжете спрятана роковая тайна.
Спрятаны поворот, непредвиденное обстоятельство, нечто иное, что можно было предположить, что так нужно читателю. Убийцей оказывается другой, не тот, кто вызывал самые основательные подозрения. В результате, читатель получает то, что ему совершенно не нужно, нечто неожиданное, дары волхвов, что-то в этом роде.
Я объясню, в чем дело.
У каждого художника есть его выраженная особенность, главное проявление, характерность, отличность, его доминанта. Нужно помнить, что доминанта часто превращается в общее место, в потерявшее смысл словечко, которым перебрасываются люди за чаем, на заседании ученого совета Института мировой литературы АН СССР. Например: "Некрасов - певец скорби народной". Или "Максим Горький - обличитель мещанства" . Несмотря на все это, можно утверждать, что Тютчев по преимуществу философский лирик. Самое неприятное, что общее место мешает сосредоточиться на том, что Некрасов, действительно, певец скорби народной.
Это доминанта не только главное, что сделал художник, но и его репутация, его победа, его поражение, осуждение, тема диссертации о его творчестве, сплетня.
Юрий Oлеша упорным трудом, тяжелой судьбой, многочисленными разговорами на эту тему, тремястами вариантами первой страницы "Зависти" завоевал репутацию тончайшего художника, художника-страстотерпца, художника, в первую очередь только художника, художника и только художника.
Я так и начал книгу об этом человеке.
И такое начало было, конечно, определено тем, что так начинался его литературный путь.
Я не оправдываюсь.
Писатель, о котором я пишу, начал серьезно и хорошо, и если бы в истории литературы дело было только за писателями, то эта история, вероятно, была бы чиста, величественна и прекрасна.
Начинающий автор "Трех толстяков" и "Зависти" обещал многое.
Ливнем метафор омыл художник запылившуюся окружающую действительность. Умытый мир оказался иным, чем о нем привыкли думать, и в романе "Зависть" писателю удалось показать таких людей и такие события, которые под слоем обычной литературы выглядели несколько по-другому и часто куда привлекательнее. Художник осмелился сказать, что эта привлекательность лжива. Это было мужественным поступком, заслуженной удачей, смелым шагом в литературе, изнемогающей от ответственности и поэтому не имеющей права передоверить читателю ряд важнейших вопросов.
После "Зависти" при совершении мужественных поступков и смелых шагов все чаще стали возникать некоторые трудности, которые писатель не всегда с легкостью преодолевал. Поэтому он стал избегать мужественных поступков.
Маленькая тайна этой книги, спрятанный в ней поворот, нечто иное, что можно было предположить, неожиданное разрешение, убийца, которого невозможно было заподозрить, дары волхвов, преподнесенные читателю как раз в том, что прекрасным писателем был не Юрий Олеша.
Прекрасными писателями были: Борис Пастернак, Осип Мандельштам, Анна Ахматова, Исаак Бабель, Андрей Платонов, Евгений Замятин, Михаил Булгаков.
Никакого отношения к ним писатель Юрий Олеша не имеет.
Юрий Олеша имеет отношение к другим писателям.
Он имеет отношение к Илье Эренбургу, Виктору Шкловскому, Константину Симонову.
У Юрия Олеши есть с ними нечто общее, как, например, у всех представителей отряда хоботных - слонов, мамонтов, мастодонтов.
В связи с этим произошло несколько серьезных недоразумений.
Сорок лет человеку восторженно, а в иные годы и самоотверженно дарят цепочку, а часов у него уже довольно давно нет.
В 1934 году продал свои часы Юрий Олеша. Совсем задаром.
Художник не сумел до конца выполнить свое назначение.
Юрий Олеша думал, что это он сам во всем виноват.
Он не был особенно силен в вопросах социологии творчества.
В связи с этим он перекладывал с больной головы на здоровую.
Он думал о том, что не владеет секретом ремесла. Но думать нужно было о том, что разрушены концепция и надежда, иссякло искусство, кончилась жизнь.
Олеша пытался объяснить, что с ним происходит:
"Некоторые, задумав какую-нибудь вещь, садятся к столу и пишут страницу за страницей. Это свойство кажется мне замечательным, и мне хотелось бы этим свойством обладать.
Я так работать не умею. Когда я пишу, мне обязательно должно нравиться то, что я пишу. Я не умею работать так, когда вещь сначала набрасывается, а потом отделывается. Я могу двигаться дальше только в том случае, если оставшаяся позади строка удовлетворяет меня вполне. Это приводит к тому, что работа становится очень медленной, кропотливой, утомительной. И в результате, - написав очень немного, - я вещь бросаю"1.
Проходит четверть века, и писатель снова говорит о том, как беспокоят его вопросы писательской технологии:
"Меня сейчас интересует только одно - научиться писать много и свободно"2.
1 Ю. Олеша. Три отрывка. - "Тридцать дней", 1934, № 3, с. 25.
2 Юрий Олеша. Ни дня без строки. - "Октябрь", 1961, № 8, с. 136.
Все это, может быть, и не вызывало бы страстного научного интереса и не вышло бы за пределы еще не получившей необходимости развития дисциплины, изучающей этимологию циклических застоев в творчестве Олеши, все это, может быть, осталось бы лишь частным случаем, который величайший знаток тайн художественного творчества Г. Гейне определял как "запор пенья"1, если бы синусоида судьбы Юрия Олеши не была слишком симптоматичной, тревожной и характерной.
В годы, когда чисто художественные задачи еще играли существенную роль, Юрий Олеша сделал героическую попытку превратить искусство только в метафору. Он был уверен, что настоящая литература должна быть такой: философские проблемы, утопающие в необыкновенных метафорах.
Эта попытка принадлежит к числу тех прекрасных ошибок, без которых человечество было бы лишено всего удивительного и поражающего в искусстве, которое, как известно, представляет собой цепь ужасных заблуждений, кричащих противоречий, чудовищных промахов, кроме, разумеется, того искусства, которое никому не нужно и которое помогает все делать правильно.
Метафора автора "Зависть" обладала высокой значительностью, потому что она связывала сходством разрозненные части мира, устанавливала зависимости и определяла взаимоотношения явлений.
В сложной, ветвящейся и точной системе метафор стянуты герои романа. Их связи, узы, неистовость, ненависть переведены на плоскости и точки, разнообразно перемещающиеся в пространстве и вычерчивающие схему взаимоотношений людей разных дорог, врагов, пересекающих друг другу пути, перечеркивающих судьбу друг друга.
Художественное открытие заключалось в том, что была создана метафорическая система, которая определяет взаимоотношения героев, выражает структуру романа и предрешает его исход. В такой системе вещи сравниваются как бы легко и как бы без специального намерения.
Все это было в пору, когда Юрий Олеша ужасно заблуждался касательно роли и места метафоры в художественной литературе.
Это было в те давние, забытые и пугающие годы, когда у него еще оставались концепция и надежда.
Когда же концепция раскрошилась и рассыпалась, а надежда была утрачена, метафора потеряла свое высокое назначение и превратилась только в уподобление по сходству.
"Ливень ходит столбами за окнами, прямо-таки столбами. Похоже на орган"2,- уверяет теперь Олеша.
1 Г. Гейне. Поли. собр. соч. в 12-ти т. Т. 3, М.-Л., с.314.
2 Юрий Олеша. Ни дня без строки. - "Октябрь", 1901, № 8, с. 148.
Новая метафора, не обеспеченная активами и золотым запасом серьезных и не испуганных мыслей, претерпела инфляцию. Было выпущено слишком много, чересчур много метафор, было упущено слишком много возможностей, истощилась короткая вера в свою правоту. Вокруг явления и вещи утрачивали связь, люди разбредались, расползались в стороны.
Ходит столбами ливень за окнами кафе.
Стоит орган за стенами консерватории.
Сидит писатель за своим столом.
Ничто не соединяется, все смотрит в разные стороны, все рассыпается под руками. Где-то в огороде растет бузина. Далеко в Киеве живет дядька. Сидит за своим столом писатель.
Смешно пререкаться с метафорой. Доказывать, что метафора хорошая, следует лишь в том случае, когда метафора плохая.
Юрий Олеша сделал замечательную метафору. Я сейчас докажу вам. В самом деле: когда очень сильный дождь, то может показаться, что потоки его похожи на трубы органа. По-моему, очень хорошо. Правда?
Сравнение дождя с органом так замечательно потому, что из всех ассоциаций, которые вызывает слово орган, главные связаны со звуком, музыкой, собором, католической мессой, а слово дождь вызывает ассоциации, преимущественно связанные с движением линий, водой, шумом.
Но слово орган (по крайней мере, в первом впечатлении) вызывает звуковой образ, а дождь зрительный. Олеша чувствует это и вводит "столбы". Таким образом, он сравнивает сначала дождь со столбами, а потом уже столбы дождя с трубами органа. Это он оправдывается. Во всей метафоре второстепенное связывается со второстепенным. В этой необыкновенной метафоре сделана попытка связать трубы, собор и католическую мессу с движением линий, водой и шумом. Начинается разговор на разных языках: католики не понимают, зачем в собор напустили воду, органист возмущенно захлопывает инструмент - ему мешает шум, судья решает женить молодца, несмотря на виновность девки, а редактор ставит вопрос: зачем орган?
В новой метафоре Юрия Олеши соединены слишком малые площади сходств. Все, что лежит вне этих едва заметных подобий, в соприкосновение не вступает. В метафору не попадает большая часть вещи. Уподобление едва держится; оно вертится на одном гвозде. Писатель неистово заколачивает гвоздь в пыль, прах, ложь.
Падает рука.
Юная, героическая и несбыточная попытка заставить человечество поверить, что искусство это только метафоры, теперь могла быть со всей убедительностью опровергнута. И, ставший, наконец, серьезным человеком, Юрий Олеша решил писать замечательно.
Умирал он долго и тяжело.
Я заканчиваю книгу, и истончившаяся тема прорывается, иссякает под рукой.
После всего того, что я написал об этом человеке, только безнадежный сноб, я бы сказал даже - локальный интеллектуал, может требовать от меня обстоятельного анализа так называемых "особенностей художественного мастерства".
Я написал книгу о гибели человека, которого гнали к гибели и который сам охотно шел к ней, а вы интересуетесь, что он предпочитал: синекдоху или метонимию.
И, может быть, этот анализ действительно невозможен или не нужен, или не очень нужен, когда решаются судьбы человеческих обществ и еще многое в грядущей истории остается не до конца ясным.
В самом деле, предшествующие исторические периоды были характерны тем, что в отдельных случаях оказалось загажено такое невычисленное число человеческих душ, памятников духовной и материальной культуры языческой и христианской эпох, такая неисчисленная сумма племен и народов, погибших и еще живущих цивилизаций, сокровищниц мудрости, произведений искусств, религиозных чаяний, подвигов и жертв, душевной чистоты, гуманности, отзывчивости и самоотверженности, такой пронзительный и густой запах недвижно стоял над Планетой, что обляпанному с ног до головы человечеству всю грядущую историческую эпоху предстоит заниматься не теоретической поэтикой, а поиском принципиально новых решений в оснащении ассенизационного парка. Может быть, может быть.
В эпохи, когда еще многое остается неясным, в частности, какой оборот примет мировая история ближайших столетий, не покажется ли неуместным, даже навязчивым вопрос о том, что писатель предпочитал: синекдоху или метонимию? Можно ли говорить, когда половина Мироздания рушится и гибнет, когда попираются заповеди и законы, когда грохочет несправед-ливость и литавры лицемерия гремят победу, можно ли говорить о метафоре?
В связи со всем изложенным нельзя не сказать о метафоре.
Анализ метафоры, возникающий в разных обстоятельствах, неминуемо оказывается анализом очень разных вещей. Анализ метафоры Юрия Олеши быстро исчерпывает собственно метафору и становится анализом пути метафоры, сначала связывавшей в единство разрозненные части мира, а потом деловито и шумно начавшей соединять вещи, которые не соединяются, у которых нет связи и сходства, которые говорят на разных языках, ненавидят друг друга. История метафоры Юрия Олеши это история нарастающего неблагополучия его метафоры.
Юрий Олеша последовательно и методично становился плохим писателем. И метафоры Юрия Олеши становились все хуже, как становилось все хуже и все лицемерней его искусство и как все незначительней, и лживей, и безвыходней становилась его судьба.
Исследование метафоры (метонимии, синекдохи) в современном литературоведении имеет значение главным образом в связи с тем, как в ней проявлен художник и через художника - время.
В разные эпохи художник важен разными проявлениями. Нет художественных ценностей, одинаково дорогих для всех времен и народов. Каждый век настаивает на том, что ему нужно, и выбирает из прошлого то, что его интересует. В одну эпоху решающее значение имеет создание глубочайших социально-психологических полотен, в другую важнее всего становятся сладкие звуки и молитвы, третья эпоха обновляется эвфуизмами и гонгоризмами, а в четвертую не имеют значения ни эпопеи, ни эвфуизмы, но имеет значение путь художника на костер.
Юрий Олеша не внес существенного вклада в область метонимии и синекдохи, сыграл прогрессивную роль в качестве примера гибели художника, не сумевшего и побоявшегося восстать против методического разрушения нравственности, демократии, национальной культуры.
История Юрия Олеши - это история его умирания.
Поэтому я не очень подробно останавливался на так называемых "художественных особенностях творчества писателя" и даже не очень обстоятельно на художественных произведениях, написанных им. Я не останавливался на этом, чтобы выделить главное, чтобы показать, что Юрий Олеша важен не своими блестящими и традиционными метафорами, а дорогой к гибели, по которой его гнали в два кнута обстоятельства и переходящая из поколения в поколение неубывающая потребность в кнуте. Юрий Олеша интересен и важен не той науке, которая, как вы полагаете, специально существует, чтобы изучать творчество Юрия Олеши, - не литературоведению. Юрий Олеша просто создан для того, чтобы стать типичным представителем и объектом самого пристального изучения совсем другой науки - истории русской интеллиген-ции 20-50-х годов. Вот здесь он типичный представитель и объект.
Вы, вероятно, думаете, что я просто гоняю пожилого человека из одного учреждения в другое, из истории русской литературы в историю русской интеллигенции. Нет, конечно. У меня совсем иная задача, и я ее сейчас изложу.
Я так мало говорил в этой книге о том, что привычно называется "прославленным мастерством замечательного писателя", не только потому, что Юрий Олеша интереснее по другому ведомству, но потому что его значение в истории литературы преувеличено, а в истории русской интеллигенции преуменьшено.
Это преувеличение было необходимо, потому что в кругу интеллигенции, где оно возникло, ощущалась острая потребность в глубокоуважаемом образце и нескомпрометированном мученике.
В обязанности глубокоуважаемого образца и нескомпрометированного мученика входило: проникновенно выражать мысли и чувства этой интеллигенции; достойно представительствовать за границами своего круга. В связи с этим писатель обставлялся дорогими эпитетами ("замечате-льный", "удивительный", "поразительный", "необыкновенный" и "совершенный"), как посольские апартаменты роскошной мебелью.
Юрий Олеша справлялся со своими обязанностями очень хорошо. То есть он выполнял возложенную на него историей миссию сообщать мысли и чувства интеллигентов определенного круга, а также заставлять считаться с собой людей, привыкших считаться только с дубиной.
Но, кроме аккуратности, для успешного решения такого вопроса необходимо, чтобы людям, выдвинувшим Ю. К. Олешу на ответственный пост, не так уж много требовалось.
О каких же интеллигентах писал Юрий Олеша и в чем причина противоречивости, двойственности, невнятности, лицемерности и бесплодности его позиции?
Юрий Олеша писал об интеллигентах, которым требовалось, чтобы все думали, какие они благородные, искренние, интеллектуальные и чистые люди, которые с восторгом приветствуют или с негодованием отвергают только по глубокому внутреннему убеждению.
Это были простые, хорошие, честные представители, и они, несомненно, заслужили самого положительного мнения, потому что не позволяли себе никаких безобразий, а были заняты тем, чтобы как-нибудь усидеть между двумя стульями, "да" и "нет" не говорить, бросать в лицо жуликам и расхитителям государственной собственности вызов, пронести сквозь бури и катак-лизмы века высокую культуру внутреннего самоуважения и чувство собственного достоинства.
Эти люди сначала настороженно и неодобрительно отнеслись к революции, потом примирились с нею, поскольку больше ничего не оставалось, потом стали проявлять все возрастающий энтузиазм. Однако они резервировали за собой право критически относиться к некоторым вопросам. Например, к политике в отношении интеллигенции. Потом они примири-лись с некоторыми вопросами, например, с политикой в отношении интеллигенции, поскольку больше ничего не оставалось, но резервировали за собой право скептически относиться к установлению некоторых нравственных норм. Потом они примирились с некоторыми нравственными нормами, поскольку больше ничего не оставалось, но резервировали за собой право саркастически относиться к явному преобладанию вокальной музыки над инструменталь-ной. Потом они примирились с преобладанием вокальной музыки над инструментальной, поскольку больше ничего не оставалось, но резервировали за собой право сардонически относиться к технологии производства колбасы. Прошло немного времени, и они примирились с тем, что у них отняли право резервировать, скептически относиться, критически относиться, саркастически и сардонически, и оставили только право безоговорочно соглашаться. Вот тогда они поняли, что созданы специально для этого.
Это были замечательные люди. У них была совесть со всеми удобствами: с мусоропроводом и раздельным санузлом.
В подобных случаях следует настойчиво искать исторический прецедент. Как всегда в истории, это сделать очень легко: рядом с декабристами, Герценом, петрашевцами, всегда были люди безразличные, готовые на многое, всякие1.
1 См. Ю. Г. Оксман. Белинский и политические традиции декабристов. В кн.: Декабристы в Москве. Сборник статей. Выпуск VIII, М.., 1963.
Они имели весьма длинную традицию и часто глубокий корень. Черные и багровые пятна времени отчетливо проступают сквозь их поступки и мысли.
Социальные детерминации, исторический процесс, общественный фактор, экономические двигатели, психологические импульсы, социологические стимулы делали в прошлом этих готовых на многое людей левой русской интеллигенцией. Аналогичные обстоятельства делали других готовых на многое - правой русской интеллигенцией. Как это получается? Очень просто. Ну, вышел человек из корпуса, из пансиона (еще никакой - ни левый, ни правый) в жизнь. Денег нет, связей нет. Куда податься? Ну, идет в либералы. Другой идет в реакционеры. Какое это имеет значение? Ведь и те и другие дружно делают одно дело.
Да ведь все это никого и не удивляет.
В истории русской интеллигенции были разнообразные люди, и нельзя утверждать, что Чаадаев и Герцен чаще всего попадаются нам на дороге. Иногда даже начинает казаться, что наталкиваешься преимущественно совсем на другие объекты. Замечательные писатели, на которых все мы воспитаны, чрезвычайно удачно осветили эти вопросы нашей духовной жизни. Так, в частности, очень хорошо осветил А. П. Чехов.
"Не гувернер, а вся интеллигенция виновата, вся, сударь мой. Пока это еще студенты и курсистки - это честный, хороший народ, это надежда наша, это будущее России, но стоит только студентам и курсисткам выйти самостоятельно на дорогу, стать взрослыми, как и надежда наша и будущее России обращается в дым... Я не верю в нашу интеллигенцию, лицемерную, фальшивую, истеричную, невоспитанную, ленивую, не верю даже, когда она страдает и жалуется, ибо ее притеснители выходят из ее же недр"1.
1 См. Ю. Г. Оксман. Белинский и политические традиции декабристов. В кн.: Декабристы в Москве. Сборник статей. Выпуск VIII, М. 1963.
Между тем темным миром, в котором писатель жил, и тем светлым миром, о котором писатель писал, существовала строгая и прямая зависимость: чем более темным становился мир, в котором писатель жил, тем более светлым становился мир, о котором писатель писал.
Он плыл в барже эпохи и не стремился переложить руля. Он катил в омнибусе отечественной словесности и не пытался повлиять на маршрут. Он понимающе улыбался, когда требовало время, приплясывал, когда вынуждали обстоятельства, кивал, когда диктовал исторический процесс. И вообще он жил так, как будто бы его самого, его воли, его власти не существовало, а существовали только: эпоха, обстоятельства, закономерность, необходимость, процесс. Он не понимал, не хотел, боялся понять, что вся эта социологическая империя была заложена, обнесена могучими стенами и окопами, зияющими рвами для того, чтобы не дать вздохнуть, оглядеться, задуматься, посягнуть на священные традиции, сверкающие идеалы, ослепительные вершины и величавое прошлое. И он делал приятное выражение лица и делал неприятное выражение лица, ловил колокольщиков ("петля готова" для Герцена и его друзей), выскакивал на улицу, приветствуя победы, кричал, молчал, шептал, свистел, аплодировал, проявлял энтузиазм, шаркал ножкой, сиял от счастья, гнулся, барахтался, умилялся, рычал, хохотал, ликовал, ползал, выражал восторг и негодование, презрение и одобрение, отвращение и восхищение, почтение, огорчение и умопомрачение.
Юрий Олеша в отличие от Валентина Катаева не получил денег и в отличие от Маяковского не получил пули.
Юрий Олеша вообще ничего особенного не получил. Разве что возможность напечатать несколько плохих рассказов, которых он сначала стеснялся, а потом забыл, что стеснялся, примирился, стал защищать их, начал дорожить ими, бояться и ненавидеть людей, с тревогой вчитывавшихся в эти рассказы.
Он был жалкий человек, и не отчаяние, и не беспомощность, а равнодушие привели его к гибели.
Выстрел в грудь прощает многое, и человек, выстреливший себе в грудь, сразу перестает быть автором "Стиха не про дрянь, а про дрянцо" и снова становится автором "Облака в штанах".
Короткая линия, которую прочеркивает пуля, перечеркивает десяток плохих строк и подчеркивает не один десяток хороших.
Выстрел в сердце обладает высокими свойствами осуждения своих ошибок и показывает, как велика разница между заблуждениями, искупленными кровью, и ложью, прикрытой умением сделать вид, что все прекрасно и что именно к этому веками стремились лучшие умы человечества.
Художника убивают не скверное самочувствие, не дурное настроение, не насморк, не горькая неразделенная любовь, хуже которой ничего не бывает. Художника убивает не беспросветная нищета, не статейки, не отсутствие статеек. Художника убивает всегда, во все времена враждебное искусству общество. За шесть месяцев до своей смерти, в преддверии ее, Александр Блок трижды повторил и один раз написал: "И Пушкина тоже убила вовсе не пуля Дантеса. Его убило отсутст-вие воздуха"1.
1 Александр Блок. Собр. соч. в 12-ти т. Т. 8, Л., 1936, с. 144.
Общество убивает прямо, а не с помощью какого-то насморка, дурного настроения, безнадежной любви, петербургской холеры (июнь 1831 г.) и прочего, что никак не может убить других, у кого есть и насморк, и приступы дурного настроения, и даже безнадежная любовь, хуже которой ничего не бывает, и кто при всем этом пребывает в хорошем социальном самочувствии и в добрых отношениях с обществом.
Я так обстоятельно говорю о корне происхождения олешинских интеллигентов, потому что восполняю пробел. Ведь даже грудному ребенку ясно, что история русской интеллигенции еще ждет правильного освещения, а история советской интеллигенции, в сущности, даже не начата. Время властно диктует необходимость быстро и безошибочно отличать Елену Гончарову от дяди Степы С. Михалкова.
Каждое десятилетие имеет своего поэта, и по тому, каков этот поэт, кого выдвигает время и кого оно заталкивает на чердак, - нужно судить о десятилетии.
Концепция поколения 20-х годов оказалась слишком быстро исчерпанной. Человек 20-х годов как-то сразу остался совершенно без концепции.
Испуганный необходимостью снова что-то решать, интеллигент-предшественник некоторых героев Олеши примирился с тем, что у него есть проклятый вопрос.
Проклятый вопрос был такой: принимать интеллигенту советскую власть или не принимать.
Но это было иллюзией, фикцией концепции, потому что этот вопрос всегда возникал тогда, когда уже нельзя было и не нужно было выбирать.
Интеллигент-предшественник всю жизнь, как всякий человек с несобственным отношением к миру, ничего не выбирал, а только повторял за теми, чей опыт казался ему удачным.
Он был эпигоном.
Интеллигент-предшественник всю жизнь, как всякий человек с несобственным отношением к миру, ничего не выбирал, а только повторял за теми, чей опыт казался ему удачным.
Он был эпигоном.
Интеллигент-предшественник ставил проклятый вопрос.
Его не жгла жажда свободы. Он слышал о том, что человек должен быть свободным (об этом мечтали лучшие умы), но что значит - быть свободным?
Человек, задавший такой вопрос, обречен.
Он обречен на то, чтобы согласиться с тем, что абсолютной, абстрактной, безусловной, полной и прочей свободы не бывает.
Поэтому он считает, что можно быть рабом.
Все дело в том, прогрессивно ли это или не прогрессивно.
Можно знать мало. Можно не знать сложных вещей, на которые не хватит времени, сил и ума. Но самые простые и самые важные мысли-заповеди обязаны знать все.
Все должны знать, что человек обязан быть свободным.
Потомственные трусы и болтуны, в научной литературе обычно именуемые левой русской интеллигенцией, кривлялись во все эпохи, лицемерили во всех обстоятельствах, каялись и плакались при всех условиях, произносили патетические монологи, совершали классицистические жесты и делали то, что им велят делать.
Юрий Олеша с прекрасным знанием предмета освещал психофизиологические процессы изучаемой прослойки и показывал занятные спектакли из ее жизни. В этих спектаклях была, несомненно, своя своеобразная красота. Итак, Юрий Олеша показывал: "Список благодеяний, или Мучительные переживания", "Я смотрю в прошлое, или Преодоленные заблуждения", "Строгий юноша, или Служение высшей правде", "День мира, или Новая вера". Это, знаете ли, не так мало для одного человека. Это, знаете ли, чуть ли не годовой репертуар театра (второго пояса). Махнув рукой на все, Юрий Олеша жонглировал над бездной.
Все это он делал именно с тем прославленным мастерством, о котором всегда писали с глубоким уважением, почтительно и с пиететом и в доказательство приводили длинный список блестящих метафор.
У Юрия Oлеши хватило бы блестящих метафор хоть на десять критиков!
Но исчерпывается ли искусство блестящими метафорами?
В определенные эпохи и для определенного круга людей исчерпывается.
Были эпохи, удовлетворяющиеся бурлеском и фарсом, мелодрамой и макаронической поэмой, эвфуизмом, гонгоризмом.
Чем меньше нужно кругу, который выражает художник, тем меньше его искусство.
Тот круг интеллигенции, о котором писал Юрий Олеша, со всей полнотой мог быть выражен одними блестящими метафорами.
Общественные представления этих людей, не приставших сначала ни к какому берегу, были лишены не только значительности, но и ясности. Невозможность социального самоопределения вызывала постоянное перемещение мировоззрительных соков. (Характерно, что сам Олеша в годы, когда вся литература раздробилась на группы, не вошел ни в одну из них.)
Не очень большие идеалы людей, о которых писал Юрий Олеша, требовали не очень большого и очень аккуратного мировоззрения. Это мировоззрение было занято поиском наиболее простых путей для упорядочения взаимоотношений с окружающей действительностью. Ни о каких значительных концепциях, вступающих в противоречие с окружающей действительностью, конечно, не могло быть и речи, и поэтому в больших или меньших количествах эти люди ассимилировали близлежащие концепции. В одном из употребительнейших слов десятилетия - "попутчик" - в известной мере уловлены взаимоотношения этих людей с окружающей их действительностью. Попутчик ехал в одном купе с настоящими людьми, в одном поезде с ними и в одном направлении. Он ничем не отличался от полноценных пассажиров, кроме чрезвычайно сложной душевной организации.
Этому кругу хотелось без особенных хлопот убедиться в том, что мир прекрасен, строен, гармоничен и целостен. Иначе все превращается в ужасную ошибку. Для того чтобы ошибки не было, пришлось решить, что "мы должны идеализировать". Если же хорошо устроенного мира не оказывалось, то его следовало выдумать. В создании картины выдуманного мира ответственная роль играла метафора.
Для выражения этих идей и этих надежд метафора так необходима, потому что она соединяет самостоятельно растущие и движущиеся линии в единый рисунок жизни. Социология метафоры Юрия Олеши связана с задачей убедить в том, что никакой ошибки не произошло, что история развивается так, как она должна развиваться, что именно такое развитие и было предусмотрено.
Лишь малый и тихий мир в летний солнечный безветренный день и лучше пораньше до утренних газет, тот мир, который они должны, они вынуждены идеализировать может быть при осложненной глухотой слепоте представлен в качестве чего-то такого, что иной раз способно вызвать у очень открытых радостям жизни людей нечто вроде полуулыбки и показаться соразмерным и связанным в частях, как это имеет место в метафоре.
Стремление Юрия Олеши к прозрачной и призрачной гармонии мира в век неумолкающих социальных потрясений, вероятно, следует объяснять не эстетикой, а услужливостью.
Отчаянная попытка окончательно гармонизировать действительность привела к локальной метафоре конструктивистов. Эта метафора предельно сузила мир, сделала его тесным, малым и замкнутым. Как забор, обступила локальная система каждое слагаемое произведения. Сравнивае-мые предметы связывались только между собой, общение с другими им было запрещено. Это стилистическое кровосмесительство привело к вырождению.
Следует пояснить, что каждая метафора в отдельности не может и не стремится исчерпываю-ще выполнить свое назначение - связывать предметы и явления. Лишь в значительных массах эта тенденция является господствующей. Я говорю о значительных массах метафор, о метафоричнос-ти, а не об отдельных случаях, которые могут быть какими угодно. Поэтому доказать или опровергнуть сказанное можно не примером, а подсчетами, на большом материале. И пример, который я привожу, служит не доказательством, а лишь показывает тенденцию. "Я выглянул из кибитки: все было мрак и вихорь. Ветер выл с такой свирепой выразительностью, что казался одушевленным..." говорит писатель, у которого метафора не господствует. Ни о каком намерении у такого писателя выдать метафору за все искусство не может быть и помысла. Но в речи Юрия Олеши, у которого метафора царит безраздельно и становится равнозначной искусству, ее первоначальное назначение обнаруживается со всей очевидностью.
Безраздельно царящая метафора у Юрия Олеши не была ни условием, ни ошибкой замысла. Она была свойством стиля, то есть формой выражения мыслей и чувств определенной группы людей в искусстве. Обильная, отягчающая страницу метафоричность была стилем, и этот стиль боролся с другими - с классицизмом1.
Взаимоотношения искусства и революции были поняты очень скоро и определены безукоризненно точно:
"Революция в искусстве неизбежно приводит к классицизму". "Классическая поэзия - поэзия революции"2.
1 Я не верю в то, что может быть какой-нибудь другой классицизм, кроме исторического классицизма, который был во Франции XVII-XVIII веков, в России XVIII века. Пользуюсь этим словом в том привычном значении, какое ему придает домашняя речь.
2 О. Мандельштам. Слово и культура. В кн.: "Дракон". Альманах стихов. 1-й выпуск. Пб., 1921, с. 75, 78.
Это в 1921 году сказал Осип Мандельштам, который знал, что такое классицизм и что такое революция, но еще не знал, что может стать с революцией.
Поэтому мысль Мандельштама распространяется только на искусство революционной эпохи.
Десять лет длилось иссякание революции, и к концу ее классическое железо было схвачено орнаментом, фестончиком, помадой и кремом, глазками и лапками барокко.
В борьбе с классицизмом выковывалось и мужало новое барокко.
Новое барокко вело себя двойственно: оно создавало большое искусство и пыталось подновить старое.
Уже тогда становилось ясным, что значение Маяковского в русском искусстве коротко и ничтожно, потому что в послереволюционном государстве одним претил его стиль революционера, другим претила революционность стиля.
Это уже выходило за ограниченные пределы барокко и целиком может вместиться лишь в безбрежных далях социалистического реализма.
Именно в это время и произошло второе рождение моего героя, но в процессе второго рождения что-то было упущено, в результате чего мой герой оказался бесплодным.
Однако раньше, чем подробно остановиться на том, как все это произошло, я вынужден сказать несколько слов о морфологии и социологии стиля.
Четверть века пристально и напряженно занимаясь теорией стиля, в частности, теорией социалистического реализма, я лишь в конце прошлого года позволил себе окончательно сформулировать, как мне кажется, достаточно строгое и академическое определение.
Это определение таково:
"Социалистический реализм это искусство, которое понятно и нравится руководителям партии и правительства в периоды между пленумами по идеологическим вопросам".
Я не претендую на то, что это определение исчерпывает все многообразие и грандиозность явления. Но я полагаю, что оно обладает, как мне кажется, необходимой научной строгостью и полнотой, чтобы служить не одному поколению эстетиков и широких масс, занятых подлинно научной разработкой теории социалистического реализма.
Скромно высказанная мною гипотеза с быстротой молнии, как это всегда бывает с подлинно научными открытиями, вышла за пределы узкого академического круга.
Можете представить себе мое удивление, когда гардеробщица, правда, академического института, но все-таки гардеробщица, тетя Маня, входит и объявляет:
- Здрасьте, пожалста. Новый анекдот. Армянское радио спрашивают: - Что такое соцреализм? Отвечаем.
Я с горечью думаю: не для того двадцать пять лет, иногда в кошмарных условиях, работал я над теорией стиля. Не для того...
Я решительно возражаю против столь некомпетентного вторжения. Можно быть не согласным со мной, можно возражать, но превращать двадцатипятилетнюю работу человека в пошлый анекдот недостойно даже так называемых специалистов по русской литературе за рубежом, а не только нашей, воспитанной на наших идеях гардеробщицы академического института тети Мани!
Перехожу к следующему вопросу.
Каждый день, в труде и хлопотах выполняя и перевыполняя план по мелкой и крупной лжи, человечество оказалось вынужденным как-то упорядочить это дело.
В процессе дифференциации и центрифугирования обнаружилось, что есть хорошая и есть плохая ложь.
Ложь может быть прекрасной.
Пушкин написал трагедию, в которой человек, чтобы стать царем, убивает девятилетнего мальчика.
Ничего подобного этот человек не делал, но истину произведения это не колеблет.
Но ложь может быть прекрасной лишь тогда, когда художник в нее верит, когда он не знает, что она ложь.
Поэтому "Страсти по Матфею" были гениальным произведением, а торжественная увертюра "1812 год" - очень нужным.
Нужно верить в то, что делаешь. И люди, которые делали революцию, верили в то, что они делали.
Говоря о прекрасной лжи, я имею в виду лишь некоторые ее преимущества перед отвратительной ложью.
При всех обстоятельствах, если есть выбор между самой прекрасной ложью и самой скромной правдой, я предпочитаю самую скромную правду.
Но, выбирая между человеком, который обманывает других, и человеком, который обманывает только себя, я уверенно отдаю должное второму.
Юрий Олеша писал все хуже, потому что все меньше верил в то, что писал.
Поэтому я видел свою задачу не в том, чтобы говорить о маленьком искусстве Юрия Олеши, но о том, что должно было произойти, чтобы величайшая национальная культура выделила в качестве своей интеллектуально-нравственной элиты ничтожных людей, предавших все и на все согласных, разучившихся ненавидеть и не любящих никого на свете, готовых подличать за большие деньги и даром, не дорожащих ничем, кроме своего спокойствия, задерганных, изверившихся невротиков, мелких предателей, ханжей, угодников, лицемеров, лжецов, льстецов.
Юрий Олеша в это время стал создавать произведения-тосты за здоровье, успехи и процветание представителей различных слоев населения.
Это не нужно доказывать. Нужно спокойно перечитать оглавление однотомника Юрия Олеши: "Три толстяка", "Зависть", "Лиомпа", "Строгий юноша", "Друзья"... Ничего не нужно доказы-вать... Превосходны записи "Ни дня без строчки". Но разве их художественное и общественное значение может сравниться с "Завистью", вызвавшей бурю? Каждый писатель переживает удачи и поражения. У одних писателей удачи бывают в начале пути. У других писателей удачи бывают в конце пути. Совершенно верно. Я пишу о писателе, у которого удачи были в начале пути. Но, увы, как часто у нас не хватает самоотверженности понять, что наш писатель не отменяет, не оттесняет и не перечеркивает всю остальную литературу. Как часто у нас не хватает самоотверженности... И тогда мы пишем книги о том, что замечательный писатель в своих замечательных произведениях замечательно отразил.
Юрий Олеша не стал великим художником, потому что понятия "великий художник", "большое искусство" безоговорочно подразумевают не только свежее восприятие мира, но и независимое отношение к нему. Юрий Олеша был прекрасным мастером метафор. Этого недостаточно для того, чтобы стать прекрасным художником.
Для того чтобы стать великим писателем, нужно увидеть мир, решительно отстранив выставленные перед истиной шумные пустяки, назначение которых в том, как видит и понимает его новая живопись, открывающая за плоскостями и объемами первого плана, призванного прятать все остальное, старательно скрытую истину. Великий писатель должен обладать добротой, беспощадностью, храбростью, самоотверженностью и волей, чтобы с презрением отвергнуть мнение советчика, повисшего на его ухе.
Он был талантливым и осторожным человеком, в искусстве которого все соотнесено с обстоятельствами.
Как многие люди его душевной конституции, хорошее он делал, когда это не возбранялось, и не очень хорошее, когда это стимулировалось. Он не был лучше, талантливее и смелее других; он был умнее.
Поэтому он не позволял себе больше энтузиазма, чем это требовалось, и поэтому его падение не было слишком шумным и слишком заметным, как у других. Он был человеком с хорошим вкусом, легко ранимой душой и осторожно прищуренным глазом.
Юрий Олеша является одним из лучших представителей отряда творческой интеллигенции. Он отдал много сил ее победе, и он, не отказываясь, нес ответственность за ее поражения.
Он мог бы стать еще лучше. Но ему не хватало решительности.
Нужно быть мужественным человеком, чтобы иметь талант.
Исподволь и незаметно и совершенно без всякого основания пришла и захватила власть легенда о гонимости, о непризнанности, о тяжелой судьбе Юрия Олеши.
Все это выдумка соседей писателя, и эту выдумку нужно опровергнуть без колебаний.
Гонимости, непризнанности, тяжелой судьбы не было.
Самое худшее, что испытал Юрий Олеша, была нищета. Обыкновенная, заурядная, совершенно ничем не замечательная, привычная нищета русского писателя.
Нищета была связана с болезнью и была выходом из положения, каким была сама болезнь, открывавшая широкие литературные возможности.
Болезнь была литературной реминисценцией, продолжением не только литературной традиции в русской литературе.
Работая над собой, Юрий Олеша очень быстро согласился с тем, что все правы, а он абсолютно неправ.
Поняв это, он пришел к выводу, что у него совсем иной путь, и твердо решил быть несчастным.
Он уклонился от конфликта и поражения.
Обреченный на поражение, не признаваясь в обреченности, Олеша прикрылся несчастьем, на которое пошел с заранее обдуманным намерением.
Это весьма распространенный случай, часто принимающий форму, именуемую в просторечии "питье горя". В учении о неврозах это явление было наблюдено и сформулировано Фрейдом.
Фрейд писал: "...невротик всякий раз совершает бегство в болезнь от конфликта... такое бегство имеет полное оправдание... (с физиологической точки зрения. - А. Б.). Бывают случаи, в которых даже врач должен сознаться, что исход конфликта в неврозе представляет собой самое безобидное и самое допустимое в социальном отношении решение"1.
Юрий Олеша прожил не очень плохую жизнь. Он прожил свою жизнь в плохом настроении.
Был создан литературный образ, перевоплощение. Юрий Олеша жил в художественном образе человека, поэта, прожившего очень трудную и благородную жизнь, полную борьбы и страданий.
Самое главное, что нужно разрушить в столь удачно и быстро складывающейся легенде, это литературную традицию, легшую в ее основание, по которой русский писатель - это человек, непременно претерпевший за убеждения.
Юрий Олеша не был человеком, претерпевшим за убеждения, потому что его убеждения никогда и ни в чем не расходились с мнением всех советских людей.
Убеждения он имел, какие следует иметь. И раньше, чем обзавестись ими, справлялся у осведомленных людей: какие нынче убеждения.
Не было конфликта с окружающей действительностью у Юрия Олеши.
А если у художника нет конфликта с окружающей действительностью, то значит художник ничтожен, потому что он или не видит пороков этой действительности, или замалчивает их. И это значит, что он слеп и лжив.
Отношение к эпохе, в которой он жил, становится ясным не только из написанного им, но также из засвидетельствованного ближайшими друзьями, людьми, которых он нежно любил и которые ему восторженно платили ответной любовью.
Его преданный друг, авторитетнейший свидетель Л.В. Никулин сказал об Олеше с поразительной точностью: "...в скверных листках, которые издаются за рубежом, писателя хотели представить не таким, каким он был, и даже пытались оплакивать его как пасынка родины. Он был ее верным сыном и не принимал лицемерного сочувствия наших недругов"2.
1 З. Фрейд. Лекции по введению в психоанализ. Т. П., М.-Птр., 1922, с. 171.
2 Лев Никулин. Годы нашей жизни. Юрий Олеша. - "Москва", 1965, № 2, с. 198.
И это, конечно, святая правда.
К чести писателя надо сказать, что он жил одними делами и одними думами со всей советской литературой. Но в то время, как Ф. Панферов, Ф. Гладков, В. Фирсов, Б. Горбатов и другие писатели его поколения совершенствовали по мере развития свое идейно-художественное мастерство, Олеша в какой-то момент остановился в своем развитии.
Как всякий высокооригинальный художник, Олеша, несомненно, глубоко окрашивал своей индивидуальностью все, к чему он прикасался. Поэтому он всегда совершенно иными словами писал то же самое, что писали другие советские художники.
Нет, он не был создан для того, чтобы ничем не примечательным утром собирать тусклый металлолом. Он был создан для того, чтобы заново открывать и преображать мир. И поэтому только удивительным, необыкновенным и поразительным утром он испытывал органическую потребность собирать прекрасный, восхитительный металлолом.
Его стилистическая изысканность, языковый снобизм, некоторая обособленность от окружающей литературной речи вызывали иногда неодобрение нескольких критиков. И только. Ничего более серьезного не лежало в выдуманной распре Юрия Олеши с веком.
Так возник художественный образ еще одного "претерпевшего за правду" русского писателя.
Юрий Олеша был скорее благополучным писателем, чем обиженным, и никогда непризнан-ным и гонимым он не был. Напротив, он был любимым баловнем, обвешанным издателями и поклонницами, причитающими почитательницами, восхищенными старухами, возмужалыми истеричками, восторженными одесситами, интервьюерами и мемуаристами, ресторанными завсегдатаями, зазывающими к столику своего любимого писателя.
Он был признан своим государством, которое горячо любил, которым гордился как патриот своей великой советской родины. Он радовался грандиозным успехам своего социалистического отечества в области науки, культуры и освоения космоса и восторженно приветствовал свой народ-исполин, вместе с которым он ковал, победу, боролся за мир и с презрением отвергал формалистические кривляния.
Вот денег у него действительно не было. Это правда. Но это явление было связано с тем, что он сильно болел и все деньги тратил на лекарства. А самое главное это то, что полагающееся по статьям, выделяемым на культмероприятия, расхватывали другие, более просвещенные деятели литературы и искусства. Здесь, конечно, недоглядели. Хотя надо было понимать, что Юрий Олеша заслужил не меньше, чем тов. Бубеннов М. С., а получалось, что существует едва-едва, совсем бедно. Впрочем, если бы он не жил в одном доме с Катаевым и Ермиловым, а жил бы в соседнем, то никто даже не обратил бы внимания на это.
Когда его и покритиковывали, то даже в рапповских журналах, скорее походивших на засаду, чем на подлинные литературно-художественные и общественно-политические журналы, это делали с глубоким уважением и пониманием, стараясь не повредить какую-нибудь, самую мелкую часть в тонкой душевной организации чуткого ко всяким внешним воздействиям художника. При покритиковывании оговаривали, что речь идет только об идеологии, то есть о том, за что претерпел каждый настоящий писатель и что было ни капельки не обидно.
Наконец, о нем писали не одни же нехорошие люди.
Классический образец рецензии дал превосходный литературовед, место которому совсем не в таком контексте, Н. Я. Берковский. Вот так типично и поощрительно оценивает он работу писателя: "Когда я говорю о критике, я не разумею нападок на квалификацию Юрия Олеши. Олеша - превосходный мастер..."1
1 Н. Берковский. О прозаиках. - "Звезда", 1929, № 12, с. 152.
Вот видите!
Уж какое бы литературно-критическое рыло не писало об отражении жизни в творчестве Юрия Олеши, однако почтительно и поспешно прибавляло оно самое главное для писателя, за что писатель простит какое хочешь душераздирающее идеологическое обвинение и недопонимание момента, то есть прибавляло, как он глубок, талантлив, раздираем кричащими противоречиями и какие у него совершенные метафоры. В общем, даже общественно-политические злодеи из литературно-художественных застенков знали, с кем они имеют дело.
Он сам был во всем виноват.
Иллюзия неблагополучия, осенявшая чело Юрия Олеши, возникла потому, что в сравнении со своими соседями он писал даже после 1934 года несколько лучше и, может быть, не так нахально. А так как в некоторых интеллигентских кругах почему-то существует мнение, что худо приходит-ся как раз тем, кто хорошо пишет, то и об Олеше стали упорно поговаривать, что вот он именно и есть несчастный страдалец русской литературы.
Это было в эпоху поголовного и повального счастья, и поэтому в нашей литературе, имеющей богатые традиции страстотеричества, образовался настойчиво требующий страдальца вакуум. Так как Сергей Михалков для заполнения по ряду причин не подходил, то правлением Московского отделения Союза писателей по представлению секции прозы был выделен Юрий Олеша.
Юрий Олеша не был несчастным страдальцем русской литературы. Он знал способы хорошо уживаться с веком.
Способ, с помощью которого Юрий Олеша умел уживаться с веком, был не сложен, и в главных чертах состоял в следующем: нужно было писать то же самое, что писал П.А. Павленко, но другими словами.
Он пребывал в хорошем социальном самочувствии и в добрых отношениях с обществом.
Он был законопослушным писателем, и поэтому, если в начале его литературного пути лежала книга о революции, то в процессе эволюции и искусственного отбора в конце его литературного пути оказались прекрасные рассыпанные строки.
Юрий Олеша вошел в общественное сознание как большой и честный художник, с исповедальной искренностью рассказавший о сомнениях и вере интеллигента, о высокой роли революции в судьбах русской общественной мысли.
И вдруг этого человека обвиняют в том, что он восславил несправедливость и говорят о нем сурово и осудительно.
Не собираясь подрывать основы, фундамент, стропила и балки общественного мнения, но с уважением относясь к возможному намерению заподозрить меня в дурных побуждениях, я вынужден искать какие-то удовлетворительные объяснения этому подозрению, сопровождаемому чрезвычайной, даже чрезмерной взволнованностью, перевозбуждением и массовыми беспорядками.
Эта взволнованность, эти опасения за основы и балки вызваны тем, что Юрий Олеша очень дорог сердцу русского интеллигента или, иными словами, локально-интеллектуального представителя.
Юрий Олеша так важен, так нужен, так мучительно дорог сердцу интеллектуального представителя, потому что создал совершенный образец и рабочие чертежи путей развития советской интеллигенции определенного слоя. Отличительная особенность представителя этого слоя заключается в том, что поскольку пересматривать свое мировоззрение хочешь не хочешь, а все равно надо, то уж лучше это делать как следует, то есть не бросаться сразу, как свистнут, неприлично давя всех, с совершенно неуместными визгом и улюлюканьем, а прийти в подходящий момент и сказать, вот так, мол, и так. Говорить нужно с подкупающей искренностью, с достоинством и ощущением внутренней свободы, и в то же время с самыми глубокими переживаниями, со сверкающими метафорами (для работников литературного труда) и цитатами (для всех без исключения). Все это следует делать умело, а не тяп-ляп, изучив опыт предшествен-ников в этом древнем промысле1, с поражающей человеческое воображение эрудицией, а не как попало, умненько, а не за здорово живешь, глубоко осмыслив закон превращения слонов в мастодонтов при различных обстоятельствах, с блеском, мастерством и подкупающим обаянием.
1 См. Роберт Сильвестр. Вторая древнейшая профессия. М., 1956, с. 5 (Эпиграф).
Я знаю, что Юрий Олеша святой и чистый человек и художник в сравнении с некоторыми другими представителями творческой интеллигенции. Были люди, которые гораздо больше Олеши восславляли несправедливость. Олешу оправдывают и защищают, говоря, что он сделал меньше других. Но оттого, что один человек сделал хуже, другой человек не стал лучше.
Это обычная подмена понятий: я говорю, что Олеша двадцать шесть лет старательно делал то, что не следовало делать, а меня опровергают: другие были еще хуже.
Такое опровержение может возникнуть и обладать свойствами аргумента только у людей с пониженной мерой социальной ответственности. Поэтому то, что не прямой грабеж, таким людям кажется чистейшим проявлением целомудрия, отчаянной смелости, благородства и рыцарства.
Эти люди ошибаются.
Целомудрие, смелость, благородство и рыцарство не могут быть заменены чем-то подобным, но худшим из-за того, что на свете еще не перевелись преступления.
Истина остается истиной, независимо от того, что существует и ложь.
Я говорю сурово и осудительно о своем герое, хорошем писателе Юрии Олеше, уверенный, что его пример особенно важен и убедителен, потому что уж если такой писатель и человек, как Юрий Олеша, уступил тяжелым обстоятельствам, то какова же мера ответственности многих других людей и какова тяжесть этих обстоятельств?
Обыкновенный хороший писатель Юрий Олеша не мог противостоять силе этих обстоятельств.
Убедившись после двух-трех незначительных попыток, что не может противостоять, он сразу понял, что вовсе и не хочет этого. Совершенно это ему не нужно.
И вообще Юрий Олеша был такой человек, который не любил зеленый виноград.
После всего, что я уже сказал, остается выяснить лишь одно: почему именно об этом своеобразном человеке и писателе написана книга.
Так как у книги есть не скрытая попытка поколебать традицию, созданную некоторыми другими книгами, то я допускаю, что такой вопрос может действительно возникнуть.
Я отвечу, зачем написана эта книга.
В сезоны потрясения основ человеческое общество всякий раз в муках рождает своих якобинцев, своих карбонариев, своих монтаньяров, бабувистов, радикалов, бомбистов, либералов и либеральтесс общественной мысли.
В связи с таким бурлящим и имеющим тенденцию дальнейшего развития процессом органически прокладывается новая магистральная тема: поскольку к якобинцам и монтаньярам уже выработано отношение, то каково же наше отношение к либералам и либеральтессам русской общественной мысли?
Так как некоторые формы отечественного либерализма со времен Алексея Михайловича (1629-1676) были не однажды скомпрометированы, то, как и следовало ожидать, в период бурной общественной перистальтики и стремительной поляризации различных либеральных тенденций произошло обильное выделение экстремистов.
Выделенные экстремисты, конечно, не останавливаясь ни перед чем, скривив губы в саркастическую и нигилистическую полуулыбку, ставят вопрос, несомненно, посягающий на все или на большую часть самого святого: можно ли написать монографию, не изнывающую от восторга?
(Бывают такие эпохи, когда радикализм людей граничит с безумием.)
Я думаю, что можно. Больше того, я почти уверен, что восторг и литературоведение могут быть и не связаны друг с другом в таком же нерасторжимом единстве, как Поль и Виргиния или, например, бедная Лиза и омут.
Может показаться, что я так и не написал книгу о том, что замечательный писатель Юрий Олеша в своем замечательном произведении замечательно отразил.
Книга идет к концу, и в оставшихся страницах автору спрятаться негде.
В связи с этим автор вынужден отвечать на прямые вопросы недоумевающих читателей.
Дело в том, что я твердо решил больше никогда не писать книг, заранее зная, что все равно обману читателей. Поэтому сейчас я написал многое из того, что действительно думаю об искусстве, социологии и истории, а также о личности и творчестве Юрия Олеши.
Я не скрывал, что Юрий Олеша не главный герой этой книги, но когда я писал о нем, то всегда старался правильно, как мне казалось, оценить его творчество и его роль в истории русской литературы и особенно в истории русской интеллигенции.
Выбор в герои Юрия Олеши вызван чисто методологическими причинами.
Я думаю, что роль Юрия Олеши в истории русской литературы чрезмерно преувеличена, и это преувеличение произошло не по случайности, или доброте, или злой воле разных людей, а потому, что его творчество прекрасно и полно выражало мысли и чувства чрезвычайно достойных кружков московской интеллигенции, обладающей тонким вкусом и легко ранимой душой. Это творчество вполне выразило их, с их любовью и любезностью, с их литературными вечерами и безупречным умением держаться, с их чувствами и понятиями, выразило простодушно-восторженно, без всякой иронии, с искренней верой в серьезное значение и безупречную чистоту этой интеллигенции.
Все это было сделано чрезвычайно старательно, с большим количеством черновиков, и если бы у Юрия Олеши были значительные художественные идеи, а не лавка метафор, то мы, несомненно, могли бы говорить о значительном искусстве.
Я написал книгу о человеке, который, по моему глубокому убеждению, никогда не понимал разницы между прекрасными метафорами и значительными художественными идеями и не всегда отличал правду от лжи, которую слышал от других и писал сам. Нигде в этой книге об искусстве, социологии и истории, а также об Юрии Олеше я не клялся в любви и не заверял в совершенном почтении, когда не чувствовал любви и почтения не испытывал.
Я говорю об этом, потому что могу показаться странным и неестественным на фоне всеобщего литературоведческого обожания.
Литературовед не обязан во что бы то ни стало считать своего героя самым лучшим и самым добродетельным из всех героев.
Любовь к предмету исследования может существовать или отсутствовать, но к исследованию это может и не иметь отношения.
Самые значительные открытия в других, в том числе даже в исторических науках вовсе не связаны с особенной любовью к объектам исследования.
Не вижу причин, по которым литературоведение в своем отношении к объекту должно отличаться от других наук.
Я не уверен в том, что можно, не любя археологию, открыть Трою, но я не думаю, что при этом еще обязательно дрожать от страсти к Терситу.
Несмотря на отвращение, которое вызывают у меня известные приемы, представители и объекты литературоведения, я литературоведение люблю.
Я не могу понять недоумение, которое грозит возникнуть в связи с тем, что я написал книгу об Юрии Олеше, а не о Льве Толстом, которого ценю гораздо больше, потому что задачу историка литературы вижу не в анализе выдающихся художественных образов и творений, а в исследовании причин, определяющих возникновение и характер художественного произведения, строго зависимого от взаимоотношений художника с обществом.
Навязчивая идея абсолютно добродетельного героя зачата в той же страсти к положительному образцу, которая причинила много неприятностей художественной литературе.
Но в художественной литературе эта идея была лишь идеальной мечтой, к воплощению которой только иногда, в особенно победоносные периоды удавалось приблизиться до такой степени, что уже становилась почти осязаемой окончательная победа.
В отличие от художественной литературы литературоведение оказалось как раз тем полем, на котором победа идеального героя была полной, блистательной, сияющей, лучезарной и безоговорочной, как капитуляция. Представить себе самоуверенно шагающего по этому полю отрицательного героя совершенно невозможно. Еще в художественной литературе, туда-сюда, глядишь, и проскочит какой-нибудь так называемый персонаж весь в соплях и с острым желанием отрастить бороду и не мыть шею, а уж в литературоведении такой деятель, конечно, совершенно немыслим.
Но что литературоведение! Эта разрушительная страсть к добродетельному, положительному, обаятельному и идеальному герою цветет в настоящей науке, а не то что в каком-то захолустном литературоведении.
Убежденность в неизбежности литературоведческого обожания привела к тягчайшим последствиям: оказалось, что история литературы изрядно потеснена бесхитростными рассказами о любимых писателях.
Процесс, необходимость, детерминация, отсутствие свободы воли, незаинтересованность реальным художником приводят к тому, что исследователь вырывает своего героя из конкретной истории, как листок из книги, и пытается по этому вырванному листку понять, о чем написана книга.
Исследование реальной истории художественной литературы уступило место обстоятельному описанию хороших книг. История литературы оказалась написанной пунктиром. Между великими писателями образовались щели, заполненные такими писателями, которых считается прямо неприличным не только изучать, но даже спрашивать, что они писали.
Одновременно с писателем из щели где-то на литературоведческих дорогах потерялся и обыкновенный плохой писатель. Обыкновенный плохой писатель промежуточное звено между великими писателями, культура, на которой вызревает великий писатель, - исчез из литературо-ведения. Наука о литературе превратилась в "Жизнь замечательных людей", издание абсолютно почтенное, но не призванное исчерпать научное литературоведение. Читая то, что издается в качестве научного литературоведения, часто испытываешь настоятельную потребность посвятить свою жизнь "Очеркам истории плохой русской литературы" и проложить ими главы великой, но излишне благополучной истории. Поистине, неоспоримое достоинство работ по великой и благополучной истории русской литературы в том, что по прочтении их сразу все становится ясно. Из литературоведения ушел вопросительный знак. Редкие и робкие вопросительные знаки побиваются в неравной борьбе с толстыми палками восклицательных знаков!!
История литературы, написанная пунктиром, оказалась замечательной наукой, которая может не говорить о том, что считается вредным и что, в сущности, совершенно не характерно для великих традиций нашей классики и лучших произведений советской литературы.
Высоким достоинством пунктира является то, что в пустоты можно проваливать все, что считается необходимым: некоторые биографические подробности, которые кажутся вредными, произведения, которые не следовало писать по многим причинам, люди, с которыми лучше было бы не дружить в связи с известными обстоятельствами.
Это так естественно и так понятно!.. Ведь в жизни некоторых писателей бывает нечто такое, о чем читателю, ну, просто невозможно сказать. Ну, совершенно невозможно. Можно ли подсчитать ущерб, который будет нанесен читателю, если он узнает, что Катулл (р. ок. 84 до н.э. - ум. 54 до н. э.) любил Клодию, замужнюю женщину! жену консула! которую сам Цицерон! человек высоких нравственных принципов, считал "неистовой в похоти"?!1
1 Катулл. Книга лирики. Л., 1929, с. 18.
Если бы читатель узнал все это, ущерб был бы невосстановим. Особенно для молодого поколения. Ведь всем известно, что читатель, особенно молодой, как прочтет что-нибудь, так сразу и делает, как в книжке. Например: писатель изменяет своей жене. Бывают еще такие прискорбные факты. Нечасто, но бывают. Что делает читатель? Ответ совершенно ясен: читатель сразу же изменяет своей! Или такой пример: писатель выскакивает в окно. Что делает читатель? Ответ совершенно ясен: читатель тотчас же выскакивает в окно вслед за своим любимым автором! Вот что бывает в подобных случаях. Потому что подлинная идейно-художественная литература должна служить замечательным примером. А вот когда писатель ведет себя хорошо, за чужими женами не ходит, с засилием иностранцев при дворе борется, от кровавой цензуры страдает, революционным демократам сочувствует, прогрессивных профессоров Петербургского университета поучает, любить книгу - источник знания завещает, членские взносы платит аккуратно, тогда все получается замечательно и читателю от всего этого одна только польза.
В связи со всем этим, у читателя возникают иногда совершенно фантастические представления о некоторых великих русских писателях.
А часто бывают совсем не такие ситуации, совсем не такие, нет...
В связи с этим с особенной остротой встает важнейшая проблема положительного примера. И это не временная кампания, а всегда актуальный фактор.
Настойчивое требование положительного примера проходит через всю русскую литературу. Некоторое несходство в требованиях связано лишь с тем, что читатели в одних случаях настаивают на том, что они "малодушны", "коварны, бесстыдны, злы, неблагодарны", "сердцем хладные скопцы, клеветники, рабы, глупцы", что "гнездятся клубом" в них "пороки"1, а в других случаях читатели сообщают, как они прекрасны, чисты и восхитительны и могут стать еще прекрасное, чище и восхитительнее, если поэт послушается и сделает так:
...сограждан просвещай,
Пороки, страсти отвращай
И сам примером будь: тогда, конечно,
Не будешь ты забвен согражданами вечно2.
1 А.С. Пушкин. Поли. собр. соч. Т.З (1). М., 1948, с. 142.
2 Н. Остолопов. Апологические стихотворения. СПб., 1827, с. 14. Через год Пушкин в стихотворении "Поэт и толпа" как бы прямо отвечает на требования черни.
Даже слепому должно быть совершенно ясно, что без положительного примера в литературе невозможно никак.
Но значит ли это, что наука должна заниматься лишь одними изящными предметами, которые полезно приводить в пример?
Я написал книгу не о замечательном писателе, но о хорошем, не о героической личности, но о такой, которая в молодости высоко ценила человеческое достоинство, об интеллигенте характерной судьбы, которой управлял не он.
Каждый писатель, если у него есть хоть небольшой дар, приходит в литературу со своим героем. Большим писателям удается привести такого героя, который представительствует от лица целого общественного строя.
Таким являются изгнанник Шатобриана, протестант Байрона, буржуа Бальзака, чиновник Гоголя, помещик Л.Толстого.
Каждый из нас, часто отдавая себе отчет в том, что он не Шатобриан, Байрон, Гоголь и Фисов, тоже старается рассказать о людях, выражающих представления и интересы какой-то общественной группы.
Что касается меня, то я старался, как мог, рассказать о том, что происходит с интеллигентом, наделенным истинным природным дарованием, но лишенным душевной стойкости и в связи с этим подвергающимся разнообразным колебаниям, амплитуда и направление которых находятся в строгой зависимости от ветра на данное число. Такой интеллигент под ветром с болезненными переживаниями и с большим мастерством старается перевыполнить норму, которую ему задает время. Я говорю об интеллигенте-пособнике, интеллигенте-переметчике, интеллигенте-перебежчике, трусе, предателе и мерзавце, выражающем общественный строй.
Об этом написана книга, которую вы читаете.
СМЕРТЬ ПОЭТА
В последние годы жизни писатель начал понимать несправедливость и заслуженность своей печальной судьбы.
Он понял, что обречен, и понял, что сдача была гибельной и бесплодной.
Вот что думал о своей судьбе этот слабый, добрый, талантливый, ничтожный, погибающий человек:
"...для меня нет никакого сомнения в том, что во мне все же живет некто мощный, некий атлет - вернее обломок атлета, торс без рук и ног, тяжко ворочающийся в моем теле и тем самым мучающий и меня и себя. Иногда мне удается услышать, что он говорит, я повторяю и люди считают, что я умный... Меня слушает Пастернак и, как замечаю я, с удовольствием. Он слушает меня, автора не больше как каких-нибудь двухсот страниц прозы; причем он розовеет и глаза у него блестят! Это тот гений, поломанная статуя ворочается во мне - в случайной моей оболочке, образуя вместе с ней результат какого-то странного и страшного колдовства, какую-то деталь мифа, из которого понять я смогу только одно - свою смерть"1.
1 Юрий Oлеша. Ни дня без строчки. Из записных книжек. 1965, с. 170.
Эти скорбные строки написаны после всего, перед смертью.
Медленно читаю я эти строки.
Горечь и соль на губах...
Человек сам, сам себя погубил. Ведь дал же ему Бог талант, не великий, но все-таки талант органический и своеобразный, дал ум, не широкий, но проницательный, дал наблюдательность, темперамент, ироничность, яркость. И все это он сам погубил, сам, из трусости, из грошового расчета, ничтожного тщеславия, из-за того, что не хватило сил устоять перед лавиной опасностей и ручейком соблазнов. Но ведь были же замечательные писатели, которые устояли. Выстояли же Ахматова, Мандельштам, Пастернак, Булгаков, не уступили, не соблазнились, не испугались. Юрий Олеша не был замечательным писателем. Он не только не сумел выстоять, но ему не за что было стоять.
И когда все рассыпалось, когда уже ничего не осталось, когда развеялись концепция и надежда, тогда писатель снова и в последний раз вернулся к началам, к молекуле произведения, к элементу творчества, к разрозненным и расколотым частям мира, к тому, с чего начинается мировоззрение и искусство - к сосредоточенному разговору с самим собой. Я говорю о записной книжке писателя.
Олеша уходит от конфликта в болезнь, в воспоминания, в размышления о своей судьбе. Он пытается что-то понять, что-то написать.
Эта записная книжка теперь называется "Ни дня без строчки" и выдается за новый жанр.
Нового жанра не было.
Была та же записная книжка, но прежняя лишь начинала работу, а нынешняя издается как законченная.
Возвращение к записной книжке произошло из-за того, что ничего не осталось от концепции и надежды, а осталось лишь физиологическое отклонение от нормы, проявляющееся в страсти записывать все, что приходит в голову, попадается на пути, лезет в уши, торчит перед глазами, и без чего не может быть писателя, но чего недостаточно, чтобы быть писателем.
Превращение записной книжки, которую всю жизнь ведет каждый писатель, в книгу "Записная книжка" произошло не только из-за того, что Олеша не мог делать ничего другого, не только из-за безвыходности, в которую его загнали особенности писательской физиологии, болезнь, биография, но еще из-за того, что оно совпало с некоторыми социально-историческими событиями.
Это совпадение случайно, как всякое совпадение, но переосмысление незаконченного наброска в законченный жанр, печатание записной книжки как произведения литературы и возможность заинтересовать многих людей тем, что раньше считалось интересным только одному человеку - автору, возникает лишь при благоприятных внелитературных обстоятельствах.
Внелитературные обстоятельства воздействуют не только на литературу, но и на проблему всеобщего разоружения.
Что же касается искусства, то в живописи, например, они восстановили на некоторое время эскиз как самостоятельное и законченное произведение и стали немного теснить мундиры и колоннады. Со сцены они в некоторых случаях убрали подробности, мелочи. Например, русскую печь. В кино они позволили (иногда) появляться мужчинам в нечищеной обуви и женщинам без собольих боа.
Эти обстоятельства возродили жанр так называемой "лирической прозы".
Возникновение новых жанров особенно важно, потому что при этом происходит крушение и развенчание старых.
Все это связано отнюдь не с пустяками поэтики, а с катаклизмами истории.
Один из устойчивых пунктов социологии жанра состоит в том, что различные исторические обстоятельства не с одинаковой настойчивостью требуют большей или меньшей жанровой чистоты. Модуль чистоты всегда находится в соответствии со строгостью поэтики, которая сама, как легко понять, ничего не требует, а только повторяет распоряжения инстанций, непосредст-венно отношения к литературе не имеющих. Такова судьба нормативной поэтики, поскольку она становится заведующей художественной литературой: передавать распоряжения, служить на посылках. Нормативная поэтика не терпит жанрового паллиатива и неопределенности. Она требует, чтобы все было ясно: ода, гимн, дифирамб1.
1 Нормативная поэтика, конечно, занята не только этим, но за долгие годы она причинила столько вреда русскому искусству, что невозможно устоять перед искушением сказать о ней хоть что-нибудь обидное.
Непоколебимая непримиримость к нарушениям поэтического норматива привела к тому, что вне закона оказалось непомерно много такого, что можно было бы прекрасно приспособить к делу.
Было совершенно ясно, что возвращение в лоно сулит большую выгоду, в связи с чем отлучение было снято, и отныне велено было считать, что отринутое нормативу соответствует.
Норматив же был (всему миру известно!) один: реализм, понимаемый неисторично и безмерно узко или неисторично и безмерно широко.
Такое понимание привело к неожиданным и поражающим смещениям. Безмерно узкий реализм признавал только воспроизведение жизни в формах самой жизни, и на этом основании угрюмо не желал глядеть на "Гернику" и фрески Диего Ривера, читать Кафку и Ануйя, а также слушать музыку Хиндемита, Малера, Шенберга, Кшенека, а заодно и Стравинского.
Безмерно широко понятый реализм заявлял, что он не одно из художественных направлений, а столбовая дорога искусства, и, независимо от истории и здравого смысла, ему принадлежит "Илиада", "Нибелунги", "Божественная комедия", "Макбет", "ДонКихот", "Фауст", "Моцарт и Сальери", "Двойник", "Темы и вариации", "Tristia", "Поэма Конца" и другие хорошие книжки. Из всего этого следует лишь одно: очевидно, хотят говорить не о стиле, а о том, что реалистические произведения - это хорошие произведения, а нереалистические - плохие.
Из стилевой категории реализм превратился в оценку качества, в отметку за поведение.
Нормативная поэтика всегда возникает и становится особенно ожесточенной в эпохи беспощадного классицизма. В эпохи разложения стиля начинается безудержное падение нормативной империи, разрушение ее дворцов и замков, расцвет жанров, отвергавшихся в предшествующую эпоху как незаконорожденные.
Лирическая проза проходит в брешь, пробитую в классицизме, в ампире некоторыми социально-историческими превращениями.
Но все это имеет отношение лишь к тому, что записная книжка Oлеши оказалась напечатанной. К тому, что она была написана, это отношения не имеет.
Записная книжка была написана (если причастие "написана" может быть отнесено к записной книжке, которая не имеет начала и не имеет конца, которая пишется всегда) потому, что больше ничего Олеша написать не мог. И потому что больше ни на что Олеша не мог решиться.
Дальше писать только о том, что власть великого ума прекрасна, Олеша, не обладавший большой выносливостью, был не в состоянии. Ему нужно было хоть на несколько минут незаметно пробраться на зеленую лужайку, подышать...
В таких обстоятельствах записная книжка, не предназначенная для печати, обретает особенную соблазнительность: в ней можно не писать, как прекрасно то, что так отвратительно.
Юрий Олеша был хорошо подготовлен к тому, чтобы перестать писать. Он был достаточно одаренным человеком, чтобы иметь право замолчать. Это понял и это сделал Бабель: перестал писать.
У каждого художника молчание всегда связано с тягчайшими обстоятельствами, с трагичес-кими крушениями, и, если исследователя интересуют не только произведения, но и история литературы, он не может ограничиться анализом лишь того, что писатель написал.
Между "Тремя толстяками" и "Строгим юношей" лежат десять лет, и в эти десять лет были написаны все значительные вещи Олеши.
Двадцать шесть лет прожил Юрий Олеша после "Строгого юноши".
Об этих годах трудно писать из-за скверной литературоведческой привычки думать не о литературе и судьбе писателя, а только о произведении.
С такой точки зрения говорить об этом двадцатишестилетии нет особенной необходимости, потому что лучшие произведения были написаны в предшествующие годы. Поэтому, если раньше речь шла о значительных явлениях искусства, то в этой главе говорится о другом.
Исследование судьбы писателя отличается от аннотированной библиографии тем, что в исследовании, кроме анализа произведений, есть попытка выяснить причины отсутствия их или причины, по которым вместо хороших произведений писатель пишет плохие.
Последняя книга Юрия Олеши "Ни дня без строчки" не была ни возрождением, ни обновлением.
Она была лишь продолжением одной из старых линий его книг.
Это была та же записная книжка, которая сопутствовала писателю всю жизнь, но которую в прошлом у него хватило сил превратить в роман, рассказ или драму, а теперь не хватило. "Ни дня без строчки" это то же, что ранние вещи, но с вытащенным из них хребтом мотивировок и без объединения материала концепцией, единством, сюжетом, героем и намерением.
Об этой вещи нужно говорить потому, что в ней оказались развиты темы и мотивы, которые при других обстоятельствах не были бы решающими.
"Ни дня без строчки" обнаружило в предшествующих произведениях то, что раньше не сосредоточивало внимания. То, что теперь стало единственным возможным, раньше прослуши-валось как едва уловимый симптом, и, если бы через четверть века все не кончилось гибелью, было бы лишь одной из тем, естественным автобиографическим мотивом.
Но испуганный и заметавшийся художник разорвал единство, вне которого не существует художественное произведение, и это было неминуемо, потому что ложная концепция не может быть последовательной и связной, и не может это единство создать.
Дело не в том, что мотивы, темы и причины возникновения "Ни дня без строчки" появились очень рано, а в том, что Олеша очень рано стал опасаться, что этим он кончит.
Эти мотивы и темы появились в годы рассказов "Вишневой косточки" между "Завистью" и "Строгим юношей", - когда еще оставались возможность, право и желание выбора.
Некоторым из этих мотивов и тем удалось выстоять четверть века и оказаться последними.
Таким устойчивым мотивом, давшим название и объяснение последней вещи, была фраза "Ни дня без строчки".
"Обладание писательской техникой достигается ежедневным и систематическим - как служба - писанием", - замечает Олеша в 1930 году.
Четверть века спустя эта мысль кажется ему единственно спасительной: если бы не она, не произошло бы превращения случайных записок в литературу.
Легкое и тревожное предчувствие, скользнувшее в молодости, становится настойчивой и требовательной темой, кажется единственным выходом, делается мотивировкой жанра.
Это произошло перед "Строгим юношей", когда глаза писателя на мгновение встретились с крутящейся в шаге от него смертью, когда он испугался, что каждая его строка может стать последней.
Он навсегда это запомнил. Прошли годы и он записал:
"Однажды я как-то по-особенному прислушался к старинному изречению о том, что ни одного дня не может быть у писателя без того, чтобы не написать хоть строчку. Я решил начать придерживаться этого правила и тут же написал первую "строчку". Получился небольшой и, как мне показалось, вполне законченный отрывок. Произошло это и на следующий день, и дальше день за днем я стал писать эти "строчки""1.
1 Юрий Олеша. Ни дня без строчки. Из записных книжек. М., 1965, с. 9-10.
Мотивировка "Ни дня без строчки" - технологическая, и поэтому (по представлениям, сложившимся в русской литературе или навязанным ей) за пределы частного дела писателя не выходит.
Слово "однажды", равнозначное в этом тексте слову "давно", вероятно, самое важное, потому что вводит мысль, которую можно принять за случайную, в русло длительных размышлений.
Юрий Олеша день за днем много лет после того, как уже перестал писать обычные художест-венные произведения (а так как его поэтика никогда не расходилась с традиционной, то настоящи-ми он считал только обычные художественные произведения), начал делать дневниковые записи. Они отличаются от заметок из записной книжки тем, что в записную книжку попадают заготовки для возможного использования в будущем художественном произведении, а записная книжка Юрия Олеши становилась самостоятельным произведением, потому что другого создать он не мог.
В монтаже "Ни дня без строчки", сделанном Виктором Шкловским после смерти Олеши, там, где представлялась хоть какая-нибудь возможность, автор монтажа помогал автору текста выбраться из записной книжки, из частного дела.
Виктор Шкловский монтирует записи разных времен так, что они следуют одна за другой, как главы романа. Для того чтобы иллюзия была полной, он, "подготовляя эти записи к печати... дал заголовки к тем наброскам, которые их не имели"1.
Вот как выглядит такой монтаж:
"НАЧАЛО...
Мне кажется, что единственное произведение, которое я могу написать в качестве нужного людям произведения, - это книга о моей собственной жизни.
СЛУХ О ТОМ, ЧТО Я НАПИСАЛ АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЙ РОМАН.
В прошлом году распространился слух, что я написал автобиографический роман...
Очевидно, хотят, чтобы я написал, если верят в слух, который сами распространяют. Может быть, нужно написать, если этого хотят современники?..
Попробовать?
Часовой магазин Иосифа Баржанского.
Часы над улицей.
Стрелки мне кажутся величиной с весла... (Отточие автора. - А. Б.).
ТЕНЬ РЫСАКА.
Я родился в 1899 году в городе Елисаветграде..."2
1 Виктор Шкловский. Об авторе и его книге. Предисловие к "Ни дня без строки" Юрия Олеши. - "Октябрь", 1961, № 7, с. 148.
2 Юрий Олеша. Ни дня без строки. - "Октябрь", 1961, № 7, с. 118, 149.
Виктор Шкловский после того, как стал, наконец, писать хорошие, настоящие книги, чего от него и добивались, не понял, не захотел понять, что "Ни дня без строчки" все из отрывков не потому, что Олеша не успел закончить вещь, привести ее в порядок, а потому, что Олеша не мог написать законченную, приведенную в порядок вещь.
Самое поражающее в этом непонимании то, что в годы, когда Олеша писал свои лучшие вещи, далекие от записной книжки, Шкловский с ожесточением, блеском и правом на победу настаивал на разрушении канонических жанров, далеких от записной книжки.
Юрий Олеша писал записную книжку, а Виктор Шкловский старается сделать из нее традиционное "художественное произведение".
А вместе с тем Виктор Шкловский знал, что этого не следует делать. И о том, как это бывает нехорошо, рассказал сам.
Вот что рассказал Виктор Шкловский в годы, когда и он, и Юрий Олеша писали свои лучшие книги, и когда он, Виктор Шкловский, не хвалил не очень хорошие книги Юрия Олеши, а ругал его очень хорошие книги:
"Человек, назначенный заведующим одного кинопредприятия, на первом прочитанном сценарии (Левидова) написал следующую резолюцию: "Читал всю ночь. Ничего не понял. Всё из кусочков. Отклонить""1.
В отличие от человека, назначенного заведующим кинопредприятием, Виктор Шкловский настойчиво рекомендует принять. Но чтобы не было все из кусочков, а в виде художественного произведения.
Многие записи из "Ни дня без строчки" повторяют мотивы, темы, образы, предметы, героев прежних произведений писателя. Иногда почти точно.
Вот начальная запись "Ни дня без строчки".
"Я родился в 1899 году в городе Елисаветграде, который теперь называется Кировоград... Прожил в нем только несколько младенческих лет, после которых оказался живущим уже в Одессе, куда переехали родители. Значительно позже, уже юношей, я побывал в Елисаветграде...
О моем отце я знал, что он был когда-то, до моего рождения, помещиком...
Мой отец, проигравший вместе с братом довольно большие деньги, вырученные от продажи имения, служил потом акцизным чиновником... Он получал небольшое жалованье, но продолжал играть в карты, поскольку еще оставались суммы от продажи имения... Быстро окончившееся богатство сказывалось также и в том, что у нас был выездной рысак, черный, с белым пятном на лбу...
Мы поляки и католики. Отец... пьет, играет в карты. Он - в клубе...
Общее мнение, что папе нельзя пить: на него это дурно действует..."
Обо всем этом уже было рассказано четверть века раньше в художественных произведениях "В мире", "Я смотрю в прошлое" и "Человеческий материал".
"Я родился в городе Елисаветграде - некогда Херсонской губернии...
Позже узнал, что в то время у нас был собственный выезд, имелся вороной рысак с белым пятном на лбу...
Папа служил от акциза на водочном заводе.
Лет восемнадцати я побывал в Елисаветграде...
Когда мне было три года, семья переехала в Одессу..."2
1 Виктор Шкловский. Гамбургский счет. Л., 1928, с. 16.
2 Ю. Олеша. Избранные сочинения. М., 1956, с. 238-239.
"Папа играл в карты, возвращался на рассвете, днем спал.
Он был акцизным чиновником... Главное было - клуб, игра, он чаще проигрывал; известно было: папе не везет..."1
"Мой папа акцизный чиновник, обедневший дворянин, картежник. Мы бедны, но принадлежим к порядочному кругу. .."2
1 Ю. Олеша. Избранные сочинения. М., 1956, с. 284.
2 Там же, с. 249.
Кажется, ничего существенного не происходит: автобиографические рассказы 1928, 1930 годов, автобиографический рассказ, написанный четверть века спустя.
Разница лишь в подробностях. Одни подробности сохраняются, другие исчезают, третьи приходят...
Дело не в подробностях, и рассказы 1928 и 1930 годов совсем не то, что рассказ, написанный четверть века спустя.
Ранние рассказы - это произведения, в которых уже начиналась сдача, но еще было несогласие, был протест, были сомнения и поиск.
В позднем рассказе ничего этого нет.
Так же, как в рассказе "Мы в центре города" в сравнении с хлебниковским "Зверинцем" нет обобщения, нет спрятанных прекрасных возможностей, нет поражающего открытия, из-за которого написано художественное произведение, так и в позднем автобиографическом рассказе нет ничего, кроме рассказа о своей жизни.
Поздний рассказ - несущественен. В нем нет значительных художественных идей, какие были в ранних рассказах.
В ранних рассказах были значительные художественные идеи.
"Я вхожу в гостиную, чтобы приветствовать господина Ковалевского. Я иду, маленький, согбенный, ушастый, - иду между собственных ушей... Гость протягивает мне руку, которая кажется мне пестрой, как курица..."
"Впервые в жизни вошло в мой мозг знание о Дон Кихоте, вошел образ человека, созданный другим человеком, вошло бессмертие в том виде, в каком оно возможно на земле. Я стал частицей этого бессмертия: я стал мыслить...
Быть может, можно разделить мужские характеры на две категории: одну составят те, которые слагались под влиянием сыновней любви, другую - те, которыми управляла жажда освобожде-ния, тайная, несознаваемая жажда, внезапно во сне принимающая вид постыдного события, когда человека обнажают и разглядывают обнаженного...
Так начинаются поиски: отца, родины, профессии, талисмана, который может оказаться славой или властью..."
Прошло четверть века и Олеша вернулся к записи, к заметке, к тому, из чего, может быть, удастся сделать художественное произведение.
Олеша возвращается к элементарному, первичному, к тому, что делает человек, когда он готовит материал для художественного произведения и готовится стать художником, или когда он уже не художник.
Он уже ничего не может сказать нового; он может только воспроизводить старое.
Об этом говорит академик А. В. Снежневский: под влиянием некоторых обстоятельств "...внешний мир перестает быть источником новых переживаний, он становится лишь причиной репродукции старых и из числа наиболее привычных. Последнее приводит к ложному восприятию окружающей обстановки, лиц, событий..."1
1 А. В. Снежневский. Автореферат диссертации "Клиника старческого слабоумия" на соискание ученой степени доктора медицинских наук, М., 1949 , с. 1-2.
Возвращение к записной книжке произошло не потому, что материал искал жанрового эквивалента, но потому, что у писателя не было иной возможности.
Эта безвыходность, эта вынужденность заставляет думать, главным образом, не о литературных источниках последнего произведения Юрия Олеши.
Источники "Ни дня без строчки" не литературные, как ни соблазнительно видеть их в "Притчах Соломона", "Экклезиасте", "Коране", "Панчатантре", "Максимах" Ларошфуко, "Запад-новосточном диване" ("Книга изречений", "Книга притч") Гете, "Мыслях и афоризмах" Гейне, "Записных книжках" Вяземского, "Дневнике писателя" Достоевского.
Происхождение записной книжки Олеши иное, чем записной книжки Чехова. Чехов в отличие от Олеши делал записи между прочим, между художественными произведениями и без намерения сделать эти записи художественными произведениями. Записная книжка Чехова - чаще всего памятная книжка. Она пишется только для себя. Так же далека Олеше и "Записная книжка" Ильфа. В этой записной книжке абсолютно преобладают заготовки. Это то, что еще не попало в книгу или уже не попало, осталось в вариантах, в других редакциях написанной книги.
Если связь "Ни дня без строчки" с "Притчами Соломона", несмотря на разительное, прямо-таки убийственное сходство, представляется все же более или менее проблематичной, а некоторым может показаться даже натянутой, то близость произведения Олеши "Гамбургскому счету" и "Третьей фабрике" Шкловского выглядит гораздо более неоспоримой.
Но в то же время и эта конвергенция не имеет под собой твердой компаративной почвы и не только потому, что Олеша, делая свои "строчки", думал о "Гамбургском счете" не больше, чем о царе Соломоне (что, разумеется, не имеет никакого значения), а потому, что у вещей Олеши и Шкловского разное происхождение и разные задачи.
В эпоху, когда возникало новое искусство и еще не всем было ясно, что его ждет, одним из самых продуктивных путей было превращение нелитературы в литературу. Этим долго и с поразительными результатами занимался Виктор Шкловский. Он писал: "Розанов ввел в литературу новые кухонные темы. Семейные темы вводились раньше; Шарлотта в "Вертере", режущая хлеб, для своего времени была явлением революционным, как и имя Татьяны в пушкинском романе, - но семейности, ватного одеяла, кухни и ее запаха (вне сатирической оценки) в литературе не было"1.
"Чтобы показать сознательность домашности как приема у Розанова, обращу внимание на одну графическую деталь его книг. Вы, наверное, помните семейные карточки, вклеенные в оба короба розановских "Опавших листьев"... Эти карточки производят странное, необычное впечатление. Если приглядеться к ним пристально, то станет ясной причина этого впечатления: карточки напечатаны без бордюра, не так, как обычно печатаются иллюстрации в книгах... это... производит впечатление не книжной иллюстрации, а подлинной фотографии, вклеенной или вложенной в книгу. Сознательность этого образа воспроизведения доказывается тем, что таким способом воспроизведены только некоторые семейные фотографии, иллюстрации же служебного типа напечатаны обычным способом с оставлением полей"2.
1 Виктор Шкловский. Розанов. ПГр., 1921, с. 17.
2 Там же, с. 21-22.
Виктор Шкловский с неподозреваемой для такой полнауки, как литературоведение, точностью устанавливает закон превращения внелитературных явлений в литературу. Ему удалось показать неостанавливающийся процесс включения в признанную эстетическую систему элементов, подвергавшихся дискриминации в предшествующую художественную эпоху, и изгнание из признанной литературы в литературу второго сорта элементов, которые займут подобающее место в иное время.
Для Юрия Олеши все это не имеет значения.
Все это не имеет значения просто потому, что Шкловский и он говорят о разных вещах.
Закон, установленный Шкловским, имеет отношение т о л ь к о к литературному ряду. Он не распространяется за пределы произведения и не объясняет причин возникновения литературного явления. (Имеется в виду именно этот закон, а отнюдь не вся система Шкловского, которая объясняет много больше, чем иные привычно думают. Я говорю, конечно, о работах, написанных в 20-х годах.) Изучение текста Юрия Олеши по закону Шкловского представляет несомненный интерес и может быть плодотворным, но ведь речь идет не об изучении текста Олеши, а об исторических и психологических причинах возникновения этого текста.
Виктор Шкловский читал всю ночь (и, наверное, даже не один, а вместе с родными и близкими), но, к сожалению, не понял, забыл то, что в эпоху "Зависти" и "Гамбургского счета" хорошо знал: произведение может быть все из кусочков и быть при этом очень хорошим.
Дело не в том, что один жанр хуже или лучше другого, а в том, что могут быть худшие и лучшие обстоятельства, толкающие художника к тому или другому жанру, и оценка самим художником своего жанра.
Юрий Олеша не высоко ценил свой поздний жанр. Он понимал то, чего не понял, или то, что забыл Виктор Шкловский. Он понимал, что его вынудили к записной книжке безвыходность, беспомощность и отчаяние, а не борьба за новые достижения в поэтике.
Он делал вид, что это роман, потому что он делал вид, что ничего не произошло.
"Ни дня без строчки" не имеют отношения к "Гамбургскому счету", потому что в произведе-нии Олеши нет литературной задачи. Эти записи делались в другую эпоху, когда традиция "Гамбургского счета" была пресечена. Аспект исследования этой книги, мне кажется, должен быть в первую очередь не литературный, а исторический и психологический. Литературное произведение "Ни дня без строчки" происходит не из литературы, а из истории русской общественной мысли. И фотографические карточки своей жизни без бордюра Юрий Олеша вклеивает или вкладывает в книгу не с намерением показать прием. Юрий Олеша пишет "Ни дня без строчки" - нечто неопределенное по жанру и из-за этого (особенно в годы, когда он писал) сомнительное, - потому что не может написать бесспорного, обыкновенного художественного произведения. Потому что произошла непоправимая беда. Об этой беде Юрий Олеша говорит сам:
"Как мне помнится, я мог провести прямую черту, как вертикальную, так и горизонтальную, по бумаге карандашом или пером без линейки. Она была всякий раз абсолютно прямой и абсолютно параллельной как нижней стороне листа, так и боковой...
Это была юность, сила и будущее.
Теперь я не могу даже провести прямой мысли, как явствует из этого отрывка"1.
Единственная прямая, настойчивая, сквозная линия последней книги Юрия Олеши такова:
"Итак, я совершенно утратил способность писать... Я сочиняю отдельные строчки. Это возможно, когда человек пишет стихи - проза, статья, драма так не могут быть создаваемы. Я не сочиняю, размахиваясь вперед, а пишу, как бы оглядываясь назад, - не сочиняю, штрихуя, строя, соображая, а вспоминаю: как будто то, что я только собираюсь написать, уже было написано. Было написано, потом как бы рассыпалось и я хочу это собрать осколки опять в целое. Словом, или надо развязать, как говорится, комплекс, или надо кончать дело"2.
1 Юрий Олеша. Ни дня без строки. - "Октябрь", 1961, № 7, с. 162-163.
2 Юрий Олеша. Ни дня без строчки. Из записных книжек. М., с. 61.
".. .внешний мир перестает быть источником новых переживаний, он становится лишь причиной репродукции старых..."
"Ни дня без строчки" в отличие от произведений-предшественников, не замышлялось как жанр. Это не было сознательным, обдуманным, задуманным литературным поступком. "Ни дня без строчки" родилось не как художественное создание. Книга возникла из-за невозможности,
из-за бессилия написать другую, обыкновенную, настоящую книгу с героями, сюжетом, завязкой, развязкой...
"Жизнь - без начала и конца...", "случай", "случайные черты"...
Так складывается, так случилось последнее произведение Юрия Олеши.
В нем нет конструкции, нет замысла, единства, которое иногда образуется сюжетом, иногда героями, иногда темой, материалом, и всегда последовательным единством главного героя всякого произведения искусства автором.
Ни одно значительное произведение Юрия Олеши не было закончено, потому что разорван-ность и непоследовательность его концепции и его взаимоотношений с миром нарушали единство произведения и естественное завершение его. Писатель завершал произведение не концом, а сводил хоть как-нибудь концы с концами.
Отличие "Ни дня без строчки" от других книг Олеши в том, что у этой книги нет не только конца, но и начала.
Бессвязность и противоречивость представлений о взаимоотношениях человека и общества вызвали эту текучесть, эту незаконченность, отсутствие точки отсчета.
"Книга возникла в результате убеждения автора, что он должен писать...
...ни одного дня не может быть у писателя без того, чтобы написать хоть строчку"1.
1 Юрий Олеша. Ни дня без строчки, с. 9.
Он стал писать чуть ли не каждый день. Почти каждый день он садился за стол и писал. Это было открытием, которое может не произвести особенного впечатления на людей, привыкших к обычной ежедневной работе, но неожиданное и удивительное для человека с неустойчивой психической организацией.
Все это было так важно, потому что без особенных осложнений заменяло безнадежные (он это хорошо понимал) поиски простым технологическим приемом. Распад личности приостанавливал-ся выполнением несложной обязанности.
Ему нужно было выполненное задание, нужна была опора, чтобы не упасть, простая и близкая цель, осязаемая, реально достижимая, законченный кусок, не беспредельное, необозримое пространство романа, в котором ничего не различимо, темно, страшно.
Так дотягивал умирающий, все понявший Есенин. Я видел клочки бумаги, неровные квадратики, на которых были написаны рифмы: поэту нужно было хоть что-нибудь, - игра, буриме, чтобы зацепиться и протянуть строчку между двумя опорами. Хоть что-нибудь, чтобы заполнить пустое пространство, не сорваться, повиснуть на последних выступах жизни.
Юрий Oлеша протягивал строку между двумя точками: надеждой и отчаянием. Медленно и неуверенно тянутся дни, строчки.
В напряженной атмосфере ожидания олешинской строчки раздавались тревожные голоса: - Пишет? Ну как? Еще одна фраза? А ту закончил? - Какую? - Господи! Какую!.. "В этот удивительный, обрызганный солнцем день..."
Люди сведущие перечисляли множество произведений Юрия Олеши, над которыми он работал и которые так и не завершил. Ничего особенного в этой незавершенности люди сведущие не обнаруживали: каждый человек уходит, что-то не закончив, не завершив. Ну, не успел человек. Все чего-нибудь не успевают. Толстой умер в восемьдесят два года и то не успел. Гете в восемьдесят три, Вольтер в восемьдесят четыре и вообще еще не приступил. Ну, некогда было. А тут еще "Националь". Вот написал "Три толстяка", "Зависть", потом некогда стало. У каждого человека по-своему развивается его творческий путь.
Сведущие люди не обнаружили в этой незавершенности безнадежность и безвыходность "Ни дня без строчки", попытку ускользнуть от сложных вещей в жанр с особенностями.
Он сам считал, что его книга "это роман"1, другие считали, что, вероятно, она стала бы "романом духовной жизни писателя"2, что она "является и биографией писателя, и романом о его времени"3, что "превосходные "миниатюры"... были не просто разрозненными отрывками, а звеньями одной цепи... Олеша наработал много таких "звеньев", но не успел соединить в целое.."4.
1 Юрий Олеша. Ни дня без строки. - "Октябрь", 1961, № 8, с. 148.
2 Б. Галанов. Мир Юрия Олеши. В кн.: Юрий Олеша. Повести и рассказы. М., 1965, с. 15.
3 Виктор Шкловский. Предисловие к кн.: Юрий Олеша. Ни дня без строчки. Из записных книжек. М., 1905, с. 3.
4 В. Перцов. Души золотые россыпи. - "Литературная газета", 1965, 10 июля, № 81.
Увы, "Ни дня без строчки" это не роман, это роман, который не вышел, о котором писатель, мечась в отчаянии, мечтал, умолял и который не мог выйти.
Что же вышло? Строчки, отрывки. Иногда прекрасные, иногда незначительные. Жизнь день за днем, смутная надежда, физиологическая потребность писать, привычка писать, страх оттого, что уже не может писать, ни дня без строчки. Человеку, который когда-то (в те далекие времена, когда были искренность, смелость, концепция, надежда и разрешение) мог хорошо писать, растерявше-му все и согласившемуся на все, ничего не осталось. А когда ничего не остается, то человек усаживается на скамеечку у памятника Пушкину и ведет литературные разговоры. Книга Юрия Олеши "Ни дня без строчки" это разговоры на скамеечке. Иногда они очень интересны, иногда не очень. Но к роману они отношения не имеют. Так как Олеша и его коллеги начиная с 30-х годов стали уверять, что роман лучше разговоров, то я должен заявить, что спорю с ними, а не с собой: я уж никак не настаиваю на том, что роман всегда лучше. Роман может быть лучше разговоров только в одном случае: когда он значительнее разговоров. Никаких иных преимуществ у одного жанра перед другим нет. "Table-talk" Пушкина, дневники братьев Гонкур и Ренара, записные книжки Чехова и Блока, "Путевые картины" Гейне не лучше и не хуже стихотворений, поэм, рассказов, драм и романов этих писателей. Это великие произведения, потому что они написаны людьми, которым было что сказать другим людям.
Для романа или другого законченного произведения нужна концепция, или если ее уже нет, то бесстрашие: сказать об этом, писать о себе, погибающем, падающем, цепляющемся за жизнь, задыхающемся, окровавленном человеке. И это тоже концепция.
Но Юрий Олеша слушать не хотел о бесстрашии сопротивления и понятия не имел о том, что после сдачи наступает гибель.
Не очень значительный человек, не обладавший бесстрашием, не мог написать роман и не мог вести значительный разговор. Но, не уставая, он искал оправдания тому, что не в состоянии создать великое произведение. Скрепя сердце он соглашался на листки из записной книжки, зная, что отрывки, строчки, дневниковые записи имеют право не каждый раз разрешать Мир. И поэтому мы не можем без глубокого уважения относиться к человеку, самая большая и главная книга которого заканчивается такими словами:
"Пусть же фотолюбители работают много, стараясь работать хорошо, разнообразно, запечатлевая людей, их быт, их труд, их путь к светлому будущему среди событий, среди природы, среди их великой истории"1.
Эти строчки Юрия Олеши останутся для вечности. Если, конечно, вечность будет советской.
Писатель становился старше, мудрее и качественнее, и поэтому стал писать, идя навстречу пожеланиям трудящихся.
Таким образом, следует отметить, что в высшей степени серьезный разговор с Историей, Вселенной, Богом и Человечеством, который некогда вела великая литература, заканчивается на наших глазах пламенным призывом повышать качество выпускаемой продукции.
"Ни дня без строчки" - книга симптоматичная, сложная и безответственная. О ней трудно говорить, потому что автор оставил нам "груды папок"2, из которых люди, считающие, что они делают правильно, взяли лучшие, по их мнению, куски и смонтировали эти куски правильным, по их мнению, способом.
1 Юрий Олеша. Повести и рассказы. М., 1965, с. 547.
Прижизненные публикации "Ни дня без строчки" (Ю. Олеша. Избранные сочинения, М., 1956; Литературная Москва. Сборник второй. М., 1956) заканчивались иначе:
"Я смотрел на того, кто стоял рядом со мной. Тот кивнул в ответ. Он услышал вопрос, который я не задавал ему, только хотел задать: не соловей ли? И, кивнув, он ответил: - Соловей".
Я вовсе не хочу сказать, что соловей лучше фотолюбителей. Я хочу сказать, что, вероятно, так думал Олеша. Для меня же самое главное, конечно, не фотолюбители или птица, а светлое будущее и великая история.
2 Виктор Шкловский. Предисловие к кн.: Юрий Олеша. Ни дня без строчки. Из записных книжек. М., 1965, с. 9.
Легко допустить, что другие люди отобрали бы иные куски и смонтировали бы их по-иному. Вероятно, они считали бы, что отбирают и монтируют наилучшим образом.
Я не хочу сказать, что вариант, который могли бы сделать другие люди наилучшим образом, был бы прекраснее того, который сделали люди, считающие, что они делают правильным способом. Я хочу лишь сказать, что ни для кого не обязательны заверения в том, что нам предлагают самый верный и замечательный вариант.
Этими оговорками я ни в какой мере не хочу умалить значение работы составителей. Можно спорить о принципах, которые были положены в основу составления, но то, что они сделали, несомненно, имеет огромное значение. Самое главное то, что они опубликовали много новых, ранее неизвестных текстов и решительно улучшили прижизненные публикации.
Так, например, в 1956 году Юрий Олеша напечатал отрывок о Делакруа1.
Это был прекрасный отрывок, но чувствовалось, что ему явно чего-то недоставало.
В отдельном издании "Ни дня без строчки",- вышедшем после смерти автора,- составители восполняют пробел:
"Мне кажется, что советскому читателю следовало бы прочесть "Дневник" Делакруа..."2
1 Ю. Олеша. Избранные сочинения. М., 1965, с. 274-275.
2 Юрий Олеша. Ни дня без строчки. Из записных книжек. М., 1965, с. 250.
Можно сказать, что составители сделали все, что было в человеческих силах, чтобы дать людям подлинного Юрия Oлешу, понимая, как иной раз Юрий Олеша обкрадывал самого себя и советского читателя.
Разные годы, разные люди и разные органы печати отбирали разные вещи. И сам Юрий Олеша всегда стремился создать такие художественные ценности, которые подходили бы всем и всегда.
Это было тонко уловлено составителями.
Я останавливаюсь на их работе подробно и вызывающе, потому что стараюсь понять гораздо более серьезные вещи, нежели отбор вариантов и расположение отрывков.
Я стараюсь понять, почему была написана книга "Ни дня без строчки", а не другая, та, которую Юрий Олеша хотел написать, почему Юрий Олеша не закончил эту книгу, почему и именно так ее закончили другие, почему эта книга оказалась хуже ранних книг Юрия Олеши и почему она оказалась лучше всего написанного им после книг, имевших значение для русской литературы.
Самое удручающее это то, что все мы ошиблись.
Мы думали, что Юрий Олеша переживал трагедию, крушение, что он писал разбегающиеся во все стороны скорбные строчки, что жизнь его была полна тягчайших противоречий и горчайших утрат.
Теперь мы знаем, что ничего подобного не было.
Оказалось, что Юрий Олеша (не будем лакировать действительность) просто вел неправиль-ный образ жизни, маленько ленился: вместо того чтобы взять себя в руки, немножко посидеть и привести в порядок свои бумажки, аккуратно их переписать, сложить и отнести в издательство, он предпочитал заниматься всякими другими делами, пренебрегая выполнением возложенных на него обязанностей. Обязанности же эти были совсем простыми.
Лучший знаток творчества Юрия Олеши и его круга Виктор Шкловский не поленился, сел за "груды папок, полных вариантами книги "Ни дня без строчки"... Жена писателя... (тоже не из ленивого десятка. - А. Б.) датировала куски новой книги по событиям, описанных в них"1 и - готово дело. Получилась толстая, настоящая книга, а не какие-то отрывочки.
Так как Виктор Шкловский убедился, что писать толстые, настоящие книги гораздо лучше, чем ненастоящие, составленные не из глав или там частей, а из каких-то кусочков, он сделал то, что не мог сделать Олеша: Виктор Шкловский делает Олеше толстую, настоящую книгу. Вдова писателя и другие члены семьи покойного должны быть за это Шкловскому очень благодарны.
Для того чтобы сделать такую книгу, пришлось много поработать. "Среди разрозненных фрагментов и кусков надо было уловить замысел книги, понять последовательность частей, внутреннюю связь образов..."2
Следом за этим слово предоставляется Ю. К. Олеше, которого В. Б. Шкловский всю жизнь учил, как надо писать и, наконец, выучил.
Выученный Олеша заявляет:
"Книга возникла в результате убеждения автора, что он должен писать... Хотя и не умеет писать так, как пишут остальные"3.
1 Виктор Шкловский Предисловие к кн.: Юрий Олеша. Ни дня без строчки. Из записных книжек. М., 1965, с. 7-8.
2 Там же, с. 8.
3 Там же, с. 9.
Итак, выяснилось, наконец, что мы все ошиблись. Мы думали, что Юрий Олеша переживал ужасающую трагедию, что он писал разбегающиеся, как трусы при приближении опасности, строчки, а оказывается, ничего подобного. Если за дело взяться серьезно и долго разбирать рукописи, прибегая к помощи вдовы писателя, которая может датировать все, что угодно, то будет полный порядок: книга получится толстой и настоящей, имеющей большой тираж и оглушительный успех.
Я думаю, что в толстой и настоящей книге, которую мы получили, замысел уловлен не был, последовательность частей оказалась нарушена и внутренняя связь образов осталась непонятной.
Трагедия Олеши не была исправлена Виктором Шкловским и вдовой писателя.
Писатель умер. Осталось очень много папок, которые лежали на столах, стояли на этажерке, а некоторые даже валялись под кроватью. В них были фрагменты и куски. Все это Виктору Шкловскому очень, очень не нравилось. Но опытнейший писатель знает, что когда много папок, а в папках много фрагментов и кусков, то их можно складывать разными способами и в конце концов сложить в одну или другую систему. Вот когда фрагментов и кусков мало, тогда уже ничего не сделаешь.
Виктор Шкловский берет папки, вытаскивает из них фрагменты и куски и складывает их без какой бы то ни было претензии на внутреннюю связь, делая лишь что-то вроде обрамления.
Потом снова берет папки, достает из них фрагменты и куски и складывает иначе:
"Детство. Одесса. Золотая полка ("это та, на которую ставятся любимые книги"). Удивитель-ный перекресток ("...на углу Лаврушинского переулка... Целый отряд советского народа идет в "Третьяковку"...")"
В первом случае мы получаем книгу, которая называется "Ни дня без строки", во втором случае - "Ни дня без строчки".
Первая книга, напечатанная в журнале "Октябрь", кончается так:
"Визит Хрущева во Францию, безусловно, вселил в душу простых французов надежду на то, что война никогда не будет развязана.
Призрак войны теперь не так близко будет стоять за их окнами. Теперь они могут даже увидеть во сне Хрущева, наливающего им из кувшина доброе молоко или веселое вино"1.
Вторая, напечатанная не в журнале "Октябрь", так:
"Надо написать книгу о прощании с миром...
Что же это - солнце? Ничего не было в моей человеческой жизни, что обходилось бы без участия солнца, как фактического, так и скрытого, как реального, так и метафорического. Что бы я ни сделал, куда бы я ни шел, во сне ли, бодрствуя, в темноте, юным, старым, - я всегда был на кончике луча"2.
1 Юрий Олеша. Ни дня без строки. - "Октябрь", 1961, № 8, с. 156.
2 Юрий Олеша. Ни дня без строчки. Из записных книжек. М., 1965, с. 303.
Это не вполне ясное место исследователи толкуют по-разному.
Наиболее распространенное мнение выразил В. Перцов: "во всем, что он (Ю. Олеша. - А. Б.) ни делал, он "всегда был на кончике луча""1.
1 В. Перцов. Души золотые россыпи. - "Литературная газета". 1965, 10 июля, № 81.
Мне кажется, что гипотеза авторитетнейшего исследователя, при всей ее соблазнительной убедительности, страдает некоторой абстрактностью и излишней обобщенностью.
Убедившись в невозможности понять это сложное образное сооружение локально, вне широкого социально-экономического контекста и исторических особенностей развития русского интеллигента, я попытался связать генетику этого сооружения с развитием творчества, биографией и психологическими свойствами писателя. Это оказалось, как мне представляется, весьма плодотворным путем, следуя по которому (опускаю частности), я обнаружил весьма непосредственный источник. Мне представляется самым правильным сосредоточить дальнейшие поиски вокруг знамени прогресса и кринолины в связи с тем обстоятельством, что главное в изучаемом тексте, это характер расположения солнечного луча и Юрия Олеши, то есть тем, что было раньше: солнечный луч или Юрий Олеша.
Многие из записей, составляющих пять почтенных и академических разделов окончательного варианта книги, печатались раньше в других сочетаниях. Может быть, те, другие, сочетания были более правильными, может быть, более правильны эти. Вряд ли эта тайна когда-нибудь будет разгадана.
Пока, мне кажется, можно со всей определенностью сказать только о том, что неправильно. Неправильна попытка сделать обычную книгу из строк человека, который по многим обстоятель-ствам не умел "писать так, как пишут остальные".
Юрий Олеша боится, что написал что-то такое... второй сорт. Записочки, отрывочки... Он же знает, что это не то. То - это роман. Вот Катаев - это роман, это есть о чем говорить. Вместе же пацанами на Молдаванку бегали. А у кого отметки были лучше? А стихи? У кого была более тонкая душевная организация? А метафоры? Даже говорить не о чем. А теперь Катаев поди-ка... Фу-ты... ну-ты!.. Не подходи! Собрание сочинений, дача, машина... Э-эх... Все сам, все сам... Во всем сам виноват, идиот несчастный. Допустил ошибку. Будь она проклята, эта ошибка. Всю жизнь испортила. Очень нужны были эти его интеллигентские переживания в такую эпоху. Вы подумайте, в такое время, когда на ходу подметки рвут, когда один за другим строятся такие заводы, такие домны, вместо того чтобы сразу шагнуть в ногу и давить всех, он делал вид, что переживает. Он, вы слышите меня? он, а не эпоха выбирает, он, вы слышите? думает - принимать советскую власть с оговорками или без оговорок. Вы понимаете? А надо было топать напролом и еще с улицы орать: "Я первый, я, осади, падаль, я захватил!" Это же та же Молдаванка. Не хочешь жить по цуку? Ну и пес с тобой. Спустим в канализацию. Так тебе и надо, идиот несчастный.
Он оправдывает свою книгу, потому что сомневается в ней, не хочет ее, хочет другую книгу. "Писать можно начинать ни с чего... - уверяет он. Все, что написано - интересно, если человеку есть что сказать... - и предлагает как равноценное: - если человек что-то когда-либо заметил"1.
О чем же книга "Ни дня без строчки"? О том, что человеку есть что сказать? Или о том, что человек что-то когда-либо заметил? Или, может быть, о том, что писать можно начинать ни с чего?
Олеша клянется, что "Ни дня без строчки" - "это роман", но так как он понимает, что "это" все-таки не совсем роман, то спешит прибавить: "Сюжет его заключается в том, что человек двигался вместе с историей"2.
1 Юрий Олеша. Ни дня без строчки. Из записных книжек. М., 1905, с. 257.
2 Юрий Олеша. Ни дня без строки. - "Октябрь", 1961, № 8, с. 148.
То, что "роман", неверно, но и ничему особенно не мешает. Главное, конечно, не "роман", а то, что "человек двигался вместе с историей".
Так как история тех лет, когда двигался этот человек, была противоречива, то решающим приемом организации книги должно было стать противоречивое соединение ее частей.
(Все, что я скажу дальше, уже не имеет значения. Услышав о том, что противоречивость не преодолевается, а серьезно принимается во внимание, или еще пуще того - сознательно вводится, мои современники насторожатся: уж нет ли здесь парадокса и желания сказать что-нибудь такое оригинальное. Чуткими, подвижными носами уловив запах чего-то, по их мнению, похожего на парадокс, мои современники уже ничего больше слушать не могут.)
Противоречивость книги неминуемо возникает не из нарочитого столкновения враждующих друг с другом кусков, специально для этого вытащенных из разных папок, а из строжайше проведенного хронологического принципа организации материала. Единственный серьезный принцип организации всякого литературного материала, в том числе и в научном исследовании, это хронологический. Потому что связь "человек и время", конечно же, более органична, чем, например, "человек и жанр".
Но так как время, и особенно непоследовательное и противоречивое, всегда жаждет порядка, регламента и аккуратности, то Олеша, конечно, выполнить задание не мог. Виктор Шкловский, столь близкий Олеше социально-душевной пластичностью и в то же время значительно более исторически отзывчивый и чуткий, выполнил задание гораздо лучше. Виктор Шкловский с мягкой улыбкой отверг непоследовательность и противоречивость человека, который двигался вместе с непоследовательной и противоречивой историей, и сделал нечто аккуратное, полное порядка и регламента. Виктор Шкловский смог довести до конца то, что уже почти удалось Олеше, потому что никогда не имел собственных непоследовательности и противоречивости, которые были у Олеши, а имел те, которые требовал процесс исторического развития.
Хотя мы знаем, что "жена писателя... датировала куски... по событиям, описанным в них", но из этого вовсе не следует, что именно датировкой мотивирована последовательность кусков. Больше того, это определение опровергается тем, что книга разделена на тематические отделы.
Хорошо известно, что Олеша не писал в начале о детстве, а в конце об удивительном перекрестке. В связи с этим остается совершенно непонятным, зачем вообще было тратить драгоценное время и силы на датировку кусков.
Но оказалось, что все это еще более серьезно, чем представлялось сначала.
Дело в том, что "Ни дня без строчки" это не только не роман, что, сцепив зубы, еще удалось бы стерпеть, поскольку известно, что можно добиться мировой известности даже баснями, но и вообще нечто такое, что скорее следует называть дневником, или записной книжкой, или фрагментами, и еще многими другими словами, и что не удалось завершить.
Незавершенность книги никто не оспаривает, но все громко утверждают, что писатель ее не завершил, потому что не успел, и тихо, - потому что ленился.
С настойчивостью заговорщиков лучшие специалисты по творчеству Юрия Олеши и его круга, топая ногами, утверждают: не успел.
У нас нет никаких квитанций и других документов - воспоминаний соседки, мемуаров дворника дома, в котором писатель жил, рассказа девочки, проходившей мимо этого дома, и других авторитетных свидетельств, опровергающих или подтверждающих, что писатель действительно не успел. В то же время предположение не представляется чем-то совершенно фантастическим. Однако следует оговорить, что, употребляя выражение "не успел", я имею в виду не отсутствие времени для того, чтобы пронумеровать страницы, а отсутствие времени нужного, чтобы понять книгу, соединить фрагменты и куски волей, единством, намерением, личностью. Может быть, действительно, писатель не успел. Такие случаи наблюдались в истории литературы (Бальзак, Гоголь).
Внимательно изучая оставшиеся записи, мы обнаруживаем лишь, что среди них есть очень хорошие и не очень хорошие.
Ничего, что связало бы их волей писателя, единством, серьезным намерением, личностью автора, мы не обнаруживаем.
Переходим ко второму вопросу.
Роль лентяя не раз привлекала к себе внимание историков, но до сих пор была освещена недостаточно глубоко. Это связано с тем, что основные труды по интересующему нас вопросу принадлежат буржуазно-дворянским историкам, преимущественно реакционно-космополити-ческого или либерально-патриотического лагеря.
Только прогрессивным историкам удалось установить, что значение лени в истории русской культуры сильно преувеличено, и, кроме единичного случая, связанного с деятельностью И. А. Крылова, создавшего, как известно, всего двести четырнадцать басен, пятьдесят восемь стихотворений, а также пьесы в стихах и прозе, критические статьи и очерки, что сравнительно с personalia H. Шпанова совершенно ничтожно, не является характерным.
Но я не считаю, что академическое и подлинно научное изучение лентяев в истории русской культуры должно быть исключено в качестве самостоятельной дисциплины и что оно не могло бы начаться как раз с Ю. К. Олеши. Впрочем, это уже бескрайняя социально-психологическая тема, и я могу позволить себе коснуться лишь ее литературоведческого краешка.
Отчего же заленился Юрий Олеша?
Он не закончил свою последнюю книгу, потому что в ней чего-то не было, чего-то не хватало, что-то было не то, ну как бы это объяснить? Он никак не мог понять, в чем дело, но чувствовал, что какое-то колесико или там двойной пентод-триод 6 Ф 1 П все-таки забарахлил. Он не понимал, что случилось, думал, что не понимает. В некоторых случаях он останавливался посреди комнаты и выразительно разводил руками. Один раз. Потом, подумав, еще раз. Охотно рассказывал, что старается понять, но не может. Обращался к специалистам. Специалисты говорили: композиция. Другие говорили: архитектоника. В конце концов было установлено, что нужно особенно сосредоточиться на следующем: ритм, темп, психологизм, неологизм, система образов, эвфония. Да, да... эвфония. Все было бы хорошо, если бы не эвфония. Эвфонии не хватает. Может быть, действительно, эвфонии не хватает? Он стоял посреди комнаты. Перед ним была распахнута балконная дверь, было высокое с многоэтажными облаками небо, потом широкая голубая полоса, крыши многоэтажных домов, сбегали вниз в темный рот двора две суживающиеся цепочки окон по торцу дома, он не видел с такой высоты булыжник, как будто воткнутый носом в землю, только голые затылки вверх, нужно разбежаться, удариться грудью, какая там грудь, решетка до живота, да, но ведь это же все-таки он, его стиль, он не может сказать в таком контексте "животом", ну хорошо, хорошо, потом, грудью, вариант: бедром о чугунную решетку и падать, медленно крича, осторожно перевертываясь в воздухе, можно узнать, что разбился, только по размозжженной голове, красная большая, наверное, больше головы масса, мясо, плоская, а тело не видно, что разбилось, оно все в пиджаке и брюках, одна штанина подтянута к колену, по рубашке на груди веточка крови, лучше белую рубашку, рука должна быть неестественно подвернута, но сквозь кровавую массу проглядывает один глаз, сначала его не замечаешь, обязательно (надо записать) какая-нибудь деталь: портсигар, лежащий около глаза, отблеск на огромном глазном яблоке или записная книжка, нет, неинтересная фактура, лучше портсигар, на нем ослепительно сверкает солнце, вариант: часы, но тогда нужно карманные, сейчас не носят, монета, звеня и подпрыгивая, но ведь можно переделать эти куски, в чем же все-таки дело, в чем же все-таки дело, конечно, композиция, потом эвфония, Господи, уже ничего не будет, уже ничего не будет. Катаев, жизнь, сволочь, облака... Да, да, нужно обязательно записать.
Чего-то не было, чего-то не хватало.
Композиция была, ритм был, темп был, система образов, эвфония.
А вот чего-то не было.
Жизнь текла, просачивалась сквозь пальцы, расползалась, не могла принять форму, устояться в жанре.
Знаете вы, как когда-то, в далекие времена делали сыр?
Я опускаю подробности технологии, проблему себестоимости, портреты, пейзажи, историю вопроса и оставляю только прозрачную аллегорию и навязчивую параллель.
Представьте себе деревянный чан. Огромный деревянный чан с невысокими стенками, врытый в землю. В него наливают молоко и сыпят мелко рубленный бараний желудок - сычуг.
Но вот молоко налито, сычуг всыпан. По окружности чана начинают двигаться рабочие и длинными деревянными лопатками вращать молоко.
Ходят долго. Белая воронка скалится отблесками и кажется неподвижной.
Главное происходит вдруг: текучая бесформенная масса медленно густеет, задумчиво останавливается, начиная понимать, что произошло что-то непоправимое.
Тяжело дышит, вздрагивая ноздрями, уставший молодой сыр.
Все стало на место.
Лучшие специалисты думают, что смерть не дала замечательному писателю докрутить молоко. Рука с лопаткой безжизненно повисла над чаном высокого искусства...
Я думаю, что они ошибаются. Юрий Олеша крутил молоко трудолюбиво, долго и безнадежно.
Трагедия была в том, что все текло, расползалось, что-то он вертел, туда, сюда, метался, все валилось из рук, он знал, что сколько ни крутись, а роман не получишь, может быть, создать новый жанр? А?
Были папки, полные фрагментов и кусков, их можно было перекладывать, закручивать в неожиданные композиции, нужно только, чтобы это загустело, остановилось, приняло форму. Ничего не выходило. Опускались руки, в рот не лез кусок. Сыра не было.
Прокисшее молоко предательства и измены поблескивало, поплескивало, не густело. Унылыми плевками оно шлепалось на личность писателя, разрушая концепцию и надежду.
А крутил он трудолюбиво и долго. Ворочал тяжелые папки, переделывал фрагменты. У него были навыки, отличная техника, технология, мастерство, трудолюбие, усидчивость, умение владеть собой, привычка напряженно работать.
Все было; не было лишь одного: значительной личности. А без этого у художника самовыражения нет значительного искусства. Только из тщеславия, от ненасытной жажды успеха и зависти хорошие книги написать нельзя.
Многим его одарила природа. Не дала лишь бесстрашия. Бесстрашия написать, что лицемерие, трусость, уступки, попытки обмануть себя и других не принесли выгоды, что ничего из всего этого громоздкого дела не вышло, что произошло самое страшное, что может произойти с талантливым человеком, непоправимое, необратимое: он уже не только не мог издать то, что хотел, но он не мог ничего написать, что нельзя было бы издать.
Все было кончено.
Не было лишь сил признаться в том, что все кончено.
Он мог говорить все что угодно. И он говорил. Он говорил и писал то же, что говорили и писали другие. Не лучше и не хуже других. И все, что он делал, было не лучше и не хуже того, что делали другие незначительные люди. И другие люди были виноваты не больше и не меньше, чем Олеша. И оттого, что их было много, они не были виноваты меньше. И они говорили подлый и злобный вздор, потому что не понимали, что говорят, потому что бессмысленно верили в то, что их заставляют говорить, потому что боялись молчать, потому что им было выгодно это говорить.
Юрий Олеша был незначительным человеком, таким, как большинство людей, он был не хуже и не лучше их, и он повторял вместе с ними подлый и злобный вздор и потому, что не понимал, потому что верил, и потому что заставляли, и потому что боялся молчать, и потому что было выгодно говорить.
Он говорил:
"Те, кого сейчас судят, были прямой агентурой фашизма. Что можно сказать еще? Какая вина может быть еще более страшной? Эти люди воспитывали молодцов с револьверами. Им нужны были люди-маузеры.
В кого они должны были стрелять? В руководителей партии и правительства. Они покушались на Сталина. На великого человека, силы которого, гений, светлый дух устремлены на одну заботу - заботу о народе...
Мы, художники, должны особенно заклеймить эту сволочь. Мы - связанные духом с великими художниками прошлого. Мы - наследники благородных, влюбленных в народ людей...
Люди, которых сейчас судят, вызывают омерзение. Особенно, когда думаешь о прекрасном народе Испании, который борется с фашизмом, об интернациональных бригадах. Особенно, когда думаешь о том, как ясен сейчас стал мир, когда говоришь себе: я принадлежу к прогрессивному человечеству.
Особенно, когда вспоминаешь волнение, которое испытывал перед радиорупором, слушая слова великого, спокойного, исполненного чувства правоты вождя...
Никто и ничто не помешает народу жить, побеждать, добиваться счастья! Все враги его будут уничтожены!"1
1 Ю. Олеша. Фашисты перед судом народа. - "Литературная газета", 1037, 26 января, № 5.
Он все мог сказать. Только одного он не мог сказать никогда: что он пуст, нем, мертв.
Он поворачивался при большом стечении народа во все стороны, и солнце ослепительно переливалось на ярких перьях его метафор.
Когда человеку не хочется уходить (из жизни), он говорит, говорит, говорит без умолку, бегая по темам, предметам, людям, случаям, только чтобы еще немножко задержаться, подождать, как-нибудь отсрочить, еще несколько минут. "Это были очень вкусные штучки, вроде, я сказал бы, огурчиков из теста. Именно так..."1, "...как полноценны советские дети..."2, какая замечательная утка, она "вынырнула, отшвырнув движением головы такую горсть сверкающих капель, что даже трудно подыскать для них метафору". Но не такой человек Олеша, чтобы не подыскать для горсти капель или даже для целой утки метафору. И, конечно, сразу подыскивает. Пожалуйста: "Постойте-ка, постойте-ка, она, вынырнув, делает такие движения головой, чтобы стряхнуть воду, что кажется, утирается после купания всем небом!"3
1 Юрий Олеша. Ни дня без строчки. Из записных книжек. М., 1965, с. 96.
2 Ю. Олеша. Музыкальное утро. - "Огонек", 1947, № 21, с. 27.
3 Юрий Олеша. Ни дня без строчки. Из записных книжек. М., 1965, с. 235.
Пожалуйста! (раскланивается). А вы, наверное, сомневались, выкручусь я из этого положения или нет. Не беспокойтесь, и не из таких выкручивались.
Жить было невыносимо трудно. Он и знать этого не хотел. Он думал, что все оттого, что нет денег, не дали орден, Катаев, всякая чепуха. Он думал, что там скажут, как следует к нему, автору самых лучших метафор Российской Федерации, относиться. Может быть, просто нужно покрепче крутить лопатку?
Людовик XIV умер через тридцать семь лет после триумфального Нимвегенского мира. Тридцать семь лет великий завоеватель, человек, привыкший к неутихающему успеху, прозябал в Версале с осыпающейся штукатуркой.
На голом острове, облитом солнцем, как горячим, жирным бульоном, шесть лет томился Наполеон. (Он плохо обращался с писателями.)
Шодерло де Лакло умер через двадцать один год после того, как написал прославившие его навсегда "Опасные связи". У него было много других дел (интриги герцога Орлеанского, артиллерия Рейнской армии), но двадцать один год он прожил, боясь, что главное дело уже сделано.
Пятнадцать лет прожила мадам де Лафайет после "Принцессы Клевской".
На тридцать два года пережил свой знаменитый роман аббат Прево. Он написал пятьдесят пять томов. Некоторые тома имели успех. Но "Манон Леско" была написана за тридцать два года до смерти, и слава романа загнала все остальные книги писателя в угол, куда ходят только специалисты по французской литературе первой половины XVIII века.
Двадцать шесть лет прожил Юрий Олеша после своей последней настоящей победы, после своего оглушительного, как удар по голове, триумфа "Строгого юноши".
Это можно сравнить только с положением французского короля.
Их сближало многое. Один был королем, с ног до головы заляпанным прециозными стишками (в годы Расина!), другой был королем метафор. Обоих сближала осыпавшаяся штукатурка.
Жить было трудно, еще труднее было в этом признаться и уж совсем невозможно было признаться (хотя бы самому себе), почему так трудно. Но он знал, что зашел слишком далеко, что слишком много он уступил, что его слабая, жалкая, легко соглашающаяся воля без сопротивления сдалась страху, тщеславию, уговорам, ничтожному успеху. После "Строгого юноши" вернуться к "Зависти" можно было, лиiь перечеркнув все написанное за двадцать пять лет. Жизнь проходила, спотыкаясь, кашляя, ворча, вдруг начинала топать ногами, орать, швырять книги, бить посуду. Художник водил глазами по своей жизни, и красные от бессонницы глаза видели на ней не только благородные шрамы, полученные в справедливых войнах за освобождение русской литературы, но и пятна предательства.
Несмотря на это, он считал, что жить нужно. Нужно было вставать, чистить зубы, беседовать, писать, здороваться, ездить в трамвае.
Петь по утрам в клозете он не мог. Хотя именно в эти годы такая потребность у многих назрела окончательно.
Он вставал, здоровался, писал.
Писал. Почти каждый день строчку.
Эти строчки были полны надежды, потому что снова появилась концепция. Концепция была такая: как бы написать так хорошо, чтобы тебя любил народ и высоко ценили члены редколлегий толстых журналов и члены редсоветов крупных издательств.
Личность автора не соединяла разрозненные куски и фрагменты. Личности не было.
Тогда пришли члены комиссии по литературному наследству с лопатами и решили личность восстановить. Они разложили оставшуюся после писателя бумагу, заинвентаризировали и сделали из нее единство. Это единство аккуратно сложили в папочку, написали на обложке "Ни дня без строчки" и отнесли в издательство "Советская Россия" (Москва, проезд Сапунова, дом 13/15).
Что же важно и хорошо в записях "Ни дня без строчки"? То, что в них есть органическая жанровая характерность, жанровая вынужденность, строгое соответствие литературных и психологических особенностей автора, материала и жанра, литературное своеобразие, то, что позволили это своеобразие.
Читая хорошую книгу "Ни дня без строчки", мы вспоминаем другую хорошую книгу того же автора, - "Зависть". Сравнивая обе эти хорошие книги, мы приходим к выводу, что "Зависть" - это книга о важнейших для людей вещах о взаимоотношениях человека и общества, уничтожа-ющего человека, который с этим обществом не согласен, а "Ни дня без строчки" - книга писателя, который делает вид, что ничего особенного не произошло, что ему не за что краснеть, что надо же понимать, в какое время мы живем, что процесс исторического развития предъявляет свои требования.
Движущегося вдоль времени, страдающего, измученного, насмерть перепуганного человека в книге "Ни дня без строчки" остановили и попросили высказаться на следующие темы: 1. Детство. 2. Одесса. 3. Москва. 4. Золотая полка. 5. Удивительный перекресток.
В эти годы страдающий и перетрусивший, умирающий человек жил и писал не так.
Он не писал: 1. Детство. 2. Одесса. 3. Москва.
Он старался писать каждый день, хоть строчку. Только бы писать. И поэтому он писал о разных вещах и вступал в неразрешимые противоречия с жанром, который ему сделают.
После смерти ему сделали жанр. Этот жанр заключается в последовательных высказываниях о различных предметах и явлениях: 1. Детство. 2. Одесса. 3. Москва.
Таким образом, мы получили тщательно составленные тематические подборки.
Например, подборку на тему "Кустарники и деревья".
"Нет ничего прекраснее кустов шиповника!"
Идет прекрасное описание кустов шиповника.
Следующий отрывок:
"...самое прекрасное - деревья" (сосна. - А.Б.).
Идет прекрасное описание деревьев.
Следующий отрывок:
"Береза действительно очень красивое дерево"1.
Об этом рассказано достаточно убедительно.
Так как Олеша называл "строчками" каждый "небольшой... вполне законченный отрывок"2, который он старался сделать сразу, в один день, то следует полагать, что в понедельник он написал про шиповник, во вторник про сосну, в среду про березу.
1 Юрий Олеша. Ни дня без строчки... С. 301-302.
2 Там же, с. 9.
Имеются и другие подборки.
Например, подборка на тему "Писатели".
"...Александр Грин... Никакая похвала не кажется достаточной, когда оцениваешь его выдумку... он... уникален..."
Любовно рассказывается о выдумке писателя и сообщается, что наша выдумка лучше, чем англосаксонская.
"Томас Манн тонко подмечает..."
На этом примере показывается, что Томас Манн писал хорошо, потому что использовал "подробность в стиле русских писателей".
"Карел Чапек - великий писатель, высокое достижение чешской нации".
К этому надо добавить, что у чехов вообще было много достижений, как в области культуры, так и в сельском хозяйстве.
"Алексей Толстой... Данте... Рабле... Свифт... Чехов..."
Перечисленные авторы оцениваются положительно.
"Художественная сила Хемингуэя исключительна"1.
Это, несомненно, подмечено необыкновенно тонко.
В подборке о писателях я сделал некоторые пропуски. Так, между Александром Грином и Томасом Манном упоминается Метерлинк ("Как нравится Метерлинк!")2, между Томасом Манном и Карелом Чапеком - Оскар Уайльд ("Без Уайльда мировая литература... была бы беднее...")3.
Есть основания предполагать, что короткие замечания о Метерлинке и Уайльде были сделаны в дни, когда Oлеша был загружен другими делами. Поэтому следует считать, что о Грине он писал в понедельник, о Томасе Манне в среду, о Чапеке в пятницу, об Алексее Толстом, Данте, Рабле, Свифте и Чехове в субботу (о них сказано немного: суббота - короткий день), о Хемингуэе - в понедельник (воскресенье - выходной).
Между писателями и деревьями имеется довольно обширная подборка про птиц.
"Элегантная чайка".
"Соловей".
"Видели вы птицу секретаря?"
"...охотиться на голубей..."
"...дятел..."4
1 Юрий Олеша. Ни дня без строчки... с. 232-233, 235-239.
2 Там же, с. 234.
3 Там же, с. 237.
4 Там же.
Это подряд, в четырех отрывках, на четырех страницах. Понедельник, вторник, среда, четверг.
Виктор Шкловский и жена писателя высадили на грядку тяжелую, горькую жизнь задыхающе-гося от страданий человека. Шиповник, сосна, береза, Грин, Манн, Свифт, соловей, понедельник, вторник, среда...
Все это - замечательное, удивительное, вызывающее восхищение, ни с чем не сравнимое, ослепительное непонимание того, кто был человек, которому сделали книжку, что он написал, как он жил, кто он такой.
Если бы Юрий Олеша так жил и писал, как его представили в монтаже фрагментов и отрывков, извлеченных из груды папок, то он выпускал бы каждый год все ухудшающиеся и все утолщающиеся книги, писал бы монографии о великих писателях, критические статьи, сценарии, очерки, литературоведческие исследования и рецензии, пускал бы публицистические пузыри, переполнил бы кинематографические реки, издавал бы пламенные призывы реформировать русскую орфографию, совершал бы путешествия за границу, председательствовал бы на вечерах и выступал бы по радио и телевидению.
Мне не представляется безупречной авторитетность литературоведческих суждений жены писателя, давшей указание, как следует правильно располагать фрагменты и куски, и мне представляется в высшей степени сомнительным и даже устаревшим библейский способ связывать материал кровным родством: Елизар родил Фениеса; Фениес родил Авишуя; Авишуй родил Буккия; Буккий родил Озию; Озия родил Зерахию; Зерахия родил Мераиофа; Грин родил Манна; Манн родил Чапека; Чапек родил шиповник; шиповник - березу; береза родила чайку; чайка - дятла.
Я говорю с такой непримиримой враждебностью о построении книги "Ни дня без строчки" не потому, что мне не нравятся жена или дятел, но потому, что у меня вызывают отвращение тематические подборки и вообще наведение порядка в художественной литературе.
Кроме того, мне кажется научно более правильным (но это второстепенно) во всякой художес-твенной структуре иметь в виду в первую очередь не материал, не тему, не жанр, а дату. Я думаю, что трагедии "Борис Годунов" ближе написанное в один год с ней лирическое стихотворение "19 октября" со строками "Пора, пopa! Душевных наших мук не стоит мир...", чем трагедия "Моцарт и Сальери", написанная пять лет спустя.
Призрачно и нарочито единство этой книги.
Оно организовано, как выступления на открытом профсоюзном собрании: ты будешь говорить про перевыполнение, ты про международное положение, ты про экономию и борьбу с браком, а ты про отдельные еще не изжитые до конца недостатки.
Вот как соединены куски в этом открытом для нас собрании записей, которое составители организовали.
"О, эти звериные метафоры! Как много они значат для поэтов!"
Следующий кусок:
"Велимир Хлебников дал серию звериных метафор..."
Или:
"Я еще напишу о Меркурове, который снимал последнюю маску с Льва Толстого и рассказывал мне об этом".
Следующий кусок:
"Я присутствовал, как скульптор Меркуров снимал посмертную маску с Андрея Белого".
Соединять куски только потому, что у них есть нечто общее - звериные метафоры или маски, снятые с покойников, - значит пресечь попытки человека "двигаться вместе с историей", а усадить его за стол составлять "Чтец-декламатор" с нижепоименованными разделами: "Лето", "Столица нашей Родины", "Знаменательные даты", "Памятники архитектуры (старины, Подмосковья)", или "Кто больше назовет городов на букву П".
Фрагменты и куски, напечатанные под названием "Ни дня без строчки", создавались семь лет, и они рассказывают не о "Детстве", "Одессе", "Москве", "Золотой полке" и "Удивительном перекрестке", а о том, что думал и чувствовал художник в 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959 и 1960 годах.
Зачем человека, который бы разинул рот от удивления и восторга, если бы увидел такую замечательную книгу, заставили делать то, что он совершенно не в состоянии был делать?
Зачем было записки человека (остаток не уничтоженных в десятилетия, когда ночью вскакивали с постели, жгли, рвали, спускали в клозет всякую исписанную бумагу), его записную книжку, дневник, его спор с самим собой, бормотание, отчаяние, его горе, боль, крик превращать в так называемое "художественное произведение"? Откуда эта горячечная страсть к высаживанию на грядку, выстраиванию во фрунт, вытягиванию в линию? Откуда это судорожное обожание производственной дисциплины?
От вспыхнувшей, разгоревшейся и все сжигающей страсти к порядку, к субординации и иерархии, к тому, чтобы все имело свое место и каждый знал свое место, да брал по чину, а чин, чтобы узнавали по погонам, чтобы знали, кто не главный, кто более главный, а кто самый главный, а кто простой человек, создатель всех ценностей.
Старшины, оставшиеся на сверхсрочную службу в литературоведении, плюя на все, ведут свою приходно-расходную книгу. Одни составляют из разрозненных фрагментов Олешу, другие прибирают и упорядочивают незавершенные работы Пушкина.
Составители Олеши проделали огромную, отнявшую годы работу, и в трудные минуты их согревала любовь к подшиванию бумажек. Они работали как надо, будь здоров, так, чтобы комар носу не подточил, ревизор не придрался, комиссия приняла, экспертиза не привязалась, ОБХСС не пришился, чтобы все было как следует. Порядочек.
Но я забыл сказать о том, что, кроме составителей этой книги, был еще автор. Это, конечно, имеет известное значение и не может пройти незамеченным.
Автору этой книги тоже нравились подборки, и когда внимательно эту книгу читаешь, то становится ясным, что некоторые ее темы как-то незаметно, но крайне настойчиво сами складываются чрезвычайно удачно.
Поэтому, кроме подборок о писателях и деревьях, которые сделали за него, Юрий Олеша кое-что сделал сам. Может быть, это лучше было бы назвать не подборками в собственном смысле, а сквозными линиями его жизни и творчества. В отличие от писателей и деревьев, сквозные линии иногда прерываются другими, менее значительными вещами (убийства, Наполеон, теория относительности). Но одна из важнейших тем Олеши, тема, которая занимала его с первого класса Ришельевской гимназии и до последних дней жизни, тема, без которой нельзя понять ни одного произведения, им созданного, ни одной фразы, им сказанной, ни одного поступка, им совершенного, к глубочайшему огорчению читателей, в линию не выделена.
Одна из самых настойчивых, трудных и значительных сквозных линий жизни и творчества Юрия Олеши была линия любви. Я говорю о любви Юрия Олеши к самому себе.
В жизни замечательных людей бывают случаи, когда они с ослепляющей точностью оценивают значение не только других замечательных людей, но и свое собственное. Их мнение и оценки на долгие годы, иногда на десятилетия опережают смутные догадки современников.
Безупречная точность, беспощадность анализа собственной исторической миссии всегда оказываются одним из условий, определяющих пути дальнейшего изучения творческого наследия некоторых замечательных людей. Такая точность самооценки свойственна только людям огромного таланта, поразительной душевной тонкости, сложнейшей нервной организации, безупречного чувства объективности, такта и скромности.
Можно считать доказанным, что всякий большой художник и мыслитель оценивает свой труд и свои взаимоотношения с историей культуры и мировой историей правильно.
За пятьдесят шесть лет напряженной интеллектуальной жизни (1904-1960) и сорок пять лет интенсивного литературного труда (1915-1960) Юрия Олешу (1899-1960) ни на минуту не оставляла мысль о том, сколько он принес пользы человечеству и достаточно ли его за это оценили. Он говорил об этом с лучшими знатоками своего творчества и с широкими кругами населения нашей страны, писал об этом, связывая важнейшую тему с космогоническими концепциями и железнодорожным транспортом.
Для того чтобы не оказаться раздавленным огромным количеством высказываний Олеши о его значении в судьбах русской культуры, в трагедии русского либерализма и других ответственных мероприятиях, я решил систематизировать материал и разделить подборку на четыре группы, каждая из которых имеет строго определенные очертания.
Эти группы было бы правильно назвать так:
1. "Как Юрия Oлешу любили его лучшие современники".
2. "О том, как предстает мой (то есть Юрия Олеши) образ в интерпретации лучших современников".
3. "О том, кто и как именно любил меня".
4. "О том, как я люблю себя сам".
Как видно из предложенной номенклатуры, мне кажется важным постепенно ввести читателя в тему.
Поэтому раньше чем представить самого Юрия Олешу в образе, который он справедливо считал самым глубоким, очищенным от всего нехарактерного, наносного, нужно показать, как лучшие знатоки его жизни и творчества ощупью, иногда оступаясь в потемках, приближались к истине, которую сам Юрий Олеша распахнул с такой широтой.
Вот что думают и чем поделились с нами лучшие знатоки жизни, творчества, круга и души Юрия Олеши.
Первое место мы по праву предоставляем лучшему знатоку души и круга Ю. Олеши Виктору Шкловскому:
"Ю. К. Олеша написал много замечательных книг...
Юрий Карлович создал прекрасные новеллы, пьесы..."1
Второе место мы по праву предоставляем лучшему специалисту в различных областях знания, в том числе и творчества Юрия Олеши, Дм. Еремину:
"...в каждом из его фрагментов ("Ни дня без строчки". - А Б.) видишь юношескую чистоту души, самобытность и природное остроумие, талантливость художественного восприятия жизни"2.
Для того чтобы осветить образ с разных точек зрения, мы предоставляем слово человеку, который знал Олешу на протяжении полувека и который хорошо понимал, что "...давние связи, идущие в глубь годов, позволяют судить о старом друге более глубоко и объемно, более справедливо"3.
1 Виктор Шкловский. Об авторе и его книге. Предисловие к "Ни дня без строки" Юрия Олеши. - "Октябрь", 1961, № 7, с. 147.
2 Дм. Еремин. Заметки о сборнике "Литературная Москва". "Литературная газета", 1957, 5 марта, № 28.
3 Лев Славин. Портреты и записки. М., 1965, с. 23.
Этот человек - Л. Славин, и вот как он глубоко, объемно и справедливо судит о старом друге:
"Украшение гимназии, первый ученик, золотой медалист!"
"Впоследствии, вспоминая о Багрицком, Олеша писал:
"Может быть, Багрицкий наиболее совершенный пример того, как интеллигент приходит своими путями к коммунизму".
В сущности, Олеша писал это и о самом себе, хотя его путь был обрывистее".
"В одном из своих выступлений я назвал Oлешу "солнцем нашей молодости"".
"...еще при жизни вокруг Олеши стала складываться атмосфера легендарности... Его изречения передавались из уст в уста... в лучшие свои минуты Олеша был полон истинного величия".
"Некоторые из миниатюр ("Ни дня без строчки". - А. Б.) принадлежат к шедеврам нашей литературы..."
"Он как бы остановил движение времени, как останавливают часы, чтобы рассмотреть механизм в подробностях. Это нелегко. Это не каждому дано.
Но Олеша силой своего таланта остановил мир, расчленил его и принялся рассматривать в деталях, как часовщик...
"Ни дня без строчки" - произведение революционное и по содержанию и по форме".
"Пламенная душа Олеши, полная любви..."
"Такой неистовый в своих устных эскападах, в писаниях своих он был скромен до самоуничижения"1.
Теперь нам интересно услышать, что скажет другой верный друг - Л. Никулин. Л. Никулин говорит:
"Юрий Карлович любил животных, дружил с сиамским котом по кличке Мисюсь".
"Как много он знал, как умел из бездны знаний выбирать что-то важное, чего другие не замечали..."
"Одного добивался Олеша всю жизнь - совершенства. Это была мания совершенства. Он добивался этого даже в небольших статьях, а больше всего в том, что осталось незавершенным. Ко всему, что он писал, он относился взыскательно".
"Олеше очень нравился успех (а кому он не нравится!)..."2
1 Лев Славин. Портреты и записки, с. 9, 13, 14-15, 22-25.
2 Лев Никулин. Годы нашей жизни. Юрий Олеша. - "Москва", 1965, № 2, с. 197, 198, 194.
А вот что рассказывает хозяин квартиры, у которого Олеша "...две или три недели в один из самых мрачных месяцев своей жизни... жил":
"...не было человека, знавшего его и не поддавшегося его очарованию, потому что талант всегда притягателен".
"...человек... умеющий за письменным столом творить чудеса..."
"...книжки рассказов ("Вишневая косточка". - А. Б.)... кричавших о могуществе его таланта..."
"...при чтении "Трех толстяков" ощущаешь молодость пера, невоздержанность таланта, которому всего мало и все по плечу".
"...едва я назвал роман ("Три толстяка". - А. Б.), которым интересовался, лицо моей суровой собеседницы вдруг осветила детская улыбка, и отвечала она мне уже не по служебному долгу, а по велению сердца".
"Само его мышление было метафорическим. Вот почему о Маяковском он замечает:
"В его книгах, я бы сказал, раскрывается настоящий театр метафор".
Полностью это относится к нему самому. Здесь уже даже не театр, а целый стадион метафор!"1
Последнее высказывание представляет особенный интерес для исследователя по двум обстоятельствам. Так как Oлеша и его лучшие знатоки твердо уверены в том, что самое главное это метафоры, и искусство измеряется их количеством и достоинствами, то, естественно, чем метафор больше, тем художник лучше. Так как у Маяковского лишь театр метафор, а у Олеши целый стадион, стало быть, Oлеша лучше. Второе обстоятельство также не лишено занимательно-сти: оно говорит о глубокой эволюции, которую претерпевает образ Олеши в жизни и творчестве его лучших знатоков. Так, например, И. Рахтанов в 1963 году еще думал, что у Олеши был лишь "Стадион метафор"2, а в 1966 он уже понял, что этого мало. Теперь он говорит: "Целый стадион метафор".
1 И. Рахтанов. Рассказы по памяти. М., 1966, с. 118, 119, 117, 123, 122, 121.
2И. Рахтанов. Из книги "Рассказы по памяти" (Багрицкий, Маяковский, Олеша. 3. Стадион метафор). В кн.: Детская литература. 1963. М., 1963.
После выступления хозяина квартиры, мы предоставляем слово хозяину литературы.
Пожалуйста, товарищ Ермилов.
"На подлинно талантливом произведении искусства всегда лежит печать своеобразия. Это целиком относится и к "Зависти": здесь читатель изумленно прощается с одной неожиданностью, чтобы сейчас же радостно натолкнуться на другую. Здесь любой образ четок, здесь все описания поражают смелостью и необычайной рельефностью, здесь диалоги коротки и оригинальны, здесь подробности, дающие образ человека, всегда новы и остроумны.
Вошел в литературу новый свежий писатель..."1
Слово от молодых имеет Владимир Огнев.
Он получил церковно-приходское образование в Литературном институте, поэтому художест-венные образы производят на него особенно сильное впечатление. Увидев протянутые через все произведения Олеши гирлянды сверкающих метафор, запыхавшийся от восхищения молодой критик аккуратно выписывает в столбик художественные образы, ставшие подлинной классикой:
"...огни", которые, "когда смотришь с моря", "казалось, перебегают с места на место"... "полотенце, извилистое от частого употребления"; анютины глазки, похожие на военные японские маски... ливень ходит столбами за окном - похоже на орган; о гиацинте - кавалькада розовых или лиловатых лодок, спускающихся по спирали вниз, огибая стебель; вынырнувшие гуси "подымают столько воды, что могут одеться в целый стеклянный пиджак; кувшин, покрытый слоем пыли, кажется одетым в фуфайку..."2
И это действительно классика. Особенно последний образ: кувшин, покрытый слоем пыли, кажется одетым в фуфайку... Тут уж ничего не скажешь: классика, и больше ничего. На уровне Гоголя. Гоголь так и писал: "Чичиков увидел в руках его графинчик, который был весь в пыли, как в фуфайке"3.
Несомненно, Олеша писал, как Гоголь. Не хуже. Правда, у Гоголя, кроме графинчика, были еще Чичиков с Плюшкиным, но это несущественно.
Критик так захлебнулся от восторга, что даже не прочитал начала и конца фразы самого Олеши. А вместе с тем читать фразы от начала до конца имеет громадное принципиальное значение. И если бы критик так поступил, то он узнал бы, что это не Олеша, а "Гоголь трижды сравнивал каждый раз по-иному предмет, покрытый пылью: один раз это графин, который от пыли казался одетым в фуфайку, тут и запыленная люстра, похожая на кокон, тут и руки человека, вынутые из пыли и показавшиеся от этого как бы в перчатках"4.
1 В. Ермилов. Освобождающийся человек. (О романе "Зависть" Юрия Олеши).- "Вечерняя Москва", 1 октября 1927 г., № 224.
2 Владимир Огнев. Ни дня без таланта. - "Неделя". 12-18 декабря 1965. № 51.
3 Н.В. Гоголь. Полн. собр. соч. Т. 6, М., 1951, с. 125.
4 Юрий Олеша. Ни дня без строчки. Из записных книжек. М., 1965, с. 245-246.
Ну, не Олеша, так Гоголь. Какое это имеет значение? Благородное потомство (В. Огнев) с открытым сердцем, благородной душой, чистыми руками и верой (с незначительными, трудно различимыми оттенками) в дело, которое возглавляли и возглавляют В. Ермилов, В. Шкловский, Дм. Еремин, Л. Славин, Л. Никулин и многие-многие другие лучшие знатоки, готово бросить к ногам любимого поэта и Гоголя, а если понадобится, то еще и всю германо-романскую филологию.
Все это не от одного невежества, не от неврастении восторга, не от одного желания услужить, не только потому, что критик, думающий, что его задача хорошо обслужить писателя, никогда не позволит, чтобы ему не понравился знаменитый автор с утвержденной репутацией благородного человека и страстотерпца. Все это потому, что Шкловскому, Славину, Рахтанову и Огневу совершенно достаточно такого благородного человека и страстотерпца. Почему бы им не нахваливать Олешу? Именно такого и нахваливать. Потому что именно такой нужен, который знает меру. Ведь не заводить же им Свифта или Гейне, или Гоголя, или Толстого! Эти-то ведь придут, да как рявкнут, да как загремят! А этого-то лучшим представителям в области Олеши и других областях как раз и не требуется. И рявкают-то они все с ужимочками да с подковыркой, а не так, чтобы прийти и просто, по-товарищески сказать: "Пойдем лучше пособираем немного металлолом. От этого одна только сплошная польза, и для здоровья полезно". Нет, лучше Юрия Олеши для людей воспитанных, обладающих чувством меры и такта, а также безошибочно определяющих поступь истории, не отыскать никого. Поэтому всякого, кто позволяет себе больше, чем следует, эти люди сразу перестают уважать, а в отдельных случаях начинают даже благодарить некоторые институты, которые одни своими колющими орудиями и зданиями, где содержатся люди, не умеющие себя вести, ограждают их от ярости литературных обывателей. Эти люди думают, что Олеша и они это одно, а Дм. Еремин, Л. Никулин и В. Ермилов это другое. Такое заблуждение может возникнуть в умах только очень хорошо подготовленных и обладающих большим жизненным опытом людей. Олешинских пустячков, обрызганных метафорами, им хватает. И этих пустячков Олеша сделал ровно столько и именно такого качества, сколько надо, чтобы почитатель их приобрел репутацию достойного, тонкого, глубоко, иногда мучительно думающего над сложнейшими социальными и философскими проблемами человека, умеющего подняться над случайными и нехарактерными эпизодами исторического процесса.
Теперь мы переходим ко второму разделу, который называется: "О том, каким предстает мой (то есть Юрия Олеши) образ в интерпретации лучших современников".
Этот раздел я решительно сократил, приложив серьезное волевое усилие, чтобы перейти к самому важному: к выска-....................(пропуск текста - прим. OCRщика)
особенности психической организации человека, который написал роман "Зависть" только для того, чтобы к произведениям о могучих человеческих страстях прибавить еще одно, о той страсти, которую он знал лучше всех остальных.
В связи с этим Юрий Олеша никогда не мог успокоиться. Все время думал: известный он или неизвестный. Он писал об этом сам, спрашивал у других. Другие тоже писали.
"Шарж на него был опубликован в газете "Литература и жизнь"".
Когда ему показали газету, он сказал:
"Не может быть, это они ошиблись. Человек, на которого публикуют шарж, должен быть очень популярным"1.
Вл. Лидии один из первых обратил внимание на эту замечательную особенность Олеши и рассказал о ней:
"Как вы думаете, - спросил меня раз Олеша, как обычно, неожиданно, занимаю я прочное место в литературе?"2
Переходим к следующему разделу: " О том, кто и как именно любит меня".
"Гайдар... меня любил и высоко ставил..."
"Мне кажется, что она (Сейфуллина. - А. Б.) любила меня как писателя..."
"Скульптор Абрам Малахин симпатичен, умен, тонок и любит меня".
"Он (Гладков. - А. Б.), как мне кажется, любил меня"3.
"Он (Ильф. - А. Б.) посмеивался надо мной, но мне было приятно ощущать, что он относится ко мне серьезно и, кажется, меня уважает"4.
"Он (Шолохов. - А. Б.) отозвался о моих критических отрывках с похвалой - причем в интервью, так что во всеуслышание "5.
"Щукин сказал мне как-то, что из меня получился бы замечательный актер"6.
"Ему (Катаеву. - А. Б.) очень нравились мои стихи..."7
1 Иосиф Игин. Сигареты "Тройка". М., Библиотека Крокодила, № 36, 1965, с. 57.
2 Вл. Лидин. "Люди и встречи". - "Наш современник", I960, № 5, с. 249.
3 Юрий Олеша. Ни дня без строчки... Из записных книжек. М., 1965, с. 159, 283, 292, 294.
4 Юрий Олеша. Ни дня без строчки. - "Вопросы литературы", 1962, № 6, с. 179.
5 Юрий Олеша. Ни дня без строчки. Из записных книжек. М., 1965, с. 291.
6 Юрий Олеша. Ни дня без строчки. - "Вопросы литературы", 1964, № 2, с. 159.
7 Юрий Олеша. Ни дня без строчки. Из записных книжек. М., 1965, с. 284.
Теперь мы подошли к самому ответственному разделу: "О том, как я люблю себя сам".
В этом разделе мы проследим одну из важнейших сквозных линий жизни и творчества писателя - линию любви к самому себе.
Из всех замечательных художников XVIII-XX веков, которых мне пришлось особенно сосредоточенно изучать, только двое - Юрий Олеша и граф Д. И. Хвостов придавали столь серьезное значение своей роли в истории отечественной литературы.
И это заслуживает самого глубокого уважения и пристального внимания.
О том, как Юрий Олеша любит себя, он рассказывал всю жизнь, иногда очень обстоятельно, иногда (реже), лишь бросив две-три выразительные фразы, но всегда охотно.
Так как я связал себя границами подборки, то из необъятного материала на эту тему вынужден держаться лишь высказываний, попавших в различные публикации "Ни дня без строчки". Несом-ненно, это тяжело отразится на качестве моей книги, но, я уверен, другие исследователи, которые придут после нас, изучат тему любви Олеши к самому себе полнее и глубже.
Не желая, однако, пускать эту важнейшую для народного хозяйства тему на самотек, я предла-гаю читателям ознакомиться лишь с несколькими высказываниями, не дающими достаточно полного облика писателя, но прокладывающими пути к научному изучению предмета.
Вот некоторая часть высказываний, прокладывающих пути:
"По старому стилю я родился 19 февраля - как раз в тот день, в который праздновалось в царской России освобождение крестьян. Я видел нечто торжественное в этом совпадении; во всяком случае приятно было думать, что в день твоего рождения висят флаги и устраивается иллюминация".
"Я очень сильная фигура детства. Обо мне говорят в парикмахерской, в дворницкой, в греческой мясной лавке (в связи с тем, что ему чуть было не выбили глаз. - А. Б.), в богатых квартирах и бедных".
"Это был самый обыкновенный профессор, необыкновенно было то, что перед ним стояла целая группа хороших поэтов (в их числе Ю. Олеша. - А. Б.)... И где-то еще скребли кошки этого буржуазного профессора по той причине, что молодые поэты, сиявшие перед ним, были на стороне революции с матросней, с кавалеристами в буденовках, с чекистами".
"Когда я думаю сейчас, как это получилось, что вот пришел когда-то в "Гудок" никому не известный молодой человек, а вскоре его псевдоним "Зубило" стал известен чуть ли не каждому железнодорожнику, я нахожу только один ответ. Да, он, по-видимому, умел писать стихотворные фельетоны с забавными рифмами, припевками, шутками".
"Я как-то удачно сказал себе, что я не иду по земле, а лечу над ней".
"Где-то я писал о морозе, неподвижном, как стены. Это хорошо сказано".
"Вы острите... Вы хорошо острите. "Служба крови", например, - это хорошо".
"Я твердо знаю о себе, что у меня есть дар называть вещи по-иному" .
"В Средней Азии особенно оценили меня за строчку, в которой сказано, что девушка стояла на расстоянии шепота от молодого человека. Это неплохо на расстоянии шепота!"
"Войдя в известность как писатель, я все никак не мог познакомиться с ней (Анной Ахмато-вой. - А. Б.). О себе я очень много думал тогда, имея, впрочем, те основания, что уж очень все "признали" меня... (Его знакомят с Ахматовой. - А. Б.). У меня было желание, может быть, задраться. Во всяком случае, она должна, черт возьми, понять, с кем имеет дело... Не знаю, произвело ли на нее впечатление мое появление... Возможно, что, зная о моей славе, она тоже занялась такими же, как и я, мыслями: дать мне почувствовать, кто она".
"Когда-то, очень давно, когда я, как говорится, вошел в литературу, причем вошел сенсационно..."
"Думал ли я, мальчик, игравший в футбол, думал ли я, знаменитый писатель, на которого, кстати, оглядывался весь театр..."1
Но особенного внимания заслуживает отрывок, в котором Юрий Олеша от частных замечаний переходит к важнейшему обобщению, в результате чего возникает твердо построенный историко-литературный ряд.
Он начинает не сразу, и сначала, как обычно у Олеши, появляются лишь острые и характерные подробности.
"До некоторых размышлений Томаса (Манна. - А. Б.) мне не дотянуться, пишет Олеша, - но в красках и эпитетах я не слабее".
В следующем отрывке рассказано о том, что такое Томас Манн и какое место он занимает в истории мировой литературы.
"Умер Томас Манн. Их была мощная поросль - роща с десяток дубов, один в один: Уэллс, Киплинг, Анатоль Франс, Бернард Шоу, Горький, Метерлинк, Манн.
Вот и он умер, последний из великих писателей"2.
1 Юрий Олеша. Ни дня бс.1 строчки. Из записных книжек. М., 1905, с. 281, 18, 39, 135, 141, 5, 278, 168, 257, 160-161, 158-159, 294, 181.
2 Юрий Олеша. Ни дня без строчки, с. 236.
Так как из предыдущего отрывка мы узнали, что Олеша в некотором отношении - в эпитетах и красках - не слабее Томаса Манна, а о красках в другом месте сказано, "...что от искусства до вечности остается только метафора", то становится ясным, что в некотором отношении он не слабее Уэллса, Киплинга, Анатоля Франса, Бернарда Шоу, Горького, Метерлинка. Об Уэллсе Олеша восторженно восклицает: "Я уж не говорю о великом Уэллсе!" Других он тоже очень хвалит. Порицает только Шоу ("Я не люблю Бернарда Шоу"). Теперь нам становится ясным, что, будучи в некотором отношении не слабее Манна, Олеша не слабее и всей рощи. (По аксиоме, если две величины порознь равны третьей, то они равны между собой.) Таким образом, мы узнаем, что была мощная поросль великих писателей, один в один: Уэллс, Киплинг, Франс, Шоу, Горький, Метерлинк, Манн, Олеша.
Для того чтобы обилие высказываний на такие ответственные темы не рассеяло внимания читателей, необходимо наиболее капитальные высказывания, разбросанные по этой книге, собрать воедино.
Вот эти высказывания, воссоздающие подлинный облик автора "Зависть" лучшей книги Юрия Олеши, обладавшей высокой свободой самовыражения. Никогда никем не интересовав-шийся, кроме себя, человек написал книгу о себе, книгу-исповедь. И поэтому все, что после "Зависти" сказал Юрий Олеша, мы уже знали от Николая Кавалерова.
Итак, автор "Зависти" говорит:
"У меня есть убеждения, что я написал книгу ("Зависть"), которая будет жить века. У меня сохранился ее черновик, написанный мною от руки. От этих листов исходит эманация изящества".
"Когда репетируют эту пьесу, я вижу, как хорошо в общем был написан "Список благодея-ний". Тут даже можно применить слова: какое замечательное произведение! Ведь это написал тридцатидвухлетний человек - это во-первых, а во-вторых, оно писалось в Советской стране, среди совершенно новых, еще трудно постигаемых отношений".
"...Мне приятно думать, что я делаю кое-что, что могло бы остаться для вечности".
"...я, вообще не любящий врать..."
"Я твердо знаю о себе..."1 - сказал Юрий Олеша подозрительным по ямбу тоном.
1 Юрий Олеша. Ни дня без строчки, с. 161, 160, 257, 104, 257.
Юрий Олеша лежал на клеенчатом диване, отвернувшись от всего мира, лицом к выпуклой диванной спинке. Продолжительные думы Олеши сводились к приятной и близкой теме: "Юрий Олеша и его значение", "Олеша и трагедия русского либерализма", "Олеша и его роль в русской революции".
Человек, который делал отрывки для составителей книги "Ни дня без строчки", давно, в годы, когда вся литература хорошо писала, тоже писал хорошо.
Некогда хорошо писавший человек умер, и после него остались груды папок, в которых встречались хорошо написанные отрывки.
Превращение отрывков в книгу значительно обесценило их, но окончательно не погубило. Это весьма распространенный случай. Лучше, чем литераторам, он знаком сотрудникам Гипрогора, потому что, когда они создают эпохальные архитектурные ансамбли, сметая все на своем пути, то бывают случаи, что в связи с перерасходом сметы по разрушению иногда сохраняются отдельные памятники XII и XVI веков. Так, например, церковь Благовещения (XII век) в Витебске была взорвана только в 1962 году1.
А собор XVI века в Уфе - самый древний памятник города - был взорван немного раньше, в 1956 году2.
1 К. Оболенский. Фитиль. - "Огонек", 1963, № 7, с. 31. После уничтожения церкви Благовещения в древнейшем городе уже ничего древнего не осталось.
2 Н. Воронин, И. Грабарь, Е. Дорош, П. Корин, Б. Михайлов, В. Павлов, И. Петровский, М. Тихомиров, Н. Тихонов, К. Федин, И. Эренбург. В защиту памятников прошлого. - "Литературная газета", 1956, 23 августа, № 100.
Нам, москвичам, еще тоже кое-что осталось. Мы ходим по столице нашей родины, проходим мимо наземных вестибюлей метро Арбатская и Краснопресненская. Смотрим. Наши глаза широко раскрыты. Ценим то, что уцелело.
Некоторые отрывки из "Ни дня без строчки" прекрасны, как здания 20-х годов, случайно сохранившиеся среди мощных ансамблей последующих десятилетий.
Последняя книга Юрия Олеши обладает неоспоримым достоинством, если сравнить ее с тем, что писал он в течение двух с половиной десятилетий до нее: писатель пытается вспомнить, как он когда-то говорил человеческим языком, и старается, как может, начать снова так говорить.
Для того чтобы художник уже после сдачи и гибели создал несколько прекрасных отрывков, должны были совершиться непоправимые исторические разрушения.
Юрий Карлович Олеша был человеком, который ничего сам не делал. Он лишь плыл в исторических обстоятельствах, с прирожденным изяществом загребая веслом.
Его последнее произведение оказалось лучше тех, которые он писал прежде, только потому что ему позволили сделать это произведение лучше.
Если бы ему позволили сделать прекрасные строки на двадцать пять лет раньше, то он согласился бы еще с большим удовольствием. А если бы ему вообще позволили стать замечатель-ным писателем, то, можете не сомневаться, он с величайшей охотой принял бы это предложение. Но ему такого предложения не сделали, и поэтому замечательным писателем он не стал. Он думал, что для того, чтобы овладеть профессией замечательного писателя, нужно не покладая рук создавать замечательные метафоры. Он не понимал, что нужны более важные вещи: смелость не слушать толпу, все решать самостоятельно, готовность к ежеминутной гибели, ответственность за все человечество, уверенность в том, что когда приходится выбирать между рабством и смертью, то нужно выбирать смерть.
Почему же Юрию Олеше удалось написать несколько очень хороших строк?
Потому что обстоятельства позволили Юрию Олеше написать перед смертью несколько прекрасных строк: уже не было сил не позволять все. Были отборные кадры литературных критиков с атомными боеголовками, были ветераны-лысенковцы, не пощадившие сил в борьбе за уничтожение сельского хозяйства страны, было лучшее в мире метро и "Анна Каренина" во МХАТе, Евтушенко в "Юности", Кочетов в "Октябре", но уже не было сил заставить отдельных студентов Стоматологического института и Торфяного техникума, захлебываясь от восторга, изучать "Марксизм и вопросы языкознания".
И поэтому, хотя Олеша старался писать как только мог плохо, он делал это не до конца искренне и без твердой уверенности в том, что делает самое нужное народу, святое дело, и как только представилась возможность, он сразу перебежал. Хорошо он уже писать не мог, потому что вдруг можно начать писать только плохо, для этого не нужна серьезная работа над собой, но вдруг начать писать хорошо, после того как большая часть жизни отдана на то, чтобы писать плохо, тоже, конечно, нельзя.
Однако последняя работа Олеши оказалась хорошей не только потому, что ей это позволили.
Была еще одна и, может быть, решающая причина, которая высекла из мертвого камня эту вспышку таланта и искренности.
Писатель Юрий Олеша понял, что уже ничего не будет, что все кончено, что он выпал из литературной повозки, потерялся в дороге во время какой-то свары между тупоконечниками и остроконечниками или папафигами и мамафигами, ей-Богу, даже не помню, нет, кажется, между тайшетскими крысятниками и майкудукскими паханами. Он понял, что на смену пришли гораздо более энергичные и лучше понявшие, как именно следует выражать художественными средствами эпоху, деятели литературы и искусства, и тогда, все прокляв, он решил писать для себя.
Это создавало совершенно новую ситуацию: для себя ведь можно писать и хорошо, то есть, плюнув на чрезвычайно распространенное мнение, будто полезно и хорошо как раз то, что написано плохо.
Последняя книга Юрия Олеши "Ни дня без строчки" (1954-1960) написана гораздо лучше, чем "Народ строит свою столицу" (1937), и можно предположить, что преимущества произведения, создававшегося во второй половине 50-х годов, сравнительно с произведением, создававшимся во второй половине 30-х, связаны с некоторыми изменениями исторических обстоятельств (эти изменения не следует преувеличивать).
Из такого соображения, которое не испугало бы даже учительницу литературы, возникает желание сделать неосмотрительный и решительно расходящийся с реальной историей вывод: в хороших социальных обстоятельствах книги бывают лучше, чем в плохих.
Вывод этот совершенно беспочвенен и легко опровергается домашними средствами. Например: литература реакционной эпохи Николая I была не хуже литературы либеральной эпохи Александра I. Я, разумеется, говорю лишь о самых обыкновенных плохих и самых обыкновенных хороших обстоятельствах, влияющих только на обыкновенных писателей. Конечно, обыкновен-ный средний писатель в хороших обстоятельствах пишет лучше, чем в плохих, и достоинства средней литературы в хороших обстоятельствах тоже гораздо выше.
В необыкновенных плохих обстоятельствах начинают действовать другие законы. Эти законы уничтожают обыкновенное, но достойное искусство, учреждают палаческое, лживое, угодничес-кое и оставляют лишь нескольких обожженных великих, то есть выстоявших, с отвращением отпрянувших от палаческого, лживого, угоднического, выгодного искусства художников.
Вероятно, многие согласятся с тем, что "Ни дня без строчки" лучше, чем "Народ строит свою столицу", потому что в позднем произведении писателя есть вещи, которые в 1937 году могли бы показаться субъективистскими, путаными, наплевистскими, идейно порочными, вредительскими, изменническими, шпионскими, диверсантскими и террористическими, что, вероятно, потребовало бы некоторых сокращений и исправлений, после которых книга, несомненно, стала бы еще качественнее.
Для писателя, не обладающего очень большим дарованием, который сам ни на что посягнуть не может, улучшение или ухудшение обстоятельств становится решающим. К большим писателям это имеет несравнимо меньшее отношение, потому что большой писатель - это независимый человек, говорящий не то, что ему велят, а то, что важно для общества и что большой писатель знает несравненно лучше, чем мелкие администраторы, думающие, что именно им известно, в чем смысл бытия.
В судьбе искусства тягчайшую, но еще не истребительную роль играет давление на него чугунного, носорожьего самовластия. Истребление искусства начинается тогда, когда допустимый сопротивлением материалов предел давления бывает нарушен. Духовная жизнь и нравственные границы общества разрушаются, когда государство одерживает безраздельную, гибельную победу над всей растительной, животной и интеллектуальной жизнью, и наваливается не обыкновенная реакция с обыкновенными ущемлениями, ограничениями и посягательствами, а реакция испепеления.
Реакция испепеления это не та, которая затыкает рты (такую люди не раз стряхивали с себя), а та, которая заставляет эти рты разевать для восторженного обожания.
Тогда искусство заканчивается и начинается художественное оформление великих событий. Искусство приобретает форму громадных триумфальных арок, победоносных эпопей, оглушите-льных ораторий и других видов завоевания, покорения и уничтожения сердец.
В эпоху такой реакции общество делится на три части (границы частей подвижны): палачей, их помощников (то есть тех, кто не мешает палачам) и истребляемых.
Собственно, такое членение свойственно любой (то есть обыкновенной) реакционной эпохе. Но в эпохи беспробудной реакции (то есть полной ртов, которые считаются разинутыми не с голоду, а от восторженного обожания) происходит решительное перераспределение внутри частей, в результате чего количество палачей и помощников на душу истребляемых резко возрастает.
В такие эпохи возникает обширная научно-исследовательская литература о свободе, принадле-жащая перу помощников палачей и дающая, наконец, возможность понять, почему люди должны побольше улыбаться и поменьше разговаривать.
Несмотря на большие усилия и большие успехи в этой области, иногда остаются люди, которые считают, что свобода должна быть такая: право говорить о том, что Иван Грозный убийца, до того, как об этом, взвесив все за и против, сообщат в газете, не исключив возможности, когда понадобится, сообщить о том, что Иван Грозный был великий гуманист.
Почему у одних людей есть право говорить, когда они найдут это нужным, что Иван Грозный убийца, а у других этого права нет?
Что же тогда значит равенство людей?
Почему начальник отдела культуры Фрунзенского райисполкома мог сказать, что Иван Грозный убийца, а я должен был молчать об этом открытии, хотя сделал его гораздо раньше?
Может быть, начальник отдела культуры Фрунзенского райисполкома лучше меня знает историю? Может быть, он умнее и образованнее меня? Может быть. Этого я не знаю и с этим я не спорю. Но ведь право на открытие дается не только образованным и умным и даже не за выдающиеся заслуги. Это естественное право каждого человека, физиологическая реальность, такая же, как язык во рту, руки и ноги, право двигаться, дышать, есть.
Почему начальник отдела культуры Фрунзенского райисполкома решает, что в данный момент следует говорить о выдающихся морально-политических качествах Ивана Грозного, а во втором квартале с. г. следует коснуться некоторых недостатков? Впрочем, обнаружив, что план по некоторым недостаткам угрожающе перевыполнен, он заявляет, что не позволит отдельным очернителям, которые еще не знают жизни, зачеркивать историческое значение опричнины.
Потом является другой начальник отдела культуры Фрунзенского райисполкома и приходит к выводу, что в вопросе об Иване Грозном были допущены серьезные ошибки, в результате которых нашлись охотники ставить под сомнение уже не только Ивана Грозного, но и Павла I, и поэтому с 15-го числа давай-ка поворачивай оглоблю и люби Ивана Грозного по-старому, а что говорилось и делалось до 15 числа с. г. забудь. И вообще, кто ты такой? Кто тебе дал образование, кормил, учил, сопли вытирал, чье ты жрал сало, чью грудь сосал?
А ты чью грудь сосал? Кто тебе дал право решать, что вредно, а что полезно? Кто дал тебе право разрешать мне говорить это, запрещать то? Никогда не ошибаться? В первом квартале было решено, что Иван Грозный великий гуманист и корифей, во втором было научно доказано, что он сроду никаким гуманистом и корифеем не был, а был, наоборот, палачом и невеждой, в третьем квартале, однако, еще более научно было доказано, что он палачом и невеждой не был, а был гуманистом и корифеем, а в четвертом квартале будет доказано, что все, кто поверили в то, что говорили во втором квартале, должны отчитаться перед коллективом за допущенные ошибки.
Но это, конечно, пока трудно достижимый вариант-максимум. В таких вопросах спешка и кампанейщина совершенно неуместны. Сейчас еще никто не требует безошибочности. Требуется только одно: пожалуйста, не придумывайте индивидуальных ошибок, ошибайтесь, пожалуйста, вместе с начальником отдела культуры Фрунзенского райисполкома.
Неужели действительно есть люди, которые думают, что кто-нибудь серьезно относится к замечательным научным открытиям, каждое из которых лучше предшествующего?
Что нужно для того, чтобы человек повторял за другими, не размышляя, не задумываясь? Нужна вера. Когда нет веры, человек принимается думать, и вот тогда начинается нормальное общественное бытие с борьбой, противоречиями, победой и поражениями. Тогда приходит свобода.
Юрий Олеша начал писать в те годы, когда еще можно было выбирать, по крайней мере, для себя. Еще не произошло того, что лишило впоследствии людей возможности выбора: еще не было соучастия. Соучастия словом, делом, примирением с происшедшим. Еще не было выгоды и страха. Такой выгоды, которая была бы неотразимо привлекательной, и такого страха, который оставлял бы силы только для обожания.
Была жажда свободы в стране рабов, стране господ, уверенность людей в общественном переустройстве, и незаметная быстрая подмена одного идеала другим, таким, который сначала можно было как бы не заметить, а потом примириться с невозможностью что-нибудь изменить, и, примирившись, испугавшись, с ним согласиться. Люди думали, что это и есть революция, а на самом деле это уже было послереволюционное государство.
Юрий Олеша всегда ошибался только с начальником отдела культуры Фрунзенского райисполкома.
Самостоятельно ошибаться он не позволял себе никогда.
Выяснив некоторые спорные вопросы происхождения ошибок, мы подошли непосредственно к вопросу об искренности.
Вопрос об искренности назревал десятилетиями, как экономический кризис, и, наконец, без визы начальника отдела культуры Фрунзенского райисполкома с шипением и треском вырвался наружу1.
1 Н. Воронин, И. Грабарь. Е. Дорош, П. Корин, Б. Михайлов, В. Павлов, И. Петровский, М. Тихомиров, Н. Тихонов, К. Федин, И. Эренбург. В защиту памятников прошлого. - "Литературная газета", 1956, 23 августа, № 100.
Это стихийное явление вызвало эпизоотию в рядах художественной интеллигенции, эпидемию в рядах технической интеллигенции и эпидермофитию в рядах других ответственных лиц. В связи с этим вопрос об искренности был резко осужден, но некоторая часть отдельных нехарактерных нигилистов и тунеядцев отвлеклась от творческого труда и предалась размышлениям о смысле бытия в век, когда собака Тузик завоевывает космическое пространство, академик Лысенко утверждает самые прогрессивные методы разрушения сельского хозяйства громадной страны и простые люди не теряют надежды на то, что Иван Грозный бывает не чаще чем раз в десять лет.
Но этот вопрос требует специального исследования. Я, разумеется, не могу анализировать его во всей социально-экономической широте, а остановлюсь лишь на том, что относится непосредственно к моему герою и его кругу.
Однако раньше чем сказать о тяжелых последствиях, вызванных искренностью в организме Юрия Олеши, нужно отразить, как кризис перепроизводства искренности тяжело отразился на Викторе Шкловском.
Услышав, что нынче цены на мамонтов падают, а на искренность растут, Виктор Шкловский написал главу о любви у Шолохова и Хемингуэя1 с тем, чтобы перейти к главе о любви к Шолохову2 и сдержанному отношению к Хемингуэю3.
Искренность, честность всегда и по самым разнообразным поводам занимала воображение Виктора Шкловского. Но в день, когда он писал вступление к книге Юрия Олеши, он придавал ей особенно большое значение. Он снова и снова возвращается к теме, которая его мучила всегда и особенно последние тридцать пять лет жизни, начиная со статьи "Памятник научной ошибке" (1930) и даже еще раньше, с первой печатной работы "Воскрешение слова" (1914). Лучший знаток искренности и ее круга Виктор Шкловский говорит: "...вся книга написана о нашей жизни, увиденной не до конца, н о честно... (разрядка моя. - А. Б.) Юрий Олеша... никогда не сказал компромиссного слова..."4.
В устах такого знатока предмета, как В. Б. Шкловский, это звучит безукоризненно авторитетно.
Превосходный писатель Э. Казакевич (у которого было все, кроме желания не обманывать самого себя) понял и в блестящей афористической форме сумел выразить сущность взаимоотно-шений Юрия Олеши с окружающей действительностью. Он писал:
"...В разные времена люди ценят разные качества. Мне кажется, что в наше время передовые советские люди особенно ценят честность"5.
1 Виктор Шкловский. Теория прозы. Размышления и разборы. М., 1959, с. 605-615, 617-622.
2 Там же, с. 621.
3 Там же, с. 603.
4 Виктор Шкловский. Предисловие к кн.: Юрий Олеша. Ни дня без строчки. Из записных книжек. М., 1966, с. 7.
5 Цит. по кн.: Юрий Олеша. Ни дня без строчки. Из записных книжек. М., 1965, с. 3.
Юрий Олеша вне всякого сомнения, был самым передовым советским человеком, и поэтому он особенно ценил честность. Другие люди в другие времена придерживались другой точки зрения, а Юрий Олеша ценил честность. Вот, например, когда была рабовладельческая формация, они эксплуатировали рабов и стимулировали бездушие, в эпоху феодализма - вели грабительские войны и всему предпочитали коварство, в эпоху капитализма - самые низменные инстинкты, и т. д. Юрия Олешу все это даже и не коснулось.
Слова Э. Казакевича о честности, которая сжигала Ю.К.Олешу, относятся к середине 50-х годов. В них необычайно остро и выпукло схвачена историческая производность социальной психологии. Разное время ценит разные качества. С середины 50-х годов передовые советские люди стали ценить честность. До этого времени (середина 40-х годов) они особенно ценили борьбу с космополитизмом. С середины 30-х годов - уничтожение врагов народа и так далее.
Оценив честность в середине 50-х годов, Юрий Олеша, закруглившись с вопросом о приоритете, перестал писать о том, "как прекрасны русские имена и русские лица". Перестал он также писать о том, что "жизнь на советской земле с каждым днем становится лучше..."1
Теперь он с недоброй усмешкой и с выстраданным пониманием процесса исторического развития пишет:
"Когда я хотел перейти Арбат у Арбатских ворот, чей-то голос, густо прозвучавший над моим ухом, велел мне остановиться. Я скорее понял, чем увидел, что меня остановил чин милиции.
- Остановитесь.
Я остановился. Два автомобиля, покачиваясь боками, катились по направлению ко мне. Нетрудно было догадаться, кто сидит в первом. Я увидел черную, как летом при закрытых ставнях, внутренность кабины и в ней особенно яркий среди этой темноты - яркость почти спектрального распада околыш.
Через мгновение все исчезло, все двинулось своим порядком. Двинулся и я"2.
1 Юрий Олеша. Наша Родина - Российская Социалистическая республика. "Тридцать дней", 1938, № 4, с. 8.
2 Юрий Олеша. Ни дня без строчки. Из записных книжек. М., 1965, с.186.
Куда же двинулся Юрий Олеша? Не знаете? А я знаю. Он двинулся к родным и друзьям восторженно рассказывать, какое вдохновляющее событие произошло с ним, что он получил громадный заряд творческой энергии и теперь отдаст заряд весь без остатка этому околышу среди этой темноты, этой беспробудной ночи, и в неподражаемых красках отразит борьбу народа с космополитизмом (середина 40-х годов).
В середине 50-х годов (эпоха честности, охватившей широкие слои населения, в том числе работников торговой сети и творческую интеллигенцию) Юрий Олеша увидел другой автомобиль. Увидев его, он рассказал о нем так:
"НАДЕЖДА
Едут лицом на зрителя щеголеватые мотоциклисты эскорта, едет длинный автомобиль, в котором... субъективист и волюнтарист (А. Б.). Люди размахивают флажками, вскидывают руки, кричат:
- Волюнтарист! Волюнтарист! (А. Б.)
Таковы первые кадры кинохроники о приезде субъективиста и волюнтариста (А. Б.) в Париж...
- Волюнтарист! Волюнтарист! (А. Б.)
Еще мы увидим много хроник... Но и тех, что уже прошли перед нами, достаточно для вывода, что встреча была поистине триумфальной.
Что помогло тому, чтобы зажегся, вспыхнул этот триумф?..
...главная, самая важная причина триумфа... в том, что всюду и постоянно, где бы ни был волюнтарист (А. Б.), раздавался призыв ко всеобщему разоружению.
Оцените обстановку. Французы живут в капиталистической стране. Порой они слышат или читают в газетах о том, что войне, возможно, и не мешало бы быть... Есть же в капиталистическом мире люди, держащие войну про запас. Простым людям Франции, слышащим эти разговоры или читающим подобное в газетах, делается страшно: она может разразиться, эта чудовищная война, чья одна бомба разорвется с силой, превосходящей все взрывы со времен изобретения пороха. Угроза войны вполне реальная вещь. Мы знаем, что наше государство никогда не начнет войны. Французы дышат совсем иным воздухом: рядом с ними Аденауэр, мечтающий о реванше, где-то рядом строятся базы, где-то рядом требуют военных кредитов.
И вдруг не в газете, не в хронике кино, а на самом деле, в Париже, в самом их Париже, появляется человек, сильный, уверенный в правде своего мнения - молодой от этой силы и от этой правды, - и говорит, что нужно всеобщее разоружение и что оно возможно...
- Разоружение! Разоружение! Нужно и можно жить в мире!
- Вы слышите? Вы слышите?
- Разоружение возможно! Слышите?
- Мир! Слышите? Мир во всем мире!
- У них такие ракеты, такие бомбы, и они за мир! Слышите?.. и это вызвало эту бурю радости, которая пронеслась по стране. Мы ничего нового не сказали в данном случае, тем не менее приятно повторить, потому что приятно знать, что самое важное, что может быть сказано на заре нового, атомного века, сказано:
- Разоружение, разоружение и разоружение!
Визит волюнтариста (А. Б.) во Францию, безусловно, вселил в душу простых французов надежду на то, что война никогда не будет развязана.
Призрак войны теперь не так близко будет стоять за их окнами. Теперь французы могут даже увидеть во сне волюнтариста (А. Б.), наливающего им из кувшина доброе молоко или веселое вино"1.
А через шестнадцать страниц после записок Ю. Oлеши в том же номере журнала "Октябрь" напечатаны записки бывшего следователя по особо важным делам Л. Шейнина. И в этих записках сказано:
"...встреча с Парижем...
Отрадно сознание, что... политика борьбы за мир во всем мире, которую так убежденно и смело, так твердо и принципиально ведет наш субъективист и волюнтарист (А. Б.), остается неизменной.
Волюнтарист (А. Б.) всегда честно говорит то, что думает...
Волюнтарист (А. Б.) борется за мир... Он честно говорит то, что думает...
...после визита волюнтариста (А. Б.) во Францию в апреле I960 года..."2
1 Юрий Олеша. Надежда. (Заметки). - "Литература и жизнь", 1960, 3 апреля, № 41.
Этот рассказ завершает первую посмертную публикацию "Ни дня без строчки", напечатанную в журнале "Октябрь". Но я цитирую куски из этого рассказа по прижизненной публикации. Журнал "Октябрь" повторил ее, не изменив ни слова. Я цитирую то, что не только написал, но и напечатал сам Юрий Олеша. Я делаю это для того, чтобы у читателей не возникло каких-либо сомнений относительно неправильно понятых обязанностей членами комиссии по литературному наследству, или составителями, или редакцией журнала "Октябрь" во главе с В. А. Кочетовым. Впрочем, для подобного подозрения (несмотря на то, что членами этой комиссии состоят В. О. Перцов, Л. В. Никулин, В. Б. Шкловский, вдова писателя) решительно нет оснований: фразеология, интонация и ритмика рассказа, особенно последняя его фраза столь характерна для стилистики Ю. Олеши, что даже такой специалист по атрибуции как академик В. В. Виноградов, не смог бы отказаться от искушения возглавить экспертную комиссию и доказал бы. (Автор изменил одно слово: волюнтарист вместо Хрущев. - Ред.)
2 Лев Шейнин. Париж-Веве. - "Октябрь", 1961, № 8, с. 179-180.
Я не занимаюсь сравнительным анализом двух текстов, но и без специального обследования сходство их не кажется надуманным. Как характерно и как приятно, что наши любимые писатели и наши любимые следователи в нашем любимом журнале дышат воздухом одних и тех же идей!..
Итак, мимо нас проезжают два автомобиля.
Они проезжают, как две исторические эпохи.
Человек, который всегда особенно ценил честность, высоко оценивает каждую из эпох с точностью, на которую способен только вновь утвержденный начальник отдела культуры Фрунзенского райисполкома.
Если бы "Ни дня без строчки" были напечатаны немного раньше, то в них, несомненно, наряду с подборками о деревьях, писателях и птицах, была бы подборка и об автомобилях.
Сегодня 8 марта - Международный женский день. В такие торжественные дни мы привыкли подводить итоги и готовиться к новым победам.
Подводя итоги, следует упомянуть о двух обстоятельствах, которые сыграли решающую роль в судьбе книги "Ни дня без строчки": первое обстоятельство заключается в том, что автор догадался, что на улице на него не будут указывать пальцем, как на Толстого, на высокие ступени социальной лестницы не пустят, и поэтому можно уже не подличать с неистовостью начинающего преуспевателя, а кое-где действительно быть искренним. Второе обстоятельство состоит в том, что он узнал, будто теперь каждому разрешили писать в ряде случаев лучше, чем раньше, то есть предполагалось (безосновательно), что эту самую искренность санкционировали.
Больше всего восхищает в последней книге Юрия Олеши это то, что ее автора не удалось до конца разрушить другим, и то, что автор не успел окончательно уничтожить себя сам. Именно поэтому такому человеку иногда удавалось не "писать так, как пишут остальные".
Но этот человек знал, что остальные этого никогда ему не позволят, и поэтому он писал, не рассчитывая на то, что остальные это прочтут, и поэтому он писал хорошо или, по крайней мере, старался писать, как мог, хорошо, и иногда это ему действительно удавалось.
Я рассказываю подробно, долго и терпеливо о книге Юрия Олеши "Ни дня без строчки", стараясь, где можно, показать, что это хорошая книга или, по крайней мере, книга, которая не на много хуже ранних его книг, или что она лучше некоторых книг - своих сверстниц.
Я старался рассказать о причинах появления этой книги, о беде, приведшей к ней, о том, почему она осталась незавершенной, и о том, что она завершена, на мой взгляд, неправильно. Но я нигде не говорю, что это плохая книга или что она много хуже ранних книг ее автора.
Я настойчиво, пользуясь всякой возможностью, старался сказать, что это хорошее произведе-ние и что, благодаря определенным образом сложившимся историческим обстоятельствам, оно выгодно отличается от большого количества очень плохих произведений, написанных Юрием Oлешей раньше. Временами оно приближается к тем хорошим или, по крайней мере, достойным произведениям, которые Юрий Олеша написал в молодости. Это произошло потому, что в середине 50-х годов Юрий Олеша и несколько других писателей, которых, конечно, это интересо-вало, получили некоторую возможность писать и даже печатать в известной мере то, что они думали. Юрий Олеша не злоупотребил такой возможностью, это правда. Но в то же время он и не настаивал в эти годы на том, что прекрасна власть того ума, а уже настаивал на том, что прекрасна власть другого ума.
Все это я старался подчеркнуть, нигде не умаляя значения книги "Ни дня без строчки" и ее автора. Но больше того, что я уже сделал для человека, который пренебрег самым главным, что есть у людей, - свободой, и который поэтому совершил в своей жизни столько недостойных поступков, я сделать ничего не могу.
Юрий Олеша был добровольцем, старшиной, оставшимся на сверхсрочную службу. И поэтому, когда вместо незначительной книги "Ни дня без строчки" уже можно было попытаться написать нечто более серьезное, он не воспользовался этой возможностью, не попытался и предпочел сделать вид, что его творческий путь органичен в своем развитии.
Он думал, что это менее стыдно, чем раскаяние.
Я не знаю, проходили ли в Ришельевской гимназии, где учился Юрий Олеша (а я при встречах так и не успел рассказать ему), один очень важный эпизод из древней истории.
Этот эпизод, может быть, в еще большей степени, чем Олеши, касается других людей, и поэтому я его расскажу.
В древней Иудее, как всюду, были богатые и бедные, и если человек становился совсем бедным, то он продавался в рабство.
"Если продается тебе брат твой, Еврей, или Евреянка, то шесть лет должен он быть рабом тебе, а в седьмой год отпусти его от себя на свободу".
Но, в отличие от других народов, которые считали, что моральные проблемы, связанные с рабством, к свободным людям отношения не имеют, то есть рабы это рабы, а свободные люди потому и свободны, что рабы это другие и на их, свободных людей, психологию владение рабами никакого впечатления не производит, древние иудеи понимали, что рабовладение создает обстоятельства, которые имеют роковые последствия не только для рабов, но и для рабовладельцев.
Поэтому к рабству относились с большой осторожностью, и старались особенно не рисковать.
Однако, не будучи в силу ряда сложных социально-экономических процессов последователь-ными до конца, рабство терпели, но при этом делали нечто такое, чего не знали другие народы: бедняка, отслужившего шесть лет, из рабства освобождали.
В этом, конечно, не было настоящей, подлинной принципиальности и последовательности, но в то же время было благодетельное внутреннее беспокойство.
"Помни, что (и) ты был рабом на земле Египетской, И избавил тебя Господь, Бог твой; потому я сегодня и заповедую тебе сие".
Жизнь бедняков в рабстве часто была сытнее и легче жизни на воле, голодной и трудной. И попавшие в рабство люди иной, раз потихоньку радовались сытой жизни и культурному обществу.
Свобода умирать под мостом им вовсе не казалась столь привлекательной, как это иногда представляется со стороны людям, которые не знают жизни.
Поэтому бедные голодные люди, попавшие в рабство, иногда предпочитали сытую неволю. Шесть лет кончались, но они не спешили домой.
"Если же он скажет тебе: не пойду я от тебя, потому что я люблю тебя и дом твой, потому что хорошо ему у тебя..."
Победители с презрением относились к добровольцам, к рабам по своей воле.
Для того чтобы отличить их от свободных людей, попавших в шестилетнее рабство, им прокалывали ухо шилом.
"...не пойду я от тебя... потому что хорошо у тебя...
То возьми шило, и приколи ухо его к двери; и будет он рабом твоим на век".
Говорю вам: презрен не раненый пленник, не побежденный борец, не человек, рожденный в неволе, не муж, павший в неравной борьбе, но презрен тот, кто выбрал неволю. Ибо он променял главное, что дано мыслящей плоти свободу - на жалкую подачку своего господина.
Господи, вразуми людей, пленников, должников, добровольцев, старшин, оставшихся на сверхсрочную службу, научи их, и, может быть, поймут они, что в рабстве нет ни счастья, ни радости, ни покоя и что ни сладкие яства, ни другие плоды земли не сладостны там, где нет свободы, и где нет свободы, там нет любви, радостей жизни, сладких плодов земли и высокого духа.
И если человека превратили в раба и он забыл, или не знает, или не хочет знать, что он раб, то участь его и детей его хуже участи раба, который знает, что он раб, и ищет способа освободиться от ярма своего, от цепи своей.
И потому Моисей сорок лет водил свой народ по пустынным пескам, не отпуская их в дома свои, чтобы родилось новое племя свободных людей, не знавших ярма, и цепи, и плети.
Человек с проколотым ухом писал свои строчки, и он, и другие люди с проколотым ухом не понимали, что только свободный человек может создать хорошие строчки и другие плоды земные, и радости жизни, и любовь, и счастье.
По трудным дорогам истории культуры ходят и ездят писатели, и их социально-историческое развитие всегда находится в строгом соответствии с социально-историческим развитием других пешеходов века.
Пешеходы двигаются в разных направлениях, читают. Одни читают прозу, другие стихи, а есть такие, которые читают "Знание - сила".
Еще больше, чем пешеходы, читают пассажиры.
Нигде в мире вы не увидите такого количества читающих (и не какую-нибудь макулатуру, а Дхаммападу, перевод с пали, введение и комментарии В. Н. Топорова. Академия наук СССР, Институт Востоковедения. Памятники литературы народов Востока. М., Издательство Восточной литературы, 1960) в метро, троллейбусе, автобусе, трамвае, электричке, как у нас. Это всегда приводит в бешенство иностранцев (наших врагов) и восхищает наших иностранных друзей. Иностранцы, старающиеся честно разобраться в нашем человеке, с удивлением спрашивают, отчего это: от нестерпимой страсти к просвещению или из-за отсутствия времени читать дома.
Читают пассажиры-современники. Некоторые книги они читают очень внимательно. Особенно про шпионов. Потому что там если упустишь, то потом не поймаешь.
Книгу Юрия Олеши "Ни дня без строчки" тоже прочитали очень внимательно.
Книга эта современникам очень понравилась. Особенно лучшим: вдове писателя, ее сестре, мужу сестры, членам комиссии по наследству, авторам предисловий, друзьям детства и другим людям, ценящим в искусстве смелость, прямоту, благородство и роскошные метафоры.
Мне эта книга тоже понравилась. Хотя и по иным причинам, нежели те, которые вызвали единодушное восхищение лучших моих современников.
Она понравилась очень многим людям, не предвзятым, с хорошим вкусом, читающим много и внимательно.
В связи с этим передо мной встают полные благодарности глаза одного знакомого эскимоса, которому подарили в конце голодной зимы головку чеснока, коробку витамина "С" и бутылочку хвойного экстракта.
Книга Юрия Олеши особенно важна с точки зрения взаимоотношений искусства и времени.
В другую эпоху, например, когда был написан "Король Ричард III", она могла бы пройти совсем незамеченной. Но напечатанная в одном номере журнала "Октябрь" с романом Аркадия Первенцева "Матросы" она начинает волновать наши сердца, сердца читателей, ценящих в искусстве безумную честность, подлинный гуманизм и знание грамматики.
Каждое время ждет своих поэтов, своих трубачей. У каждого времени свои требования, своя культура и свой министр культуры.
В 20-х годах были свои требования и свой министр. В 80-х годах мы имеем другого министра1.
1 Я говорю, разумеется, лишь о странах с высокоразвитой культурой и великим историческим прошлым. Об эпохах и государствах, не имеющих министров культуры, то есть стоящих на стадии варварства (античность, современная Великобритания), я вообще избегаю говорить.
Каждое время ждет и получает своих лучших поэтов. Тех, которых оно заслуживает. Были в 20-х годах свои лучшиш поэты (Пастернак, Мандельштам, Ахматова, Клюев, Волошин и некоторые другие). Есть и в 60-х свои лучшие поэты.
Каждая эпоха создает свои памятники, выражает себя в них, защищает их, оберегает, охраняет, наслаждается ими. Эпоха Екатерины II создала памятник Петру, эпоха Николая II блистательно выразила свой идеал памятником Александру III и наслаждалась им. Другой эпохе этот памятник не понравился, она отнеслась к нему очень серьезно, не пожелав разбираться еще и в сатире на самодержавие, и выкинула его. Однако не совсем и не навсегда. Свой вариант этого памятника и этого героя, оставив всякие шуточки и сатиру, она установила в Москве и назвала "Юрий Долгорукий".
Но эпоха не только ставит и не только сносит памятники. Она еще и обещает другие. Однако в силу ряда сложных общественных законов не сразу свои обещания выполняет. Так, был обещан, но в силу ряда сложных общественных законов еще не возведен памятник жертвам сталинских побед и палачеств. Может быть, это происходит потому, что обещан он был в одну эпоху, а потом наступила другая? Нет, конечно, не поэтому: ничем одна эпоха не отличается от другой, и потом вообще, почему - две эпохи? Дело совсем не в этом, а в том, что есть большие и есть меньшие возможности: одна эпоха бывает более богата обещаниями, другая менее. Вот и все.
Сравнивая одну эпоху в искусстве с другой, мы можем делать поучительные выводы, на основании которых следует научно планировать дальнейшее развитие литературного процесса.
Кроме тех выводов, которые читатели сделают без меня, и тех планов, которые лягут в основу работы Правления Союза писателей, мне бы хотелось разъяснить, что я с глубоким уважением вообще отношусь ко всяким годам.
Быть может, 20-е годы с их культурой, министерством (наркомпросом) и искусством мне особенно симпатичны, потому что в них уже были ростки того нового, что так великолепно расцвело в 30-х, 40-х, 50-х, 60-х, 70-х, 80-х и т. д. годах? Я отношусь к той эпохе с совершенно особенным чувством, и это поймет всякий дурак, потому что в ней было очарование юности, свежести, трогательности девочки-подростка, девственность цветения, только бутоны, прохладные розовые бутоны, еще неясные в своей внутренней сущности, полные неведомой и загадочной прелести и тайны, когда еще многие не знали, во что они (то есть эти бутоны) распустятся и чем будут пахнуть. Лучшим в 20-х годах было то, что это цветение, этот запах еще не был столь пронзительным и лишенным тайного очарования.
Но книга "Ни дня без строчки", создававшаяся в 50-е годы, нравится людям, среди которых ближайшие родственники, члены комиссии по литературному наследству, авторы предисловий и приятели составляют незначительное меньшинство. Почему же эта книга так нравится остальным людям?
Потому что так не нравятся книги: "Секретарь обкома" Всеволода Кочетова, "Мертвая зыбь" Льва Никулина, "Тля" Ивана Шевцова, "Щит и меч" Вадима Кожевникова, "Хлеб - имя существительное" Михаила Алексеева.
Потому что когда люди читают все время только книги, страдающие отсутствием стилисти-ческой тонкости, то книга, обладающая стилистической тонкостью, кажется необыкновенно привлекательной, обаятельной, прекрасной и свежей, как бутон. Который еще не распустился. Который обыкновенные читатели Достоевского, Чехова, Хемингуэя, Цветаевой, Фолкнера и Толстого не обязаны и не могут распускать сами.
Главное достоинство книги Юрия Олеши в том, что она лучше других книг.
Одновременно с этим имеется еще одно достоинство: книга Юрия Олеши принадлежит к числу тех, в которых мы особенно ценим не то, что в них есть, а то, чего в них нет.
Она принадлежит к тем никогда не увядающим творениям художественного гения, в которых нет жены, выдающей своего мужа матросам, сына, предающего своего отца, перевыполнения плана производства зерновых, женщин, целомудренных, как заснеженные вершины, мужчин, чистых, как опорожненные поллитровки, председательниц месткома, деятельных, как мясорубки.
И вот оказалось, что могут нравиться и такие книги - без предателей в ореоле героев и без кукурузы, прокладывающей Северный морской путь.
В связи со всем этим бетонные представления о достоинствах и недостатках художественной литературы начинают колебаться.
Непоколебимым остается лишь бетонное представление о том, что нужно и что не нужно читателю. Правда, при этом возникают неожиданности, которые могли бы и озадачить, но не озадачивают.
Например, могло бы озадачить то, что сборник стихотворений "Бег времени" буржуазно-салонной и чуждой нашему народу поэтессы-дамочки Анны Ахматовой, писавшей лишь для узкого круга снобов и гадов, изданный тиражом пятьдесят тысяч экземпляров, разошелся в один день.
Человек движется не со всей историей мира, а с той частицей ее, за которую ухватился, к которой его прибило. За что именно ухватиться, решает в значительной мере сам человек и сам несет ответственность за это решение.
Юрий Олеша сам выбирал свою частицу истории. Он был слабым человеком, и поэтому на его решение влияли разнообразные и не всегда непреодолимые обстоятельства. Он выбрал именно то, что считал для себя наиболее подходящим. Он ошибся, погиб, позволил обстоятельствам себя растоптать, потому что искал успеха, а следовало искать истину.
Но художник должен искать только одного: полного, точного и бескомпромиссного выражения своего намерения.
Таким образом, речь идет о правде искусства.
Правда искусства может не совпадать с истиной жизни и художник может ошибаться; для искусства это значения не имеет. Для искусства имеет значение не правда жизни, а уверенность художника в своей правоте. Поэтому, несмотря на отнюдь не бесспорное утверждение одних людей, что Бог есть, и столь же проблематичное утверждение, что Бога нет, картина Луки Кранаха "Распятие" прекрасна и нравится и тем и другим, независимо от согласия с художником из-за бесспорного художественного аргумента.
В последней книге Юрия Олеши снова появились попытки утвердиться в своей, а не в чужой правоте. Но личность, выражающая себя в своем искусстве, была уже исчерпанной и второстепен-ной, и поэтому произведение оказалось незавершенным и противоречивым и значительным лишь в тех частях, которые отразили частицы души, уцелевшие от распада.
Если положить историю литературного творчества Юрия Олеши рядом с историей советской литературы, для которой он так много сделал, то станет ясным, как точно Юрий Олеша повторил горы и пропасти своего века, как оба они - писатель и его литература - писали хорошо или плохо в хорошие или плохие годы.
Он был слабым, жалким, талантливым человеком, и он ничего не открыл, чего не открыла бы история литературы, чего не открыли бы за него. Он не возражал времени и его искусству. Он всегда был согласен. Он ничего не нашел, ни на чем не настоял, ни в чем не переубедил никого. У него не было своего определенного и независимого взгляда на мир и не было равных отношений с миром. Он не спорил со Вселенной. Он лишь старался попасть в хороший полк.
Я расскажу вам о смерти поэта.
Юрий Олеша умер так, как скорбно сообщается в некрологах: "после продолжительной и тяжелой болезни".
Он болел двадцать шесть лет, и когда вскрыли его архив, мы стояли растерянные и испуган-ные, не понимая, как двадцать шесть лет жил этот человек, скончавшийся после продолжительной и тяжелой болезни бесплодия, беспомощности, пустоты и страха.
За месяц до его смерти я сидел на железной бочке во дворе облитого солнцем писательского дома и, щурясь, смотрел на высокий балкон. На балконе стоял Юрий Олеша. Я помахал ему рукой. Он помахал мне. Я сидел на железной бочке посреди писательского двора (тогда я еще не был даже членом Союза писателей!), и одиннадцать этажей писательских жен презирало меня. Олеша бросил окурок, стараясь попасть мне в глаз. Потом махнул рукой и ушел. Я уже знал, что он махнул рукой на все сразу: на Вселенную, на писательских жен, на международное положение, на книгу о нем, которую я писал, и на бочку, закатившуюся в Замоскворечье. Но я заметил, что рука, махнув, остановилась на некотором расстоянии от бедра. Между ней и смертью поэта осталось небольшое пространство, которое, я знал, Юрий Олеша заполнит литературой.
Никогда за сорок лет литературной жизни у Юрия Олеши не было так много исписанной бумаги. Для того чтобы получилась книга, нужно много, очень много исписанной бумаги. Эту бумагу долго перекладывают с места на место, потом клянутся, что покончат с собой, потом клянутся (и уже совсем определенно), что больше писать не будут никогда. Тогда получается книга. Юрий Олеша перекладывал бумагу с места на место, клялся, что отравится барбамилом, что никогда больше писать не будет. Ничего не помогало. Книга не получалась.
Были исписанная бумага, огромный писательский опыт, влюбленность в каждую строчку писателя, перед которым он преклонялся - Юрия Олеши.
Был замечательный художник, была прекрасная бумага, превосходная пишущая машинка, яркий солнечный день. Книги не было.
Вечером он позвонил мне.
- О чем вы думали во дворе? О моей смерти?
- Нет, сказал я не наврав, нет. Я думал о том, как вы пишете свою смерть: портсигар около глаза, отблеск на стекле глаза... То есть не так, конечно, а вообще как вы пишете, зачеркиваете, живете. Понимаете?
- Да, да, - сказал Олеша, - возможны варианты: медленно расширяется и останавливается зрачок. Правда, хорошо? Нет, лучше так: маленький выпуклый красный шар глаза. А, как вы думаете?
Двадцать шесть лет писатель уверял, что литература - его метафора, психологизм, неологизм. Потом понял, какую ответственную роль играет эвфония.
Герой "Ни дня без строчки" и автор того же произведения, человек, который не сопротивлялся истории, а только двигался в ее течении, цветок и садовник, узник и каменщик времени, гибнущий художник дописывает свою последнюю трудную строчку.
Последнюю строчку перед гибелью.
"Я еще попрощаюсь с тобой торжественно, выбрав специальную обстановку, а пока прощание на воспоминании...
Вот одно из черновых прощаний, дорогая жизнь..."1
1 Ю. Олеша. Ни дня без строчки. - "Литературная Россия", 1963, 1 января, № 1.
И в этот миг - в мозгу прошли все мысли,
Единственные нужные. Прошли
И умерли.
"Ложись!" - крикнул чей-то испуганный голос.
Художник упал на колени.
Но тут же глаза его на мгновение встретились с светящейся трубкой рядом с ним крутившейся бомбы.
Ужас - холодный, исключающий все другие мысли и чувства, ужас объял все существо его; он закрыл лицо и упал на живот.
И когда жизнь, отношения людей, искусство, любовь, старые привязанности, нравственные представления и иллюзии стали рушиться и гибнуть, и он увидел безнадежный мир, мир лжи, крови, разрушения и смерти, подобный тому, каким предстал он в огне и дыме за сто лет до этого в севастопольских ложементах начинающему писателю, подпоручику легкой № 3 батареи 11-й артиллерийской бригады Л. Толстому, он понял, что так жить невозможно, что все непоправимо, все кончено и он погиб, - и тогда перед ним прошла его жизнь, в которой были прекрасные и чистые дни, и в эти дни он написал лучшие свои страницы, и были отступничество и ложь, которых можно было избежать, удача, которую он так любил и за которую отдал так много, испуг, который он не мог преодолеть, лицемерие, равнодушие, измены и страх.
Воспоминания о прожитой, о погибшей, погубленной жизни - целый мир чувств, мыслей, надежд промелькнул в его воображении.
Он вспомнил, как отец ставит его, мальчика, на подоконник и целится из револьвера; вальс, который он напевал до последней минуты, пришел ему в голову; девочка, которую он любил, явилась ему в воображении, в синем платье, отделанном красной тесьмой; пристав, оскорбивший его в детстве; вспомнились ему нераздельно с этими тысячи других воспоминаний, но чувство настоящего - ожидание смерти и ужаса - ни на мгновенье не покидало его.
Во весь горизонт стояла пред ним, тихо приплясывая, смерть.
Бедный и грешный, испуганный, сдавшийся художник умирал, улыбаясь, все понимая, не понимая.
Красный лес косо и быстро встал перед ним. Белое небо качнулось и замерло под его ногами.
Это была удивительная реальность, которая в точности лепится по мечте.
Быстро и резко с дороги поднялся камень и ударил художника в грудь.
1958 - 1968


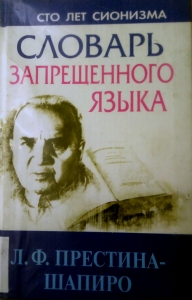



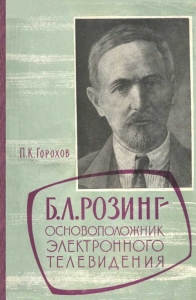
Комментарии к книге «Сдача и гибель советского интеллигента. Юрий Олеша», Аркадий Викторович Белинков
Всего 0 комментариев