Поль Декарг Рембрандт
НЕ ПОНЯТЫЙ ВРЕМЕНЕМ
Художник и время… Проблема емкая и полная драматизма. Сколько потрясений, триумфов и трагедий задействовано в ней! И как меняет время представления наши о красоте, мастерстве и гениальности! Иной раз то, что казалось когда-то верхом совершенства, сегодня трактуется как посредственность, другое же, не замеченное современниками, вдруг столетия спустя вызывает преклонение и восторг. К примеру, что говорит читателю сегодня имя Лебрен? Думается, ничего: о нем вспоминают лишь профессионалы-искусствоведы, да и то с долей иронии. А ведь когда-то слава его гремела. Шарль Лебрен (1619 — 1690) в свое время прославился не только на всю Францию, но и на всю Европу, его имя произносилось с почтением, чуть ли не с благоговением, как имя бога в искусстве. Первый живописец «короля-солнца» Людовика XIV, президент Академии, директор фабрики гобеленов, руководитель строительства Версальского дворца, основатель Школы живописи и прочая и прочая, он определял эстетические каноны и вкусы эпохи, слово же его считалось законом. Но прошло совсем немного времени, кануло в Лету «великое царствование», и о Лебрене перестали говорить и думать, а его эклектическая живопись и ходульные трактаты остались лишь как некий курьез в истории искусства. Между тем всего за пять лет до того как родился Лебрен, в Испании умер художник с совсем иной исторической судьбой. Происходил он с острова Крит, для своей новой родины был иностранцем, и жители ее даже не знали его подлинного имени (длинное имя это — Доменикос Теотокопулос — казалось слишком непривычным для их слуха), а звали его просто «греком» (Эль Греко). Король отверг его живопись, а обыватели считали его чудаком. Правда, были люди, которые его ценили, у него хватало заказов, но… Но все же ценители и знатоки полагали, что он ущербен и не сумел распорядиться своим талантом. А после смерти о нем забыли на три столетия, и его имя даже не упоминалось в специальной и учебной литературе. И вдруг в начале нынешнего века у искусствоведов, художников и просто любителей живописи словно открылись глаза, и Эль Греко был признан гением, одним из тех титанов, которые трудились и создавали не для своего времени, а для Вечности.
К числу подобных мастеров, которых не поняла и не приняла их эпоха, подлинных вневременных (или всевременных) гениев принадлежит и Рембрандт, причем в этой не столь уж многочисленной плеяде он занимает одно из ведущих мест. Мысль эта прекрасно высветлена и доказана в книге, лежащей перед нами. Ее автор — Пьер Декарг, журналист и культуролог, широко известен в мире искусства. Перу его принадлежит ряд монографий о художниках, в том числе о Хальсе, Вермеере, Анри Руссо, Гойе, Пикассо, а также общие труды — о перспективе, рисунке, петербургском Эрмитаже и другие. Книга о Рембрандте — несомненно одна из лучших его работ. Это не научный трактат и не романизированная биография, хотя здесь есть элементы и того и другого. Это — анализ творчества Рембрандта, авторское видение его главных произведений, определение места художника среди других живописцев эпохи, и все это — на фоне жизни современной ему Голландии. Жизнь эта была сложной и многообразной, в чем-то переломной, овеянной дыханием недавнего революционного обновления. Она имела свою длительную предысторию, которая, по вполне понятным соображениям, не вошла в книгу, но без представления о которой трудно разобраться в тех политических и социальных коллизиях, которые оказались современными Рембрандту и так или иначе повлияли на его творчество.
***
В год рождения Рембрандта (1606) национально-освободительная революция в Нидерландах еще не закончилась: первая точка в ней будет поставлена только три года спустя, в 1609 году, когда состоится двенадцатилетнее перемирие, признающее de facto существование молодой Голландской Республики. А этому предшествовали сорок четыре года жестокой и кровавой борьбы, пришедшейся на время детства, молодости и зрелости родителей будущего художника.
Территория, известная в Средние века под именем Нидерланды («Низинные земели»), в основном соответствует нынешним Нидерландам, Бельгии, Люксембургу и части Северной Франции. К исходу XV века Нидерланды делились на 17 провинций, насчитывали около трех миллионов человек населения и имели 200 городов, 150 промышленных местечек и свыше 6 тысяч сел. С точки зрения экономики, страна довольно четко распадалась на юго-запад, состоявший из 10 провинций, и северо-восток, насчитывавший 7 провинций. Промышленный юго-запад группировался вокруг провинций Фландрии и Брабанта. Его города славились производством сукна и шерстяных тканей еще в XIII веке. Полтора столетия спустя здесь на смену старому цеховому ремеслу пришло новое капиталистическое производство, сложившееся вокруг Антверпена, расположенного в устье Шельды. Быстро богатея после открытия морского пути в Индию, город этот разрешил торговать у себя купцам всех наций и стал первым мировым торговым центром Европы. Провинции севера, главными из которых были Голландия и Зеландия, имевшие свой торговый и промышленный центр — Амстердам, не отставали от юга, но отличались спецификой экономического развития. Области эти, лежавшие ниже уровня моря, издавна являлись ареной ожесточенной борьбы населения с водной стихией, для обуздания которой приходилось строить плотины и дамбы. Труд этот, впрочем, вознаграждался сторицей: на влажных и жирных землях, отвоеванных у моря, зеленели тучные пастбища и собирались обильные урожаи, дававшие среди прочего избыток сырья, необходимого для бурно развивающегося по деревням и поселкам полотняного производства. Кроме того, голландцы были потомственными мореходами и промышляли интенсивным рыболовством. Поэтому север всегда славился тремя продуктами, шедшими на вывоз: голландским полотном, голландским сыром и голландской сельдью. И только юго-восточная окраина Нидерландов, в основном совпадающая с Люксембургом, отставала, сохраняя много пережитков феодализма; впрочем, даже и здесь в XVI веке стало зарождаться капиталистическое производство в своей ранней (кустарной) стадии. В целом же Нидерланды становились одним из наиболее экономически развитых уголков Европы. Но парадокс истории состоял в том, что этому богатому и развивающемуся региону довелось попасть в подчинение и порабощение к другой, самой отсталой стране Западной Европы.
Отдельные части Нидерландов, долгое время находившиеся в разрозненном состоянии, объединились впервые в XV веке, войдя в состав могущественного герцогства Бургундского, лежавшего на стыке Франции и Германской империи. Герцоги Бургундские уже мечтали об императорском венце, но распря с французскими королями их погубила. В 1477 году последний герцог Карл Смелый погиб в борьбе с Людовиком XI; наследница же Карла, Мария, чтобы сохранить власть, вышла замуж за Максимилиана Габсбурга, который вскоре стал германским императором. Так Нидерланды унаследовал сын Карла, испанский король Филипп II (1556-1598). К этому времени Испания уже пережила период своего расцвета и стремительно продвигалась к глубокому экономическому упадку.
Великие географические открытия конца XV — начала XVI века, прежде всего открытие Америки и морского пути в Индию, оказали огромное влияние на хозяйственную жизнь всей Европы. Перемещение торговых путей на Атлантический океан привело к возвышению и обогащению государств, расположенных на побережье Атлантики, в первую очередь — Испании, Англии, Франции и Нидерландов. Но здесь все получилось по-разному. Если Англия, Франция и Нидерланды в итоге превратились в экономически сильные промышленные страны, то с Испанией ничего подобного не произошло. Беззастенчиво грабя свои заокеанские владения, она на короткое время, вспыхнув подобно фейерверку, заняла первое место в Европе — испанские моды, испанская культура, испанский язык приобрели международное значение. Но фейерверк погас быстро. Золото и серебро Америки не оплодотворили испанскую промышленность, корабли же, идущие из Америки с грузом пряностей и других колониальных товаров, предпочитали швартоваться не в Кадиксе, а в Антверпене, где торговля приносила большие барыши. В результате уже к началу XVII века обнищавшая Испания превратилась во второстепенную державу. Результат стал очевиден: Нидерланды, волею истории оказавшиеся в подчинении у Испании, были много богаче своей новой метрополии и не могли в принципе не стать лакомой добычей для полуфеодального государства, казна которого тощала с каждым десятилетием и которое судорожно искало источники новых доходов. Отсюда неизбежность острого конфликта между передовой нидерландской буржуазией и отсталой феодально-абсолютистской Испанией, которая собиралась жить за счет ограбления богатой страны, превратив ее в свою подлинную колонию, наподобие заокеанских земель. Конфликт этот и привел в конечном итоге к Нидерландской революции.
Политический строй Нидерландов в период царствования Филиппа II отличался своеобразием и пестротой. Каждая из 17 провинций управлялась на свой лад, но общие для страны дела решались на Генеральных штатах. Во главе же всего управления король поставил своего заместителя — статхаудера; им была сестра Филиппа, Маргарита Пармская. При Маргарите состоял Государственный совет, где заседали представители нидерландской знати, лидерами которой были принц Вильгельм Оранский и прославленный полководец граф Эгмонт. Но Филипп не доверял совету, составленному из местных людей, и всю полноту власти передал тайному совету (Консульте), поставив во главе своего человека, кардинала Гранвеллу. Таким образом, ни Генеральные штаты, ни Государственный совет не имели реальных полномочий, сосредоточенных в руках Маргариты и Гранвеллы, причем власть их опиралась на испанские войска, расквартированные в стране.
Вытягивая с помощью своих подручных значительные средства из Нидерландов, король мечтал о много большем и вскоре нашел инструмент, с помощью которого, казалось, можно было вполне успешно реализовать эту мечту. На помощь Филиппу — страстному фанатику и изуверу — должна была прийти католическая церковь.
XVI век — заря капитализма в Европе — был ознаменован Реформацией, повсеместным идеологическим движением молодой развивающейся буржуазии против католической церкви — оплота феодализма. Лютер и Кальвин провозгласили новую религию, более простую и дешевую, а главное, санкционирующую и утверждающую новые общественные отношения. В тех странах, где капитализм развивался интенсивно — в Англии и Нидерландах, — идеи Реформации пустили глубокие и разветвленные корни. В Нидерландах кальвинизм распространялся особенно быстро. Буржуазия городов создавала консистории по женевскому образцу. Среди ремесленников и крестьян, зараженных различными «ересями» (прежде всего анабаптизмом), также зрело возмущение против католической церкви; особенно это относилось к северным провинциям страны. Вот по этим-то новым веяниям и решил нанести главный удар испанский король. Сам ревностный католик, оплот и радетель «святой» инквизиции у себя дома, Филипп II в своей политике «испанизации» Нидерландов задумал создать там нечто подобное, начав с посылки новых епископов с особыми полномочиями. В Нидерландах запылали костры. Новые епископы разыскивали и хватали «еретиков», которые за отказ перейти в католичество подвергались сожжению, имущество же их конфисковывалось в пользу испанской казны. Нидерландская буржуазия, а вместе с ней и весь народ, понимая, что им угрожает, встали на защиту вольностей страны и национальной свободы, а республиканская организация кальвинистской церкви явилась для них как бы школой грядущей революционной борьбы.
Дворянство Нидерландов на первых порах заняло осторожную позицию. У него не было прямой необходимости порывать с католицизмом, и оно было готово служить испанскому режиму при условии уравнения его прав с правами испанской аристократии. Но твердолобый фанатик Филипп II сам оттолкнул тех, кто мог бы стать его союзниками: знатных дворян он ожесточил, полностью устранив от управления, мелкое же дворянство — перестав призывать в армию. Таким образом, король, разумеется сам того не желая, содействовал созданию единого лагеря национально-освободительной борьбы и ускорению революционного взрыва.
В рамках настоящего очерка нет нужды останавливаться на ходе и этапах Нидерландской революции. Однако совершенно необходимо пояснить те ее эпизоды, о которых ретроспективно упоминает Декарг в своей книге. Революция началась с иконоборческого движения («Беелденсторм»), проявившегося в разгроме католических церквей, уничтожении икон и прочих атрибутов «римского идолопоклонства». Кульминацией стало восстание 1572 года, охватившее все северные провинции. Испанские каратели не заставили себя ждать. Осады, расправы — Амстердам, Харлем… Наступил черед Лейдена — родины Рембрандта. В книге дважды упомянут 1574 год как дата спасения Лейдена. В этом году испанцы обескровили его долгой осадой — с мая по октябрь. И мужественные граждане города, исчерпав все другие средства, пошли на крайнюю меру: открыли шлюзы, ограждавшие сушу от моря… Город был затоплен, но враги, спасаясь от наводнения, в страхе бежали и покинули север. Это была решительная победа революции в рамках всей страны, она стала национальным праздником и на какой-то момент привела к объединенному противостоянию всех Нидерландов (Гентское соглашение 1576 года). Но затем союзники разошлись: предприниматели Фландрии и Брабанта не хотели полностью порывать с Испанией — их мастерские работали на испанском сырье. Кроме того, дворянство и богатая буржуазия юга убоялись радикализма протестантских проповедников, опасаясь, как бы революция не зашла слишком далеко и не нарушила их собственности и привилегий. В результате южные провинции заключили между собой сепаратный договор (Аррасская уния, 1579 год), выразив готовность подчиниться испанскому королю. В ответ на это семь северных провинций в том же году заключили свой союз, Утрехтскую унию, обещая «соединиться навеки, как будто бы они составляли одну провинцию», а вслед за этим особым актом объявили низложенным Филиппа II.
Новое государство назвало себя Республикой Соединенных провинций, или просто Голландией, по имени самой значительной из них. На должность президента (статхаудера) намечался принц Вильгельм Оранский, но в 1584 году он пал от руки убийцы, и республику возглавил его сын, Мориц Нассауский.
Что же касается войны с Испанией, то она продолжалась еще долго. Английская королева Елизавета, враждовавшая с Филиппом II, стала открыто помогать Соединенным провинциям, что вызвало лютую ярость испанского короля, решившего примерно наказать новых союзников. В Кадиксе была снаряжена «Непобедимая Армада» — огромный флот для нападения на Англию. Но экспедиция «Армады», состоявшаяся в 1588 году, закончилась ее гибелью, и Филиппу пришлось навсегда отказаться от своих планов. После его смерти Нидерландская война закончилась двенадцатилетним перемирием (1609), о котором упоминалось выше. Окончательное официальное признание Республика Соединенных провинций получила, впрочем, еще позже — по Вестфальскому миру 1648 года, когда Рембрандт написал уже «Ночной дозор», «Святое Семейство» и переписал «Данаю».
***
Распадение Нидерландов на два отдельных политических образования — на южные провинции, оставшиеся под верховной властью Испании, и республику Голландию, ставшую независимым государством, имело огромные последствия для судеб нидерландского искусства. Еще недавно, в XV — начале XVI века, оно было единым в лице таких замечательных мастеров Северного Возрождения, как Ян ван Эйк, Рогир ван дер Вейден, Мемлинг, Босх и Брейгель. Теперь же оно, в свою очередь, разделилось на два различных направления, полностью определившихся в первой половине XVII века: фламандское искусство и искусство Голландии. Эти направления были во многом различны, а то и противоположны. Фламандское искусство осталось верным католицизму, в нем преобладала христианская тематика, особенно характерные для барокко сцены мученичества, и обслуживало оно церковь, аристократию и богатый патрициат. В нем всецело господствовал стиль барокко и преобладало итальянское влияние. Создателем, царем и богом этого направления был Рубенс, вокруг которого вращались все другие мастера, словно планеты вокруг солнца. Голландское искусство, порвавшее с католицизмом, отошло и от пышности барокко: итальянская струя в нем почти отсутствовала, во всяком случае, была гораздо меньшей, чем традиции Ван Эйка и Брейгеля. Оно не имело отношения к церкви (кальвинизм не признавал икон и алтарных изображений) и не обслуживало аристократов — его заказчиками были прежде всего рядовые буржуа, завоевавшие независимость своей страны. В соответствии с этим в живописи господствовал жанр, а властителями дум были «малые голландцы» — Якоб ван Рёйсдал, Виллем Хеда, Адриан ван Остаде, Ян Стен, Герард Терборх и множество других, тщательно писавшие небольшие картины на бытовые темы, а также пейзажи и натюрморты. В голландском искусстве такое же место, как во фламандском — Рубенс, занимал Рембрандт. Но, в отличие от великого фламандца, он отнюдь не был центром притяжения для своих коллег, скорее наоборот. Он был слишком не похож на остальных, даже самых значительных — Вермеера и Хальса, — он писал не то, что было модно, а то, что его увлекало, он не подделывался под требования заказчиков, а искал свой путь в искусстве. И нашел его — вопреки всем и вся. Нашел через века и на века. И об этом очень убедительно говорится в книге Пьера Декарга.
Возвращаясь к ней и к ее автору, подчеркнем еще раз его умелое проникновение в творчество Рембрандта в целом, и особенно — глубокий и всесторонний анализ отдельных, ключевых произведений, таких, как «Урок анатомии доктора Тульпа», «Даная», «Ночной дозор», «Синдики», «Заговор Юлия Цивилиса», «Возвращение блудного сына». Очень хороша глава о пейзаже в творчестве Рембрандта — проблема, довольно редко поднимаемая искусствоведами. Сильное впечатление производит разбор поздних произведений художника — «Еврейской невесты» и «Семейного портрета», трактуемых своеобразно и убедительно. И вообще свой, необычный подход автора просматривается повсюду. Впрочем, воздержимся от дальнейших славословий — думается, читатель и сам оценит глубину и оригинальность книги. Мы же ограничимся некоторыми наиболее существенными моментами, где, как нам представляется, эта оригинальность превышает меру и вызывает неприятие, сомнения или, во всяком случае, вопросы.
Первое, что не может не броситься в глаза всем, кто хоть немного знаком с творчеством Рембрандта, — крайне субъективный и странный разбор этапной картины — «Автопортрет с Саскией на коленях». Картина эта, написанная около 1636 года, в эпоху наибольшего преуспеяния Рембрандта, пронизана оптимизмом и довольством. Горячо любимая жена художника, его Муза, трогательная и хрупкая, доверчиво оборачивается к зрителям, а он, с лицом, опьяненным радостью жизни, в роскошном берете и при шпаге — ни дать ни взять мушкетер Дюма! — высоко поднимает бокал и как бы приглашает всех полюбоваться: «Смотрите, как я счастлив! Каким сокровищем владею!..». Апофеоз довольства. Апофеоз счастья, апофеоз любви. Кто может спорить с этим? Однако П. Декарг не просто спорит, он игнорирует очевидное. В его трактовке перед нами «картина печального разврата». Пьяный гуляка с похотливым выражением лица и уличная девка, потерявшая стыд, после попойки и в предвкушении близкой оргии…1 Непонятно, как можно выстроить подобную версию, а главное, как вписать ее в этот период жизни художника, проанализированный Декаргом с обычным для него мастерством?.. Неужели автор книги забыл, что целомудренный Энгр в XIX веке повторил тот же сюжет, заменив Саскию на Форнарину, а Рембрандта — на своего кумира, «божественного» Рафаэля? Или это тоже «картина печального разврата»? Вообще «разврат» у Декарга какой-то своеобразный, и главу «Постель на французский манер» можно с полным основанием назвать наименее удачной в книге.
Анализ картины «Ночной дозор» сделан Декаргом убедительно и тонко, и все же здесь возникают, по крайней мере, два вопроса. Прежде всего трудно согласиться с утверждением, будто Франс Хальс, «работая в том же амплуа, достиг уровня Рембрандта». При всем преклонении перед творчеством Хальса, нельзя не заметить, что все его знаменитые групповые портреты написаны в типичной для того времени манере, тогда как Рембрандт (и это показал сам Декарг) сделал нечто, чего еще не знала эпоха и что своей необычностью поразило современников. Поразило настолько — и тут мы делаем второй упрек автору, — что оттолкнуло от него потенциальных заказчиков и таким образом знаменовало неизбежность будущего разорения художника. Как мог не заметить этого Декарг? Ведь он прекрасно показал, что в сороковые и последующие годы в Голландии многое изменилось, прежняя простота и естественность уступили место фанфаронаде и аристократизации победителей Испании, и Рембрандт с его упрямым индивидуализмом оказался не у дел — его не пригласили даже на декорировку нового правительственного дворца, а «Цивилиса» убрали из ратуши. Не подлежит сомнению, что в преддверии этих событий, как и прочих официальных и неофициальных неуспехов художника, лежит именно «неудача» с «Ночным дозором», когда ошеломленные заказчики потребовали деньги назад.
Мимоходом отметим, что автор книги напрасно бросил фразу о том, что после «Ночного дозора» творчество Рембрандта «стало угасать», поскольку почти тут же показал, что именно в последующие десятилетия («Синдики», «Заговор Юлия Цивилиса» и др.) оно достигло особенной глубины и значительности. И тут, поскольку мы приблизились к шестидесятым годам, возникает очередное недоумение: как мог Пьер Декарг, при его скрупулезно-аналитическом методе, уделив много страниц сравнительно второстепенным полотнам, опустить две картины, имеющие знаковый характер: «Артаксеркс, Аман и Эсфирь» и «Давид и Урия»? Эти картины, составляющие своеобразный диптих, были написаны в 1661 году и, по мнению некоторых искусствоведов, стимулированы постановкой в театре Амстердама пьесы «Эсфирь». Они как бы объединены сходным замыслом: и в той, и в другой изображены трое людей, повязанных преступлением, знающих, что о нем знают и двое остальных, и молчаливо выносящих эту тяжесть. В первой картине за столом сидят всемогущий царь, его министр и женщина, только что изобличившая министра. Они не говорят ни слова и не смотрят друг на друга, но нельзя ошибиться, «кто есть кто» и какой будет развязка. Тот же мотив и во второй картине: царь Давид, овладевший Вирсавией, отправляет на верную смерть ее мужа. Тот понимает это и понимает, что бессилен что-либо предпринять, кроме как приложить руку к груди и молча удалиться, в то время как его провожают два взгляда: блудливый — царя Давида и сочувствующий — старика, свидетеля события. Не скроем, существует и другая версия содержания второй из картин, как будто более отвечающая диптиху и театральной постановке. Согласно этой версии, здесь изображены те же персонажи, что и на первом полотне, за исключением Эсфири: Артаксеркс, возмущенный услышанным от нее, прогоняет Амана. Но, при всей соблазнительности, версия эта представляется нам неубедительной: уж очень не соответствует ей выражение лица царя, да и сочувствующий старик при подобной трактовке явно ни к чему. Обе картины написаны в поздней манере Рембрандта, одинаково выдержаны в золотисто-коричневых тонах и построены на глубокой и мягкой тени. И Декарг, прекрасно знающий наш Эрмитаж, где находится одна из этих картин, все же их «не разглядел». Почему? Вопрос остается без ответа.
Также мы не получим ответов и на вопросы, вызываемые «смеющимся» автопортретом Рембрандта из Кельнского музея. Декарг называет его «маской из медной кожи» и быстро проходит мимо, не давая даже датировки; лишь по косвенной реплике можно понять, что относит он ее к 1665 году. Между тем эта датировка далеко не бесспорна. Разные искусствоведы датируют автопортрет 1665, 1665-1668 годами или же — что исходя из внешнего облика художника на портрете представляется наиболее вероятным — последним годом его жизни (1669). Над чем здесь смеется Рембрандт? Декарг приводит ряд своих соображений (в значительной мере справедливых), но не говорит главного: это произведение обычно называют «Автопортрет в образе Зевксиса». Как известно, Зевксис, античный художник, нарисовавший морщинистую старуху, так смеялся над своей картиной, что умер от смеха. Действительно, Рембрандт изображен с муштабелем в руке, а слева вырисовывается неясный контур лица с длинным крючковатым носом — быть может, той самой старухи, а вовсе не безымянного философа, как полагает Декарг. В таком случае, автопортрет, написанный незадолго до кончины художника, отдает черным юмором, который был свойствен Рембрандту той поры, потерявшему все: жену, состояние, вторую жену, единственного сына, друзей, заказчиков, учеников, но при этом оставшемуся самим собой, пусть в лохмотьях и на пороге смерти, которую он и встречает смехом.
Сюда же относится и последнее наше сомнение, связанное с картиной, которую Декарг анализирует последней, подводя ею итог всему творчеству Рембрандта. Это «Симеон во храме». Проводя своеобразную антитезу между недавно разобранным «Возвращением блудного сына» и этой картиной, Декарг выстраивает логическую конструкцию, согласно которой в первом случае было «обретение», во втором — «утрата», в первом — «тепло», во втором — «холод» («холодная манера письма», «холодные краски», да и само название главы — «Холодная сторона жизни»). И холод этот есть не что иное, как холод близкой смерти художника, прочувствованный и осознанный им. Все это представляется нам совершенно искусственным. Прежде всего необходимо учесть, что «Симеон во храме» — отнюдь не последняя картина художника: она была написана около 1661 года, стало быть, до «Синдиков», до «Еврейской невесты», до «Семейного портрета» и, уж по крайней мере, за семь лет до «Блудного сына». Когда она писалась, еще были живы Хендрикье и Титус, еще и сам Рембрандт не думал о смерти — она настигнет его лишь через восемь лет. В «Симеоне» нет «холода» — ни в содержании, ни в цвете: картина написана в обычной для художника световой гамме. И если вдуматься, то никакой антитезы между обеими картинами не усмотришь, скорее наоборот, содержание их аналогично: в «Блудном сыне» полуслепой дряхлый старик вновь обретает сына и теперь может спокойно умереть; в «Симеоне» почти ослепший старик обретает младенца Иисуса, без чего, как предсказано, он не может окончить свой жизненный путь… Исходя из этого, нам представляется, что обе названные картины, как и «смеющийся» автопортрет, разобранный выше, высвечивают одну и ту же мысль, которая постоянно тревожила Рембрандта в последнем десятилетии его жизни (во всяком случае, в 1661-1669 годах) и которая дает весьма оптимистическую, а не «холодную» концовку: после всех потерь, после ухода самых близких людей, почти в полном одиночестве и на пороге смерти художник не утратил ясного понимания, что за «потерей» последует «обретение» и что обретение это — его творчество, оставленное грядущим поколениям…
Таковы наши немногочисленные замечания по книге, которая, безусловно, заинтересует читателя и поможет ему разобраться в жизни и творчестве одного из величайших художников всех времен и народов.
А. Левандовский
Глава I РЕМБРАНДТ ВАН ЛЕЙДЕН Город Арминия
Темная осенняя ночь в Лейдене. Десять часов. После захода солнца ворота города закрывают. На городских стенах раздается барабанный бой, и отовсюду на этот зов стекаются люди с фонарями в руках. С вершины башни дозорный пожарник видит, как вдоль каналов движутся маленькие одинокие огоньки, проплывая мимо редких масляных фонарей, горящих на мостах и у ратуши. Это горожане идут к караульному посту принять смену для ночного дозора. У входа они встречаются, здороваются, обмениваются новостями. Офицеры распределяют их на патрули и назначают этим патрулям участки для дежурства. Один из дозорных берет фонарь. Другой — пику. Трещоточник проверяет, хорошо ли слышно его трещотку. И — в путь по пустынным улицам.
Они идут не в ногу. Каждый шагает, как ему сподручно, не торопясь. И так они бродят по городу до четырех утра. Вот за дозором увязался пес, обогнал его, снова вернулся. Будет ли ночь спокойной? Кто его знает, хорошо хоть ветер утих и дождь перестал.
Они всё идут и идут. Ни одного освещенного окна. Должно быть, все спят. Хотя нет — вон, в Веддестееге яркий свет, шум голосов и окно открыто. Кажется, это у Хармена, мельника. Дозор подходит ближе. Фонарщик светит в раскрытое окошко, из которого валит дым от очага. В окне появляется Хармен. Позади него резвятся дети.
Все семейство хохочет, утирая слезы, сотрясаясь от кашля. Хармен остается у окна, следя, как едкий дым уносится в ночь вслед за дозором. На углу переулка шум шагов затихает и исчезает светлячок фонаря.
Хармен добрый малый. В квартале его недавно избрали своим представителем. Трещоточник знает Хармена, они вместе учились в начальной школе. Дела у его семьи идут хорошо, сказать по чести, он достойно начал свою жизнь. Женившись, получил долю дохода от мельницы на городском валу, возле Белых Ворот (Витте Поорт), — говорят, больше половины. При таком куше остается только не лениться. Нелтье, его жена, родила семерых детей. Двое умерли. Похоже, что Нелтье и теперь в тягости. Мельница, тем более если ты, как Хармен, мельник в четвертом поколении, может прокормить семью. Несколько лет назад он смог выкупить у детей своей сестры Маритье половину сада за городской стеной, который принадлежал его родителям, и воссоединить семейные владения. Не Бог весть какое богатство, но они наверняка могут тратить больше, чем тратят сейчас. Тем более что должны кое-что получить и со стороны жены. Ее отец булочник, а у булочника всегда денег больше, чем он говорит; к тому же среди предков ее матери были городские старейшины. Короче, семья Нелтье неплохо устроилась в жизни.
Так дозор и бродит в ночи. Если не у трещоточника, то у пиконосца или фонарщика найдется что рассказать о тех, кто спит за кирпичными фасадами и маленькими окошками лейденских домов.
Наверное, трещоточник, знавший столько всякой всячины о стольких людях, говорил и о том, что разделяло лейденские семьи, — о религии. Ибо в 1574 году, во времена освобождения Лейдена, то есть за пятнадцать лет до свадьбы Хармена и Нелтье, из 16 тысяч жителей — шесть еще исповедовали римскую веру. Их храмы были переданы кальвинистам, однако без находившихся там произведений искусства. Монастыри закрыли. Голландский кальвинизм был еще юным, неокрепшим, лишенным твердых основ вероучения. Создали Университет, чтобы готовить проповедников. Так что верующие чаще всего оставались наедине с Библией.
Вообще-то существовали только две официальных церкви: голландских кальвинистов и валлонских. Но многочисленные секты — анабаптистов, социнианцев, меннонитов — действовали свободно. Религия не была единой. Она изобиловала оттенками. Сила привычки велика: реформатскую приходскую церковь продолжали называть Синт-Питер (церковью Святого Петра).
Хармен первым из своей семьи перешел из католичества в кальвинизм. Поэтому, хотя родители его жены были католиками, венчание прошло по реформатскому обряду.
Французы, не позабывшие о Варфоломеевской ночи, могли полагать, что с католиками в Голландии обращались так же, как с протестантами во Франции. Ничего подобного. Великие люди, гордость нации, такие, как драматург Вондель, переходили в католичество, не теряя уважения своих почитателей. Терпимость не есть безразличие. Теологические диспуты были самыми что ни на есть ожесточенными. В Веддестееге жили очень благочестиво: общие молитвы, чтение Библии вслух собирали вместе детей и родителей при пробуждении и перед отходом ко сну, перед началом и по окончании каждой трапезы. В главном всегда взывали к помощи Божией. И с большим пылом, даже если каждый следовал своему учению. Разве главное было не в том, чтобы избежать религиозной войны и трудиться в мире с Господом, которого каждый открывал для себя в Евангелии, у истока слова Его?
15 июля 1606 года
Этим утром Геррит, старший сын Хармена, на глазах у всего квартала прибил к двери своего дома лоскуток красного шелка, обшитый кружевами. Нелтье произвела на свет шестого ребенка. Немного спустя на городском валу работники мельника закрепили крылья мельницы в положении вертикального креста и развесили на них гирлянды, чтобы таким образом оповестить всех о радостном событии.
В доме с предыдущего вечера хозяйничала повитуха. Она изгнала из спальни мужчин и детей и отдавала распоряжения служанке. Когда родился ребенок, повитуха велела позвать Хармена и предъявила ему мальчика подле улыбающейся Нелтье. Хармен искал по всему дому свою шелковую шляпу с пером — шляпу отцовства. Наконец он водрузил ее себе на голову и позволил войти гостям — родне со всего города, которую дети и соседи уже известили о новорожденном. Хармен сказал: не забудьте о детях моей сестры Маритье!
Гости все шли и шли целый день. Дом сиял чистотой. Ни пылинки на большом столе, покрытом сукном, на стульях темного дерева. Окна оставались открытыми. Поглазев на новорожденного, обсудив, на кого он похож, заговаривали о погоде, о жаре, о грозе, которая вот-вот могла разразиться. Первый день прошел быстро.
На следующий день ребенка торжественно понесли в церковь Святого Петра, Синт-Питерскерк, — крестить. Вся семья в праздничных нарядах: Хармен и Нелтье, затем, по порядку, Геррит, Адриан, Корнелис, Виллем — четыре сына, Махтельд, дочка, и младенец в платьице с кружевом. Погода стояла прекрасная. По дороге кланялись знакомым. Члены семьи, оставшиеся католиками, не были допущены на церемонию. Перед Богом и людьми ребенок получил имя Рембрандт — исключительное имя. Нелтье объясняла, что это имя она выбрала в память одной своей прабабушки, Ремеджии, которую особенно чтили в ее семье.
Потом вернулись домой, а неделю спустя, 24 июля, устроили праздник. Хармен вновь надел свою шляпу с пером, ребенка снова нарядили в красивое платьице и опять позвали повитуху. Она и представила Рембрандта родственникам, друзьям, соседям. В тот день пировали на славу. Подавали вино, пиво, водку. Столы были уставлены оловянными кувшинами, бокалами, тарелками, блюдами, кружками, стаканами. Были фрукты, варенья, пироги с сыром, рыбой, мясом, марципаны, печенья с цукатами, анисом, вишней и пряники. Достали глиняные трубки, раскрыли табакерки. В открытые окна дома валил дым. Сколько колечек! От расположенного поблизости канала, как это обычно бывает летом, доносился гнилостный запах.
Маленький Рембрандт, как все груднички, рос обложенным кожей во избежание ударов и затянутым в корсет, чтобы спинка была пряменькой. Он перемещался в специальном стульчике на колесиках, учился ходить, подхваченный под мышки ремнем, и носил платьица вплоть до достижения сознательного возраста, когда его вдруг одели как мужчину — в точности как отца.
Что усваивал он поначалу, кроме распорядка дня и ночи? Поутру видел всю семью стоящей вокруг стола со сложенными руками. Отец вслух читал молитву. По окончании молитвы все говорили «аминь», и Хармен вновь надевал на голову шляпу. Завтракали: молоко, масло, сыр, черный хлеб. В полдень — «ноэнмааль»: снова молитва, затем суп с салом и овощами, сваренными в молоке, за ним рыба и фрукты. К трем часам пополудни дети толпились вокруг матери, чтобы получить полдник в виде хлеба и сыра, а поздно вечером — ужин, то есть молочная похлебка, бутерброды и остатки рыбы от обеда все с той же молитвой в начале и в конце. Свечи в оловянных подсвечниках мерцали на деревянном столе, тени родителей и детей шевелились на стенах.
В Лейдене, насчитывавшем уже 40 тысяч жителей, из которых 2 тысячи — ткачи, все жили по единому распорядку. Жизнь сына мельника определяла сама семейная мельница. Огромный корабль, машущий крыльями на валу Пеликана, сразу переносит человека в центр жизни народа. В пятом поколении это уже в крови: познавать искусство определять направление ветра, направлять крылья, чуять приближение грозы, когда еще не поздно снимать полотнища; слышать глухой стук шестеренок, раздающийся в звонком деревянном корпусе; знать, какими орудиями очищать жернов; освоиться с маленькими окошками, скудным дневным светом, вечной полутьмой, мучной пылью повсюду, с большими весами; вдыхать запах мешков; приучать себя всегда строго соблюдать чистоту; знать мельницу изнутри.
Он был еще совсем маленьким, когда Нелтье снова забеременела. На этот раз родилась девочка, получившая имя Лизбет. В комнате пахло кислым молоком. Нелтье просила Рембрандта не шуметь: малышка спит. Тогда ему понравилось подходить к колыбели и смотреть на этот живой комочек, погруженный в сон: было слышно лишь ровное дыхание, да изредка шевелились крохотные пальчики.
Отныне Хармена и Нелтье окружали семеро детей: пять сыновей и две дочери. Самый старший, Геррит, уже помогал отцу на мельнице. Поговаривали о том, чтобы отдать в обучение Адриана. Остальные — Махтельд, Корнелис и Виллем — ходили в школу.
Когда стояла хорошая погода, его водили на вал. Показывали вдалеке, на лугу, черту из простыней, выложенных отбеливаться на солнце, геометрию холста в геометрии полей, очерченных каналами.
Однажды вечером Геррит вернулся с охоты. Спустилась ночь. При свете свечи охотник потрясал большой птицей. Это была выпь. Геррит держал ее за лапы, головой вниз: длинный тонкий клюв, развернувшиеся крылья, пятнистые перья. Старший брат рассказал младшему, что эта птица мычит так же громко, как бык. В Голландии охотятся в основном на водоплавающих. Нелтье сказала, что выпь не слишком вкусна.
Понемногу ребенок открывал для себя ритм года. Праздновали Богоявление, начало поста, День святого Мартина, святого Николая. На Богоявление искали лепешку с запеченной в нее горошиной; по улице проходили шествия, возглавляемые тремя волхвами, один из которых чернил себе лицо, а дети шли позади, неся на палке большую бумажную звезду, подсвеченную изнутри свечой. В последний день перед постом ели блины, подкидывая их перед тем до самого потолка. Дети бегали по улицам, гремя своим «роммельспотом» — это мог быть горшок, кабаний пузырь, кусок дерева, — ну и грохот же стоял! На святого Мартина они стучались в двери и выпрашивали поленья, из которых жгли костры на площади. А на святого Николу получали подарки, положенные накануне в башмачок, выставленный перед камином.
Эти католические праздники ничуть не смущали протестантских проповедников. Кроме них был еще и праздник весны, на 1 мая на площадях высаживали деревья, вокруг которых водили хороводы, а 3 октября в Лейдене праздновали освобождение 1574 года2 и ели национальное блюдо — хутспот (рагу с каштанами и репой) и не менее национальную селедку.
Рембрандт все это видел. Он вспомнит об этом в своем творчестве: там будут и мальчишки, с Богоявленской звездой, и базарные шарлатаны, и актеры на ярмарке, и бродячие торговцы со своим товаром — крысиной отравой.
Зимой мальчик любовался замерзшими каналами, людьми, катающимися на коньках. Но жанровым живописцем он не стал. Возможно, потому, что столько художников этим уже занимались (Франс Хальс) или еще займутся (Ван Остаде). Возможно, и потому, что впечатления детства оттолкнули его от этого. Или собственная натура.
А море? В двух лье отсюда оно лизало песок. Как Рембрандт открыл его? Как получилось, что оно ни разу не появилось в его произведениях? Равно как и груженные диковинными товарами большие корабли, возвращавшиеся с другого конца земли из жесточайших сражений, покрытые славой.
Ведь за пределами маленького семейного круга, за пределами квартала, в котором он тоже чувствовал себя среди своих, там, далеко-далеко, шла война с испанцами. О ней несколько забыли, потому что она более не опустошала Голландию. К тому же у Испании появились другие заботы с тех пор, как в 1588 году ее «Непобедимая Армада» была уничтожена. Стычки продолжались то тут, то там, гарнизоны и флотилии сталкивались между собой, но теперь уже далеко, по ту сторону океана, с наемниками. Однако и это обходилось дорого. Раз безопасность страны как будто уже обеспечена, почему бы не покончить с войной? Этому противились принц Мориц и армия.
Их военная доблесть была слишком ярой, чтобы они могли упустить случай ее проявить. Однако нотабли во главе с Великим Пенсионарием3 Голландии Йоханнесом ван Олденбарнвелде хотели сократить бесплодные расходы. 9 апреля 1609 года в Антверпене было подписано двенадцатилетнее перемирие: Испания отказывается от своих прав на Соединенные провинции, признает их независимость, таким образом принц Мориц более не подчиняется испанскому королю (а ведь именем испанского короля в 1575 году, то есть тридцатью четырьмя годами раньше, был основан Лейденский университет). Положение прояснилось. По крайней мере на бумаге и на двенадцать лет. И Семь провинций4 начали самостоятельную жизнь.
Юному Рембрандту всего три года. На следующий год он пойдет в начальную школу, как все, — там девочки и мальчики учатся вместе. Школа открывается в 6 часов утра летом и в 7 зимой. На ее дверях учитель, а чаще всего учительница должны вывесить свидетельство официальной церкви, удостоверяющее в том, что родители поручают своих детей правоверному реформату. Дети возвращаются домой к обеду, к полднику и покидают школу в 1 часов вечера.
Занятия начинаются с общей молитвы. Затем учитель читает вслух отрывок из Священного Писания, а школьники поют псалом. Потом — чтение, чистописание, счет. Родители за обучение платят. Зимой они поставляют брикет торфа в день и одну свечу в неделю. Но денежное вознаграждение весьма скудное, и учителя, по обыкновению бедные, вынуждены браться за дополнительную работу.
Образование в основном религиозное. Однако учат и азбуке; дети приобретают кое-какой словарный запас, повторяя вслух буквы и слова. Затем следует чистописание: перо гуся или другой птицы, заточенная палочка, чернила, бумага. Рембрандт сажает кляксы этими жирными чернилами. В архивах сохранится несколько написанных им букв, эмблема на альбоме. У него будет изящный почерк.
Именно благодаря этим школам, имевшимся как в богатых, так и в бедных кварталах, в Голландии вырастали поколения счетоводов и каллиграфов, которых не хватало в соседних странах. Из этих порой посредственных школ вышли и печатники типографий, в которых осуществлялось книгопечатание на нескольких языках. Нидерланды стали печатным двором Европы, и не только в отношении запрещенных произведений. Именно в Лейдене Рене Декарт в 1637 году отдал в набор свое «Рассуждение о методе», и очень может быть, что мастер типографского цеха Ян Мэр, набравший эту книгу по-французски, буква за буквой, когда-то ходил с Рембрандтом в одну начальную школу! Пускай образованию не хватало утонченности, но благодаря ему вся страна умела читать, писать и считать, заключать сделки и толковать Библию. Книга подменила собой священные скульптуры культовых зданий. Вместо того чтобы прибегать в религии к помощи изображений, обращались непосредственно к Священному Писанию. Хотя дети аристократов и крупной буржуазии не посещали эти школы (Константин Хейгенс, которого Рембрандт встретит на своем пути, был воспитан домашним учителем), они поступали в тот же Университет, что и сыновья ремесленников. После начальной школы открывались любые возможности. На основе своего образования ученики могли приступить к изучению иностранных языков. Их во множестве учили в Голландии: французский — в валлонских церковных школах; английский, а больше всего испанский и португальский, потому что голландскую торговлю было необходимо распространить на берегах Центральной и Южной Америки, Индийского океана и Китайского моря. Никакой государственной властью утвердить ее было невозможно. Она была порождением местной инициативы, умевшей служить всеобщей пользе.
После уроков школьники носились по улицам. Путешественники называли их шумными, задиристыми, насмешливыми, способными увязаться толпой за иностранцем и осыпать его колкостями, но все они отмечали, что в этих ордах невозможно отличить наследника городского старшины от сына булочника, отпрыска пастора от сына ремесленника. Они добавляли, что добрая натура этих детей хранила их от пороков. В детстве всем в одну и ту же пору свойственно озорство.
Семи лет Рембрандт завершил четырехлетнее обучение в начальной школе. Он умел читать, писать, считать. Был хорошо сведущ в религии. Моисей и заповеди Господни; жертвоприношение Авраама, подвиги Самсона, поклонение золотому тельцу, храм в Иерусалиме, псалмы царя Давида, Валаамова ослица — все эти сюжеты, которые он воплотит впоследствии в картинах, гравюрах, рисунках, пришли к нему из детства. Все, что он видел, все, что открывал для себя, гуляя по городу и за городом, напоминало ему о библейских рассказах.
В семь лет он поступил в Латинскую школу, находившуюся на нынешней Локхорстраат, в центре города, рядом с замком, — учебное заведение, существовавшее в Лейдене уже тринадцать лет, предназначенное только для мальчиков и состоявшее из шести классов, которые надлежало окончить за шесть лет. Обычно туда поступали лишь годам к двенадцати. Но, по-видимому, Рембрандт был развит не по годам, восприимчив и любознателен; по-видимому, родители считали сына способным высидеть более тридцати часов занятий в неделю, из которых около двадцати приходилось на латынь. Школа давала развернутое религиозное образование, там также преподавали каллиграфию, греческий, риторику, логику. Расписание было не слишком жесткое: занятия начинались с 8 часов утра летом и с 9 зимой. Но работали там на совесть. За год надо было выдержать два экзамена.
В 1617 году в жизни семьи произошло знаменательное событие: 16 июня женился брат Адриан. Нареченным хотелось, чтобы церемония состоялась пораньше, но Нелтье сошлась во мнении с матерью невесты: свадьба в мае не к добру. Одиннадцатилетний Рембрандт сопровождал свадебный кортеж в церковь Святого Петра и потом до самого дома, где поселилась молодая пара. Он видел, с какой серьезностью сидели рядышком немного скованные молодые люди, одетые в черное, каждый на высоком стуле, на фоне ковра, повешенного на стену позади них. На новобрачной, Лизбет ван Лёувен, был полагающийся по случаю венец. Супругу поднесли разукрашенную трубку. Оба, словно чета важных господ, принимали родителей, друзей и соседей, приносивших подарки, которые помогут им зажить своим домом. Адриану двадцать лет. Он сапожник, то есть производитель обуви.
Вечером состоялся пир с музыкой, танцами и песнями. И новобрачной не удалось избежать обряда с подвязкой. На следующий день свадьба продолжалась на Ян Стеен, торжественная и одновременно шутовская. Но на картинах Рембрандта мы не встретим таких свадеб.
В четырнадцать лет Рембрандт поступает в Университет. Вундеркинд? В то время не говорили о сверходаренных детях. Университетский устав не предусматривал минимального возраста для поступления. Однако более привычным был возраст Константина Хейгенса, которому предстояло стать одним из первых почитателей молодого художника Рембрандта и который поступил в тот же Лейденский университет двадцати лет, в 1616 году. Тем не менее будущий юрист Гроций записался туда в 1594-м одиннадцати лет. Годом позже он сочинил эпиталаму (свадебную песнь) по-латыни и оду по-гречески. Голландские порядки не препятствовали развитию талантов.
Итак, четырнадцатилетний Рембрандт поступил в Университет. Он выбрал не теологический, юридический, естественно-научный или медицинский, а филологический факультет. Он собирался стать латинистом, эллинистом, гебраистом-филологом.
В Голландии в полном смысле этого слова зарождалась культура. Невозможно сосчитать все те области, в которых эта страна выступила первооткрывателем: гидрология, кораблестроение, книгопечатание, книгоиздание на всех языках, астрономия, оптика, разработка телескопа и микроскопа, измерение времени, а также картография, литература, музыка. Когда Рембрандт поступил в Лейденский университет, тот действовал уже сорок пять лет, то есть с самого провозглашения Республики. Он был восстановлен после пожара 1616 года, когда загорелся бывший монастырь «белых сестер» (миссионерская организация). Мальчик видел этот пожар, и весь город долго помнил о клубах дыма и огромных языках пламени, отражавшихся в воде.
В Университете сразу же были заложены интернациональные основы. Там все говорили и писали по-латыни. Даже подписывались латинскими именами. Янус Доуза, бывший начальником городской милиции во время осады Лейдена и председателем учредительного комитета Университета, на самом деле звался Яном ван дер Доозом. Каролус Клузий был Шарлем де л'Эклюзом, Каролус Дрелинкуртий — Шарлем Дреленкуром, Гуго Гроций — Уго де Гроотом, Андреус Риветус — Андре Риве, Клавдий Салмазий — Клодом де Сомезом. А чтобы отличать Лейден от другого Лугдунума (Лиона), его называли Лугдунум Батаворум — голландский (батавский) Лейден. Там были филологи, способные публиковать издания Тацита, Аристотеля, эпиграфические сборники, латинские переводы арабских текстов. Салмазий (Сомез) выучил персидский, халдейский, иврит, арабский и коптский языки. Издавали арабско-латинские словари. Печатали арабской вязью. Была поставлена цель собрать воедино всю мировую культуру.
В Лейдене также были теологи, в частности два проповедника несхожих друг с другом учений: Якоб Арминий, основатель «предостерегающей» церкви, и Франциск Гомар, сторонник сохранения изначального принципа кальвинизма, по которому судьба человека предначертана свыше и избегнуть ее нельзя. Их споры разожгли конфликт между Великим Пенсионарием Йоханнесом ван Олденбарнвелде и принцем Морицем Нассауским. Дордрехтский синод (1618-1619) признал правоту за гомаристами, противниками дробления религии на многочисленные направления, что привело к изгнанию арминиан из Университета и казни Великого Пенсионария. Сто сорок лет спустя Вольтер вспомнил об этом «человеке, считавшем, что можно спастись добрыми делами точно так же, как верою». Старые споры о предопределении привели к нескольким казням.
В Университете были и юристы, причем небездарные, такие, как Гуго Гроций, обосновавший вольность морей и то, что голландцы вправе отправляться торговать в Индию; врачи, которые в 1581 году устроили в бывшей церкви монахинь-бегинок анатомический театр, где публично препарировали животных и людей; и математики, как Симон Стевин, который был также инженером и около 1600 года изобрел парусную повозку, чтобы отвезти своего ученика, принца Морица Нассауского, на пляж Шевенинген с невероятной скоростью в 42,5 км/час — того самого Морица, которому французский драматург Жан де Шеландр, бывавший в Лейдене, посвятил одно из своих произведений; а окружали всех этих ученых и мыслителей печатники, издатели — Плантены, затем Эльсевьеры, которые в 1587 году открыли свою контору в самом Университете. Мало-помалу там составилась необыкновенная библиотека. Отовсюду приезжали интересующиеся заглянуть в книги, прикованные цепями к стеллажам.
Таким образом, для гуманистов, бродивших по Европе, Лейден был центром притяжения. Там можно было встретить немцев, датчан, шведов, поляков, англичан, венгров. В 1621 году там проживало около пятидесяти французов. Среди них — выдающиеся студенты. Гез де Бальзак, Теофиль де Вио учились в Лейдене. Рене Декарт записался 27 июня 1630 года на математический факультет. Он присутствовал на вскрытиях в анатомическом театре. В 1636 году он вернулся в Лейден, чтобы подписать контракт на издание своего «Рассуждения о методе» на французском языке. «На французском, — подчеркнул он, — чтобы все, даже женщины, могли его прочитать». И, возможно, был неправ, поскольку Спиноза познакомился с этим произведением гораздо позже, когда оно было издано на латинском.
Вот несколько примеров того, что происходило в Голландии и в особенности в Лейдене, куда после революции началась утечка европейских мозгов. Вот какая интеллектуальная атмосфера окружала в 1620 году четырнадцатилетнего Рембрандта, пользовавшегося поддержкой семьи, которая, правда, не решилась вовлечь никого из остальных детей в подобное предприятие.
Однако через несколько месяцев Рембрандт покинул Университет. В чем была причина? В финансовых трудностях, обрушившихся на семью? Это маловероятно, поскольку мальчик отказался от одного образования, чтобы взяться за другое. В недисциплинированности? Существует достаточно примеров снисходительности администрации к подчас буйным студентам, зачинщикам беспорядков в городе, чтобы с большой вероятностью предположить, что какая-либо шалость не могла повлечь за собой ничего, кроме простого выговора. Может, здесь кроется глубокая причина, связанная с вероучением? Действительно, в 1618 году Университет подвергся резкому осуждению со стороны Арминия после того, как 22 октября, почтив город своим посещением, Мориц Нассауский высказал вслух свое с ним несогласие.
В Лейдене все были арминианами, и после казни Олденбарнвелде в 1619 году город подвергся репрессиям. Чиновники-арминиане отправлялись в отставку, несколько десятков проповедников — в вынужденное изгнание. Университету пришлось приступить к чистке своих рядов. Юный вундеркинд Уго Гроот был приговорен к пожизненному заключению (впоследствии он сбежит). Преподавателям пришлось удалиться или подчиниться.
И вот в этот самый Университет, сотрясаемый наведением порядка, поступил юный Рембрандт. Возможно, семья ван Рейнов приняла сторону Арминия? То, что отец Рембрандта был переизбран в 1620 году делегатом своего квартала, ничего не говорит нам о его религиозных убеждениях, как и ничто не дает нам оснований полагать, что именно вопросы веры послужили в то время причиной ухода юноши из Университета. Однако следует знать о том, что, став художником, Рембрандт встречался с арминианами, в частности с пастором Иоханнесом Втенбогартом, возглавившим их после смерти Арминия, чей портрет он будет писать дважды: живописный в 1633 году и гравюру в 1635-м. Когда гроза утихла, Втенбогарт вернулся проповедовать в Голландию и приобрел своим красноречием и уроками веротерпимости, которые он вел беспрестанно, весьма высокую репутацию.
Рембрандт в четырнадцать лет решил стать художником.
Лука Лейденский и «современные» художники
Традиционно считается, что дарования рождаются сами по себе, и Джотто или Гойя стали рисовать на скалах и стенах по внезапному порыву. В Лейдене к концу века, как и во всех Нидерландах, Реформация убрала из церквей скульптуры и картины. Так что у Рембрандта, вероятно, побуждение заняться искусством могло возникнуть не иначе, как после знакомства с произведениями художников, живших тогда в Лейдене, — художников, с которыми он общался у них дома и которые были ремесленниками из ремесленников: вышивальщиками, столярами, портными, витражистами, ювелирами. Неужели он не был знаком с историей голландского искусства? Возможно. Все же посмотрим, что могло быть доступно подростку.
Базарный день. На улицах много народу. Женщины останавливаются посудачить. Их обтекают потоки людей. Слышны зазывные крики торговцев. Рембрандт идет вместе с матерью по главной улице, Бреестраат, уходящей вниз от ратуши. Если, конечно, в ратуше не принимают квартальные выборные, в том числе и вновь избранный Хармен, и семья в парадных одеждах не собирается присутствовать на церемонии. В общем, случай пойти в ратушу наверняка предоставлялся не раз. Когда-нибудь Рембрандту неизбежно доводилось подниматься по лестнице, охраняемой двумя львами из красного камня, в зал бургомистра и видеть там «Страшный суд» Луки Лейденского. Триптих более четырех метров в длину, написанный веком раньше.
Сидя в облаках, Христос подал знак, и голая, пустынная, лишенная растительности земля треснула и разверзлась. Обнаженные люди воскресли, потрясенные тем, что вышли невредимыми из могил. И хотя гудят трубы, в которые дуют ангелы, люди охвачены немотой, ибо в это мгновение решается их судьба. Ангелы ведут праведников в левую часть картины, вводят их в пространство света, откуда начинается их вознесение в высшие сферы. Демоны хватают проклятых и волокут их в правую часть картины, где ад с раскрытой пастью полыхающей полымем печи поглотит их навеки, как вот эту красивую женщину, которая пытается ползком ускользнуть, но которую нагоняет дьявол. Слева — парение в воздухе и счастье. Справа — гнет и страдание. Эта картина не из тех, на которые можно взглянуть мельком. Достало ли Рембрандту времени разглядеть ее? Художники умеют быстро ухватить то, что им нужно.
Этот «Страшный суд» — вариант готического сюжета эпохи Возрождения. В нем есть своя перспектива, свои пропорции. Рембрандт никогда не напишет ни ада, ни рая, но в Амстердаме, иллюстрируя книгу своего друга раввина Менассеха бен Израэля, он однажды создаст гравюру, изображающую разверзшуюся преисподнюю, из которой вырывается когорта химер, темную пасть, источающую гнилостное дыхание безумия, охватывающего нас, когда нашим разумом завладевает дьявол. Хотя эта гравюра единственная в своем роде, из реестра публичных распродаж в Амстердаме можно узнать, что каждый раз, когда только мог, Рембрандт покупал эстампы Луки Лейденского.
Что еще было ему известно из старой лейденской живописи? Наверное, произведения учителя Луки, Корнелиса Энгебрехтса, — они тоже находились в ратуше. Они еще старее: «Распятие», «Снятие с креста». «Распятие» — это триптих, изобилующий горами, причудливыми деревьями, персонажами в восточных костюмах. На пределле — дарители, собравшиеся вокруг мощей Адама. «Снятие с креста» — тоже триптих, украшенный каменными кружевами соборов, написанных объемно, а дарители представлены на картине святыми. Чистая готика? Это правда, Корнелис — в меньшей мере новатор, нежели Рогир ван дер Вейден, родившийся лет за семьдесят до него, или Мемлинг, умерший, когда ему было около тридцати, но оказавшийся очень современным с его вниманием к деталям костюмов, причесок, любовью к неестественному положению тел. Его живопись — красноречивый свидетель нервозности эпохи, переданной в основных религиозных сюжетах. Он заново трактует сюжет, хотя не может не отягощать свою трактовку цитатами и ссылками.
Может быть, юноше ближе такая живопись, нежели творчество Луки? Он кальвинист. Он знает, что после Реформации к Богу обращаются только мысленно и словесно. Однако эти два старинных произведения наверняка что-то говорят его сердцу. В Амстердаме он будет писать распятия. Ему даже случится набросать собственное лицо среди восточных персонажей, осторожно снимающих тело Христа, чтобы положить его на землю.
Живопись, предшествовавшая в Лейдене Реформации, по выражению Жана Леймари, совершила внезапный скачок от готического маньеризма к маньеризму микеланджеловскому, не пройдя через классическую уравновешенность Возрождения. Это римско-католическая живопись: она имеет дело с теми же сюжетами, что и живопись итальянская, испанская, французская. Она идет по тому же пути, что и Антверпенская школа, но в этих двух городах, в то время равно католических, создаются различные произведения. В Антверпене маньеристы воспроизводили сцены из Священного Писания с персонажами в элегантных костюмах, украшенных драгоценностями, на фоне роскошных дворцов. В Лейдене Корнелис Энгебрехтс, как мы видели, предпочитал сложные позы, экстравагантные прически. Хотя его краски близки оттенкам антверпенцев, его живопись серьезна. Выражение лиц такое, какое бывает у людей, заглянувших в себя в поисках ответа на собственные молитвенные вопрошения. Между искусством Лейдена и Антверпена существует естественное различие. Если у фламандцев на полотнах живет радость изобилия, то у голландцев — удовольствие от праведной экономной жизни. У одних — как можно больше даров во славу Божию. У других — восхваление подлинных богатств, кои суть богатства духовные. Глядя на различие между этими живописными традициями, Антверпен можно назвать навеки папистской землей, а Лейден — готовой почвой для Реформации.
Феноменальный Лука Лейденский был единственным художником Возрождения в Нидерландах. Мы видели в его «Страшном суде», как трудно ему писать обнаженные тела в пространственной перспективе. Но свет на его картине великолепен, а лица святых на заалтарной части озарены необычайной духовностью. Даже когда Лука Лейденский писал игроков в карты, он ни в чем не походил на своего фламандского современника Квентина Метсиса.
Метсис любил хватить через край в сатирическом изображении веселого разгула. Луку занимала показная бесстрастность игроков, он писал личности, спрятавшиеся за этими масками. Он не карикатуризировал, а выставлял их на свет с отчаянной решимостью, которая была сродни тайному отчаянию его героев. Если бы Рембрандту не были известны эти полотна, было бы непонятно, какими путями в Лейдене, начиная с XV века и до его времени, развивалась голландская самобытность и как разница в манере письма Метсиса и Луки Лейденского привела к тому противостоянию, которое характерно для Рубенса и Рембрандта. Но он видел эти картины в ратуше, где они появлялись одна за другой, выждав, пока утихнут опасные громы иконоборческой грозы 1566 года, которая обозначалась одним словом — Беелденсторм.
Что было известно юноше из современной живописи? Рядом с его домом и Белыми Воротами была большая площадь, засаженная липами. Там находились два тира. Такие были во всех городах. Туда приходили упражняться общества лучников и аркебузиров, которые составляли основу городской самообороны. Стрельба была развлечением, предоставлявшим повод для организации народных праздников, и тиры использовались также для собраний или банкетов, то есть были преимущественно местами публичных сборищ. Именно там установилась традиция писать групповые портреты. Хотя ее происхождение было, конечно, более древним. Еще в папистские времена граждане любили запечатлеться группой в память о совместном паломничестве к святым местам. Им нравилось, когда на картине было увековечено собрание гражданской самообороны. Голландия возникла из чувства сплоченности перед лицом природных явлений и внешних врагов. Образование товариществ способствовало развитию этого пристрастия к групповым портретам, в котором проявлялось желание служить по военной части с обязательными по такому случаю капитаном, лейтенантом, барабанщиком и знаменосцем. Это были картины, символизировавшие демократию. В делах, которые вершили мужчины. Женщины, занятые в благотворительных организациях, также не замедлили заказать свои групповые портреты. За написание картины каждый уплачивал свою долю. Следили за тем, чтобы имена позировавших были правильно написаны на холсте. Полотна выстраивались в залах длинными рядами.
Можно быть уверенным, что Рембрандт ходил поглядеть на то, что происходило в тирах, присутствовал при торжественной установке больших панно одинакового размера, примерно два метра в длину, смотрел на черные камзолы с синим отливом, оранжевые шарфы, белые жабо, куртки с прорезями на рукавах, в которые проглядывало белое и голубое, белые манжеты, голубые, красные, белые перья на больших черных фетровых шляпах, на все эти юные и старые лица на фоне знамен и металлически поблескивавших алебард и мечей.
Художник, запечатлевший все эти зрелища, Йорис ван Схутен, старше Рембрандта почти на двадцать лет, был большим умельцем. Он ни в чем не погрешил против сходства, отобразив орлиный нос бородача, желавшего быть изображенным в профиль, безмятежное лицо немного тучного капитана, — деньги были потрачены не зря. Йорис ван Схутен наверняка был терпимым человеком: в роте капитана ван Бростерхейзена один из офицеров, Давид Бальи, был художником, и живописец имел деликатность позволить ему написать свой автопортрет в ряду ополченцев.
В этом отношении в Лейдене поступали так, как и в прочих городах, например в Xapлеме. Только Харлем выбрал Франса Хальса, а в Лейдене был Йорис ван Схутен. В том-то и разница. Позировавшие для портретов в Лейдене, возможно, остались более довольны, чем заказчики из Харлема, но они не вошли в историю живописи.
Постиг ли эту разницу подросток, ученик? В Лейдене, где в ратуше складировали старые религиозные картины, современность должна была выражаться в развитии светской и республиканской живописи. Она предложит прекрасный сюжет — Tabula Cebetis (картина Кебеса) — в поучение ученикам Латинской школы. На картине в два метра длиной, хранившейся попеременно в учебных заведениях до передачи ее в 1937 году Национальному музею, изображена очаровательная особа, символизирующая город, перед аллегорическими фигурами Добра и Зла, Гения с рыжей бородой и Удачи в виде обнаженной дамы на сфере. Изображение вдохновлено произведением философа древности Кебеса, и для него нельзя было найти лучшего места, чем школа на Локхорстраат, где Рембрандт учился и куда снова пришел на торжественное открытие картины в 1624 году. Под ней также стояла подпись Йориса ван Схутена.
Более того, смело осуществляя программу поощрения светской живописи, в Лейдене пожелали воздать почести главному ремеслу — ткачеству, которое, дав работу двум тысячам человек, стало первым по значению промыслом в Нидерландах. Импорт. Экспорт. Лейденские изделия путешествовали по всем известным странам.
Каждый вид ткани — грубая шерсть, бумазея, сукно, саржа — естественно, производился особым цехом, в котором властвовали контролеры качества. Ни одна штука ткани не покидала города без проверки цехом. Изготовители саржи оказались самыми напористыми: они обратились к живописи, чтобы прославить свое ремесло. «Дом саржи» — помещение цеха, которое Рембрандт наверняка посетил, — был расположен довольно далеко от его собственного жилища. Надо было подняться к Рапенбургу, затем идти до самого Стенсхюра. Для этого просторного помещения цеховой старшина наметил большую серию из пяти полотен на темы торговли и производства шерстяных тканей. Открывалась она изображением фигуры, олицетворяющей Лейден и стоящей между старой Негоцией со сломанной прялкой и новой Негоцией с рогом изобилия. Чуть подальше, на другом полотне, превозносилась необходимость контроля — чести цеха. Все это было написано на античный лад — с обнаженными женщинами, херувимами, бюстами Гермеса. Мифологию знали. Однако фоном служил сам квартал: фасады Стенсхюра на канале, рынки, площади, ткачи, занятые всеми видами операций — мытьем руна, чесанием, прядением, крашением.
Ничто не было забыто. Осталось великолепное свидетельство об орудиях производства того времени, производственных операциях, труде мужчин и женщин. Это и дань уважения работникам и работницам.
Над сим замечательным произведением Исаак ван Сваненбурх трудился с 1594 по 1612 год. Но Исаак не был Питером Брейгелем, и, так же как офицеры из лейденских тиров не вошли в историю искусства, ткачи из «Дома саржи» остались лишь ценным свидетельством для истории ткачества. И не более. Итак, Лейден выбрал искусство, посвященное труженику и гражданину, и следовал данному направлению с таким постоянством, подобного которому не встречалось более нигде.
Это было свойственно городу, ставшему первым свободным городом Нидерландов, это было свойственно на первых порах всей голландской демократии. Мы еще увидим, как Рембрандт в Амстердаме напишет роту ополченцев — тот же сюжет, что и у Йориса ван Схутена, хотя на его картине будет изображена беспорядочная разношерстная толпа, рассыпавшаяся по площади. Как Исаак в Лейдене, Рембрандт напишет текстильщиков Амстердама. Но это будут горожане в бархатной тиши конторы, справляющиеся с бухгалтерскими книгами, принимающие решения за столом, покрытым сукном. И это будет в другие времена. Рембрандт идет по городу. Он поднимается обратно к дому вдоль каналов, проходит по мостикам. По одной из легенд, этих мостиков 145, и они соединяют между собой 50 островков древнего болота. В этот вечер он не торопится и идет по бывшей крепостной стене за Ботаническим садом и Университетом. В его мыслях возникают, перекрывая и сменяя друг друга, картины величия XVI века и прилежания мастеров прошлого. О чем он думает? Считает ли он живописца из «Дома саржи» современным художником?
Ван Сваненбурх и ван Схутен — признанные лейденские знаменитости. Но в городе работают и другие художники. Они путешествовали и теперь вернулись: пейзажист Ян ван Гойен, который девятнадцати лет уехал во Францию, побывал в Харлеме, а затем вернулся в родной город. В двадцать четыре он снова уехал в Харлем. Неужели в Лейдене так трудно быть художником? Может быть, власти слишком авторитарны, а почитатели редки? Жак де Гейн, гравер, друг Гроция, пожил на родине несколько лет, а затем уехал в Гаагу, в город принца и двора.
Зато Давид Бальи, лейденский ученик Жака де Гейна, исколесив Германию, Венецию и пожив в Риме, вернулся в Лейден. Бальи писал портреты и натюрморты с черепами, напоминающими о суетности нашего грешного мира. Это был искусный, образованный художник, любивший уснащать свои натюрморты символикой и даже ссылками на картины современников — например Хальса.
Заметим: голландские художники не сидели на месте. Они путешествовали в поисках новых знаний, образования или клиентуры. Они знали Италию так же хорошо, как французы и испанцы, часто переезжали в Англию. Неверно считать, будто они замыкались в собственной стране. И хотя в Республике в XVII веке за экономическими потрясениями последовали политические, это не мешало путешествиям. В интеллектуальном плане Голландия никогда не замыкалась в себе. Совсем наоборот. Она ввозила и вывозила людей и идеи так же, как товары. Голландская живопись «золотого века» носила гораздо более интернациональный характер, чем может показаться. Но только в большей или меньшей степени, в зависимости от жанра и города. Любопытно, что, хотя Лейденский университет стал межнациональным интеллектуальным центром, искусство в этом городе словно находилось в загоне. Рембрандт и Ливенс, две восходящие звезды, которых почитатели живописи откроют к 1630 году, не останутся в родном городе. Они уедут работать в другие места. Только поколение Яна Стена (1626), Габриэля Метсю (1635), Франса Миериса (1635) обеспечит преемственность местной школы — школы, которая безупречно изображала уютные бюргерские домики и собрания сообществ в трактирах и зачинателем которой был их старший товарищ Герард Доу. Эту школу ждал полнейший успех. Она показывала ультраголландскую Голландию при помощи техники, в которой неотличимые глазом мазки образовывали единую гладкую поверхность: голландский медик, разглядывающий голландскую мочу голландской больной перед столом, покрытым сукном, стал ее эталоном.
Возможно, что в четырнадцать лет Рембрандту нравились картины Исаака ван Сваненбурха, изображавшие работников и превозносившие прекрасные текстильные ремесла. Мастер умер в 1614 году. Но его авторитет, очевидно, был еще очень велик, раз мельник предпочел обратиться к сыну мастера, Якобу Исааксу, а не к кому-либо другому, с просьбой взять Рембрандта себе в ученики. На самом деле у сына было мало общего с отцом, и, вероятно, Хармен выбрал его просто ради преемственности, которую тот должен был обеспечить. Профессия художника — не ремесло мельника, оно не передается от отца к сыну.
О Якобе известно, что он писал портреты, виды городов и фантастические сцены. Он долгое время прожил в Италии, сначала в Венеции, потом в Неаполе, где работал с 1600 по 1617 год и где ему пришлось давать объяснения в суде инквизиции по поводу весьма подозрительного хоровода ведьм на шабаше. Редкие полотна художника, которые ныне можно увидеть в музеях Данцига, Лейдена, Копенгагена, Аугсбурга, представляют его живописцем фантасмагорий: это наследник Иеронима Босха. В итальянском Возрождении ему нравилась тайна, такая, какой ее писал в Венеции Джиованни Беллини, во Флоренции — Боттичелли, та, что пронизывает эстампы Марка-Антонио Раймонди и Филиппа Галле.
Вот Хармен и Рембрандт бок о бок идут по Главной улице — Брестраат. Отец собирается представить сына мастеру, согласившемуся обучать его живописи. Нелтье попросила перед уходом пригладить волосы расческой — вечно он ходит растрепанным. Квадратное лицо, приплюснутый нос, карие глаза с голубыми белками под низким лбом — у него вид упрямого мальчишки. Кисти рук и ступни слишком велики для еще худосочной детской фигурки. Это молчун, который порой — как, например, вчера — может вспылить и затеять драку в Латинской школе. Он идет, размахивая руками. «Успокойся, — приструнила его Нелтье, — веди себя прилично! Ты должен произвести хорошее впечатление». Несмотря на свою внешнюю неотесанность, мужиковатость, он был умен и всегда все схватывал на лету. Родители были разочарованы тем, что он отказался от обучения в Университете. Это открыло бы ему дорогу для любой карьеры, даже политической. Ну что ж, он станет художником, как другие стали сапожниками или булочниками.
Между Харменом и мастером все было заранее оговорено, но тем не менее важно, чтобы первая встреча прошла успешно. Дверь открыла супруга мастера, меврау Маргарита. Она итальянка и говорит по-голландски с забавным акцентом. Мейнхер Якоб Исааксзон ожидал их в рабочей комнате. Хармен представил ему Рембрандта. Художник говорил об Италии, где живут самые великие мастера. Рембрандт разглядывал картину на мольберте. Разверстая пасть ада, химеры, пышущее пламя. Он уже видел все это у Луки Лейденского. Якоб дорисовывал ладью, парящую между сводами преисподней. На ладье тысячи грешников. Рембрандт вздрогнул. На самом верху картины, на небе — не Христос и не Бог-Отец, нет: Юпитер и Юнона, оба полуголые. Этот человек пишет не христианский ад. Он изображает ад античный.
Такому-то сатанисту и доверили подростка. То, что было потом, дает нам основания предположить, что он с некоторой настороженностью относился к искусству своего учителя. Но живопись, от Бога она или от дьявола, — все-таки живопись.
16 марта 1621 года
Хармену шестьдесят пять лет. Он задумывается о том, сколько ему осталось жить. Дела его в порядке. Свое завещание он составил еще двадцать лет назад: Нелтье — его полная наследница. Если она снова не выйдет замуж, будет иметь все права на семейное добро. Но случилось несчастье. Старший, Геррит, тот, что работал на мельнице вместе с отцом, лишился правой руки. Тогда Хармен вновь призвал нотариуса и добавил к своему завещанию, что после его смерти из наследства Герриту будет выплачиваться ежегодный пенсион в 150 флоринов. В тот день нотариус записал, что Нелтье больна и находится в постели, но в здравом уме и твердой памяти. И супруги воспользовались его приходом, чтобы внести примечание о том, что желают быть похороненными вместе в семейном склепе при церкви Святого Петра.
Отныне в доме появился инвалид. Вместе с родителями жили бедный Геррит, а также Махтельд, Корнелис, Виллем, Рембрандт и Лизбет.
1621 год. Двенадцатилетнее перемирие с Испанией подошло к концу. Годы пролетели незаметно. Пунктуальные испанцы тут же осадили Берг-оп-Зоом, взяли под наблюдение Антверпен и устье реки Вааль и все чаще нападали на торговые суда. Морские сражения в Гибралтарском проливе, у Кале. Нидерланды теперь не всегда выходили победителем. Крупные голландские компании, только что основавшие Батавию, начали вооружать корсаров для защиты своих караванов и нападения на караваны врагов. Республика в опасности?
Рембрандт провел три года в обучении у Якоба ван Сваненбурха: прибирал в мастерской, вытирал пыль, укрывал от нее картины, собирал рамы, натягивал холст, растирал краски, следил за чистотой масла, располагал краски на палитре в порядке, привычном для мастера, грунтовал холст — выполнял всю ту работу, благодаря которой постигаются азы организации творческого процесса. Сам процесс может осуществляться очень быстро, при условии, что еще не слишком рано и уже не слишком поздно. Надо научиться чувствовать, когда можно начинать и когда к картине больше нельзя прикасаться. Художник творит в промежутке, пока просыхает краска, внимательно следя за временем. Юноша открывал для себя все, что существует до, во время и после творчества. Многоразличные, кропотливые, длительные действа.
Имел ли он право писать сам? Поощрял ли его Якоб к занятиям рисунком? Позволял ли ученику писать небо, дерево, утес, лицо? Не сейчас, говорил он, не сейчас. Мастер долгое время держал его в узде, затем понемногу ослабил поводья. Первая известная нам картина Рембрандта, написанная в 1625 году, показывает, что девятнадцатилетний юноша отнюдь не виртуоз. Станет ли он им когда-нибудь?
В другой лейденской мастерской в то же самое время обучался сын вышивальщика-позументщика Ян Ливенс, бывший годом младше Рембрандта. Высокий лоб, тонкие черты лица, голубые глаза, нос обжоры, чувственные губы — более зрелый, хотя и более молодой. Родители не отдавали его в Латинскую школу. Едва окончив начальную, он восьми лет был отдан в обучение живописи в мастерскую Йориса ван Схутена. В двенадцать его отправили на два года в Амстердам к знаменитейшему живописцу Питеру Ластману, который владел новой манерой письма: он побывал в Риме. А это, кажется, получше Неаполя.
Возможно, оба мальчика встретились, когда Рембрандт поступил к Якобу Исааксзону, а Ливенс вернулся из Амстердама. Ливенс, имея в своем активе шесть лет обучения живописи, был далеко впереди, а потому вполне уверен в себе. Но в искусстве рано проявившийся дар — лишь одно из добрых предзнаменований. Ливенс прожил дольше Рембрандта. Он прославился на весь мир и написал в Лондоне портрет королевской семьи. Сегодня мы в основном ценим его рисунки, таинственные деревья на его пейзажах. В его композициях, можно сказать, витает дух Рубенса и Ван Дейка, но близость к Рембрандту чуть было не стерла его имя со страниц Истории: в такую глыбу превратился на протяжении столетий его друг — огромную, всепоглощающую, вбирающую в себя все схожее с собой. Тем не менее весьма вероятно, что именно младший по возрасту, но старший в искусстве сумел убедить юного Рембрандта и его семью в том, что он не должен лишать себя опыта работы в мастерской Питера Ластмана в Амстердаме.
Явление призрака
Чего искал восемнадцатилетний Рембрандт, уезжая в Амстердам? Того, что пообещал ему Ливенс: более высокого искусства. Довольно портретов офицеров, городских старшин и купцов, довольно натюрмортов и городских видов. Он хотел приобщиться к искусству, доходившему до сути вещей, носителю духовности и нравственных категорий. Хотя в церквях, которые теперь белили известью, уже нельзя было изображать ни Бога-Отца, ни Христа, в Библии оставались доступные пониманию сюжеты, глубокие темы, богатые костюмами, пейзажами и композицией, и все это мог открыть ему Питер Ластман. Наряду с художниками из Утрехта — Хонтхорстом, Бабуреном, Тербрюггеном — он был одним из тех, кто воспринимал живопись как искусство высочайшего разбора. Рембрандт знал его имя и адрес в Амстердаме. Он поехал в Амстердам.
Рембрандт в восемнадцать лет решил заняться живописью именно для того, чтобы показать, как мир меняется. И Ластман был тем человеком, который мог ему помочь, потому что прежде жил в Риме, а там не писали горожан и горожанок с собачками, рот арбалетчиков, осоловевших от своих пиршеств, ремесленников, надзиравших за качеством ткани, — там изображали легенды и мифы, слабость человека перед Богом и его общение с Ним. В Риме живописцы могли себе это позволить. Почему же в Голландии все было не так?
В мастерской Питера Ластмана Рембрандт осмотрел несколько картин мастера, развешанных на стенах. Одиссей выходит на берег, и Навсикая воздевает руки к небу при виде обнаженного пловца. Рядом с ней остановилась колесница со служанками. На картине множество животных и женщин с зонтиками. Персонажи не выстроены в ряд, как офицеры ван Схутена. Создается ощущение пространства, ветер гнет деревья. Человек, населяющий эту древность, более подлинный, более живой, чем ополченец из тира. Странно, но факт: вымысел сильнее реальности.
Теперь Рембрандт смотрит на другое полотно. И быстро делает с него набросок. Это Иосиф, раздающий хлеб. Великолепно! Одетый в длинное восточное платье с вышивкой, он поднялся на помост. У его ног все богатства этого края — коровы, кони, птица и козы, мужчины, женщины, дети. Позади него — голландский конторщик в восточном одеянии записывает в книгу количество розданного зерна, мешки с которым на верху дворцовой лестницы могучие грузчики передают из рук в руки и взваливают на плечи почти совсем нагому мужчине. Вот это живопись! Она уносит с маленьких голландских площадей, куда люди ходят взвешивать свои сыры и считают за честь продавать и покупать.
Еще одна картина Ластмана: царь Давид в горностаевой мантии, струящейся с его плеч, играет на арфе на гигантском просторе. Вокруг него целый оркестр: певцы, скрипки, литавры, орган и даже тамбурин. Писать гораздо интереснее, чем шествия дозорных с барабаном! Молодому человеку нужны яркие зрелища. Он чувствует себя способным замахнуться на грандиозные сцены на фоне пейзажей, иллюстрирующих могущественную Античность с ее дворцами, статуями и триумфальными арками.
К тому же Амстердам — не то что Лейден: прежде всего это большой город. Более ста тысяч жителей. В нем больше нет крепостных стен. Оставшиеся от них древние башни возвышаются в центре новых кварталов. А главное — порт. Со всеми приезжими, сходящими с кораблей. Вот и люди Востока в тюрбанах, ярких одеждах, с изогнутыми саблями. Поговаривают, Нидерланды заключили союз с алжирцами против испанцев. Здесь сообщаются с целым светом: Японией, Китаем, Индией, Явой, берегами Африки, Антильских островов, Америки. Как велик мир! Оттуда привозят неведомые изделия — духи, ткани, предметы из меди, фарфора, каких здесь не делают. А еще сахар из Бразилии и лес из Норвегии и, конечно, пряности, приносящие невероятные барыши. Чарующее зрелище. Очень скоро, несмотря на буйство красок и изобилие, царившие на набережных, Рембрандт понял, что все решается далеко от этой реальности — в отвлеченности Биржи. Она существует уже более двадцати лет. Здесь жизнь кипит два часа в день. Тут можно продать и купить монеты всех стран. Как увлекательно присутствовать при сделках! Корабль доходит по каналу почти до самого центра здания. Его груз продается очень быстро. Из рук в руки не передают ни одной монеты. Подпись, обмен договорами — и денежные суммы в банке переводятся с одного счета на другой.
На Амстердаме сошелся весь свет, а деньги могут все. Рембрандт этого не забудет. Кто в Лейдене понимал, что Нидерланды стали торговым центром планеты?
Однако самым важным событием во время его пребывания в Амстердаме стало то, чего нельзя ни отрицать, ни опровергнуть: встреча с призраком Эльсхеймера, покойного живописца, о котором он почти ничего не знал, хоть и почувствовал главное в его творчестве и, таинственным образом проникнувшись им, неожиданно отозвался на него своими работами. Действительно, как объяснить, что картины художника, которых Рембрандт, возможно, никогда не видел, так близки его собственным творениям, написанным пятнадцать или даже двадцать лет спустя после смерти Эльсхеймера?
Адама Эльсхеймера, родившегося во Франкфурте в 1578 году и умершего молодым, в 1610-м, в Риме, куда он приехал двадцати двух лет, принято считать певцом сумерек. Но в тени драматической театральности Караваджо его маленькие картины, часто написанные на медных пластинках в совершенной гладкой эмалевой технике, придают потемкам другой смысл. Эльсхеймер делает ночь нежной. В его дремучих лесах свет исходит порой лишь от нескольких далеких факелов. А чаще — от самих персонажей. Мария, Иосиф и Младенец во время бегства — это слабые огоньки, выходящие на опушку. Товия в сопровождении Ангела выходит в поле, как заря в ночи. Эльсхеймер сгущает ночь, чтобы стало заметно иное сияние — сияние чистой духовности. Он открывает пространство для раздумий.
Сегодня его картины трудно заметить среди масштабных полотен, фресок, великих скульптур итальянского искусства, но он не исчез благодаря тому влиянию, тому тихому свету, который пролил в свое время своими небольшими работами, полными внутренней сосредоточенности и тишины.
Влияние Эльсхеймера можно разглядеть в Италии у Ланфранко, Джентилески, Сарачени, Клода Лоррена, а затем у Рубенса, делавшего рисунки с его картин, и у многих голландцев — Пауля Бриля, Корнелиса ван Поленбурга, Бартоломеуса Бренберга, Херкюлеса Сегерса; возьмем, к примеру, изображение Святого Семейства, которое Рембрандт через тридцать лет добавит к гравюре Сегерса вместо Товии и Архангела (их сам Сегерс срисовал у Эльсхеймера — римского немца); или же ложбину, в которую Архангел Михаил спустился к жене Маноя, у Карло Сарачени, а также реку, текущую между холмами с замковыми башнями у Пауля Бриля, или снова Рембрандтовых — «Доброго Самаритянина» или «Бегство в Египет».
Мы говорим здесь не о сюжетах — они одинаковы для всех, но о некоем духе живописи, достигающем того уровня чудесной простоты, которая была свойственна рейнским живописцам, когда, в Средние века, они изображали Деву Марию в ее потайном саду. Так достигается уровень таинственного света. И эта возвышенная простота проявляется то тут, то там, из века в век.
Должно быть, искусство молодого немца зазвучало очень сильно, раз Рембрандт расслышал его глас настолько ясно, что так явно откликнулся на него. И хотя краски у Рембрандта — не колорит, как у Эльсхеймера, а насыщенный тон, он подхватил тайную песнь молодого римского немца. Ему передалось невысказанное. Но как? Может быть, в Амстердаме, у Ластмана, бывавшего в Риме, знавшего Эльсхеймера и, возможно, показавшего Рембрандту его творения?
Ибо, по всей видимости, именно в той мастерской и состоялась их встреча. При этом нельзя забывать, что общение между двумя художниками не должно было оказать ощутимого воздействия сразу, оно могло сказаться лишь годы спустя. Рембрандт уехал из Амстердама, унося в себе росток, который станет цветком много позже. И хотя он, скорее всего, не осознавал сокрытой в себе тайны, должно быть, он навел справки о художнике у другого голландского ученика Эльсхеймера — Якоба Пинаса. Явившись к Ластману, чтобы получить урок живописи, посвященной великим и возвышенным сюжетам, он должен быть перенять и его театральное представление об искусстве — неровном, суетном, перегруженном деталями. Случилось так, что уехал он, полный совсем других ощущений.
Хармен отправился за сыном, чтобы вернуть его в Лейден. Они вместе сели на судно, которое тянула лошадь. Мельник сжимал в своем кармане квиток, выданный ему Питером Ластманом: «Расписка Хармену, сыну Геррита, из Лейдена на сумму в два с половиной флорина за полугодовое обучение искусству живописи Рембрандта, сына Хармена». Спускалась ночь. Слышался только стук копыт по берегу да плеск серой воды о борт судна. Мельник и его сын, ставший живописцем, думали каждый про себя о том, что же такое живопись.
В холщовом тюке юноша вез все, что смог купить в большом городе, в порту, открытом для всего света. Он показал отцу кривую турецкую саблю и восточные ткани. Хармен нашел, что сын изменился. Он стал теперь крепким, коренастым. У него появилась уверенность в себе. Он выглядел более спокойным. Отпустил усы. Когда Рембрандт вернулся домой, мать, братья и сестры встретили его с любопытством. Для каждого у него был припасен небольшой подарок.
Он раскрыл папку с рисунками, сделанными у Ластмана, и показал деревянное панно, которое сам расписал, полное щитов, оружия, лат, валяющихся на земле. Король в короне воздел свой скипетр над коленопреклоненными солдатами. Целая армия созерцает эту сцену. Люди взобрались на основание колонны, чтобы увидеть, что происходит. Писец за столом, покрытым сукном, перестал писать, воззрившись на монарха. Это был эпизод современной истории на фоне крепостной башни, церкви и колокольни — возможно, эпизод недавней войны.
Семья молчала. Картина была большая, больше метра. Неужели он сам все нарисовал, всех этих столь разных людей, ни одного похожего костюма? А как сияет щит на первом плане! Кажется, его можно потрогать. Посыпались вопросы о персонажах: это кто? А это?
Лизбет вдруг указала пальцем на голову молодого человека между королем и внушительным стариком с длинной белой бородой, закутанным в меха.
— Да ведь это ты! — удивилась она. — Это ты, и кудри твои и белый воротничок на голубой блузе. Ты словно смотришь на нас. Почему?
— Да, это я. Я написал эту сцену, значит, мне есть в ней место.
Лизбет это было понятно. Хармен и Нелтье недоумевали. Почему сын изобразил себя на церемонии, в которой он не участвовал? Разве художник имеет право так поступать?
Рембрандт, должно быть, рассказывал им и о большом городе, и о порте, уходящем в бесконечную даль, о бесчисленных кораблях, о складах, построенных на воде, башнях, оставшихся от бывших крепостных укреплений и ныне возвышавшихся посреди новых улиц над кругами новых каналов. Когда все это будет в Лейдене? Перенаселенные жилища рабочих становились вредны для здоровья. Но строить дома по ту сторону крепостных стен — не опасно ли это? Война началась снова. Испанские войска Оливареса всего в двадцати лье отсюда.
Рембрандт искал работу. Говорили, что он нашел место у Йориса ван Схутена — помощником хозяина. Оставалось самое трудное: обрести независимость.
Глава II ДИАЛОГ ДВУХ МОЛОДЫХ ХУДОЖНИКОВ
Первая мастерская
Известно, что он устроил свою мастерскую в отчем доме в Веддестееге. Любопытен луч света на картине, которую он напишет позже. Свет падает в комнату сверху, освещая холст, поставленный на мольберт перед художником. Не то чтобы Рембрандт раньше всех изобрел принцип художественной мастерской с потолочным освещением. Просто из этого можно заключить, что семье пришлось выделить ему помещение, куда свет проникал сверху, а это мог быть только чердак на самом верху дома. Туда взбирались по деревянной лестнице, а через высокое и широкое окно, при помощи блока и ворота, втаскивали провизию, сломанную мебель, мешки с мукой про запас. Через это же окно и падал свет. Все ненужное распихали по углам, и у Рембрандта появилась первая мастерская.
Зима все никак не кончится. В жилых помещениях холодно, а на этом чердаке под самой черепицей, продуваемом ветрами насквозь, просто ледник. Рембрандт надел несколько одежек одну поверх другой и старую драную отцовскую шубу. «Можешь доносить ее и выпачкать как угодно», — сказала Нелтье. Он открывает тяжелую деревянную дверь, проходит по грубым половицам и смотрит на картину, над которой работает уже несколько месяцев. Впервые он один на один с живописью. Совсем один. Никто не наблюдает за его работой. Никто не вмешивается. Его рассердило, что Ластман в Амстердаме сам расставил персонажей в глубине картины, которую он показал своей семье в вечер возвращения домой. Досада? Зависть? Он следил за тем, как быстро и непринужденно Ластман делал ему замечания, у него не было той легкости и уверенности в себе. Вот наконец и он сможет стать таким.
Под столом он сложил папки с рисунками, которые делал с картин Ластмана, небольшую коллекцию эстампов Гольтция, серию гравюр с пропорциями человеческого тела. У него также были наброски с книги о перспективе Вредемана де Ври (вышедшей в Лейдене) — книги, которую он видел у Якоба Исааксзона, когда начинал обучение. Питер Ластман пользовался одним из последних изданий. А что касается анатомии, то в Лейдене уже больше тридцати лет производили вскрытия в публичном анатомическом театре. Нет, он начинал не с пустыми руками.
«Избиение святого Стефана» — первая картина, написанная в его первой мастерской, — весьма насыщенное произведение, возможно, даже слишком насыщенное. Когда начинаешь, всегда сразу стараешься показать все, что можешь. Рембрандт основательно подготовился к этому сюжету. Он знал, что Стефан, первый христианский мученик, был приговорен синедрионом к избиению камнями за проповеди о том, что Бог пребывает не только в храме. Рембрандт составил композицию таким образом, чтобы двадцать один участник действия расположились вокруг Стефана. Главных виновников, произнесших приговор, он поместил в глубине картины, словно на театральном помосте (излюбленный прием Ластмана). Они разговаривают между собой и смотрят на Стефана. Стефан, в узорчатой красной одежде, падает на колени, взирая на небо и воздев одну руку кверху, а люди из народа, полуобнаженные труженики, вершители правосудия, нападают на него с каменьями в руках, намереваясь раздробить ему кости и череп. Среди них, справа, спиной к зрителю — весельчак, чьи мускулы достойны «Геркулеса» Гольтция.
В результате в центре картины получилась горизонтальная полоса, наполненная лицами, выглядывающими позади главных участников казни, — неровная полоса, отражающая скорее беспорядок, чем динамизм сцены насилия. Над ней возвышаются две группы стариков в шляпах с перьями и колпаках, расположившихся на фоне городского пейзажа с башней, сплошь покрытой растительностью, с церквями и колокольнями, уходящими в небо. Все это еще не дает необходимого эффекта. Рембрандт создал нагромождение деталей. Конечно, ему удались позы, он придал лицам палачей различные выражения, смог передать гнев, мускульное усилие, ошеломление перед убийством, но все вместе они не составляют целого. Лучше всего удалось распределение света и тени на картине. Конь, три персонажа, стоящие слева против света, военные, наблюдающие за зрелищем, выписаны с мастерской мощью.
Остается одна загадка. По крайней мере для нас. Эта картина перекликается с другим «Избиением святого Стефана», написанным Адамом Эльсхеймером двадцатью годами раньше, — маленькой работой на меди, в три раза меньшей, чем полотно Рембрандта; то «Избиение» Рембрандт видеть не мог (в лучшем случае ему могла попасться на глаза сделанная с него гравюра), однако он позаимствовал с нее распределение света и тени. Можно подумать, что кто-то описал ему картину. Кто-то сказал ему, что Стефан падает на колени, что полуобнаженный человек поднимает камень, который разобьет ему голову, что стража и какой-то султан со свитой скачут верхом, и наконец — самое главное, — что длинный световой треугольник, словно конусообразный луч прожектора, спускается с верха картины, где в углу изображен Бог, посылающий к Стефану ангела.
Возможно, исходя из такого устного описания картины, он и протянул луч света к мученику: так получилась затененная часть. Действительно, глядя на эстамп с картины Эльсхеймера, видно, что Рембрандт словно повернул изображение на 45 градусов.
Первое известное нам произведение он пожелал написать в духе молодого римского немца. Именно этому треугольнику духовного света он обязан своим первым диалогом света и тени. Впоследствии, избавляясь от восточной пышности Питера Ластмана, он научится делать свои поиски более ясными, идти к сути прямиком. Пока же на него давят тысячи образцов, он полагает своим долгом выполнить тысячу обязанностей: верно истолковать сюжет, преподнести характеры, детали, костюмы, соблюсти анатомическую точность, выдержать перспективу — все те законы, которым его обучали и которые превращают программную живопись в самую сложную, требующую больше всего этюдов, перемалывающую столько художников жерновами знания. Но, думая об этом треугольнике света, о котором кто-то (возможно, Ластман, а может быть, Пинас) ему рассказал, он нашел свой путь. Идея одного художника, переданная художником же, пробудила другого художника.
В мастерской слишком холодно. Рембрандт снова спускается погреться у камина. Прежде чем открыть дверь, он оборачивается и вновь смотрит на свое «Избиение». Наверное, в картине много путаницы, но есть и сила. Шероховато, но пугающе. Видно, что назревает убийство. Голова будет пробита. Совершенно очевиден ужас подобных казней: судьи, спокойные зрители, разойдутся, как только свершится правосудие, а бедные босоногие поборники справедливости, повинуясь закону, сами уготовили себе место в аду. Обманутые властями предержащими, они становятся преступниками, и хуже всего то, что они верят в свою правоту, считая себя исполнителями божественной воли.
Он взялся рукой за ключ в двери. На мгновение задумался: «Для кого я пишу это здесь, в иконоборческой стране, изгнавшей святых из своих молитв?» И вышел на чердачную лестницу.
В большой комнате внизу сидела Нелтье, окруженная детьми. Она вернулась с рынка, где узнала новость: принц Мориц скончался вчера, 23 апреля. Говорят, он был еще молодой, пятьдесят восемь лет. Махтельд заплакала. Все в тревоге, а тут еще испанцы напирают. Они осадили Бреду. Мориц умер, долго ли еще продержится Бреда?
На следующий день в ратуше было провозглашено имя нового правителя: Фридрих-Генрих, принц Оранский, статхаудер Голландии, Зеландии, Утрехта, Гейре и Оверейсселя.
Рембрандт думал о своем «Избиении святого Стефана»: «Для кого я пишу эту картину?»
«Избиение» — произведение отшельника. Все те месяцы, что Рембрандт посвятил картине, он жил как затворник, окруженный образами, хранившимися в памяти. В эту картину на дереве он вложил все, чем дорожил: знания, аллюзии, которые считал необходимыми и от которых позднее ему придется избавляться. В то же время он ввел в нее основополагающий принцип распределения света и тени, который станет одной из его отличительных черт. В «Избиении» есть все: и то, что уйдет, и то, что разовьется.
Сравнительно с другими художниками он угадал верное решение: люди в тюрбанах и роскошных халатах, лес пик, фасады храмов с колоннами — все это в духе времени. Такие детали используют как для мифологических и исторических сюжетов древности, так и для библейских притч. Те же статисты в тех же костюмах в разных театрах, будь то у Рубенса, Клода Виньона, Питера Ластмана, Давида Тенирса. Рембрандт строит декорации так, как это делают в Европе все.
Сам ли он избрал этот путь? Или просто не знал другого? Трудно поверить, что он пребывал в полнейшем неведении относительно того, как развивалась живопись в Утрехте. От одного города до другого всего несколько часов пути. Но расстояние между двумя школами может быть беспредельным. В Утрехте итальянский тенебризм породил в творчестве таких художников, как Бабурен, Хонтхорст, Тербрюгген, игру световых контрастов, чувственную наготу. Без страстного порыва, откровенного желания, как у Йорданса. Но полную существенности, размышляющей о жизни и смерти, о сне и наслаждении в композициях, исполненных радости, повествующих о досужей жизни, где у девушек, сидящих за столом, глубокие вырезы на платьях, где лихо наяривают музыканты.
А в Харлеме был Франс Хальс. В его произведениях нет ничего исторического, возвышенного, священного: веселые компании в трактирах, пьяницы, проститутки, солдаты, чернь — все те, кто попадаются по вечерам на улицах Лейдена. Но какая прекрасная живопись!
Конечно, Рембрандт и не собирается посвящать свою живопись наслаждениям. Он пишет насилие, полную опасностей жизнь, смерть, твердость в вере.
Его мастерская просторна. Этот чердак величиной с гумно. Ян Ливенс искал помещение для работы. Рембрандт пригласил его к себе. Отныне мастерская, бывшая местом его уединения, станет горнилом новой живописи. Двое юношей, девятнадцатилетний Рембрандт и восемнадцатилетний Ян, вместе переживут великие моменты творчества. Они не всегда подписывали свои картины. Порой один работал над картиной другого и даже писал об этом на холсте, но надписи стали неразборчивыми, и их нелегко различить. Хотя два века спустя все такие полотна стали приписывать Рембрандту, на самом деле друзьям не было нужды сводить счеты друг с другом.
С тех пор как история искусства стала располагать большим числом документов, в фокусе ее внимания оказались подобные сближения, объединения молодых художников, те эфемерные группы, существование которых могло привести к жизни в фалангапере, как у назарейцев, а могло и породить движение сюрреалистов. Вот только в древности почти нет примеров таких содружеств.
Поначалу главенствовал не Рембрандт. Хотя они оба учились у одного мастера, печать Ластмана на творчестве Ливенса была старей. Правда, нам неизвестны все его ранние произведения, но мы знаем, что в 1624 году, семнадцати лет, он создал серию картин на тему Четырех Стихий: поясные изображения, где Огонь — мальчик, дующий на уголья, чтобы зажечь свечу, Земля — крестьянин с обнаженным торсом и лопатой на плече, несущий в корзине урожай репы. В тот же год он написал другую серию — евангелистов: Матфея с ангелом, Марка, очинивающего гусиное перо, Луку, читающего книги, и Иоанна, предающегося размышлениям под зорким оком орла, — картины, написанные с размахом, где заметно движение воздуха и очевидна непринужденность манеры молодого художника.
Ливенс привнес в мастерскую сочетание харлемской и антверпенской виртуозности. Точнее, он писал в стиле этих городов, но с серьезностью, с каким-то тяжелым беспокойством. Глядя на его картины, нельзя не заметить, что он умеет писать, но не удовлетворен этим. Рембрандт же в тот период тщательно составлял композиции своих картин, в чем, очевидно, выступал последователем скрупулезности примитивов.5 Тем отчетливее при сравнении их работ проступают различия между ними. Ян свободен, общителен, склонен к авантюрам. Рембрандт замкнут. Он боится потерять идеал величия, который взлелеял в своем одиночестве. Он полагает, что живопись — серьезное искусство, обязующее быть таковым. Будучи глубоко религиозным, он хочет, чтобы его искусство говорило о мире и человеке. И если он вступает в спор, то делает это резко, чтобы напомнить людям о том, о чем они постоянно забывают: о взыскательности Божией.
Ян нарушает правила искусства своими крупнофигурными композициями, но он использует то, чем владеет, а не тратит время, как Рембрандт, на то, что ему не дается, — на перспективу, задний план, сложные композиции. Ян более свободен. Более юный, чем Рембрандт, он ведет себя как вундеркинд, желающий возвыситься до уровня старших, тогда как Рембрандт погружается в живопись, чтобы раскрыть свою личность. Вот что разделяет их и пробуждает любопытство друг к другу.
Подходил к концу 1625 год. 16 сентября в Делфте состоялись похороны принца Морица. Огромная траурная процессия проходила перед бесчисленными зрителями. Кое-кто в толпе говорил, что, будь Мориц жив, испанский генерал Спинола не получил бы ключей от Бреды. Другие отвечали, что больной Мориц уже давно был не тот, что прежде. Португальцы вновь захватили Байю. В доме Хармена с трудом отыскали ее на карте. Голландии нужны были победы.
В первые месяцы совместной работы в мастерской картины одного художника мало разнились от творений другого. Тюрбаны, коврики на столе, перья, драпировки, персонажи, расположенные против света, профили, руки, выделяющиеся на фоне шелковых занавесей. Мужчины и женщины, библейские персонажи в поясном изображении, ясная, спокойная композиция. Это Рембрандт? Или Ливенс? Эта живопись уже не вопиет об отчаянии мира. Она более не потрясает зрителя, как «Избиение Святого Стефана». Похоже, Рембрандт почувствовал это и написал «Изгнание торгующих из храма» — гораздо меньшую по объему картину, 33 сантиметра в длину. На одной из колонн он запечатлел свою монограмму и поместил на самом верху разгневанное лицо Иисуса, угрожающе замахнувшегося ременной плетью, а перед ним изобразил беспорядочную толчею из сдавленных тел, суетливых рук (рука, прикрывающая лукошко с курицей; руки кричащего солдата, закрывающего лицо от света; рука старика в тюрбане, с трудом пробивающегося сквозь толпу; руки, пытающиеся спасти дукаты, рассыпавшиеся по столу; рука, стиснувшая кошелек) и оробевших или обезумевших людей, одержимых стремлением ничего не потерять в наступившей сутолоке. Рембрандт заполнил картину до предела, не оставив свободного места, стянув действие в единый узел, где царит паника. Это более сильное произведение, нежели «Избиение святого Стефана», где композиция, несмотря на обилие персонажей, страдает от слабости некоторых фрагментов.
Этот новый взгляд знаменует начало его разрыва с Ластманом. Но только начало, ибо в 1626 году он еще будет попеременно то натягивать нить, связующую его с мастером, то ослаблять ее, то удаляться, то возвращаться снова. Его преображение проходило не гладко. Однако оно проявилось и в том, что он по-новому заинтересовался фактурой живописи. Уже на одеянии святого Стефана было очень много шитья, но в этой работе, в «Изгнании торгующих из храма», его еще больше.
В творчестве Питера Ластмана пересекались два направления искусства: одно, сохранившее кое-что от гладкой живописи средневековых заалтарных картин, и другое, относящееся к Возрождению, с его законами перспективы и анатомических пропорций, которые составляли невозможное сочетание, и это дыхание севера, овевавшее итальянскую фантазию, являло собой неосознанный отказ пойти по совершенно новому пути. И вот в эту смешанную, неоднородную почву Рембрандт заронил свой посев. Но его будущее — он только что это понял, изображая крупный план в самом центре действия, — в выборе волнующих, напряженных сюжетов.
Казнь святого Стефана явилась провозвестником необходимости пройти через насилие, чтобы сбросить с себя иго эстетизма. В том же порыве Рембрандт отказался от пространств ровного цвета, повсеместно присутствовавших у учителя. Он осмелился дать своей кисти свободно парить, обозначая завитки волос, растрепанную бороду солдата, пушистые меха, перепахивая лбы перепуганных стариков бороздами морщин. Воротник сорочки голландского конторщика в маленькой круглой шапочке — не просто воротник, но еще и мазок кисти вкруг лица с беззубой улыбкой. Так в его картинах живописный материал зажил своей жизнью. Кисть более не затушевывала своих следов. Она стала пробуждать живое во всех и вся.
Рембрандту двадцать лет, и он только что понял, что его счастье — сделать картину таким же живым полотном, как ткань самой жизни, какой ее гораздо позднее явит глазу микроскоп Левенгука в Лейдене, когда человеку откроется кишение сперматозоидов, поток красных кровяных телец, бесконечное движение простейших и когда он хоть что-то поймет о текучести и богатстве жизни. Тогда человек сможет свидетельствовать, что глубинная действительность не монотонна, что мир зиждется не на геометрической симметрии, которую можно рассчитать, что существует реальность за пределами видимого — та реальность, открывать которую положено ученым и которую Рембрандт, искатель знаков божественного откровения, ловец моментов истины, отныне беспрестанно будет показывать людям. Таково положение художника: стать на одну стезю с биологом, руководствуясь тем же желанием видеть сквозь непрозрачную ткань жизни.
Правда, двадцатилетний Рембрандт, по слегка презрительному выражению Марселя Дюшана, не «ретинальный» живописец.6 Для передачи панического страха в толпе ему не нужно, чтобы персонажи пускались от него наутек, не нужны ему и факелы или свечи для создания светотени. Своей способностью к вымыслу, или к знанию, он обязан векам существования живописи: искусство есть мысль, оно порождает и краски и формы. Хотя на улице, за городом, с натурщика в мастерской Рембрандт любил делать наброски, он никогда до конца не поддавался чарам действительности. Свету, подрагивающему на листьях и на воде, он всегда предпочитал сияние своей мысли.
Тем не менее он все еще был привязан к Питеру Ластману до такой степени, что счел необходимым противоречить ему в одном из сюжетов, избранных учителем в Амстердаме: «Валаамова ослица». Рембрандт повторил все жесты: Валаам, воздевающий посох, ангел, потрясающий мечом. Но написал это с большей порывистостью. Ангел летит. Ослица более напуганна.
Еще попытка отойти от учителя: он осмелился поместить притчу в обычную обстановку, ввести необычайное в повседневную жизнь, в дом Хармена с маленькими окошками, ивовыми прутьями, висящими на стене, связкой сохнущего лука, плетеной деревянной клеткой с птичкой, собакой, соломенным стулом, кухонной утварью, разложенной по полкам, оловянными мисками, глиняными кувшинчиками, медными тазами — старыми спутниками крестьян Брейгеля, торговцев Артсена. Для того чтобы эта обыденность обрела смысл, он помещает перед очагом двух стариков в лохмотьях. Слепой Товит и Анна с агнцем на руках. Рваные одежды с просвечивающей сквозь дыры цветной подкладкой, шерсть ягненка, осыпавшаяся со старых кирпичных стен штукатурка, — все это придает картине материальность.
На сей раз она выдержана в спокойном ритме, хотя это вовсе не то веселое и невзыскательное искусство, распространившееся от Харлема до Утрехта, от Амстердама до Лейдена, которое Ливенс привнес в мастерскую. Несколько месяцев Рембрандт подставлял себя всем ветрам живописи, чтобы найти тот, который с большей силой раздует огонь его творчества. Ибо он хочет, чтобы живопись пылала, чтобы она вырвалась из благополучия, благопристойности, где остыла в угоду теплым заказчикам. Зачем писать, если не очищаться самому и не давать всем остальным повод задуматься?
Страна была взбудоражена обретением независимости. Потом этот порыв пошел на убыль. Рембрандт принадлежал к послевоенному поколению. Те, кто изгнал врага, свергнул одну власть, чтобы утвердить другую, считали, что они дали шанс своему поколению. Их сыновья полагали, что пришла пора других революций. В искусстве, по мнению Рембрандта, все надо было начинать заново. Живопись не может ограничиться восхвалением комитетов и народной милиции. Раз уж изображать Христа более невозможно, раз уж ад превратился в лубочную картинку, которая больше никого не пугает, неужели искусство должно покорно льстить обществу, которое, не испытывая духовного страха, скатывается к посредственности? Нужно снова ввести духовность в обыденный мир. Нужно разверзнуть пропасть под ногами слишком уверенного в себе народа, считающего, что уже решил все проблемы. Неужели это правда, что в небе нет больше ангелов — только тучи и ветер? А живопись осуждена изображать лишь милые аллегории, собрания гражданских обществ, галантные сцены в кабаках и натюрморты без излишеств, чтобы избежать обвинения в превознесении греха чревоугодия?
Ибо аллегория и селедка на тарелке хорошо вписываются во всеобщее стремление к сдержанности, а также побуждают к молчанию, которого требует эта страна, озабоченная тем, чтобы искусство более не тревожило ее. Портреты стрелковых рот — это ярмарка тщеславия. Тщеславие — грех, но в компании оно не так заметно. Что до галантных сцен, то любовь в них выглядит игрой, где даже страсть удерживается на поводке правилами приличия.
Когда тебе двадцать, хочется срывать все эти маски, все эти маскарадные костюмы, пока они окончательно не подменили собой истину и не скрыли настоящую жизнь. Раскройте глаза. Покажите любовь в постели. Покажите, что офицеры не всегда стоят в ряд. И пишите Бога. Время «Беелденсторм» прошло. Иконоборцы разошлись по домам. А это из-за них художники изображают лишь членов магистрата в черном и аркебузиров в шляпах с пером. Мы уклонились от взгляда, испытующего душу. Для нас лучше взгляд, оценивающий состояние. Раскройте глаза. Иначе во что превратится живопись в Голландии? Не более чем в теплое искусство для теплых.
Рембрандт один на один со своей яростью. Он хотел бы заразить ею Яна Ливенса. Вместе они пустятся в головокружительное приключение, которое, по всей видимости, затеял Рембрандт, поскольку впоследствии только он и останется верен тому, что они замыслят вместе, тогда как Ливенс отступится.
Все началось с картины, всего в 25 сантиметров длиной, небольшого деревянного панно — «Бегство в Египет», которое Рембрандт подписал своими инициалами и датировал 1627 годом. В тот же год Ян Ливенс написал натюрморт, зрительное воплощение «суеты сует»: скрипка, книги, песочные часы, череп, погасшая свеча — все это было уже много раз.
Таким образом, в 1627 году Рембрандт шел вперед, а Ливенс колебался. Вспомнил ли Рембрандт снова описание картины Эльсхеймера? Двадцать лет спустя сближение с тенью художника станет более очевидным, но уже и сейчас заметна перекличка с работами римского немца. На этот раз — с его ноктюрнами, ночными песнями, с той только разницей, что у Эльсхеймера маленькая группка: Богородица и Младенец на ослике, — едва освещенная фонарем Иосифа, излучает счастье, тогда как у Рембрандта Святое Семейство идет в кромешной темноте, выхваченное ярким боковым светом, слева ему грозит колышущийся чертополох, похожий на дракона и отбрасывающий справа на землю огромную движущуюся тень, неотступно следующую за ним.
Вне всякого сомнения — картина, многое определяющая в его творчестве, ибо на этом небольшом деревянном панно он впервые приглушил яркость своей палитры. Ни одного участка гладкого чистого цвета: только черно-белая гамма, оттенки серого, то теплее, то холоднее, но цвет как таковой исчез, и кисть служит уже не ему, а колебаниям, движениям на поверхности. Он осмелился отринуть красивые красные тона, темную синеву, напевные коричневые оттенки, чтобы явить в мертвенном лунном свете движение жизни, в данном случае шествие Четы, Младенца и осла. Вышло еще нетвердо и шероховато, но в движении кисти — живость, исполненная ликования. Отныне покончено с разделением цвета и рисунка. Все это живопись. Все исходит из единого протяжения — луча света, создающего объем в темноте. Обретение этого единства — важный этап.
В гравюре тоже явно обозначился прогресс. Уже год он пробует свои силы в офортах. Эстамп был привнесен в мастерскую Ливенсом. Ян, уже изобразивший в гравюре своих Евангелистов, с большой легкостью обращался с медью, умел придать объем, преобразить белизну бумаги в свет, ровно выстроить насечки на пластине, чтобы получить непрерывный черный цвет.
На первых гравюрах Рембрандта из-за неровных вырезов на меди получились скорее дыры, чем лучи света. В них можно узнать лишь его неистовство, искаженное неловкостью. Но уже в «Бегстве в Египет», с которого он попытался сделать гравюру, видно, что он сбросил с себя некие внутренние оковы. Он больше не считает себя обязанным действовать по правилам. Его Иосиф, видимый со спины, идет, опираясь на посох. Он тащит за собой осла (тот смахивает на лошадь, но что ж поделаешь?). Пресвятая Дева, сидящая на осле, как амазонка, обернулась к художнику. Она прижимает к себе Дитя — маленькое сонное личико, затененное несколькими косыми штрихами. Эстамп выглядит незаконченным. Рембрандт оставил его таким, словно обозначив начало чего-то более значительного, чем просто опыт с медной пластиной. Можно лишь догадываться, с каким огромным наслаждением он делал одну за другой насечки в черном, выделяющие светлый силуэт Иосифа, на этот раз он был свободен и делал все так, как оно само выходило из-под его руки и резца. Похоже, что в этой работе он обрел свободу.
В 1627 году созданы и другие картины: «Притча о неразумном богаче» — портрет старика, живущего ради конторских книг и денег, — тип, который он ненавидит. Чтобы написать груду этих гроссбухов, он использовал старые in quarto в кожаных переплетах, каким-то образом попавшие в мастерскую, которые послужили и Ливенсу для его «Суеты сует». Рембрандт воспользуется ими снова в «Размышлении апостола Павла». Это трудная работа, в ней нет никакого действия, никакого движения. Старик с длинной седой бородой сидит на постели, завернувшись в грубый шерстяной плащ. В руке у него перо. Книги вокруг него — не реестры конторщика, а вместилище мысли. Он поднес ко рту сжатый кулак. Смотрит в одну точку. Рембрандт написал мыслящего человека.
Никакой ангел ничего не шепчет на ухо святому. Никакая аллегория не изображает предмета его размышлений. Святой Павел один в своей келье. Или, напротив, он не один, ибо Рембрандт открыл здесь другое значение слова «свет». Проникающий сквозь перекладины окна дневной свет за спиной апостола ласкает стену, согревает холодный камень. Видна тень одной из перекладин. Этот свет — сама дума. В определенном смысле Рембрандт вновь изобрел сияние старинных нимбов, показав его на колонне с различной степенью яркости. Эти дрожащие отсветы открывают нам значение застывшего взгляда святого Павла, ошеломленного тем, что он открыл. Вокруг себя? Нет. В самом себе. Живопись создает не только зримые образы. Она может дать возможность постигнуть мысль.
Но чтобы показать, что он не окончательно погрузился в незримое, Рембрандт пишет святого босым и передает на переднем плане его ногу с такой точностью в деталях, какой Ливенсу никогда не достичь.
Чутье Константина Хейгенса
В 1627 году Ливенс еще сопротивлялся. В 1628-м он начал сближаться с Рембрандтом. Он тоже приглушил краски, и оба художника, бок о бок, стали писать один сюжет — «Самсон и Далила». Самсон, оглушенный тем, чем его напоили, рухнул к ногам сидящей любовницы, уткнувшись головой в ее колени. Вооруженный солдат держит ножницы, которыми она острижет ему волосы, лишив таким образом героя его силы.
У Ливенса этот солдат, вестник смерти Самсона, вооружен колчаном со стрелами и кинжалом. Он осторожно продвигается вперед и потрясает ножницами, выпучив от волнения глаза. Художник снабдил его оружием и изобразил таким образом, чтобы зрителю не пришло в голову, будто это шутник-парикмахер. Далила также жестами проявляет свое соучастие. Ошибиться невозможно: она приложила палец к губам, призывая соблюдать тишину, и приподнимает кудри своего любовника. Вояка не должен допустить промашки: шелковый полог кровати, кувшин и блюдо, покрытые чеканкой, а также каменные плиты пола указывают на то, что здесь благородное жилище.
Рембрандт же представил эту сцену на толстых половицах своей мастерской, перед чердачной стеной с осыпавшейся штукатуркой. И натянул занавесь. Больше ничего. Чеканные предметы скрыл в тени. Его картина донельзя проста, он не загромождал ее деталями. Но занавесь вздулась от чьего-то необъяснимого, тревожащего присутствия. А о ножницах, которые солдат держит в руке, можно догадаться лишь по их стальному отблеску.
Рембрандт не поддержал идею Ливенса об открытой двери в глубине комнаты, через которую можно различить вооруженных людей. Но он сделал так, что из-за самой занавеси угрожающе виднеются голова в шлеме и кончик меча. Это производит большее впечатление. Наконец, он, по всей видимости, больше Ливенса знал о женских чарах: Самсон уснул, уткнув голову в колени Далилы, которая обернулась, заслышав приход солдат.
Если у Ливенса — жестикуляция немого кино на фоне якобы библейских декораций, то у Рембрандта — сила драматизма, рождающаяся из сдержанности движений и мастерства владения светом и тенью: рука солдата, кончик меча, разрез платья женщины и золотой силуэт — огромное тело Самсона, уснувшего у нее на коленях. Он больше ничего не сказал. Но при этом в его картине есть все: сон, предательство и приближение смерти.
Ян Ливенс не признал себя побежденным. Он взялся за другого «Самсона», на сей раз крупноформатного и в стиле Рубенса, который ему подходит и к творчеству которого Ливенс в дальнейшем будет часто обращаться.
Были ли в мастерской споры? Дружеские дискуссии? Или они просто молча сопоставляли картины? Второй «Самсон» Ливенса мог бы стать прорывом к самому себе, но он все еще был не в силах стряхнуть с себя чары, которыми его околдовал Рембрандт.
Откуда было известно, что на чердаке дома мельника, в переулке недалеко от Белых Ворот, работают два молодых интересных художника? Наверное, ремесленники обменивались между собой сведениями такого рода. Это позволяло путешественникам из других краев заполучить имена и адрес. Столяр, курящий трубку на пороге своей мастерской, мог указать, где найти художников. Не говоря уже о сети знакомств и дружеских связей, которые Рембрандт сохранил со времен обучения в Латинской школе, — связей, благодаря которым в 1628 году он познакомился с одним юристом из Утрехта; этого юриста направил к нему новый директор его бывшей школы, Петрус Скривериус. Юрист прибыл из Харлема, где заказал свой портрет Франсу Хальсу. Он привез с собой картины, гравюры. Этот законник и коллекционер звался Арнаутом ван Бюхеллем, он приехал в Лейден взглянуть на коллекцию Скривериуса, который и посоветовал ему встретиться с Рембрандтом. Таким образом в его путевом дневнике, обнаруженном и опубликованном в 1928 году, появилась запись на латыни с первым упоминанием о художнике Рембрандте: «Molitaris etiam Leidensis filius, magni fit, sed ante tempus». (To есть: сын мельника, интересно, но еще незрело.)
Другими словами, коллекционер из Утрехта не был покорён. Наверное, он пригласил Рембрандта к Скривериусу. Ибо если бы он сам поднялся по чердачной лестнице, то упомянул бы и о другом художнике — Ливенсе. Но мы должны быть ему признательны за то, что смогли уяснить, как в те времена в голландском городе можно было познакомиться с двадцатидвухлетним художником. Репутация у него, верно, была хорошей, поскольку в том самом 1628 году в мастерской появился ученик — пятнадцатилетний Геррит Доу, отец которого делал витражи. Мальчика отдали в обучение, чтобы он потом помогал отцу в его ремесле. Помимо витражей он мечтал заниматься живописью и обратился к «ученому и прославленному Рембрандту» как к мастеру, под чьим началом хотел бы обучаться. Отныне в мастерской их будет трое.
В тот год Рембрандт написал художника перед мольбертом. Кто это был — Геррит Доу? Или Ян Ливенс? А может быть, сам Рембрандт? Хотелось бы знать, хотя это не так уж важно по сравнению с тем, что говорит нам небольшое деревянное панно об условиях творчества на чердаке харменовского дома. Художник, закутанный в шубу, в шляпе, стоит в глубине комнаты. В руках у него орудия труда: палитра, кисти, муштабель. Сам он помещен в тени. Весь свет направлен на картину, над которой он работает, — большой наклоненный холст на широком мольберте, фрагмент деревянной рамы которого вычерчивает в пространстве тонкую и яркую наклонную линию. Вокруг художника ничего нет, лишь потрескавшиеся и облупившиеся чердачные перегородки да дверной проем. Та же идея, что и в «Размышлении апостола Павла»: свет на грубом полу, на стенах с проступающими из-под штукатурки кирпичами. Больше ничего. Никаких деталей, никаких аллегорий. Там все было сосредоточено на неподвижном взгляде святого. Здесь все заключается в темных глазах художника с еще полудетским лицом.
К этому же сюжету обратился Геррит Доу в картине, которую, как говорят, подправлял Рембрандт. Это одна из многих работ, созданных в те времена, когда идеи кочевали от художника к художнику и от полотна к полотну. Геррит изобразил того же замерзшего парнишку перед тем же огромным мольбертом, но окружил его атрибутами: к стенам прибиты рисунки — они висят уже давно, судя по тому, как покоробились и свернулись, — а перед художником — целая груда шлемов, кирас, светильников, книг, музыкальных инструментов и дорогих тканей, которыми завалена мастерская. Художник окружен натурщиками, тогда как художник Рембрандта работает без зримых моделей, в пространстве своего духа. Да, живопись есть мысль.
С Яном, Герритом, а вскоре и с новыми учениками — Исааком де Жудервилем и Жаком де Руссо — в доме становилось все оживленнее. То, что один ученик, а потом два и три пришли в мастерскую Рембрандта, доказывает, что в Лейдене его знали. За пределами города слава его тоже росла. Коллекционеры стучались в двери его дома. Однажды явился секретарь нового статхаудера Фридриха-Генриха, Константин Хейгенс, бывший десятью годами старше Рембрандта. Он знал Лейден, поскольку учился там в Университете и 15 июня 1617 года защитил диссертацию по юриспруденции, а потом отправился в Англию в компании художника Якоба де Гейна III и посетил Венецию. Константин Хейгенс, ставший в 1625 году политическим советником и секретарем принца, был просвещенным человеком. Он посещал Кружок ученых женщин в Мюйдене, писал стихи на латыни, французском, итальянском и голландском языках, сочинял песни и театральные пьесы, интересовался научными открытиями, переписывался с Рене Декартом, любил живопись. Известно, что в Лондоне он вместе с Якобом де Гейном III видел чудесную коллекцию Арунделя.
Прослышав о ранней одаренности Ливенса, Хейгенс попросил Яна написать его портрет. Он любил, когда с него писали портреты. В предыдущем году в Амстердаме он сделал заказ Томасу де Кейзеру, самому прославленному умельцу сходно передавать черты, и Кейзер изобразил его министром за работой, с личным секретарем, письменным прибором и моделями земного шара; в 1632 году он снова позировал — Ван Дейку. Наверное, ему было занятно посмотреть, что сотворит с его лицом юнец, и действительно, Ян Ливенс написал восхитительную картину. Константин Хейгенс сидит, сложив на коленях руки без перчаток; манжеты на рукавах, черный костюм, большое белое жабо, черная шляпа. Он не смотрит на художника. Ливенс разглядел глаза навыкате, тонкие усы, родинку под нижней губой — лицо важного человека, осознающего свою значимость. Он принадлежит к миру власти, но уделяет время на посещение писателей и художников. Не для развлечения, а для того, чтобы следить за переменами в идеях.
Итак, благодаря Ливенсу Хейгенс познакомился с Рембрандтом. Можно ли вообразить его поднимающимся по чердачной лестнице? Вполне, ибо он любил визиты такого рода. Во всяком случае, он пришел в сопровождении своего брата Морица, который также некогда посещал Лейденский университет, и они увидели Рембрандта, чье имя с того времени стало известно в правительственных сферах Соединенных провинций.
Константин Хейгенс, со своей стороны, написал о двух художниках — двух молодых живописцах, которые, в отличие от своих утрехтских собратьев (Бабурена, Хонтхорста, Тербрюггена), не пожелали совершить путешествие в Италию, так уж сильно они хотели посвятить искусству лучшие годы жизни. Он должен был понимать, что, хотя поколения 1580 года (Хальс) и 1590 (Хонтхорст) создавали блестящие произведения, на горизонте наступающего нового века нелегко было разглядеть их смену. К слову сказать, он не ставил ни одного художника выше Рубенса и считал лично для себя, что назначение живописи — точное отображение действительности, хотя в ней и желательно наличие идеи.
Портреты двух молодых художников, оставленные нам Хейгенсом, полны страсти, если отбросить традиционные сравнения с Апеллесом и Протогеном — античными художниками, на которых было принято ссылаться в то время. По поводу Ливенса он отметил: «Ливенса в его юные годы занимает только грандиозное. Ему тесно в заданных формах. Он выходит за их рамки». И о Рембрандте: «Он полностью поглощен своей работой. В небольшой картине он достигает поразительного эффекта, которого не производят огромные композиции других художников».
Явно взволнованный еще одной картиной Рембрандта, теперь уже более метра в длину, — «Иуда возвращает тридцать сребреников», — Хейгенс подчеркнул: «Никакое итальянское искусство, ни даже самые восхитительные фрагменты творений лучших мастеров античности, дошедшие до нас, не могут затмить этого произведения. Поза вопиющего Иуды, молящего о прощении (хоть он уже не надеется и только делает вид, что надеется), его страшное лицо со всклокоченными волосами, разодранные одежды, исступление, с которым он ломает руки, сжимая ладони так, что пальцы едва не дробятся, выставляя вперед одно колено, не замечая этого, вся его судорожная фигура, — глядя на картину, я сравниваю все это с искусством минувших веков и в сравнении том отдаю должное изяществу его работы».
Автопортреты как личный дневник
Итак, Константина Хейгенса, первым воздавшего хвалу Рембрандту, привлекла его неукротимость. Похвала была написана по-латыни в автобиографии, которую он так и не закончил. Можно предположить, что очень скоро он поделился со статхаудером своим открытием «adolescens, Batavus, imberbis, molitor» («голландского мальчишки, мельника, у которого и борода-то еще не растет»), снова и снова говоря о чудесных задатках народа, порождения которого, сын вышивальщика и сын мельника, не имевшие достойных себя учителей, даруют своей стране новую живопись — серьезную, священную, драматичную — одним словом, аристократическую, а не буржуазную. В то время как у Фридриха-Генриха были другие заботы (он воевал с испанцами и был близок к тому, чтобы вернуть себе Хертогенбос, родной город Иеронима Босха), сэр Роберт Керр, посол Англии в Гааге при дворе принца, в 1629 году совершил путешествие в Лейден и купил для своего государя произведения Рембрандта и Ливенса.
В 1629 году на картинах Ливенса, Доу и Рембрандта появляется все больше стариков. Больной Хармен, лежащий обнаженным на постели, становится Иовом на скорбном ложе: огромное исхудавшее тело с обессилевшими руками, голова в изнеможении склонилась на грудь, седая борода разметалась, остатки волос на голове стоят дыбом. Это гравюра. А вот еще: черный карандаш, сангина, сепия — Хармен перед очагом, по самую шею закутанный в теплое одеяло, на голове колпак. Он закрыл глаза и дремлет в промежутке между приступами, от которых осунулось лицо. Рембрандт показал его живым. Большими заглавными буквами он написал имя: Хармен Герритс, а затем подписался внизу, поставив свою подпись рядом с именем отца.
Нелтье с вышитым покрывалом на голове, то в фас, то в профиль, служит натурщицей для лица Анны-Пророчицы, никогда не покидавшей храма, где она служила Богу в посте и молитвах. Они пишут ее и за чтением Библии, склонившейся над книгой, и без очков. Стараются уловить подслеповатый взгляд голубых глаз. Они окружили ее и рисуют. Рембрандт делает с нее гравюру. Ливенс увидел ее более старой, чем Рембрандт. Что ищут все трое в облысевших лбах, морщинистых лицах, пятнистых руках? Почему они беспрестанно изображают пророков, апостолов, отшельников, философов? Без сомнения, все дело в прогрессирующей болезни Хармена, которая порождает у них отчаяние и в то же время помогает понять боль и мужество, сопутствующие преклонному возрасту, когда люди собираются с остатками сил и видят, как то, что вчера казалось необходимым, становится ненужным, когда, забывая о тяготах жизни, задумываются о высшей истине, и христианин, отрешенный ото всего, остается один на один с событием величественным и ничтожным — своим концом. Смерть уже у ворот.
Той зимой 1629 года никто как будто не выходил из дома. Все вершилось внутри этих стен, словно жилище погребло в себе своих обитателей, собранных вместе приготовлениями старого человека к своей кончине.
Рембрандт писал картины, придававшие жизни смысл.
Слабый свет в глубине комнаты выхватывает из темноты силуэт женщины, занятой приготовлением еды. Стол, объедки, миски, хлеб. Сидящий мужчина прислонился спиной к дощатой стене, откинув голову назад: длинные волосы, молодая бородка. Строгий профиль против света в спокойном уголке трактира. Руки сложены. Свеча на столе освещает стену. Проезжий повесил свой мешок на гвоздь. Тишина — более громкая, чем гром, и вдруг — грохот опрокинутого стула: сосед справа бросился к ногам сидящего у стены человека, и проезжий, застыв в ярком свете, ошеломленно смотрит ему в лицо. Чердак превратился в постоялый двор в Эммаусе.
Эльсхеймер изобразил такую же встречу под римской сводчатой аркой. Рембрандт заключил ее в выщербленных стенах своей мастерской. Как и в «Размышлении апостола Павла» — никаких аллегорий, ни одного символа. В полнейшем спокойствии, в неподвижности потрясающего открытия говорит один только свет: ярко высвеченное лицо, взволнованное бесстрастным человеком, сидящим против света; этот профиль — свидетельство невероятного воскрешения.
И вот 27 апреля 1630 года пастор пришел читать молитвы над умирающим. Нелтье, дети и художники собрались возле ложа Хармена, переставшего дышать. Сделали что положено. Отвернули к стене все, что могло отвлекать внимание: зеркала и картины. Вынесли всю мебель, оставив в комнате только открытый гроб на двух подставках.
Хармен был важным человеком в своем квартале и в городе. На его похороны пришло много людей, в том числе и представители лейденских властей. Покрытый черным сукном гроб, который несли шесть мужчин из цеха Хармена, медленно продвигался по улицам в полной тишине до церкви Святого Петра. В церкви отпевание состоялось без органа: пели пастор, семья покойного, друзья, соседи, все присутствующие. Затем гроб опустили под плиту, которую выломали каменщики.
Все время болезни, агонии и смерти отца Рембрандт писал жизнь Христа — от «Введения во храм» до «Иуды» и «Христа в Эммаусе». Он намеренно создал ряд произведений, которые не могли предназначаться для церквей. То, что он начал серию картин, иллюстрирующих Евангелие, без сомнения, было тогда воспринято как манифест художника — манифест живописи, не желающей лишиться своей силы духовного возвышения, отказывающейся признать лишь за писателями право обращаться к религии.
Одновременно с «Жизнью Христа» он написал пророка Иеремию, снова святого Павла, святую Анну — священные образы, соответствовавшие тому новому направлению, которое он хотел придать голландскому искусству. Параллельно Ливенс писал святого Иеронима, в неизбывной тоске прижимающего к своему обнаженному телу череп и потрясающего обломком ветви, едва напоминающей крест, а также Иова в состоянии полного физического истощения — две картины, в которых сквозит пережитое при виде неуклонного угасания отца друга.
Оба они остановились на сюжете о «Воскрешении Лазаря». Каждый написал картину, а Рембрандт сделал еще и эстамп. Два свидетельства, связанных с тем, что они испытали в моменты, при которых только что присутствовали: при положении во гроб и опускании в могилу. Обе картины довольно велики: 93,5 см у Рембрандта и 103 — у Ливенса. Идея одна и та же: восторженная толпа, в центре Христос, открытая могила, встающий из нее мертвец. Картина Рембрандта более упорядоченна. В левую ее часть уходит треугольник, вершина которого — воздетая кверху рука Христа с раскрытой ладонью, источающая свет, лучи которого падают на бледный труп в белом саване; одна из женщин в толпе всплеснула руками, как бы свидетельствуя своим жестом о великом чуде воскрешения. Картина Ливенса менее яркая, более сдержанная. Христос стоит неподвижно, сжав руки. Он поднял лицо к небу. Огромный белый саван струится до каменного гроба, откуда появляются две исхудалые, вдруг ожившие руки.
Что тут можно сказать? Только то, что Ливенс, сдержанно относящийся к чуду, лишь намекающий на него, сомневается, тогда как Рембрандт, показывающий чудо явно, — верит.
И снова в мастерской на чердаке обе картины пришлось поставить рядом. Наверняка в полном молчании. Не стоит начинать дискуссию об эстетике. Оба произведения — свидетельство общих размышлений и отображение в библейском сюжете испытания, пережитого в доме.
Духовная и художественная общность, к которой пришли два друга, была тогда настолько полной, что они пожелали предоставить тому еще одно доказательство. Став, несмотря на свой кальвинизм, живописцами Страстей Господних, тогда как со времен Лукаса Кранаха лицо Христа у протестантов все чаще изображалось в профиль, пока окончательно не исчезло из церковного искусства, они оба написали Христа на кресте в фас, чего реформаты как раз вообще не желали более видеть, чтобы избежать опасного смятения, порождаемого нездоровыми образами. Но ни Рембрандт, ни Ливенс не были согласны отдать этот сюжет Рубенсу, Веласкесу и Сурбарану. Обе картины, датированные 1631 годом, одинаково сводчатые; высота полотна Ливенса 129 см, Рембрандта — 100. Христос Ливенса, исхудавший, истекает кровью, сочащейся широким потоком из раны в боку до самого бедра. Мертв ли Он? Один глаз на Его бородатом лице с болью обращен к небу. Христос Рембрандта еще не получил удара копьем. На руках и ногах Его — струпья. Рот раскрыт, Он кричит. Взгляд под сомкнутыми бровями выражает муку. Он не мертв. Кто-нибудь решится наконец что-нибудь сделать? Невыносимо смотреть на этих распятых и на ужас их мучений.
И вот тогда, после двух «Распятий» — священной песни на два голоса, которой уже давно не слыхали в Голландии, Рембрандт с Ливенсом расстались.
Ян уехал в Англию. Рембрандт — в Амстердам.
Что побудило их расстаться? Можно найти сотню причин. Единственная достоверная из них, безусловно, родилась из сопоставления двух «Распятий». Для Ливенса «Воскрешение Лазаря» и «Распятие» были наиболее удачными попытками приблизиться к Рембрандту, поднять свою восприимчивость до его уровня.
Возможно, сравнивая своего и его Христа, Ливенс обнаружил, что в то время как он убил своего, Рембрандт, продлив Его муку, показал Христа казнимым, терзаемым, издающим крик, в котором звучит не только отчаяние покинутого человека, но и вопрошение к каждому: что сделал ты?
Возможно, Ливенс сказал себе, что в этом доме в конце концов потеряет себя, сгорит в пламени Рембрандта. Во всяком случае, сэр Роберт Керр, посол Англии в Соединенных провинциях, уведомил Яна, что его рады принять при лондонском дворе для написания портретов королевского семейства. Ливенс уехал, словно спасаясь бегством.
Рембрандт же, оставшись в мастерской один, решил, что сможет продолжать. Если поразмыслить (он уже давно об этом догадывался), Ливенс был из «теплых» — человеком, не развивающим свою мысль до конца. В «Воскрешении Лазаря» было видно, что ему не хватает веры. А в «Распятии» это просто бросалось в глаза. Ну что ж. Отныне он пойдет по жизни без приятеля. У него достанет сил наполнить своими персонажами театральную залу чердака, где они вместе делали наброски, обдумывали замыслы, сопоставляли свои идеи. Что до Геррита Доу, которому нужно было лишь указать приемы, дать готовые рецепты, — он продолжит работу в своем уголке.
Вчера утром Рембрандт до света вышел на улицу. В рассеивающейся тьме разглядел нищего — высокого, сильного, в лохмотьях, очень уродливого. Тот вопил и бранил весь свет. Этот бедняк был здесь не к месту, нарушал порядок в городе, где, как говорят, улажены все социальные проблемы. Так почему же он, этот нищий, был здесь, и что он говорил такое, чего никто не мог разобрать? Пьяные вопли с раннего утра. Однако что же все-таки он говорил? Плохо слышно. Слишком много шума. И потом он был чудовищно грязен. Рембрандт напряг слух, чтобы попытаться понять, что говорит ужасный пропойца. Он выгравировал обличителя на меди. Затем, орудуя резцом, обнаружил, что этот нищий похож на него. Или сделал так, чтобы возникло такое сходство. Встретить на углу переулка своего двойника… Или явить его жестом своей руки? Одно другого стоит.
Что означает это явление себя самого, к которому время от времени так настойчиво обращается Рембрандт? Что сам он мог быть бедняком, вопящим на перекрестке? А о чем бы, собственно, ему кричать? Что все, кто, отворачиваясь, проходят мимо, — сволочи? Ему не следовало бы забывать об этом. Но разве не проще всего вдруг изобразить на меди собственное лицо? И тоже кричащее. Как у распятого.
В мастерской всегда писали портреты друг друга. Для тренировки. А еще забавы ради. Брали все, что попадалось под руку, и наряжались. Однажды Ливенс написал Рембрандта с выбивающимися из-под черного берета курчавыми волосами, с платком, повязанным вокруг шеи, в кирасе, нашейник которой отсвечивал сталью из-под плаща. Педантичный портретист, Ливенс ни в чем не польстил своему другу и изобразил его немного одутловатым, бледным, с толстыми губами и бородавкой между довольно большим носом и ртом. Он хорошо передал мрачный взгляд, пронизывающий людей и оценивающий их в одно мгновение, — взгляд человека, ничего не принимающего на веру. Иногда фанатичный. Зато когда Геррит Доу писал Рембрандта — художника в своей мастерской, он воздержался от суждений о своей модели.
Уже давно Рембрандт рассматривает себя в зеркало. Он кажется себе менее уверенным, чем на взгляд Ливенса. Он рисует себя, делает гравюры, живописные портреты. Поначалу больше всего его внимание привлекают волосы и толстый нос. Он изображает его даже еще более толстым, чем это позволял себе Ливенс. Так что получаются как бы карикатуры на юношу, не желающего стричься. Нелтье говорит, что это неопрятно. Но ему забавно смотреть, как пожимают плечами бюргеры, волосы которых аккуратно убраны под шляпу. Он бросил Университет. На его будущее не натянуть их мундира. Он художник, а для художников униформы еще не придумали.
Особенно неряшливо он выглядит на гравюрах, и в них, не миндальничая с самим собой, испытующе доискивается, кто же он, этот толстый молодой человек со взглядом встревоженной собаки или этот грузчик с повадками повесы и глазами, скрытыми тенью берета. Чего хорошего можно ожидать от парня с таким носом и непослушными волосами? Позднее он испробует ужимки, смех, улыбку, гнев с нахмуренными бровями, ошеломление с растерянным взглядом, крик нищего. В живописных портретах он немного подправит свою внешность, пристегнет белый воротник, причешется, наденет берет, меховую шапку или шляпу с пером.
Отвечая Ливенсу, он изобразил себя в стальном латном нашейнике менее непримиримым, чем показалось его другу. В глазах есть великодушие, и похоже, он стал относиться к себе более терпимо. В самом деле, он подбирал себе лицо. Вот почему отпустил бороду, потом сбрил, отпустил усы, затем сбрил и их. Решительно тяжело привыкнуть к своему образу! Он пробовал состарить себя и посмотреть, что получится, сделать себя толще, тоньше. Но это было слишком непривычно. В конечном итоге победил дух игры, настойчивое стремление увидеть своего двойника, показать его иным. Это все в духе той театральности, при которой живопись, рисунок, гравюра — не всегда законченные произведения. И хотя он создавал работы утонченные, во всяком случае, он так полагал, работая над «Избиением святого Стефана», «Христом в Эммаусе» или «Распятием», и хотя выполнял заказы хирургов, суконщиков, служащих магистрата — едва обретя способность стать самим собой, он целиком отдался тому, что заняло значительное место в его творчестве: интимному искусству, мирку повседневности, в котором собрал родных, прохожих, женщин, детей, калек, ярмарочных шарлатанов и самого себя на рисунках, картинах, гравюрах. Почему он так часто себя писал? Потому что именно в своем лице мог прочесть ответы на собственные вопросы о живописи?
Автопортрет ничем не отличается от автобиографии, например той, которую написал Константин Хейгенс, исследования, как «Res Pictoriae» («История живописи») Арнольда Бахелия, личного дневника, как у Самюэля Пеписа, или путевого дневника лионца Бальтазара де Монкониса, отправившегося в Делфт для встречи с художником по имени Вермеер. Литераторы рассказывают о своих приключениях. Художник рассказывает о себе, но поскольку его творчество — одновременно и дневник и зеркало, он говорит о себе больше, чем писатели его времени, больше, чем удалось бы какому-нибудь Монтеню. Этим Рембрандт показывает, что изображением можно выразить больше, чем словом. Благодаря самонаблюдению — этой книге жизни в рисунках, гравюрах, полотнах — он станет единственным в своем роде для своего времени. По обилию собственных изображений он обойдет других больших любителей поглядеться в зеркало: Альбрехта Дюрера, Питера Пауля Рубенса, Франсиско Гойю. Он стал предтечей Винсента Ван Гога, чья жизнь и творчество неотделимы друг от друга.
Почему Рембрандт уехал в Амстердам? Возможно, потому, что отношения с Ливенсом в мастерской были слишком напряженными, потому что «Жизнь Христа» исчерпала его, возможно, и потому, что он сознавал, какой интерес возник к его произведениям вне родного города после посещения Константина Хейгенса. В Лейдене, маленьком промышленном городке Соединенных провинций, не уделяли большого внимания искусству. Университет не оказывал Рембрандту никакой поддержки, и можно даже предположить, что в Лейдене к нему были настроены враждебно, потому что он ни разу не получил там ни одного заказа. Однако, когда двум нотариусам поручили составить список ста обладателей университетских дипломов, проживающих в городе на 8 марта 1631 года, его имя указано там вторым.
Так что сначала он уехал в Гаагу, куда, по словам Арнольда Хаубракена, его вызвал один коллекционер, чтобы купить у него картину, за которую тотчас было уплачено 100 флоринов — довольно значительная сумма: художник, пришедший в Гаагу пешком, вернулся обратно в дорожной карете. Затем настал черед Амстердама.
Глава III РЕМБРАНДТ ВАН АМСТЕРДАМ
Андромеда и Прозерпина
Амстердам, 15 апреля 1631 года
Рене Декарт писал своему другу Гезу де Бальзаку: «В этом огромном городе, где я сейчас нахожусь, нет никого, кроме меня, кто не занимался бы торговлей, здесь каждый настолько озабочен своей выгодой, что я мог бы прожить здесь всю жизнь и остаться никем не замеченным. Каждый день я прогуливаюсь в сутолоке огромной толпы с такою же свободой и безмятежностью, как вы по аллеям парков, уделяя встречным людям не больше внимания, чем вы деревьям в лесах или пасущимся в них животным. Даже шум от их суеты не отвлекает меня от раздумий более, чем журчание ручейка. Если же я порой и предаюсь кое-каким размышлениям об их деятельности, то получаю от этого такое же удовольствие, какое получили бы вы при виде крестьян, возделывающих ваши поля, ибо я вижу, что труд их служит украшению места моего проживания, и я здесь ни в чем не испытываю недостатка. Поелику существует наслаждение наблюдать за произрастанием плодов в ваших садах и за их изобилием, так неужто нет равного ему в том, чтобы наблюдать за прибытием сюда кораблей, в изобилии привозящих нам все, что производится в Индии и что редко в Европе? В каком другом месте в целом свете все удобства жизни и все диковины, о которых только можно мечтать, так же легко сыскать, как здесь? В какой другой стране можно наслаждаться столь полной свободой, спать с большей безмятежностью, где еще армия постоянно стоит под ружьем нарочно для вашей охраны, почти неведомы тюрьмы, измены, клеветы и больше всего сохранилось от невинности пращуров наших?»
Той весной 1631 года Рембрандт постоянно сновал между Лейденом и Амстердамом. Он-то как раз надеялся, что не останется «никем не замеченным». Но ему было известно, что в Амстердаме, огромном и постоянно растущем городе, где на окружающих его болотах строились самые большие склады в мире, все решает торг. Налажены поставки дорогих Декарту «диковин». Существует рынок искусства и торговцы картинами, которых нет в Лейдене. Через несколько недель он подпишет первый в своей жизни контракт с одним из них, проживающим в квартале, расположенном неподалеку от бывшей мастерской Ластмана. Возле башни Монетного двора встретились, не подозревая о том, два человека — Декарт и Рембрандт. Что значил какой-то художник для Декарта? Что значил Декарт для Рембрандта? В нашем представлении, Спиноза и Вермеер — друзья. Декарт и Рембрандт тоже. Но поворот улицы разлучил их навсегда. Портрет Декарта напишет Ян Ливенс.
Амстердам, 20 июня 1631 года
Нотариус Г. Зелдер оформил контракт, связавший Рембрандта, художника, с торговцем искусством Хендриком Эйленбюрхом, за вознаграждение в 1000 флоринов, каковое и вручил ему Рембрандт. Художник оплатил таким образом свое право вступить в систему. Ему двадцать пять лет, Эйленбюрху — сорок четыре.
Эйленбюрх приехал из Данцига, где его отец был столяром польского короля в замке Вавель, что в Кракове. Вот уже четыре года, как он живет в Амстердаме, и в его магазине можно получить любые сведения об искусстве. Тут продают картины и множество гравюр. Магазин удачно расположен — в относительно недавно построенном доме (1606 год) на старой границе города, снесшего крепостные стены, которые мешали его росту, на одинаковом расстоянии от Башни Монетного двора и Большой Рыночной площади, в конце улицы Святого Антония (Синт-Антонисбреестраат) и неподалеку от протекающей по Амстердаму реки — Амстеля.
Эйленбюрх станет издавать эстампы Рембрандта, проставляя внизу листа свое имя и название города, получив исключительные права, защищавшие его от недозволенных изданий и подделок. Отныне в его папках, где коллекционеры могли отыскать все, относящееся к искусству той эпохи, появятся «Рембрандты». Рядом с лавкой находилась мастерская, где молодые художники писали собственные произведения и работали над копиями с итальянских картин. Наконец, дом Эйленбюрха был одним из тех, куда приходили клиенты заказывать свои портреты. Торговец помогал им выбрать живописца, познакомиться с тем художником, который устроил бы их в большей степени. Торговля искусством — новое ремесло, рынок для которого только создавался, но им занимался не один Эйленбюрх. На продажу выставлялись великие произведения, привлекавшие внимание коллекционеров со всей Европы. Торговцы делали запасы. Появилось понятие экспертизы. Создавались жюри из художников, которые судили о качестве произведений, приобретенных покупателями. Став предметом купли-продажи, живопись была пущена в оборот, получив котировку на бирже, как пряности или вино.
Производительность мастерских была высока. Нигде и никогда раньше не работало столько художников. Четкого понятия оригинального произведения еще не существовало: художник мог продать как собственное творение копию, сделанную учеником и подправленную им самим. Это не значит, что мастерские представляли собой лишь фабрики картин. То, что мастер и его ученики были поставщиками пейзажей, сценок, портретов, не мешало им продолжать собственные поиски.
Таким образом Рембрандт получил возможность усовершенствовать свои познания в современной живописи, лучше, чем в Лейдене, изучить произведения художников испанских и католических провинций — Рубенса, Йорданса, Ван Дейка — всех тех, кто без конца пересекал то в ту, то в другую сторону границу, по сути не являвшуюся таковой. Рынок Амстердама единственный соответствовал его возможностям.
Подписав контракт, Рембрандт поселился в доме Эйленбюрха, где к нему вскоре присоединились другие художники, помоложе. Он сможет добиться их признания. Вся предшествующая жизнь подготовила его к руководству мастерской.
Лейден, 23 сентября 1631 года
Старший брат Геррит — тот, что потерял правую руку и стал инвалидом, умер. Следуя за гробом, Рембрандт вновь прошел от родительского дома в Веддестеег до склепа в церкви Святого Петра. Снова увидел Нелтье, братьев, сестер, друзей, соседей. Все расспрашивали, как ему живется в Амстердаме. У него были только хорошие новости: мастерская, ожидаемое предоставление исключительных прав на эстампы, важные особы, заказывающие ему свои портреты, встречи с негоциантами и даже Морицем, братом Константина Хейгенса, сменившим своего отца на посту государственного секретаря Совета Соединенных провинций.
Нелтье, испытавшей разочарование, когда он бросил Университет, было отрадно, что живопись позволила сыну попасть в круг влиятельных людей. Она думала: он преуспел! Может, женится?
Ей было приятно видеть сына хорошо одетым: неброско, с красивым воротником из белых кружев, в костюме хорошего покроя, с наконец-то причесанными волосами. Он посмеялся и снова уехал в Амстердам.
В Амстердаме у Рембрандта были свои обязанности, отнимавшие много времени. До сих пор он по большей части избегал девушек. В Лейдене он вел себя более как чудак, чем как соблазнитель. Да и девушки, должно быть, посмеивались меж собой над его всклокоченными волосами и большим носом. Конечно, благодаря работе над эстампами он научился рисовать женское тело: красивые девушки, изящные формы, нежная кожа, грациозные жесты, длинная шея. Восхитительные Марии Магдалины, с которыми так мало общего имели голые женщины из трактирных номеров, с глупыми лицами, обрюзгшие, со складками на теле и огромным отвислым животом. Если он брался за резец, чтобы выгравировать обнаженное тело, всегда с каким-нибудь мифологическим подтекстом, он забавлялся тем, как античное божество рождалось из плоти самой пьяной шлюхи из злачных кварталов Лейдена. Он выгравировал одну такую, присевшую на корточки у дерева задрав юбку, чтобы помочиться и испражниться, в шляпке и с встревоженной физиономией. Вполне довольный этой «картинкой из жизни», он подписал ее своими инициалами и поставил дату: 1631 год.
Но он еще ни разу не гравировал и не писал портрета красивой молодой девушки, словно остерегаясь чего-то. По сути, он все еще жил в холодном мире, лишенном желания, — мире стариков, думающих о своей кончине.
Однако ему нравилось писать Самсона, уснувшего на коленях у Далилы, когда голова его оказалась меж ее бедер, правда, то был образ доверчивой силы, погубленной изменой. Но вот и еще одна работа: в глубокой, уютно занавешенной постели, с мягкими перинами и подушками, под покровом простыней, — спящая молодая женщина, улыбающаяся во сне, причем красивая, в то время как на ложе, возникнув из тьмы, залезает большой бородатый мужчина, сильный и напористый. Интимное произведение с жарким светом, которое он убрал подальше.
Но вот в 1631 году, в Амстердаме, он пишет две картины с женщинами: «Андромеду» и «Прозерпину».
Море серое, небо свинцовое. У обрывистой скалы, на краю осыпи с трухлявыми стволами и дикой растительностью — совершенно обнаженная Андромеда. Ее руки заключены во врезанные в камень кандалы высоко над головой. Тело словно выставлено напоказ. Дракона нет. Нет и Персея. На самом деле Рембрандт написал пленницу, скованную добычу, отданную на потеху толпе, — картину молчаливой тоски.
Напротив, «Прозерпина» — это целая буря, безумолчные вопли, скачка по мокрому дикому лесу. Тщетно она вырывается. Плутон держит ее за бедро и за плечо, он уложил ее на свою золотую колесницу, украшенную головой рычащего льва. Той же рукой, удерживающей Прозерпину, он схватил цепи — поводья огромного черного коня, уносящего их в его Царство. Прозерпина, юная богиня плодородия, станет царицей подземного мира.
Из жестокости хищника, угрожающе оскалившего клыки, неистовства коня, силы Плутона и слабости Прозерпины художник создал красочную оперу, в которой он не столько пересказывает сюжет древнего мифа, сколько говорит о женщинах, о любви и о себе самом. И «Андромеда», и «Прозерпина» — грубые образы, обнажающие темное желание. В общем, Рембрандт всего лишь поставил себя самого перед тем, что художник Жак Монори впоследствии назовет «неизлечимыми образами». Действительно, невозможно оставаться безучастным, созерцая распятого Христа, который ожидает удара копьем, точно так же невозможно забыть и о страсти, которая связывает и насилует женщину. Такое зрелище никак не сообразуется со слащавыми полотнами художников, с книгами, в которых поэты все чувства делают приторными, зато оно соответствует тому, о чем говорится в Евангелии и «Метаморфозах» Овидия, где разверзаются настоящие бездны.
Ибо распятый Христос усомнился. Ибо любовь утверждает себя как в неге рая, так и в лютости ада. И браться за кисть стоит лишь для того, чтобы пробить брешь в нашем нежелании знать, пробудить спящих, вытащить их из-под теплого одеяла. Только вот кто захочет вешать такие картины в своем уютном доме? Тем более что радость, которую доставляет созерцание живописных полотен, одинакова, какими бы ни были запечатленные на них образы. Когда Рубенс написал «Похищение Прозерпины», он показал там схватку, в которой, в противоположность рембрандтовскому полотну, подземные силы не могут одержать верх над солнцем.
В тот же период Рембрандт создал еще две картины с женскими образами: «Диана и Актеон» и «Похищение Европы». Но на этот раз он благообразен. Богиня купается вместе с другими женщинами, их около двадцати, они играют в воде. Голубой и красный бархат струится со скал, спускающихся к реке. Совершенно обнаженные купальщицы бросаются прикрыть своими одеждами тело Дианы, а на другом берегу охотник Актеон, на голове которого проросли молодые оленьи рога, застыл посреди взбесившихся собак. Группки молодых женщин выражают смятение. Справа от них особняком стоит хохочущая обнаженная девушка.
Что касается Европы, то ее похищение — это игра, со всеми атрибутами античных преданий: колесницей с золотыми колесами, большими зонтами, роскошными одеждами — словно воспоминание о Ластмане. Это всего лишь неожиданное происшествие на берегу моря. Никаких волн, спокойное жвачное животное — мило преобразившийся Зевс — уносит молодую девушку. Это не спуск в преисподнюю. Несмотря на несколько резких деталей, Рембрандт показывает, что в этом сюжете он может быть как все: может коснуться галантной поверхности мифа, получая удовольствие от самой работы.
В настоящее время в Амстердаме Рембрандт главным образом портретист. Портреты он будет писать десятками. Большие, маленькие, прямоугольные, овальные, портреты супружеской четы, отца с сыном, с одной стороны, и матери с дочерью — с другой, портреты юношей, стариков, негоциантов, управляющих торговыми компаниями в Индии, банкиров, корабельного инженера, содержателя постоялого двора — всех подряд! Рембрандт переходит от одного к другому. Он ставит подпись, дату, он мастеровито делает свое дело. Для того и существуют художники. К нему обращаются, потому что его имя входит в моду. Разве один из его предшественников, Миревельт, не написал, по собственным подсчетам, 10 тысяч портретов? Неужели и Рембрандту уготована такая судьба? Пока он совсем не испытывает усталости. Ему пошел двадцать шестой год. И если репутацию приобретают, работая над портретами, он не откажется через это пройти. В то же время в своих композициях он словно сдерживает себя — вероятно, под воздействием первого общения со зрителями. Избавляется от шероховатости. Усваивает учтивые манеры, принятые в добропорядочном обществе.
Некоторые лестные заказы приближают его к власть имущим. Так, Мориц Хейгенс пожелал, чтобы он написал портрет его друга Якоба де Гейна на холсте такого же размера, в дополнение к его собственному. Этот де Гейн, третий по счету, родом из Лейдена, знакомый с его анатомическим театром, был сыном некоего де Гейна II, большого художника, написавшего портреты всех ученых, основавших Университет, и гениального Гуго Гроция. Благодаря ему перед глазами Рембрандта снова прошла героическая эпоха истории родного города. Однако самым почетным заказом был портрет супруги статхаудера, Амалии ван Сольмс, вывешенный затем в резиденции супружеской четы на пару с портретом принца Фридриха-Генриха, написанным знаменитейшим Хонтхорстом. Это вознесло репутацию молодого художника до уровня великого предшественника. Однако Рембрандт изобразил принцессу, как любую другую свою модель. Он ни в чем ей не польстил. Модный художник, которым он становился, сохранил в себе все непокорство своей юности.
Первый урок анатомии
Амстердам, 31 января 1632 года. Повешение по приговору суда признанного виновным обвиняемого Адриана Адрианса, по прозвищу Арис Малыш.
Это произошло у городских ворот. Констатировав смерть, палач и его помощники отнесли тело в зал анатомического театра Гильдии хирургов.
Впервые Рембрандт присутствовал при вскрытии, или по крайней мере смотрел на него как художник, которому поручено изобразить это на картине. Заказ поступил от знаменитого доктора Николаса Тульпа, владельца красивого дома в новом квартале под вывеской с его фамилией — Тюльпан — на Кейзерсграхт. В заказе нет ничего необычного: Миревельт, Томас де Кейзер писали «Уроки». Это известный жанр. Доктор Тульп мог показать Рембрандту эстамп с картины Якоба де Гейна II, изображающей урок его приснопамятного наставника в Лейдене — доктора Пау. Стоя среди разношерстной публики и собак, Пау указывает на важную точку в грудной клетке, разверстой перед ним. Изображения препарированных тел иллюстрировали трактаты по анатомии, будь то трактат Адриана ван дер Шпигеля 1627 года или более новый — Якоба ван дер Грахта, в котором гравюры тела с обнаженными мышцами были лишь повторением рисунков из древнего труда, созданного девяносто лет назад Андреасом Везалием, личным медиком Карла V и Филиппа II Испанского — величайшим анатомом Возрождения. Обычно все внимательно следили за тем, как снимается кожа, расчленяется тело, как под скальпелем появляются мышцы, кости, органы, пока не останется один скелет, которому гравер по-прежнему придавал человеческие позы. Среди живописцев был один, знавший о мышцах больше всех врачей, — Леонардо да Винчи. Но существовала и анатомия Тициана, и хотя Альбрехт Дюрер не дошел до самого вскрытия (он оставил его в стороне в своем «Трактате о пропорциях»), Рубенс заказал в Антверпене Павлу Понтию сделать гравюры со своих рисунков мышечной структуры частей тела.
Для Рембрандта Амстердам означал соприкосновение с научными исследованиями, с прогрессом в знании, не обязательно вступающим в конфликт с религией. Процесс над Галилеем, который плохо закончится в следующем году, — лишнее доказательство слепоты папистов. В реформатских странах знают, как обстоят дела с местоположением Солнца. Астроном Иоганн Кеплер приводил Бога и небесную гармонию в пример для устроения Церкви и государств. Микрокосмос человеческого тела исследовали невооруженным глазом и в восхищении обнаружили, что человеческая машина — чудесное, божественное творение. Какая красота в легких, печени, сердце, какую великолепную систему образуют сосуды, нервы, какая стройность в позвоночнике! Тем не менее перед операционным столом всегда испытываешь некие опасения. Когда мертвец вытянулся перед тобой во всю длину, а окружающие его люди в черном, переговаривавшиеся между собой, вдруг замолкают, когда нож разрезает кожу, — это совсем не то, что человеческое тело на постели, которое по традиции обмывают, готовят к облачению в саван, положению во гроб и погребению в землю, куда его помещают навечно до самого воскресения — это тело принадлежит потустороннему миру и смерти, а душу усопшего провожают молитвами.
Здесь вспарывают, отделяют, отворачивают кожу. Что ни говори, все это сродни казни святого Варфоломея, которую Микеланджело изобразил на плафоне Сикстинской капеллы в Риме в сцене Страшного суда. Ему нужно было приехать в Амстердам, чтобы приучить себя к мысли, что это не мученичество, а этап исследования величайшей важности, которое приемлет религия; чтобы понять, что художники не должны стоять в стороне от прогресса человеческой мысли, углубления знаний о микрокосмосе, как подчеркнул Везалий на фронтисписе своей книги, где выгравировал среди наблюдающих за препарированием трупа благородное лицо художника Тициана.
Впрочем, урок анатомии, о котором идет речь, не похож на другие. Николасу Тульпу тридцать девять лет. Уже четыре года он praelector anatomiae (преподаватель анатомии) Гильдии хирургов. Он сделает двойную карьеру: политическую и научную. Как политик он восемь раз будет избран городским казначеем и четыре раза — бургомистром. Как ученый — издаст свои труды у Эльсемиров и заработает репутацию своими трудами о чудовищах, изучив, в частности, необыкновенного орангутанга, которого король Англии подарит статхаудеру. Он известен в основном тем, что дал свое имя илеоцекальному клапану, который французские анатомы чаще связывают с именем швейцарца Гаспара Богена.
На этот урок вокруг Тульпа собралась аудитория из семи человек, чьи имена будут написаны на картине: Якоб Блок, Матис Калькон, Хартман Хартманс, Адриан Слабран, Якоб де Витте, Якоб Коольвельт, Франс ван Леонен. Только двое из них были медиками. Поскольку картина в скором времени была подправлена, существует вероятность того, что персонажи с левого края и в верхней ее части появились, когда их имена написали на листе возле лица Тульпа.
Судя по всему, Тульп был очень педантичен, заказывая картину и объяснив Рембрандту ее смысл: на ней должно быть видно, как он вынимает пинцетом то, что намерен продемонстрировать, — мышцы пальцев и их кровеносную систему. Не позабыть бы изобразить на полотне раскрытую книгу — трактат по анатомии. Действительно, существовала традиция, в соответствии с которой присутствующие, гораздо чаще разглядывавшие черно-белые гравюры, чем цветное полотно, должны были иметь перед глазами иллюстрацию, к которой впоследствии присовокупят новые впечатления.
Что ж, Рембрандт зарисовал труп с рассеченной рукой, руку анатома с пинцетом, затем портреты присутствующих. Из обстановки он сохранил только очертания каменных сводов, устав, вывешенный на стене, и деревянный стол, на который положили Ариса.
Он знал, что играет важную роль. Ему, новому амстердамскому портретисту, выпало на долю продемонстрировать, что он может привнести в изощренное изображение группы людей динамизм. Покончено с выстроенными в ряд фигурами, позирующими возле трупа. Событие, собравшее этих людей вокруг мертвеца, — уже не повсеместно практикующееся вскрытие, а препарирование, цель которого — разъяснить нечто новое, открытое Николасом Тульпом, самым молодым из собравшихся. Правой рукой он показывает, а жестом левой привлекает внимание к тому, что объясняет. Впервые Рембрандт пишет картину, суть которой ему недоступна. Он работает над тем, чтобы отобразить впечатление от полученного знания. Присутствующие, по крайней мере пятеро, вписываются в четкий ромб, образованный направлениями взглядов, лиц, расположением брыжей и жабо. Эта группа — корабль, испытывающий боковую качку под воздействием новости, которую Тульп открыл собранию людей зачарованных, еще сомневающихся, но чрезвычайно внимательных к тому, что засвидетельствовал их разум. Рук почти не видно. Открыто показаны на картине лишь руки трупа и Тульпа. Рембрандт прекрасно ухватил смысл вскрытия: тонкую работу пальцев, вспарывающих плоть, чтобы явить то, что они хотят вытащить на свет. Красота картины заключается в мощи темной массы живых, обступивших мертвеца, — многоголового организма, ощетинившегося углами, отбрасывающего тени, поддерживаемого белым кружевом воротников, превращающихся в крылья, — самая мощная и самая таинственная группа людей из всех, какие он когда-либо писал, людей, которых он, а вместе с ним и мы, словно вопрошает: что уяснили вы для себя в мышечной системе? Попутно Рембрандт поупражнялся в передаче оттенков слоновой кости и голубого, проявляющихся у трупов.
Когда картина была закончена, ее отнесли в Гильдейский дом, что у Ворот Святого Антония, неподалеку от причала, где сплошь стояли корабли. В этом просторном здании находились помещения Гильдий хирургов, каменщиков, кузнецов и живописцев. «Урок анатомии доктора Тульпа» пробыл в зале Гильдии до самого 1828 года, когда ее приобрел Королевский дворец в Гааге.
После церемонии Рембрандт вернулся домой пешком вместе с Эйленбюрхом, который доставил ему этот заказ, а теперь повторял услышанные комплименты: портреты похожи, хорошо проиллюстрирован авторитет доктора Тульпа. Он прибавил, что сам почувствовал силу композиции, контрасты между черным шелком и бледностью тела. Наверняка другие гильдии хирургов — в Делфте, Лейдене — обратятся к нему, ибо картину увидит вся страна и даже иностранные ученые. Но, наверное, Рембрандт спрашивал себя, к чему же конкретно приложил руку. Возможно, покойник, Арис Малыш, уроженец Лейдена, напомнил ему о том нищем, что вопил в Лейдене, на глазах у равнодушных прохожих. Что же он выкрикивал, тот бедняк? Что говорил такого, чего не слыхали секретари принцев, государственные секретари, торговцы, управлящие, хирурги — все эти почтенные люди, занятые важными делами и совершенно глухие ко всяким воплям?
Следующий «Урок анатомии» Рембрандт напишет только тридцать четыре года спустя. Его мир лежал в другой стороне. Смог бы Декарт открыть ему красоты своего «Метода»?
Амстердам, 26 июля 1632 года. Мэтр Якоб ван Свитен, нотариус, по просьбе Питера Хейгенса де Бойса прибыл из Лейдена в дом Хендрика Эйленбюрха на Бреестраат, подле шлюза Святого Антония.
Дверь ему открыла молоденькая служанка.
— Здесь проживает мейнхер Рембрандт Харменс ван Рейн?
— Йа.
Нотариус попросил ее вызвать хозяина. Рембрандт вышел и услышал вопрос:
— Вы и есть досточтимый мейнхер Рембрандт Харменс ван Рейн?
— Йа.
— Я уполномочен засвидетельствовать, что вы в добром здравии.
— Это правда. Я, слава Богу, жив-здоров.
Рембрандт рассмеялся. Нотариус объяснил ему, что его поступок — следствие пари, заключенного между двумя особами из Лейдена, которые в прошлом году составили список ста граждан и поспорили, сколько из них через год останутся в живых. Помнит ли он, что заполнял анкету?
Да. Год прошел, и столько событий — в это даже трудно поверить. Он окунулся в современный мир. Начинает посматривать на женщин, посещать власть имущих, открывает некоторые тайны человеческого тела, приближается к тем наукам, которые все разъяснят. Ему кланяются на улицах Амстердама. Он неплохо зарабатывает, следит за своей внешностью, купил себе золотую цепь — теперь она блестит у него на груди. Одна смерть, возможно, помогла ему осознать произошедшую в нем перемену — смерть Питера Ластмана прошлой весной, когда он работал над «Уроком анатомии доктора Тульпа». Ластману было всего пятьдесят. Явившись выразить соболезнование, Рембрандт снова оказался в мастерской, где столькому научился за полгода. Картины Ластмана вдруг показались ему далекими — не до такой степени, как творения Луки Лейденского из его детства, но все же. Он увидел в них трудолюбивое, старательное творчество. Несомненно, добротное, даже безупречное, но далекое от того диалога света и тени, что дорог ему, той живой ткани из красок и масла, со вспышками красного, пятнами белого, наметками желтого, оттенками голубого, которую набрасывает он на свои полотна.
Однажды утром Хендрик Эйленбюрх вошел в мастерскую с двумя своими племянницами: одна, Алтье, была уже взрослой, другая, Саске — совсем юной. Они осмотрели картины, похвалили художников. «Это мои родственницы из Леувардена во Фрисландии», — объяснил торговец.
Фрисландия. Рембрандт там ни разу не был. Одна из Семи провинций, еще более вдающаяся в море, если только это возможно. Тамошние жители говорят не по-голландски, а по-фризски. Говорят, они грубы, неотесанны. Юлий Цивилис, одноглазый вождь древних времен, по чьей милости римские легионы заблудились в местных болотах, — их легендарный герой. Они не совсем сродни голландцам по происхождению, но такие же хорошие животноводы и инженеры-гидравлики, отвоевывающие свою землю у воды, создавая польдеры.
Леуварден — маленький провинциальный городок, еще запертый за своей крепостной стеной, гордый своим ярмарочным полем, Гильдейским домом, ратушей, Канцелярией, где останавливается статхаудер во время своих визитов — настоящим дворцом, полным чудесных ювелирных изделий. Семейство Эйленбюрха живет в доме, стоящем над спокойными водами Веазе. Сам Хендрик приехал из Польши, куда некогда эмигрировал его отец, но остальная семья — два брата и сестра — осталась в Нидерландах, брат Ромбаут обосновался в Лёйвардене. Владелец нескольких поместий, он несколько раз избирался бургомистром, был влиятельным человеком и часто общался с Вильгельмом I Молчаливым, даже оказался гостем при его дворе в Делфте 10 июля 1584 года, когда принц пал от руки Бальтазара Герардса. По рассказам, он слышал, как великий человек сказал перед смертью: «Господи, помилуй мою душу и этот бедный народ» — эти слова передавались в семье из поколения в поколение. У того Ромбаута из Леувардена было девять детей: три сына и шесть дочерей. Старший умер, и его младший брат Ульрик, адвокат, стал главой семьи. Алтье, одна из сестер, уже более десяти лет жила в Амстердаме. Во Фрисландии она вышла замуж за пастора Сильвиуса и следовала за ним из города в город, пока его не назначили в Амстердам в храм при больнице. Они были опекунами Саске, младшенькой. После смерти старшего брата та жила то у одной сестры, то у другой и, оказавшись в Амстердаме, была рада открыть для себя этот город.
Рембрандт вызвался сопровождать ее в прогулках. Сначала надо было взглянуть на порт. По всей видимости, судя по картинам Рембрандта, сам он бывал там нечасто. Это было не в его духе. Редко когда в композициях виден берег моря с несколькими башнями вдалеке — только и всего.
Однако амстердамский порт — это прежде всего Биржа, на которой решается все. Ни один корабль не попадет в порт без того, чтобы там не составили его опись. Это бойкое место. Под аркадами первого этажа толпятся маклеры возле больших плакатов с цифрами, указывающими на дела, которые они ведут: табак, шелка, недвижимость, доли в компаниях, пряности, переводные векселя, меха, торговля с Канарскими островами, Ост- и Вест-Индией. Там встречаются и поверенные иностранных купцов — поляков, французов, московитов, немцев, датчан, англичан, португальцев, испанцев.
Взглянуть на порт? К нему сложнее подобраться. Нужно дойти до конца единственной извилистой улицы центральной части города, Зеедейк, пройти по набережным, затем выйти из города. После маленьких рыболовных и каботажных судов за садами и первыми коровьими пастбищами покажутся большие парусники. Там все серое: и море, и небо. Никаких волн, всегда полный штиль, несколько рыбаков удят рыбу. Флот маячит у конца длиннющих молов, вдающихся в море, с хижинами надсмотрщиков и даже более просторными постройками — постоялыми дворами для судовых команд, сходящих на берег после закрытия городских ворот. Черные и серые силуэты живут своей жизнью в этой горизонтальной плоскости, простертой до самого горизонта, где мачты, реи, снасти — точно шпили соборов, а деревянные краны находятся в постоянном движении, размеренно и со скрипом кланяясь то кораблям, то молу. Плеск воды, перемигивание солнечных зайчиков, гнилостные запахи, которые приносит ветер, — и повсюду разлилась вода под коричневыми сваями. По молам снуют туда-сюда сани, запряженные лошадьми, увозя грузы, которые краны складывают на землю. Упряжки отправляются в город. Прогуливающиеся следуют за ними до самого Гильдейского дома. Грузчики в красно-зеленой форме трудятся вовсю перед большими римскими весами, а бухгалтеры записывают в свои книги вес товара и сумму уплаченной пошлины.
Корабли прибывают из Китая и Японии, Гвианы и Пернамбуку, с мыса Доброй Надежды, из Архангельска и Данцига, Алжира и Бергена, Пуэрто-Рико и Сантандера, Дориана и Бордо. На Бирже объявляют об отплытии в Батавию, Новый Амстердам, на Формозу, в Тринкомали, на Антильские острова. На окружающих островках расположены доки: высокие фасады темного кирпича с дверями вместо окон. Туда под строжайшим надзором впихивают центнерами все, что только можно: лес, сахар, табак, медь, олово, соль, шерсть, восточный фарфор, пряности, рейнское и анжуйское вино, сушеную рыбу. Голод больше не страшен. В Амстердаме построены самые большие хлебные амбары в мире. Некоторые принадлежат компаниям, беспрестанно строящим новые. Другие — Адмиралтейству, где пополняет свои запасы военный флот. Третьи — городу, хранящему хлеб и торф для бесплатной раздачи беднякам. Еще нигде не было такой совершенной организации.
Рембрандт понимает, что стоит взглянуть на эту мощь, но сие зрелище остается ему чуждым. Оно развлекает его, но он не может извлечь из того никакой пользы. Лес, сахар, хлеб, олово, свинец, пряности — но в таких количествах, что их и не увидишь, можно узнать только цифры: центнеры, сотни и сотни центнеров, так что на самом деле как будто ничего и нет. Тогда он уводит девушку к площади Дам, к благородным кварталам, засаженным деревьями, к лавкам с китайским фарфором, персидскими коврами, арабскими притираниями, драгоценностями — целому кварталу, где собрались еврейские гранильщики и ювелиры, сбежавшие из Антверпена. Зрелищем этих прилавков он поглощен так же глубоко, как и она: азиатское шитье, длинные ожерелья с драгоценными камнями, жемчуг для волос, настоящие жемчужины из глубины морей и те, побольше, которые называют голландскими жемчужинами, с великолепным блеском, — диковины, которые женщины носят в ушах. В глубине лавки, куда свет едва проникает, но все же зажигает искры в цейлонских рубинах, торговец держит на раскрытой ладони одну из таких гигантских жемчужин. А может быть, они пошли в совсем другой конец города, где в необычных лавках предлагают невероятные вещи: луки и стрелы, отделанные слоновой костью, китайские эмали, турецкие доспехи из дамасской ткани, андские плащи из шерсти ламы, индийские пояса, на которых вытиснены странные символы ярких цветов?
Благодаря встрече с Саске Рембрандт познакомился с пастором Яном Корнелисом Сильвиусом и написал его портрет. Он застал пастора в его жилище при больнице, сидящим в потемках, сложив руки на Библии. Пастор сидел так неподвижно, что, когда художник вошел в его комнату, он решил, будто тот погружен в глубокие размышления. На самом деле пастор слышал, как он вошел, но был почти слеп, и неподвижность взгляда подчеркивала его природную серьезность. Вид этого почти семидесятилетнего человека, одетого в черное, в маленькой черной скуфейке на редких волосах, с жидкой бородкой на белом воротнике, с опущенными глазами и руками, прикасающимися к Священной Книге, представлял собой идеальный образ внутреннего покоя. К тому же пастор исполнял свои обязанности — вел богослужения, облегчал душу умирающих — с некоей абсолютной просветленностью. Возможно, ему и надо было ослепнуть, чтобы этого достичь. На его лице Рембрандт разглядел даже намек на улыбку, с какой пастор подходил к самым сложным вопросам морали, — улыбку безграничной веры. Этому человеку не было нужды смотреть, чтобы понять, и Рембрандт явно хорошо чувствовал себя рядом с ним. Хотя скромность пастора Сильвиуса не позволяла ему предположить, что с него напишут картину, он позволил художнику рисовать его. С рисунка Рембрандт сделал гравюру. Так Сильвиус после лейденского нищего стал первым посторонним, проникшим в интимный мир его эстампов.
Что же до Саске — Рембрандт несколько раз гулял с ней и ее родственницей. Вместе с ними он видел столько разных вещей, домов, кораблей, людей. Наверное, это было даже слишком. Он возвращался в мастерскую, торопясь приняться за живопись, которая — он это прекрасно чувствовал — не имела ничего общего с подобными развлечениями. Однако оказалось, что с тех пор, как он стал бродить с Саске по городу в поисках зрелищ, которые могли бы ее позабавить, на его картинах появились молодые женщины. Иные. Молодые женщины, каких он еще никогда не писал. Не те, которые позировали ему разодетыми, с кружевными наколками и свеженакрахмаленными брыжами, а новые создания. Девушки появлялись в одеяниях из грёз: они носили платья из теплого и мягкого бархата, надетые почти на голое тело, с широким вырезом, чтобы было видно шею; они носили роскошные, шитые золотом одежды, праздничные костюмы, золотые ожерелья, жемчужины в ушах, в руках держали необычные предметы — например веер. Одна забавлялась тем, что надела берет художника, взбив его и сдвинув на ухо.
Не все картины хороши, так как девушкам не хватает жизненности, индивидуальности. Чувствуется, что в этих образах нет согласия, однородности. Словно они явились издалека, сошли с изображений Пресвятой Девы, святых Ханса Мемлинга, Квентина Метсиса или с портрета итальянки Альбрехта Дюрера. А тончайшая шелковая ткань на вороте, расшитая золотыми символами, у девушки, чьи волосы видны сквозь прозрачное покрывало, могла быть смутным воспоминанием об одной из картин Луки Лейденского. Еще вернее — на всем этом был налет Италии, — страны, где женщины не прячут волосы под шляпками, а укладывают их завитками, украшают жемчугом и самоцветами.
Но вот память подсказывает ему более близкий образ: роскошная Мария Магдалина Яна ван Скорела с распущенными волосами, улыбающаяся, в расшитом жемчугом платье. Если только это не еще более свежее воспоминание — об Антверпене и Рубенсе. Аромат древних чар кружит ему голову. Поскольку в то время Рембрандт писал почти одни только портреты, он, сам того не желая, изображал этих девушек без всякой мифологической подоплеки, отнюдь не в виде очередной Далилы, словно они вошли в его мастерскую, сняли шляпки и черные костюмы, надели нарядные платья, ожерелья и украшения и уселись позировать.
Таким образом, даже до того, как он начал прогуливаться по городу с Саске и ее тетей, живопись сама подготовила появление девушки двадцати одного года в его искусстве и в его жизни.
Рембрандт съездил в Лейден. Брат Адриан написал ему, что мать очень плоха. На маленькой медной пластине — квадрате со сторонами в 4 сантиметра — он выгравировал ее портрет: большая, тяжелая голова. На ней уже не шляпка и даже не красивое золотое покрывало, столь любимое ею, а какое-то полотно, укрывающее от холода. Тонкие губы сжаты, прикрывая беззубый рот.
На этой своей гравюре — последней, которую он сделает с матери, — Рембрандт говорит о ней с сочувствием и грустью: «Она меня больше не видит». Он изобразил мать отводящей глаза и смотрящей в пол, словно она слышит зов земли.
Действительно ли он это увидел? Или захотел это увидеть? Он подписал гравюру, поставил дату — 1633 год — и убрал в папку со своими интимными работами.
И снова уехал в Амстердам.
Явление Саскии
Dit es naer myn huysvrou geconterfeyt do sy 21 jaer oud was, dem derden dach als wy getrout waeren. Den 8 junyus 1633.
(Это портрет моей жены в возрасте двадцати одного года, сделанный на третий день после нашего обручения. 8 июня 1633 года.)
Хейсврау, то есть жена-домохозяйка, которую Поль Клодель впоследствии назовет Хранительницей очага. Надпись, сделанная рукой жениха, звучит торжественно, но ни имя Саске, которая станет Саскией, ни имя Рембрандта не упоминаются: это позволяет заключить, что рисунок предназначался им одним. Саския улыбается. Портрет выполнен в манере старых мастеров: серебряным карандашом на листе пергамента, величиной в ладонь, и с закругленным верхом по форме алтарных картин. Рембрандт, бегло рисующий тушью, сепией, углем, сангиной, выбрал для этого рисунка серебряный карандаш — старая, давно позабытая техника. Только старик Гольций еще использовал ее. Возможно, Эйленбюрх хранил нечто подобное в шкатулке среди прочих древностей. Это был аромат старины, но серебряный карандаш Дюрера никогда не скользил с такой легкостью, с такой непринужденностью.
Итак, Саския ему позирует. Она смотрит, как рука рисовальщика подрагивает, делая штриховку, выводит извилистые линии, быстро отчеркивает горизонтальные, то делает сильный нажим, то едва касается листа, выдавливает точку, с силой водит по одному и тому же месту, где будет блик. Любопытный способ ввести ее в свое творчество — избрать технику, которую он сам открывает для себя: пергамент. Рембрандт видел старинные рисунки, выполненные в этой манере, с очень стойким и ярким черным цветом. Он знает, что этот цвет не переменится, не сотрется со временем. Это тоже своего рода обручение на всю жизнь. Его взгляд переходит с девушки на пергамент, с пергамента на девушку. Скоро лето, на солнце уже жарко. Они шли проселком. Она, словно леуварденская крестьянка, украсила свою большую соломенную шляпу венком из листьев. Облокотившись на стол напротив жениха, подперла голову рукой. В другой — правой — держит цветок, который только что сорвала. В ее ореховых глазах поблескивает смех, на полных губах полуулыбка. Она молода, доверчива, во всем ее облике ненасытная жажда жизни. Три дня назад она сказала «да». Этот рисунок — свидетельство их союза. Позировать ему для нее так же важно, как для него — рисовать ее. Этот рисунок скрепляет их обет по мере того, как серебряный карандаш скользит по пергаменту.
Рембрандт торопится: несколькими быстрыми штрихами обозначены плечи, одежда, чуть подробнее — маленькая ручка с тонкими длинными пальцами, три из которых подпирают висок, жемчужные бусы, виднеющиеся из-под кофты. Все внимание сосредоточено на полноватом лице и большой шляпе, колышущейся у нее на голове.
Закончив рисовать, он написал серебряным карандашом: «Это портрет моей жены…». Они обручились три для назад, но художнику, наверное, необходимо подтвердить данное слово рисунком, чтобы искусство скрепило их союз.
Вечером Саския вернулась в дом своих опекунов при больнице, а Рембрандт — в свою комнату в доме Эйленбюрха. Отныне на его картинах больше не будет вымышленных девушек.
Если обручиться можно и тайно, то женитьба — уже дело общественное. Будущее Саскии совершенно безоблачно. После смерти родителей и старшего брата она переезжала от сестры к сестре, живших в маленьких фризских городках. В Амстердаме, у опекунов, ей понравилось быть в «центре всего мира». И Рембрандт, встретившийся ей в доме дяди, — сильный, энергичный человек, которому, как все говорят, уготовано большое будущее. Хвалят его «Урок анатомии доктора Тульпа» в Гильдии хирургов, портрет принцессы Амалии. Поговаривают о заказах, которые он якобы получил от самого статхаудера. С таким мужем о скуке провинциальной жизни можно забыть. Но прежде всего — она его любит.
Для Рембрандта Саския — первая девушка, появившаяся в его творчестве. То, что она родом из знатной семьи, ничего не добавляет к этому главному обстоятельству, разве что она обладает природным изяществом, умеет носить туалеты, украшения, жемчужное ожерелье, говорить, держать себя с людьми — качества, определяющие ее принадлежность к знати, достоинства, без которых она не получила бы доступа к его живописи. Впрочем, есть только одно соображение, перебивающее все остальные: он ее любит.
Опекуны Саскии, пастор и Алтье, довольные тем, что она поселится в Амстердаме, приняли предложение Рембрандта. Зато Нелтье в Лейдене, как на том квадратном эстампе, отвернулась, ушла в себя. Она больше не видит своего сына. Рембрандт попросил ее заверить у нотариуса согласие на брак, но она не отвечает.
Это затянется надолго, слишком надолго. Они решат обойтись без ее согласия. Пастор все возьмет на себя. Поэтому спустя больше года после помолвки молодые люди отправились в ратушу на площади Дам в день, когда было голубое небо и серые тучи, резкий ветер, который остужал жарко полыхавшие щеки. Они прошли под тремя аркадами, где вечно толкутся кумушки и кумовья, наблюдая за чужой жизнью и судача о происшествиях, поднялись по маленькой лестнице в глубине и вошли в бюро бракосочетаний, секретарь которого записал в книге:
«10 июня 1634 года предстали перед комиссаром Аутгертом Питерсом, Спигелем и Лукасом Якобсом Ротгансом Рембрандт Харменс ван Рейн, двадцати шести лет, уроженец Лейдена, проживающий на Бреестраат, заявивший о согласии своей матери на брак, и Саския ван Эйленбюрх, двадцати одного года, уроженка Леувардена, проживающая в Билдте, приход Святой Анны. Вместе с ней присутствовал и представлял ее интересы пастор Я. К. Сильвиус, родственник невесты. Он обязался совершить запись о законном браке до опубликования третьего извещения о нем».
Будущие супруги расписались в книге. Рембрандт не заметил, что секретарь на два года омолодил его. Пастор взялся доставить разрешение на брак от матери Рембрандта. Он был прав, не испытывая беспокойства на этот счет, ибо четыре дня спустя — что же удерживало ее столько времени? — Нелтье отправилась к семейному нотариусу.
«14 июня 1634 года в 4 часа с половиною предстала передо мной, Адрианом Паатсом, лейденским нотариусом, Нелтье, дочь Виллема ван Зуидтброука, вдова Хармена Герритса ван Рейна, жительница города Лейдена. Она заявила о своем добровольном согласии на бракосочетание своего сына мейнхера Рембрандта Харменса ван Рейна, художника, с досточтимой Саскией ван Эйленбюрх, девицей, жительницей города Леувардена. Извещения о браке могут быть опубликованы, и можно приступить к торжественной церемонии бракосочетания».
Чтобы избежать всяческих двусмысленностей, мэтр Паатс посоветовал Нелтье добавить, что она не возражает против того, «что ее сын без ее ведома оформил запись в бюро бракосочетаний и опубликовал извещения о браке. Она благодарит комиссаров бюро бракосочетаний за предоставление соответствующего разрешения и просит их считать свое письменное заявление обладающим той же силой, как если бы оно было сделано ею гласно в их присутствии».
Зрение ее уже подводило, и поэтому вместо подписи она поставила крестик в указанном месте, затем воспользовалась своим приходом к мэтру Паатсу для того, чтобы оформить дар в 1600 флоринов сыну Адриану. С обязательством для него возместить эту сумму после ее кончины братьям и сестрам в момент раздела наследства. На этом документе нотариус отметил, что она находилась «в добром здравии, стоя, была способна передвигаться пешком, в хорошей памяти и полностью владела своими чувствами и рассудком». Нелтье оставалось прожить еще шесть лет.
С гражданской церемонией было покончено. Церковный брак состоялся во Фрисландии, у сестры Саскии, в замужестве меврау ван Лоо, проживавшей в Билдте. Билдт — это поселок на краю света, за дамбой. Уже несколько веков там жили пастухи на огромной сетке лугов и каналов. Семьи проживали кучно на больших фермах с соломенными крышами, вросших в землю и укрытых от морских ветров заслоном из деревьев. Люди здесь были неречисты, они дорожили своими правами первопроходцев, завоеванными еще в Средние века. Церкви, построенные на перекрестьях каналов, параллельных и перпендикулярных морю, сохранили свои первоначальные названия: Приход Богоматери, Приход Святого Якова, Приход Святой Анны. Порой можно было встретить мельницу, окруженную несколькими домишками. Эти фризы избрали себе комиссара — Геррита ван Лоо. Он жил вместе с женой Хискье в Приходе Святой Анны — приходе реформатской церкви, в книге которой пастор записал тупым пером, ставившим кляксы:
«22 июня 1634 года сочетались браком Рембрандт, сын Хармена ван Рейна, проживающий в Амстердаме, и Саския ван Эйленбюрх, временно проживающая во Франекере».
22 июня — первый день лета. Саския, родившаяся в августе, обручилась в июне, вышла замуж в июне и умерла в июне.
Церковь была украшена цветами. Кресла для новобрачных увиты гирляндами. Рембрандт надел кольцо на правую руку Саскии, и они вышли под приветственные крики родных и фермеров-соседей, бросавших им под ноги цветы. Впереди до самого горизонта виднелись только разрозненные стада коров на лугах, по обе стороны от прямых как струна каналов, и далеко-далеко — несколько рощиц, в которых прятались фермы. Никогда небо, в высотах которого ветер нагонял на солнце маленькие белые облачка, не казалось таким бескрайним.
Дома свадьбу отпраздновали по всем правилам. Большая комната в нижнем этаже с распахнутыми окнами, выходящими на дорогу и во двор, была залита светом, самые большие ковры в доме повешены на стену за стоящими рядом стульями супругов. Лоб Саскии украшала фамильная диадема. Ее платье с тяжелыми складками, волочившееся по земле, было вышито золотом, в вырезе открывалась белизна тонкого батиста, большое ожерелье спускалось на спину и грудь, самоцветы посверкивали на лифе, фата была приколота к волосам дорогим украшением, из ушей свисали жемчужные серьги. На голове у Рембрандта — большой берет с пером. Из-под меховой опушки его куртки виднелись белые манжеты рубашки. Вышитый шарф сверкал на поясе, складчатые шаровары понизу обшиты бахромой.
Наверное, за праздничным столом фризы пели песни, из которых он не понял ни слова, читали восхваления в стихах, столь же непонятные для него, а Саския переводила их ему на ухо. Наверняка ели птицу, жаркое, овощи, рыбу, паштеты, сыр и фрукты, произносили бесконечные здравицы, поднимая бокалы с мозельским вином.
Родные Саскии все были адвокатами, управляющими, чиновниками, делопроизводителями. А личное состояние молодой женщины оценивалось примерно в 40 тысяч флоринов. Среди его родных были ремесленники — мельник, булочник, сапожник. Если родственники новобрачной могли с гордостью говорить о ее отце, бургомистре Леувардена, присутствовавшем при последних минутах Вильгельма Молчаливого, Рембрандт мог припомнить лишь фамилию предков своей матери, когда-то бывших влиятельными членами магистрата города Лейдена. Из сопоставления выходило, что он со своей нарождающейся известностью был единственным, кто мог возвысить имя ван Рейнов до уровня ван Эйленбюрхов.
Только Саския принесла с собой гораздо больше, чем флорины. Ей предстояло стать той живой душой, благодаря которой ему наконец удалось перейти в своей живописи от интимности к мифу.
В Амстердаме Рембрандта поджидали все более многочисленные заказы на портреты. У одного огромная шляпа, у другого — маленькие брыжи, у этой — большое жабо. Та хочет, чтобы в углу картины был указан ее возраст (восемьдесят три года), эта попросила, чтобы почетче выписали ее золотую цепь. У одного усы закручены кверху, у другого козлиная бородка. Мода меняется: женщины больше не носят шляпок; они расправляют по плечам огромные кружевные воротники. Этот щеголь носит кружевные манжеты на икрах и кружевные венчики на башмаках. А вот английский проповедник с супругой пожелали запечатлеть себя на парном портрете, почти в натуральную величину. Рембрандт был счастлив написать проповедника Яна Втенбогарта — старого человека, героя религиозных войн, возглавившего арминиан после смерти Арминия; пятнадцать лет назад ему пришлось бежать, но теперь он вернулся на родину, сознавая, что его присутствие привносит в общество веротерпимость. Рембрандт изобразил его рядом с огромной раскрытой рукописной книгой.
Но другие… Его уже стало утомлять ремесло портретиста — художника, у которого, в соответствии с правилами хорошего тона, принято заказывать свое изображение. Это могло никогда не кончиться. Он превратился бы в нового Миревельта или Томаса де Кейзера, прислужника людского тщеславия, летописца общества, которое доказало миру свои деловые качества, при этом считая себя справедливым и благородным. Торговля, Республика, Реформация — Соединенные провинции добились успеха во всех трех областях. Никто не смог бы этого отрицать. Однако проповедники заказывали свои портреты, а не распятия. Некоторые пасторы еще и вели коммерческие дела; как же прикажете их писать — с конторской книгой или с Библией?
Рембрандт начинал понимать, что клиенты, являвшиеся к Эйленбюрху заказывать ему портреты, представляли собой ужасную силу. Они отдавали должное его таланту с пылом, который был ему приятен. На свои деньги эти добрые люди строили себе дома в городе и за городом. Они шили себе элегантные костюмы. Покупали золотые цепи, китайские фарфоровые сервизы. Заказывали художникам по стеклу витражи со своими гербами, которые можно было вставить в окна. Они заботились о своих садах, где с увлечением выращивали редчайшие виды тюльпанов. И в этой добропорядочной жизни, в этой изящной обстановке им были необходимы еще и портреты. Дабы богатство не вызывало раздражения у самых ревностных кальвинистов-нестяжателей, они заказывали свое изображение не во всей красе, а просто в лучшем костюме.
Эти добрые люди хотели от искусства лишь одного: чтобы оно обеспечило им некую личную нетленность — опасное требование, ибо оно лишало живопись притязаний на возвышенное. Оно запрещало ей все, что до сих пор одухотворяло великих художников: облекать в образ духовное, являть глазу незримое.
В Лейдене Рембрандт вступил на этот путь — единственный, придававший смысл его устремлениям: воссоздать исчезнувшее священное искусство. В Амстердаме у него не оставалось на это времени. Порой ему приходила мысль о необходимости иначе исполнять свой долг. Неужели в двадцать восемь лет он уже изменил идеалам своей юности? Череда лиц, окружавших его, — вот и все, что он обрел в Амстердаме. При дворе принца, в Гааге, все шло так, как он предвидел. Их высочества коллекционировали произведения Хонтхорста, Блумарта, Тербрюггена, Бабурена, Морельсе. Все — великие художники! А пишут фривольные сюжеты, темы для отдохновения. Если бы Рубенс не был дипломатом, представляющим папистов и испанцев, их высочества обращались бы исключительно к нему. Впрочем, они бы не ошиблись: Рубенс — величайший из всех. Но такой подход что в Амстердаме, что в Гааге отдалял живопись от глубинного смысла ее существования.
Со своей стороны, Рембрандт не предлагал ничего приятственного. Он хотел вернуться к незыблемым образам «Жизни Христа», не понимая, почему художникам запретили их изображать. Он не мог поверить, что эта живопись, заниматься которой хотел практически он один, оставит людей равнодушными. Неужели в этой стране утратили Веру? Нет, но только искусству отказали во всех прочих сюжетах, кроме развлекательных и общественно полезных.
Отныне, пытаясь воспользоваться репутацией, которую он себе создал, он намеревался вести двойную борьбу: вновь обратить голландское искусство к темам Нового Завета и вместе с Саскией создать современное искусство ликоизображения, с помощью которого можно было явить в образе женщины своего времени Данаю, Флору, Марию Магдалину, Сивиллу. В женщине-современнице, в современных позах он собирался раскрыть великие образы главных мифов, показать, что время не затерло их, словно старую монету, что они живы в настоящем.
Он и себя станет изображать: сидящим у ног святого Иоанна Крестителя и внимающим его речам; принимающим участие в Распятии. Ибо эти великие притчи, на которых он вырос — от Евангелия до Овидия, — не мертвая буква. Его живопись раздует их священный огонь. Тем более что отныне рядом с ним будет женщина, чей образ он введет в легендарные сюжеты, — Саския.
Глава IV ЖЕНА И ГРЕЗЫ
«Жизнь Христа»
Константин Хейгенс, видевший в Лейдене «Иуду, возвращающего тридцать сребреников» и «Христа на кресте», добился от принца Фридриха-Генриха, чтобы тот заказал художнику «Жизнь Христа», и Рембрандт охотно согласился написать первые семь картин: «Поклонение пастухов», «Обрезание», «Возведение креста», «Снятие с креста», «Положение во гроб», «Воскресение» и «Вознесение» — темы, к которым он еще ни разу не обращался. В связи с этим, возможно, ему заново придется писать отдельные сюжеты, — например, «Христа в Эммаусе» или само «Распятие». Все картины должны были быть одного размера, менее метра в высоту, и все с закругленным верхом. В конечном итоге над этой серией он проработал по меньшей мере тринадцать лет, до самой смерти принца в 1647 году. В дальнейшем в своих живописных работах он почти не станет затрагивать тем Страстей Господних, которые будут постоянно присутствовать только в его гравюрах.
Небо черно. Мутные низкие облака со странными зеленоватыми отсветами бегут над полем. Бледный отблеск на шлеме и кирасе солдата. В разрытую землю воткнута лопата. Три человека поднимают крест: кто тянет, кто толкает. К дереву тремя гвоздями прибит Распятый. По его рукам и ногам струятся ручейки крови. Лоб кровоточит под терновым венцом. Рот раскрыт, глаза подняты к небу. Рядом с ним — всадник в тюрбане, слева, в сгустившихся сумерках — серьезные мужские лица, один разводит руками в знак бессилия, а справа смущенная толпа выталкивает вперед двух раздетых мужчин.
Обычно художники изображали последнюю стадию казни и окончательную неподвижность Распятого; Рембрандт же выбрал момент водружения креста, когда тело осужденного поднимается, сохраняя непрочное равновесие, а люди с усилием толкают крест, боясь, как бы он не упал. Рембрандт хотел, чтобы картина каждый раз вновь вызывала у тех, кто ее уже видел, ужас и жалость. Вот почему он избрал момент воздвижения креста с распятым на нем человеком, когда крест не обрел еще вертикального положения. По этой же причине в другой картине — «Снятие с креста», написанной на доске из тысячелетнего дуба, прибывшей из Палестины, которую Рембрандт нашел на портовом складе, он выделил старые, плохо обтесанные балки с тремя пятнами засохшей крови. И показал Христа, которого накрывают белым саваном, не атлетом, как у Рубенса, сохранившим и после смерти мощную мускулатуру, а человеком, утратившим все человеческие пропорции. Взгляните на него: он разбит, голова свисает, на бедрах больше нет мускулов, под тяжестью тела вывихнулись суставы. Это совершенно разъятый на части человек, которого медленно спускают вдоль вертикального столба. Смертная мука исказила мертвое лицо.
Если в «Возведении креста» композиция представляла собой треугольник, обращенный книзу, то в «Снятии с креста» вершина треугольника тянется вверх, а основание теряется в двух окровавленных ступнях, качающихся над землей. Вокруг человека, которого спускают в ночь, падают, склоняются другие тела, словно во время потопа, когда над водой вдруг взметнется еще чья-то рука; и на все это смотрит чиновник в тюрбане — все тот же толстяк с тростью в руке. Рембрандт упорен: он показывает, что Страсти Господни были ужасны, и он хочет передать этот ужас. Ибо прочие художники стремились вызвать чувство стыда, множа раны, показывая слезы, заставляя звероподобных палачей скрежетать зубами, вращать глазами. Они соперничали в чрезмерностях. Добрые христиане, успокоенные тем, что не узнали себя в этих скотах, могли считать себя ни в чем неповинными.
У Рембрандта же здоровяки, помогающие поднять крест, ничем не отличаются от солидных, услужливых грузчиков, которых можно встретить в порту, а чиновник, присутствующий при умерщвлении, — точь-в-точь педантичный служака, как тот, что в Амстердаме констатирует смерть преступников, приговоренных к повешению. Рембрандт изобразил и самого себя, как когда-то на одной из своих первых картин, где его юная голова появилась у входа во дворец. На этот раз, в «Возведении креста», он поместил себя в геометрическом центре картины, крепко обнявшим крест, в ярком свете, с синим беретом на голове, который уже начали узнавать на Бреестраат. Он помогает установить крест — он поможет и снять Христа, держа его раздробленную руку, хотя похоже, что тот человек внизу, который принимает на руки все тело, — тоже он. Он повсюду. Ведь он сказал тогда Лизбет о картине, которую написал в двадцать лет: «Был ли я там? Ну конечно, раз я это написал!»
В его мастерской все полагали, что это вызов. Хотя художники и изображали себя в углу «Рождества» или подле Мученика, никогда они не помещали себя в самом центре картины, никогда не делали себя участниками казни Христа. Никто не понял, что Рембрандт присутствует в «Возведении креста» не для того, чтобы показать, что это он написал картину, а потому, что писать — значит жить тем, что пишешь. Ему необходимо было показать, что он — соучастник убиения Сына Божиего, что все мы, люди, убиваем с гневными криками, а затем хороним со слезами. Рембрандт больше не представлял себя вершителем правосудия, каким считал раньше. Ах, если бы хоть иногда на нас снисходило просветление, говорит он.
Узнал ли принц Фридрих-Генрих художника на картине в «Страстях Господних»? Константин Хейгенс, должно быть, привлек его внимание к этой манере художника, и двор отправился взглянуть на произведения, где художник самовыражается с такой резкостью. Экстравагантность — ибо это было воспринято придворными именно так — довольно хорошо сочеталась со всеобщим пристрастием к напряженным, полным движения композициям. И все же обе картины могли быть поняты лишь как призыв к порядку, напоминание об утраченном ужасе Распятия.
Фридриху-Генриху больше всего нравился Рубенс. Рембрандт казался ему преступающим всякие границы. Однако, по настоянию Константина Хейгенса, принц сам попросил Рембрандта написать продолжение к двум приобретенным им картинам из серии «Страсти Господни». Рембрандт замешкался с исполнением заказа. В феврале 1636 года он написал Хейгенсу:
«Милостивый государь мой господин Хейгенс!
Я надеюсь, что Вы, Ваша Милость, соизволите сообщить Его Высочеству, что я со всем возможным поспешанием завершаю три картины из «Страстей Господних», которые Его Высочество сами мне заказали: «Положение во гроб», «Воскресение» и «Вознесение Христа». Из трех упомянутых картин одна закончена — с Христом, возносящимся на небо, — а две другие выполнены более чем наполовину. Прошу Вас, Монсеньор, известить меня, предпочитает ли Его Высочество получить законченную картину немедленно или все три вместе, дабы я мог наилучшим образом исполнить желание Его Высочества.
С наилучшими пожеланиями Вашей Милости, да хранит Вас Господь в добром здравии, остаюсь верный и покорный слуга Вашей Милости,
Рембрандт».
Хейгенс велел доставить «Вознесение» к себе домой, а затем отвез его к принцу, который принял картину и поручил своему секретарю заплатить художнику.
Через несколько дней Рембрандт снова написал Константину Хейгенсу:
«Милостивый государь!
Выражаю Вам свое почтение и уведомляю Вас, что я согласен вскорости приехать взглянуть, хорошо ли сочетается последняя картина с остальными. В том, что касается цены, я наверное заслужил 1200 флоринов, но удовольствуюсь тем, что заплатит мне Его Высочество. Пусть Ваша Милость не воспримет превратно сию мою вольность, я не постою за тем, чтобы оправдать ее делом.
Остаюсь покорный и смиренный слуга Вашей Милости
Рембрандт.
Картина явится в галерее Его Высочества в лучшем свете, поскольку там уже есть яркое освещение».
Правда, которую не должны были знать ни принц, ни Хейгенс, заключалась в том, что две картины — «Положение во гроб» и «Воскресение» — не были закончены и наполовину, и Рембрандт работал над их завершением вовсе не с тем поспешанием, о котором говорил.
Что-то сдерживало его. Он работал над большими полотнами на сюжеты о Самсоне и жертвоприношении Авраама — крупными картинами, которые ему не заказывали и которые он писал для себя из желания придать таким большим полотнам новый стиль. Его уже явно тяготила серия, предназначенная для принца. Он утратил пылкость, которая сопутствовала ему в первых двух картинах. «Вознесение» — по крайней мере, такова была изначальная идея — это существо из света, поднимающееся на облаке, подталкиваемом ангелочками, в то время как на земле изумленные люди воздевают руки и молятся.
Закончив картину, Рембрандт сам удивился. Он не знал за собой столько нежности, того ангельского, небесного, что проявляется в золотистых лучах Святого Духа, освещающего Христа с раскинутыми руками, наконец-то принятого Богом. Он начал с изображения Бога-Отца вверху картины. Затем его обуяли сомнения. Не больше ли подходит такая божественная встреча вознесению Богоматери? Но если хорошенько подумать, кто в Голландии вправе направлять его в писании священных произведений? С тех пор как благодаря протестантской церкви никакая власть не встает между ним и Библией, он пишет сюжеты Священного Писания по своему усмотрению. Не руководствуясь, как Рубенс, программой, начертанной теологами. Он сразу может обратиться к тем эпизодам Страстей Господних, которые его вдохновляют, и прежде всего к страданию Христа, которое по-прежнему искушает его. Его Христос — Христос реформатской церкви — прежде всего человек. Сверхчеловеческая сущность Иисуса, Превознесение, понятие Благодати, заповеди Блаженства — не его сфера. Поэтому его «Вознесение», изображение радости — просто хорошая картина. Он это знает и, разглядывая полотно при ярком освещении в галерее его высочества, думает, что этот эпизод «Жизни Христа» не для него. Во всяком случае, вопрос остается открытым: должна ли «Жизнь Христа» выставляться наряду с другими полотнами? И если нет, то как смогла бы живопись обойтись без этого страстного обращения к Богу голландского художника XVII века?
Но история на этом не закончилась. Константин Хейгенс не отказался от своего проекта. Он часто напоминал о нем Рембрандту, и художник в конце 1638 года закончил «Положение во гроб» и «Воскресение».
Поэтому 12 января 1639 года он написал секретарю его высочества:
«Милостивый государь!
Благодаря великому усердию и благочестию, которые я употребил, работая над двумя картинами, заказанными мне Его Высочеством, — одной, изображающей тело Христа, положенное во гроб, и другой, с Христом, воскресшим к великому потрясению его стражников, — сии картины ныне закончены с большим старанием, так что я могу доставить их к удовольствию Его Высочества, ибо на сих полотнах выражено самое сильное и самое естественное чувство, по каковой причине их написание и заняло столько времени.
Да пребудет с Вами счастие и благословение Господне, аминь.
Смиренный и покорный слуга Вашей милости
Рембрандт».
В «Положении во гроб» видны три источника света: день, угасающий вдалеке на холме, — там, где силуэты деревьев и крест, окруженный маленькими фигурками, теряются в облаках; перед нами, под нависающей скалой, — опрокинутый фонарь, едва освещающий группу скорбящих женщин; и, наконец, две свечи, являющие тело Христа в саване, в тот момент, когда его должны положить в каменную могилу. Солнце должно было исчезнуть в дальней перспективе пейзажа, чтобы осталась одна горизонтальная линия, покончившая с вертикалью жизни: край гроба.
А вокруг этих двух знаков завитками, восходящими от гроба, выстраиваются изломанные фигуры живых: сомкнутые ладони, воздетые руки, словно призыв к жизни, голова, обращенная к рукам склоненного мужчины, держащего ноги Христа. Им противостоят согласованные движения двух других мужчин: одного, держащего Иисуса под мышки, и другого, поддерживающего его за края савана.
Выбран конкретный момент: непосредственно перед опусканием в могилу. И в этот последний миг перед исчезновением свечи роняют свое золото — золото, поющее с жаркой нежностью, так что в картине словно звучат несколько слов, произнесенных шепотом, шорох ткани, учащенное дыхание носильщиков. Это картина, звучащая вполголоса, в которой ощущается дыхание живых, собравшихся вокруг мертвеца.
Изображая освещенные фигуры и тех, что находятся в полумраке, Рембрандт достиг такой же естественной организации картины, как в песнях, в которых звук длится не только пока певцу хватает воздуха, но снова возобновляется в ритме дыхания. Его картина так же естественна, поскольку тень, несмотря на единую цветовую гамму, так же полна жизни, как и свет: наклонные линии, уходящие вверх и вниз, открывают треугольники тьмы. Никаких разрывов: единая канва, прочная основа которой источает спокойствие и нежность. Кроме тела Христа, ничто больше четко не обозначено: святые, и женщины, и мужчины, едва различимы, но нам нет необходимости видеть их более отчетливо: главное в этой картине — поставить свет и тень на пороге смерти, облечь картину в траур. Никаких похоронных торжеств, как для сильных мира сего, а гораздо более трагическое, непоправимое погребение солнца.
На второй картине, «Воскресение», появляется другое солнце. Это другое солнце не похоже на то, что в «Положении во гроб» погасло на горизонте, когда могильная плита накрыла собой тело Христа, — это яростный светоч, раздирающий мглу, сыплющий пылающими угольями, с громом катящийся по горизонтальной линии могилы и, обретая форму ангела с расправленными крыльями, поднимающий камень, из-под которого пробивается робкий захороненный свет: Христос с бледным лицом, чрезвычайно ослабевший, только что откинул плащаницу и поднимается, опираясь рукой на край саркофага.
Что же касается «великого потрясения» стражников, о котором художник говорит в своем письме к Хейгенсу, оно изображено как лавина ошеломленных солдат, катящихся кувырком, теряющих оружие, это вихрь шлемов, кирас, мечей и людей, не понимающих, что происходит, тогда как внизу, в самом низу (их бы никто не увидел, если бы на них не указала оброненная летящая сабля) является арка из сомкнутых ладоней: две женщины, скрытые в ночи, которые увидели чудо и молятся.
Здесь соседствуют две неистовые силы: света, огня, разверзающего небо, хлопающих крыльев ангела, слетевшего с небес и являющего собой силу духа, и страха, низвергающего стражу под грохот железа, в жуткой путанице тяжеловесных тел, увешанных оружием.
Таково «Воскресение» Рембрандта. Оно и не могло быть просто изумлением при виде пустой могилы, обнаруженной на заре, когда солдаты встали ото сна. У Рембрандта все дело не в якобы насланных на стражу чарах и не в халатности при расстановке дозоров. У него Бог не являет себя у всех за спиной. Он творит чудеса. А это не может не наделать шуму.
Рембрандт намеренно показывает Христа восстающим из могилы. То, что Христос сделал для Лазаря (а Рембрандт когда-то написал и выгравировал), ничем не отличается от того, что Бог сделал для Христа. Нельзя лишать себя зрелища возвращения к жизни. Ибо таково религиозное чувство Рембрандта: он хочет освободить образ Христа ото всех облепивших его небылиц. И неважно, снизошла ли на людей невообразимая Радость, о которой говорят паписты, — невозможно забыть о том, через какую жестокость и страдание должен был пройти Тот, что принес ее, нужно преодолеть вместе с Ним череду испытаний. Художник призван показать, как мертвый возрождается к жизни.
Он хочет говорить о том, что из страха возможных потрясений скрывалось из века в век. А ведь Вера сама есть потрясение, она беспрестанно ведет верующего от невероятного к невозможному. Прикрываясь символами и аллегориями, художники позволили своему искусству отступить перед словом. Рембрандт же хотел вернуть живописи взрывной заряд невероятного и невозможного. Ибо когда Христос вернулся к жизни, именно в этом разлагающем мертвую плоть саркофаге, размолотый смертью, он заново должен был воссоздать свою плоть. Рембрандт хотел дать людям время насладиться красотою чуда.
Так он дарил Реформации образы, которые она не хотела принять. Он написал Хейгенсу, что провел много времени, работая над этими картинами, потому что хотел вложить в них самое сильное и самое естественное чувство. Именно так: явить непостижимость Веры в естестве человека…
Рембрандт, только что купивший большой дом и пытавшийся где только можно раздобыть денег, писал Хейгенсу:
«Милостивый государь!
С Вашего дозволения посылаю Вашей Милости две картины, которые, как я думаю, получат столь высокую оценку, что Его Высочество заплатит мне не менее 1000 флоринов за каждую. Но если Его Высочество сочтет, что они того не стоят, пусть заплатит мне меньше, как ему будет угодно. Поручаю себя учености и рассудительности Его Высочества и останусь совершенно доволен тем, что мне будет уплачено. Со всем уважением, пребываю его смиренный и покорный слуга
Рембрандт.
Общая сумма уплаченного мною за рамы и упаковку составляет 44 флорина».
Бедные художники только и думают, что о деньгах. Они постоянно нуждаются. 27 января, всего через две недели после того, как Рембрандт объявил Константину Хейгенсу о завершении двух картин, он снова ему пишет:
«Милостивый государь!
Я упаковывал те две картины, когда меня посетил сборщик налогов Втенбогарт. Он пожелал на них взглянуть, а затем сказал, что, если Его Высочеству будет угодно, он готов совершить оплату за них здесь, в Амстердаме, в своей конторе. Таким образом, я прошу Вас, Милостивый Государь, чтобы все, что Его Высочество пожалует мне за эти две картины, я мог получить здесь как можно раньше, что в настоящий момент было бы мне особенно удобно. Прошу Вас, Милостивый Государь, дать мне ответ по сему поводу. Выражаю Вам свое почтение и желаю Вашей Милости и семейству Вашему счастья и благоденствия.
Смиренный и преданный слуга Вашей Милости
Рембрандт».
Прошло две недели. Рембрандту так и не заплатили. Константин Хейгенс предупредил его, чтобы на 1000 флоринов он не рассчитывал, и уточнил, что сам иначе оценивает его труд. Рембрандт написал ему 13 февраля:
«Досточтимый Государь мой!
Я глубоко уверен в добрых намерениях Вашей Милости, в частности, в отношении платы за две последние картины и полагаю, что если дела обстоят согласно желанию Вашей Милости и по справедливости, не стоит возвращаться к оговоренной цене. Что до тех картин, которые были доставлены ранее, за каждую было уплачено не менее 600 флоринов. И если невозможно учтивостью склонить Его Высочество к тому, чтобы уплатить более высокую цену, я удовольствуюсь 600 флоринами за каждую, лишь бы мне были возмещены расходы на две рамы черного дерева и упаковку общей стоимостью в 44 флорина. Посему прошу Вас, Милостивый Государь, распорядиться, чтобы я мог получить причитающееся мне здесь, в Амстердаме, и как можно скорее, уповая на то, что милостию Вашей я вскоре получу свои деньги, и пребываю Вам признателен за Вашу дружбу. Примите выражение моего почтения к Вам и к лучшим друзьям Вашей Милости, да дарует вам Бог долгую жизнь и доброе здоровье.
Смиренный и преданный слуга Вашей Милости
Рембрандт».
Ян Втенбогарт, казначей, приемщик, кассир, почитатель искусства, коллекционер эстампов Луки Лейденского, верил в расторопность Администрации (возможно, он спутал взимание налогов и уплату поставщикам). Рембрандт, которого он часто навещал, считал его своим советчиком в конторской зауми и в благодарность выгравировал его портрет. Втенбогарт предложил ему тогда снова нажать на Хейгенса и уведомить о том, что он считал простым сбоем канцелярской машины. Рембрандт так и сделал, написав некоторые фразы практически под диктовку:
«Милостивый Государь!
Я не решался писать к Вашей Милости, но делаю это по совету сборщика налогов Втенбогарта, которому я посетовал на задержку уплаты за мою работу: казначей Вольберген отрицал, что налоги за последний год были собраны. Но в прошлую среду Втенбогарт заверил меня в том, что к Вольбергену поступали все налоги каждые полгода, так что 4000 флоринов можно получить снова в той же конторе. Раз дело обстоит так, прошу Вас, Милостивый Государь мой, приказать подготовить уже сейчас мою ассигновку, чтобы я наконец смог получить заслуженные мною 1244 флорина. Я постараюсь отблагодарить Вашу Милость своими услугами и свидетельством своей дружбы. На сем кланяюсь Вам и выражаю надежду на то, что Бог сохранит Вашу Милость в добром здравии и благословит Вас.
Смиренный и преданный слуга Вашей Милости
Рембрандт».
Сборщик Втенбогарт, каким его увидел Рембрандт в ту холодную зиму, — бледный печальный блондин с закрученными кверху усами и пушком под нижней губой, на голове у него берет, он тепло укутан в меховую шубу; у дверей его терпеливо поджидают налогоплательщики с мешочками монет. Втенбогарт сидит за столом, традиционно покрытым сукном, перед своей конторской книгой и весами. Комната заставлена бочонками, в которые укладывают мешочки. В сундуке, окованном железом, должно быть, хранятся золотые слитки.
Втенбогарт не мечтает над золотом. Оно лишь олицетворяет для него цифры, которые он вписывает колонками в свою книгу. Он взвешивает мешочки с флоринами, передает их своему помощнику, вставшему на колени, чтобы было удобнее укладывать их в бочонки. Контролер — это человек, который верно взвешивает, точно подсчитывает. Через его руки проходит состояние Республики, поскольку он — главный сборщик налогов провинций Голландии. На стене позади него висят картины из его коллекции: Бронзовый Змий, обвивающий Крест, которому поклоняется целый народ. Знаменательная картина в конторе общественного казначея: она напоминает о том, что человек не должен пресмыкаться перед ложными идолами, то есть ложными ценностями. Втенбогарт предложил, чтобы художник изобразил его в костюме, сходном с теми, что носят персонажи Луки Лейденского. Рембрандт хотел сделать ему приятное. И это удалось.
Рембрандт на долгие годы забросит «Жизнь Христа», заказанную принцем. Затем, 29 ноября 1646 года, в книге счетов Дома герцогов Оранских снова появится запись: «Уплачено Рембрандту, художнику из Амстердама, 2000 флоринов за две картины: «Поклонение пастухов» и «Обрезание». Таким образом, в галерее статхаудера висело уже семь его картин.
«Обрезание» вернуло его к далеким мечтам о гигантских храмах, где человеческий голос не откликается эхом, а теряется, — настолько высоки своды, бесконечны нефы, неохватны колонны. В этой каменной громаде медленно расхаживают, старцы в длинных расшитых одеждах. Рембрандту по душе несоразмерность между зданием, людьми и крошечным ребенком — меньше длинной седой бороды патриарха с гигантской клюкой, сидящего под балдахином с золотыми кистями, символом его могущества. Это роскошное сооружение, к подножию которого девушки приносят дары, а коленопреклоненные верующие припадают в молитве, придает торжественность обряду, подтверждающему принадлежность ребенка к избранному народу. Это еще и обращение к таинству Храма Соломона, ведь судьба Христа началась с сего мудрого ритуала, а коренится в вере евреев, — так археология открывает основы нынешней жизни. Ритуал обставлен с пышностью, присущей религии отца и матери, — и Младенец здесь — крошечное существо, чья сила взорвет весь этот благообразный мир.
В «Рождестве» Рембрандт вновь уловил музыку «Положения во гроб». В хлеву с толстыми балками, на коровьей подстилке, под курами на насесте — круг света, пять человек, сидящих вкруг новорожденного. Из тьмы появляется группа таинственных фигур в плоских широкополых шляпах, эти люди, прикрывая платком нижнюю часть лица, с поднятым фонарем, с ребенком на руках молча подходят к Семейству. В глубине, сквозь щель в стене хлева, смотрят чьи-то глаза. Они — в самом центре картины.
Дитя появилось на свет, но ни на одном лице нет улыбки. Эти родины — событие неординарное. Родители и пастухи знают, что разрешение Марии от бремени необычно: оно не просто приносит на землю еще одного человека, но дает начало жизни, которая изменит мир, и часы, установленные на тридцать три года, уже начали отсчет времени.
Как и «Положение во гроб», «Поклонение пастухов» — это словно разговор вполголоса. Вокруг спящего Младенца установилась тишина. Сон и солома. Свет пробегает по пучкам срезанных колосьев золотыми отблесками, тонкие лучи исходят от маленького личика и ручек. Свет становится призрачным на синем рукаве Богоматери, коричневой одежде Иосифа, исчезает в темноте, затем снова появляется на бороде и лице одного из мужчин, на сомкнутых руках другого. Свет поднимается кверху, касается странных пастухов, завершивших свой долгий путь, выхватывает сначала три лица, затем остальные. Так постепенно растекается это дрожащее свечение.
В «Положении во гроб» он похоронил солнце. На этот раз, показывая робкое зарождение нового света, Рембрандт подчеркивает слабость первых лучей, чей мягкий свет можно уловить лишь в сравнении с полнейшей тьмой.
В традиционном изображении «Поклонения пастухов» Рембрандт написал Рождество Света. Живопись, не отвлекаясь на подробности, сама являет собой свет. Она дает музыкальное развитие единой гамме, перемещающейся по всем регистрам — от низких звуков тьмы до высоких — света. Тень под балками, лестницами, животными, связками сена такая же живая, как свет. Видно, как колеблется огонек ночника и его световые волны пробегают по лицам. Вся картина подрагивает вместе с язычком пламени, рассеивая свет на перья курицы на насесте, бороду старика, пучок сена, упавший на ступеньки лестницы. Все дрожит от слабого, маленького, зарождающегося огня.
Так Рембрандт закончил свою «Жизнь Христа». Семь картин более чем за тринадцать лет. Семь картин, в которых для принца изложено его прочтение Евангелия, начиная со смерти и кончая Рождеством. Рембрандт выразил в них свою безраздельную веру в Христа и показал: все, что находится за ее пределами, — не его стихия. Он зрит духовное в его телесном воплощении. Он не может постичь его иначе, поскольку он художник, и для него дух — есть свет в теле человеческом. Остальное кажется ему домыслами пишущих словами.
Он был занят этой работой с двадцати семи до сорока лет, ввязавшись в это дело, чтобы встряхнуть теплокровных, однако постепенно его желание пробудить сердца переродилось в стремление обратить живопись в средство преобразования тел материальных в тела духовные. Его искусство стало некоей непрерывной песнью, в которой сочетаются все голоса, от баса до тенора, окутывая нас покровом, сотканным из света и тени, беспрестанно видоизменяющимся в ритме дыхания.
В центре картины «Поклонение пастухов» — глаза прохожего, не посмевшего войти и смотрящего сквозь щель в стене, и это его глаза. Они напоминают, что писать картины — значит жить тем, что пишешь.
«Жизнь Саскии»
«Жизнь Христа» и «Жизнь Саскии» — два пути, на которые Рембрандт вступил на двадцать седьмом году жизни. Жизнь Саскии и жизнь с Саскией. Девушка, ставшая его женой, снует по его дому и одновременно мелькает в его картинах, гравюрах, рисунках — порой эти две линии пересекаются.
Рембрандт хотел создать вместе с ней новое искусство, искал его основу в их любви, опираясь на легендарные образы поэзии и искусства. И она будет присутствовать в его работах — иногда как Саския, иногда помимо себя самой: в выражении лица, жесте, манере держаться, придавая помимо его воли что-то свое лицам молодых женщин, рождающимся под знаком нового видения. Образ любимой женщины вышел за рамки того, что сама она считала границами своих владений. Детали ее портрета явятся повсюду. Ее след будет заметен в его творчестве и после ее смерти.
Саския рожала детей и пристально смотрела на них, воображая себе их судьбу. Рембрандт создавал картины, на которых Саския была едина и многолика. И все это происходило в единой канве жизни.
В перерыве между портретами дам в черном — в шляпке, жабо, без шляпки, с кружевным воротником, и господ в черном — в жабо и шляпе, без шляпы, с кружевами и без, Саския пришла и села перед ним, как тогда, когда он рисовал ее серебряным карандашом на пергаменте. Теперь он пишет ее маслом. Саския вновь оказалась в положении девушки, которую испытующе изучает мужчина, выбранный ею в суженые, девушки неуверенной и заинтересованной в результате — в том, какой образ выйдет из-под его кисти. Для этого портрета она надела платье с вырезом, расшитым золоченой тесьмой, с батистовым нагрудником, доходящим до шеи, до самого жемчужного ожерелья. Она завила и уложила волосы, на лбу ее красуется самоцвет, висящий на золотой цепочке, в прическу заправлено перо, подрагивающее над ее головой; уши с жемчужными серьгами прикрыты покрывалом, спускающимся на плечи. Она украсила себя как могла, спрятав под покрывало уши, которые считала некрасивыми. Но ведь и он прячет бородавку под усами.
Рембрандт разглядывает ее: каштановые волосы, ореховые глаза, бледная кожа, чуть розоватая на щеках, маленький круглый нос, красные губы, маленький подбородок с красивой ямочкой. Рот немного великоват, а шея полна. Он ничего не подправит. Это не портрет на заказ. Он изучает лицо своей жены.
Красавица? Наверное, он так ей сказал. Это подходящее слово. Когда пишешь портрет жены, заново открываешь для себя ее рот, волосы, шею, взгляд, эта работа слишком серьезна, чтобы подделать хотя бы единую черточку. Кисть послушно передает колыхание черного шелка, оттенки белого батиста, блеск жемчуга. От пера, кажется, ускользнет лишь игра легких коричневых тонов. Ничего лишнего. Никаких изощрений.
Возможно, впоследствии Саския сказала ему, что на этом портрете она выглядит печальной. Поэтому в день, когда она пришла к нему в другом платье — на сей раз зеленом, украшенном бахромой и сплошь покрытом шитьем, он надел ей на голову свою собственную шляпу с пером — широкий коричневый берет с прорезями и золотой цепочкой. Она погляделась в зеркало, рассмеялась и сдвинула берет на ушко. Он вызеленил перо, чтоб оно сочеталось с ее платьем. И для пущего веселья надел ей на руку свою перчатку — большую мужскую перчатку, в которой утонули ее маленькие пальчики. От смеха у нее выбилась прядь волос, появились морщинки у глаз и ямочки на полном лице.
Красавица? Самое главное, он еще никогда не изображал ничей смех. И первым станет смех Саскии. На своем собственном портрете, который он напишет, чтобы повесить на стену рядом с портретом жены, он изобразит себя доверчиво смотрящим из зеркала, в той же шляпе, прячущим глаза в такую же тень. Для большей уверенности в том, что он не выглядит как обычный клиент, назначающий время сеансов у Эйленбюрха, он нацепил стальной нашейник — ту самую часть старинных доспехов, которую всюду таскал с собой с самого Лейдена. И добавил золотую цепь, прикрепив ее на плече богатым неграненым самоцветом.
На кого похожи они оба в одинаковых шляпах с пером — она, прыскающая со смеху, и он, сохраняющий серьезный вид? На тех, кем сами хотят быть. Он в свои двадцать восемь и она в двадцать один уверены в том, что они не хотят быть торговцами, церковнослужителями, управляющими, членами магистрата, лекарями, составляющими клиентуру художника. Они хотят жить вне повседневной рутины.
Смех для нее, кираса для него — что это, маски? Рембрандт предложит ей многие другие. Он переберет береты с ворохом перьев, которые можно увидеть у Луки Лейденского, красную шапку ландскнехта — огромную, с большим белым пером, старые бархатные нагрудники, скрепленные золотыми цепочками, воротники с золотым и серебряным шитьем, спускающиеся на самые плечи. Ведь он хочет, чтобы его жена выглядела, как принцессы Лукаса Кранаха, как его Юдифь, Саломея, Венера, Лукреция, как Мария Магдалина Яна ван Скорела. Ради нее он возрождает красоту тканей, шитья, драгоценностей, которая была утрачена в его эпоху и которой благодаря ему она возвращает жизнь.
Саския восторженно приняла игру. Ради Рембрандта она превратилась в одну из тех чаровниц, которых Реформация изгнала за порог, страшась роскоши и суетности, в то время как великолепие тех женщин оправдывалось тем, что они должны были выглядеть достойными преданий, круживших головы мужчин.
Рисуя портреты госпожи ван Рейн в столь странных одеяниях, Рембрандт был одновременно доволен и смущен. Разве он не достиг поставленной цели — соединить живую плоть своей жены и предания, в которые он пожелал ее облечь? И потом, если он и попрал правила аллегории, то разве не на пользу мысли, которая не боится тайн?
Позднее, когда Саския ждала ребенка, он писал с нее фигуру плодородия. Ее распущенные волосы струятся до самого пояса. Она стоит, прикрыв платье полой плаща, оберегая свое чрево, и держит в руке жезл, увитый цветами и листьями. На голове у нее в нежно-зеленом венке из молодых еловых веток целый букет цветов — красных, белых, розовых, а также драгоценнейший и роскошнейший тюльпан, распустившийся над ухом с жемчужной серьгой. Богиня весны и цветов? Скорее, Саския, расцветшая в темном саду среди растений и вынашивающая их ребенка. Не латинское божество, подставляющее всем ветрам детородные органы растений, а таинственное видение, являющее взгляду лишь свое лицо и руки, красота тела которого сокрыта под длинными складками зеленого плаща и тяжелыми рукавами с волнистым восточным орнаментом. Бесстрастное лицо ничего не говорит о плодородии. Посулы весны выражены лишь натянувшейся на животе тканью. Смысл ясен: цветы, вновь зазеленевший жезл, эта женщина, подобная статуе Флоры в парке, — все содержит в себе идею весны. И все же Рембрандт не оставляет ее спокойно торжествовать в зеленых кущах: он нагнетает тревогу. В тени между лицом и цветущим жезлом разверзается бездна — опасная каверна, зияющая тьмой. Художник явно хочет показать хрупкость, эфемерность мифологического существа. В мире нет ничего неуязвимого, и вечные силы возрождения человека или природы сами находятся под угрозой не менее вечных сил смерти.
На следующий год, снова беременная, она захотела, чтобы он опять написал с нее образ молодой женщины с зеленеющим жезлом; на этот раз он накинул ей на волосы лишь легкое прозрачное покрывало, венок из мелких цветочков и стебель дикого цветка, колышущийся подобно перу. В руке у нее охапка цветов с тюльпаном, которая прикрывает и оберегает выступающий живот. Вырез на груди шире, у платья те же широкие восточные рукава. Все такая же живая статуя, но на сей раз улыбающаяся, сияющая — торжествующая фигура плодородия.
В 1634-1635 годах Саския царила на полотнах своего мужа — и в писанных с нее портретах, и в образах героинь мифов, которых она воплотила. На портретах, где ее голова покрыта прозрачным вышитым покрывалом, она — сама нежность их великолепного уютного дома. Но если Рембрандт снова нахлобучит ей на голову берет с пером и наденет огромную перчатку, осыпанная драгоценностями, она станет безжалостной красавицей, царицей мира. Жемчуга и ожерелья — не только украшение ее прелести, но и знак ее могущества. Чередование покорной и властной Саскии — образ переходящей власти внутри семьи. Дом становится бескрайним, как мир: художник открывает для себя в спальне, на супружеском ложе, слияние мужского и женского начала, их единение в шатком равновесии — едва достигнутое, сразу потерянное и вновь обретенное; дуэт голосов, где поочередно преобладает то высокий, то низкий.
Он снова раздумывает над тем портретом, где Саския смеется. Она все так же снует по дому, шалит, забавляется театральными украшениями, обнаруженными ею в сундуке, одеждами, которые она примеряет, — невообразимыми в наглухо закрытом обществе. Но на картинах и гравюрах он больше не изображает этот смех.
Картина — это сито. Через нее просеивается протекающая жизнь. Художник работает с тем, что осталось. Но человек порой задумывается о том, что отвергает живописец: например, об утрате смеха. Он спрашивает себя, не получится ли так, что его непримиримость, неистовство, бесчинства в искусстве (а на самом деле сила, побуждающая его вкладывать в каждое произведение такое богатство чувств, что изображение всегда становится неоднозначным благодаря соединению страдания и наслаждения), не случится ли, что трагизм его темперамента сделает жизнь Саскии полной опасностей. Ведь она прекрасно поняла, что, войдя в жизнь Рембрандта, вошла и в его искусство, что ей не избежать тех образов, которые он пишет, и что ее собственная жизнь все теснее связана с холстами и медными пластинками офортов.
Можно со всем основанием полагать, что она согласилась стать единой и многоликой, примерив золотые украшения и жемчуга, мужские шляпы и одежды мифологических героинь; ей нравилось творчество вдвоем. Рембрандт хотел, чтобы она поселилась в его живописи. Не в роли статистки, хотя в его «Проповеди святого Иоанна Крестителя» кисть улавливала сходство — то с матерью в капюшоне, то с Саскией в экзотическом костюме. Он хотел, чтобы она воплотилась в череде героинь, чьи портреты он писал один за другим, создавая целую галерею великих мифологических сюжетов с женским началом. В те времена для изображения аллегорических фигур все художники пользовались иллюстрированными справочниками, в которых были указаны поза, костюм, атрибуты каждого персонажа. Рембрандт не уклонялся от обязанности соблюдать эти условности, но наотрез отказывался наделять мифологических героинь идеальным лицом, как это было принято. Он желал, чтобы у них было лицо Саскии.
Так что та королева с жемчугом на лбу, в ушах, на шее, на руках, одетая в восточный костюм, сидящая у стола, покрытого ковром, на котором раскрыт огромный манускрипт, — прежде всего Саския. Да, Саския — это та беременная женщина, указывающая на свое чрево, которой коленопреклоненная служанка подает некий напиток в раковине наутилуса, превращенной в чашу трудами ювелира, а старуха, стоящая в тени, наблюдает за этой сценой: Саския, то есть Софонисба, не желая украсить собой триумф Сципиона, предпочла выпить яд, присланный ей мужем.
Он предложил беременной супруге умереть. Конечно, Рембрандт рассказал Саскии историю Софонисбы. Должна ли любовь присутствовать в их игре? Да, поскольку они примеряют на себя образы героев легенд и так же легко с ними расстаются. Переодевание. Всего лишь маскарад. Впрочем, нравится ей эта игра или пугает, она не может от нее отказаться. Рембрандт столь хорошо владеет ее лицом, что может написать его с любым телом, в любом костюме. Она царит в его мыслях. Безраздельно. Даже в самых жестоких сюжетах, которые он изображает.
В галерее сказочных героинь он теперь делает из нее Минерву. Он оставил ее жемчужные серьги и ожерелье, оставил нагрудник. Накинул на шелковое платье тяжелый плащ, скрепив его застежкой, отделанной ювелиром, и возложил на голову венец. Греки изобразили бы ее стоящей, в шлеме, вооруженной копьем, с совой на плече. Он представил ее в современном образе, среди книг, с глобусом, сидящей, как положено, за голландским столом, покрытым сукном, а позади нее — шлем, копье и щит с головой Медузы. Рисуя ее Минервой, он показал величественность немного полных пальцев, лежащих на раскрытой книге, твердость руки, опершейся на подлокотник кресла, а главное — уверенность во взгляде. Не из тех ли она женщин, что могут изменить судьбу человечества?
Но Саския будет и Эсфирью, сумевшей отвратить от евреев избиение, подготовлявшееся персами, имевшей мужество открыть своему повелителю, что она сама еврейка и что изменник визирь обманывает его. Эсфирь была любимым образом протестантов, когда они подвергались гонениям за веру. Позднее она стала героиней иезуитов и папистов. На своем эстампе Рембрандт не бросил ее к ногам Артаксеркса и не отправил на пир, где она указала царю на предателя, как это делал в эпоху Лейдена и Ливенса. Он изобразил ее сидящей с распущенными волосами, с лицом, выражающим решимость и доверие. Вложил ей в руку бумажный свиток — прошение. Что еще нужно? Достаточно потаенного смысла очертаний, тени и света.
Неужели у Саскии такие длинные волосы, что покрывают ее до пят? Рембрандт теперь может сделать ее какой угодно: в греческой мифологии и античной истории, в еврейской истории и преданиях Нового Завета она, темноволосая или русая, станет главной героиней величайших мифов его культуры. Вплоть до очень странной картины, работа над которой шла в его мастерской по мере приближения рождения их первого ребенка и где он во второй раз в своем творчестве изобразил смех. Теперь смеялся он сам, играя роль блудного сына, предающегося разврату.
Однажды ему понадобилось, чтобы Саския стала и блудницей, женщиной, участвующей в пирах, как на картинах итальянцев и утрехтских художников, царственной шлюхой, одетой так же богато, как Флора, королевы, принцессы и Лукреции Лукаса Кранаха, Марии Магдалины ван Скорела, Венеры Тициана. У нее должен быть благородный вид. Ее одежды и украшения должны говорить о высоком положении. Хотя эта пышность и не должна скрывать того, что она потаскуха, и достаточно иметь деньги, чтобы делать с ней все, что угодно.
Ибо среди тех, что правят человечеством, Рембрандт видел и великую Вавилонскую блудницу, то есть, переводя на повседневный язык Голландии и всего XVII века, куртизанку и ее дуэнью, которые в те же самые времена не давали спать Жоржу Латуру в Лотарингии и Яну Коссирсу в Антверпене.
Итак, он посадил женщину себе на колени. Одетый по-военному, со шпагой на поясе, в берете с пером, он держит ее за талию и со смехом поднимает большой бокал с золотистым вином. В отдельном кабинете. Занавеси скоро будут задернуты. Нож лежит на столе. Они разрежут курицу в павлиньих перьях, круглый пирог с горделивой головой павлина, крыльями и огромным хвостом, который вытянулся, колыхаясь, до самой стены. Заготовлены другие бокалы. На женщине шелк Флоры, бархат дамы в шапке ландскнехта. Саския — блудница, Рембрандт — развратник. Через мгновение все потребности будут удовлетворены — голод, жажда, желание. Точнее, свершится грех чревоугодия и сладострастия. Рембрандт, уже под хмельком, посмеивается. Саския едва улыбается. Здесь она — профессиональная развратница, которая только начинает свой вечер и будет бдительно следить за тем, чтобы ее прическа не растрепалась, а одежда не измялась.
Но смех Рембрандта донельзя печален. Он не пристал окружающей роскоши. Убранство и костюмы изысканны, но во всем этом чего-то недостает. Рембрандту не удается забыться в беззаботности веселых вечеринок, до которых столь охочи художники Утрехта и Харлема. В обстановке, в которую он поместил их обоих, он мрачен. И она — почему, сидя у него на коленях, она так напряжена, так чопорна? Почему они не смеются вместе? Кто из них двоих не захотел довести опыт до конца? Наверное, это именно он отступил посреди картины. Ибо он хотел показать печаль греха. Саския бесстрашно подхватила игру. Он изобразил гуляку. На этой встрече в отдельном кабинете настоящая любовь не сорвала с них маски. Они оба разыграли сатирическую комедию нравов. Грустную. Назидательную.
Тем не менее картина говорит об обратном.
На ней огромное счастье: длинная волна красно-золотого шелка на руке Рембрандта вкруг мелкой ряби тысячи складок на платье Саскии, пена белого пера на черном берете, подрагивающего своими бесчисленными волосками на фоне колышущихся глазков павлиньего хвоста, а в центре картины — буйные вихри расцвеченного счастья. Если любовь и покинула героев, она осталась на картине, запечатлевшей ее в кругах, концентрических овалах, поднимающихся с бахромы бархатных штанов через пышные складки шелковой юбки до самых занавесей, которые вздымаются от последних дуновений этой исключительно пластичной страсти.
Вероятно, они оба были смущены столкновением печали жизни и радости на картине, поскольку Рембрандт на маленькой, почти квадратной гравюре, 10 сантиметров в ширину, постарался расставить все по своим местам, сняв с Саскии ее сказочные одеяния и нарядив ее в повседневную одежду, в обычный чепец. Себе он оставил только шляпу с пером. Вот они, разгримированные актеры, снявшие с себя облачение роли. Глядя в зеркало, он видит художника с резцом в руке за гравировкой, с усилием вычерчивает себя на меди, врезается в нее, чтобы получить насыщенный, глубокий черный цвет. В тени, отбрасываемой беретом на его лицо, он подчеркивает пристальность взгляда, исследующего человека. Он занимает первый план.
Позади него, по ту сторону стола, сидит на стуле Саския и смотрит на него — на него, а не в зеркало. Он видит, как она на него смотрит, и изображает ее легкими штрихами, как сопутствующую фигуру. Она действительно следует за ним даже в самые опасные картины, одновременно поодаль и рядом, отстраненная и необходимая, и на ее лице тень усталости и тревоги. Кажется, он думает: она всегда будет со мной. А она спрашивает себя: как далеко зайду я вместе с ним?
Этой гравюрой Рембрандт напоминает, что он ведущий, а она ведомая, что в театре декораций они вместе становятся другими людьми, а затем словно возвращаются домой, и он снова превращается в художника из Амстердама, пишущего заказные портреты, а она — в жену художника, ожидающую первого ребенка.
С самой свадьбы они жили у дяди Хендрика Эйленбюрха. Рембрандт ни в чем не изменил своего образа жизни. Однако с появлением ребенка потребуется более просторное жилище. В то же время не мешало бы и для мастерской подыскать более подходящее помещение. Он нашел склад на Блумграхт (Цветочной набережной). Это не очень далеко, хотя нужно пересечь весь город, пройти через новые кварталы, появляющиеся вдоль трех новых параллельных каналов, и последний канал. Семья же теперь снимает квартиру в доме по Ниуве Доеленстраат, рядом с больницей, где живут опекуны Саскии — пастор Сильвиус и его жена Алтье. И вот на этой тихой, хотя и людной улице, поскольку здесь проживал важный в Республике человек — Пенсионарий Бореель, родился их первенец, мальчик, которого 25 декабря 1635 года торжественно отнесли в Олдекерк (Старую церковь). В церковной книге расписались крестные — пастор с женой, дозволившие Саскии выйти замуж за Рембрандта, и свояк Франс Купаль, приехавший вместе с женой Тицией, сестрой Саскии. Он на несколько дней покинул свой пост водного контролера во Влиссингене в Зеландии, чтобы принять участие в празднике. Мальчика назвали Ромбартусом в честь отца Саскии.
В новом, еще полупустом доме Рембрандт запечатлел событие на рисунке. Лежащая Саския приподнимается под одеялом, чтобы взглянуть на ребенка, укрытого от зимних сквозняков в длинной, стоящей на полу люльке из кожи, ивовых прутьев и ткани. Весь рисунок устремлен в направлении этого взгляда, тянущегося к новорожденному, который скрыт ото всех, кроме матери. Необычный рисунок, потому что он подчеркивает разлучение двух существ, которым следовало быть прижатыми друг к другу, — матери и дитяти. И снова в многообразии проявлений материнства Рембрандт выбрал момент отдаления, когда взгляд остается единственной связующей нитью между матерью и ребенком, в отличие от привычных для того времени штампов: оберегающих жестов, поддерживающих рук, склоненных соприкасающихся голов.
По рисунку можно судить об обстановке в доме: в спальне стоит большая кровать с колоннами и плотными занавесями. Подле кровати, на низком столике — миска. Перед окном, на подоконнике — кувшин. Больше никакой мебели, только филенка вдоль стены. Никаких картин. У них не было времени устроиться по-настоящему.
Ромбартус проживет только два месяца — два месяца радостей и тревог, и 25 февраля 1636 года похоронная процессия отправится не в Олдекерк, а в ближнюю Зюйдекерк (Южную церковь). Маленький надгробный камень будет изображен на гравюре.
Смерть первенца. На Амстердам вдруг спустилась зима, и в них поселился холод. Врачи говорили о лихорадке.
Рембрандт написал Константину Хейгенсу, что «Вознесение Христа» для статхаудера готово. Он ничего не сказал в своем письме о горе, посетившем его дом. В этом «Вознесении» он изобразил в облаках порхающих ангелочков. Куда еще могут отправиться души умерших детей?
Рембрандт все пишет, а Саския снует по дому, но какой-то период их жизни закончился. Возможно, двойной портрет в образе распутников обозначил конец того этапа, когда фантазии в жизни и в живописи существовали словно бы слитно. Возможно, беременную Саскию нельзя было вводить во все образы без угрозы для их благополучия: видно, жизнь не могла вынести напряжения искусства.
Тем не менее художник не хотел оставить игру на проигрыше, на той любовной мелодии, звучащей так отчаянно фальшиво между пьяным Рембрандтом и безразличной Саскией. Он начал картину, исполненную любви, картину красоты и неги, с такими же радостными красками, как и та, но здесь радость — преддверие праздника, который на этот раз должен состояться.
«Даная»
Женщина обнажена. Она поднимает глаза, рот ее приоткрыт, на лице — любопытство. Рембрандт облек ее только в браслеты из жемчуга и кораллов. Ее тело, возлежащее на подушках, появляется из-под откинутых простыней. Движения медленны. Вся картина состоит из плавных колыханий, изогнутых волн. На краю бассейна из полированного мрамора — альков резного позолоченного дерева: причудливые стойки и опоры взвиваются завитками друг напротив друга, в выступах, похожих на лопнувшие почки, чередуются головы львов и пасти китайских драконов. Женщина — сокровище, спрятанное в конце лабиринта, в самой заветной пещере.
Все дышит любовью — примятые подушки, взбитая перина, откинутые простыни, еще ласкающие ее, и туфли, брошенные на ворсистый шерстяной ковер после принятия ванны в бассейне, зияющие на полу, как зияет отдернутый полог — последнее препятствие, отстраненное на пути к этой женщине, призывно протягивающей руку. Праздник состоится, все здесь возвещает об этом. Вокруг нее все вздымается и приоткрывается, сопутствуя ему.
Еще никто не писал такого. Даже Тициан, даже Веласкес, даже Рубенс не создали полотна, которое источало бы негу любви с такой эротической осведомленностью. Рембрандт это знает. Знает он и то, что картину нельзя показывать ни в одной стране. Ее необузданная сила этого не позволяет. Как Распятый из его юности был нестерпимым криком терзаемого человека, еще не получившего удара копьем, так непереносимо зрелище этой женщины в ожидании наслаждения. Однако достаточно перечесть в Библии строки «Песни песней», чтобы увидеть, сколь естественно воспевать: «Пусть придет возлюбленный мой в сад свой и вкушает сладкие плоды его; левая рука его у меня под головою, а правая обнимает меня». Как же мы читаем Библию, не воспринимая ни физической боли, ни физического наслаждения?
Тогда почему же над этой женщиной с великолепным, нежным и юным телом, в позолоте ее ложа изображен Купидон со связанными руками, с искаженным болью лицом? Почему фигура, откидывающая полог, не может совершенно сойти за сводню, служанку, дуэнью, которой свойственно исполнять такие обязанности?
Господин, который сейчас войдет, — по меньшей мере Зевс, по меньшей мере царь богов, — бросит ей золотые монеты, чтобы она исчезла. Но у этой старухи острый длинный нос, а на подбородке топорщится щетина. В руке у нее связка ключей — атрибут ее ремесла. Но почему, в то время как прислуга такого рода обычно носит чепец или колпак, Рембрандт надел ей на голову берет красного бархата? А эти длинные тонкие палочки, которые она держит в руке, — может быть, это кисти, а не ключи?
Золотой свет усиливается в изголовье кровати, возвещая приближение Господина, и на картине художнику отводится роль старой сводни, прислуживающей красоте. Эта ужасная мысль, наверное, пришла к нему не сразу. Рембрандт будет работать над своей «Данаей» добрый десяток лет. В противоположность картине печального разврата, теперь уже он не написал обнаженную Саскию и не изобразил впрямую себя самого. Однако это любовное произведение, ставшее гимном женскому телу, явно подпитывалось его любовным опытом с женой, рядом с которой ему удалось изобразить себя лишь пьяным клиентом. Более того, картина свидетельствует о том, что жизни и творчеству все труднее развиваться вместе.
Отныне он больше никого не станет вовлекать в превратности своего творческого пути. Он оставит их в удел себе. Конечно, одежды и драгоценности мифологических героев по-прежнему лежат в сундуке. Но надевать их будут только для развлечения. Галерея портретов великих героинь завершена. Их чета обожглась. Рембрандт вновь станет изучать повседневную Саскию, ту, которую он посадил рядом с собой на мирной гравюре: себя за медной дощечкой и ее слегка в отдалении — он ведущий, она ведомая, но теперь всегда остающаяся самой собой. Он увидит ее задумчиво глядящей в окно, прижавшей пальцы к губам или опустившей глаза на книгу. Он настолько овладел ее образом, что ее черты и выражения вечно будут проявляться то тут, то там. Конец эпохи не означает конца любви. Он еще будет писать ее портреты, рисовать ее, изображать на гравюрах, но больше никогда — в образе царицы с ядом или блудницы.
Ему тридцать лет. Он посмел поставить себя среди казнителей Христа и едва избежал роли сводника Данаи. Если вера — это сопричастность, то любовь, наверное, — испытание, где человек совершенно один. Любовь опаснее. Если только эта обнаженная фигура в постели не есть размышление о смысле художественного творчества, вещественно выражающегося в картинах, поэмах, музыкальных произведениях, но в то же время нереального, потому что оно может быть лишь комментарием к жизни? Они с Саскией до сих пор произвели лишь одного ребенка, и ребенок тот умер. Они не преодолели границ живого, добавив жизнь к жизни. И на своей картине Рембрандт написал тело, полное любви, но не любовь. Он смотрит на себя в зеркало и удивляется: наивный! Что он возомнил? Однако он довел свое творчество до точки воспламенения, обжег себе глаза и душу, каждое произведение исчерпывало его полностью.
Но нужно знать, что делаешь, какого уровня реальности достигаешь, и понимать, что это будет ближе или дальше от жизни, но никогда не станет самой жизнью. Ему нужно привыкнуть к тому, что его творчество вторично, что оно может продвигаться вперед, лишь заключая в себе противоположное начало, уничтожающее его. Как удается итальянцам, Рубенсу не нести в себе отрицания того, что они делают? Даже когда они пишут автопортреты — всегда показывают себя в лучшем свете. Их искусству не хватает его сомнений, но он не был бы Рембрандтом, если бы у него их не было. Это его недостаток — всегда видеть себя в зеркале нелепым. Устанет ли он когда-нибудь срывать красивую оболочку, чтобы показать то, что скрывается под лакировкой? Нет, ибо он должен принимать себя во всеобъемлющем видении, которое ему свойственно, в котором недостатки неотделимы от достоинств, а разрушение соседствует с созиданием.
Подлинность мира и есть такая двухголосная песнь. Он проверяет это на своей живописи, где, не добавляя цветовой гармонии, делает неразделимыми рисунок и колорит.
Наложив на холст прочную основу и создав композицию, расположив прогалины тени и проблески света, он работает над фактурой живописи, вкладывая в одно движение кисти жест персонажа, оттенок его кожи, сияние его глаз, тень в сгибе его ладони. Все сразу. Он разминает эту глину, овевает ее своим дыханием и превращает из безжизненной в живую. Потоки живой силы, брызжущие на холст, несут в себе все сразу. Живопись — это живая ткань без швов. Воздух — не пустота, все обращается в нем — все то, что ветер, который и есть живопись, приносит в момент написания картины; так становятся живописью платье, дерево, из которого сделан стол, ткань берета, отсвет на лбу, образуя беспрерывную поверхность, благодаря которой мир вновь обретает изначальную целостность. Произведение рождается из непосредственно изливающейся силы. Это не мешает художнику неоднократно его переделывать, но всегда по той же методе, ибо то, что он создает на холсте, неразъемно. От этого ничего нельзя отделить. И пусть его присутствие, закрепляемое изображением на картине, настолько близко к живому, насколько это вообще доступно человеку, — творение остается изображением. Надеялся ли он на большее? Конечно. И поэтому, словно бабочка, которую стекло вечно отделяет от огня, он никогда не перестанет стремиться пробудить в холсте как можно больше жизни.
Отныне жизнь Рембрандта и Саскии размерена событиями жизни обычных супругов. Рембрандт покупает произведения искусства на аукционах. Поначалу, поскольку там его не знали, в записях сообщалось, что он делает приобретения для Хендрика Эйленбюрха — например, 27 февраля 1635 года: рисунок Адриана Броувера за 1 флорин и 10 стейверов. Он часто будет покупать эстампы и рисунки целыми сериями, без уточнений. Понемногу расходы его росли. Например, 14 марта 1637 года он вернулся домой с папкой гравюр, за которые заплатил 36 флоринов и 6 стейверов, и с эстампом Рафаэля за 12 флоринов. Два дня спустя он приобрел стопку белой бумаги за 4 флорина и 12 стейверов, а 19 марта потратил 655 флоринов и 10 стейверов на несколько разных произведений, в том числе одно работы Констбука, и серию эстампов Луки Лейденского (аукционная цена ее одной составила 637 флоринов).
Саския от него не отставала: 8 октября того же года в лавке торговца Троянуса Маестриса именно ей, а не Рембрандту, была продана большая картина Рубенса «Леандр и Геро» за 424 флорина 10 стейверов и 8 пеннингов — широкое полотно более двух метров в длину, на котором Леандр пускается вплавь в грозу, чтобы соединиться со своей возлюбленной. Бурное море состоит из волн, женских тел и змей. Леандр в нем утонет.
Положение в стране улучшалось. Стало известно, что голландские войска отбили Хертогенбос, затем Бреду. Едва успел испанский король повесить в своем дворце картину, заказанную Веласкесу, — «Сдача Бреды», — как крепость выскользнула у него из рук. Искусство и современность. Страна узнала и об учреждении фактории в японском городе Нагасаки, что явилось большой экономической и политической победой, так как голландцы были единственными иностранцами, которых терпели японцы. Вскоре, чтобы там удержаться, им придется участвовать в избиении 40 тысяч японцев-католиков, обращенных в свою веру португальцами. Но кто об этом узнает, да и где это — Нагасаки? Правда, амстердамские печатники издавали новые карты Азии.
Так жизнь шла своим чередом. Рембрандт узнал о смерти Адриана Броувера, которому едва исполнилось тридцать два года. Саския узнала о смерти своей старшей сестры Елтье во Фрисландии. Она снова беременна.
3 января 1638 года. Рембрандт и Саския идут в театр.
Архитектор Якоб ван Кампен только что построил его в новом квартале Кейзерсграхт, на берегу канала. Это классический театр, где ложи доходят до самого края сцены, на которой установлена неразборная конструкция из храмов, колоннад, балюстрад с античными бюстами, за которыми открываются двери и перспективы садов, городов, оканчиваясь решетками для сцен в тюрьме, что создает множество вариантов места действия пьесы.
В тот вечер играли пьесу Йооста ван ден Вонделя «Гисбрахт ван Амстель». Это трагедия, в которой голландская история уходит корнями в «Энеиду». В рождественскую ночь принц Гисбрахт осажден в своем родном городе Амстердаме. Враги делают вид, будто сняли осаду. На самом деле, воспользовавшись хитростью противников Трои, они вносят в город вязанки хвороста, в которых прячутся солдаты, и Гисбрахт, несмотря на свою храбрость и все усилия своих войск, вынужден бежать и основать — нет, не Рим, а новую Голландию в Пруссии. Так на сцене рождалась национальная эпопея на национальном языке.
Первое представление, назначенное на 26 декабря 1637 года, было перенесено на 3 января 1638-го, так как власти встревожила пьеса, где героически гибнет епископ в окружении не менее героических монахинь. Власти заподозрили, что автор возвестил этим эпизодом о своем обращении в папизм. Но, несмотря ни на что, «Гисбрахт» был принят восторженно. Рембрандт оставил нам рисунки актеров в удивительных костюмах и выразительных позах.
Однако тот 1638 год начался в январе с судебного процесса в Лейвардене, имевшего целью слегка поторопить фризцев уплатить Саскии то, что они получили от продажи земель из ее наследства; за ним последовал еще один, в июле, против людей, бывших с ними более или менее в родстве и обвинявших Саскию в разбазаривании отцовского наследства. Потребовалось призвать на помощь брата Ульрика — адвоката. По крайней мере пусть там, во Фрисландии, знают, что Рембрандт с женой не дадут из себя веревки вить, так что нечего чесать языки на их счет.
22 июля 1638 года. В церковной книге Олдекерк в Амстердаме запись о крещении Корнелии, дочери Рембрандта ван Рейна, художника, и Саскии ван Эйленбюрх. Крестные — пастор Сильвиус и Тиция ван Эйленбюрх.
13 августа 1638 года. В книге погребений Зюйдеркерк в Амстердаме запись о приобретении Рембрандтом, художником, маленького надгробного камня за 4 флорина.
Корнелия почти и не пожила. Сильвиус и его жена Алтье, праздновавшие ее рождение, теперь снова в трауре. Второй ребенок не прожил и трех недель.
Они хотят уехать из этого дома, где видели ее живой. Неподалеку от Зюйдеркерк, там, где протекает Амстель, они нашли дом на Званенбургерстраат, рядом с сахарным заводом и кондитерской под вывеской «Три сахарные головы», распространявшей на весь квартал запах карамели.
Смерть детей гонит родителей из дома в дом, все к новым спальням, новым окнам, новым лестницам, чтобы вдруг не увидеть отсвет исчезнувшей улыбки, не услышать эха детского лепета. 19 ноября 1638 года пастор Сильвиус умер. И Рембрандт знает, что его мать больна. Теперь умирают старики. Нужно встряхнуть этот рушащийся мир. Они покупают дом — большой дом совсем рядом с жилищем Хендрика Эйленбюрха на Синт-Антонисбреестраат.
Большой дом
3 января 1639 года в присутствии нотариуса ван де Пита совершена купчая крепость на дом между продавцами Кристофелем Тейсом и Питером Белтенсом и покупателем Рембрандтом ван Рейном.
Дом обошелся дорого: 13 тысяч флоринов и 20 стейверов, но продавцы пошли ему навстречу: Белтенс был компаньоном Эйленбюрха. Рембрандт должен уплатить 1200 флоринов к 1 мая — дате вступления во владение домом, 1200 к 1 ноября и 850 к 1 мая 1640 года, это составит четверть цены. Оставшиеся три четверти, то есть 9750 флоринов, он выплатит за пять-шесть лет под 5%, которые будут уменьшаться по мере погашения долга.
13 тысяч флоринов — крупная сумма, но вкладывать деньги в дом — верное дело. Хуже было бы спекулировать на тюльпанах, курс которых 27 апреля предыдущего года понизился на 100 пунктов, что многих разорило. Рембрандт же покупает дом, чтобы там жить, или приобретает произведения искусства, в котором хорошо разбирается, — картины, рисунки и эстампы. Другими словами, он тратит деньги с умом. Дом — настоящий дворец. Ни у одного человека свободной профессии в Амстердаме нет ему подобного. Даже дом доктора Тульпа на Кейзерсграхт не больше: три подвальные двери выходят на улицу, по ступенькам крыльца можно подняться в подъезд, из него — в два парадных этажа, по четыре окна на каждом, а на четвертом этаже — спальни, есть еще большой чердак с откидной дверью для подъема провизии — то есть восемь комнат и надстройка.
Дом простой, кирпичный, с регулярно чередующимися, также кирпичными арками над окнами, рамы которых выкрашены белой краской, стекла выложены из мелких квадратов, а ставни — из цельного дерева. По обоим концам фасада возвышается печная труба. Достаточно вспомнить дом, который выстроил себе Рубенс в Антверпене, чтобы понять, что Рембрандту не придется жить в той роскоши и пышности, которую фризцы приписывали Саскии. Но у него будет прочный и светлый дом, в котором можно разместить детей, установить пресс для гравюр и устроить художественную мастерскую, достаточно просторную для приема учеников, с помостом для натурщиков и печами для их обогрева, развесить на стенах приобретенные картины, разложить эстампы и принимать коллекционеров. Наконец, дом — его ровесник, он построен тридцать три года назад. Он проявил себя в деле. Крупных ремонтных работ в ближайшем будущем не предвидится. Подписанная купчая крепость содержит разумные условия, за исключением, пожалуй, тех процентов, которые придется выплачивать, но у него нет другого выхода, поскольку он не хочет прикасаться к наследству Саскии.
Благодаря тому, что новый дом расположен рядом с домом Эйленбюрха, они снова вернулись в квартал, где когда-то встретились. Возможно, им не надо было оттуда уезжать. В новом жилище все можно будет начать сначала, как будто и не приключалось ничего такого, от чего им пришлось страдать.
В городе только что прошли грандиозные празднества, длившиеся шесть дней, в честь прибытия французской королевы-матери, Марии Медичи, чей приезд сделал Голландию центром дипломатических переговоров редкой сложности. Французский король был разъярен тем, что принц Оранский с такими почестями принимал его мать, а для амстердамского люда с 31 августа представилось роскошное зрелище королевских и статхаудерских кораблей, сменявших друг друга на каналах, в окружении барок с изображениями аллегорических фигур, античных божеств. Сильные мира сего совершали свой путь со свитой богов. В честь королевы-матери, которую принимали в ратуше, в ресторане при одной из самых крупных гостиниц города на Ниувендейк был устроен пир. Весь город жил в унисон с празднествами, а художники отозвались на них по-своему: один создал серию гравюр в три метра длиной, изобразив на них королевский кортеж; шестеро других написали на заказ групповые портреты патрулей городской милиции, где офицеры и унтеры были изображены в самых красивых костюмах в память об их присутствии на праздниках. Эти картины намечалось выставить в залах для стрельбы, рядом с большой башней Цвейг-Утрехт. Заказы получили шесть художников, в том числе Рембрандт и его сосед Николас Пикеной.
Саския снова беременна. Позвали обычных крестных — Франса Купала и Тицию ван Эйленбюрх, которую однажды вечером Рембрандт быстрыми штрихами нарисовал за шитьем, со склоненной головой, с очками на носу.
Младенца, Корнелию ван Рейн, отнесли крестить в Олдекерк 29 июля 1640 года. Две недели спустя она умерла.
Вот и третий ребенок умер, а 14 сентября того же года в Лейдене умерла Нелтье. Говорят, там свирепствует чума. Во всяком случае, перелистывая календарь того времени, встречаешь только даты смерти. 15 июня 1641 года: смерть Тиции ван Эйленбюрх; 26 декабря 1641 года умер Геррит ван Лоо, муж Хискье, из прихода Святой Анны. Жизнь дает отпор. Саския производит на свет мальчика.
22 сентября 1641 года семейный кортеж снова отправился в Олдекерк. Крестные маленького Титуса — вдова Сильвиуса Алтье и Франс Купал всегда готовы принять участие в крестинах; они — вечные оптимисты, утверждающие, что все будет хорошо, а несколько недель спустя после крестин покорно идущие за гробом.
Саския с Рембрандтом считают дни, недели, месяцы. Шесть месяцев спустя Титус еще жив, но теперь Саскию одолела какая-то грудная хворь. Чтобы сдержать волну смертей, у Рембрандта есть только один способ: писать. Это не жизнь, но близко к жизни. В календарь, где одна за другой следуют даты смерти, нужно ставить даты написания картин; чтобы время не измерялось одним постоянным трауром, нужно писать и жить вместе с живописью. 9 апреля 1639 года он отправился на аукционную распродажу коллекций торговца Лукаса ван Уффелена. Взяв с собой немного туши, перо и альбом, он скопировал картину, представшую глазам покупателей. Это был портрет Балдассаре Кастильоне — гуманиста, поэта, автора трактата «Придворный», друга Рафаэля. Он умер сто десять лет назад, но все так же смотрел на того, кто стоял перед его портретом. Картина, 80 сантиметров в высоту, превратилась в маленький рисунок, наскоро нацарапанный между записями, сделанными на лету (кто покупает и по какой цене). Слабая зацепочка, заметка на память. Забрал картину Альфонсо Лопес, испанский торговец (и коллекционер) из Амстердама, отдавший за нее 3500 флоринов. Это слишком дорого для Рембрандта, все средства которого уходили на уплату за дом. Он мог бы добавить, что все равно был не в состоянии соперничать с покупателем, имевшим поручительство французского двора. Но он сделал набросок с картины, не зная, что Рубенс написал с нее копию.
Борясь со смертью, он написал портрет матери на деревянной панели овальной формы, нарядив ее в костюм, в котором любил раньше изображать ее в Лейдене: красивые одежды с длинными рукавами, меховой воротник с драгоценной застежкой, складчатая блузка, доходящая до подбородка, широкое, шитое золотом покрывало, спадающее с головы на плечи, подрагивая подвесками. Она опирается обеими руками на трость. Ее лицо, обрамленное покрывалом на лбу и лентой, завязанной под подбородком, как никогда, напоминает пергамент, морщинистое, точно старая кожа, но Рембрандт придал ему умиротворенность и спокойствие, в конце концов нисходящее на людей. Он написал мать такой, какой она навсегда останется в его памяти. Изобразив ее на гравюре в тяготах старости, с угасающим зрением, выпавшими зубами, делающей явное усилие, чтобы ощущать что-то еще, кроме заката собственной жизни, он снова обратил ее в чуткую пожилую женщину, всегда немного встревоженную и всегда доброжелательную. Он возвращал к жизни тех, кто ее покидал. Картину он пометил 1639 годом, когда Нелтье была еще жива, и подписал ее.
Так же он поступит с Саскией. Когда та, уже будучи больна, ожидала рождения Титуса, их четвертого ребенка, он нарисовал ее на большой кровати с колоннами, с головой, запрокинутой на подушки, с отекшим лицом, искаженным страданием. Врачи приходили и уходили, а он на своих рисунках запечатлевал историю ее болезни. Теперь Рембрандт хотел живописью стереть выражение боли с ее лица. Работая над портретом жены, он пригласил ее в свое пространство и в свое время, где отныне ей больше ничто не грозило — никаких приключений, никаких склянок с ядом или изображений мифологических героев, — она должна была лишь оставаться самой собой.
Именно в тот момент, когда ей это было особенно трудно, даже нестерпимо, он написал самое нетленное ее изображение. Саския с красным цветком в руке — тем самым цветком, который был у нее, когда он нарисовал ее серебряным карандашом на листе пергамента. На рисунке она просто держала цветок. На картине она протягивает цветок ему, а левой рукой, прижатой к груди, указывает на то, что цветок — дар ее сердца. Между рисунком и картиной пролегло восемь лет. Саския не изменилась. Видно только, что она стала увереннее в себе. В мир вернулось спокойствие. Саския, как Нелтье, заняла свое место в непреходящем искусстве, где смерть их пощадит. И Саския вошла в него такой, какой видел ее муж, неизменно правдиво изображавший ее полноватую шею, нежную руку и светлый взгляд. Она смотрит на него с уверенностью, что не может причинить ему никакого зла. И он отвечает на взгляд исполненной доверия Саскии, нарядив ее в платье с легкими золотыми цепочками, украсив жемчужными серьгами и ожерельями, браслетами, которые ей нравилось носить, — эта элегантная женщина с вьющимися волосами, легкими волнами спадающими на плечи… На портрете никак не отражена тоска матери, потерявшей троих детей. Или страх художника перед болезнью жены. Он поместил Саскию в свою любовь такой, какой в конечном счете она ему являлась, неизменно пребывая рядом.
Двумя годами позже, в 1643-м, уже после ее смерти, он захочет снова написать ее портрет, очевидно, в канун десятой годовщины их помолвки. Он изобразит ее в гораздо более пышных одеждах, с жемчугом в волосах, не забыв на сей раз обручального кольца, которое она носила; в этом посмертном произведении молодая покойница уже отдалилась от него. Картина не получилась такой же жизненной, как портрет 1641 года. Сила художника слабела по мере того, как образ Саскии стирался из его памяти, ее шея — уже не совсем ее шея. Остался лишь доверчивый взгляд, который она посылает ему. Молодость и изящество других молодых женщин неуловимым образом подменяют собой ее черты. Ее одежда уже не та, какую можно было найти в сундуке грез.
В чем же тогда сила живописи, если она не может возобновить дыхание, которое перестаешь слышать, вернуть движение руки, которой больше не подняться? И к чему тогда память, если год спустя она уже бессильна возродить ушедшую жизнь? На месте ее улыбки и страдальческого выражения Рембрандт вскоре будет видеть только движение света и тени, становящихся все более расплывчатыми.
В большом доме задернут полог кровати с колоннами. Два дня он видел на подушке вмятину от головы, затем она расправилась, и служанка перетряхнула постельное белье. Титус копошится в колыбели. Рембрандт работает в мастерской над своим «Ночным дозором». Ритм жизни Саскии уже не сливается с ритмом его собственной жизни, жизнь в доме размерена лишь часами кормления ребенка, о котором теперь заботится кормилица и над чьей кроваткой он часто склоняется. От Саскии остались лишь его рисунки, сделанные во время болезни: Саския подложила под голову исхудавшие руки, глаза ее стали больше и светлее от того, что они одновременно пристально смотрят в одну точку и совершенно безразличны, ведь взгляд ее сосредоточен на том, чего она не может видеть, но узнает все лучше и лучше — на разрастающейся в ней болезни; Саския неподвижно лежит в ожидании в волнах простыней, одеял, подушек, оцепенев от беспрерывной монотонности визитов врачей и аптекарей, не властная над собой, попав в зависимость от лекарей; редкие гости теперь расспрашивают ее лишь о здоровье.
В своем интимном творчестве Рембрандт показал Саскию от улыбки в день помолвки до предсмертной болезни. Он не задавался вопросами о смысле этого рисованного дневника дорогой ему жизни. Каждый день жизни жены оставил след в его бумагах, от июня 1633 года до июня 1642-го. Еще ни один художник так долго не следовал неотступно за одним человеком, изображая его как в повседневной жизни, так и в вымышленных образах. Для создания этой доселе уникальной серии произведений требовался некий исключительный взаимообмен. Умерев, Саския покинула творчество Рембрандта. В него войдут другие женщины, но ни с одной ему не удастся постичь диалога такой насыщенности.
Своими интимными произведениями, равно как и множеством автопортретов, Рембрандт утверждает (эта идея не нашла отклика в других мастерских), что искусство не обязано трактовать общие для всех сюжеты, и одна из целей, которую оно должно преследовать, — проиллюстрировать жизнь художника, отобразив предания, живущие в его грезах, веру, одушевляющую его. Рембрандт жил в своем искусстве так, как никто другой. Доходя до крайностей.
Уже не ожидая выздоровления, Саския решила, что времени осталось мало, и призвала нотариуса, чтобы продиктовать ему свое завещание. Утром 5 июня 1642 года, в 9 часов утра к ней явился мэтр Бахман и записал:
«5 июня 1642 года от Рождества Христова. Саския ван Эйленбюрх больна и находится в постели, но совершенно очевидно, что она пребывает в здравом уме и твердой памяти. Она назначает своими наследниками сына Титуса и других возможных детей, а также их детей при условии, что ее муж Рембрандт до заключения нового брака или в случае, если он не женится повторно, до своей смерти будет пользоваться полным узуфруктом на это наследство». В его обязанности входило кормить их ребенка и тех, что еще народятся, одевать и воспитывать их до совершеннолетия или до брака, после чего выделить приданое по своему усмотрению. Если он снова женится или умрет, половина состояния будет поделена между его родственниками и Хискье, сестрой Саскии. По завещанию, Рембрандт не обязан заявлять о наследстве в Сиротской палате или предоставлять кому бы то ни было его опись. Саския, назначившая его опекуном своего сына, доверяет ему, и он скрупулезно исполнит ее волю. Хотя наследство составляло 40 750 флоринов, она избрала такие нотариальные формулировки, которые не позволяли производить подсчеты. Это была совсем другая сумма по сравнению с той, что завещала Нелтье: боясь допустить несправедливость, она хотела, чтобы каждый из детей получил четверть от 9960 флоринов, а потому дала Рембрандту ипотечное право на половину семейной мельницы на сумму в 2464 флорина и еще проценты от земельного участка в 30 флоринов, обязав его выплачивать по 4 флорина своей сестре. Саския совсем не так относилась к деньгам, как это было принято в семье ван Рейнов.
Пришли два соседа, Рохус Схарн и Йоханнес Рейнирс — свидетели, достойные доверия, как отметил нотариус. Они подписали документ и ушли. Саския поудобнее легла на кровати. В тот день, 5 июня 1642 года, она думала о 5 июня 1633-го, когда они с Рембрандтом обручились. Девять лет назад. Ей осталось жить девять дней. Она умрет 14 июня.
Ее тело, снова облаченное в сорочку, которая была на ней в брачную ночь, пробудет дома еще пять дней, и 19-го, после того как пастор явится читать над ее гробом Библию, шесть носильщиков медленно унесут ее. Они перейдут через мост над шлюзом, поднимутся по Синт-Антонисбреестраат до Новой рыночной площади, повернут налево, пересекут Олдезейдс Ахтербургваль и придут в Олдекерк, где пастор отслужит траурный молебен. В церковной книге он записал:
«Похороны Саскии, госпожи ван Рембрандт ван Рейн, с Бреестраат: 8 флоринов».
9 июля Рембрандт вернулся в церковь, чтобы уплатить за надгробие для жены. Затем пошел домой присматривать за Титусом в колыбели (тому еще не исполнилось и 10 месяцев) и работать над большой картиной «Ночной дозор».
Глава V МАСТЕРСКАЯ РЕМБРАНДТА
Совместный труд
Чем больше Рембрандт думал о том, что пережил до смерти жены, — о проникновении их супружеской четы в творчество вплоть до опасного рубежа, — тем больше захватывало его пережитое, наполняя все его существо. Однако, хотел он того или нет, ему приходилось еще и руководить мастерской. Это было одним из условий торговца Хендрика Эйленбюрха. Очень скоро мастерскую наполнили художники, пришедшие работать вместе с ним или отдельно. Он продавал их творения вместе со своими. В своих бумагах, примерно в 1635 году, пометил: «Я продал «Знаменосца» за 15 флоринов, «Флору» Лендерта ван Бейерена за 5 флоринов, еще одну «Флору» Фердинанда Бола за 4 флорина и 4 стейвера». Эти картины — «Знаменосец» и «Флора» — были написаны на темы, над которыми в то время работал и он сам.
Художники приходили к нему по разным соображениям: не только в поисках мастерской и позировавших натурщиков, но еще и ради совместного труда, возможности продавать свои работы благодаря известности Рембрандта, наконец — и главным образом — из любопытства узнать поближе молодого художника, самого знаменитого в стране, к которому обращались бюргеры, желавшие заказать свой портрет, и влиятельные коллекционеры. В тени Рембрандта можно было заявить о себе. Мастерская — это взрывное место, камера внутреннего сгорания, куда горючее подается под давлением хозяина, старшего, но и те, кто помоложе, тоже могут что-то добавить. Их работы могли быть совместными или индивидуальными. Так было во всех странах, где законы ремесленных цехов еще распространялись на художников.
С тех самых пор, когда Рембрандт работал вместе с Ливенсом на чердаке в Лейдене, и когда то, что привносил в картину один, перерождалось в новую импровизацию другого, ему был знаком совместный труд. В то время он даже иногда подписывал на холсте: «завершено Рембрандтом». Тогда они вели мелодию на два голоса, в которой зачастую доминировал его собственный. В мастерской, которой он теперь руководил, степень участия в работе была еще менее определенной, но принцип тот же: каждый мог приложить к картине свою кисть. Для того чтобы такая открытость не вызвала хаоса, требовалось общее соглашение — не то чтобы какой-либо свод правил или непреложных законов, но согласованность в поступках и предварительное согласие на чужое вмешательство.
Рембрандт пускал в обращение свое творчество, свои идеи, сюжеты; он предлагал в качестве отправной точки итальянские или североевропейские рисунки, эстампы, купленные на аукционах. Ему даже случалось усесться в мастерской, предложив себя в качестве натурщика для портретов, которые художники должны были преподносить в образе вымышленных персонажей. Он постоянно был с ними, подправлял рисунки, переделывал некоторые копии со своих картин, так что, случалось, переписывал их наново.
Художники платили ему по 100 флоринов в год, и все, что они писали в мастерской, принадлежало ему. Дорого? Некоторые так и говорили, но со времени приезда в Амстердам поток учеников не иссякал: Говарт Флинк, Карел Фабрициус, Фердинанд Бол… Чуть ли не тридцать человек. Их было больше в самом начале. Затем — меньше. В 60-е годы он останется один.
В мастерской жили свои предания. Из уст в уста передавались истории: например, однажды ученики Рембрандта в его отсутствие изобразили на полу серебряные монеты, такие блестящие, словно они только что упали. Рембрандт попался и принялся их под общий хохот собирать.
Впрочем, его ученики составляли разношерстную компанию. Больше всего было молодежи, но среди них встречались и любознательные художники из других мастерских, и недоучки, пребывавшие в этом статусе всю жизнь.
Еще одно предание рассказывает, как Рембрандт однажды оборвал интимный разговор. По этой истории мы можем судить о том, как он организовал пространство своей мастерской, положив за наиглавнейшее правило, чтобы каждый находился наедине с натурщиком. Этот принцип нельзя было применить, кроме как разделив все помещение на ячейки, обращенные к помосту и отделенные друг от друга полотняными перегородками и старыми холстами. В таком улье все были разъединены, не имея возможности заглянуть к соседу, лицом к лицу с обнаженной моделью, которой в тот день была женщина.
Рембрандт, услышав, как один из художников шепчет натурщице: «Ну вот, мы оба наги, словно в земном раю», постучал по стойке двери рукояткой кисти, призывая к вниманию, и сказал: «Вы читали Евангелие: если, находясь в земном раю, вы вдруг узнали о том, что наги, — знайте, вы немедленно будете из него изгнаны».
На самом деле, хотя и несколько сотен флоринов в год, конечно, не мешали, Рембрандту была по душе роль учителя; ему нравилось принимать веселую компанию сначала на Блумграхт, потом у себя дома. Он получал взамен то, чего не могли ему дать алчущие портретов, и был рад видеть в рождающихся вокруг него произведениях развитие идей, автором которых был он сам, различать в них искаженные отражения своих достоинств и недостатков: Говарта Флинка больше привлекала его неистовость, Фердинанда Бола — мягкая теплота, Саломона Конинка — его библейские инсценировки и сопутствующие аксессуары; Гербрандт ван ден Экхаут уделял особое внимание каждой фигуре в композиции и не мог сохранить единство произведения.
Рембрандт видел, что в их картинах бьет через край то, что приходило к нему естественным образом и что он удерживал в разумных рамках. В некоторых учениках он угадывал исключительные способности. Карел Фабрициус работал у него над «Воскрешением Лазаря», в котором многое было почерпнуто из его лейденской картины, а также из версии Яна Ливенса. Однако позднее, в Делфте, Фабрициус станет писать странные статические картины, как то почти галлюцинационное изображение солдата, грезящего у канала, в котором от Рембрандта нет практически ничего. И когда Самюэль ван Хоогстратен написал автопортрет, в котором Рембрандт увидел подлинный образ юности, открывающей в зеркале свою хрупкую силу, свою безграничную волю, — разве мог он предположить, что этот молодой человек станет специалистом в области оптических эффектов и обнаружит в коробочке с маленьким отверстием поразительную иллюзию третьего измерения? Конечно, Хоогстратен, склонный по своей натуре к интимизму, не распространял своего интереса дальше интерьера маленького голландского дома, но он привнес в дорогое Вермееру замкнутое пространство кодированный метод, который стал ответом голландцев на работы с перспективой флорентийцев XVI века. А еще Николас Маас, столь близкий Рембрандту, — откуда было знать, что позже он станет изображать спящих 126 служанок, облокотившихся о столы, заваленные фруктами, на фоне множественной перспективы нескольких этажей дома, в почти вермееровской тишине?
Эти три художника, которых охотно назвали бы лучшими из его учеников и, уж конечно, самыми пытливыми, действительно шарахались из одной крайности в другую, от неистовости и боли Рембрандта к безмятежности голландских жилищ на манер Вермеера. Там не было крайностей: ни трагедии, ни комедии, ни слез, ни хохота, ни детства, ни старости — только молодые люди. Красивые женщины, будь то служанки или их хозяйки, спокойно ходили по дому, готовые налить молока в миску или тронуть клавиши клавесина. Ничего сверхъестественного, поразительного. Все из области обыденного: письмо, рождение ребенка. Набережные каналов пустынны. В переулке женщина выглядывает за дверь. Это голландка, застывшая в своей душевной умиротворенности. Внутри, в пространстве, замкнутом на самом себе, течет размеренная жизнь, наполненная хлопотами служанок, шитьем и игрой на музыкальных инструментах хозяек дома. Тишина, в которой раздается звук клавесина, порождает в живописи изображения идеальных мгновений жизни. Изображения настолько точно выдержаны в каждой точке, что в конечном счете наполняются почти религиозным смыслом небесной гармонии. Небеса сошли на голландскую землю. Вермеер показывал женщину рядом с серебряным кувшинчиком, как раннехристианские художники изображали Богоматерь в разукрашенной церкви. Вермеер писал глиняный кувшин, как Сурбаран — три яблока на столе, помышляя перенести повседневные предметы в область молитвы, облечь эти внешне простые знаки бытия в сосредоточенные раздумья, превратив свои картины в их вместилище, тогда как полотна Рембрандта, вдохновленные традиционными мистическими переживаниями, все так же стремились к назидательности. За несколько лет манера отображения священного изменится, и Вермеер придаст сиюминутному реализму голландской живописи высший смысл, которого он тогда еще не достиг и к которому устремятся три лучших ученика Рембрандта. Поразительный путь, переворот, на который способна только молодость. Они подставят свой парус новому ветру, оставив Рембрандта, как оставляют старый очаг. В искусстве неизведанное нередко привлекает больше, чем верность.
Среди других его учеников необходимо назвать Адриана ван Остаде, живописца крестьянских попоек в стиле Броувера; Говарта Флинка, получившего официальный заказ на прославление Мюнстерского мира, а затем на создание внутреннего убранства новой амстердамской ратуши; а также всех тех, кто во множестве писал библейские сцены, портреты оцепеневших стариков, размышляющих раввинов, — все те сюжеты, к которым приобщил их Рембрандт и от которых эти художники не смогут отойти, увязнув в рембрандтовском реквизите, в той восточной пышности, которая служила ему лишь фоном и которая станет сущностью для продолжателей его искусства.
В общем, к нему приходили художники, которые затем избрали разные направления в голландском искусстве, и это позволяет заключить: черенок-Рембрандт, привитый к стволу национального искусства, пусть и дал мало новых побегов (хотя Карел Фабрициус, Самюэль ван Хоогстратен, Николас Мае — уже много), но, по меньшей мере, на долгое время сохранил его оригинальность, отсрочив упадок и угасание голландской живописи в конце века. В то время как критики из-за рубежа тыкали пальцем в причудливость северной школы, не подчинявшейся теориям Прекрасного в том виде, в каком их стремились навязать Болонья и Рим, мастерская Рембрандта поддерживала свое дикарское отличие, зажигала встречный пал против пожара галантных аллегорий, прокатившегося по всей Европе. Наверное, он знал, на что замахнулась его мастерская, какую роль сопротивления играла она. Посреди разрастающейся смуты он знал, что должен удержаться на вершине большой живописи. Наверное, после него эта требовательность к сюжетам исчезнет. Но не из-за недостатка мужества и энергии. Рембрандт предоставил в распоряжение художников лучшее, что было в нем самом. Ему было неважно, что их порой удивляло его неистовство. Пускай его живопись открывала им слишком многое в нем самом, передавала в общее пользование тайны его личного творчества. Он предпочитал ничего не скрывать, отдавать всю свою творческую силу до тех самых пределов, где искусство разбивало его жизнь.
Безо всяких ограничений, он весь целиком был среди тех, кто приходил подпитываться от него. Он не отдавал себя пассивно, предаваясь в руки любого, кому это взбредет в голову, он желал знать, во что превращается его дар, когда переходит к другим, наблюдая и полное подчинение, и бунт и не предпочитая одного другому, почти как садовник, который наблюдает за судьбой не только своих посадок, но и дичков, которые прививаются или засыхают. Порой Рембрандт подавлял личность. Кто-то смог отдалиться от него и сделать себя заново. Поле творчества можно сравнить лишь с полем мощного светила, чье притяжение заставляет звезды сойти со своей орбиты. Художественную мастерскую нельзя сопоставить с философским идеалом вечной гармонии сфер. Искусство беспрестанно вызывает взрывы, падения, исчезновения, оно идет вперед через погибших и раненых, победы и поражения, союзы и измены, отступления и атаки. Мастер стремится к одному: внушить свои требования. Порой он порождает одних подражателей, отдающих ему взамен лишь искаженный образ его самого и мешающих ему. Но если ему удается передать свою требовательность, та заставляет ученика стать отличным от учителя, словно учитель может довести свою задачу до конца, лишь породив свою противоположность, которой больше нечего делать в его мастерской.
Ибо обучение лишь тогда идет на лад, когда силы притяжения и отторжения сопрягаются, чтобы породить вдали от солнца новую звезду. Так родился Рембрандт против Рубенса, а Вермеер — против Рембрандта. Но зачем в таком случае говорить об учениках?
Религиозная живопись для кальвинистов
Рембрандт придал своей мастерской весьма своеобразное направление. Хотя он один писал «Жизнь Христа», хотя его «Жизнь Саскии» относилась к сугубо интимному творчеству, в своей мастерской он желал готовить художников, способных предложить для дворцов, городских ратуш, залов цеховых собраний религиозную живопись, которая облекла бы кальвинизм в форму и цвет. Будучи набожным человеком, он по-прежнему полагал, что священные сюжеты нельзя оставлять в удел лишь поэзии, театру и музыке, они должны жить и в изобразительном искусстве. Он представлял себе большие полотна, которыми Голландия ответила бы на великие католические картины Фландрии и Испании.
Он пишет «Жертвоприношение Авраама» как собственную интерпретацию гениальной версии Караваджо, принимается за серию из четырех картин о Самсоне — тема, за которую уже брался в Лейдене; на этот раз он будет заниматься ею с 1635 по 1641 год, — и пишет свою версию «Похищения Ганимеда». Все эти работы начаты в одном и том же 1635 году. Тут тоже свет и тень и их взаимопроникновение, но на этот раз свет более не исходит от тел как струящаяся духовная сила, делающая предметы нематериальными; но движения часто грубы, порой невыносимо грубы, и он нашел способ их передать: взмахи крыльев орла, уносящего в воздух толстого писающего мальчика; нож, выпадающий из руки Авраама перед жертвоприношением; вопли Самсона, перебудившие весь квартал. Рембрандт создает театральную жестикуляцию, которой еще не видывали в живописи. Он вторгается в сюжеты бесцеремонно, без благоговения перед тем, что пишет. Еще никто не был так непочтителен с Ганимедом, так жесток с ослепленным Самсоном. Рембрандт овладевает героями Библии и мифов и доводит их до того уровня, на котором не скрывают физической слабости, страха, заставляющего мочиться; пота, гноя, брызжущей крови. Конечно, в XVII веке по всей Европе церковные алтари украшали сценами мученичества, в дворцовых галереях вывешивали картины с изображениями мук и агонии, но все они были вполне благопристойны: стрелы, пронзавшие святого Себастьяна, выглядели на нем декоративно, а умирающая Лукреция обнажала красивейшую в мире грудь. В Италии, во Фландрии или во Франции красота самой живописи возвышала страдания. Не показывалось ничего отталкивающего. Рембрандт, не позволив себе следовать умиротворяющим академическим правилам, оказался близок к Шекспиру. И тот и другой брали Историю и Мифологию со всеми их страхами, смятением и надеждами. Они трактовали сюжеты по велению сердца, без всяких ограничений, стараясь добавить свое личное отношение ко всем этим историям, ужас которых был несколько сглажен силой метафоры.
Эти полотна, гораздо более крупные, чем картины из серии «Жизнь Христа», позволили художнику передать фактуру тканей, камня, дерева, металла, тела, ювелирных украшений — всей той густой реальности, которой он любил насыщать трагедию. Отсюда размах жестов и объем. Отсюда контрасты крупных пластов света и тени. Отсюда вновь обретенный колорит, диалог почти ослепительной тьмы с почти прозрачным светом, мелодия, сыгранная сразу на всех нотах, от самой низкой до пронзительно высокой. Великий аранжировщик, он смешал тривиальное с возвышенным и стал барочным, но не в смысле избыточности декораций, а в смысле той свободы, которую придал возгласам радости и воплям боли, сменяющимся на картине так, как это происходит в жизни.
Самсон — нечто гораздо большее, нежели символ силы, побежденной женской хитростью. Он прежде всего — воплощение Бога, как Иисус. Его рождение было возвещено его матери Архангелом Михаилом. Самсон — священный герой. Его изображают на витражах соборов как непременного персонажа дохристианской библейской истории.
Поначалу Рембрандта привлекали свершения героя. Он взялся писать картину о том, как Самсон угрожал своему тестю, отдавшему его жену другому мужчине. Гнев Самсона выглядит театрально благодаря обстановке, изображенной на картине: на пороге большого каменного дома стоит волосатый, усатый, бородатый великан в золотых одеждах, вооруженный дорогой турецкой саблей, и с шумом потрясает огромным кулаком перед носом перепуганного старика, открывшего деревянный ставень. Героя сопровождает его свита — два изящно одетых африканца; это царевич, явившийся постращать мещанина. Эффект получился почти комический. Рембрандт наделил Самсона кое-какими своими чертами. Это в правилах игры в переодевания, комедии персонажей. Рембрандт в образе Самсона — это Рембрандт на театре.
Вторую картину он подарил Константину Хейгенсу в благодарность за поддержку перед статхаудером. В письме от 2 января 1639 года он пояснил: «Поскольку Вам, монсеньер, дважды пришлось испытать неприятности по этому поводу (запоздалой поставки картин для принца), в знак уважения присовокупляю картину 10 футов в длину и 8 футов в высоту, которая будет достойна Вашего дома». И уточнил 27 января: «Повесьте эту картину на ярком свету и чтобы можно было отступить от нее подальше, тогда она предстанет в своем лучшем виде». Эта вторая картина (3,02 метра в длину) очень резка: на ней изображено ослепление Самсона. Солдаты схватили ослабевшего героя и выкалывают ему глаза кинжалом. Это самое начало пытки, когда острие проникает в первый глаз и оттуда брызжет кровь. Прозрачные покрывала Далилы, выпархивающей из пещеры с отрезанными ею волосами и ножницами, не смягчают зрелища. Картина полна шума и ярости, смятения, стальных лат, до предела напряженных мускулов. Необычную ноту в общее звучание вносит то, что Рембрандт написал себя самого в правой части картины бегущим со шпагой в руке, так, словно он хотел с маху ворваться в библейскую сцену и отомстить за Самсона. На нем голландский военный костюм, берет с большим пером. Он выступил здесь в немного нелепой роли спасителя, который прибыл слишком поздно и которому, во всяком случае, нечего делать во всей этой истории. Это в его духе — осовременивать событие, сопровождать его шуткой, которая, возможно, сделает все полотно в доме Хейгенса более приятным для взора.
На третьей картине Рембрандт слушает. Он среди тех, кто склонился, прислушиваясь к речи величественного длинноволосого царевича, который на пиру, где гости возлежат на ложах на античный манер, загадывает загадку филистимлянам. На кону немалый куш: тридцать сорочек и тридцать синдонов.
Здесь он тоже изобразил себя, но его присутствие вовсе не так однозначно. Он более или менее узнаваем. Это уже не портрет, это явление автора в роли, и выбор персонажа свидетельствует о его вкусе. Актер получает роль в зависимости от возраста и внешности. Рембрандт выделил ее себе по собственному произволу.
Его Самсон — это прежде всего герой, о чьих подвигах он повествует. Герой, который похож на Геракла, чьи «Подвиги» в то же самое время писал Сурбаран для короля Испании; Пуссен вскоре обратится к этой же теме в Париже по заказу французского короля. Самсон, как и Геракл, проходит сквозь испытания, совершает подвиги. Их судьбы похожи, возможно, у них общее происхождение, соответствующее, во всяком случае, происхождению героев легенд и мифов.
А в последней картине — «Жертвоприношение Маноя» он делает из своего героя основополагающую фигуру христианской религии. Супружеская чета, опустив глаза, сомкнув руки, преклонила колени перед огнем, разожженным в очаге. Жену посетил Архангел Михаил, возвестивший, что она понесет сына, который будет назореем Божиим и освободит Израиль от филистимлян. Ни она, ни ее муж не были уверены, что вестник — посланник Предвечного, до того самого момента (выбранного художником), пока не увидели его поднимающимся из пламени огня, возжженного для жертвоприношения. Только тогда они поняли, что им явился Бог.
По сути, перед нами Благовещение. Но благая весть принесена не Пресвятой Деве, ибо это не могло соответствовать кальвинистскому вероучению. Она принесена супружеской чете. Историю оставляют ради Веры. Здесь уже нет ничего общего с подвигами Геракла. Никаких комедийных эффектов. Самсон становится предтечей Христа, воплощением Господним.
Эти картины, защищающие и иллюстрирующие кальвинизм, Рембрандт доверял своим ученикам с Блумграхт, с тем чтобы они занимались популяризацией этих сюжетов. Он не просил их множить изображения эпизодов жизни Христа, над которыми работал сам, но доверял им идеал великого протестантского искусства.
По рисункам учеников, которые Рембрандт порой подправлял, можно судить об этом проекте, занимавшем несколько групп художников, — проекте, и на сей раз существовавшем только в уме учителя, по одной его воле. До сих пор не найдено документа, который дал бы основания полагать, что Республика или Церковь Соединенных провинций были в нем заинтересованы и он получил от них какую бы то ни было поддержку. Картины Рембрандта распространялись только на частном рынке, где обладание подобными произведениями не считалось вероизъявлением. В посмертных описях внутреннего убранства домов то тут, то там проскальзывает какой-нибудь «Проповедник» работы Рембрандта». Это вписывалось в общепринятые нормы веротерпимости.
Повторим: протестантское искусство — это не искусство кальвинистского толка. Рембрандт не вдохновлялся выверенными образцами, поскольку таковых не существовало. Он не работал в строгих рамках заданной программы, и уж наверняка его произведения вызвали бы упреки со стороны теологов, приверженцев иконографических истин, если бы таковые тогда существовали.
Несмотря на отсутствие интереса Рембрандта к итальянскому искусству, которое он находил чересчур льстивым, слишком метафоричным, можно лишь поражаться необычайной родственности его творчества с творчеством Караваджо. Нельзя сказать, что они писали картины, повторявшие друг друга: их все разделяло — страна, язык, политическое положение Рима и Амстердама, религия и образ жизни: жизнь Караваджо била ключом, наполненная стычками на шпагах и тюрьмами; жизнь Рембрандта протекала спокойно, размеренная смертью детей и жен; у Караваджо — шекспировская судьба героя, бегущего под палящим летним солнцем по берегу моря и умирающего с возгласом, обращенным к водной стихии; у Рембрандта — конец стоика, претерпевшего бедность и траур, — и все же сколько сходства между двумя этими людьми! Использование воссозданного света, принесшего обоим репутацию мастеров ноктюрнов; видение мира, построенное уже не на горизонтально-вертикальной оси, но полное косых линий, множественных перспектив; а главное — общее для обоих желание изображать самих себя в самых неистовых сценах своих картин. Если Рембрандт в своем берете появляется в «Возведении креста», Караваджо пишет себя присутствующим на казни святого Матфея в виде прохожего, застывшего от ужаса в самом центре сцены. Он даже показал себя обезглавленным: Давид держит за волосы голову художника, с которой стекает кровь (Караваджо стоял перед зеркалом, когда писал Голиафа). Итак, оба художника испытывали одинаковое желание фигурировать на собственных картинах, принимая все заключенные в этом опасности. Наконец, с разрывом в сорок лет, они написали картины на одну тему: «Жертвоприношение Авраама», причем голландец своим полотном возразил итальянцу. Караваджо изобразил Исаака вопящим от ужаса под рукой отца, который прижимает ему голову к земле, собираясь перерезать горло ножом, в тот момент, когда вдруг является агнец, предназначенный для замены единственного сына. При этом Караваджо пришла в голову удачная идея наделить обе жертвы — и мальчика, и барашка — одинаковыми огромными глазами, расширенными от ужаса.
Рембрандт, не побоявшийся изобразить Самсона, которому вонзают в глаз кинжал, не пожелал слышать крика Исаака. У него рука отца отворачивает голову сына к скале, открывая шею. Таким образом, жертва готова к закланию и скрыта от мира рукой жертвующего, которая прячет от нас ее лицо, изымая из чреды живых. Более возвышенное, тихое решение, присовокупляющее к покорности отца безропотность сына. Поэтому особенно впечатляет явление Ангела Господня. Хлопая крыльями, он хватает Авраама за руку и заставляет выронить нож, падающий на землю. Более возвышенного решения невозможно придумать. Рембрандт придал сюжету наиболее простое, наиболее действенное, но оттого еще более жуткое значение. Обе картины перекликаются. В то время как Караваджо гудел органными трубами церквей Контрреформации, Рембрандт шел к самой сути, к хорам a capella, как в протестантских богослужениях. Религия одного стремится к буйству, другого — к сдержанности. С равной по силе верой и тот и другой, создавая творения, являющиеся также проявлением благочестия, показывают, что и на юге, и на севере религиозное искусство предоставляет поле деятельности для новаторской мысли. И в Риме, и в Амстердаме художники, следуя тексту Ветхого Завета, поместили трагедию Авраама и Исаака на вершину горы, развернув перед зрителем спокойное величие пейзажа. Это не случайно, раз так схожи натуры обоих: долины, башни и замки, стоящие на холмах, ритмичное чередование хребтов и впадин — возвышенный пейзаж того времени.
Когда Рембрандт написал свое «Жертвоприношение Авраама», Караваджо уже двадцать пять лет не было в живых. Рембрандту было известно его имя. Он прочитал на голландском языке труд художника и поэта Карела ван Мандера, который, вернувшись из Италии, создал жизнеописание современных итальянских художников. Хотя ван Мандер не сказал о Караваджо ничего особенного, даже не смог подробно описать ни одно из его произведений, он отметил особенность этого художника, заключавшуюся в том, что тот никогда не работал над картиной по рисунку (ибо в графическом изображении застывает нечто живое), и подчеркнул, что итальянец писал непосредственно с натурщика и в живом цвете. Он не утаил и того, что художник вел богемную жизнь, полную дуэлей, и Рембрандта, должно быть, заинтересовала оригинальная личность этого мастера. Но что бы он смог извлечь из этой книги, одновременно восторженной и расплывчатой, если бы не его учитель Питер Ластман, открывший ему Адама Эльсхеймера, который дал ему почувствовать и силу Караваджо? Однако если воспоминание об Эльсхеймере станет в жизни Рембрандта непреходящим, диалог с Караваджо продлится лишь несколько лет — диалог, развернувшийся вокруг глубоких характеров, а не образов или структуры картин, однако выявивший тонкое взаимопонимание двух творцов. Караваджо у папистов — что Рембрандт у протестантов: то же стремление напомнить, что Вера опаляет. После них редко кто из художников посмеет нарушить спокойствие верований. Амстердамская мастерская, наверное, представляла собой одно из последних мест, где Вера была столь требовательной.
Свет незримого
Преподавание Рембрандта в корне отличалось от методы Рубенса. Тогда как антверпенский живописец набирал учеников для того, чтобы они помогали ему в работе, и разделял обязанности — одни писали фон, другие работали над листвой или одеждами, и все это делалось под наблюдением мэтра, который подправлял целое и завершал отдельные части, у Рембрандта ученик участвовал в художественной дискуссии, открытой хозяином, но собственными произведениями. Рембрандт предлагал темы — и те, к которым сам уже обращался, и те, за которые никогда не возьмется: «Жертвоприношение Авраама», «Иуда возвращает тридцать сребреников», «Христос в Эммаусе»… Порой для сюжета не существовало живописного образца, и ученику приходилось творить самому. Например, для «Жертвоприношения Гедеона» им пришлось заглянуть в Библию, в Книгу Судей, чтобы узнать, что Ангел Господень явился Гедеону, прикоснулся своим жезлом к дару, который тот положил на камень, и высек из камня огонь. Для художника главным было: скала, ангел, жезл, коленопреклоненный человек и огонь. Не какая-нибудь «Неопалимая купина», а жертвенный дар, и на нем знак, который Предвечный послал младшему в доме Иоаса — Гедеону, избрав его для борьбы с врагом.
В тот же самый год, пока Карел Фабрициус был поглощен этой темой, Флинк трудился над терновым венцом, Фердинанд Бол — над жертвоприношением Авраама, Филипс Конинк — над сюжетом о сонамитянке, молящей Елисея вернуть к жизни ее умершего сына, Гербрандт ван ден Экхаут — над притчей об Иосифе, рассказывающем братьям свои сны. Мастерская работала в полную силу. Для того чтобы ученики справлялись со своей задачей, Рембрандт не принимал начинающих. Тем не менее никто не был избавлен от работ, предшествующих живописи: разрезать холсты, натягивать их на раму, готовить подставки, растирать краски, цедить масло, а также смахнуть пыль, подготовить кресла, в которых будут позировать бюргеры для своих портретов. В мастерской бурлила жизнь. На полках были расставлены гипсовые бюсты великих людей древности. На стенах развешаны оружие, шлемы, одеяния, служившие образцом для композиций на исторические темы.
Юноши, которые здесь работали, порой приходили сюда поздно, лет двадцати. Большинство были моложе: им было восемнадцать, шестнадцать, даже двенадцать. Слишком юны? Нет, Адриан Броувер пятнадцати лет уже покинул мастерскую Франса Хальса. Ян Ливенс в восемь лет поступил в мастерскую Йориса ван Схутена в Лейдене. В то время в Европе быстро расставались с детством. Николасу Масу было четырнадцать, когда он явился к Рембрандту, и мэтр тут же усадил его перед зеркалом, дал бумагу, перо, кисть и коричневую тушь и велел нарисовать автопортрет. Такова была его манера пробуждать самосознание в учениках. Сегодня мы видим на этом автопортрете, как Николас рассматривает себя в зеркале. Подавшись вперед, еще совсем мальчик, с длинными волосами и в строгом ученическом воротничке, он хмурит брови с озабоченным видом, словно ему трудно уловить собственные черты.
По всей видимости, Рембрандт оставлял свои папки открытыми, предлагая ученикам брать оттуда все, что им потребуется: свои рисунки и гравюры, как давнишние, так и новые, будь то для копирования или для использования их в качестве образца трактовки предложенной темы. Так, Фердинанд Бол, один из старших учеников, сделал гравюру по эстампу Рембрандта «Эсфирь с распущенными волосами», уделив внимание не окружающим пилястрам и аркам, не жесту женщины, держащей в руке бумагу, а лицу и волосам, подчеркнув волнообразные линии на белизне одежды, прекрасно уловив непреклонную волю, читающуюся во взгляде. В другой раз Бол расположился перед картиной Рембрандта «Портрет Саскии в образе Минервы», чтобы сделать с нее рисунок. Он также поместил женщину, облокотившуюся на огромный фолиант, среди атрибутов знания, но четкие штрихи здесь словно вымучены. Создается впечатление, что ученику с трудом давалось это задание.
Говарт Флинк, поступивший к Рембрандту в восемнадцать лет, оставил нам копию «Жертвоприношения Авраама», выполненную маслом на холсте такой же или почти такой величины. На сей раз речь шла уже не об изучении первоисточника или обучении, а о создании точной копии — обычное дело для европейских мастерских того времени. Но для Рембрандта все было не так просто. Прежде чем подписать картину и датировать ее 1636 годом (оригинал был создан в 1635 году), он исправил ее и полностью переписал, так что не осталось и следа от той версии, которую ей придал ученик. Что не понравилось Рембрандту в копии? Что она слишком точна? Что это несовершенный двойник? Или копирование произведения, которое было ему особенно дорого, оказалось делом для него неприятным?
Что касается воплощения идей, предложенных для упражнений, то перед нами «Даниил в львином рве» работы Константина Д. ван Ренессе, поступившего в мастерскую в 1649 году. Очевидно, ученик делал сначала что мог, по памяти. Чтобы показать кровожадность хищников, имеющих на его рисунке мирный вид травоядных, он изобразил на земле черепа и кости — следы их пиршеств. Наверное, это одна из его первых композиций. Рисунок довольно расплывчатый и нечеткий. Он подписал его своим именем с пометкой inventor et fecit (задумано и осуществлено мною). Как раз в то время Рембрандт, видевший живых львов на ярмарке в Амстердаме, рисовал их неоднократно. Вполне можно предположить, что он садился в своем углу, чтобы работать над этой темой одновременно с учениками. Конечно, разница налицо: мускулистый силуэт льва подходит манере рисования Рембрандта, который подчеркивает огромные лапы, угрожающе ощеренную пасть, тогда как ученик робко продвигается вперед, стараясь медленно ввести свет в объемы. Впоследствии он подпишет под рисунком: «Первый рисунок, который я показал Рембрандту 1 октября 1649 года. Это была вторая наша встреча». Очевидно, что надпись отмечает важную дату в его жизни. На рисунке не видно исправлений мастера. И его влияния тоже.
В другой раз темой было «Благовещение»: Мария молится, Архангел появляется и протягивает к ней руку — тема традиционная, жесты знакомые. Константин Д. ван Ренессе снова задумал свой план в объемном свете и поместил фигуры в просторной комнате. Рембрандт подошел к нему и исправил композицию: структура комнаты видна плохо, фигуры в ней теряются; учитель большими штрихами подчеркнул архитектуру, наметил пилястр, арку, раскрыл окно; он увеличил слишком маленькую скамеечку, уточнив ее назначение: чтобы можно было встать на нее коленями и раскрыть молитвенник на наклонном столике; наконец, Архангел находится слишком близко от Девы, и он недостаточного роста… Рука Рембрандта скользит по бумаге; он рисует высокую фигуру, широкими штрихами наделяет ее огромными развернутыми крыльями. Все это набросано очень быстро, и тотчас смысл сцены прояснился: виден испуг женщины; потрясенная чудесным явлением, она опустила голову, ухватившись одной рукой за сиденье, а другую, словно защищаясь, приложила к груди. Совершенно очевидно, что эти исправления, эти простые быстрые штрихи принадлежат именно Рембрандту, усилившему важные детали для драматической трактовки религиозного сюжета.
Получив задание нарисовать поверженного в прах Иова в тот момент, когда к нему пришли два друга, Константин Д. ван Ренессе изобразил Иова сидящим, а посетителей — стоящими. Рембрандт нашел композицию слишком статичной и добавил еще одного персонажа, который при виде несчастий Иова воздевает руки к небу. Затем, заметив, что и обстановка на рисунке статична, набросал несколько косых линий, чтобы сместить акцент, — появилась цилиндрическая башня. Рембрандт всегда стремился выделить центр, добавить движения, выявить смысл. И снова он ведет себя не как человек, желающий навязать свой стиль, но вмешивается в замысел произведения в момент выбора его организации. Самюэль ван Хоогстратен вспоминал тяжелые моменты, когда требовательность учителя повергала его в глубокую печаль. Со слезами на глазах, не давая себе роздыху, ученик не ел, не пил и не уходил из мастерской, пока не исправлял своих ошибок. Если в этом и было насилие, оно порождалось не властностью, но требовательностью. На самом деле Рембрандт-учитель считал, что молодые люди, приходившие к нему, были чересчур поглощены готовыми идеями. Хоогстратен хранил в памяти ключевую фразу преподавания Рембрандта. Тот говорил: «Старайтесь научиться вводить в ваше произведение то, что вы уже знаете. Тогда вы скорее откроете то, что от вас ускользает и что вы хотите открыть».
Его преподавательская деятельность не увенчалась написанием трактатов. Рембрандт не мог быть поборником какого-либо эстетического направления, ибо прекрасно видел, что творчество постоянно развивается, живет своей жизнью, как живое существо. Но что это за преподавание, если оно не опирается ни на какую догму? Разве неопределенности ждут от учителя ученики?
От преподавания Рембрандта осталось лишь несколько воспоминаний, взволнованная пометка Константина Д. ван Ренессе о встрече с учителем, сократовский урок, о котором вспоминал Самюэль ван Хоогстратен. Сохранилась папка, в которую некто неизвестный собрал рисунки, исправленные Рембрандтом. Не оригиналы рисунков, на которых учитель выделял ошибки, показывал возможные направления, а копии этих исправлений. Должно быть, ученики передавали друг другу эти листы, воспроизводили их с мыслью о том, что эти штрихи палочки, обмакнутой в тушь, эти пометки мелом способны пробудить мысль, расшевелить ум, что нельзя дать пропасть творческой силе, которую учитель распространяет вокруг себя. Никакой теории — да, но просвещающие указания, данные по горячим следам, в самый момент рождения идеи. Таково было обучение Рембрандта: разработка стратегии для художников прямо на поле искусства.
После него власть вновь захватит династия теоретиков, уравнителей, чьи труды выстроятся на полках библиотек. Хорошие авторы напишут истории творческой мысли, запамятовав, что Рембрандт, преподававший около тридцати лет, имел статус профессора. Возможно, просто потому, что у воинствующего религиозного искусства по Рембрандту не было будущего.
Не было будущего, потому что догма о недопустимости изображений осталась в неприкосновенности, потому что крупные состояния, накопленные купцами и финансистами, не побуждали их к созданию у себя дома картинных галерей. Правила приличия требовали не выставлять богатство напоказ, и дома бюргеров никогда не станут дворцами, стены которых застыли в ожидании полотен. Серии картин можно будет встретить лишь в резиденциях принцев, в городских ратушах, по большей части в Амстердаме, и в гильдейских домах. Обычные клиенты по-прежнему заказывали лишь портреты; они покупали кое-какие картины на религиозные сюжеты, но в основном имели вкус к деревенским и городским жанровым сценкам и пейзажам — к тому чисто голландскому жанру, который процветал два века до появления крестьянских сцен Милле и Барбизонской школы, до поедателей картофеля Винсента ван Гога.
Успех этого жанра был настолько откровенен, что историки искусства называли Золотым веком лишь эту живопись, изучавшую людей, природу, цветы, селедку на тарелке, — живопись, народность которой в конечном счете превратила Соединенные провинции в особую страну, место истинного чуда. И никто даже не заметил, что под Антверпеном и Брюсселем, в католических Нидерландах писали очень схожие фермерские сценки. Никто не обратил внимания на поездки голландских художников в Италию и на последствия этих поездок, проявившиеся в пейзажах. Видам римской или тосканской природы предпочитали те, где были лишь пески, хижины да болота.
Амстердам, Гаага, Делфт, Лейден сразу выступили на передний план в ущерб итальянствующему центру искусства, образовавшемуся в Утрехте. Большое число картин на религиозные сюжеты было свалено в запасники музеев. Естественно, не тех, что были написаны Рембрандтом, ибо критиками подчеркивалась его несхожесть с другими, но работ его учеников или иных художников, пробовавших себя в этом жанре.
Сегодня историки имеют менее однобокое представление о Золотом веке. Роль Рембрандта теперь не принижается, явственнее выступает та тенденция, которую он стремился развить. Но дело в том, что и при его жизни, и в наше время та роль, которой он хотел наделить религиозное искусство, остается непризнанной. По всей вероятности, это вызвано глубоким недоверием к образам, считающимся нечистыми источниками, причинами духовного раскола. Увлеченные науками голландцы создали орудия измерения пространства и времени, пригодившиеся им для исследования мира. Став миссионерами торговли, они были популяризаторами Реформации и, с Библией в кармане, проповедовали Евангелие по всей планете. Но Библия — это слово, а не образ, не изображение персонажей или телесного облика Христа.
Нидерланды вступили в абстрактный мир идей, и Рембрандт отказывался это принимать, упорно веря в то, что божественный свет сияет ярче, когда касается человеческого тела. Никто не написал так, как он, кончину солнца со смертью Христа или возрождение жизни в мертвеце из раскрытой могилы. Ибо он не отделял материальное от духовного; он писал именно то, чего голландцы более не желали видеть в живописи: для них божественное существовало отнюдь не в материальном мире, как и все незримое. Поэтому они еще крепче любили свой обыденный мирок и его неверный свет, а также созданное ими совершенное общество.
С годами Рембрандт становился все более одиноким в воплощении замысла, которым он мечтал увлечь поколения.
«Ночной дозор»
Несмотря на мастерскую, картины о жизни Христа для статхаудера, произведения, связанные с жизнью Саскии и жизнью Самсона, пейзажи, которые он начал писать, гравюры, которых в эти годы становилось все больше, Рембрандт не уклонялся от исполнения традиционных обязанностей голландского живописца — создания групповых портретов, поскольку являлся одним из шести художников, кому было поручено написать картины для Обществ городской милиции Амстердама. Заказы, как известно, были сделаны в 1638 году в память о прекрасном параде милицейских рот во время въезда в город королевы Марии Медичи и для украшения новых зал, которые обустраивались для городских ополченцев напротив огромной башни Цвейг-Утрехт.
Для воздания почестей милиционерам в Голландии, естественно, нашлись стены, которые не предназначались для религиозной живописи. Шесть картин в самом деле очень велики. На каждой из них от восемнадцати до тридцати двух портретов ополченцев, изображенных в порядке старшинства: капитан, лейтенант, прапорщик, сержанты, барабанщик и рядовые. О чине изображаемого можно догадаться по его позе и месту в композиции.
Капитаны Корнелис де Графф, Франс Баннинг Кок, лейтенанты Фредерик ван Банхем, Геррит Худце, Ян Михиелс Блау, Лукас Конейн, Хендрик Лавренс, Биллем ван Рейтенбург командуют перестроением своих людей. Великолепное зрелище, а вся серия представляет собой наглядное свидетельство военной демократии, которую во всей Европе прославляла только голландская живопись начиная с XVI века.
Из года в год этот жанр развивался, композиция становилась менее жесткой, жесты — более естественными, и первоначальный план выстроенных в ряд портретов превратился в изображение слаженной группы. Франсу Хальсу случалось позволить себе улыбнуться при виде этих солдат, красных от тучности, слегка закисших от сладкой жизни вдали от военных лагерей; ни один народ не требовал с таким постоянством от своих художников воздания почестей стражам своей безопасности.
Известно, как родился план создания шести картин, посвященных шести ротам. Принимая во внимание высоту потолка в залах, художников просили соблюдать среднюю высоту в 3,4 метра. Некоторые подчинились, другие нет. Длина же варьировалась от 4,5 до 7,5 метра. Из-за отсутствия точных указаний о военной стороне вопроса роты на стенах получили определенную автономию, и наиболее многочисленным досталось больше места, чем другим.
Сумма гонорара художника была поделена между всеми участниками в зависимости от высоты чина. Некоторым бюргерам понравилось запечатлеваться на картинах: например, Франс Баннинг Кок, капитан роты Рембрандта, одиннадцать лет спустя снова повелел изобразить себя Бартоломеусу ван дер Хельсту среди командиров уже другой милиции — Сент-Себастьяна. По традиции сразу после распределения долей гонорара деньги отдавались художнику. Когда-то Франс Хальс получил за групповой портрет по 66 флоринов с каждого. Рембрандт, хотя на его картине было гораздо больше народу, получил в среднем по 100 флоринов от каждого изображенного стража, то есть 1600 флоринов за все. Если считать только узнаваемые лица, то помимо капитана и лейтенанта там еще восемнадцать человек.
В момент получения заказа и его исполнения главным соперником Рембрандта был Бартоломеус ван дер Хельст.
Будучи шестью годами моложе Рембрандта, он в совершенстве постиг формулу группового портрета, где у каждого должны быть свое место, своя индивидуальность, выгодный ракурс и лучший костюм, и все это в плотной человеческой массе, не исключающей динамики сидящих или стоящих групп, прохожих, военных атрибутов, прекрасной симфонии светлых красок и свежих отсветов. Никому так и не удастся его превзойти, и ван дер Хельсту до самой смерти в 1670 году предоставилось еще немало случаев достичь новых успехов в жанре, в котором он затмил всех.
Прочими художниками были немец Иоахим фон Зандрарт, впоследствии ставший одним из первых историков и критиков Рембрандта, Николас Элиас Пикеной, самый старший из всех, сосед Рембрандта по Синт-Антонисбреестраат, и, наконец, Говарт Флинк и Якоб Бакер — два самых юных художника. Второй находился под влиянием Рембрандта, первый пять лет назад покинул его мастерскую.
Таким образом, при выполнении этого заказа, занимавшего шестерых художников в течение нескольких лет, главенствующее место занимал Рембрандт, поскольку половину избранных составляли он и его ученики. В этих условиях, перед лицом самого умелого техника ван дер Хельста, Рембрандт в компании своих учеников Флинка и Бакера всерьез призадумается об обновлении жанра группового портрета и о том, чем он сможет отличаться от других. Итоги этих размышлений не будут иметь последствий в истории живописи. Никто не посмеет и даже не сможет пойти за ним по открытому им пути. Его работа сама перекроет другим дорогу.
Отправной идеей было написать портрет роты на марше. Движение должно было преодолеть неподвижность, которой требовал портрет. Чтобы обеспечить нечто большее, нежели простое сходство, стражей нужно было вписать в группу большего числа лиц, чем те, что уплатили взнос. Таким образом Рембрандт пришел к необходимости ввести в картину дополнительных персонажей, которых нельзя было бы узнать. Такое решение противоречило принципам группового портрета, но только так можно было добиться эффекта движения на картине.
Второй идеей было передать движение чередованием света и тени. Если высветить одного и затенить другого, получится подвижный ритм. Это прием эстетики барокко, но также и повседневное явление для Нидерландов, где солнечные лучи беспрестанно то гаснут, то вновь пробиваются сквозь гонимые ветром облака.
Наконец, требовалось допустить, что вся сцена не может представлять собой искусного построения в ряды: это должна быть сумятица людей, взявшихся за оружие, причем оружие самое разное — пики, алебарды, мушкеты, аркебузы.
Только что отдан приказ о сборе. Знаменосец по сигналу барабанщика развернул свое знамя. Городские милиционеры выходят на площадь из нескольких улиц. Они наклонили пики книзу, чтобы легче было идти. Они выходят из узких переулков, где идти было тесно, и теперь, едва появившись из-под арок, распрямляются и поднимают оружие. Словно мелкие ручейки впадают в озеро. Они выходят на простор. Площадь становится местом слияния многочисленных потоков. Войско без мундиров, когорта волонтеров, юных и старых вперемежку, одни в беретах, другие в шляпах, кое-кто в шлемах — все выходят на площадь, проверяя свою экипировку. Рембрандт пишет сбор граждан, а не мобилизацию военных. Необыкновенно удачна мысль провести людей под аркой, чтобы застать их в тот момент, когда они распрямляются и поднимают оружие.
Сумятица? Да, но она вызвана проходом по городскому лабиринту. Каждый знает, что ему делать, и через мгновение горожане выстроятся перед капитаном Франсом Баннингом Коком, одетым в черный костюм, подсвеченный красной перевязью, и лейтенантом Виллемом ван Рейтенбургом в желто-золотом одеянии, для которых привычен этот шум, предваряющий тишину в строю.
В это же самое время Рембрандт работал над картиной, названной им «Согласие в стране», на которой он изобразил сбор всадников в латах неподалеку от льва — символа на гербе Амстердама. Этим полотном он уже в героическом ключе утверждал то же, что хотел выразить, когда писал повседневность роты бюргеров. «Soli Deo gloria» (Единого Бога славим) написал он на утесе, охраняемом хищником-символом. Неупорядоченность средневековой аллегории перекликается с сумятицей на амстердамской улице, где потоки толпы пересекаются перед величественной неизменностью архитектуры массивных колонн и огромных стен, на которых вспыхивает и гаснет солнце.
В композиции картины рота Баннинга Кока крепко стоит на земле. Она помещена в центре нескольких треугольников, обращенных вершинами кверху. Вверху же настойчиво повторяются другие треугольники — из пересекающихся пик, алебард, наклоненных навстречу древку знамени. Внизу композицию усиливают ноги стоящих людей, вверху — лязг сталкивающегося оружия. Утвердив такое количество силы, исходящей от земли, Рембрандт может через эту основную структуру вскинуть руки, мушкеты, копья, заставить бегать детей, а собаку — лаять на барабанщика. Все эти мелкие эпизоды как бы проходят сквозь вертикальную стену людей. Создается неоспоримое впечатление того, что они идут вместе, образуют группу и продвигаются вперед. Ритм тени и света подготавливает ритм марша, который сейчас начнется.
К контрасту света и тени Рембрандт добавляет еще и другие: бегущий мальчик, девочка, пробирающаяся сквозь толпу, курица, подвешенная за ноги к ее поясу — кто она, маркитантка? — пустая перчатка, которую держит в руке капитан. И совсем маленький горожанин в шлеме, чей мушкет выстрелил по его недосмотру. Ружейный огонь коснулся желтой шляпы и перьев лейтенанта, не утратившего свой бесстрашный вид. Никто и бровью не повел. Ни эта случайная оплошность, ни встречные течения, ни водоворот, ни потери — ничто не остановит сил, собирающихся воедино.
Создается общность, образованная из самых разных людей, которые словно бы и не идут вместе и думают только о своих личных делах, но все же составляют собранный воедино народ. Среди них есть педанты и растяпы, сорвиголовы и умники. Они могут быть опасны со своим оружием, не имея, по всей видимости, достаточных навыков обращения с ним. Тот юнец с пикой рискует насадить на нее прохожего, как на вертел; этот подслеповатый старичок — пересыпать пороху в мушкет; если тот паренек упадет на бегу, то рассыплет свой порох, который несет в бычьем роге. Вон тот, в глубине, что щурит глаза, должно быть, совсем близорукий. Десять, двадцать необычных, порой шутовских деталей отражают разрозненность толпы.
Никакого безрассудства, но нет и рассудочности. Никакой таинственности, но нет и ясности. У Рембрандта светотень представлена не только в живописи, она владеет и персонажами. Ибо момент, изображенный на картине, — как раз тот, когда десятки слабых источников энергии соединяются, чтобы сделаться силой, когда беспорядок преобразуется в согласованность.
Очевидно, что эта картина приносит с собой настоящее смятение. Она построена на такой силе и выражает такие истины, питается таким количеством контрастов, что пять остальных групповых портретов по сравнению с ней выглядят простенькими работами, отражающими поверхностные, неглубокие мысли. «Ночной дозор» для гражданской доблести Соединенных провинций XVII столетия — то же, чем были «Похороны графа Ораса» Эль Греко для мистицизма Толедо, чем «Мастерская» Курбе станет для парижского общества XIX века, а «Сдача Бреды» Веласкеса была для куртуазных войн века XVII. Некоторым странам сопутствует необыкновенное везение обнаружить в отдельных художниках гений, который навеки запечатлеет их в истинном свете.
По всей вероятности, рота капитана Рулофа Бикера была больше довольна картиной ван дер Хельста, чем рота капитана Баннинга Кока — творением Рембрандта. Но Рембрандт сумел создать столь сильное произведение, что капитан, лейтенант и их шестнадцать подчиненных на века завладели умами, возникнув из подвижной толпы и оставшись навсегда там, где их запечатлела картина.
Однако полотно ван дер Хельста — хорошая, сильная, тонкая картина, насыщенная красотой тканей, стали, выражений человеческих лиц, выстроенная гармоничными группами. Она гладкая, словно ее и не касалась кисть, но это всего лишь красивая внешняя сторона того, чем были эти группы горожан и что они желали показать. Напротив, Рембрандт придал своим стражам порядка такое качество, о котором они даже не помышляли. Он привнес в этот жанр чрезмерность, которой не было раньше и никогда больше не будет.
Один Франс Хальс, работая в том же амплуа, достиг уровня Рембрандта, но в сюжете, лишенном безумств, написанном с улыбкой, но без сарказма, забавном, но без той явной насмешки, на которую решился Рембрандт, отважившийся изобразить смешное в таком мощном построении, что «Ночной дозор» стал в первую очередь картиной собрания свободных людей, то есть выражением идеала Республики. Наверняка никто ничего подобного от него и не ожидал.
В то время в мастерской сновал подросток четырнадцати лет — Самюэль ван Хоогстратен. Он хотел быть художником и станет им. Он тоже принимал участие в дискуссии, завязавшейся вокруг картины. Услышав: «Рембрандт вложил в полотно все свое воображение, но не создал портретов, которые должен был написать», Хоогстратен возразил: «Это произведение так живописно по своему замыслу, так умело создано по своей композиции, исполнено такой силы, что рядом с ним другие картины из дома Гражданской гвардии похожи на игральные карты». Он сказал это как художник, для которого картина существует прежде всего в своем идеальном качестве, а уже потом как изображение группы милиционеров.
Следовательно, в 1642 году Рембрандт имел основания полагать, что его понимает молодежь, а его труд в мастерской принес свои плоды, потому что Хоогстратен судит о живописи таким образом, потому что Бакеру и Флинку заказывают работы как мастерам, а направление мастерской получило общественное признание.
Благородные пейзажи и морские виды
Что представляет собой природа у Рембрандта? Хаотичное нагромождение скал, сухие деревья, пещеры, дикие цветы, ручьи, реки, высокие холмы, и все они создают более или менее подвижный фон, в котором вид дерева или цветка значит меньше, чем цвет и свет, усиливающие драматическую напряженность. В эту природу помещены города, дворцы, храмы, башни, ворота, а единственными ее обитателями являются библейские персонажи.
Конечно, Рембрандт видел Амстердам. Он зарисовывал некоторые башни, колокольни, мельницы, укрепленные ворота провинциальных городков с точностью, позволяющей их узнать, но чаще — водную гладь, пастбища, по которым движется несколько лодок, — обычные для Голландии виды, которые нельзя определить. В своих рисунках и гравюрах он был прежде всего наблюдателем. Но его рисунки — это заметки. Они служат для того, чтобы сохранить в памяти детали, а не для написания пейзажа. Он брал от природы то, в чем нуждался, у него было избирательное видение пейзажа: никаких прохожих у городских ворот или колоколен, никаких кораблей в городе. И если порой можно видеть кончики мачт над крышами, суда в конце улицы, то их гораздо меньше, чем было в действительности. Рисунок Рембрандта — это поиск предмета, его изучение и обособление от всего остального. В этом плане он не был пейзажистом или, во всяком случае, отличался от своих современников и последователей, принявших на себя роль топографов церквей, домов, каналов, городской суеты. В XVII веке Голландия пережила то, что Париж познал в XIX: развитие жанра городских, сельских и пригородных сценок, выходивших из-под кисти художников, которые специализировались на изображении пасущихся стад, перехода через брод, меланхолии дюн, суматохи городских и сельских постоялых дворов, рыбной ловли или рынка.
Какое бы ремесло ни становилось сюжетом картин и эстампов, его изображали с точностью, относившейся также к архитектуре и городскому пейзажу. Придет зима, лед скует каналы — и вот уже появляются другие сценки для картин: катающиеся на коньках, сани, снег на крышах, дымящие трубы. Не было ни одного времени года, ни одной черточки жизни голландцев, которую не отобразили бы художники. Это прекрасно уживалось с представлением о том, что страна сама создает свою живопись, зеркало своей жизни, а художник — лишь ее летописец. Картографами и пейзажистами руководило одно равное стремление — к точности. Это позволит Голландии перенести свою концепцию пейзажа на Италию, где Каспар ван Виттель Утрехтский под именем Ванвителли в конце XVII века побудит Каналетто, Беллотто и им подобных к изображению видов Рима, Венеции и многих других городов Европы — Лондона, Дрездена, Варшавы — на основе камеры-обскуры, аппарата перспективистов и архитекторов.
Рембрандт не дал себя увлечь этому течению, принявшему международный характер. Он и в этом удивил своих современников. Прежде он избрал для изображения обнаженного тела дочерей Евы, отмеченных печатью первородного греха, натурщиц, чья плоть была разрушена временем и нищетой; теперь его пейзажи по большей части не напоминали ничего, что можно было бы тут же узнать, будь то голландский город или сельская местность. Хотел ли он быть реалистом в изображении обнаженной натуры и нереалистом в пейзаже? Наверняка нет. Его вторжение и в ту и в другую область было одинаково мощным. Если он писал женщин с изможденными телами, то мог изобразить их красавицами, ибо стремился добиться от наготы ожидаемого эффекта, не стараясь подчиниться канонам красоты аллегорической. Так же он поступал с пейзажем, создавая его по своему усмотрению, и за восемнадцать лет, с 1637 по 1654 год, это позволило ему на дюжине полотен представить свои размышления о природе.
В его представлении природа наделена своим языком, как человеческое тело или лицо. Мост на реке, сраженное молнией дерево имеют на картине не только пластическое значение. Мост — это переход, опаленное дерево — трагедия. В его творчестве можно уловить что-то от взгляда Питера Брейгеля на воду и горы, Альтдорфера — на бескрайние панорамы, Рубенса, различавшего на горизонте изгиб нашей планеты. Ему нравится бескрайний пейзаж, как итальянцам Римской и Болонской школы и итальянизирующим голландцам, начинавшим возвращаться из своих поездок на Апеннинский полуостров. Ему нравится смотреть на пейзаж сверху, убеждаясь в бескрайности мира. Это уже не старинное speculum mundi (зеркало мира), где изображены стихии то в ярости, то в спокойствии, символы дня и ночи, солнце, луна и звезды или чудо радуги. От этого представления осталось желание показать землю в ее благородном величии: горы и долины, реку, огромное небо, следы цивилизаций — города, дворцы, руины, а в полях — землепашцев и пастухов, занятых своим делом. В общем, ничего в корне отличного от того, что «Георгики» Вергилия вписали в западную культуру и о чем также свидетельствуют панорамические рисунки Леонардо да Винчи, распахнутые окна Паоло Веронезе и мифологические времена года классического идеала — такие, какими их писали Карраччи, Пуссен и Клод Лоррен: желая показать присутствие античной истории в жизни полей, одинаковой из века в век, показать неизменную, если не сказать вечную, природу, где след человека прибавляется к следам других людей, все углубляя старую колею, поселяясь в вековых жилищах. Из поколения в поколение передается та же традиция, память о холмах, полных дичи, подлесках, богатых грибами, прудах, кишащих рыбой, больших орешниках и вековых дубах, — традиция, в которой сохранился след отважного быка, великолепного коня, чудесного вишневого дерева; в которой дом называют именем того, кто в нем однажды повесился, а берег — прозвищем того, кто с него утопился; где земля хранит память о небывалых уловах, нежданных урожаях, нашествиях завоевателей, бракосочетаниях принцесс и восхвалениях усопших. Для Рембрандта (и это очевидно) природа — место встречи воспоминаний людей, животных и растений в медленном преображении земли. Бесконечное измеряется веками, поэтому краткость человеческой жизни можно ощутить как звено непрерывной цепи. Волопас, погоняющий быка, рыбак, гребущий в своей лодке, моряк, спускающий парус, всадник, скачущий по дороге, продолжают прежние жизни, несмотря на то, что от новой когда-то церкви теперь сохранились лишь руины, дворец заброшен, и никто не помнит, кому поставлен памятник.
Ибо Рембрандт смотрит на природу не ностальгическим взглядом романтика и любителя развалин. Он выбирает пейзажи, широко протянувшиеся в пространстве и времени, которые они же и выражают. Отсюда мертвые деревья рядом с живыми, колеи на дорогах неподалеку от едва протоптанных троп, леса из столбов и досок вокруг грозящих обрушиться колоколен и мельницы — и все это в выверенном, выдержанном, аккуратном обрамлении, несмотря на внешнее запустение. Горожанин умеет разглядеть жизнь словно бы уснувших полей, распознать бескрайность, окружающую людей и оставляющую в одиночестве рыбака у реки, всадника на склоне холма.
Поэтому его представление о природе являет собой идею неизменности ценностей. И если в поступках людей отражается их прошлое, ничто не мешает поместить в этот неподвижный мир актеров библейских сцен. Разве добрый самаритянин не вез бедняка на своем коне точно так же, как фермер препровождает в свой дом раненого работника? И в этой неизменности единственно важными являются изменения света. Постоянно меняясь, он вдруг выбелит рощицу на холме, вычернит реку под деревянными мостками. В спокойном, просторном, гармоничном пейзаже, по которому движутся маленькие фигурки людей и животных, он то вспыхивает белесой молнией, придавая ветвям дерева окаменелый вид белых кораллов, то делает их похожими на скелет, костяк со дна моря, грудную клетку, которая больше не дышит. Природа одновременно жива и мертва, сокрыта и явленна. Гроза Рембрандта смещает точки отсчета, множит сравнения, и в конечном счете у людей появляется чувство всеобщности. В те времена природа обычно служила фоном для «Бегства в Египет», «Поклонения волхвов», «Нарцисса, разглядывающего свое отражение в воде», «Товия, удящего рыбу». Или появлялась в чередовании всех времен года, где представала выхоленной людским трудом. Целый набор деревьев, утесов, мостов, замков на вершине холма, озер, далеких гор, кораблей на море позволял художникам изображать природу если не в полном объеме, то по крайней мере в разнообразии. В этом Рембрандт не отличался от Аннибале Карраччи, Адама Эльсхеймера, Доменикино, Альбане или Никола Пуссена. Однако если Клод Лоррен изображал виллу Медичи как портовый дворец, а фрагмент Колизея — в виде берегового памятника, Рембрандт отвергал архитектурные цитаты. Не от недостатка образованности, а просто потому, что они не были ему нужны. Точно так же, в отличие от Гаспара Дюге, открывшего Тиволи — храм на вершине, пересеченные долины, каскады — архетип фрагмента идеальной природы, — он не верил в существование совершенного пейзажа. Конечно, он не был в Италии и видел античные стены и статуи лишь на гравюрах, но его природа не такая, как у итальянцев. Не пожелав вводить в пейзаж их храмы, он отказался и от утесов и рвов. Равнинный простор, который он любил писать, — это долина Рейна на возвышенностях, когда его воды стремятся в Нидерланды. И все же его рейнский пейзаж смотрится на таком же отдалении, как итальянский пейзаж Пуссена: в обоих случаях речь идет об идее. Пуссену по душе марево зноя, Рембрандту — свежесть. Помимо обелиска, нескольких башен на вершинах холмов, моста, колокольни восстанавливаемой церкви, Рембрандт не видит в своем пейзаже ничего монументального. Правда и то, что в Италии фермы, открывавшиеся художникам у подножия холмов, были архитектурными шедеврами с башнями, арками и величественным входом, тогда как в Голландии ферма представляла собой всего лишь хижину из хвороста, с земляными стенами и соломенной крышей. Труба выложена из кирпича. Деревенская постройка, одновременно удобная и естественная, обладает большими и красивыми объемами, но в корне отличается от городских строений; Рембрандт хотел показать величие и пустынность просторов, жизнь вдали от поселений, преодолевшую городскую замкнутость в четырех стенах.
Его картины тяготеют к большим пространствам, где солнце пронизывает своими лучами тучи, к просторам, где взгляду открываются величие земли, бескрайние виды, глядя на которые хочется глубже дышать. По сравнению с итальянской природой в рейнском краю редко встречаются мифы. Никаких сивилл, нимф или сатиров; единственно зычные голоса — звуки дыхания земли и неба: диалоги холмов и туч. В этой бескрайности становится заметно то, что в городе видно только в отблесках: гроза и молнии. Грозу изображали на картинах с незапамятных времен, но в основном после Джорджоне и Венецианской школы XVI века. Джорджоне написал ее свет в небе над хрупким пейзажем, превратил молнию в символ, поскольку для картины не был важен ее свет. Напротив, Эль Греко под конец жизни (он умер в 1614 году) оставил от молнии лишь отблеск в мрачной бледности Толедо, возвышающегося на берегу Тахо, над сплетением извилистых дорог, — Толедо, стены и башни которого он не боялся сдвинуть с места, чтобы показать его в момент, предшествующий концу света, пока люди спокойно идут своей дорогой.
Гроза есть и на полотнах Гаспара Дюге, современника Рембрандта. Дюге нравится, как пригибаются деревья, как горизонтально колышутся их ветви, отягощенные листвой, словно стелющаяся трава, когда все вокруг вздымается и несется под шквалистым ветром. На его картинах отчетливо видна молния, поражающая башню и высекающая из нее первое пламя пожара. Для Рембрандта, Джорджоне, Дюге или Эль Греко гроза — это столкновение огромных туч, демонстрация высшей силы. Уже никто не верит, что молния — волеизъявление богов, зато это — явление силы разрушения, заключенной в природе.
Рембрандту-рисовальщику интересна композиция воды, неба, берегов, хижин перед его глазами, но он отказывается изучать их досконально. По всем этим причинам его пейзажи редко узнаваемы. Да, он зарисовал в Амстердаме башню Вестеркерк, башню Монтельбаан, большую башню Цвейг-Утрехт или ратушу, ворота Рейнских укреплений подле Утрехта, английский город Оксфорд под Лондоном, собор Святого Альбана, но этого мало, к тому же рисунок мог появиться в результате как прогулки, так и изучения чьих-то гравюр. Без особого интереса смотрел он и на деревья. И если он сделал гравюру с дряхлой ивы, вросшей в речной песок, то лишь для того, чтобы передать ее сложные изгибы, в которых мог бы укрыться какой-нибудь гном или фея. В основном деревья у Рембрандта растут не в одиночку, они образуют маленькие группки, выстраивающиеся в ряд на пригорке, превращаясь в островок среди двух бесконечностей — воды и неба.
В то утро он взял с собой несколько медных дощечек, бумагу, склянку с тушью, кисти, резец, перья и ушел. Он оставил Амстердам за спиной и вышел через ворота Святого Антония, что в конце улицы. Город еще рядом, но о его присутствии можно судить лишь по нескольким колокольням, башням и мельницам, машущим крыльями на крепостных стенах. И все же он еще не на краю света. Барки снуют туда-сюда. Лошади тянут баржи по бечевнику. Рыбаки с берегов и пассажиры с барок перекидываются парой слов. По дороге, ведущей на дамбу, катятся двуколки. Пастухи, присматривающие за своими стадами, окликают прохожих. В такой ухоженной, обработанной и обитаемой природе одиночество всегда только временно, и где бы ты ни устроился для того, чтобы сделать рисунок или гравюру, всегда наверняка увидишь вдали крутящуюся мельницу, всадника, проезжающего по гребню дамбы, птиц, взмывающих в небо, уток, рыскающих в травяных зарослях, корабль, совершающий свой путь к доку. Маленькая Голландия — страна бедная, но целиком возделанная и густонаселенная.
Чего ищет Рембрандт в этой заболоченной местности, где то тут, то там торчат крестьянские домики? Наверное, что-то, тайно проявлявшееся в его живописных пейзажах, благородных ландшафтах, а здесь становящееся явным: природу, над которой не пролетали боги. Не дикую природу, поскольку здесь она столь ухожена, а эту невзрачную землю, это болото, в котором увязают армии и где живут птицы, рыбы и голландцы. Рембрандт мог бы, подобно венецианским художникам, уделить внимание структуре лагуны, сетке каналов, красивым домам, мостам из камня и кирпича. Но нет: он идет к хижинам, предпочитает новым постройкам восстанавливаемые кварталы, мельницы с облупившейся штукатуркой, дом, крыша которого просела под тяжестью проросшей на ней растительности. В юности он разглядывал изборожденные морщинами лица стариков, сегодня — отжившие свое фермы, мельницы, которые не мешало бы починить. Его интересует не столько творение и стиль архитектора, сколько непреходящесть жилища, то, как оно сопротивляется стихиям, погружается в подвижную землю, окруженное жалким заборчиком, который еще какое-то время, возможно, защитит его от окончательного разрушения. Ему нравится непрочность жизни на этой лагуне, где жители принимают меры для того, чтобы выжить, стараясь сохранить свое родство с болотом, его травами, кустарниками, птицами и рыбами. Уже непонятно, поддерживается ли крыша лачуги стенами или пронизывающими ее ветвями. Между слившимися человеческим пространством и пространством природы наступило полное согласие.
Не один Рембрандт питал пристрастие к таким неузнаваемым пейзажам, вдали от города, вдали от моря. Ян ван Гойен, Саломон Рёйсдал тоже любили болота. Свои сюжеты они искали на просторах, расположенных ниже уровня моря, за дюнами, защищавшими их от приливов. Яну ван Гойену нравились сваи, покрытые коричневыми водорослями, вбитые в зыбкость серой воды; Саломону Рёйсдалу — затерянные уголки без названия; Рембрандту тоже. Он привел в эти места своих учеников — Фердинанда Бола, Гербрандта ван дер Экхаута. Он повел их в сторону Харлема. На горизонте — мельницы, городские колокольни, но впереди — ровное пространство, изрытое оросительными каналами, размеченное вехами редких ферм.
Филипс Конинк, чьи панорамические пейзажи составят ту часть его творчества, которая дойдет до потомков, будет вспоминать об уроках, которые давал ему Рембрандт, открывая перед ним голландский пейзаж, какой не охватишь глазом. Но ни один из его учеников не пойдет за ним, не станет писать странные лачуги береговых жителей, сорняки, растущие на кучах расползающейся грязи, никто не продолжит диалог, который ему по душе.
Однажды Рембрандт выгравировал художника, сидящего на земле. Это один из его учеников, рисующий дом у лагуны. Дом не заброшен, поскольку на соседнем лугу пасется маленькое стадо, а у входа в амбар стоит тачка. Но он выглядит старым и ветхим. Солома на крыше прохудилась. Под деревом свалены остовы повозок и лодок. И главное — двери и окна закрыты.
Рембрандту явно нравились места, где были забыты правила людских поселений, которые будили воображение причудливыми формами неровных заборов, застывших у края воды, словно плавучие деревянные обломки кораблекрушения, или досок, воткнутых в камыши и покрытых густой шапкой соломы, над которой дерево выглядело как перо диковинной птицы. Для голландца, о стены жилища которого каждую неделю плещется большая вода, причуды островков лагуны — это тропинка, помогающая войти в царство болота.
Может быть, для Рембрандта это преемники химерических хитросплетений, которыми полны картины Иеронима Босха? У его мельниц порой черные глаза. Солома на крышах ложится складками шкуры. Дома, опутанные растительностью, словно готовы выступить в болота, как машины-амфибии, как огромные коровы с деревянным скелетом, кожей из полотна и тростника, как вызов, брошенный городу и порядку, как те нищие, которых не должно было быть в процветающих городах и которых художник тем не менее беспрестанно встречал и рисовал. Тайна — и Рембрандт это знал — возникает всегда в сумерках и на заре: в час, когда торжествует неопределенность. Тогда жилища — уже не просто невинные кущи, подобные другим, ибо тот, кто там живет, зажег масляную лампу и превратил свое жилье среди вод и ночи, на пороге невероятного, в место бдения, в привал на пути душ умерших, поджидающих лодку, которая унесет их к морям забвения. В голландском болоте Рембрандт искал связь с древними силами, которые изгнаны из городов рассудочностью, расчетливостью и соразмерностью.
Амстердам — это место, где река исчезает в каналах. Рембрандту не захотелось бы писать ее порабощенной. Он, наверное, отправился бы выше — туда, где, появляясь меж холмов, она еще сохраняет свой дикий вид. Или в низовье — туда, где она переходит в другое таинственное состояние: исчезает в море. Он любил природу в крайних проявлениях ее силы. В противоположность итальянцам и французам своего времени, он не сводил природу к изображению какой-нибудь аллегорической фигуры. Он хотел, чтобы она была таинственной. И подстерегал ее потайные состояния, невидимые силы, то, что обретает жизнь в изгибах линий, возникает в сгустках тени, не поддается определению. Ему было нужно неразграничимое, ибо именно таким образом он строил изображение. Смысл появится из совокупности бессмысленных знаков. Так начался поиск, странные композиции, на которых в конце концов удается различить людей среди куп деревьев, возвышающихся на кучах ила. Так появились дышащие холмы — но что это было за дыхание? Рембрандт принадлежал к поколению, которое не определяло непонятное. Перед лицом тайны он не мог или не хотел ее разгадать, не придавал ей форм, которые позволили бы различить ее составляющие, назвать действующих лиц. В этих землях ему нравились двусмысленность, неоднозначность. Не то чтобы он хотел наделить их несколькими значениями, но он естественным образом выбирал то, что было наиболее полно жизнью, и его кисть на холсте, перо на бумаге, резец на меди создавали своими движениями самую насыщенную материю.
Его пристрастие к изобилию выражалось в тревоге перед тем, что сокрыто. Он не переворачивал мир вверх дном, чтобы явить обратную сторону вещей, но знал об их двойственности, о шатком равновесии разума и безумия, добра и зла, и хотел сделать ощутимым беспрестанное движение от того к другому.
Ибо рука может изобразить гораздо больше, чем доступно глазу. От малейшего движения ложится тень, порождающая жест. Появляется свет, открывающий вершину. Каждое мгновение является то, чего, возможно, художник и не собирался отображать, что не вписывалось в его план, но он принимает это. Для него форма хороша лишь тогда, когда она заключает в себе все формы.
Насытить изображение всем, что может и хочет в него войти, — вот что отличает Рембрандта от других художников его века, особенно живописцев Италии, Франции и Фландрии, чей идеал — это свет, который позже назовут классическим, и завершенность отображения трактуемого ими сюжета. Они стремились к тому, чтобы картина своей композицией, рисунком и цветовой организацией являла очевидную данность. Предначертание и очертания должны совпадать. Такая гигиена творчества изгоняла паразитов идеи, уничтожала лишайники, истребляла мхи, распространявшиеся всюду и скрывавшие изначальную идею. Классическое искусство — это выверенное совершенство, равновесие усмиренных сил — равновесие воспаряющее, когда затуманенная память делает контуры нечеткими, а прошлое приглушает краски. В этом всеобщем умиротворении, в этой системе, нацеленной на то, чтобы все просветлить, искусство порождает изображения с четким распределением компонентов, точно отмеренной долей тайны: это Пуссен.
Рембрандт, напротив, приветствует двусмысленность. Он убежден, что она сообщает произведениям многоликость, которая надежно вписывает их в многообразную действительность. Он вовсе не пытается создать теорию прекрасного, которая позволила бы переноситься с земли на небо и обратно через все категории на свете. Он отвергает все, что упростило бы мир, защищая изобилие жизни.
Можно сказать, что Рембрандт не придерживался иных правил, кроме своей Веры, не изобретал нового устройства мира, не был приверженцем рационального порядка. Безусловно. И, безусловно, он обладал разнообразными навыками. По примеру крестьянина, который в своем поле-огороде чередует культуры, или охотника, наловчившегося и стрелять, и устраивать западни, он чувствовал, что способен на любые уловки, чтобы выжить и сохранить в кислоте офорта, воде акварели, масле картины, угле рисунка свою творческую силу.
Постоянно находясь в движении, и на суше, и на воде, кочуя во всех формах и по всем тропам, живя всеми преображениями, Рембрандт вынуждает наблюдающего за ним следовать несколькими путями одновременно.
Постоянство преображения
В каждой картине под накладывающимися друг на друга слоями вплоть до окончательного изображения, покрывающего собой предыдущие, теряется путь, проделанный мыслью.
Обычно идея рождалась у Рембрандта из рисунка, от него и начинался весь путь. То есть идею сначала принимал лист бумаги: фигуры в заданных позах, окружающая их обстановка. Например, «Явление Христа Марии Магдалине». Она стоит на коленях, сомкнув ладони, перед мужчиной в широкой соломенной шляпе садовника и с лопатой в руке — Христом. Вдали — оливковый сад и три креста, город с высокими башнями и толстыми стенами. Несколько крупных штрихов обозначили темный вход в пещеру, к которой ведут горизонтальные линии ступеней. Это рисунок-инсценировка, поиск поз: Христос оперся локтем о камень, Мария Магдалина откинулась назад.
Из этого рисунка родятся две картины: одна в 1638 году, вторая — тринадцатью годами позже, в 1651-м. Видно, живописец решил, что рисовальщик сделал свое творение слишком статичным, поскольку он привнес движение, изменил дали пейзажа, увеличил утес и куст под ним, а главное — переменил местами положение фигур. Но одна картина не исправляет другую. Это две вариации одной темы, заданной рисунком.
Ибо перо с коричневой тушью быстро скользит по бумаге. Едва оторвалось, чтобы окунуться в чернильницу, — и снова в путь. Оно ничего не меняет, только выделяет, подчеркивает. Водружает купу деревьев, обозначает листву. Затеняет штрихами башню, придавая ей объем. Чтобы обозначить ветви, прорастающие сквозь скалу, достаточно провести лишь одну извилистую линию. Так намечено присутствие растения, о котором вспомнит живописец. Никакой ретуши. Рисовальщик знает, чего хочет. Перо не отклоняется в сторону. Между двумя кругами обозначены большие вертикальные основы композиции. Здесь все вместе: и общий план, и детали. Ясно видно удовольствие, которое получает рисовальщик, выводя толстые и тонкие линии. Живая идея доверена бумаге. Ее дыхание — дрожь пера, задающего ритм.
На бумаге он доходит даже до того, что сегодня назвали бы абстракцией. В центре листа живет своей жизнью штрих: сначала он колеблется, потом опускается вертикально, заворачивает под прямым углом и в конце концов завершается толстой круглой точкой. Знак, заключающий в себе бесформенность утеса и растений, нетвердость веры и завершающийся прямоугольными очертаниями архитектурных форм, словно утверждением духовного кредо. В этой скорописи — зародыш мысли. Вокруг него воплощается идея.
Путь Рембрандта многообразен, разветвлен. От рисунка к рисунку, от рисунка к гравюре, от гравюры к картине, от картины к гравюре — поиск происходит то явно, то скрытно, мысль рассеивается между тушью, маслом и кислотой, хотя внимание отдается любой технике, любому опыту.
Однако нельзя равнять офорт и живописное полотно. Поначалу Рембрандт относился к медной дощечке так же, как к листу для рисунка. Он делал на ней заметки, набрасывал идеи. И навсегда сохранил привычку собирать свои медные пометки и проекты. В начале 1630-х он полагал, что необходимо разделять трактовки одной и той же темы. Поэтому в «Воскрешении Лазаря» Христос на картине показан в фас, с поднятой рукой, а на гравюре — со спины. В живописном «Бегстве в Египет» Святое семейство появляется из леса, а на гравюре — входит в него. Наконец, с 1634 года в своем творчестве он уделял гравюре главное место, равное по значению живописи. Тогда он выгравировал «Благовещение пастухам» — произведение, исключительное по своим размерам и драматическому замыслу. Охваченные паникой коровы и овцы пускаются врассыпную; перепуганные пастухи устраивают давку; небо разверзлось, явив взгляду целое крылатое племя, порхающее в лучах главного источника света; у кромки туч является Ангел, поднявший огромную руку; его зычный голос эхом прокатился по земле, возвещая рождение Иисуса; вдруг открывшийся небесный свет ярко освещает суматоху среди животных и слабее — город вдали; он слегка касается и огромных арок крепости, спускающейся к реке, в которой отражаются между деревьев огни военного лагеря; в долине темно, черен лес, зияющий между скал, его мертвые деревья вздымают стволы к самому небу, и пена листвы переходит в накипь туч; качаются пальмы, в глубокой ночи вспыхивают дрожащие огни. Рембрандт хотел прежде всего показать ночь. Он выщербил свою медную пластину, изъел ее кислотой, чтобы добиться превосходного черного цвета, и сделал пробный отпечаток.
Затем он разместил светлые участки, яркие блики. В хаосе людей и животных на земле и кружении херувимов в разверзшемся небе перекликаются два жеста: воздетая рука Ангела и знак, который подает белый скелет засохших ветвей, с коих свисает одинокая плеть развевающегося по ветру плюща. В этом контрасте священного порядка неба и земного смятения на фоне спокойного пейзажа просторной долины земля выглядит более таинственной, чем небо: этот холм, вздымающийся двумя горбами, дуплистое дерево, нервно шевелящее своими старыми, лишенными коры ветвями, головы животных, то появляющиеся, то исчезающие в зарослях, — все гораздо более живое, потому что на земле изобилует жизнь, наделенная множеством смыслов, тогда как на небе властвует геометрическое совершенство небесного света. Это самый глубокий по смыслу эстамп, созданный им до сего времени.
Порой гравюра становится расширительным толкованием картины. Так, эстамп, родившийся из одного из полотен, заказанных статхаудером — «Снятие с креста», — это репродукция, сделанная с пометкой cum privilegium (права защищены) во избежание пиратства.
В 1636 году Рембрандт получает еще одни исключительные права на гравюру схожего уровня — «Се Человек»: представление Христа Понтию Пилату и народу. На этот раз она была сделана не с заказной картины, а с гризайли, созданной специально для будущего эстампа, то есть с произведения, написанного в оттенках серого или коричневого цвета, замысел которого основан на изменении насыщенности валёров. Гризайль он написал в двадцать восемь лет, за эстамп принялся в двадцать девять. Оба произведения — одного формата, но эстамп должен был выразить больше, нежели картина. Гравюра подчеркивает, уточняет, добавляет, а порой и устраняет лишнее, воссоздает в подробностях, возрождает первоначальную мысль в штрихе, наделяет лицами людей из толпы, обозначенных на картине всего лишь силуэтами.
Переход к эстампу тем не менее не означал, что гризайли отведена роль подготовительного этюда. В доказательство тому существует другая гризайль, которая не станет гравюрой, но будет дополнена, приклеена к деревянной панели и пущена в обращение в качестве картины.
У Рембрандта новое произведение не отменяет собой предыдущее. При этом он вовсе не скаред, которому жаль что-либо выбросить, ибо все, произведенное на свет, когда-нибудь находит себе применение. Этот человек управлял тем, что делал. В живописи он исправлял поверх написанного, и толщина слоя краски соответствовала сложности освоенной идеи. В гравюре эту сложность можно проследить в чередовании состояний эстампа. Но в «Се Человек» двадцатидевятилетнего Рембрандта, как и в предшествующем ему «Снятии с креста», эстамп из-за своей точности являет собой выхолощенный живописный проект. Похожую потерю, но в противоположном смысле, можно отметить при сравнении «Благовещения пастухам» (гравюры) и «Вознесения Христа» (картины), которое он напишет двумя годами позже для той же серии, предназначавшейся для статхаудера. Небо как небо, ангелочки как ангелочки — картина, более классическая, не обладает мощью эстампа. На пути от одного разверстого неба к другому невосполнимо утрачен творческий импульс.
Он извлек из этого урок: гравюра более не должна опираться на картину. Отныне эти пути пойдут параллельно, а их взаимообмен получит тем большую силу, что уже не сможет выражаться лишь в форме: диалог выйдет на уровень замыслов, поиска. Еще больше контраста между светом и тенью. Еще больше насыщенности материала (масляной и типографской красок). Здесь он усиливает особенности живописи, там — гравюры.
Рембрандт предоставляет другим заниматься распространением графических копий с его картин. Но сам, на своем прессе делает эстампы, проверяя эффект от насечек гравировальной иглы и резца, глубину впадин от кислоты.
Закончив гравюру, он не прекращал свои опыты. Если профессиональный печатник стремился к получению сходных экземпляров, Рембрандт, которого не могли интересовать повторы работы, признанной «пригодной для печатания», изыскивал отличия. Он делал более светлые и более темные отпечатки. Оставлял на медной пластине легкую пелену краски, которая позволяла получить кое-где серые оттенки: их он уже не сможет, да и не захочет повторить. При этом он вовсе не стремился к изысканности и не старался получать систематически разные изображения — просто хотел посмотреть, что из всего этого получится.
То же с бумагой. Ибо разнообразие основы увеличивает разнообразие отпечатков. Так, сначала он использовал белую бумагу, ввозившуюся из Франции, потом — бумагу голландского производства. Он пользовался пергаментом, потом открыл для себя довольно грубую бумагу цвета пеклеванного хлеба, сорт оберточной, бумагу цвета овсяной соломы. Затем ему полюбилась цветная бумага, поступавшая из Японии во всей гамме — от оттенка яичной скорлупы до желто-золотого, а также бледно-желтая бумага, возможно, индийского происхождения. Он применял и бумагу жемчужно-серого оттенка.
Самолично делая эстампы, Рембрандт никогда не доводил свои медные пластины до износа. Он знал, до какого количества экземпляров, сделанных под прессом, черный цвет сохраняет свою силу, и ограничивал тираж. Делая отпечатки разнообразными, он к тому же придавал каждой гравюре статус оригинального произведения. Такая манера работы изменяла коммерческий подход к эстампу и позволяла ему запрашивать очень высокую цену. Благодаря этому он смог обменять один эстамп на очень редкое старинное произведение Марка-Антония Раймонди, гравера Рафаэля. Он, Рембрандт, еще при жизни котируется так же высоко, как мастер Возрождения! Торговец оценил Марка-Антония в сто флоринов. Он согласился на обмен. И офорт навсегда получил название «Лист в сто флоринов».
Сто флоринов… Рембрандт покупал на публичных распродажах некоторые из собственных гравюр по ценам, удивлявшим коллекционеров. Надо было показать, что гравюра — не просто способ тиражирования картин, а самостоятельное искусство. Сам он, некогда приобретший на аукционах три эстампа Луки Лейденского за 1 флорин и 10 стейверов, шесть гравюр Альбрехта Дюрера за 2 флорина и 5 стейверов, прекрасно знал, какую силу предубеждений приходилось преодолевать, чтобы наделить гравюру признанием и денежной ценностью.
Его век был в этой области веком изобретений. В Италии Джованни Бенедетто Кастильоне изобрел монотип, то есть способ делать единственный отпечаток с пластины, покрытой типографской краской. Кастильоне родился в 1616 году в Генуе и был знаком с эстампами Рембрандта; он вдохновился ими до такой степени, что делал вариации с его автопортретов. В Голландии Херкюлес Сегерс, умерший незадолго до 1638 года, работал, со своей стороны, над совершенно новыми опытами. Для получения цветных эстампов он использовал красную и зеленую краски, цветную бумагу, делал отпечатки на ткани, смешивал краски масляную и типографскую. Живописец просторных и спокойных пейзажей, горных панорам, будящих мечты обитателей равнин, в гравюре он стал мастером просторов грез, великих долин сна, усыпанных разрозненными глыбами, губками, пропитанными сновидениями, где на склонах гор застыли обезглавленные деревья, где огромные ели, словно призраки, размахивают своими лапами, покрытыми лишайником. Рембрандту нравилось его творчество. Он покупал его картины, гравюры и даже приобрел одну из его медных пластин: пейзаж, изображающий долину, покрытую деревьями, и переходящий в равнину с деревенькой на горизонте; по краю леса, по земле, покрытой мхом, идут Товий с огромной рыбой и сопровождающий его Ангел.
Пластина была куплена не случайно: надо было выяснить, как работал Сегерс, понять его технику — редкую технику мягкого лака, для которой требовалось подогревать пластину, в результате чего получалась непрерывность контуров. Сегерс был изобретателем, уникальным для своего времени. А случай распорядился так, что Рембрандт купил пластину, по которой о Сегерсе можно было судить как о рассудочном художнике. Стал ли бы он хранить ее, если бы она была порождением другого, менее благоразумного таланта, полного незаурядной неистовой силы, свойственной и ему самому? Как бы то ни было, он взял лощило и принялся стирать с большой медной пластины, 28 см длиной, Товия и Ангела, чтобы заменить их Иосифом и Марией на осле во время бегства в Египет, привнеся таким образом свою манеру в творчество уважаемого им художника.
Глядя сегодня на шесть отпечатков, которые он сделал один за другим, можно проследить, как они перекликаются. Ибо Рембрандт стер не все в той части, которую вновь отполировал. Крылья Ангела проступают из-под начерченных ветвей деревьев, а его меч выделяется наклонной линией позади осла. Фигуры у Рембрандта меньше, чем у Сегерса. Выведя из света, он погрузил их в лес, ввел глубоко в пейзаж отсвет воды, преобразовал землю, стерев мох и опрокинув огромный ствол засохшего дерева среди зарослей. Наконец, чтобы затушевать Ангела, он преобразовал складки его одежд в мощную сеть линий, охватывающих тело Богоматери.
Таким образом, диалог ведется в открытую: Рембрандт хочет привнести свой свет, свою структуру в произведение, которое он считает путаным, изобилующим повторением одних и тех же распускающихся почек. Но в этом диалоге оставляется то лучшее, что создано другим. Так, к размеренности тянущегося кверху лиственного леса Сегерса Рембрандт добавляет свою листву, более подвижную, пронизанную вертикалями живых и мертвых стволов. Перед паломниками, пробирающимися по опушке леса, там, где Сегерс поставил бледный тополь почти на самом горизонте, Рембрандт посадил молодое деревце, с которого опадают листья, — напоминание о других деревьях Сегерса, порою похожих на фонтаны слез.
Складывается впечатление, что медная табличка Сегерса, попав к Рембрандту, пробудила в нем воспоминания о немецком художнике из Рима, которым он заинтересовался с самых первых своих шагов, — Адаме Эльсхеймере, часто обращавшемся к теме Товия и Ангела и чью картину перевел в гравюру голландец Хендрик Гоудт, а затем скопировал Сегерс. В эстампе Гоудта и на гравюре Сегерса Рембрандту нравилась равномерная кудрявость высоких деревьев Эльсхеймера. И если он и поменял персонажей, хотя они были в духе Эльсхеймера, то только потому, что они смущали его у Сегерса.
У Сегерса звучала та же музыка, которую любил Рембрандт — тонкие лучики, пробивающиеся сквозь листву, очаровавшие его, когда он учился у Питера Ластмана, — старинная музыка, вернувшаяся к нему через искусство, приемы которого он стремился познать. Может быть, он вмешался в него потому, что не счел этот прием достаточно сильным? Или персонажи не были достойны Эльсхеймера и Сегерса? Может быть, это был порыв гнева?
А возможно, что он был обуреваем желанием присоединить свой голос к дуэту двух художников, который звучал в его душе все прошедшие десятилетия и в котором слились их идеи, сюжеты, приемы и образы.
Метаморфозы. Творчество Рембрандта свершается сразу везде, одновременно по нескольким направлениям. Одно ремесло сменяется другим, набираясь силы в каждой области. Будь то медь, бумага или холст, одна основа отсылает его к другой. Его изобретательство выражается в действии, но еще и обновляется в чужих образах, в произведениях нескольких любимых им художников. Он не заимствует стиль, не подвергается влиянию, он ищет нужную ему суть: мерцающий свет у Эльсхеймера, густоту леса у Сегерса или волосы у Луки Лейденского, оттенок бархата у Кранаха. Он неспособен скопировать в своем произведении чужой элемент. Все попадает в него опосредованно, претерпев преобразования, которых требует его натура. Он гоняется за редким зверем и не часто оказывается с добычей.
Мало было надежды, что этот дар выдумки, творческая подвижность передадутся его ученикам. По крайней мере, они наблюдали его талант, узнавали его ритм, завидовали его легкости. Ни один из них не разовьет в себе таких способностей, но никто и не пожалеет об увиденном зрелище разума в действии.
Глава VI ЗРЕЛОСТЬ
Бурление жизни
В преддверии сорокалетия Рембрандт пишет себя. Ухоженный мужчина, мех, шелка, бархатный берет, элегантный костюм со струйками дорогих золотых цепочек. Он еще молод: белокурые усы, легкий штрих бородки обрамляют розовые губы. Это человек, уверенный в себе (рука на столе сжата в кулак), влиятельный, богатый. Добившись высокого положения в Амстердаме, он теперь, не то что в начале карьеры, получил возможность избирательно принимать заказы. Его известность основана на двух картинах, навечно выставленных в Амстердаме в Гильдии хирургов и в Залах городской милиции, а также на репутации, которую он приобрел своей «Жизнью Христа» для галереи статхаудера в Гааге. Наконец, он руководит мастерской, прославившейся на все Нидерланды.
За десять лет он создал себе имя. Десять лет — от «Урока анатомии доктора Тульпа» до «Ночного дозора» — время эволюции и в манере письма, и в образе мыслей. По мере того как краски его становились богаче, разнообразнее, а кисть признавала за собой право являть глазу свои следы — гладкие или шероховатые — и показывала таким образом силу и утонченность создаваемой ею живой кожи, плоти, дышащей через поры, с желваками мускулов, каналами вен, сочетающей сморщенную, гладкую, волосистую поверхность, гораздо более сложную, чем переплетение долевой и поперечной нитей в холсте, идея картины проступала все яснее. За десять лет Рембрандт пришел ко все более мощным изображениям, смысловая нагрузка которых беспрестанно возрастала. Такой ясности замысла он добился через упрощение, собранность. Он обрел ее, обостряя драматизм, стремясь к большей напряженности действия. Он не отступил перед ужасом ослепления Самсона, но сумел изобразить его страдания на фоне легкой поступи Далилы, упорхнувшей с обрезанными прядями. Для изображаемых действий он искал мимолетные, краткие моменты: сабля, выпущенная рукой солдата и падающая на землю, группа воинов в кирасах, опрокинутых вверх тормашками силой Ангела. Верующий человек, стремящийся показать деяния Бога, уловить чудо, зная, что оно длится не дольше вспышки молнии, он пожелал стать живописцем мига откровения, сделаться открывателем переломных моментов, прерывающих течение действительности. Нарушить порядок вещей. Рембрандт показывает вспышки, ломающие мировое устройство. Свет наносит удар. Луч разрушает целое, пробуждая к жизни драматургию, терявшую силы в утомительном повторении тем. Рембрандт возрождает нестерпимый трагизм Страстей Христовых, никто так не писал до него страданий, сомнений и надежды, словно, несмотря на бессчетные заалтарные картины, их изображавшие, никто до него не понял непостижимого и неразрывного единства надежды и отчаяния.
Будущее можно искать лишь в мертвеце на дне могилы — это испытание посвящения, через которое нужно пройти. И он подчеркивает ужасный вид полуразложившегося тела, чтобы тем сильнее дать почувствовать, насколько трудно принять невероятность воскрешения.
Картина, гравюра — порождение крайностей, напряжение на грани возможного, очаг неистовства, самопреодоление. Действительность в творчестве Рембрандта подчиняется силам, которые ее не уничтожают, но перерождают, перестраивают в новом порядке. Действительность преломляется лишь для того, чтобы воссоздаться в более чистом виде. Божий порядок исправляет порядок земной.
Наблюдая за катастрофами, возрождающими веру, подстерегая моменты наступления хаоса, Рембрандт создает сцены жестокости, по своему ужасу превосходящие творения Рубенса. Фламандец обряжает легенду в роскошные одежды. Античность всегда наделена защитной ученостью, красота — заслон от страха. Католицизм превратил Христа в атлета с броней мускулов. У Рубенса всегда присутствует идеальная красота. У Рембрандта идеал превыше красоты.
Все потому, что Рембрандт никогда не видел ни в себе, ни в своем творчестве оживших греческих образцов, воплощения совершенных пропорций. Идеал пребывает в духе, Рембрандт не различает его в форме. Подстерегая знамения Неба и Земли, он, вполне естественно, внимательно относится к текущим, не катастрофическим изменениям действительности. Интерес к живому миру, к его метаморфозам связан с переменчивым светом Нидерландов, ветром, нагоняющим тучи на солнце и беспрестанно все преобразующим. В своих пейзажах Рембрандт говорит о том, что не существует ничего совершенно нового. Ему нравились морщины на лицах стариков. Ему нравятся колеи, выдолбленные веками на грязных дорогах, а в роте городских милиционеров — смешение возрастов.
В этом он близок Иерониму Босху, стремившемуся к тому, чтобы на одной и той же картине присутствовали многочисленные противопоставления. Рембрандт чувствует в себе достаточно сил, чтобы вбирать в свое творчество все больше тварей. Создается ощущение, что он не хочет ничего упустить в том мире, порядок которого ему вполне понятен: он может сближать то, что кажется несопоставимым.
В свой «Ночной дозор» он ввел дополнительных персонажей. Не бесполезных, как думали некоторые из современников. Напротив, необходимых, чтобы заурядный групповой портрет благодаря теням, банальностям, которые ввел в картину художник, получил иное качество, поднялся до уровня непреходящих ценностей. За эти десять лет он достиг небывалого размаха. Побуждаемый стремлением выразить своим искусством больше, чем заключено в предложенном сюжете, он вложил в свое творчество бесконечное бурление жизни. Нет ни одного квадратного сантиметра картины или эстампа, на котором бы не кишела, не трепетала жизнь в неизбывном контрасте тьмы и света.
Свет и тень — да, но это не просто тень от руки на костюме или от дерева на земле, необходимая для создания выверенной композиции по правилам, о которых можно узнать из трактатов о перспективе. Цель — показать борьбу неразделимых противоположных элементов, дающих основу жизни, показать круговорот атомов.
Таково его видение действительности. За десять лет он научился принимать, углублять его. Все больше убеждаясь в том, что его место не рядом с художниками, подчиняющимися греко-римским правилам гармонии тела, что он не принадлежит к школе, сводящей многообразие мира к основным формам, в которых якобы сосредоточена вся красота, он отвергает любой образец для подражания. Так же как кальвинист читает Библию, сообразуясь с одной своей совестью, так и художник не может принять видение другого, не рискуя обеднить свое собственное. Даже признавая гений Караваджо или Тициана. Ибо в своем становлении он опирался не на какую-либо теорию, а на свою натуру наблюдателя жизни, очарованного ее изобилием, выходящим за рамки всяческих правил. И когда он делал отпечаток эстампа, а потом снова работал над медной пластиной, чтобы сделать новый оттиск, он не стремился множить виды одного и того же, ему нравилось смотреть на различные состояния единой основы, потому что ему был интересен процесс изменения. И в жизни, как в творчестве, от одной пробы к другой он хотел проследить за видоизменением живого.
За одно десятилетие Рембрандт понял, что был рожден для изучения явлений роста, становления, дряхления и смерти, рожден для того, чтобы следить за течением жизни, освещать ее великолепные перерождения, время от времени сотрясаемые необъяснимыми бурями, относящимися к священным таинствам природы. Неторопливые реки. Мирные стада, пасущиеся на лугу. И небеса, разверзающиеся перед явлением Ангела, который возвещает потрясение основ.
Но его собственное искусство развивалось без срывов, без внезапных пустот. От произведения к произведению, будь то картина или гравюра, это все та же река, несущая свои воды то плавно, то быстрее, внезапно покрываясь водоворотами или, обратив течение вспять, заливая пологие берега. Но течение не прекращается, то низвергаясь, то поворачивая, — это все те же воды, постоянно смешивающие в себе то прибывающие, то убывающие потоки. И в своем поиске разных форм непрерывного он беспрестанно писал автопортреты.
Однако в том самом 1642 году этот человек, сильный в живописи и влиятельный в городе, вновь на себе познал несовершенство мира. У него уже умирали дети, он жил в постоянном беспокойстве о хрупком здоровьем Титусе, теперь же ему нужно было смириться со смертью Саскии. Даже для человека, твердого в своей вере, это тяжкий удар. Но не для его искусства. И все же так ли четко они разграничены? Жизнь похожа на реку. Не под всеми мостами она протекает с равной скоростью. Это верно для творчества, которому свойственны и рывки вперед, и откатывания назад. Это верно для духовной жизни, течение которой не бывает равномерным. Жизнь течет с разной скоростью в мастерской и в собственной спальне. Поэтому раны, полученные Рембрандтом у домашнего очага, не отразились на живописи, горе не наложило отпечатка на его творчество, развивавшееся по собственным законам, не ослабив и не укрепив его творческую силу. Это не значит, что мастерская никак не сообщалась с семейной спальней. Обстановка в одной непременно воздействовала на атмосферу в другой. В этой связи примечательна картина «Примирение Давида с Авессаломом», созданная в том самом 1642 году. На полотне изображено излияние чувств: два человека в объятиях друг друга. Один, которого мы видим лишь со спины, с белокурыми волосами, рассыпавшимися по одеждам из золотистого шелка, уткнулся лицом в грудь мужчины в тюрбане. Они стоят у городских ворот. Вдали — большой город, дома скучились вокруг высокой округлой церкви. Больше ничего, только два встречных порыва: молить о защите и даровать ее. Человека, принимающего другого, Рембрандт наделил кое-какими собственными чертами. Именно он берет на себя ответственность за смуту, которую несет с собой молодой человек. Хотя он, возможно, тоже молод.
Позади них город в черных и белых тучах, в дыме пожара, поднимающиеся клубы которого таят угрозу. Картина намеренно проста: одно-единственное лицо, невыразительные жесты, а позади — город, над которым нависла угроза, в то время как государи, властные в его судьбе, предаются глубокой нежности; здесь царствует роскошь: чеканное золото меча, свисающего с пояса, ткани одежд, красный, зеленый, расшитый шелк, шпоры с насечками, ремни, стягивающие колчан. История примирения отца и сына — ключевой эпизод трагедии — почерпнута из Библии: об этом говорят восточные костюмы. Что связывает ее с болезнью и смертью Саскии? Может быть, оттого, что Саския умирала, Рембрандту захотелось построить картину на всего лишь двух основных цветах: зеленом, высветляющемся вплоть до оттенка бледной воды, и коричневом, теплеющем и светлеющем до золотого; возможно, поэтому он решил использовать как можно меньше деталей, намереваясь, однако, добиться величайшего разнообразия. И столько нежности на этом драматическом фоне: струящиеся шелка и белокурые волосы в самом центре картины, излучение человеческого тепла, ласка двух людей, чьи судьбы в равной степени славны и трудны, — кажется, все это вызвано тем, что силы покидают Саскию. Можно подумать, что произведение родилось из желания создать нечто живое, чтобы возместить закат другой, не воображаемой жизни. Между мастерской и спальней не было безразличия. Чтобы противостоять смерти, тянущей на себя простынь постели, можно превзойти себя в картине. Еще никогда его полотно не было таким нежным. Мягкое и шелковистое золото, созданное его рукой, возможно, было ответом на вопрос: Саския умирает, любима ли она?
Таков язык живописи, нечеткий, но хватающий за душу, как музыка. «Примирение царя Давида с сыном его Авессаломом» — его солнце, затягиваемое пеленой тумана, — несет на себе отпечаток отчаяния.
Первые тучи
Пока в доме есть ребенок, пульс жизни не прерывается. Рембрандт нанял для Титуса няню — Гертье Диркс, вдову музыканта, игравшего на трубе, которая, занимаясь ребенком, постепенно возложила на себя и обязанности экономки. Рембрандт работает, рисует, пишет, гравирует, занимается мастерской, принимает заказы на портреты. В его жизни ничего не изменилось.
Опись имущества, оставленного Саскией, составила 47 750 флоринов. Достаток ему обеспечен. Наследство перейдет к Титусу, узуфрукт остается Рембрандту. И потом — он же работает. На данный момент портрет священника можно продать в Амстердаме за 100 флоринов. В Делфте один пейзаж на посмертной распродаже ушел за 166 флоринов. За три его рисунка в Лейдене было выручено 2 флорина и 17 стейверов, он продал эстамп за 16 флоринов и портрет маслом за 60. Эти цифры говорят о том, что он известен в своей стране. В этом их единственная ценность. Так же как и приказ статхаудера Фридриха-Генриха выдать ему 29 ноября 1646 года 2400 флоринов за две картины говорит лишь об уровне расходов, соответствующих положению принца. Рембрандт знает, как нетверды расценки и что при случае всегда можно выторговать скидку. Он сам порой этим пользовался на публичных распродажах и в лавках амстердамских торговцев, надеясь с выгодой продать своего Рубенса — большую картину «Геро и Леандр», которую Саския купила в 1637 году. Семью годами позже, когда он уступил картину торговцу Лодевейку ван Людику, прибыль составила не больше 100 флоринов. Чета заплатила за нее 424 флорина и 10 стейверов. Вдовец перепродал ее за 530 флоринов.
Рубенс умер. Ван Дейк умер. Сможет ли Рембрандт их заменить? Такие мысли его посещали. На банкете Гильдии Святого Луки, на который в честь праздника своего покровителя собирались в октябре художники и ремесленники, уроженцы других городов, не только Амстердама, Рембрандту пели дифирамбы. Он снова встретился с бывшими учениками, например Фердинандом Болом и Говартом Флинком, повстречался с Яном Асселином из Дьеппа, художником по прозвищу «Краббетье» — «маленький краб», которое тот получил из-за сросшихся пальцев руки (Фердинанд Бол представил его как свояка, и Рембрандт впоследствии выгравировал его портрет), а также со всеми, кого на этом собрании прославлял Филипс Анхель: Яном Ливенсом, Якобом Бакером, Герритом Блекером. Похвалы банальны, они относятся к сходству, правдоподобию, анатомической точности, соблюдению исторической правды — ко всему тому, что подвластно тяжеловесным академическим законам, следуя которым голландская живопись должна была равняться по итальянской и фламандской линейке. Но за академизмом похвал Рембрандт мог услышать, что это собрание, где его чествовали наряду с бывшими учениками, друзьями и товарищем юности, а главное, где в торжественной речи не был назван ни один иностранный художник его направления, означает признание его роли в истории искусства. Здесь выступал не только Амстердам, но и Харлем — родина Геррита Блекера, художника библейских пасторалей и античных сцен, и Филипса Анхеля, секретаря харлемской Гильдии художников, писавшего красочные натюрморты. Амстердам и Харлем — два главных города голландского искусства.
Рембрандта чествовало поколение, приветствовавшее в его лице своего молодого старшего собрата. Чего стоят подобные почести? Известно, как часто их воздают накануне невзгод. Ибо стремление приобщиться к какой-либо идее и людям, воплощающим ее, зачастую сменяется полным безразличием. Так, в тот самый момент, когда Рембрандт превзошел самого себя, его отстранили от грандиозного проекта, которому отныне посвятил себя Константин Хейгенс: строительства и украшения первого голландского дворца, достойного чертогов прочих европейских властителей. Константин Хейгенс вовсе не отвернулся от Рембрандта, нет. Но больно уж трудно было добиться от Рембрандта выполнения заказа на «Жизнь Христа». Художник затягивал работу, жаловался на несвоевременную оплату, требовал денег больше, чем было заранее оговорено. А главное — во дворце, который собирались строить в лесу под Гаагой, — Лесном доме (Хейс тен Босх) — росписи должны были быть жизнерадостными и яркими, прославляющими могущество Нидерландов, как Рубенс восславил величие французской монархии в Люксембургском дворце и английской — в лондонском Уайтхолле.
Константин Хейгенс, хорошо знавший творчество Рембрандта, его «Урок анатомии доктора Тульпа» и «Ночной дозор», не был уверен, что Рембрандт, живописец Библии, портретист буржуазии, сможет проявить себя как благородный декоратор, окажется под стать задуманному. Амалия ван Сольмс, супруга статхаудера, тоже знала Рембрандта. Она позировала ему для портрета в 1632 году. Рембрандт изобразил ее в профиль. Не преминул подчеркнуть изящество образцово накрахмаленного кружевного воротника, изысканность жемчужного ожерелья и украшений прически. Но саму ее показал замкнутой и надменной. Его больше интересовала изысканность одежды, нежели утонченность, с какой она ее носила. Одни жемчуга отличали супругу статхаудера от обычных горожанок, приходивших к нему в мастерскую.
Требованием эпохи было уравнительное однообразие в одежде: на место человека в обществе указывало лишь качество черной материи, пошедшей на костюм. Тем не менее Рембрандт, то ли оробевший, то ли бывший не в духе, не изобразил ничего такого, что могло понравиться. Он даже не показал молодости своей модели. А европейские аристократы, выписанные в самом пышном убранстве Рубенсом и Ван Дейком, не желали предавать себя в руки художников, которые бы судили их. Амалия ван Сольмс наверняка не забыла, какую недотрогу и ригористку разглядел в ней Рембрандт, и потому самый оригинальный из голландских художников не был приглашен разукрашивать Лесной дом, для пышного убранства которого архитектор Питер Пост (к нему вскоре присоединился Якоб ван Кампен) уже задумал в центре дворца восьмиугольную двадцатиметровую залу с высоченными потолками, залу исключительной роскоши, которую великие голландские столяры еще приумножат паркетом из бразильского орехового дерева, инкрустированным самшитом, а художники — своими красками, прославляющими королевскую династию. В первый и единственный раз, когда страна решила позволить себе роскошь, Рембрандта не позвали. Не позвали ни Бола, ни Мааса, ни Флинка, а пригласили Геррита Хонтхорста, придворного живописца, и Яна Ливенса, который был ему когда-то так близок и, даже удалившись от него, сохранил воспоминание о Лейдене, и Питера де Греббера, и Саломона де Брая, и Якоба Йорданса — короче говоря, всех тех, кто любил изображать светлые стороны жизни.
При создании элегантного и благородного убранства вероисповедание художников никого не волновало. Пусть Йорданс собирался сделаться кальвинистом в самом Антверпене, католическом городе — это не могло ни на что повлиять. В Гааге главной заботой было создать дворец в международном, то есть фламандском стиле, поскольку фламандцы переделали итальянские изобретения на современный лад.
Это важный поворотный момент. С 1645 года Нидерланды, ставшие за несколько лет мировой державой и чье определяющее место будет признано в 1648 году Вестфальским договором, спешили сравняться во внешнем выражении своего величия с другими европейскими дворами. Властители прекрасно понимали, что их прославление не могло быть доверено национальным художникам. Не пригласили не только живописцев из мастерской Рембрандта, но и Яна Стена, Ван Остаде, Рёйсдала или Герарда Доу. В конце концов, они — порождение Республики Гёзов, ставших торговцами, они живут в крестьянском болоте и в городской слободе — вот пусть там и остаются! Как бы то ни было, Рембрандт преследовал другие цели. Его искусство по самой своей природе отвергало подобное себе применение.
Все это так, но не одни голландцы сталкивались с неспособностью или нежеланием создателей национальной культуры примкнуть к международному течению и восхвалять правителя по канонам классицизма. Во Франции Людовик XIV не обольщался относительно того, как сложно будет приобщить французских художников к духу его дворцов. Пюже был слишком пылким, Пуссен — чересчур независимым. По счастью, у короля был еще Лебрен. И в других странах призыв не нашел живого отклика. В Испании, если не считать Веласкеса, другие, в том числе и Сурбаран, не были умелыми льстецами. Рубенс умер, и для придания благородного блеска королевским жилищам оставались лишь его ученики и итальянцы. Они-то и выполняли эту задачу по всему свету, вскоре передав эстафету французам.
Амалия ван Сольмс и Константин Хейгенс были правы, торопясь ввести в страну идеи и художников, доселе не имевших там права на жительство. Со смертью статхаудера в 1647 году они переделали большую восьмиугольную залу в Оранский зал, то есть в место прославления династии принцев Оранских и Фридриха-Генриха. Амалия ван Сольмс велела поверх своего портрета, изображавшего улыбающуюся и скромную правительницу, нанести другой — в образе вдовы в черном покрывале, касающейся рукой черепа. Сразу же после кончины принца Республика попыталась вернуть себе власть. В 1651 году зашла речь о возможной отмене института статхаудерства, и в 1653 году власть была передана Великому Пенсионарию Яну де Витту. Этот неожиданный политический поворот тем не менее не возвестил конца могущества принцев Оранских, и в XVIII веке они обратились к французу Даниэлю Маро для завершения своего Лесного дома. Снова международный стиль, снова иностранный художник.
Итак, с голландским дворцом все решилось в несколько лет. Однако новый стиль, блеск которого оценили лишь в маленьком «государстве в государстве», оказал столь сильное воздействие, что несколькими годами позже, в 1655-м, когда Республика вновь обратилась к архитектору Якобу ван Кампену для строительства в Амстердаме самого большого здания в Нидерландах — новой ратуши, снова пригласили Якоба Йорданса и антверпенского скульптора Артуса Квеллина, которого Вондель сравнил с Фидием, но еще и Рембрандта. Буржуазия не могла отстранить художника, который ввел ее в Историю Искусства. Предложенные сюжеты, связанные со становлением нидерландской самобытности, в принципе должны были ему подойти. Однако далее мы увидим, что без столкновений и унижений дело не обошлось.
Итак, строительство Лесного дома было предпринято как раз вовремя, чтобы сделать его местом прославления торжествующей династии. Но кто торжествовал на самом деле? Разве не торговля голландских Компаний? Ведь Нидерландам отныне принадлежала половина 25 тысяч торговых судов Европы, Амстердам контролировал обращение всех валют, был центром сети торговых концессий в Азии и обеих Америках, вел торговлю со славянскими, германскими народами и скандинавами с берегов Балтики, с Северной Африкой, Францией и Испанией. Голландия заправляла торговлей всего мира. Она не стремилась к территориальным завоеваниям. Это уже пройденный, феодальный этап. Ей были нужны только порты, доки и конторы. Именно ее экономическая мощь в конечном счете одержала верх над Испанией — военной и колониальной державой. В 1648 году Вестфальский договор, по которому был закрыт Антверпенский порт и речной путь по Шельде, дал Нидерландам привилегию в европейской торговле.
Празднества по случаю заключения мира прошли повсеместно в городах, деревнях и портах. Мир отмечали декламацией стихов, постановкой пьес на сцене Амстердамского театра, чеканкой памятных медалей, созданием живописных произведений: Герарду Терборху, молодому художнику тридцати одного года, поручили официальное освещение праздника. Он изобразил отъезд в Мюнстер полномочного нидерландского посольства, написал портрет посла провинции Утрехт на торжественной церемонии и саму церемонию в Мюнстере, в большом зале ратуши, в момент подписания договора обеими сторонами, причем каждая приносила клятву на Библии. Для залов для стрельбы в Амстердаме Бартоломеус ван дер Хельст изобразил на полотне, более 5 метров длиной, банкет гражданской милиции, а во главе стола — огромную серебряную кружку с фигурой всадника на коне.
Рембрандта, отстраненного от прославления Оранской династии, не пригласили и для увековечения Мира. Да, его уважали за оригинальность, но его непохожесть на других, манера выходить за установленные рамки внушали некоторые опасения. Разумеется, он не утратил поддержки среди горожан. Доказательство тому — его дружба с Яном Сиксом, длившаяся всю жизнь и даже больше.
Выходец из семьи пастора города Лилля, Ян Сикс был двенадцатью годами младше Рембрандта. Он всегда жил в богатых кварталах Амстердама. Его мать, Анна Веймер, заказала Рембрандту свой портрет, когда к молодому художнику только начала приходить известность, — в 1641 году. Это была женщина в чепце, жабо и с манжетами из белых кружев, одетая в черное с головы до ног, женщина с деловой хваткой, которая после смерти мужа возглавила семейное предприятие — текстильно-красильную фабрику. Она отправила своего сына Яна в Лейденский университет, а затем — в традиционное путешествие по Италии. Он вернулся оттуда, вовсе не испытывая желания занять руководящий пост, к которому предназначала его семья, хотя и предпринял попытку совместить производственный, торговый интересы и свою склонность к поэзии и искусствам. Происходя сам из крупной буржуазии, он и жену себе взял из этой среды — Марию Тульп, дочь того самого Николаса Тульпа, заказавшего Рембрандту в 1632 году свой «Урок анатомии». Таким образом, молодожены были отпрысками поклонников Рембрандта. Они сохранят любовь к нему, но не только к нему. Ян Сикс закажет портрет своей жены Говарту Флинку и Фердинанду Болу. Будучи учениками Рембрандта, они имели перед учителем то преимущество, что создавали более предсказуемые изображения и с готовностью придавали лицам благородный вид.
Понемногу Ян Сикс отошел от торговли и предпринимательства и стал известен в городе как писатель и просвещенный коллекционер. Его привлекала политика. Он стал членом городского правления и наконец бургомистром. Когда Рембрандт делал с него гравюру, он собирался создать портрет не нотабля, а двадцатидевятилетнего поэта: с распахнутым воротом, длинноволосый, он прислонился к окну, читая книгу; шпага лежит на столе; на стуле — стопка книжных томиков; на стене картина. На рисунках-этюдах видно, что Рембрандт искал образ, увидев его сначала задумчивым, облокотившимся на подоконник, с маленькой собачкой, вставшей с просительным видом на задние лапы, требуя отвести себя на прогулку, но в конечном счете предпочел изобразить серьезного читателя, уединившегося в своей комнате.
Гравюра относится к 1647 году. Незадолго до того Ян Сикс посвятил недавно умершему поэту Хоофту свою первую длинную поэму, благодаря которой он занял достойное место в международной латинистской, гуманистической и маньеристской литературе своего времени, литературе, полной аллегорий, имен богинь и ссылок на античность, зато лишенной всякой пошлости.
Как любитель искусства Сикс составил большую и разнообразную коллекцию итальянской и голландской живописи, предметов искусства и диковин. Разношерстное собрание, похожее на то, которое накопилось в доме Рембрандта. У Сикса были и работы Рембрандта: помимо своего портрета, который художник напишет в 1654 году, изобразив степенного бургомистра, каким он стал, остановившегося на минуту перед живописцем, чтобы натянуть перчатки, Ян купит «Портрет Саскии в красном берете» и «Проповедь святого Иоанна Крестителя» — два старых произведения, относящихся к 30-м годам. В 1648 году он закажет Рембрандту эстамп для издания своей трагедии в стихах и в пяти актах — «Медеи», поставленной в театре Амстердама в предыдущем году.
Эта гравюра — странное смешение античности и современности. Сцена расположена в большом светлом пространстве с прозрачными стеклами и мощными колоннами кальвинистской церкви; на христианском алтаре — статуя сидящей Юноны с павлином; позади богини — священник в тиаре и с жезлом в руке, благословляющий коленопреклоненную чету — Ясона и Креусу. За спиной молодоженов стоят сановники, а хористы и музыканты со своего возвышения сопровождают церемонию музыкой. В тени, на переднем плане, с другой стороны алтаря, выступает волшебница; служанка несет за ней шлейф. В одной руке она держит свой свадебный подарок под покрывалом (пару отравленных перчаток), в другой — кинжал; перед ней лестница, ведущая прямо к брачующимся. Гравюра не является точной иллюстрацией к какому-либо акту пьесы, она дополняет трагедию графически. В надписи, сопровождающей гравюру в книге, говорится: «Креуса и Ясон клянутся в верности друг другу, скрепленной узами брака. Медея, несправедливо отринутая супруга Ясона, ищет мести. Увы! За неверность в браке приходится платить дорогую цену!» Эта любопытная гравюра, вместо того чтобы воспроизвести греческий храм, декорации «под античность» Амстердамского театра, приспосабливает античную трагедию под готико-кальвинистскую обстановку. Тогда как именно в то время Голландия училась подстраиваться под международную моду, сначала в одежде (отныне здесь одевались почти как во Франции или Англии), а затем и в выборе художников. Нужно было что-то новое, что-то во вкусе французов и итальянцев, который считался более «возвышенным».
Могло показаться, что национальному искусству наступает конец, но так могло показаться лишь на первый взгляд. Оставались еще Ван Гойен, Рёйсдал, Рембрандт, Вермеер, которые были в состоянии сохранить голландскую живопись в ее лучших образцах. Однако «коллекционеры» того времени проявляли интерес к другим художникам. Желая подняться на мировой уровень, голландцы стремились подстроиться под великие королевства. Раньше жители Утрехта стучались в дверь Тербрюггена, в Харлеме обращались к Франсу Хальсу, в Амстердаме — к Рембрандту. Теперь им нужны были картины во вкусе Рима или Парижа. Увлекшись новым направлением, они склоняли к нему своих художников. Такая метаморфоза, как уже было сказано, в результате привела к развитию двух тенденций: классического жанра на итальянский манер и национального — старого голландского искусства. Очутившись между этими двумя направлениями — первым, привнесенным и насаждавшимся искусственно, и вторым, мало способным к обновлению, Рембрандт был обречен на одиночество. Наступали времена, когда его живопись перестали признавать.
О его одиночестве говорят два обстоятельства. Первый — злоба, которую всю жизнь питал к нему драматург Йоост Вондель, создавший голландскую трагедию на национальном языке. Рембрандт приходил смотреть его пьесы. Вондель ни разу не был в его мастерской и заказывал свои портреты другим. Однако их пути были параллельны, а сюжеты часто пересекались. Может быть, они были слишком близки друг к другу.
Второе — расхождение с лейденским собратом, Яном Ливенсом, уехавшим из их мастерской в Лондон, в Антверпен, стремясь к менее грубому искусству. Опираясь на престиж, полученный за границей, Ливенс, вернувшись в Лейден, более никогда не обращался к Рембрандту. Когда лейденский собрат по творчеству поселился в Амстердаме, он писал только то, что нравилось людям тонкого вкуса. Ливенс жил на другом конце города, на Розенграхт. Ходили ли они друг к другу в гости?
Вондель слишком близок. Ливенс чересчур далек. Время усугубляет одиночество.
«Святое семейство»
В живописи Рембрандта наступает период покоя. Наверное, это связано с его личной жизнью, с сыном Титусом, подрастающим рядом, так что у Рембрандта невольно усиливалось стремление к спокойствию и тишине, которое проявлялось и в живописи. Вот две юные девушки в проемах окна и двери, и их силуэты говорят о размеренной жизни дома, где женщины раскрывают окна по утрам и закрывают по вечерам ставни скорее по привычке, ради упорядоченности семейной жизни, для которой необходимо чередование дня и ночи. Отринув ошеломляющие откровения своих «Страстей Христовых», Рембрандт понемногу выходит на менее зрелищный уровень, обращается к интимным картинам. Так, он дважды пишет «Святое семейство». Первая картина, написанная в 1645 году и вытянутая в высоту, представляет собой крестное знамение. Вертикальная линия пересекает горизонтальную в центре полотна в делении на квадраты, повторяющемся по всей поверхности холста: Наименее причудливая конструкция, классическая в своей манере подчеркивать регулярность организации фона, подобна музыкальному ритму. На картине несколько источников света: справа — огонь в очаге, пламя которого освещает плетеную колыбель, где спит Младенец в белых пеленах под красным покрывалом; слева — небесный свет, струящийся с потолка, с лавиной ангелочков, кувыркающихся, мельтеша золочеными крылышками. Один из них, расправив крылья, витает над колыбелью. Его свет озаряет лицо Богоматери, на мгновение оторвавшейся от чтения Библии, чтобы поправить толстое вышитое покрывало, закрывающее маленькое личико от чересчур яркого света. Вот вам диалог неба и земли. Но есть еще и третий источник света, освещающий Иосифа у верстака под вытяжной трубой; на стене развешаны его инструменты и коловорот, а сам он вытесывает черенок косы или дышло телеги. Наклонная линия слеги, протянутая рука Богоматери, хлопание крылышек усиливают сцепление квадратов. Эта Семья — неколебимая постройка. В конце концов, перед нами всего лишь дом голландского ремесленника, занятого делом, пока супруга сидит у колыбели возле очага. Такие картины каждый день наблюдает Рембрандт во время прогулок по Синт-Антонисбреестраат, и хотя она заурядна, ее освещает небесный свет — в доказательство того, что чудесное может в любое мгновение снизойти на каждую обычную семью по соседству.
В следующем, 1646 году он написал второе «Святое семейство» на холсте, меньшем по размеру в ширину. Плотник Иосиф за работой, Мария и Дитя, кот у камина. На этот раз мирная сцена вписана в деревянную раму, резную и золоченую — картина в картине. Рама и красная занавесь, защищающая полотно от света, являются частью композиции. Можно подумать, будто чья-то рука только что слегка отодвинула полог, чтобы показать спокойное семейство в своей комнате, вернее, в своей лавке, поскольку через большую витрину с сетчатой деревянной рамой струится неяркий уличный свет.
На самом деле это отзвук старой идеи об искусстве, которое превосходит само себя, подражая реальности. Писатели до самого XVIII века неустанно ссылались на античный пример, когда виноградная гроздь на натюрморте была изображена настолько совершенно, что птицы слетались ее клевать. Современники Рембрандта вспоминали о его проделке: однажды он якобы выставил в окне своего дома портрет молодой девушки, написанный настолько живо, что прохожие с ним здоровались.
И хотя его картины были решительным отрицанием иллюзии, невозможно изменить вековую традицию, где бы она ни проявлялась — на улицах Амстердама, в итальянских виллах Бренты или в Лесном доме: люди не желают расставаться с иллюзией.
Наполовину отдернутый полог перед этим семейством отсылает нас к более тонкой мысли. Идея заключается не в том, чтобы заставить зрителя уверовать в реальность именно этой голландской семьи, проживающей в доме из одной комнаты, но в том, чтобы он поверил в истинность живописи, которая может одновременно обнажать и скрывать, выходить за рамки изображаемого. Если мы еще отодвинем полог, мы не увидим ничего кроме живописи, в которую может вписаться весь мир: Христос, юная девушка, размышляющий старец, пейзаж — тысячи и тысячи обличий, которые способно принимать живое. Конечно, все это иллюзия — рама, карниз, кольца, занавесь, и задача живописи — сделать явной эту истину, стать наравне со священным словом, исправляющим все заблуждения.
В то время Рембрандту было все интересно. Вот он в 1646 году доставляет себе удовольствие, изображая сцену катания на коньках по замерзшим каналам. Это словно дружеский знак, рука, протянутая художнику, умершему более десяти лет назад — Хендрику Аверкампу, специализировавшемуся на голландских сценках на льду, изображавшему брейгелевские толпы, которые развлекались катанием на коньках, санях, игрой в кольф (то есть гольф) на льду. В то время Рембрандт рисовал и гравировал водные пейзажи пригородов Амстердама с лодками на каналах, обветшавшими хижинами. В своем дружеском приветствии Аверкампу он говорил, что живопись должна изображать морозный свет на зимней деревушке. Яркое глубокое небо с брызгами облачков в самой вышине, похожих на кристаллы, словно и оно тоже замерзло. Мост через канал пуст. Деревня тянет к небу несколько бесформенных соломенных крыш, шаткую башню коричневых и серо-белых зимних оттенков. Солнце низко висит перед наступлением ночи. Последний луч приглаживает голубоватый лед, на котором, не решаясь двинуться вперед, остановившись из осторожности, стоит женщина в фартуке, возле нее пристроилась собака. Кругом все застыло — конькобежец, сидящий на земле, игроки в кольф, сидящие или стоящие со своими высокими клюшками, корова и пастух — все недвижны на льду. Всех сковал холод. В этот неподвижный час, предваряющий ночь, даже дерево не дрожит. Солнце скоро скроется, и от этого люди задумались — задумались ни о чем, переживая то повседневное мгновение, когда на берегу канала каждый сталкивается с величием солнечного ритма. Картина маленькая. Можно проследить бег кисти. Несколько неровных штрихов обозначают дерево, несколько мазков — крыши, нажимом подчеркиваются закругленные носы коньков, вертикально стоящие клюшки игроков, одним-единственным мазком — фартук женщины, несколько белых полос в голубизне неба — словно следы от коньков, врезавшихся в лед. Рембрандт написал это в один прием, его картина подействовала, как мороз. Она сама стала зимой.
В то время такая манера письма была единственной в своем роде. Пейзажи создавались медленно. К ним добавляли символические детали. Надлежало, чтобы пейзаж говорил, склонял к размышлениям о судьбе мира и человечества. Здесь же, напротив, Рембрандт написал мгновение, словно рисуя тушью, без поправок, ухватил глубокое значение одного из состояний природы, которое он перебросил из жизни прямо на картину. Это был опыт, к которому он никогда больше не вернется.
Игра в картину на картине. Пейзаж, срисованный с природы, как это будут делать импрессионисты, — все это вписывается в опыты и размышления о возможностях живописи. Как и о тайне притяжения обнаженного тела, к которой он подошел в ту же самую эпоху.
В мастерской на Блумграхт, как уже говорилось, регулярно проходили сеансы, на которых позировали обнаженные натурщики — мужчины и женщины. Среди них известен юноша с густыми вьющимися волосами, крепкого, но не атлетического сложения, неоднократно изображенный на картинах и рисунках, выполненных в мастерской. Рембрандт, сидя среди учеников, один, два, три раза выгравировал натурщика в фас, профиль, со спины, стоящим, сидящим на диванной подушке на полу, на высоком табурете, чтобы всем было хорошо его видно. Рембрандт отметил, что юноша скучает, сцепив руки под животом. Бедра застенчивого натурщика обернуты защитной белой повязкой. На одной из гравюр видно, что он развязал ее и левой рукой дергает себя за половой орган, стиснув правую на бедре. Лицо его не выражает никакого чувства, никаких ощущений — ни наслаждения, ни вызова. На нем написано лишь равнодушие. На той же дощечке Рембрандт выгравировал юношу в другой позе: стоящим, облокотившись на подушку. Из-под повязки видны его гениталии. У него внимательный и веселый вид. На лице — улыбка.
Рембрандт неоднократно возвращался к этой медной пластине, погружал ее в кислоту, снова брался за резец, чтобы выделить некоторые части, даже стер гениталии под набедренной повязкой, оставив изображение напряженного члена. В правой части той же пластины — набросок тонкой иглой, изображающий семейную сцену у большого камина: маленький ребенок в стульчике на колесиках учится ходить. Он движется вперед, протянув руки к женщине, которая села на пол, чтобы стать с ним наравне, и делает ему знаки рукой. Жизнерадостная обстановка, на полу валяется игрушка — волчок и кнутик к нему.
Так, по воле случая, юноша натурщик оказался введен в типичную обстановку большой комнаты голландского дома, в семейную сцену. По воле того же случая пропорции обеих сцен соотносятся друг с другом. Но случай здесь преследует явное намерение объединить на одной гравюре две параллельные и различные жизни Рембрандта — владельца мастерской и Рембрандта — отца семейства.
В мастерской он захотел потренироваться в изображении обнаженной натуры. Дома схватил на лету важный момент юной жизни, когда человечек уже стоит на ногах и начинает ходить. Обе сцены выражают одинаковое любопытство. Что до развязной позы юноши, она означает, что эстамп в корне отличается от академических этюдов, бесстрастно изучающих тело мужчины и женщины в намерении постичь человеческую анатомию во всей ее полноте. Гравюра отражает скорее игривый момент, когда, позабыв об учениках, натурщик делает движение, не отдавая себе в этом отчета. Незначительное происшествие, которое Рембрандт, пришедший посмотреть на мужское тело, чтобы восстановить в памяти его строение, членение, световые оттенки, тем не менее ухватил на ходу, найдя в нем сюжет для этюда, посвященного не сексу и не анатомии, а находящегося на стыке того и другого.
В своей коллекции эстампов Рембрандт собрал целый ряд эротических гравюр Рафаэля, Россо, Аннибале Карраччи и Джулио Бонасоне, Хендрика Гольция, Дюрера и его учеников. Известно, что эротическая гравюра всегда нуждалась в узаконении через мораль или эрудицию. Эрудицию, касающуюся мифологии, разумеется. У Джулио Бонасоне, ученика Джулио Романо, распутство рядится в одежды античной культуры: изображена физическая любовь, но это не противозаконно, потому что любовью занимаются боги. То же и у Марка-Антония Раймонди, сделавшего в 1524 году целый сборник гравюр с Джулио Романо: «Юпитер и Семела», «Марс и Венера, захваченные в сеть Вулканом». Совокупление изображено с необходимой точностью. Не лишена такой точности и гравюра Гольция «Юпитер, насилующий нимфу Ио», но, чтобы позволить себе выгравировать соитие, нужно было сослаться на Золотой век.
Надо думать, что Рембрандт не держал свои папки открытыми, принимая у себя пастора, но эротические произведения входили в число материалов, которые художник мог хранить у себя. Тем более что моральные гарантии предоставлялись антипапистской пропагандой. Так, Генрих Альдегревер, ученик Дюрера, не раз выгравировал монаха, предающегося блуду с монахиней в лесу, которого вооруженный человек, гонитель католических пороков, обличитель прогнивших римских нравов, застигает в самый ответственный момент; совокупление служило правому делу.
Постель на французский манер
Наверное, Рембрандту так же необходимо было искать поддержки в морали, поскольку его первая непристойная картинка — пара, занимающаяся любовью, — соотносится с сюжетом гравюры Альдегревера про монаха с монахиней, которую он истолковывает по-своему. Нет ни леса, ни вооруженного человека, ни монахини. Есть поле, к которому приступает крестьянин с серпом, и монах, узнаваемый по капюшону, меж бедер женщины, скрытой зарослями тростника.
Гравюра относится к 1645 году. Рембрандт и раньше позволял себе легкомысленные эстампы: пастух, играющий на свирели, но гораздо больше занятый юбками пастушки, чем своими козами; старик, уснувший в лесу, на которого поглядывает молодая обнимающаяся пара, — но все это написано с задором средневековых поэтов, авторов галантных историй, скульпторов капителей и водостоков, с любовным лукавством, которое намекает, но не показывает.
В 1646 году, когда в мастерской часто позировали юноши, в тот период, когда он частенько возвращается к своей «Данае», намереваясь кое-что изменить, он размышляет о кровати с балдахином из «Любви богов» Марка-Антония Раймонди, резные стойки которой послужили ему прототипом колонн ложа Данаи, и на этот раз ему уже больше не требуется никакого мифологического оправдания. Он гравирует пару, занимающуюся любовью на большой кровати. Они не разделись. Прямо в рубашке утонули во взбитых подушках. Простыни и одеяла под ними сбились. Впопыхах мужчина повесил на одну из стоек кровати берет с пером, о котором известно, что это эмблема Рембрандта: он надел его уже более десяти лет назад, когда написал себя помогающим воздвигать крест, содействуя казни Христа.
Произведение красиво чередованием темного и светлого на куртинах кровати, образующим фактуру ткани; свет вынудил пару забиться в самую глубину ложа, он ведет к сплетенным между светом и полумраком телам, совершающим повторяющиеся движения на фоне гладкого спокойствия стен. Произведение красиво и серьезностью совокупляющихся мужчины и женщины, и покоем, написанным на лице женщины с полузакрытыми глазами, и спокойствием мужчины, который смотрит на нее близко-близко, вглядываясь в выражение ее черт.
Рембрандт пять раз переделывал гравюру. Он подправил положение ног, рук. Вначале женщина безучастно принимала мужчину, положив руки на постель. И вдруг прижала его к себе. Гравер не стер одну из рук, так что у женщины две левые руки — одна безразличная, другая страстная. Что это, забывчивость или намеренное желание сохранить в эстампе идею безропотного начала и пылкого конца? Во всяком случае, это произведение нельзя было пустить в обращение под прикрытием мифологии. С другой стороны, это не отображение реального эпизода. Сцена происходит не в обычной нидерландской постели, а на роскошном ложе, достойном любви богов, внутри аристократического жилища. Вертикаль пилястра, ниша в стене — признаки дворцовой архитектуры — порождают контраст между великим размеренным порядком и вдавленной постелью с телесным сплетением любви. Рембрандт пожелал поместить это второе изображение сексуальной жизни в идеальное пространство. Первое — совокупление монаха в поле — обличало клятвопреступление. Это — свидетельство любви.
Гравюра появилась через четыре года после смерти жены. С Саскией на коленях он изобразил себя волокитой. Это было крайней точкой в их жизни и в его творчестве. Здесь он дошел до изображения, на которое еще не осмеливался и которое не имело аналогов в его эпоху. Эта тема не получит развития в его дальнейшем творчестве. Как и его поиски картины в картине и пейзажа с натуры, родившегося из зимней прогулки.
Самое удивительное в том, что, едва вступив в пределы эротики, он тотчас покинет их, если не навсегда, то по крайней мере на дюжину лет. Обнаженная натура, чета на ложе появятся вновь лишь в 1658 году. В живописном изображении будет «Вирсавия» в 1654 году, но там эта тема традиционно опирается на религиозный сюжет. А 1646 год закончится посмертным портретом пастора Сильвиуса, простершего руку, чтобы подчеркнуть аргумент из Священного Писания. Это значит, что «Постель на французский манер» была уникальным явлением в его творчестве и в его жизни, неким отступлением, вынесенным за скобки. Так поступил бы и любой другой художник. Ибо изображение совокупления всегда было редкостью в Европе. Что до обнаженного женского тела, изображений которого было не найти после провозглашения независимости Провинций и в первые годы власти кальвинизма, оно вернулось в XVI веке с Хендриком Гольцием, с легкостью пускавшим в ход козырную карту мифологии, служившей ему прикрытием, в XVII веке — с художниками из Утрехта, в первую очередь с Хонтхорстом, которые не отказывали себе ни в обнаженных пасторалях, ни в декольтированных сценах под предлогом изображения цыганок и прочих чужеземок. В окружении Рембрандта оправданием подобных сюжетов по-прежнему служила мифология. Венеры с Купидонами и без них будут наполнять картины его учеников — Флинка, Бола, Мааса. Будет предпринята попытка заменить Овидия Ветхим Заветом: обнаженная женщина в постели, отдергивающая полог, могла быть «Агарью, ожидающей Авраама» или «Сарой, подстерегающей приход Товия». Бартоломеус ван дер Хельст, соперник Рембрандта в групповых портретах, тоже писал библейских возлюбленных, вставляя им в уши большие голландские жемчужины. Таким образом, обнаженное женское тело получило право на существование в Голландии при условии, что оно происходило из мифа, и каждый мог ясно отделить законные страсти от незаконных. Вне мифологии были еще сценки нравов с изображением борделей или гостеприимных постоялых дворов у Яна Стена и Николаса Кнупфера из Утрехта, которым вменялось в обязанность обличение греха.
В целом голландские художники не относились к наготе с такой же легкостью, как итальянские. И Рембрандт чувствовал себя несколько неловко, о чем говорят как цепи его «Андромеды» 1631 года, так и Купидон, в отчаянии ломающий руки над прекрасной «Данаей». Тем не менее он был одним из редких художников, способных изобразить на гравюре счастливое соединение мужчины и женщины на большой кровати. Эту гравюру он подписал и датировал. Как датировал и подписал первый портрет Саскии, сделанный серебряным карандашом. Однако на сей раз имя любовницы не названо.
Кто она? Случайное увлечение? Возможно. Мимолетная встреча? Почему бы нет? А может быть, он не участник игры, а всего лишь гравер? Это соответствовало бы представлению о художнике как служителе любви и красоты, проявившемуся в картине «Даная».
Поскольку гравюра с такой силой выражает счастье, можно поискать отражение этого счастья в жизни. В ней появилась женщина, которая заставит его вести себя непоследовательно, перемежая судебные процессы с подарками, иски со ссудами, действовать вместе с ней, повинуясь одновременно гневу и нежности. Она станет утверждать, что он обещал на ней жениться, что они спали вместе. Дело — не началось ли оно в «Постели на французский манер»? — будет передано в суд: эта женщина — экономка, няня Титуса, Гертье Диркс.
Ее лицо? Его невозможно найти в произведениях Рембрандта. Нам она знакома лишь со спины. На одном рисунке она стоит на пороге дома, разговаривая с прохожим на улице, одетая в традиционный костюм крестьянок северных провинций. Ее портрет, написанный Рембрандтом, исчез. Возможно, его выбросили из собрания его произведений, как ее — выслали из его дома.
24 января 1648 года. Гертье Диркс идет к нотариусу, чтобы составить завещание. Не к нотариусу семьи ван Рейнов, а к мэтру Ламберти, которому она объявляет, что назначает Титуса своим единственным наследником. Она завещает ему 100 флоринов и собственный портрет. В завещании уточняется, что она чувствует себя больной. Судя по всему, она любит ребенка до такой степени, что, будучи бедной служанкой, пожелала наравне с его богатой матерью стать защитницей и опекуншей малыша после своей смерти. Титус получит ее деньги и поместит ее изображение среди портретов Саскии. Дело ясное: Гертье хочет войти в семью. Косвенным путем, конечно, через ребенка. Все это совершенно нормально: вот уже шесть лет, как она занимается Титусом и заправляет жизнью в большом доме. Посчитав себя больной, она приняла предосторожности, положенные матерям. В Голландии более чем где-либо слуги считались практически членами семьи. Этот поступок трогателен в своей пылкости. Никому бы и в голову не пришло заподозрить в нем какие-то происки. Совершенно естественно, что вдова легла в постель вдовца, так два сна в темноте обогрели друг друга.
К тому же искусство Рембрандта становится все более спокойным и ровным. Таков его «Христос в Эммаусе», которого он сейчас пишет, вернувшись к теме, занимавшей его немногим менее двадцати лет назад на лейденском чердаке. Тогда он показал миг откровения на постоялом дворе в драматическом ключе: опрокинутый стул, коленопреклоненный мужчина на земле, другой — ошеломленный, и Христос, опершийся спиной о дощатую стену с преломленным хлебом в руках.
Теперь ему уже не нужны косые лучи, фигуры против света, силуэт женщины, хлопочущей на кухне. Он выстраивает спокойную картину, благородную архитектуру из крупных камней, пилястров и стен с нишами, самую что ни на есть выверенную композицию, как в «Святом семействе» 1645 года, с подчеркнутым пересечением вертикальных и горизонтальных линий. Никакой особенной жестикуляции. Только человек справа вдруг сильнее оперся на стол. Другой, слева, застыл, поднес кусок ко рту, а большая собака под стулом даже ухом не повела. Христос в центре, стоя босыми ногами на полу, попросту преломляет хлеб и поднимает к небу глаза. Его лицо — сияющий источник света. Картина только об этом и говорит: один из постояльцев, собравшись трапезничать, начинает излучать сияние; он остановился, чтобы подкрепиться, в бывшем дворце, ставшем постоялым двором с кое-где провалившимся полом, с остатками былой роскоши — вешалкой для плащей, некогда пышной мебелью, столом, креслами, шитой золотом скатертью. Именно здесь от Христа начинает исходить свет. Решительно Рембрандт все ближе продвигается к сути, к ясному утверждению того, во что верит, к самой простой подаче очевидного.
На картине есть еще одна странная деталь. Молодой слуга почтительно наклоняется к Христу, чтобы поставить на стол блюдо. Он несет его осторожно, ища глазами свободное место на скатерти. На этом блюде — два ягнячьих черепа без мяса, глаза вынуты, а все остальное, наверное, съедено.
В живописи редко встречается блюдо, поданное на ужин в Эммаусе, но его можно увидеть у Бассано и у Йорданса. Общение с португальскими евреями из своего квартала, в особенности с ученейшим раввином Менассехом бен Израэлем, публиковавшим в Амстердаме книги на латыни и еврейском языке, наверное, позволило Рембрандту узнать о ритуальном пасхальном блюде евреев — ягнячьей лопатке. Но здесь — голова ягненка, пища бедняков, блюдо столь же мрачное, сколь и редкое для постоялого двора, и в этом можно увидеть признание той свободы, с какой художник относится к Священной истории. Если бы слуга принес бараний окорок, трапеза в Эммаусе не отличалась бы от семейного обеда. Ему захотелось заменить символическое пасхальное блюдо определяющим суть происходящего траурным яством. Неважно, что он один написал такое. Под покровом тайны творчества Рембрандт ведет собственный диалог с божественным.
В городе думают, что он общается с необычными людьми — меннонитами. Они, конечно, протестанты, но проходят обряд крещения в зрелом возрасте; это евреи, чья синагога, расположенная по соседству, ему хорошо знакома. Говорят, этими его связями можно объяснить некоторые странности на его религиозных картинах. Он сам трактует Библию и сам создает смысловую целостность священных образов.
В 1649 году гармония спокойного дома нарушилась. Разрыв с Гертье засвидетельствован в нотариальном акте от 28 июня. Это полюбовное расставание. Гертье оставила службу без средств к существованию и заложила в Кредитную контору свое сокровище: кольцо с бриллиантом. Рембрандту был дорог этот подарок, который он ей сделал, и он пожелал, чтобы она его выкупила. В проекте договора, который он представил ей в тот день, он обязался выплатить ей до конца года 200 флоринов для выкупа кольца. Более того, он намерен платить ей пожизненную пенсию в 160 флоринов в год начиная с июня 1650-го. Расстались они весьма спокойно, можно даже сказать, нежно — именно это чувство сквозит в пунктах договора, согласно которому она не должна расставаться с кольцом и не может аннулировать завещание, составленное ею в пользу Титуса.
Однако документ так и остался в проекте, Гертье его не подписала.
Лист в сто флоринов
1649 год — это год, когда Рембрандт создал гравюру «Подведите ко мне детей» — неполное название эстампа, который при его жизни стал известен как «Лист в сто флоринов», потому что Рембрандт выменял на него у своего друга Петерсона Зоомера гравюру Марка-Антония Раймонди, оцененную в такую сумму.
У городских ворот стоит Христос, раскинув руки, подняв одну из них для благословения. Его окружает толпа бедняков, отчаявшихся, больных и умирающих; одну женщину положили перед ним на солому, другую везут на тележке, третья ползет на коленях, опираясь на палки. За ними идут осел и верблюд (намек на слова из Евангелия: «Легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богачу попасть в Царствие Небесное»). Справа от Христа, принимающего мальчика и босую женщину с ребенком на руках, — другая группа в дорогих одеждах: вещающие фарисеи и книжники.
Около сорока персонажей, организованных в разные группки, как в «Ночном дозоре», образуют волны вокруг Христа. Свет ли влечет их к себе, или они сами являются его носителями? Их сияние обращено к Христу в нарастании ломаных ритмов, раздробленных, как члены калек; это нерешительная сила, она порождает жалкие лица и находит окончательное воплощение в молитвенно сложенных руках старухи над умирающей, лежащей на соломе. Свет достаточно ярок, чтобы на одеянии Христа отпечаталась дрожащая тень от лица и сомкнутых рук старой женщины.
Его же лицо многообразно. Оно словно создано из нескольких, наложенных друг на друга. Нечеткость Его черт сообщает Ему беспрестанный трепет в прерывистом сиянии, исходящем от бедняков. Лицо Христа — явное порождение многочисленных портретов молодых евреев из квартала с длинными волосами и короткой бородкой, которые Рембрандт создавал в то время.
Итак, слева от Христа Рембрандт выгравировал фарисеев и книжников. Он рисует их одним штрихом. Они помещены совсем близко. Но художник лишил их Его света. Однако у них нет и тени, словно чистый белый цвет — это цвет безразличия. Таким образом, во всем эстампе диалог света и тени в зависимости от того, является ли он ярким, слегка выраженным или отсутствует вообще, определяет для каждого возможность доступа в Царство Божие. Человеку в широкополой шляпе, похожему на Эразма, философа из Роттердама, этот доступ закрыт, как и тому элегантному молодцу, прикрывающему рот рукой и, по-видимому, предающемуся сомнению. Штрихи, которыми обозначены их фигуры на белой бумаге, не обладают ни толщиной, ни объемом. Они плоские, словно это отблески битвы света и тени, отошедшие не в окружающий мрак, а в белизну небытия. Небытие — это бесконечное ничто, белизна бумаги.
В противоположность традиции Рембрандт показывает, что свет, несущий в себе вечную жизнь, не похож на лучи солнца, он распространяется от одного к другому по капиллярам и обволакивает человеческие тела по мере того, как их проницает. Ни физика, ни оптика не могут объяснить, чем он является. Мир, в котором он воссиял, неколебимый, вросший корнями в самую гущу реальности, открывает границы добра и зла, веры и сомнения во всех их оттенках. Искусство же, в особенности религиозное, — это размышление о степенях проявления истинного и ложного.
Этот сложный эстамп, самый сложный из всех, какие он создал, и построенный наипростейшим образом — Христос в центре и две группы фигур по обе стороны от него, — по своей выверенности соотносится с покоем картины «Христос в Эммаусе». Рембрандт сделал два отпечатка: один на японской бумаге, другой — на европейской. Он сохранил оба.
В конце 1649 года снова начались судебные процессы. 25 сентября Гертье вызвала его в Палату по делам супружества и жалобам. Он не явился. Поскольку проект договора о полюбовном расставании не был подписан, Рембрандту требовались свидетельства о существовании документа.
Тогда-то и появилась Хендрикье Стоффельс, вторая служанка в доме. Она представилась «девицей двадцати трех лет» и засвидетельствовала, что 15 июня вместе с подругой Трейнте Харманс присутствовала при представлении Рембрандтом проекта договора с Гертье. Ее заявление зарегистрировано 1 октября. Две недели спустя Рембрандт привел другого свидетеля — Октафа Октафса, сапожника по профессии, который показал, что присутствовал при другой встрече с Гертье, на которой последняя якобы в гневе отказалась подписывать документ, так как, по ее словам, пенсии в 160 флоринов не хватит, если она вновь заболеет. По словам сапожника, Рембрандт якобы ответил, что в случае болезни пенсию увеличит. Но это ее не убедило.
Рембрандт предпочел уплатить штраф за неявку и не отзывался на новый вызов в суд.
Он решился явиться лишь 23 октября. На этот раз Гертье повела на него решительное наступление. На основании того, что они неоднократно спали вместе, что он подарил ей кольцо с бриллиантом в тот день, когда пообещал на ней жениться, она потребовала, чтобы он сочетался с ней браком или дал ей средства к существованию.
Суду по делам супружества и жалобам было не привыкать к такого рода искам, которые чрезвычайно сложно удовлетворять, поскольку обе стороны неспособны представить доказательства прозвучавшим словам и совершенным поступкам. Если поступки еще можно засвидетельствовать, то слова чаще всего — нет. Рембрандт потерял бы узуфрукт от наследства Саскии, 47 750 флоринов, которые, по завещанию, ускользнули бы из его рук «в случае заключения повторного брака». Был ли он настолько влюблен, чтобы позабыть об этом пункте?
За неимением доказательств судьи положат делу конец, составив контракт о полюбовном расставании и решив, что сумма пенсии должна составить 200 флоринов в год, то есть увеличиться на 40 флоринов по сравнению с изначальной.
Но дело не закончилось. И эта история изгнала Гертье из творчества Рембрандта. Женщина, прожившая несколько лет в его доме, которую он видел кормящей Титуса, возвращающейся с рынка, принимающей гостей, моющей комнаты, стирающей белье, изображена лишь на нескольких рисунках со спины в своем национальном костюме, и кто-то подписал на обороте одного из них: «Кормилица Титуса». От одного свидетеля нам также известно, что она была «маленького роста, полной, с приятным лицом». Но процесс изгнал ее из искусства Рембрандта, так что даже сомнительно, что молодая женщина на картине, одетая на строгий городской манер и стоящая в проеме двери, положив руки на деревянную створку и кого-то поджидая, это Гертье.
Так Гертье скрылась в тумане.
Если образ Саскии и Хендрикье представлен в череде изображений, о Гертье этого сказать нельзя. Пусть даже в «Постели на французский манер» это была она, не известная никому, кроме гравера, путь даже это она выглядывала в дверь на одной из картин, разговаривала с прохожим на рисунке или была той «маленькой полной» женщиной, что позировала художнику обнаженной, мы об этом уже не узнаем, а сомнение запрещает соотносить эти изображения друг с другом. Неужели, не угодив художнику, она стала незнакомкой и Рембрандт порвал сделанные с нее рисунки? Сохранила ли она свой портрет, о котором говорится в ее завещании? Известно, какой ненавистью могут пылать отвергнутые любовницы.
А у Гертье были причины ненавидеть Рембрандта. Ведь ее на двенадцать лет отправили в исправительный дом в Гауде на юге от Амстердама. Причина такого наказания нам неизвестна, но им завершилось дело, неприятное для художника, который одолжил Питеру Дирксу, брату Гертье, сумму в 140 флоринов, необходимую для помещения ее в это заведение. Когда Гертье вышла на свободу через пять лет, Рембрандт стал преследовать по суду этого Питера, морского плотника на корабле «Де Бевер» (Бобер), чтобы он вернул долг под страхом тюремного заключения. Дирксы явно приводили его в бешенство. Даже если она была воровкой или сумасшедшей, а ее брат несостоятельным должником, эти двое побуждали его к действиям, несоразмерным с совершенными против него преступлениями.
Дело закончилось печально, поскольку, удалившись наконец в родную деревню, Гертье оказалась в списке кредиторов Рембрандта, что позволяет думать, что он не выплачивал ей обещанных денег, и помогает понять ее ненависть.
Титусу восемь лет. Рядом с ним и его отцом с некоторого времени находится уже другая женщина, Хендрикье, — та, что давала свидетельские показания. За процессом, затеянным Гертье, угадывается ревность, отчаяние преданной служанки, покинутой ради женщины моложе ее, которой удастся с Рембрандтом то, чего не получилось у нее, — жить в его творчестве и подарить ему ребенка. Итак, Рембрандт прожил восемь лет с Саскией, а затем семь лет с Гертье. С Хендрикье он проживет четырнадцать лет, до самой ее смерти в 1663 году.
Глава VII БАНКРОТСТВО
Фауст или Аристотель?
Дом на Синт-Антонисбреестраат очень светлый. На антресоли, куда ведет центральная лестница из четырех ступеней, как ни закрывай ставни, все равно проникает свет. Пришлось повесить шторы. Они защищают от холода и взглядов прохожих. Окон из мелких квадратиков под самым потолком достаточно для освещения натурщиков. Шторы можно поднимать как занавес, при помощи веревок, изменяя таким образом силу светового потока. Мастерская превратилась в оптическую камеру — главный инструмент художника.
В то утро 1652 года он обнаружил, что свет как-то странно разлился по комнате. Складки занавеса вздулись. Полог кровати не был опущен, и смятые подушки на постели походили на нечто иное, нежели обычные спальные принадлежности. Местами продавленный матрас преобразился во что-то угрожающее, стал похож на оскалившийся череп. Мастерскую затопила тревога. Наверное, именно такая чреватая опасностью обстановка и была нужна Рембрандту в качестве фона для образа мыслителя того времени. В разгаре дня, при ярком свете.
До сих пор он связывал размышления с ночью. Писал замкнутые помещения, где с наступлением вечера старцы на грани сна и бодрствования подстерегали проблеск мысли, задумывались о тайнах жизни и веры, словно тьма была способна подстегнуть работу духа. Позади них угадывалась винтовая лестница, ведущая на верхний этаж и воплощающая идею развития мысли по спирали. Точно так же Рембрандту потребовалась ночь, чтобы зажечь слабый огонь фонаря пастухов, входящих в хлев, другая ночь — чтобы стало заметно сияние Христа, восстающего из могилы, и снова ночь — при бегстве в Египет.
Теперь же ему необходимы яркий свет, отдернутые шторы, и в этой белизне — сияние диска с монограммой Христа в центре — I.N.R.I., в первом круге — со словами ADAM ТЕ AGIRAM, а во втором — AMRTET, ALGASTNA. Рембрандт старательно гравирует буквы, вставляет кресты между словами, ярко освещает лицо тепло одетого человека в колпаке, надвинутом по самые уши, за рабочим столом. Послание столь неожиданно, что он, вскочив на ноги, не выпустил перо из руки, которой оперся на подлокотник кресла. Это пожилой человек с грубыми чертами лица, покрытого морщинами. Перед ним, в центре просторного стола — окружность, небесная или земная сфера, указывающая на область его исследований: географию или астрологию.
Невозможно высказаться точнее: в постели — угроза смерти; перед человеком — вселенная; у его лица — послание, возникшее из света. Все четко, так же ясно вычерчено на бумаге, как свинцовая оправа оконного витража. Все явствует из необыкновенного события, которое изменит судьбу человека: либо он наконец получит ответ на свой вопрос, либо ввергнется в пучину сомнения.
Мы присутствуем при самом решительном моменте. До сих пор все имело свои очертания. Даже складки шторы, похожие на сонные фигуры, маски с закрытыми глазами, могли быть рассчитаны. Теперь размеренное переходит в неуловимое, вещественное рассеивается в дым.
В светлый воздух комнаты проникают облака, в то время как какое-то неясное существо указывает пальцем на зеркало, освещенное диском. Ошеломленный человек смотрит одновременно на диск и на зеркало. В первом он читает откровение. Во втором вопрошает свое собственное отражение, которого мы не видим.
Наконец, завиток дыма, находящийся одновременно внутри и снаружи, в мастерской и за окном, сворачивается в кольцо, словно тюрбан, и будто переговаривается со складками отдернутой шторы по другую сторону оконной рамы. Странный театр, в котором сочетается вещественное и нематериальное, два аспекта жизни, охраняющая десница над земной (или небесной) сферой, чудо средь бела дня, чудо для ученого за рабочим столом. Двойное чудо, поскольку рядом с вдруг явившимся диском находится зеркало, приглашающее исследователя познать самого себя.
Для Рембрандта этот эстамп представляет собой экскурс в головокружительные сферы знака, буквы и их силы. Он знает о том, что надпись содержит в себе откровение. В доказательство тому — явление огненных букв, составляющих загадочные слова на его картине 1635 года «Пир Валтасара». Он знаком с загадками Самсона. Слова содержат в себе лишь завуалированное откровение. Но здесь диск с врезанными в него буквами появляется не на сказочном Востоке, а в голландском жилище — в его собственной мастерской. Загадка заключена не в Библии, а в трудах ее толкователей. Человек увидел на диске не лик Христа, а слова, которые могут дать ему власть, формулы из обихода не ангелов, но дьявола. Современный мыслитель, по Рембрандту, всегда имеет дело с демоном.
Уже в «Листе в сто флоринов» он показал, что ученые мужи держатся в стороне от слова Христова. В 1652 году он подчеркнул эту мысль в «Проповедующем Иисусе» на углу улицы среди мужчин и женщин, растерявшихся от столкновения с невероятным. В «Младенце Иисусе среди ученых» он вернулся к идее отчасти любопытной, отчасти равнодушной толпы. И вот теперь, посреди бесконечного потока изображений, построенных на основе древних евангельских притч, явилось это уникальное произведение: человек, пораженный явлением сияющего диска. Оно породит многочисленные толкования. В нем узнали Фауста перед зеркалом, протянутым ему ангелом-хранителем, распознали выражение идей меннонитов, исходя из того, что Рембрандта окружало много последователей Менно, разглядели и портрет Фаустуса Социния, ученика Лелио Соццини, проповедовавшего Реформацию, но не по типу Лютера или Кальвина, а согласно учению каббалиста по имени Фотриер. Все эти предложения небезосновательны и вполне вероятны. Но только если бы Рембрандта на самом деле можно было бы ввести в какую-нибудь секту — почему бы и нет? — его искусство не удержалось бы в неких идейных рамках.
Так что вместо того чтобы считать его борцом за какую-то идею и создателем гравюры, пропагандирующей эту идею, в этом эстампе сияющего откровения средь бела дня скорее следует читать его сомнение в отношении ученых трудов в библиотеке, среди книг как орудий постижения знания. Рембрандт не на стороне ученых. Он становится рядом с молящимися мужчинами и женщинами. Из любопытства он пересек бесплодные земли ученых, ограниченные физикой и метафизикой, при этом сознавая, что их усилия напрасны. Эту мысль подчеркивает череп. Его гравюра говорит лишь о том, что эта почва не для него.
30 января 1648 года праздновали Мюнстерский мир, триумф Нидерландов. 30 января следующего года английский король Карл I Стюарт был обезглавлен перед Уайтхоллом. Поскольку супруга статхаудера Амалия ван Сольмс происходила из рода Стюартов, эта новость вызвала возмущение в Нидерландах. Стало также известно, что португальцы вновь завоевали Бразилию, а регенты оставили Вест-Индскую компанию. Но статхаудер бросил войска на Амстердам. В городе забили тревогу, вооружили барки, подняли пушки на городские валы между мельницами. Штурм не удался.
7 ноября 1650 года статхаудер скончался от оспы. Ему было всего двадцать четыре года. Его наследник, Вильгельм-Генрих, родится неделю спустя. Новости передавались из уст в уста.
Гораздо серьезнее было решение, принятое Кромвелем в 1651 году и постановляющее, чтобы британские товары отныне перевозились лишь на британских судах. Желание Англии вывернуться из-под засилья голландского торгового флота, перевозящего всё на свете во все порты мира, привело к войне. Рембрандт, как все голландцы, увидел ее последствия: морские сражения, чередование побед и поражений под командованием талантливых адмиралов Блейка и Тромпа, когда вся страна сотрясалась в часы великих битв, пушечных перестрелок у Дувра и Ньюпорта, а затем — разгром и мольбу о заключении мира со стороны Великого Пенсионария Яна де Витта, представителя гражданской власти, только что сменившей военную власть статхаудера.
Когда спал героический настрой, стали считать потери. Голландский флот потерял 1600 кораблей. Торговля практически сошла на нет. Многие купцы разорились. Наступил тяжкий кризис. Он ударил по клиентуре Рембрандта. Появились новые богачи, но они принадлежали к поколению, не знавшему художника. Каждый старался не тратить денег попусту, и в этом всеобщем кризисе кредит Рембрандта вскоре был исчерпан.
Конечно, ему еще было к кому обратиться за поддержкой. Ян Сикс, оставивший торговлю, чтобы полностью посвятить себя литературе и политике, еще был в состоянии одолжить ему тысячу флоринов. И он получил заказ от сицилийского коллекционера Антонио Руффо. Предложение было лестным. За его картину собирались заплатить в восемь раз больше, чем обычно платили итальянским художникам. Что до сюжета, то требовался философ — и больше никаких уточнений.
Каким образом этот Руффо, находясь в Мессине, узнал о Рембрандте? Наверное, благодаря голландскому художнику Матиасу Стомеру, чьи картины имелись в его коллекции. Стомер (1600-1649?) начал свою карьеру в Утрехте вместе с Блумартом, затем уехал в Рим работать рядом с Хонтхорстом. Со временем он становился все ближе к Караваджо, чьи произведения наверняка видел в Мессине. Возможно, находясь на Сицилии, он рассказал о Рембрандте местному коллекционеру и пробудил в нем любопытство к этому художнику, чей отказ от путешествия в Италию выдавал необычную манеру поведения.
Вот для этого Руффо (их отношения продолжались до самой его смерти) Рембрандт и напишет «Аристотеля перед бюстом Гомера».
Два потока светлой ткани с бесконечными складками, золотая цепь поверх темных одежд, рука на поясе, цепочка между пальцами, другая — на голове бюста из белого мрамора; Аристотель стоит, касаясь рукой изображения слепого поэта и указывая на два своих ориентира: золотую цепь, подаренную учителю Александром Великим, и лицо поэта, в творчестве которого он черпает свою силу, — власть государя и власть главного мифа древности; взгляд провидца впился в глаза слепого, философия вопрошает поэзию. Аристотель одет пышно, его лицо, изборожденное морщинами, составляет контраст с молодостью курчавых волос и бороды.
Поражает величественность движений, свет струится волнами напротив немого камня, от которого философ ожидает прорицания. Позади бюста, на пилястре — стопка переплетенных книг, положенных одна на другую с основательностью каменной кладки. Эта картина представляет собой вечный вопрос, который научное и философское знание задает поэзии.
В коллекции Рембрандта были бюст Гомера и бюст Аристотеля. Некогда он нарисовал для Яна Сикса большую фигуру старика в тоге, декламирующего свои стихи посреди неподвижной толпы — античная версия Христа, проповедующего на перекрестке. Рембрандт не пожелал сохранить ничего из обычной фигуры философа. Он нарядил его в театральный костюм, в те легендарные одежды, которыми пользовался для изображения мифических персонажей, и придал ему задумчивое выражение лица, черты которого позаимствовал у евреев из соседней синагоги. Сцена происходит не в Греции, а в бесконечном пространстве и времени мысли. На картине лишь одна дата — день, в который из куска мрамора был изваян бюст Гомера, остальное принадлежит всем эпохам. Что до композиции, то она самая что ни на есть естественная. Только эта простота подчеркнута богатством тканей, ставших объемными от света. И здесь материя принимает духовный смысл.
За произведение было уплачено 500 флоринов, и в 1654 году оно отправилось по морю в Неаполь.
Антонио Руффо преследовал свою цель: составить — возможно, для библиотеки — коллекцию поясных изображений. Он умел выбрать мастера, поскольку уже в 1660 году обратился к Гверчино (1591-1666), художнику эмилийской школы, с просьбой написать ему картину в дополнение к полотну Рембрандта. Гверчино попросил его прислать набросок с картины, чтобы было на что ориентироваться, добавив: «Принадлежащая Вам картина Рембрандта скорее всего само совершенство, ибо я видел несколько весьма удачных эстампов с его произведений, талантливо выгравированных и позволяющих судить о том, что и краски его столь же совершенны. Будучи новичком в этом деле, я считаю его большим виртуозом».
Гверчино, которому тогда было семьдесят лет, славился таинственностью и полумраком своих «Пастухов в Аркадии», нежностью своих «Сивилл». Работая то в Болонье, то в Риме, он создал огромное число произведений. Откинув в сторону учтивость, можно догадаться о его почтении к Рембрандту и признать прозорливость художника, который, глядя на черно-белое изображение, способен представить его себе в цвете. Возможно, в тех эстампах, которые он видел, ему удалось разглядеть сходные черты между ним и Рембрандтом. Во всяком случае, историки искусства XVIII века не преминут сблизить их, упрекая обоих в неверности рисунка.
Итак, Рембрандту воздал хвалу один из величайших итальянских мастеров. Располагая лишь общим наброском с картины, Гверчино воссоздал ее, как физиономист, ощупывающий лицо, и в качестве парной картины отослал Руффо изображение астролога, размышляющего над глобусом.
В 1661 году упорный Руффо заказал новую картину другому итальянскому художнику — Маттиа Прети (1613-1699), который долгое время работал в Неаполе и немного — в Риме, пока не поселился на Мальте. Последователь Караваджо и Хонтхорста, находившийся под влиянием Гверчино, Маттиа Прети писал фрески и заалтарные картины, изображавшие мученичество апостолов и святых. Он тоже пожелал узнать, между какими произведениями будет помещена его картина. Но, наверное, наброскам Руффо недоставало точности, ибо Прети отослал на Сицилию фигуру в тюрбане — портрет тирана Сиракуз Дионисия I, предварительно написав коллекционеру, что картины Рембрандта и Гверчино — прекрасные произведения искусства. Обычная лесть для дилетанта, ибо между Прети и Рембрандтом не было той созвучности, какая была между Рембрандтом и Гверчино.
В то же время Руффо продолжал делать заказы Рембрандту: «Александр Великий», который был ему отослан в 1661 году, и «Гомер, диктующий писцу», отправившийся в Италию в 1662-м. Но здесь все пошло не так гладко. Рембрандту пришлось написать другого «Александра» и переделать «Гомера», так как Руффо счел, что композиция «Гомера» распадается на отдельные части. В конце концов заказчик был удовлетворен. Как известно, своих гостей он уверял в том, что «Аристотель» Рембрандта — любимая картина его коллекции, включавшей в себя многие редкие произведения, в том числе несколько работ, принадлежавших кисти Никола Пуссена.
Это доказывало Рембрандту, если, конечно, в том была необходимость, что Амстердам не отрезан от остального мира, что иностранец, привыкший к композициям в стиле барокко, способен принять подчеркнутую размеренность его композиции, возрастающее богатство фактуры. Этот опыт позволил ему также ввести в свое творчество редкую для него тему античной культуры. И в этой области его видение как будто не противоречило манере итальянцев.
В тот год, когда Рембрандт отослал сицилийцу «Аристотеля», он начал работу над одной из самых больших своих гравюр — «Распятием». Эту тему он не затрагивал в живописи с 1639 года, а в гравюре — с 1641-го. На этот раз Рембрандт трактовал ее на расстоянии, как оперу, с крупными декорациями, с сутолокой бегущих, кричащих, падающих людей, с двумя разбойниками, подвешенными, словно туши в мясной лавке, и с Христом на кресте посередине. Небо, словно стрелы, рассылает по сторонам лучи света и тени — большие косые линии, обозначающие на бумаге темные и светлые полосы. Огромное небо разверзается в ключевой момент, но земля просторна, и на ней группки людей сосредоточиваются или рассыпаются в бегстве. Стоять остались лишь два всадника — воздевший копье и поднявший меч, — но их центурион, раскинув руки, бросился на колени перед Христом, ставшим единственной вертикалью на картине, единственной сохранившейся мощью — силой Распятого на кресте, вкопанном в землю. Мы присутствуем при первых мгновениях знамения, которое распространится по всей земле. У Христа почти нет лица, от Его головы только начинают исходить первые лучи, которые потом превратятся в нимб. И снова Рембрандт избрал конкретное мгновение события: Иисус только что испустил дух в громком крике, — это тот самый миг, когда стало известно, что все свершилось.
Чтобы приступить к этому эстампу, ему уже не нужно было, как раньше, предварительно писать гризайль. Достаточно набросать несколько групп. Отныне его резец движется так же бойко, как перо. Он сразу начал с композиции с раскрывающимися скалами, разверзающимся небом. Водруженный крест вызвал землетрясение. Затем Рембрандт расположил мужчин и женщин, охваченных страхом и ужасом.
Первые, немногочисленные оттиски «Трех крестов» Рембрандт сделал на пергаменте. Затем снова взялся за медную пластину, чтобы обрисовать почетче фигуру справа, оттиснул еще несколько отпечатков на бумаге, затем в третий раз внес исправления, подчеркнув резцом тени от утесов и бегущих людей. Он хотел, чтобы черный цвет стал еще более черным. И только тогда подписал и поставил дату: «Рембрандт, 1653». Восемью годами позже он полностью переделает эстамп. Тема Распятия навсегда исчезнет из его творчества, за исключением переделки гравюры «Три креста» в 1661 году — в том самом году, когда он напишет «Гомера» для сицилийца. Возможно, в виде отголоска, он захочет вновь обрести сочетание двух миров, бывшее одним из этапов его жизни.
В Голландии, встревоженной кризисом, кредиторы требовали уплаты долгов.
Большой дом на Синт-Антонисбреестраат был приобретен 5 января 1639 года, почти пятнадцать лет назад, за 13 тысяч флоринов. Рембрандт обязался выплатить эту сумму за шесть лет под 5 процентов. И вот требование рассчитаться с долгами настигло его 4 февраля 1653 года. Из 13 тысяч флоринов он выплатил шесть. Другими словами, он оставался должен еще 8750 флоринов и 16 стейверов, то есть 7 тысяч от стоимости дома и 1570 в счет уплаты процентов и налогов. Готов контракт, который послужит ему распиской. Рембрандт пожелал, чтобы ему вручили этот документ перед окончательным расчетом. Это несерьезно, но помогает выиграть время. Он по-прежнему придерживался тактики отсрочек.
При всем том деньги у него были. Ян Сикс одолжил ему тысячу флоринов, бургомистр Корнелис Витсен — 4180; в марте он получил от торговца Исаака ван Хертсбека ссуду в 4200 флоринов. Каждому из кредиторов он обещал возместить эту сумму через год под гарантию всего своего имущества. В том же месяце он поручил поверенному добиться уплаты от своих должников.
Итак, ему было чем заплатить за дом. Конечно, он всего лишь заменил один долг другим, но по крайней мере выиграл время. И вскоре останется должен бывшему владельцу своего дома лишь 100 флоринов. Дела его запутанны. Очутившись в середине денежного потока торгового мира Амстердама, он совершал сделки с картинами, гравюрами, предметами искусства, попытался приобрести полотно Ганса Гольбейна за тысячу флоринов, снял деньги с векселя на тысячу флоринов, получил проценты от морских перевозок. Он ловко пускал в ход все свои средства и затеял покупку нового дома за 4 тысячи флоринов деньгами и 3 — в виде произведений искусства.
Во время кризиса и сотня флоринов кстати: за долг в такую сумму он отправит в тюрьму брата Гертье. Что до 1000 флоринов, которые он должен Яну Сиксу, он уплатит часть этой суммы, продав тому с него же писанный портрет: «Молодой человек с перчаткой в руке». Как и во всех своих делах, он проявлял ловкость, предприимчивость и дерзость. Его доводы далеко не всегда неоспоримы, но он не позволял себя провести.
Голландцы — первые биржевики и банкиры в Европе. Даже во время кризиса в Амстердаме больше денег, чем где бы то ни было. Рембрандт удержится на плаву в этом потоке. Впрочем, у него есть что продать, и он передаст эти предметы в аукционный зал большого постоялого двора Кейзерскроон на Кальверстраат.
«Вирсавия»
Нагая, она сидит на белых простынях на краю купальни, как Даная восемнадцать лет назад, — «Даная», которую он время от времени переделывает. Покойное ложе совсем рядом. Листья ползучих растений указывают на то, что действие происходит во дворике дворца. Нагая, лишь шнурок с кулоном на шее, жемчуг в волосах, большие серьги из голландского перламутрового стекла в ушах и золотой браслет на руке. Она вышла из купальни. Служанка вытирает ей ноги. В правой руке у нее письмо. Она подняла голову, взгляд ее устремлен в никуда. Картина квадратная, спокойная, замкнутая. Ничто не сможет ее потревожить. Достаточно того, что письмо проникло за ограду.
Это Вирсавия, которую увидел и возжелал царь Давид, призывающий теперь ее к себе. Царю противиться нельзя, Давид, чтобы взять эту женщину, отправит ее мужа на войну, на верную смерть. Известно, что ждет преступную любовь на суде Господнем. Служанка в необычной шляпке (которую Рембрандт, наверное, нашел у какого-нибудь портового торговца), холит ногти на ногах Вирсавии. Обычная сцена гинекея: госпожа и ее служанка. Такие встречались у Тициана и еще встретятся у Энгра, но изображенный здесь банальный педикюр — редко используемый сюжет. Речь идет о повседневном уходе за телом, которому в полнейшем бездумье предается женщина. А на постели что-то вздымается, закручивается волнами — золотая ткань, почти панцирь, складки которой, усеянные глазками, соскальзывают, набегая друг на друга, — роскошный намек на какого-то зверя, крутящегося на месте.
Это всего лишь покрывало, тяжелая златотканая материя, почти негнущаяся, с острыми краями, ниспадающая волнами, и в то же время это блестящий холод драматической судьбы медленно пробуждается в мирном жилище. Это и сияние живописного великолепия. Чудесный свиток скорее добавляет напряженности сюжету, нежели создает представление о некоей экзотической пышности.
Чтобы сделать квадрат полотна еще более замкнутым, Рембрандт не даст женщине поднять голову совершенно, склонив ее к руке с письмом. Таким образом, уже не будет никакого намека на возможность выхода за рамки картины. Лицо госпожи, лицо служанки и письмо образуют замкнутый треугольник — три вершины, над которыми возвышается чудовищный змей, медленно сворачивающий свои золотые кольца.
Позировала ли для Вирсавии Хендрикье? Вероятно. Рембрандт возобновил с ней игру, которую вел с Саскией, написав с нее Флору, как некогда с Саскии. Его жена должна присутствовать в творчестве, будучи героиней преданий в тех ролях, которые он ей предлагает, и супругой в доме. В тот же год он изобразит Хендрикье снова у воды, но уже не возле купальни, а у пруда. Ряд утесов и старых стволов едва обозначен. Женщина подбирает рубашку, входя в воду. Позади нее — вновь большой панцирь с картины «Вирсавия», гибкая золотая кираса, отделанная складками красного бархата.
Хендрикье, по колено в воде, идет с веселой улыбкой на устах. На деревянном панно Рембрандт широкой кистью набросал колыхания ее белой рубашки. Вода отражает золото ткани, светлые ноги. Они просто намечены цветными мазками. Кисть набрасывает жесты, складки, подрагивание ткани, подбирающие ее руки. Картина написана так же быстро, как давнишний морозный пейзаж, она весела: это праздник для них обоих. Вот Хендрикье наконец вышла из мрачной библейской истории, вырвалась на свободу, в лето. Интимное произведение, продолжающее предыдущее полотно, если только это не Хендрикье-купалыцица привела к созданию «Вирсавии». Неважно. Рембрандт играет на обоих регистрах. Такое сочетание возрождает счастливые времена.
Хендрикье была на пятом месяце беременности, когда 25 июня 1654 года собралась Консистория реформатской церкви — как раз во время написания картины. Секретарь Консистории заявил и записал в протоколе, что Хендрикье, проживающая на Бреестраат, предается блуду с художником Рембрандтом. То есть занимается проституцией, все четко. Секретарь добавил, что эта пара будет вызвана в Консисторию через неделю.
2 июля 1654 года. Собрание Консистории ждало напрасно. Проститутка с клиентом не явились. Секретарь отметил, что им отправлена новая повестка.
16 июля 1654 года. Консистория констатирует, что и второе письмо не возымело действия. Она решает отправить в дом по Бреестраат двух братьев из квартала. На этот раз скандал будет гласным. Государственной церкви противиться нельзя.
23 июля 1654 года. Секретарь Консистории отмечает, что Хендрикье, сожительствующая с художником Рембрандтом, была принята, духовный совет сделал ей выговор, наложил на нее покаяние и, как всякой проститутке, отказал отныне в Святом причастии.
Три месяца спустя Хендрикье произвела на свет девочку, которую окрестили в Старой церкви (Олдекерк) 30 октября 1654 года. Родители дали ей имя Корнелия и объявили дочерью Рембрандта ван Рейна и Хендрикье Стоффельс. Это имя — Корнелия — выбрал сам художник в память о своей матери Нелтье (уменьшительное от Корнелии) и невыживших дочерях Саскии.
Представители церкви вмешались, требуя, чтобы художник женился на соблазненной им девушке и сочетался с нею браком в церкви. Впрочем, Консистория ополчилась не на Рембрандта, а на его любовницу. Ей было необходимо получить ранг супруги. Однако во время всеобщего финансового кризиса Рембрандт не мог усложнить себе жизнь новым браком, который лишил бы его узуфрукта от наследства Саскии. Гертье дошла до суда, требуя женитьбы. Но Хендрикье, теряя всякую надежду стать госпожой ван Рейн, если даже и питала ее, никогда не подавала жалоб.
Наверняка она страдала от того, что ее отстранили от религиозного сообщества, что к ней относятся как к падшей женщине, что от нее отвернулись соседи. Это испытание побуждало ее всю себя отдавать дому.
Чета переживала драму, которая и удручала, и сплачивала. Отвергнутая внешним миром, Хендрикье все больше проникала в живопись Рембрандта. Она — и Вирсавия, и та молодая женщина, входящая в пруд; она позировала и для своего портрета, которому назначалось висеть на стене в пару с автопортретом Рембрандта.
На этот раз Рембрандт увидел себя иным. Он сбрил усы. Картина молодит его, несмотря на две вертикальные складки на лбу. На голове у него берет. Если на Рембрандте — золотая цепь с самоцветом, на Хендрикье — украшения, которые он ей подарил: жемчужный браслет на запястье и золотой гарнитур с большими голландскими жемчужинами в оправе, серьги с подвесками и брошь на корсаже. Вот они оба, бок о бок, в какой-то мере гордые своей судьбой, даже если им и не удалось сочетаться браком в присутствии служителей Господа.
С Титуса Рембрандт до сих пор набросал лишь один беглый портрет, когда мальчику было восемь или девять лет. Это интимное произведение, как и купание Хендрикье. Мальчик наряжен в бархатный камзол и шляпу с пером; портрет передает свежесть юного личика с огромными глазами, круглыми детскими щеками и ясным светом вопрошающего взгляда.
Теперь ему четырнадцать. Он видит маленькую Корнелию в колыбели и то, как о ней заботится Хендрикье. Он ходит в школу, но не станет поступать в Университет. Рембрандт, в отличие от собственных родителей, не строит планов относительно его будущего. Он держит ребенка дома. Маленькая семья стремится теснее сплотить свой круг. Титус будет художником. Разве мог бы он стать кем-то еще? Рембрандт подписывает и датирует первый настоящий портрет сына: «Рембрандт, 1655».
Мальчик сидит за наклонной партой, почти лежа на листках бумаги. Перед ним — орудия труда: перо и чернильница. Задумавшись, он подпирает большим пальцем подбородок, взгляд широко раскрытых глаз сосредоточен. В центре картины, над деревянной крышкой парты, перед которой висят на кожаных шнурах чернильницы, — голова, руки и вдумчивость мальчика, оставшегося наедине с самим собой. Хотя черты лица еще по-детски округлы, момент, выбранный для портрета, — одно из тех мгновений серьезности, которые порой омрачают лица детей.
Гамма коричневых оттенков от темного до светлого, потускневший, но еще теплый красный цвет. В выражении лица Титуса уже есть что-то взрослое, как будто Рембрандт, более чем умиленный сиянием его юности, уже возложил на эти хрупкие, но недрогнувшие плечи бремя судьбы, вынуждающей его стать прозорливым. Картина серьезна. Рембрандт передает своему сыну орудия искусства и предоставляет ему полную свободу. Титус за партой подстерегает жизнь, поджидает идеи. Рембрандт намеренно изобразил его не за рисованием, а в момент раздумий о том, что он станет делать, до того как мальчик взялся за перо. По крайней мере, таким бы он хотел видеть его будущее. Титус, ставший живописцем, и дальше будет появляться на его картинах, но уже никогда как художник. Конечно, он рисует, пишет, и в его произведениях проявляется сходство с творениями отца — силуэты деревьев, людей. Следуя за Рембрандтом, он ищет свое лицо, явно с более мягкими чертами, он следует по пути живописания античных и религиозных преданий, избранному мастерской отца.
Итак, в то время Рембрандт жил в большом доме со своей женой Хендрикье, которую «братья из квартала» не признавали его законной супругой, сыном, начинавшим становиться художником, и дочерью — маленькой Корнелией. В самом доме тяжесть чужих пересудов не сказывалась на течении жизни.
29 июля 1655 года в Амстердаме состоялось торжественное открытие новой ратуши — самого большого здания в городе. Его воспевали поэты во главе с Вонделем, написавшим поэму из 1500 строк, Ян Сикс тоже не остался в стороне. Константин Хейгенс назвал ратушу восьмым чудом света. Во всяком случае, событие получило символическое значение: Республика способна воздвигнуть для коллегиального управления городом здание, своими размерами и роскошным убранством не уступающее королевскому дворцу. Ратуша, построенная на Большой площади между Гильдейским домом и Ниуве Керк, стала символом могущества Амстердама. Там было все необходимое для общества: сейфы для казны, тюремные камеры, запасники оружия и боеприпасов, залы для торжественных приемов и собраний, рабочие кабинеты. Архитектура возвышенна, фасады украшены аллегорическими барельефами, но архитектор не имел права сделать парадный вход. В здание можно войти через семь небольших дверей одинакового размера, число — и неброскость — которых, вероятно, символизируют Семь провинций и демократическое равенство.
В мастерских художники, в том числе и Рембрандт, ожидали заказов на украшение зал, которые неизбежно должны были поступить. Избраны две темы, относящиеся к эпохе Древнего Рима. Первая — подчинение отца сыну — должна была внушить идею о том, что почести, полагающиеся по политическому статусу, превыше старшинства в семье и что демократия, благодаря своей законной власти, должна стоять впереди аристократии. Фабий Максим-отец принимает в своем военном лагере Фабия Максима-сына, консула. Отец, ставший подчиненным сына, держит под уздцы белого коня, на котором совершает свой въезд человек, символизирующий Рим. Сюжет, выбранный в угоду демократии, уничтожившей институт статхаудерства и доверившей центральную власть выборному Великому Пенсионарию.
Вторая тема, также относящаяся к римской эпохе, превозносила национальное стремление к независимости: это восстание батавов против римского владычества. В Голландии читали Тацита, и упоминание римским историком о храбрости предков голландцев давало шанс вступить через Античность в культурное сообщество Европы, и шанс этот нельзя было упустить.
Первые заказы поступили к Якобу Йордансу, Говарту Флинку, Фердинанду Болу и Яну Ливенсу. Таким образом, помимо фламандского мастера, были назначены два ученика Рембрандта и его лейденский однокашник: Йорданс — потому что после смерти Рубенса он был тем фламандцем, который создавал светлые произведения, несущие в себе эпическую мощь, а три голландца — потому что они в светской манере развивали порой грубую силу величайшего мастера из ныне живущих в стране. Но Рембрандту бургомистры не предоставили возможности написать для городской ратуши Амстердама великое общественное произведение, сравнимое с тем, какое Микеланджело создал в соборе Святого Петра в Риме. Республика в силу своего устройства любит коллективизм.
На Говарта Флинка была возложена ответственность за роспись всей большой галереи — самой просторной и самой посещаемой части ратуши, на Фердинанда Бола — за две римские сцены: сюжеты о Гае Фабриции Луцинии и Марке Дентате, изобиловавшие панцирями и мечами; Яну Ливенсу доверили Фабия Максима и самое главное — восстание батавов и фризского вождя Бринио, которого подданные несут на щите, празднуя триумф; Йорданса попросили изобразить два эпизода восстания: ночной разгром римского лагеря Юлием Цивилисом и заключение мира между Цивилисом и Цериалисом, к которым он присовокупит Самсона, обращающего в бегство филистимлян.
Таким образом распределились заказы. Рембрандт был забыт, Ливенс торжествовал, как торжествовал он с тех пор, как принял участие в украшении Лесного дома в 1650 году и когда написал в 1654-м мифологических персонажей в берлинском дворце Луизы-Генриетты Оранской и даже создал «Аллегорию Мира» для общественного здания в Амстердаме в 1652-м. Это нормально: он был современен, а искусство Рембрандта все дальше удалялось от вкусов современников.
Возможно, дело с заказами для новой ратуши усложнилось из-за интриг вокруг выбора художников. Известно, что Ян Сикс восторженно отозвался об архитектуре здания. Предложил ли он привлечь к работе Рембрандта? Мы можем так думать, поскольку располагаем сегодня фотографией с большой картины Рембрандта, 197 см в ширину, на тему о Фабии Максиме — только фотографией, поскольку картина исчезла в начале XX века. Но это позволяет предположить, что либо «Фабия Максима» Рембрандта отвергли и заменили полотном Ливенса, либо между художниками устроили соревнование. В этом случае дело Рембрандта заранее было проиграно, ибо Ливенс, живописец курфюрста Бранденбургского, все больше входил в моду, тогда как Рембрандт из нее выходил, — Рембрандт, чьи отношения с коллекционерами были не всегда приятными: один португальский торговец из Амстердама, заказавший ему портрет молодой женщины и заранее уплативший за него 75 флоринов, отказался от картины, по его словам, из-за отсутствия сходства, вынудив Рембрандта обратиться в арбитражный суд Гильдии Святого Луки. Прошло то время, когда его картины хоть и критиковали, но не до такой степени, чтобы отказываться от них или требовать переделки.
Вокруг него сохранился кружок верных друзей: врач Арнольд Толинкс, Клемент де Йонге, издатель и продавец эстампов с Кальверстраат, что между Монетной Башней и ратушей, Авраам Франсен, торговец картинами (после смерти Саскии Хендрик Эйленбюрх захаживал все реже), ювелир Ян Лютма, отчеканивший кубок в честь Николаса Тульпа, и сам Тульп. Можно предположить, что они, все еще обладавшие властью в городе, предпринимали шаги в его защиту.
Всадник и бык
В тот 1655 год, помимо впоследствии исчезнувшего «Фабия Максима», последнего зримого доказательства внимания, которое ему уделяли или не уделяли амстердамские бургомистры, Рембрандт работал над двумя картинами, занявшими свое место в ряду его самых удачных произведений: всадником и тушей быка.
Всадник — первая конная фигура в его творчестве — возможно, был написан в какой-то связи с консулом Фабием Максимом на белом коне. Это лучник, одетый на польский манер, едущий по долине у подножия городских укреплений. Чтобы понять, как соединяются человек и конь, Рембрандт нарисовал скелет коня и поверх него — скелет всадника. Он не стремился к анатомической точности. Он хотел посмотреть, как сочетаются два живых существа. Но почему же поляк?
Нидерланды вели тогда войну со Швецией, чтобы сохранить свое экономическое присутствие на Балтике. Карл X захватил Данцигский (Гданьский) порт, чтобы обеспечить свободную перевозку зерна из Польши. Тогда Ян де Витт вооружил флотилию, чтобы освободить город и вернуть его полякам. Этим, на первый взгляд, благородным жестом он на самом деле стремился отстоять интересы Голландии на море. Такова была политическая обстановка в 1655 году. Так что в Амстердаме говорили о поляках, и костюм лучника — красные штаны, жупан с мелкими пуговицами, меховая шапка — возможно, был куплен в порту или увиден на каком-нибудь эстампе. Образ этого воина мог также символизировать поддержку религиозной доктрины польских братьев, которые в самой Голландии боролись при помощи пера с осуждением официальной Церковью близких им социнианских догматов. Может быть, именно таким путем Рембрандт и пришел к мысли написать фигуру борца за свободу? Ибо это воин старинных времен, вооруженный саблей, луком и стрелами, едущий на белом коне. Его юное лицо дышит искренностью и решимостью. Конь, чья шкура поблескивает, как и доспехи, — воплощение чудесного слуги, который в рыцарских романах всегда встает на сторону своего хозяина. Оба они дозором обходят мир, преследуя оскверняющих его злодеев. Они неукротимо идут вперед берегом реки, текущей мимо замка и башни, наделенные силой праведных борцов, которым поручено восстановить пошатнувшийся божественный порядок в земном хаосе.
Рембрандта легко узнать по толкованию сюжета, по искренности композиции. Однако «Польский всадник», так же как гравюра с алхимиком или «Аристотель перед бюстом Гомера», а вскоре и «Туша быка», представляет собой уход в сторону от того репертуара, которого, казалось, до сих пор ему вполне хватало. Темы этих произведений — оспаривание магической силы писания («Алхимик»), Философия, черпающая вдохновение в Поэзии («Аристотель»), справедливая борьба с мирскими пороками («Польский всадник») — позволяют в очередной раз заявить, что искусство — это этика, что живопись существует для того, чтобы указать миру праведный путь.
В тот момент, когда Рембрандт может с полным основанием считать себя отвергнутым в городе, где пасторы осуждают его подругу и отлучают ее от церкви, где бургомистры под влиянием моды отворачиваются от его произведений, где бухгалтеры пытаются доказать, что он разбазарил имущество жены и не сумел правильно распорядиться своим состоянием, художник занят упорядочиванием искусства, своего личного средства общения. Он ждет от живописи, что она восстановит благородство мира, вернет мужчинам и женщинам то лучшее, что в них есть.
Жан Жене впоследствии будет говорить о доброте Рембрандта. Это не блаженная доброта, но активные поиски добра, и эти три картины доказывают, что он расширил сферу поисков. В то время, когда его со всех сторон обвиняли в нарушении равновесия, он тратил все силы на то, чтобы охранить старое и открыть неизведанное.
Таков и бык, которому мясник отрубил голову, ноги, извлек внутренности и содрал шкуру и который теперь висит на веревках в кладовой, являя собой красно-перламутровое, коричнево-кремовое зрелище выпотрошенной туши. Рембрандт уже писал однажды, лет пятнадцать назад, сцену на бойне. Обычное зрелище для мясного ряда, защищенного от света, когда двери заперты, а ставни приоткрыты, и в помещении стоит терпкий запах крови, текущей по полу. Это не продлится долго. Вернется мясник и разделает на части освежеванную тушу.
Со времен Питера Артсена, жившего в XVI веке, сцены на скотобойне были не редкостью в голландской живописи, так же как и изображения рыбного ряда или прилавков с овощами. Но Рембрандт не создает очередную картину из народной жизни в развитие жанра. Он предоставляет это другим — Стену и Остаде. Сам же он лишь проходит мимо, чтобы уловить строение опрокинутой туши быка, ставшей практически неотождествимой. Вчера это тело щипало травку, сегодня само станет пищей. Выпотрошенный бык похож на архитектурное сооружение, некое вместилище с каркасом из костей, со вздутиями белого жира, — мощь, вывернутая наизнанку; красные мышцы превратились в куски мяса, в которых воткнуты разделочные ножи. Выступившие наружу кости, блестящие суставы — можно лишь с трудом распознать чудесную машину, которой некогда был бык, ныне превращенный в питательный ландшафт. Бык изображен на последней стадии, когда еще можно догадаться о том, кем он был, в точно выбранный момент преображения. Картина, выполненная в единой цветовой гамме коричневых оттенков от красного до светлого, подчеркивает матовость мышц, сверкание жира, показывает игру света в темноте помещения.
Там холодно: на дворе зима. Дверь приоткрыта. Молодая женщина в шляпке, натянутой на самые уши, глубоко засунула руки в муфту. Она наклонилась и смотрит с улыбкой, еще сохранившейся на губах. Одним и тем же красным цветом выписаны мышцы быка и корсаж под накидкой. Что она делает здесь? Задает пропорции.
Пятнадцать лет назад Рембрандту не хватило ясности в трактовке этого сюжета. Он добавил служанку, моющую пол, но лишь как второстепенную деталь. Теперь он идет прямо к сути. Не предается методическому исследованию, но придает одинаковую доверительность жесту Аристотеля, прикасающегося к мраморному бюсту Гомера, всаднику из легенды, едущему по свету, и этому открытому и вкусному мясу, которое живопись лишила малейшей тривиальности. Мир справедлив и добр — так свидетельствует живопись.
Эти произведения не укладываются в одну интеллектуальную систему, и все же мысль Рембрандта прослеживается в них в четкой связи с некоторыми основополагающими, можно даже сказать, физическими ценностями: осязанием (Аристотель испытывает потребность в том, чтобы прикоснуться к бюсту Гомера), движением (польский всадник осматривает мир), едой (туша быка) — простыми повседневными действиями, которые художник наделяет высшим качеством. Преобразуя обыденность, Рембрандт переносит ее в античную историю, в рыцарские легенды, на пантагрюэлевский пир. Как всегда, он рассматривает одновременно сам предмет и его концепцию. Конечно, изображение быка лишено какой-либо культурной подоплеки. Несмотря на свое сияние, туша отсылает нас всего лишь к мысли о еде. Но сила этого мясного пейзажа такова, что один исследователь творчества Рембрандта разглядел в нем аллегорию Веры. Эта пища не более неприглядна, чем головы ягнят, поданные в Эммаусе. Туша быка становится роскошным носителем духовного смысла.
Итак, все три картины составляют единое целое в поиске образов, не заменяющих библейских персонажей, но преподающих параллельный урок веры в мир. Они составляют триптих о сильной, здоровой жизни, являют собой три положительных манифеста, обрамляющих два зловещих произведения: гравюру о Фаусте и «Урок анатомии доктора Деймана», посвященные разгадыванию тайн, о тщетности которого громко заявляет искусство. Рембрандту сорок восемь. Он все так же открыт для новых идей.
В повседневной жизни ему приходилось отбиваться от поступающих со всех сторон требований о платежах, при этом он погашал долговые обязательства путем выдачи новых векселей. Его захватило это отчаянное коловращение, когда, затыкая одну дыру, тем самым создаешь новую. Он предпринимал все новые попытки защитить все что только можно, попробовал перевести дом на имя сына, обратился с заявлением в Сиротскую палату — и получил отказ.
С 1656 года почти каждую неделю он ходил из одной конторы в другую, выдвигал предложения, строил планы. Все напрасно. Банкротство было уже у ворот. А это катастрофа, потому что банкрот лишался всех своих прав: обанкротившийся художник даже мог быть исключен из Гильдии Святого Луки и утратить право продавать какие бы то ни было картины — что может быть хуже? Рембрандт любой ценой хотел этого избежать. В июне он заявил в Высшем суде о своем пожелании, чтобы магистраты относились к нему как к торговцу, потерпевшему неудачу в делах не по своей вине и не из-за собственной непорядочности, а из-за превратностей судьбы. Он сослался на непредвиденные потери морских грузов, которые финансировал, — приемлемый аргумент, поскольку суд признавал форс-мажорные обстоятельства в торговле: кораблекрушения, войны, пиратские нападения.
В конце концов гражданских прав в связи с банкротством его не лишат. Суд спасет его честь (один из сыновей Николаса Тульпа был членом комиссии), однако вынудит его уплатить кредиторам, то есть продать свое имущество. 20 июля 1656 года суд назначил судебного исполнителя по имени Франс Янс Брейнинг — родственника юного щеголя Николаса Брейнинга, портрет которого Рембрандт написал четыре года назад. Таким образом, вопрос решался людьми одного круга. Однако приостановить выполнение решения суда не удалось, и 26 июля в большом доме на Синт-Антонисбреестраат началась опись имущества, которая длилась два дня. На 29-й странице реестра читаем: «Опись всего движимого имущества, принадлежащего Рембрандту ван Рейну, проживающему на Бреестраат подле Шлюза Святого Антония».
Анатомия дома
Несмотря на хлопоты, которые в конечном счете привели лишь к появлению в большом доме судебных исполнителей, Рембрандт все же выкроил время, чтобы выполнить заказ на новый «Урок анатомии». Теперь уже не доктор Тульп, а его преемник, доктор Йохан Дейман, став преподавателем анатомии, попросил его написать сцену препарирования головного мозга. Известно, что случаи для таких важных уроков предоставлялись редко. Все зависело от решения о смертной казни, выносимого судом. И вот один человек был осужден: Это был Йорис Фонтейн, вор, которого повесили 28 января 1656 года. А на следующий день Рембрандт присутствовал на трех уроках, которые доктор провел над трупом Йориса Фонтейна.
Анатомический театр был тогда устроен в часовне при монастыре Святой Маргариты, превратившемся после провозглашения Независимости и перехода власти к реформатам в небольшой мясной рынок, а затем, в 1639 году, — в помещение обществ риторов, собраний литераторов и Гильдии хирургов. Так что урок анатомии на месте бывшего мясного ряда был в порядке вещей: и сам Рембрандт, еще год назад написавший быка, теперь перешел от быка к человеку.
Очевидно, что этот заказ — ответ небольшого кружка преданных друзей на пренебрежение бургомистров. Иохан Дейман сменил на посту смотрителя медицинских училищ Арнольда Толинкса, чей портрет Рембрандт в то же самое время выполнил в масле и в гравюре и который состоял в родстве с Николасом Тульпом и Яном Сиксом.
Картина выдержана в тех же пропорциях, что и «Урок анатомии доктора Тульпа», но почти в два раза больше. Труп лежит на столе. Из него извлекли внутренности. Живот человека вспорот, как у быка. Доктор Йохан Дейман с пинцетом и скальпелем трудится над головным мозгом Йориса Фонтейна. Черепная коробка распилена. Мозговые оболочки отброшены в разные стороны. Профессор Гисбрехт Маттис Калькун — возможно, потомок одного из зрителей на уроке доктора Тульпа — держит в руке черепной свод.
Рембрандт так и не привык к подобным зрелищам. Это обнаженное тело, огромные ступни, расположенные по законам перспективы рядом с безжизненными руками, — вот человек, переданный для изучения, открытый для исследований. Рембрандт вновь выбирает самую выверенную композицию. Это явствует уже из подготовительного рисунка: в центре — столб, на который опираются два арочных свода низкого потолка, операционный стол, лежащее тело и prosector за работой. По обе стороны от него — четыре человека, некоторые из них в шляпах.
Никакого движения или удивления на лицах, как в «Уроке доктора Тульпа», лишь вдумчивое размышление вокруг открытого черепа. Персонажи одеты практически как в 1632 году, за исключением того, что они носят уже не жабо, а небольшие кружевные воротнички, осветляющие их темный костюм. От их неподвижности исходит серьезная тишина.
В «Уроке анатомии доктора Тульпа» художник, стараясь как можно лучше выполнить заказ, лишь косвенно выразил свое беспокойство. И здесь в содержании картины соблюдена точность, причем не следует считать эту сцену чем-то исключительным: анатомия черепа известна со времен Леонардо да Винчи, а иллюстрации к трактату Везалия «О строении человеческого тела» были знакомы всей Европе. Но, в отличие от гравюр из анатомических трактатов, картина не являет собой учебное пособие: на ней, например, не изображено анатомическое открытие, которое, возможно, сделал доктор Дейман. Рембрандт пишет то, что видит. Он не иллюстрирует учебный эксперимент.
Оба его «Урока» не могут претендовать на нечто большее, чем фронтиспис анатомического трактата. Хотя в то время фронтисписы трактатов Бартолини (1651), Иоханнеса де Муральта (1677), Манюэля и Леклерка (1685) были еще менее содержательными, изображая суету профессоров вокруг несчастного вскрытого трупа, скелеты с косами или лоскутья содранной с человека кожи — в напоминание о казни святого Варфоломея. Зато творивший в ту же эпоху художник Шарль Лебрен проявлял большой интерес к извилинам головного мозга. Рембрандт же в основном занят светом и тенью. Он высвечивает живые и мертвые руки, красноватый мозг над мертвенно-бледным лицом, свод черепа, превратившийся в кубок, и беспомощное тело. Он вовсе не восхищен этим зрелищем и явно никогда не думал о том, что трепанация черепа позволит ему увидеть средоточие мысли или вместилище души. Но, исполняя свою роль художника, он, как и в первом «Уроке», написанном двадцатью четырьмя годами раньше, дает почувствовать и отвращение и зачарованность.
Поскольку у него попросили совета о том, как лучше представить это большое полотно, он нарисовал для него раму — толстую раму, отдаляющую картину. Сделав основание достаточно высоким, окаймив его с боков деревянными рамками с глубокими вертикальными линиями, похожими на пилястры, он увенчал раму аркой с резным орнаментом в центре. То есть ему хотелось, чтобы полотно предстало в центре архитектурного сооружения, которое еще усилило бы незыблемость живописи. На самом деле это рама в стиле Возрождения, то есть в старом духе, как для заалтарной картины, внешний вид которой отличает ее от веяний эпохи, предпочитающей скромные рамы из черного или позолоченного дерева.
Законченная таким образом картина была вывешена в Гильдии хирургов среди других произведений на медицинские темы и рядом с «Уроком анатомии доктора Тульпа». Наверное, гильдия не ставила Рембрандту в упрек, что его картины не стали праздником науки, разделяя чувства художника, присутствовавшего при ужасном деянии, одновременно необходимом, отталкивающем и незабываемом. «Урок анатомии доктора Деймана» будет висеть в залах гильдии до 1723 года, когда более половины картин уничтожит пожар.
Художник поставил свою подпись под «Уроком анатомии доктора Деймана» на операционном столе: «Рембрандт, 1656». Это было в феврале-марте. В конце июля в его дом вошли судебные исполнители для проведения описи имущества. С тех пор они сновали повсюду: в коридорах, спальнях, на чердаке, в мастерских, на кухне.
Они записывали. Рембрандт уточнял: «Это — моя картина. Это — произведение Адриана Броувера, изображающее кондитера», — нельзя же допустить, чтобы эти люди писали Бог знает что. Ему приходилось объяснять, что та мраморная скульптура работы Микеланджело, это — полотно Рафаэля, а это — копия с Аннибале Карраччи, в той папке — эстампы Луки Лейденского, в этой — гравюры самого Рембрандта, а в шкафу лежат гравюры Ван Влита с его картин. Почему у него две большие печи? Чтобы обнаженные натурщики не замерзли.
Таким образом, все подсчитано, описано, отмечено: ковры, кровати, стулья — даже указано, что стол орехового дерева покрыт сукном из Турнэ, имеются в наличии шесть стульев с голубыми сиденьями, две подушки, один утюг, два одеяла, три рубашки, шесть носовых платков, три скатерти, одна чашка Ост-Индской компании, грязное белье. А еще — алебарды, индийские опахала, чучела животных, маленькая пушка, старинные ткани, бюсты императоров и философов, музыкальные инструменты разных стран, луки, арбалеты, оленьи рога, щиты, посмертная гипсовая маска принца Морица, турецкая пороховница. Судебные исполнители пишут, делают пометки мелом на обороте картин, закрывают шкафы, кладут вещи на место. Благодаря их «описи» станет известно, что находилось в прихожей, в большой мастерской, в малой мастерской, в спальнях, на кухне, а также то, что говорил об этом сам Рембрандт. Например, такое: «Эти гравюры Андреа Мантенья очень ценные, этот набор эстампов Питера Брейгеля Старшего тоже. В «Трактате о пропорциях» Альбрехта Дюрера содержатся гравюры на дереве. Эта книга — трагедия «Медея» Яна Сикса. Я сделал для нее гравюру. Эта картина не совсем моя, это работа ученика, которую я подправил, а это — копия с одного из моих произведений». Вся его жизнь проходила через руки этих людей. Рисунки, картины Пинаса и Ластмана времен его юности; гравюры, картины Ливенса в начале его карьеры; пейзажи Херкюлеса Сегерса — его страсть; заалтарные композиции старинных лейденских художников, например, Арта ван Лейдена, работы Ван Эйка, Метсиса, Кранаха, Шонгауэра, которые он вновь открыл, индийские миниатюры — предмет его любопытства; небольшие работы Броувера — вульгарные, но великолепные, которые нравились и Рубенсу тоже, — все, что он нашел, купил, выменял, сохранил за тридцать с лишком лет.
«Пометьте, — говорил он, — что этот Пальма Старший и этот Джорджоне принадлежат также Питеру Латомбу». А вот снова его собственные произведения: «Согласие в стране» (1641), «Даная», «Снятие с креста» и «Воскресение Христа», альбомы с рисунками, пейзажи. И картины Титуса: пейзаж с двумя собаками, голова Богоматери. И снова полотна Яна Ливенса: «Воскрешение Лазаря» — Рембрандт написал картину на ту же тему, работая бок о бок с ним в их общей лейденской мастерской.
То, что судебные исполнители передают друг другу из рук в руки, — вся его жизнь. За те два дня, что продолжалась опись, перед ним вновь прошло столько лет! Под портретами Саскии с его слов делали запись: «Женский портрет?». Под портретами его матери — «Портрет пожилой женщины?». Под изображением Хендрикье, входящей в воду подобрав рубашку, — «Купальщица?». Титус за рисованием — «Портрет мальчика?». На самом деле секретари суда описали не все. Рембрандт успел отвезти кое-какие вещи надежным друзьям. Кто на его месте не поступил бы так же?
После двух дней работы они ушли, забрав с собой свои записи. Официально они ничего не пропустили. Они описали все, кроме того, что было объявлено собственностью его любовницы Хендрикье и девочки Корнелии и помещалось в одном из шкафов, который даже не открывали. Единственный шкаф, в котором могла храниться тайна — тайна, о которой еще будут говорить после смерти Рембрандта.
Эта коллекция ничем не была похожа на собрание, составившееся случайно, на хлам в лавке старьевщика. Она была частью всеобщей культуры благодаря входившим в нее произведениям итальянских, фламандских, голландских мастеров (собрание эстампов от Жака Калло до Шонгауэра), исторической культуры — благодаря античным произведениям, сборникам географических и этнографических гравюр, зоологической культуры — благодаря присутствию чучел и муляжей животных. Все, что жило на суше, в море и в воздухе, было ему интересно. Его ум стремился к энциклопедичности.
Судебные исполнители сказали, что не наложат арест на орудия труда — краски, кисти, палитры, эскизы, печи для натурщиков, но все остальное будет продано, включая венецианские зеркала, которыми он пользовался для автопортретов.
Административная машина набирала ход. Титусу назначили опекуна. Рембрандта уведомили о его долгах. Одному кредитору он обязался уплатить произведениями искусства, если количества денег, вырученных от продажи имущества, окажется недостаточно. В области искусства он, по счастью, еще пользовался поддержкой. Торговец Лодевейк ван Людик и аптекарь Абрахам Франсен, назначенные экспертами по данному делу, были его друзьями.
Рембрандт еще сопротивлялся. Он отправил Титуса к нотариусу мэтру Спитхофу на Зингеле составить завещание, думая, что еще можно спасти часть их собственности, передав ее под управление Сиротской палаты; если Титус заявит о своем желании завещать свое имущество сводной сестре Корнелии и матери последней, Хендрикье Стоффельс, узуфрукт отошел бы к Рембрандту. Конечно, все это махинации, но они говорят о сплоченности маленькой семьи, осажденной со всех сторон: шестнадцатилетнего Титуса, двухлетней Корнелии, тридцатилетней Хендрикье и пятидесятилетнего Рембрандта.
Пока не продали зеркал, Рембрандт посмотрелся в них еще дважды в тот разгромный год. На первом холсте он придал себе вид пораженца. Небритый, непричесанный, седые волосы забраны под берет, седины много в усах и жидкой бороде. Он бледен, под глазами залегли тени — там, где кожа гладкая и землистая, как он уже это показывал на лике Богоматери у подножия креста. Тревога и терзания проложили больше морщин на лице, чем годы. Но глаза художника говорят о том, что он сохраняет присутствие духа, и, истерзанный, все еще сопротивляется ударам судьбы. В 1656 году он написал шесть картин и сделал шесть гравюр. Это не остановило тех, кто хотел поместить его сына под опеку и управлять его делами. Человек подавлен, художник — нет.
На втором холсте он снова изобразил себя в растерянности, с таким же наморщенным лбом и с синяками под глазами, но словно оправляющимся от истощения и усталости. Он остриг седые волосы, подровнял усы. Человек, смотрящий на себя в зеркало, — уже не затравленное существо. Это тепло одетый мужчина, одержавший верх над своими сомнениями. Конечно, испытания оставили на нем свой отпечаток, но совершенно ясно, что он снова вступает в бой, имея причины воспрянуть духом: его живопись стоит денег. Разве во время оценки его имущества торговцем Йоханнесом де Рениальме эксперт не оценил «Христа и блудницу» в 1500 флоринов? Его картины высоко котируются на рынке.
Оценщиком на аукционе-распродаже имущества Рембрандта был Томас Якобе Харинг — надзиратель Палаты несостоятельных должников. Рембрандт, познакомившийся с ним в 1655 году во время первой распродажи своих вещей, выгравировал его портрет: старый человек сидит в кожаном кресле спиной к окну, одетый в черный бархатный камзол, со строгим белым воротничком, на который спадают седые волосы. Он провел целую жизнь, распродавая имущество обанкротившихся торговцев или разорившихся хозяйств. Однако Рембрандт изобразил его не хищником, питающимся несчастьями, а усталым стариком с застывшим взглядом. Может быть, это искупительная гравюра?
Потребуется не менее трех аукционов, чтобы распродать все его имущество. В декабре 1657 года начали с картин, предметов искусства из его коллекции и семидесяти его собственных полотен. Затем, 13 февраля 1658 года, выставили на продажу дом и мебель. К несчастью для нас, журнал торгов частично сгорел во время пожара.
Распродажа
С приближением торгов кредиторы устроили свалку, пытаясь вытребовать для себя первоочередную уплату. Иски, рекламации — все это лишь отсрочило выплаты по долгам. Когда добрались до дома, участники аукциона пропустили первый день торгов. Кредиторы выразили протест. Потребовалось еще два дня, чтобы с этим покончить. На третий Томасу Харингу удалось получить 12 218 флоринов с одного фабриканта обуви. Поскольку Рембрандт заплатил за дом 13 тысяч, дело начиналось скверно: общая сумма долга оценивалась в 20 тысяч флоринов. Однако некоторые считали, что для кризисного времени это хорошая цена.
Затем с молотка пошла мебель, за исключением шкафа Хендрикье, чьи права на него не подлежали сомнению. Когда настала очередь эстампов и рисунков, в городе незадолго до 24 сентября 1658 года вывесили плакатик следующего содержания: «Агент по распродаже имущества несостоятельных должников с соизволения гг. Комиссаров приступает к продаже с молотка по решению суда имущества, состоящего из произведений на бумаге величайших итальянских, французских, немецких и голландских мастеров, собранных со всею тщательностью Рембрандтом ван Рейном, а также большого количества рисунков и эскизов самого Рембрандта. Торги состоятся в доме Барента Янса Схурмана, владельца постоялого двора Кейзерскоон на Кальверстраат».
Можно представить себе старого Томаса Харинга над гулом толпы. Слышит ли он цены, которые называют со всех сторон? Полный журнал торгов утрачен. Но кое-какие подсчеты позволяют судить о том, что результаты были плачевными. 600 флоринов за одну папку, 6 тысяч за другую — 20 тысяч общего долга покрыть так и не удалось. Все кредиторы громко заявляли о своих правах. Соблюдая иерархию, бургомистр Корнелис Витсен первым получил назад свои 4180 флоринов, одолженные Рембрандту в 1653 году. Затем вмешался новый опекун Титуса, велевший заблокировать все средства из опасения, что они пойдут на откуп кредиторам, и наследник Саскии окажется разорен (47 тысяч флоринов!). Многие оказались у разбитого корыта, как, например, Лодевейк ван Людик, которому пришлось уплатить по векселю Яна Сикса, выданному Рембрандту, — то есть 1200 флоринов (с процентами). Другим так и не удалось вернуть свои деньги — например, Исааку ван Хертсбеку, одолжившему 4200 флоринов в 1653 году.
Банкротство, хоть оно и не лишило Рембрандта чести, имело для него тяжкие последствия. Следователи проводили разбирательство, пытаясь понять, почему досточтимый Рембрандт оказался принужденным к распродаже своего имущества, столь богатого по содержанию и столь жалкого по вырученной за него сумме. Лодевейку ван Людику опекуном Титуса было поручено оценить приобретения художника с 1640 по 1650 год (около 18 тысяч флоринов). Повсюду искали следы его достояния, которое словно улетучилось. Нашли свидетелей, вспоминавших о драгоценностях, оставленных Саскией, — жемчугах, бриллиантах, кольцах, браслетах, колье. Художник Саломон Конинк припомнил, что купил одно из этих колье году в 1651-1652-м. Сняли свидетельские показания с людей, позировавших для «Ночного дозора». Бухгалтеры выбивались из сил. Дело Рембрандта по-прежнему оставалось непостижимым. Если бы он не вел теперь бедную жизнь в простонародном квартале, можно было бы подумать, что он припрятал у друзей не только несколько картин или предметов искусства. Но посмертная опись засвидетельствует его действительную нищету. Он жил так же бедно, как его братья и сестры в Лейдене. Но в чем же кроются причины его разорения? (В те времена, например, чиновник получал всего около двухсот флоринов в год.) Наверное, в разладе экономической жизни в стране. Торговля влиянием, коррупция стали обычным делом. Деньги уже не отражали действительного положения каждого человека; их стоимость варьировалась в зависимости от крупных внешнеторговых сделок.
С обеднением одних обогащались другие. Потеря Бразилии, трудности, переживаемые Голландией в Японии, на Цейлоне, в войнах с Англией или со Швецией, не благоприятствовали продаже произведений современного искусства. Разумеется, амстердамский рынок искусства был международным центром реализации итальянских картин или восточного фарфора, но голландские полотна пока не были удачным вложением денег. Пока рушились состояния, нувориши искали возможности проявить себя за пределами Голландии. Живопись превратилась в развлечение, как мода. Но помимо перехода состояний в другие руки, нечеткости в оценке произведений искусства, зыбкости экономической обстановки, провал публичной распродажи имущества Рембрандта обусловлен самим характером этих торгов: «после банкротства, по решению суда», в обстановке конфликтов между кредиторами. Такая распродажа не может привлечь крупных коллекционеров. Обычно они оставляют подобные дела на произвол шайки торговцев, делящих между собой добычу при минимальных расходах и ловко пользующихся обстоятельствами.
Потерпев крах, Рембрандт не изменил своего поведения. Чтобы рассчитаться с верным торговцем Лодевейком ван Людиком, он предложил уплатить ему часть долга картиной, которая, по его уверениям, была почти закончена. Это полотно «Давид и Авессалом», написанное в 1642 году, завершение которого он беспрестанно откладывал. Не из лени, а потому, что пока картина находилась при нем, ему случалось ее переделывать. У денег свои законы, у искусства — свои.
А еще в том скорбном 1658 году он начал новый автопортрет — большую картину, более 1,3 метра в высоту, еще более оптимистичный, чем автопортрет 1657 года. Он изобразил себя государем. Не королем живописи, поскольку он не держит в руках орудий своего труда, а правителем, сидящим в кресле, положив правую руку на подлокотник, а левой сжав трость. Он одет в роскошную, шитую золотом шубу с меховой оторочкой, под ней — тяжелые одежды с широким поясом, украшенным галунами, и шелковая сорочка. Еще никогда он не изображал себя столь могущественным и богатым, хотя однажды и украсил себя золотой цепью — признаком успеха. И вот теперь он совершенно разорен, дом его продан, стены голы, шкафы пусты, а возможно, шкафов и вовсе нет (за исключением того, который принадлежит Хендрикье), в жилище на Синт-Антонисбреестраат гулко раздаются голоса и шаги, — и именно в этот момент он решает написать свой триумф. И даже если это фантазия, на которую ему дает право искусство, это все же реальность. В городе адвокаты, опекун, кредиторы сменяют друг друга, требуя признания своих прав. А Рембрандт работает в большом пустом доме, обогатив свое творчество в том самом 1658 году семью гравюрами (обнаженная натура: женщина рядом с мужской шляпой, негритянка), несколькими картинами небольшого размера, как, например, «Филемон и Бавкида», а главное — этим «Автопортретом», который подтверждает его веру в себя — веру, которая отныне удвоилась.
Насмешка? Возможно. Теперь, когда у него больше ничего нет, кроме того, что на нем надето, и трости, которую он небрежно держит в руке, он может показать кукиш тем, кто рыщет по городу в поисках своих денежек. Но, вероятнее всего, он далеко отсюда, решительно уверенный в том, что не принадлежит к их мирку. Развенчанный король, он пишет себя таким, каким видит, — государем той области, где никто другой не желает править, королем десятилетий созидания, следы которого остались и тут и там, в частных домах, в общественных зданиях, в залах для стрельбы, в Гильдии хирургов, а еще во дворце принца в Гааге.
Но уже мало кто заявляет, что эти картины и гравюры — необходимая духовная пища для выживания народа, — почти никто, кроме поэта Иеремиаса де Деллера, готовящего к публикации «Голландский Парнас». Рембрандт напишет портрет этого поэта, чье восхищение пришлось так кстати в те трудные дни, — портрет, которому воздаст хвалу другой автор — X. П. Ватерлоос. Рембрандт не совсем одинок: похоже, что катастрофа привлекла к нему новых друзей.
Свидетель редкой поддержки, которую ему пока оказывают, — еще одна гравюра: прощание с респектабельным художником, каким он был, и гадание о том, что станется с ним в будущем. Перед нами городская улица. Несколько прохожих — старик, молодой человек, женщина с грудным младенцем — поднимают глаза к монументальному постаменту, у подножия которого навзничь упал молодой мужчина. На каменном постаменте виден огонь, языки пламени и два херувима, трубящие в трубы, а в завитках дыма расправляет крылья молодой птенец, словно Феникс, возрождающийся из пепла. Но у этого орленка нелепый вид чересчур быстро подросшего птенца, а маленькие крылья еще не позволяют ему взлететь. Великолепная аллегория проходит через комическую стадию. Этим умершим молодым человеком, птицей, хлопающей крыльями, словно цыпленок, постаментом под птичником Рембрандт ясно говорит, что не верит в возрождение в будущем, несмотря на трубы херувимов, лучи сияющего солнца и ошеломление редких прохожих. Таким образом он заявил о своем уходе и из настоящего, и из будущего. Феникс, еще домашняя птица, возродится из слегка растрескавшейся стелы, через которую уже пробиваются сорняки, среди выспренних жестов немногих свидетелей.
Ибо истинные одежды художника — не костюм голландского гражданина и не восточные наряды, которые привлекали его одно время, а облачения, которые может создать живопись: золото арки, желтый цвет стенной обивки, красный, как на подхвате занавеса, белый, как нежное тело. Автопортрет преодоленного разорения — это портрет обездоленного короля, нарядившегося в свои самые красивые краски. Руки сотканы из световых бликов. Картина принадлежит к интимному искусству, в котором живопись являет взгляду свою собственную жизнь, свою способность стать складками ткани, сочленениями фаланг. Чистый белый цвет на кончике носа, глаза темного цвета, складки двойного подбородка, тени под глазами, слегка обрюзгшие щеки с еще выделяющимися скулами — это только живопись. Это Рембрандт, облеченный в свою живопись. Он больше не владеет чем бы то ни было. Одно лишь искусство делает его своим государем.
Этот «Автопортрет» завершает историю. Рембрандт уже мог умереть, создав эту картину. Ему оставалось прожить одиннадцать лет.
Это свое роскошное изображение он написал в 1658 году — в том году, когда национальный поэт Вондель, всегда посвящавший его таланту лишь презрительные стихи, тоже испытал серьезные финансовые неурядицы, которые вынудили его в семьдесят лет просить для себя места в Муниципальном Кредите, где 31 января 1658 года он приступил к своим обязанностям: вел в своем окошечке записи предметов, под залог которых выдавали заем. Он утратил независимость в тот год, когда Рембрандт лишился имущества.
Судьбы Рембрандта и Вонделя будут пересекаться все чаще, хотя сами они никогда не встречались. Ни тому, ни другому не изменит мужество. Писатель будет продолжать писать, художник — рисовать.
Глава VIII СМЕРТЬ ХЕНДРИКЬЕ
Батавы и суконщики
И вот все четверо — в большом пустом доме. В ритме работы Рембрандта ничего не изменилось. Арест не коснулся его орудий живописца, но лишил его ручного пресса для печатания эстампов. Отныне он более не прикоснется к меди, и если ему вдруг захочется переделать свою гравюру «Три креста» или сделать оттиск обнаженной натуры, ему придется наведаться, например, к Клементу де Йонге — торговцу, уже давно покупавшему его отпечатки.
Семья уже не могла по-прежнему хозяйничать в некогда уютном доме. Титус и Хендрикье становились все ближе друг другу. У Титуса, ожидавшего получения того, что удалось спасти из наследства его матери, имелись кое-какие юношеские сбережения, и Хендрикье отложила немного денег. Они собирались сократить расходы на проживание и переехать в другой дом, а главное — попытаться организовать дело, которое избавило бы Рембрандта от всех финансовых забот и помогло избежать нового краха. Прежде всего нужно было придумать лазейку для правила, недавно установленного гильдией амстердамских художников, — Гильдией Святого Луки — возможно, связанного с «почетным» банкротством Рембрандта, которое запрещало обанкротившимся членам гильдии заниматься коммерцией любого рода. Они более не имели права продавать ни свои собственные произведения, ни творения других художников, к какой бы эпохе те ни принадлежали. Такое решение позволяет заключить, что, несмотря на развитие торговли произведениями искусства, мастерские художников продолжали оставаться лавками, где обычно и приобретались картины. На художника смотрели как на коммерсанта — на что, впрочем, и напирал Рембрандт перед судом, требуя, чтобы неудачи сочли форс-мажорными обстоятельствами, не задевающими его чести. Теперь это правило обернулось против него. Поскольку ему отныне было запрещено заниматься коммерцией, Титус и Хендрикье пытались вывести его из торговых операций. Раз он сам больше не мог продавать свои произведения, этим займутся они, создав Общество по продаже произведений Рембрандта.
Поэтому 15 декабря 1660 года Титус, Хендрикье и Рембрандт явились к нотариусу мэтру Листингу и при свидетелях заявили об основании компании. Точнее, юридически оформили торговлю картинами, рисунками, эстампами, раритетами и диковинами, которую уже начали в 1658 году — году злосчастной распродажи. Компания Титуса — Хендрикье — девятнадцатилетнего мальчика и служанки-любовницы — брала к себе на службу художника Рембрандта: все хозяйство будет принадлежать им — мебель, предметы торговли, картины, необходимый материал. Они станут делить между собой убытки и прибыль. Рембрандт, лишенный имущества и права что-либо продавать, более не мог прикасаться к деньгам. Но в обмен на свои будущие произведения он получит кров, пропитание, одежду и уход. Компания будет представлять его интересы. Она оплатит проживание и налоги, и Рембрандт окажется опутан новыми, первоочередными долгами — перед компанией: Титус одолжил ему 950 флоринов, а Хендрикье — 800. Компаньоны основали общество, деятельность которого продлится еще шесть лет после смерти вышеназванного Рембрандта.
Он же, живописец, гравер, известный на все Нидерланды, чьи произведения пробивали себе дорогу в Европе, он, кому поэты посвящали стихи, а историки начинали собирать о нем свидетельства и документы, обрел в этом контракте единственную возможность жить дальше. Конечно, не Титус и не Хендрикье, поставившая на документе крестик, выдумали такую уловку — это было делом рук хитроумного юриста, придумавшего закабалить Рембрандта, чтобы сохранить ему свободу. Внешне это выглядело ужасающе, но на самом деле было благодеянием. Сплоченность близких людей подарила ему свободу. Нужно отметить, что такая хитрость не удалась бы, будь Хендрикье его законной супругой. Хендрикье, отвергнутая церковью как падшая женщина, спасла его.
Рембрандт мог продолжать писать. Он писал все больше автопортретов — восемь с 1658 года. Но писал еще и Хендрикье, изобразив ее скромной Флорой с несколькими листиками на голове. Эта Флора уже не царственная богиня, идущая по грозовому парку, это не образ, навеянный Саскией, а женщина, которую он любит и которая сорвала этим утром первые весенние ветки. Еще Хендрикье улыбается в проеме окна, одетая в меха из грез.
Рембрандт писал и Титуса. Титус, читающий книгу, с озаренным чтением лицом, Титус во весь рост, Титус в монашеском капюшоне. Рембрандт ни разу не изобразил сына художником, хотя Титус писал картины рядом с ним.
Эти два человека оберегали его. По портретам видно, что он полностью им доверял. Если он все еще художник, то этим во многом обязан Титусу и Хендрикье. Они уже не надеялись вновь нажить состояние, зато дали ему передышку. Ему больше не надо было занимать то здесь, то там, выстраивая умопомрачительные комбинации. И хотя у него все еще имелись кредиторы, они не могли завладеть его произведениями сразу же по их создании. Это предусмотрели: ему оставалось лишь спокойно писать, подчиняясь внутреннему ритму, не испытывая иного давления, кроме необходимости творить.
Переехали они в маленький дом неподалеку от Блумграхт, где у Рембрандта некогда была мастерская с учениками и откуда он часто уходил на крепостные валы рисовать мельницы; неподалеку от них жил Ян Ливенс. Это был не пригород, а квартал внутри кольцевого канала — Зингеля. В 1660 году урбанизация вызвала необходимость определенной перестройки. Поблизости жил и друг Рембрандта Абрахам Франсен, аптекарь и коллекционер.
Это народный квартал, где живут ремесленники, кожевники, граверы вперемежку с интеллигенцией и художниками. Этот уголок известен своим Доолхоф — лабиринтом и парком аттракционов, центром городских развлечений. С высоты башен виден весь Амстердам; на террасах, среди водяных шутих, можно послушать музыкантов. Рембрандт жил как раз напротив. Чтобы посетить эту достопримечательность, люди приезжали отовсюду, даже из других провинций. Неподалеку находились перегонные аппараты знаменитого винокуренного завода Лукаса Больса. Плата за дом, ставший, ясное дело, резиденцией Общества по продаже его творений, составляла 225 флоринов в год. Он проживет там до самой своей смерти — более восьми лет. Первые два года будут очень плодотворными. Затем темп спадет. Но именно здесь он разовьет свою творческую мысль в совершенно новых произведениях. И будет писать до самого конца.
22 марта 1662 года он узнал о кончине Хендрика Эйленбюрха. Дядя Саскии переехал и жил рядом с ратушей, присматривая за картинами бургомистров. Ему было семьдесят четыре года. Так ушел из жизни один из первых свидетелей его дебюта. Мир вокруг сузился до границ семьи. Можно было подумать, что и его творчество ограничится все более интимными произведениями. Но, напротив: прорыв, который совершится в его искусстве, будет явлен на самом большом полотне, за которое он когда-либо принимался. До триумфа было рукой подать.
Мы помним, что в 1656 году нескольким художникам были заказаны картины на римские и республиканские сюжеты для украшения новой ратуши. Возможно, к участию в этом предприятии был приглашен и Рембрандт. Но в конце концов написание двадцати двух картин для Большой Галереи было поручено Говарту Флинку, его бывшему ученику. Флинк, о котором итальянский историк Балдинусси напишет в 1686 году, что тот делал более четкие контуры, чем Рембрандт, показал эскизы и наспех набросал временные панно, чтобы бургомистры могли получить представление о подлинном размахе его замыслов. Но в феврале 1660 года в возрасте сорока пяти лет он умер. Вот тогда Йорданс и Ливенс вплотную занялись второй очередью работ, посвященных теме батавского сопротивления римлянам и выстроенных вокруг героических и легендарных фигур Цивилиса и Бринио, которых называли по-латыни, чтобы сослаться на Тацита. За каждую картину платили 1200 флоринов. Йорданс работал быстро и в пять месяцев закончил свой «Разгром римского лагеря повстанцами Цивилиса».
В тот 1660 год Рембрандт тоже работал над темой о Юлии Цивилисе — над квадратным полотном с закругленным верхом со сторонами более пяти метров: самая большая поверхность, за которую он брался, в пяти метрах от пола, в конце Большой Галереи — целая стена для него одного.
Архитектор ван Кампен строил так, чтобы можно было представить себя в Древнем Риме и даже выдерживая еще больший простор, если это возможно. Стены были украшены барельефами, а в нишах скрывались аллегорические фигуры в доспехах или туниках. Гирлянды изваянных цветов задавали ритм танца между пилястрами. Это была благородная архитектура. Арочный свод продолжал собою стены и тоже был рельефным. На картине Рембрандта — то же устремление вверх, большие вертикальные линии, та же глубина пространства. На его картину надо было смотреть снизу вверх, при освещении с левой стороны, отступив немного назад, чего он всегда желал для своих полотен. Это было бы одновременно мрачное и светлое, зеленое и красное произведение, на расстоянии отливавшее старым золотом. Рембрандт не собирался писать ночь в подземелье, где, согласно Тациту, собрались повстанцы, ибо избыток тени не подошел бы к этой высоченной, хорошо освещенной стене. Чтобы архитектура Большой Галереи могла дышать, ему нужна была легкость открытого воздуха. Стена, своды, пилястры, деревья, ступени, вписывающиеся в настоящую архитектуру. Внизу монументальная лестница ведет к центральной сцене, которую он расположил вокруг большого стола. Можно подумать, что это Венеция, композиция на манер картин Веронезе «Пир в доме Левия» или «Брак в Кане»: сплоченные группы, ясные жесты и одна более высокая фигура, поднимающая свой меч, на котором скрестится оружие заговорщиков — клятва на стали. Слева и справа на переднем плане два каменных льва в упор смотрят на зрителей.
Чтобы отразить идею, пришедшую к нему в доме на Розенграхт, он схватил первый попавшийся под руку листок бумаги: извещение о кончине Ребекки де Вое, похороны которой состоятся 25 октября 1661 года. На обратной стороне набросал свой проект. Это рисунок пером и коричневой тушью, тронутый затем гуашью того же цвета и подправленный белым. Небольшой рисунок, 19,6 на 18 см. Он не сделал никаких других набросков до начала работы над картиной (она, как известно, была написана очень быстро, поскольку уже девять месяцев спустя заняла свое место в галерее) — ни этюдов фигур, ни зарисовок групп, ни эскизов композиции с «золотым» числом персонажей, ни разбивки на квадраты для увеличения! По крайней мере, ничего этого не сохранилось. Известно лишь то, что этому рисунку предшествовал ряд набросков, в которых он искал эту идею, на таких же маленьких листках, где он наметил квадрат согласно пропорциям будущей картины. В одном из первых вариантов он расположил стол и заговорщиков так, чтобы они образовывали длинную сцену, размеренную заполненными и пустыми пространствами под сводом шириной почти во всю сцену. В центре возвышался столб, напоминающий опору шатра и поддерживающий нечто таинственное, похожее по форме на колокол или щит. Таким образом, заговорщики собирались под кровом и защитой некоей геометрической фигуры, служившей им еще и резонатором.
Затем он отказался от этой мысли о построении нереального объема и во втором наброске поместил своих персонажей в городской обстановке: гигантские колонны, огромные арки, башни, деревья. Он расположил их в углублении натянутой ткани, край которой колыхался над их головами, что создавало две гибкие горизонтальные линии в прямоугольной геометрии архитектуры. Он усадил старого вождя в тиаре и с поднятым мечом, уточнил кое-какие позы, кое-какие жесты.
На третьем этапе предстояло отступить назад, увидеть всю композицию целиком, пусть даже на маленьком клочке бумаги. Он хотел, чтобы эта композиция была величественной, спокойной, открытой: лестница шириной во весь холст, группы стоящих персонажей, намеченные несколькими штрихами, стол, с правой стороны которого собралось несколько фигур, а позади них — великолепная архитектура, косая линия слева, косая линия справа, обозначающие наличие деревьев или просто желание присутствия наклонных линий в организации картины, чтобы подчеркнуть закругленный верх панно.
Этот рисунок завораживает: в нескольких штрихах на нем содержится стенографическая запись композиции, задуманной художником; это живая мысль в чистом виде. Несколькими движениями руки Рембрандт обозначил направляющие силы своего произведения. Для любого другого, кроме него, эта схема абсолютно непонятна. Затем наступит черед рисунка на извещении, более тщательного, с бликами света, обозначенными кистью. На нем видны ступени, каменные львы, различимы стоящие и сидящие фигуры, кубки на столе, стены, башни, арки, некоторые жесты. Уже гораздо более ясный проект, но слишком нечеткий, чтобы быть принятым в качестве эскиза.
И все же, возможно, именно этот набросок и заставил бургомистров решиться. Если да, то они слишком верили в Рембрандта, который, со своей стороны, делал ставку на свой престиж и силу убеждения. Впрочем, в этом поиске идеи видно, как работала его мысль. Первоначальное желание создать нечто зрелищное в стиле барокко (собрать присутствующих под звучным щитом — такого еще никто не писал) уступило место классическим декорациям, чтобы фон стал лишь опорой для сюжета, а не отвлекал на себя внимание. Это в его привычках или, скорее, в его духе.
Затем Рембрандт перешел непосредственно от рисунка на обороте извещения к огромной картине. В противоположность тому, как обычно поступали прочие художники, итальянские или французские — работали с документами, архивами, проводили исследования, — он сразу перешел к полотну. Картина создается не из чернил, а рождается в красках.
Вооружившись кистями и шпателями, он стал писать, как красят стену, — уткнувшись носом в холст, работая вблизи, чтобы было видно издалека, проводя длинные полосы широкими кистями, накладывая краску густым слоем, создавая шероховатую поверхность, которая на расстоянии обернется блеском медной чаши, прозрачностью кубка, отблесками шелка.
В композиции он опирался на целую структуру из шпаг, мечей, сабель — всевозможных острых предметов, скрещивающихся в конце стола, а клятва, принесенная на стали, объединила также и безоружных. Таким образом скатерть, покрывающая стол, превращается в поток сияющего металла, освещающего и объединяющего персонажей. Вот вам идея: оружие в три метра длиной, проводящее черту между заговорщиками, озаряющее дрожащим светом лица одних и выхватывающее из тени других. Вокруг — колыхание жестов и лиц, высвеченных мятущимся пламенем. Произведение построено на твердости клинков и дрожи света, четкой геометрии и подрагивании пламени. Эти два элемента сочетаются, сообщая единство группе человеческих тел, обращенных к массивной фигуре бородача в огромной многоярусной тиаре, одетого в золото и шелк, к одноглазому, неколебимому монолиту, поднимающему правой рукой свой меч, на котором со звоном скрестятся сабли и которого коснутся две руки — священника и женщины. К этому одноглазому вождю приковано внимание присутствующих за столом.
Женщина, ребенок, мужчины. Сначала очень сложная организация: скрещивающиеся мечи, переходящие в долгий поток сияющей стали, блики света на людях и предметах, а затем цвет — от красного до белого и золотого, включая все оттенки коричневого, жаркая, намеренно земная живопись, в которую вписываются некоторые холодные пятна серого, серо-голубого, зеленого и серебряного. Движение идет вправо. Холодные тона, выделяющие теплые, встречаются все реже и совершенно исчезают по мере удаления от старого вождя. Справа полыхают одни лишь красные оттенки. К вождю более не протягивают ни мечей, ни рук. Пылкость более не выражена ритмом напряженных жестов, сплетающихся в клубок. Она нарастает в постепенном потеплении цвета. Последний персонаж, органично вписывающийся в сцену клятвы, — молодой человек, стоящий к нам спиной. Профиля его не видно, но свет очерчивает округлость щек. Он стоит, выхваченный цветными мазками, делающими его видимым против света, и эти мазки, вертикальные разрезы на его камзоле, соответствуют заостренной форме оружия. Он органично сочетается с группой приносящих клятву, но красный берет у него за поясом сближает его с кругленьким персонажем с веселым лицом, последним из присутствующих, наиболее удаленным от основной сцены, — стариком, довольным тем, что он видит, но не присоединяющимся к остальным. И верно, начиная с молодого человека в правой части картины, присутствующие уже не соединяются, а созерцают друг друга.
Рембрандт, уткнувшись носом в холст, одним штрихом широкой кисти придает огненный цвет скатерти. Он работает быстро. Краска слегка течет. Он пользуется этим, чтобы нанести точки дрожащего света, изобретая точечное изображение, которое Вермеер в ту же эпоху откроет в ярких пятнах, рассыпанных им на хлебе и крынке в картине «Молочница». Мысли художника, оптические труды, сближающие две столь несхожие мысли: Рембрандт — в национальных преданиях, Вермеер — в привычной повседневности ищут суть, которую свет открывает в материале.
С обеих сторон горизонтальной линии, озаряющей персонажей, живопись колышется, словно большое дышащее тело. Она выстраивается золочеными полосами, сшитыми одна с другой, подъемами красного цвета, как эта кирпичная стена, на фоне которой вздувается неизвестно что — дырявый мешок, облако? Нет, эти полосы — куртка смеющегося старика, а мешок — рукав его одежды, горизонтальная полоса под которым, вероятно, становится поясом. Все двояко: праздник красочного материала и четкое описание восставших — произведение побуждает к иным прочтениям, помимо одного лишь сюжета. Оно столь богато, что вызывает желание пробежать его во всех направлениях, исследовать сверху вниз, слева направо, пролететь над ним на низкой высоте, чтобы измерить двойной смысл совокупности цветовых полей.
Подобные полеты возможны и над большими венецианскими картинами, но перспективная организация изменит пропорции. Там можно наткнуться на угол стола, уходящие вдаль линии, задние и передние планы.
Здесь же Рембрандт подчеркивает свою природную склонность: он отказывается выстраивать в своей картине периоды, разделяющие близкое и удаленное. Конечно, он расположил свою группу на террасе, над лестничными ступенями, перед обветшалой стеной, за которой видны несколько деревьев, какие-то постройки. Но передний и задний план картины — основная часть полотна — всего лишь скромное сопровождение единственного события, которое он решил показать: собрания. Его пространство ограничено двумя рядами заговорщиков, разделенных пиршественным столом. Глубина всей сцены едва ли превышает один метр, но Рембрандту здесь удается придать этой небольшой глубине безграничную величину бесконечных пространств цвета в свете и тени — области, в которой искусство изменяет пропорции перспективы и переносит реальность в новое измерение.
До сих пор светотень была способом добавить драматического напряжения перспективе. Сам Рембрандт в своем «Ослеплении Самсона» использовал свет и тень, чтобы углубить произведение. Здесь он ясно показывает, что отошел от этой традиции, разуверился в измеримой пространственной организации. Его картина отвергает законы Возрождения — паритет искусства и науки, находящей цифровое выражение диаметру земли, позволяющей кораблям определять свое положение в океане, землевладельцам — знать величину своих поместий, художникам — придавать своим сюжетам соответствующие пропорции. Он ломает понятие меры. И хотя его живопись все еще являет собой внешне узнаваемое зрелище, свет и тень превратились в краски, вспышки которых выстраиваются на плоской поверхности на манер живого тела с выпуклостями и впадинами, то бугристого, то гладкого, излучая здесь те отсветы, которых уже не найти там, и это тело дышит, а отсветы перебегают как солнечные лучи сквозь гонимые ветром тучи. Это пространство вне меры. Действительность здесь полностью преобразована. Из области физики мы попадаем в пространство метафизики.
На самом деле дух этой картины сродни настроению «Ночного дозора». Светлые и темные блики задают единый ритм. Разница лишь в обращении со светом, который играет здесь очень тонко, не столько создавая контрасты, сколько определяя насыщенность цвета. Одиннадцать персонажей уже не появляются из тьмы, словно призраки. От одного к другому они образуют неразрывную цепь. Мир — уже не чередование пустот и заполненных пространств, а сложная гармония, переходящая от низкого звука к высокому, от баса к тенору, благодаря которой Рембрандт изменил оркестровку искусства, поставив свою личную логику выше общепризнанного удовольствия от выстроенной перспективы. Он приблизил к нам живое. Его живопись — ткань, являющая свою непрерывность. Эта большая картина — отказ. Она означает разрыв Рембрандта с принципами, объединившими в свое время врача-анатома Готфрида Бидлоо и художника Жерара де Лересса, чьи познания в медицине и перспективный рисунок в своем сочетании породили изображения препарированного человеческого тела. Рембрандт больше не хотел иметь ничего общего с их педантизмом. Его живопись открывала другие проявления живого: напряжение, теплоту, свежесть, сияние, усиление и ослабление. Он покинул мир, повинующийся законам механики, и вступил в неведомую землю, открыл систему энергообмена, которую нам могла бы объяснить, пожалуй, лишь самая незамкнутая система в мире — система Эйнштейна.
На эту огромную картину будут смотреть с галереи, издали, чего ему всегда хотелось для своих полотен. Издали никто не посетует на то, что полотно покрыто буграми краски. Рембрандту блестяще удался один кубок. На расстоянии пяти метров он хрустально прозрачен. Снизу бургомистры не разглядят, как это сделано. Главное будет скрыто от них.
До сих пор его новая живопись не заявляла о себе с такой яркостью. В этом гигантском произведении она звучит как манифест. Если в картине на тему о Фабии Максиме для той же ратуши всадники на переднем плане должны были произвести впечатление на зрителя, то здесь изображение стола и заговорщиков почти в пустом пространстве ясно говорит о перемене, произошедшей в Рембрандте.
Действительность перестала быть трехмерной. Она так насыщена, что живописи приходится изобретать другие методы для ее исследования. Материя и свет, тело и дух стали неразделимы. Поле исследования более не нуждается в глубине. Отныне на живое следует смотреть так, как ученые в микроскоп: отринув все внешнее.
Пути Йооста Вонделя и Рембрандта снова пересеклись. Пока художник создавал свою «Клятву батавов», драматург работал над пьесой «Батавские братья» — пятиактной трагедией в стихах о гневе голландцев против Рима и о том, как управляющий Нерона истребил двух вождей, которые могли возглавить восстание. Юлий Цивилис носил в пьесе голландское имя Николас Бургерхарт.
Если в живописи структуры остались неколебимыми в цвете, то движение света изменилось. Рембрандт захотел увидеть, как он действует в черно-белом изображении. Он снова вернулся к своей гравюре «Три креста», созданной в 1653 году. Произведение красиво, но Рембрандт решил его переделать. Поскольку на медной пластине остались глубокие следы резца от трех предыдущих вариантов, нужно было затереть лощилом все, что он хотел переделать, и снова отполировать. Теперь ему показалось, что на гравюре слишком много персонажей. Он убрал бегущего человека с первого плана, заменил группу говорунов большой скалой, закрыл другую подвижной тенью, раскинул руки человека у подножия креста, наделил одного из всадников тиарой, как у Цивилиса, другого — мечом, как у старого одноглазого вождя. Центурион, пораженный Благодатью, утратил свет, который являл его зрителю. Рембрандт сильно переработал гравюру, до такой степени, что изображения, наложенные друг на друга, совершенно перемешались, а он решил, опираясь на пример большой картины «Клятва батавов», что контраст между белым и черным больше не будет задаваться массами. Тень более не будет разграничивать формы. Черный и белый станут непрерывной канвой произведения. Он воплотил свою идею колеблющегося света, изрезав медь длинными вертикальными, горизонтальными, наклонными линиями из пересекающихся штрихов. Таким образом, черный и белый стали самой материей эстампа, белым дождем вперемешку с черным дождем, сквозь которые открывается действие. Краска и бумага уже не иллюстрировали, а сопровождали слова Евангелия: «И сделалась тьма по всей земле». Тьма и свет, в тесном единении.
Рембрандт требовал, чтобы союз краски и бумаги являлся в густой сетке, в жирных линиях, спускающихся с неба и бегущих по земле. В черно-белом изображении он добился той же дрожащей насыщенности, как в «Заговоре Цивилиса». В эстампе его идея действует так же хорошо, как и на картине.
Наверное, на этом он успокоился, потому что переделка «Трех крестов» стала его последним изысканием в гравюре и даже последним его эстампом. С тех пор он лишь единожды взялся за медную пластину, чтобы выручить немного денег за заказной посмертный портрет — за год до собственной смерти.
В 1661 году пятидесятипятилетний Рембрандт достиг исключительного творческого уровня. Он превзошел самого себя в дерзости. Искусство стало для него полем эксперимента в полном смысле этого слова. Несомненно, что в своих творениях этого года он не имел ничего общего с другими художниками. Нельзя сказать, что он принадлежал своему времени. Его концепция живописи не была похожа ни на чью другую. Веласкес, Франс Хальс, Сурбаран — его современники — также обрели свободу показывать жизнь, которую кисть придает красочному материалу. Они были освободителями. Они подготовили живопись Делакруа и импрессионистов. Рембрандт тоже освобождал, и направление, которое он олицетворял, вовсе не было формальным.
Четвертый вариант «Трех крестов» и «Клятва батавов» останутся замкнутыми в себе произведениями, завершениями, которые не смогут дать начало ничему другому. Цветной пуантилизм Жоржа Сера родится более из Вермеера, нежели из Рембрандта. Эти замкнутые произведения являли собой аномалию эпохи, которая в большей степени опровергала ее, нежели объясняла, и находила себе соответствие лишь в других исключительных произведениях — например, в некоторых эскизах Рубенса, отдельных рисунках Никола Пуссена, «Распятии» Гойи, «Купальщицах» Дега, Сезанна — всех творениях зрелого одиночного гения. Это не блистательные странности, рождающиеся у мастеров под старость, а творения, в которых утверждается независимость от своего времени. Рембрандт в 1661 году был более чем когда-либо не похож на других.
Как только огромная картина «Клятва батавов» заняла свое место, он взялся за новый заказ: «Синдики цеха суконщиков». Каждая корпорация, каждая ассоциация вывешивала портреты своих членов в залах гильдии, и Франс Хальс создаст ужасающее изображение управляющих благотворительными учреждениями: маразматики и хищники, наблюдающие за порядком в благотворительности. За несколько лет до того Фердинанд Бол также написал групповой портрет одного благотворительного комитета. От Бола, Хальса, Рембрандта традиция требовала изображать людей в черных костюмах и шляпах, сидящими за столом, покрытым сукном, с верным слугой, обычно стоящим позади. Традиция также требовала естественности в позах и чтобы картина производила впечатление группы, которую художник застиг в разгар работы, разговаривающей, переглядывающейся. Бол так и расположил своих «Регентов», но не Хальс, которому хотелось, чтобы на его картины кто-нибудь смотрел. Рембрандт напишет их всех в фас, даже слугу, которого он, правда, заставил опустить глаза. Он подумал, что в этом жанре не стоит вводить новшеств. Завершив великое полотно о Цивилисе, сияющее героизмом, воспев в качестве основной национальной ценности независимость, он написал синдиков как нельзя проще, изобразив всех в фас, чего они, наверное, и желали. Во время сеансов модели всегда были немного обеспокоены тем, что придет в голову этим художникам, заявлявшим, будто занимаются искусством, когда от них требовалось всего-навсего портретное сходство, навеки запечатлевающее черты лица. Однако достаточно архивисту потерять справочные документы — и его место в вечности занимает кто-либо другой. Так и случилось: лукавые умы заявили, будто не уверены, что на картине изображены именно Биллем ван Дойенбург, Волкерс Янс, Якоб ван Лоон, Арнаут ван дер Мие, Йохен де Неве, бывшие синдиками цеха суконщиков со Святого четверга 1661 года по Святой четверг 1662-го, со слугой Франсом Хендриксом Белом (без шляпы). Достоверно известно лишь, что это картина Рембрандта, подписанная и датированная 1662 годом, — большая картина, 279 см в длину.
Так же как «Клятва батавов» была подготовлена набросками, в которых он искал идею композиции, так и собрание синдиков родилось из нескольких рисунков. Рембрандт отметил на них величину полей шляп — как элемент, повторение которого ему интересно. Он искал расположение персонажей, которое неоднократно менял, а во время работы над картиной еще и переставил на другое место слугу.
И все это для того, чтобы прийти к наипростейшей композиции: один треугольник, обращенный вершиной кверху, другой — книзу, мелодическая линия лиц, шляпы, белые воротники между двумя полосами; стены с роскошными деревянными украшениями в виде пейзажей и резьбы и сукно из восхитительной теплой шерсти, спадающее складками по углам стола. Ограниченное пространство. Никакого действия: открытая ладонь с поднятым большим пальцем над книгой, две руки, листающие журнал, одна, держащая перчатку и кошелек, да еще один синдик садится — угол, образованный телом и вписывающийся в изгибы деревянных панелей и сукна.
Тишина живописи. Три параллельных колебания, три медленных ритма друг поверх друга: сукно, люди, стена — каждый со своим углом. Теплое спокойствие пахнущего воском коричневого дерева и красной толстой шерсти. На картину будут смотреть вблизи. Она создана для такого приближения, которое не мешает живописи светлых пятен. Никакой тайны. Надзор за качеством тканей не для нее. Только вот кошелек, положенный на стол казначеем, прогибается в двух местах, образуя вертикальную складку. В определенные дни, при определенном освещении вышитый кошелек напоминает маску. Случай обнаруживает сходство с человеческой головой, наполненной золотыми флоринами. Таким образом, у казначея как бы две головы: его собственная и голова его должности. Но этот оттенок смысла заметен не всегда.
Рембрандт не выразил здесь ничего непочтительного. Он не сводил никаких счетов с этими контролерами. И если Франс Хальс разглядывал свои модели как прорицатель, Рембрандт изобразил их в тот момент, когда они смотрят на входящего художника. Вот и все. Между батавскими заговорщиками и этим портретом цеховых старейшин, занятых обеспечением качества продукции амстердамских мастерских, словно пролегло несколько десятилетий: восстание гёзов привело к созданию Торговой Республики. Рембрандт написал эти две картины за два года без перерыва. Он поневоле думал о судьбе мятежей. Это факт. Ни против чего не протестуя, Рембрандт наилучшим образом выполнил свою обязанность.
Картину вывесили в красивом доме, недавно отреставрированном Питером де Кейзером, где собирались текстильные цехи: изготовители шелка, саржи, сукна, — за несколько улиц от большого дома на Синт-Антонисбреестраат. У каждой гильдии текстильщиков был там свой зал совета, и картина Рембрандта провисела в зале суконщиков больше века — до 1771 года. Затем корпорация уступила свое место англиканской церкви, и полотно перенесли в собрание ратуши. Когда Рембрандт делал то, о чем его просили, его картины хорошо принимались.
Зато «Клятва батавов» исчезла из ратуши. Вот вам судьба картин: одна преспокойно переходила из одного архива в другой, и, хотя имена синдиков утеряны, путь картины известен до дня. Другая, встреченная недружелюбно, даже не произвела скандала. Она исчезла, стертая со страниц гроссбухов. Рембрандт внес в нее кое-какие исправления, что известно нам благодаря рентгеноскопии. Может быть, бургомистры потребовали исправить произведение по своему вкусу, или же сам художник переделал его после того, как от его картины отказались? Ясности нет. Почти два века, до самого 1852 года, никто не узнает, что на стене Большой Галереи городской ратуши висело самое большое живописное произведение Рембрандта. В том году в музее Стокгольма обнаружили картину, которая уже не соответствовала размерам стены. Она потеряла более двух метров в ширину и более трех в высоту. Сохранились лишь фигуры за столом.
В Амстердаме, на месте, где висела работа Рембрандта, — его картина все же занимала эту стену, ее видел один свидетель, — обнаружилось поспешное воплощение одного из проектов Говарта Флинка: два воина в римских шлемах пожимают друг другу руки на пиру, проходящем в лесу. Картина подписана Юргенсом Овенсом (1623-1678), который был одно время учеником Рембрандта и писал портреты и очень «рембрандтовские» библейские сцены на фоне замков, городов, сельских пейзажей в духе единства персонажей и общей атмосферы картины. Затем он отдалился от учителя, потому что его собственная натура была менее драматичной и ему предстояло исполнять свои обязанности придворного живописца Готторпской династии в Шлезвиг-Гольштейне. Он расписал стену Большой Галереи для ратуши и снова уехал в Германию.
От чего же отказались бургомистры? От картины, изобилующей материалом? Нет. Она висела в галерее слишком высоко, чтобы шокировать. Наверное, они не потерпели исторической правды в подаче Рембрандта: варварской клятвы на оружии, подчеркнутого отсутствия одного глаза у короля. Не могли они допустить и вымышленных одежд. Ибо хотя сопротивление батавов римским захватчикам превратилось в античный образец восстания против испанцев, бургомистрам не понравилось, что эти костюмы напоминали разношерстные одеяния гёзов. Они предпочитали итальянскую условность, сцену без сюрпризов, узнаваемое изображение, которое могло бы послужить и другим темам, другим празднованиям принесения клятвы.
Действительно, ведь вся эта история была систематизирована, записана, выгравирована в специальных трактатах, так почему же не использовать международный язык, позволяющий всем и каждому правильно понять установку картины? Будь то в Италии, Фландрии, Франции или Испании — повсюду встретятся те же доспехи, то же оружие, те же тоги, те же деревья, те же постройки, те же развалины, те же античные стелы. Так ради общепринятой, общемировой известности избавляются от истории какой-либо отдельной страны. Так гасят костры, на которых сжигали, стирают раны, которые болели, придают верные исторические пропорции воодушевлявшей некогда надежде.
Рембрандта отвергли, потому что он не принял этот международный язык, ибо полагал, что для изображения рождения народа в боях он обязан выделить национальные черты, заставить заговорщиков говорить на староголландском, а не на латыни.
Бургомистры вложили свой патриотизм в амстердамскую биржу. В области искусства они полагались на интернациональный вкус. Поведение современных политических деятелей позволяет нам понять их. Опасение прослыть провинциалами в проявлении официального вкуса не мешало им украшать собственные жилища самыми что ни на есть голландскими картинами: сельскими, морскими, городскими сценками, пейзажами с воспоминаниями о первородном болоте, столами, заставленными медью, оловом, стеклом, являющими взору отечественную селедку и зеландские устрицы и украшенными цветами, которые вырастили умелые местные садовники. Веками они будут хранить веру в эти доморощенные ценности и отвергать попытки своих живописцев создавать что-то новое в области аллегорий и исторических преданий. Поэтому «Синдики суконного цеха» оставались в Голландии, тогда как «Клятва батавов» исчезла и дошла до нас изувеченной.
Кто обрезал картину? Сам Рембрандт? Документальных свидетельств обо всей этой истории практически нет. Если частная организация, как, например, цех суконщиков, была вольна в своих решениях, городская администрация не могла открыто вести дела с разорившимся художником, которого собственная гильдия подвергла остракизму. Вот почему Амстердам, возможно, упустил свой шанс в области культуры. Но можно ли требовать от членов городской управы, прекрасно справляющихся со своими прямыми обязанностями, проявления выдающихся способностей в области понимания искусства, можно ли требовать, чтобы они приняли произведение, которое, возможно, стало бы символом страны?
Что касается Рембрандта, то его провал в глазах официальных властей вновь напомнил ему о его социальной неполноценности и, возможно, был причиной того спокойствия, к которому он себя принудил в картине «Синдики цеха суконщиков».
Хендрикье больна
Путь Рембрандта лежал к одиночеству. Как объяснить, что вокруг него, уже более двадцати лет подряд, судьба поражала более молодых? Умершие дети, затем Саския, и вот теперь Хендрикье. Тридцативосьмилетняя Хендрикье, больная и изможденная, пожелавшая привести в порядок свои дела. В воскресенье 7 августа 1661 года, в полдень, она явилась к мэтру Листингу, чтобы продиктовать свое завещание. Ее сопровождали два свидетеля. Нотариус записал, что «Хендрикье Стоффельс, проживающая на Розенграхт, подле нового лабиринта, недужная телесно, но властная в своих поступках, в твердой памяти и свободно изъясняясь, пришла в его контору, чтобы заверить свою последнюю волю». Речь шла не о том, чтобы юридически закрепить и придать силу ее родству с дочерью. Нет. Так же как Саския и даже как Гертье, пожелавшая во что бы то ни стало завещать свои 100 флоринов Титусу, она была верна Рембрандту, полностью предана этому человеку, такому сильному, но так нуждавшемуся в помощи. Их дочь Корнелия станет ее единственной наследницей. В случае смерти дочери ее имущество перейдет к ее сводному брату Титусу, Рембрандт же останется опекуном Корнелии, пользуясь узуфруктом от ее наследства. Общество по продаже произведений Рембрандта, основанное Хендрикье вместе с Титусом в присутствии того же самого нотариуса, должно, согласно ее воле, продолжать свою деятельность и после ее кончины.
В этом завещании звучит лишь воля защитить не совсем законную, но такую дружную семью. Титус составил похожее завещание. Они сомкнули ряды. Они сделали так, чтобы будущее стало светлым. В новом жилище начнется новая жизнь.
Перемена квартала порой имеет свои преимущества: в официальном документе по поводу одного мелкого происшествия Хендрикье представлена супругой Рембрандта. Неприязнь церкви, не дававшая ей покоя в доме на Синт-Антонисбреестраат, не преследовала ее на другом конце города. И потом коллекционеры, хоть и не в таком числе, как двадцать лет назад, продолжали делать заказы на портреты. Правда, в основном это были пожилые люди, которым в молодости расхваливали Рембрандта. Якоб Трип — старик, его супруга Маргарета носит на шее огромное трубчатое жабо, бывшее в моде в 30-е годы XVII века. Рембрандт напишет их практически так, как сделал бы это во времена своей популярности в качестве портретиста. Он не пародирует сам себя, хоть и пишет широкими мазками, но клиенты пожелали иметь картины в манере эпохи их юности. Он так и сделал.
Из Дордрехта в Амстердам к Рембрандту приехал ученик — шестнадцатилетний Арт де Гельдер, присланный Самюэлем ван Хоогстратеном. Один из самых блестящих учеников подумал, что именно Рембрандт необходим для молодого художника — это не могло не порадовать старого учителя. Но мода так быстро изменилась, а направление его творчества стало столь специфичным, что он мог лишь задаться вопросом, к какому именно художнику Хоогстратен направил Арта де Гельдера. К автору «Ночного дозора» или к тому, чью «Клятву батавов» только что отвергли? Весьма скоро он поймет, что Арт уважает его именно за то, что он пишет теперь.
Он продолжал переписку с итальянским коллекционером доном Антонио Руффо, все еще ожидавшим на Сицилии его «Александра» и «Гомера». Как мы видели, на их пути хватало помех и препятствий, но дело продвигалось. В Амстердаме ему заказали еще и «Юнону». Жизнь продолжается. Он пишет себя в образе святого Павла с мечом и Писанием. Давно минуло то время, когда он изображал себя Самсоном.
Он старался запечатлеть себя в серии картин об апостолах и евангелистах: святой Иаков, святой Мартин, святой Симон, святой Варфоломей подле воскресшего Христа. Это не заказная работа, картины не совпадают по размеру, к тому же кто захочет повесить у себя в доме портрет читающего старика? Все это папистская рухлядь. В этой серии портретов святых на личность персонажа указывает минимальное количество атрибутов, так что святой Варфоломей — мученик, с которого живьем содрали кожу, — отличается от других лишь тем, что держит в руке обычный нож, из-за чего одно время его принимали за «Мясника» работы Рембрандта.
На самом деле художник не стремился в этих картинах дать образы, которые способствовали бы молитвенному состоянию паствы. Он смотрел на людей и спрашивал себя, образы каких святых они могли воплотить в веках. В течение своей жизни он изучал людей, желая понять, какая священная судьба могла быть им уготована. То, что он написал себя в образе святого Павла, то есть человека действия и мыслителя, будь то даже в насмешку, как когда он изобразил себя Самсоном, доказывает, что он ощущал себя актером, примеряющим разные роли. Его творческая сила позволяла ему задумать и написать картину очень быстро — в несколько дней, переработать ее, переделать, пока он наконец не будет ею доволен, но случалось ли такое когда-нибудь? По крайней мере, пока ему это интересно. В 1661 году помимо грандиозной «Клятвы батавов» он написал около двадцати произведений. Так он был силен. Он ни в чем не утратил этой своей мощи, хотя и изобразил себя в образе святого Павла с седеющими волосами, выбивающимися из-под белой повязки вроде тюрбана, с морщинистым лицом, с огромной усталостью во всех чертах, со слабой улыбкой, с глазами, обнажающими суть всего, на что они смотрят, как у много повидавшего, много познавшего человека, знающего цену жизни и смерти и слышащего их прихотливую и случайную поступь. Эта роль воплощает ясность ума.
Его присутствие в галерее святых нельзя расценивать как знак приверженности к католицизму. Хотя в Нидерландах официально исповедовали религиозную терпимость, и такие выдающиеся деятели, как Вондель, заявили, что отказываются от протестантизма, Рембрандт никогда не давал понять, что изменил вероисповедание, но, вероятно, он становился все более верующим и все менее преданным своей церкви. Он посещал храмы лишь на крестины и отпевания. Его вера всегда была его личным делом, и поскольку живопись выражала это напрямую, его искусство всегда оставалось религиозным в той мере, в какой религия оставляла его один на один с Богом.
22 августа 1662 года. Он снова пришел к нотариусу Листингу, чтобы уладить свои дела с Лодевейком ван Людиком. Их обоих уже давно связывала купля-продажа. Рембрандт в лавке ван Людика не мог устоять перед некоторыми картинами, и ван Людику нравились работы его клиента. В 1660 году Рембрандт купил у него три картины Питера Ластмана и Яна Пинаса — двух художников, которые нравились ему в начале его карьеры. Он помнил об этом.
Сумасбродство. У него не было ни гроша. Правда и то, что, не заплатив торговцу, он и не забрал у него картины. Но ван Людик не хотел соблюдать договор о продаже, запрещавший ему вновь пустить в оборот эти три произведения. В тот же день у нотариуса рассматривалась еще одна весьма запутанная история с эстампами, которые Рембрандт тоже купил и должен был возместить долг двумя картинами, уступленными торговцу. Было еще старое долговое обязательство, выданное Яну Сиксу. Это уладится, когда Рембрандт получит деньги за свою «Клятву батавов» для городской ратуши: он отдаст четверть гонорара и еще то, что заработает в следующем году (все, кажется, забыли, что Рембрандт больше ничего не зарабатывает и находится под надзором Общества по продаже его произведений). Кроме того, чтобы расплатиться с торговцем, Рембрандт напишет его портрет.
Все это запутанно до крайности. Но по крайней мере ван Людик интересуется его живописью и все еще убежден в ценности его искусства. Рембрандт должен ему картину, но не выносит ее из мастерской, не считая законченной. Несмотря на разорение, видно, что ничего не изменилось. Рембрандт вполне готов вновь приняться за торговлю, куплю-продажу, заключение сделок, как раньше, когда у него были деньги и он без труда мог найти кредит. Ему нравится какое-нибудь произведение? Он пообещает все что угодно, чтобы его заполучить. Окруженный поклонниками, чарующий, он приходит, дает, забирает. Престиж позволяет ему вести себя так свободно. Он еще не привык к мысли о том, что своей живописью больше не может обеспечить себе свободу. Некоторые из его картин проданы за очень большие деньги. Почему же ему не позволить себе главное удовольствие в жизни, то есть возможность приобретать произведения искусства? Он не может жить, не владея картинами, эстампами. Он лишился своей коллекции? Значит, надо собрать другую, тем более что однажды она станет раритетом и будет стоить больших денег. Он великолепен, сердечен, воодушевлен. Никто не может ему противиться. Из каждой сделки он выходит изрядно потрепанным, но никакой удар не может его сразить. Что может сделать Хендрикье, чтобы укротить его? А Титус? Контракт с Обществом по продаже был хитроумной уловкой юриста, и Рембрандт подписал его, как подписывал все подряд, лишь бы ему не мешали работать. Сын не властен над отцом. Он не может ему ничего запретить, и никто не в силах повлиять на характер этого человека. Он создает картины. Вмешавшись, можно нарушить этот процесс, погубить творческую силу, остающуюся для всех загадкой. Кто отважился бы причинить боль лучезарному случайному спутнику, который слушает и слышит лишь то, что касается искусства — его искусства, а затем возвращается в комнату, где дает жизнь живописи, какой еще никто не видел?
Как осмелиться ввести обыденность в эту тайну? Только Рембрандт может это сделать. Присутствующие встречают удивлением все, что появляется на мольберте. На первый взгляд, жизнь смехотворна и все чаще горька. Но она питает творчество. Как и сама посредственность. Творчество потребляет все виды энергии, которые ему доступны. Можно предположить, что это преображение происходит в ущерб жизни. Саския умерла. Титус не отличается крепким здоровьем, Хендрикье больна. Они окружают его, восхищенные, без единого упрека. Они могут лишь помогать ему, облегчить его повседневную жизнь. Рембрандт не приносил их в жертву намеренно. Но творчество их поглотило.
27 октября 1662 года. Рембрандт отправляется в Олдекерк, где более двадцати лет назад, 19 июня 1642 года, была погребена Саския. В церковно-приходской книге записано, что он зашел к нотариусу мэтру ван Веену и продал место на кладбище, которое купил для нее. Записи точны: в них содержатся имена могильщиков 1642 и 1662 года, а также сказано, что место Саскии будет свободно 1 ноября.
Многие пытались дать объяснение продаже этой могилы. Одни винили во всем бедность, другие углядели в этом чудовищное равнодушие, третьи посчитали нормальным истечение срока аренды места на кладбище, продлевать которую в перенаселенном городе более не было возможности, что оправдывало покупку участка в церкви поближе: Вестеркерк. Скорее всего, дело в отстраненности. Время погружает могилы в безмолвие, двадцать лет отдаляют от ритуалов, обнаруживают тщету публичного благоговения. Рембрандт знает, что такое труп. Он рисовал безымянные скелеты. Саския живет в его душе. Унижен ли он продажей погребения? Возможно, нет. Он не занимает высокого положения в городе. Все — в его картинах. Помимо них ничего нет. А в его работах Саския жива: она надевает серьги, наряжается Минервой, Флорой. На его рисунках она еще ближе, со дня их помолвки до последних часов болезни — с осунувшимся лицом, лежащая в постели в ожидании последней тишины.
Есть ли свой смысл в событиях чьей-либо жизни? Можно ли различить в них прямую связь, как в развитии чьего-либо творчества? Наверное, если наделять случай волей — значит делать ему слишком много чести, но что, если имя этому случаю — Бог? И все же в те годы, которые предстояло прожить Рембрандту, можно было подумать, что чья-то воля упорно резала по живому круг близких ему людей, все более тесным кольцом сплачивавшихся вокруг него, чтобы его защитить, — воля эта вела его к окончательному одиночеству. Вокруг одна за другой обрывались жизни. Была ли то воля Бога или случая? Бог или случай пожелали узнать, какую боль может выдержать художник, какое бремя испытаний вынесет он, пока наконец не откажется от живописи? Кто так вознегодовал на него в высших сферах, где царят эти силы? Возможно, это было всего лишь случайное, роковое стечение обстоятельств.
Когда началось обособление? Наверное, со смерти Саскии — первый знак его удаления от общества. Затем наступил период покоя, а потом движение вновь пошло по нарастающей.
Хендрикье больна, но художник не забыт амстердамскими коллекционерами. Суконщики заказали свой портрет в 1662 году. В 1663-м Фредерик Рихель, амстердамский торговец и городской нотабль, заказал ему свой конный портрет. Главное заключалось не в самом портрете, а в том, чтобы картина напоминала о его присутствии в свите Генриетты Стюарт, принцессы Оранской, совершившей в 1660 году торжественный въезд в Амстердам. Бургомистры устроили на Площади Дам парад экипажей. Кареты проезжали строем. Принцесса, сестра английского короля, сопровождала своего сына Вильгельма, которому не исполнилось еще и десяти лет. По воле политики юный Вильгельм, взращенный Великим Пенсионарием Яном де Виттом и воспитанный в духе уважения к Республике, в двадцать два года, позволив умертвить Яна де Витта и его брата, станет Божиим посланником, который остановит армии Людовика XIV, открыв плотины и затопив страну. В 1660 году кортеж, провозивший дитя Нассау и Стюарт сквозь праздничную толпу, олицетворял редкий момент мирного сосуществования Соединенных провинций и Англии. Можно поспорить, что Рембрандта не было в толпе и он не кричал вместе с нею «виват!». Это было не в его привычках. Он наверняка не присутствовал при событии, которое Фредерик Рихель попросил отразить в картине и по поводу которого Вондель — снова он! — сочинил стихи.
Рембрандт написал рыже-коричневую осень в лесу, вереницу карет на дороге. Особо выделил голубую карету, внутри которой можно различить силуэты — вероятно, венценосных гостей. Перед извивающейся лентой кортежа он изобразил всадника на коне — Рихеля в золотистом камзоле и шляпе с белым пером, с пистолетами и шпагой на боку, с роскошным расшитым плащом, сложенным на седле. Его серый конь в сбруе из красной кожи с золотом, с белой гривой, волнами ниспадающей на шею, встал на дыбы — огромная сила, пришедшая в волнение. Фредерик Рихель пожелал, чтобы его изобразили в день торжества, и Рембрандт на этом полотне, 2,41 на 2,34 метра, услужил ему как нельзя лучше. Королевская услуга, достойная тех, которые Веласкес оказывал герцогу Оливаресу или принцу Балтазару Карлосу. Вот Фредерик Рихель наравне с великими мира сего: возможно, его конь похож на бронзового, но это лишь дополнительный штрих славы. Рихелю понравится картина: он будет хранить ее до самой своей смерти в 1681 году.
Великолепная картина, и все же она не овеяна былинным духом «Польского всадника». Очевидно, что задачи двух всадников — одного, стоящего на страже добродетели, и другого, надзирающего за прохождением кортежа, — несопоставимы, на взгляд художника.
Итак, в живописи Рембрандт продолжается. Его творчество развивается своим путем. Но в жизни — нет. В Амстердаме чума. Хендрикье умирает. В июле 1663 года ее похоронили в Вестеркерк. Унесла ли ее жизнь эпидемия? Она была очень слаба, а болезнь с большей скоростью распространялась в простонародных кварталах города, чем в других, менее населенных. Через два дня после похорон скончался сын владельца дома на Розенграхт.
Язычок пламени метнулся в сторону. Под чьим дыханием? Кому понадобилось, чтобы Хендрикье не стало? Хендрикье, помогавшей ему больше тринадцати лет, вмешавшейся в 1649 году в конфликт между ним и Гертье, Хендрикье, безоговорочно следовавшей за ним, позировавшей ему обнаженной для «Вирсавии», для купальщицы, подобравшей над водой рубашку, и скромной Флоры. А еще той, кого он увидел улыбающейся в проеме окна и серьезной, склонившейся над чем-то, — Хендрикье в большом доме. Ее преследовали церковные братья, когда она носила его дитя — маленькую Корнелию, она была рядом с ним, когда судебные исполнители составляли опись его имущества, и снова рядом, начиная новую жизнь на Розенграхт. И вот теперь Рембрандт больше не увидит ее на пороге, возвращаясь домой.
Оставались двадцатидвухлетний Титус и девятилетняя Корнелия. Все трое отправились на отпевание. Титус держал отца за руку, а Рембрандт сжимал ручку Корнелии — три хрупких фигурки на дороге в церковь, что пролегла вдоль улиц и каналов. Когда они вернулись назад, маленький дом показался пустым.
Удар был тяжел. Но Рембрандт не прекратил писать. «Юнона» для одного коллекционера и две картины о «Лукреции». Поэты пели ему славу, а поэт, драматург и директор амстердамского театра Ян Вое поставил его во главе городских художников. В тот же год в Роттердаме Якобе Лоис, торговец сукном, архитектор и художник, принял у себя французского путешественника Балтазара де Монкони и показал ему свою коллекцию. Гость восторгался Гольбейном, Рубенсом, Ван Дейком, Лукой Лейденским и Рембрандтом. Таково отныне было его место в частных собраниях, в ряду имен мастеров.
Хендрикье умерла. Он пишет «Юнону». Какая связь? Никакой, кроме того, что писать — значит сохранять жизнь в этом смертном мире.
От Юноны к Лукреции
И снова он занял денег. Как можно ему верить — ему, банкроту? Новый кредитор, Хармен Беккер в присутствии нотариуса одолжил ему в 1662 году 537 флоринов, а в этом — 450. Рембрандт предоставил в качестве гарантии картины и рисунки. Однако Беккер посетовал на промедление в работе над «Юноной». Ничего нового: Рембрандт не любил отдавать на сторону картины, в которых еще не сказал своего последнего слова. Если бы мог, он вообще бы никогда с ними не расставался.
Странный человек этот Беккер. Купец, переселившийся из Риги в богатые кварталы Амстердама, он торговал всем: украшениями, тканями, мраморными плитами, солодковым корнем… Можно подумать, что финансовые затруднения и даже странные финансовые проекты Рембрандта его привлекали. Очарованный художником, он все же восставал, если интерес к рембрандтовским произведениям обходился ему слишком дорого. До самой смерти Рембрандта он то помогал ему, то препирался с ним.
Свою «Юнону» Рембрандт сначала изобразил опирающейся обеими руками на красную подставку. Затем, решив, что богиня слишком статична, вложил ей в поднятую правую руку символ ее власти — золотой жезл или скипетр. Наверняка он знал о супруге Юпитера — царице Олимпа, богине света, покровительнице брака — все, что было необходимо знать: что она могла сводить с ума и что павлин, носивший на своем хвосте глаза Аргуса, был ее символическим животным. Но Рембрандт не хотел рассказывать мифическую историю Юноны, как не собирался изображать мученичество святого Варфоломея.
Зрителю сразу становится ясно одно: перед ним правительница. Не монархиня тех времен, а могущественная сила в женском воплощении, мощь которой выражена в живописи. Огромные глаза, круглое, как светило, лицо, золотой венец на голове, волосы, разделенные на пряди и подхваченные черными сетками, два янтарных ожерелья, спадающих на грудь, гигантское украшение из жемчуга и самоцветов, поддерживающее на плечах горностаевую мантию. Самоцветы, топазы, янтарь, сардоникс — что еще? Юнона не выставляет напоказ свои сокровища. Она носит самые роскошные драгоценности, когда-либо созданные Рембрандтом. Коричневое платье спускается от пояса тяжелыми складками. Что такое богиня? Бюст, появляющийся из великолепного панциря. В ее лице невозможно прочитать никакого чувства. Черты Юноны никоим образом не отображают ее неистовства, бесконечных ссор с Юпитером. Она — мощь в чистом, бесстрастном виде. Она каменно-недвижна, и все же глаза ее блестят, а грудь колышется. Живая статуя, причем один глаз живее другого. Таким образом живопись обрамляет пышностью драгоценностей, расшитых тканей и меховлицо, принадлежащее одновременно человеку и божеству. Симметрично ли оно? Не совсем. Над левым, сияющим глазом аркой изогнулась совершенная по форме бровь. Щека с этой стороны покрыта румянцем здоровья, свойственным Юноне. С правой же стороны бровь менее четкая, взгляд потухший, лицо несколько бледно, правая сторона более аморфна. Возможно, это игра: половина лица на манер Рубенса — намеренная цитата, воспоминание; половина лица на манер Рембрандта. Вероятнее всего, работа над картиной была прервана. Это позволяет нам наблюдать один из этапов создания произведения и отметить, что Рембрандт писал картину сразу целиком. Он не из тех художников, которые сначала изображают платье, а потом приступают к лицу и воплощают все в рисунке, прежде чем перейти к краскам. Его картина создается непосредственно в цвете и целиком, горностай одновременно с ожерельем и телом, и если правый глаз еще не сияет — возможно, это потому, что валёры на левом рукаве и в нагрудном украшении лишь намечены. Все должно достичь своей степени напряженности, а интенсивность каждого компонента зависит от его роли в произведении в целом. Таким образом, можно увидеть, по какому пути развивается картина: с цитатами из других художников, через поиски своей собственной природы, то есть постепенно продвигаясь к тому моменту, когда произведение будет полностью соответствовать создавшему его человеку. Понемногу обретая свое единство.
Через эту картину мы можем проникнуть и в воображаемый мир Античности в представлении Рембрандта. Художники всегда писали Юнону в действии, с атрибутами и обнаженной. Он же нарядил ее, как Артемиду, Минерву, Флору во времена Саскии, в один из сказочных костюмов, восходящих к Яну Скорелу или Лукасу Кранаху. Картина — возвращение к тем празднествам. Тридцать лет спустя он пополнил свою галерею женских мифов. Возможно, его подвигли к этому заказы сицилийского коллекционера — «Аристотель», «Александр Великий», «Гомер» — все основополагающие фигуры классической культуры, мужчины-герои, которым он хотел бы создать окружение из женских фигур. Целое существовало лишь в его замыслах, поскольку ни один монарх не заказывал ему подобного проекта, а его «Юнона» — столь нетрадиционная, сохранившая лишь тень павлина и море величия, — в любом случае не вписалась бы в такую программу. Он написал Античную галерею для самого себя и притом в такой манере, которая не встретила бы понимания со стороны публики, имевшей четкое представление об Античности и мифологии. «Юнона» так же невероятна, как его «Минерва» или «Артемида» былых времен (которая к тому же могла быть и Софонисбой).
Рембрандт всегда хотел создать новое видение богов и героев. Он ни в чем не отступил от своей манеры выделяться из общей массы. Он стоял на своем. Любопытно, что писатели его времени ни словом не обмолвились о его странности в этой области. Самые близкие ему историки неустанно повторяли, что он не знался с блестящими умами своего времени, довольствуясь компанией заурядных людей, и еще сегодня подчеркивают тот факт, что его библиотека едва ли насчитывала двадцать томов. Необразованный Рембрандт? Рембрандт-мужик? Возможно, он и не читал горы книг, как хотелось бы литераторам, но известно, что он читал Библию, толковал ее на свой лад в одиночку и ему этого было довольно. Он знал все, что ему нужно было знать. Возможно, ему были неинтересны ссылки на Античность, которая вдохновляла поэтов. Когда поэт Иеремиас де Деккер нарушил традицию презрительно отзываться о Рембрандте, которой следовал его учитель Вондель, и восславил художника, сравнив его с Апеллесом, античным живописцем, единственно достойным написать портрет Александра Великого, тот наверняка порадовался этой поддержке, но, в отличие от писателя, которому было неважно, что он никогда не видел произведений Апеллеса (достаточно того, что о нем говорил Плиний), Рембрандт захотел на него взглянуть.
В таких условиях уже то, что он вступил в пределы античного Гуманизма, яростно оберегаемые теоретиками и литераторами, нельзя истолковывать как самомнение невежды, отважившегося нарушить границу заповедных владений. От «Андромеды» (1630), «Дианы и Актеона» (1632), «Артемиды» (1634) и до «Юноны», написанной тридцатью годами позже, виден путь читателя Овидия и Тита Ливия, коим он являлся, отвергавшего притом все второстепенные детали, все условные жесты, чтобы осталась лишь История и Легенда; намеренно пренебрегавшего в своем искусстве повествованием, дабы очевиднее стала живопись.
И снова Вондель. В 1663 году, работая над переводом «Метаморфоз» Овидия, он сочинил «Фаэтон» — историю сына Феба, возомнившего, будто сможет управлять колесницей Солнца. Юнона в действии. Пути Вонделя и Рембрандта по-прежнему пересекаются. Хармен Беккер жалуется на то, что не получил «Юноны».
Рембрандт не соблюдал сроков. Картина не закончена. Прекрасно видно, что украшение, поддерживающее мантию, всего лишь намечено с левой стороны. То же относится к левому рукаву, набросанному в нескольких перекрестных линиях вышивки. Блеск золота получился, но сама вышивка лишь в зачаточном состоянии. Что до руки, лежащей на красной опоре, она лишь намечена, но так мощно, что производит впечатление удара кулаком по красному сукну, печати властности богини. Да, Рембрандт не закончил картину, но Хармен Беккер принял ее и в таком виде: она значится в описи имущества, сделанной после его смерти в 1678 году, через девять лет после кончины художника. Наверное, она ему нравилась, раз он ее хранил.
После «Юноны» — «Лукреция». Надо полагать, Рембрандт читал Тита Ливия, чтобы узнать историю верной женушки, чья добродетель была поругана Секстом Тарквинием и которая покончила с собой, не в силах пережить бесчестия. Или же он слышал эту историю или видел спектакль в Амстердамском театре, где как раз открыли новый зал в итальянском духе на месте старого, которым по-прежнему руководил восторженный почитатель Рембрандта Ян Вое? Книга или спектакль? И то и другое — часть обычной культуры. Но отправные точки следует поискать и в живописи. В Италии сюжет о Лукреции порождал изображения мужчины, насилующего женщину. У Тициана Тарквиний угрожает обнаженной Лукреции кинжалом и опрокидывает ее. Изнасилование сейчас состоится на наших глазах. Женщина красива, мужчина силен. Отрадное было бы зрелище, не будь оружия, бесчестящего любовь. В Германии Альбрехт Дюрер, как и Лукас Кранах, обращались к следствию изнасилования — самоубийству Лукреции. На этот раз кинжал в ее руке, и она собирается пронзить им свое сердце. Жалко присутствовать при смерти такой красивой женщины, ибо Лукреция опять-таки нагая, и нагота ее прекрасна.
Рембрандту, наверное, были знакомы все эти версии. Но его собственное видение события вылилось в изображение аристократически одетой женщины с серьезным лицом, сдерживающей слезы и приставившей к груди кинжал. Разве не естественно, что целомудренная и верная супруга не осталась нагой, какой ее застал Тарквиний, а, решив предать себя смерти, облачила свое обесчещенное тело в одежды, наиболее достойные для похорон? Таким образом Рембрандт, перечитывая Тита Ливия или присутствуя на представлении трагедии, не обнаружил ничего, что оправдало бы наготу в момент самоубийства, и исправил живописную традицию. Что касается женского типа, выбранного им для этой картины, то в нем есть что-то от Хендрикье — такой, какой он увидел ее однажды в проеме окна, но Хендрикье похудевшей, серьезной. Эта Лукреция — своего рода посмертное воскрешение Хендрикье в его живописи, как и посмертный портрет Саскии. На этот раз на картине отображены лишь черты лица. Интимная жизнь удаляется из творчества. Она проникает в него лишь намеками, через обрывки воспоминаний. Рембрандт не принял смерть Саскии. Но он смирился с кончиной Хендрикье. Точнее, его живопись уже не силилась создать портрет. Она более не разделяла изображение любимых им людей и творчество, которым он продолжал заниматься для себя самого. Все шло по единому пути, и сходство, по крайней мере поверхностное, отныне отступило.
«Лукреция»: платье, вылепленное шпателем, выстроенное из зеленого и золотого, массы материала, ложащиеся рядом, почти рельефно, две руки, появляющиеся из этого роскошного цветного панциря: раскрытая левая ладонь показывается из рукава в удивленном и приветственном жесте, правая рука направляет клинок прямо в сердце; мягкая волнообразная линия плеч — единственная мелодическая горизонталь, ибо все остальное низвергается вертикально: рукава, полы плаща, браслеты, украшения из жемчуга и золота, прикрепленные к одежде женщины и стекающие вниз, словно слезы.
Двумя годами позже, в 1666-м, Рембрандт вернется к сюжету о Лукреции в картине сходного формата, лишь слегка поменьше — 105 на 92 см. С тем же удовольствием будет моделировать одежду из яркого материала, но на этот раз не станет покрывать женщину украшениями. Он сократит роль деталей в пользу простоты изображения. Нет блузы, появляющейся из-под платья, талия не подчеркнута — простая белая туника, доходящая до подбородка, почти мужской костюм, поток краски, образующей скромные складки белого льна, своим оттенком зари, на которой делаются жертвоприношения, роднящие героиню с некоей священной фигурой. Перед нами не просто женщина, а человек, сводящий счеты с жизнью. Лицо, одежда уже не соблазняют. Это воплощение конца, который намечает своим дням сам человек. В выражении лица нет ничего театрального: лишь серьезность принятого решения, обостряющая черты. Для сопровождения белого вертикального потока костюм сводится к элементарным объемам: рукав превращается в цилиндр, а плащ ниспадает конусообразно, подобно свалившимся доспехам. На этот раз Рембрандт хочет увидеть Лукрецию в момент свершения намеченного. Кровь расползается по тунике, а рука, еще держащая кинжал, падает вниз. Никакой боли в лице. Самоубийство ставит ее над законами физиологии, как и вычеркивает из общества. Лукреция еще стоит на ногах. Она схватила шнур звонка, чтобы вызвать слуг. Это момент желанной и принимаемой смерти — момент, предшествующий падению. Шнур может показаться тривиальным, но он — последнее, что связывает Лукрецию с миром живых, продолжение длинной золотой цепочки, скользящей по ее тунике.
Позднее кто-то стер кровь, пропитавшую белый лен, и отчистил кинжал. Может быть, реставратор, которого попросили сделать картину презентабельной для потенциальных клиентов? Наверняка на фоне общей простоты форм эти два пятна крови были нестерпимо яркими. И снова Рембрандт избрал для картины ключевой момент, как для Распятия во времена своей лейденской юности, продвигаясь ко все более простым формам и все более глубокому смыслу. Мог ли он хотя бы вообразить, что кто-то сотрет с его полотна эти пятна крови?
«Лукреция» стала его последней картиной на античную тему — тему античной истории, в которой он искал мораль, прославление чести, подчеркивая римский образчик человеческого достоинства, как это будут делать моралисты конца XVIII века. Он не пожелал показать изнасилование, а изобразил ужас спровоцированного им самоубийства, из чего голландские республиканцы могли бы извлечь урок о последствиях тирании. Рембрандту оставалось жить пять лет.
Наверное, ему сообщили о смерти Франса Хальса и его похоронах 1 ноября 1666 года на кладбище Святого Бавона в Харлеме. Франса Хальса, который в возрасте восьмидесяти одного или восьмидесяти шести лет (дата его рождения точно неизвестна) уже не пользовался успехом и жил в бедности. Смотришь, как люди уходят, и спрашиваешь себя: как же они живут? И не слишком стремишься это узнать. Никто не думал, что Хальс дойдет до такой бедности, что городу придется назначить жалкую пенсию его вдове.
Рембрандт написал «Ночной дозор», Хальс — «Банкет аркебузиров». Рембрандт написал «Синдиков цеха суконщиков», Хальс — «Регентов богадельни». Их пути шли параллельно в типично голландских жанрах. Хальс не рискнул углубиться в религиозную или историческую живопись и в своем преклонном возрасте казался еще более обойденным, чем Рембрандт. Он даже не пытался соперничать с изящными аллегориями, поток которых затопил все вокруг. У обоих общим было то, что они остались Старыми Голландцами, живописцами поколений, которые жили величием народа, завоевавшего Независимость. Под конец модели Хальса стали почти такими же старыми, как он сам, а художник смотрел на их преклонные лета без умиления. Сам он уже давно не гляделся в зеркало.
В коллекции Рембрандта не было работ Франса Хальса. Даже неизвестно, встречались ли три исполина золотого века голландского искусства — Рембрандт, Хальс и Вермеер. Три их одиночества возвышаются над столькими группами и школами!
Тем не менее Рембрандт понял, что вместе с жизнью Франса Хальса угасло творчество, которое, возможно, не было временной славой Харлема, но наверняка являлось реальным шансом этого маленького городка вписать свою страницу в мировую историю искусства.
Двое юношей в мастерской
После «Клятвы батавов» (1661), «Синдиков цеха суконщиков» (1662) и «Конного портрета Фредерика Рихеля» (1663) творческая сила Рембрандта ослабела. За пять лет едва ли набралось двадцать картин. Заказы он получал все реже. Его живопись развивалась без глубоких потрясений, хотя и с присущей ему прямолинейностью, направленной в глубину. Конечно, он уже не создаст ничего более мощного, более дерзкого, чем «Клятва батавов», не изобретет ничего, что оспорило бы верховенство этого великого полотна. Но до самого 1669 года, года смерти, когда в его живописи появились признаки усталости, когда он, подобно старому Никола Пуссену, мог бы сказать, что его дрожащая рука более не поспевает за полетом мысли, он добился максимальной отдачи от своих поисков. Его целеустремленности не было преград. Теперь его интересовал лишь цветовой материал, способ вложить в краски больший смысл. Он работал над видением и созданием непрерывной реальности, без дорогих классицистам контуров, без разграниченных штрихов, отдаваясь во власть пронзительным цветам.
Именно на этом этапе пути к нему явился молодой художник из Льежа. Ему было двадцать четыре года, а писать он начал в пятнадцать. Мы знаем, что в то время столь ранний дебют был обычным делом, но юноша уже имел успех при некоторых европейских дворах — например, при дворе кёльнского курфюрста, и поговаривали, что он уже изведал финансовые неприятности. Он побывал в Хертогенбосе, в Утрехте. Он стремился разбогатеть. Приехав в Амстердам, он первым делом посетил торговца картинами Хендрика Эйленбюрха, который будучи верным другом отправил его к Рембрандту. Тот принял его и написал его портрет. Это было в 1665 году.
Жерар де Лересс некрасив; у него обезьянье лицо, светящееся умом. Подвижный, предприимчивый, он принес с собой идеи классицизма в таком виде, в каком о них спорили в Париже рубенсисты и пуссенисты. В 1669 году он одним из первых вступит в Литературное общество Амстердама «Nil volen-tibus arduum» («Для воли нет преград»), занимавшееся переводами Корнеля, Расина, Мольера и постановкой их пьес в театре. Он распространял теорию искусства, интересовался наукой, сделал более ста восхитительных рисунков-иллюстраций к книге доктора Готфрида Бидлоо «Анатомия человеческого тела», вышедшей в свет в 1685 году. В его рисунках соблюдена исключительная точность в передаче вскрытого тела, перламутрового отблеска нервов наряду с некоторыми неожиданными деталями: у одного из препарированных тел руки связаны, как у пытаемого, на одну из мышц села муха — странные подробности в безупречной книге, которая останется одной из самых интересных в истории анатомического рисунка.
Более того, живопись Лересса весьма добротна: облака, колышущиеся занавеси, порхающие херувимы, Дева Мария, выслушивающая Благую весть, античные сцены — все у него показано мягко, ничто не должно поразить, шокировать взгляд, словно первое, что надлежит показать, — четкость рисунка, нежность красок. Если бы он написал Ад, тот получился бы у него вполне приятным местом. Долгое время теоретики классицизма будут ссылаться на его книги, где он развивал эстетические идеи, явно не повторявшие идей из старинных трактатов. Он высказывал смелые суждения об итальянском Возрождении, благодаря чему прослыл новатором. Впоследствии его прозвали «Северным Пуссеном».
Итак, будущий «Пуссен» двадцати четырех лет навестил пятидесятидевятилетнего Рембрандта. Кого он встретил в маленьком доме на Розенграхт? Человека, пишущего свои автопортреты медно-золотыми красками, ставшего подобным золотому ослу Апулея, в котором все — золото: длинный шарф, обернутый вокруг шеи, колпак, натянутый на голову, лицо, подкрашенное медно-красным на скулах. Эта маска из медной кожи смеется. Ибо смеется Рембрандт. Он держит в руке муштабель, изображая художника; он оказался в фокусе взгляда одного из античных философов, бюсты которых держат в домах, поставив на полку и прислонив к стене. Философ отлит из того же металла, нос у него крючком, вид недовольный. Художник смеется от души. А над чем? Прежде всего, наверное, над физиономией, которую обнаружил в зеркале, над металлической фигурой, в которую он превратился со своими седыми, а отныне золочеными волосами, выбивающимися из-под колпака. Над чем еще он смеется? Над людьми. Куда они все бегут? И зачем так суетятся? Он смеется над художниками, щеголяющими в городе, членами гильдии, важно заседающими каждый месяц, принимая решения о статусе художников и искусства. Он смеется, потому что бургомистры ничего не поняли в том, что он им предложил, и ему пришлось переделать картину, не отвечавшую требованиям моды. И пусть никто не думает, что он бесстрастный зритель! Что свой провал в ратуше он компенсировал стихотворными хвалами поэтов, своим успехом кое-где за рубежом! Поражение и победа — ему все едино. Вне мастерской все знают, что полагается писать; об этом заявляют во всеуслышание, отвергают то, что ново, и то, что устарело, как если бы искусство было гонкой, в которой есть первые и последние. Там, где он живет, — на Розенграхт — Рембрандт больше не задается вопросами обо всем этом. Он пишет себя раззолоченным, и его смешит даже то, что он нашел пристанище в этом маленьком доме вместе с двумя детьми, безразличный к высшему свету и красивым современным идеям, — крыса, забившаяся в свою нору, обложившись рухлядью.
Но пусть его не принимают за мизантропа, ушедшего в себя и смеющегося над суетностью мира. Когда он выходит из своей комнаты, он видит произведения, которые хотел бы приобрести. Соблазненный полотном Гольбейна, он не устоял, потом отказался от покупки; соблазненный анатомическими препаратами, приписываемыми Андреасу Везалию, доспехами, оружием, он будет покупать и покупать. Он не изъял себя из этого суетного мира, он работает над тем, что могут выразить краски. Это захватывает его, хоть он и не уверен, что его опыты могут кого бы то ни было заинтересовать. Вот каким он стал — медным, как отблеск света на дне самой большой кастрюли на кухне.
Семью годами раньше, в 1658-м, в год своего краха, он изобразил себя властителем. С едва заметной улыбкой на устах. Скорее, с выражением удовлетворения. Сегодня он беззвучно хохочет. Возможно, еще и потому, что к нему пришел юный Лересс. Человечек с обезьяньим лицом задавал ему принципиальные вопросы… А на эти вопросы золоченый человек мог ответить только смехом.
Однако Жерар де Лересс пришел с почтением. «По силе вы не уступаете Тициану», — сказал он. Тогда Рембрандт написал его портрет и напротив старого художника из золота — себя самого — показал молодого человека в черной шляпе, черном костюме с белыми манжетами и воротником, юными русыми кудрями, спадающими на плечи, со сложенными листами бумаги в руке. Он показал его подвижным, застигнутым врасплох взглядом портретиста — любопытная физиономия недоноска, который не только выжил, но и доживет до семидесяти, стойкий, ибо, ослепнув в пятьдесят, он станет автором двух книг о живописи, распространившихся по всей Европе. Рембрандт смотрел на Жерара де Лересса как на любого другого бюргера, заказавшего свой портрет. Он не ввел молодого художника или его образ в область тех поисков, которым предавался в то время.
Странная встреча. Молодой человек наверняка еще не стал тем теоретиком, экстравагантным гением, доходящим до крайностей в своих суждениях вплоть до кощунственных заявлений о том, что Рафаэль допускал ошибки в рисунке, а Микеланджело был непристоен. Понятно, какую леденящую идею он введет в эстетику. В своей «Большой книге художников», которая выйдет в свет в начале XVIII века, Лересс подтвердит, что глубоко восхищался в то время манерой Рембрандта, «недостатки которого он признал лишь тогда, когда постиг некие незыблемые и неизменные законы искусства». Отныне, уверенный в своей правоте, он выскажет безапелляционные суждения, направленные против «голландцев, подобных Рембрандту и Ливенсу, придававших теням теплый оттенок до такой степени, что кажется, будто фигуры на их полотнах целиком из пламени». Он также отметит неизгладимое различие между «Рубенсом и Ван Дейком, жившими в высшем свете и остановившими свой взгляд на самой возвышенной стороне искусства, тогда как Йорданс и Рембрандт, посвятившие себя жанровой живописи, выказали свой грубый и вульгарный вкус». Лересс изречет и множество аксиом, в частности следующую, о колорите: «Чем больше локальные тона смягчены отсветами и тенями, тем они менее ярки и красивы. Некоторые знаменитые мастера особенно заблуждались на этот счет, например, из фламандских художников Рубенс, из голландцев Рембрандт и Ливенс. Одни пестротой, другие — в поисках нежной плоти делали ее лишь вялой и обрюзгшей».
Итак, Рембрандт, вероятно, угадал, что Лересс однажды станет самым непримиримым классицистом своего времени. Он не выпустил бы такого человека, не написав его портрет.
Когда Лересс говорит о пестроте, надо полагать, что он видел последние картины в мастерской на Розенграхт. В то время он еще не «постиг неизменные законы искусства». Возможно, он восхитился этими полотнами. Или же Рембрандт их не показал? Трудно понять, как эстетические догмы настолько ослепили в Лерессе художника, что он мог высказывать одинаковые упреки Рембрандту и Ливенсу. Правда, теоретикам свойственно отвергать огульно всех.
Жерар де Лересс в доме Рембрандта. Два противоположных полюса под одной кровлей. Рассуждение, стучащееся в дверь сознания. Догма, вопрошающая свободомыслие. Несмотря на любовь коллекционеров и художников, имя Рембрандта на несколько десятилетий исчезнет из списка эстетических примеров для подражания. В XVIII веке его будут покупать, но не станут принимать за образец, по крайней мере в XVIII веке теоретиков. Однако Фрагонар сделает копии с Рембрандта, приобретет некоторые из его рисунков и эстампов, Гёте напишет, что его оригинальность выходит за рамки принципов. Лересс окажется вдохновителем поколений, которые составят оппозицию Рембрандту в сфере обучения. Это неприятие, уже выраженное ему однажды голландской общественностью, будет подкреплено предвзятостью к нему профессоров из-за отсутствия в его творчестве принципов, поддающихся систематизации.
У Рембрандта был еще один ученик — тот самый Арт де Гельдер, направленный к нему Хоогстратеном, который, со своей стороны, не ощущал потребности порвать с учителем. Интересна судьба этого ученика: проведя несколько лет у Рембрандта, он вернется делать карьеру в свой родной Дордрехт, где и умрет восьмидесяти двух лет (1727), продолжая идеи Рембрандта и его библейские сюжеты в XVIII веке, который они больше не интересовали.
В отличие от других учеников, Арт не был «перепахан» своим учителем. Некоторые, как мы уже видели, — Карел Фабрициус, Самюэль ван Хоогстратен, Николас Маас — занялись собственными изысканиями, совершенно отдалившими их от учителя. Другие, как Фердинанд Бол, Говарт Флинк, сделали успешную карьеру. Желая потрафить публике, они писали милые портреты, подмешивая в них изрядную дозу Ван Дейка, порой создавая произведения-гибриды, в которых соблазнительный портрет, отвечавший желаниям заказчика, сопровождался пейзажем, носившим в себе нечто от блеска и таинственности Рембрандта. На своем творческом пути эти двое колебались между первым учителем и модными тенденциями.
Гельдер же не сошел с пути Рембрандта, хотя и стал понемногу отличаться от него. Складывается такое впечатление, что в доме на Розенграхт он впитал в себя технические новшества, усвоил движение материала, наложение цветовых плоскостей, манеру оживлять кистью красочную массу, пусть даже подправляя ее деревянной палочкой или рукоятью кисти, а впоследствии хранил в своей памяти некоторые из старинных аксессуаров, в свое время прельстивших Рембрандта: экзотический головной убор служанки Вирсавии, шляпы с пером, которые Рембрандт надевал на голову Саскии. Таким образом, лицо женщины выдавало одновременно и ее родственные связи, и происхождение. Такова картина, которую он написал к сорока пяти годам: молодая женщина смотрит прямо на художника. В ее лице нет и следа идеальной красоты, рекомендованной теоретиками и конкретно Жераром де Лерессом — маленьким уродом, которому Гельдер наверняка поклонился, когда тот навестил Рембрандта. У нее слишком длинное лицо, слишком большой рот и разные глаза: один светлый, другой темный. Незабываемый взгляд, не соответствующий канонам красоты. Гельдер поместил ее у окна, велел облокотиться на каменный подоконник и нарядил в самый что ни на есть необычный костюм. Ее округлые длинные руки и юное лицо возникают из чудесного сооружения из собранных воедино тканей — одеяния, построенного таким образом, что его части переходят одна в другую, словно в доспехах: низ рукава до локтя, рукав, лиф, вышитый пояс, батистовый корсаж. На все это спадают прозрачные кружева и дрожащие подвески, прикрепленные к вырезу лифа, сияюще-сверкающее покрывало струится на обнаженные плечи, которых почти касаются огромные серьги с самыми большими на свете голландскими жемчужинами, обрамляя лицо под мужской шляпой с большим пером, которое, колыхаясь, клонится к плечу. Фактура шелка, пера, шерсти, вышивки, батиста, цветных ожерелий — эта молодая женщина находится словно под живописным панцирем. Она живет в костюме, исчерпывающем все возможности живописи: молочная прозрачность жемчуга, танцующая легкомысленность покрывала, отбрасывающего тень на одежду, параллели вышивки, колыхания пера. Арт де Гельдер играет на тройном обольщении: разноцветном взгляде натурщицы, разнообразии красочного материала, линиях, подчистках, выскабливающих краску до разной толщины, до придания ей движения, и подвижном взгляде, переходящем с причудливого костюма на причуды живописи.
Оригинальность этой картины в том, что художник использует метод Рембрандта, развивая его так, как не приходило в голову мастеру: эти параллели, проведенные по краске для создания тканевой канвы, принадлежат собственно Арту де Гельдеру. Это взвивающееся в воздух покрывало, одновременно блестящее и прозрачное, — тоже его. Гельдер не просто изобрел эти тонкости в деталях, его искусство сохранило мощь, неколебимую основу построений учителя, но эта мягкость — лично его, мягкость и живость, которую Фрагонар, также основываясь на творчестве Рембрандта, изобретет, в свою очередь, несколько десятилетий спустя.
Таким образом Арт показал, что творчество Рембрандта отнюдь не достигло своего предела, а могло получить продолжение, и в этом он опроверг Жерара де Лересса. Хотя полученное наследство и не поддавалось систематизации.
Рембрандт незаметно передал Гельдеру некую любовь к некоей живописи, а тот обратил ее в свою пользу — для раскрытия своей индивидуальности, словно воспользовавшись столь редким в искусстве явлением передачи по наследству, чуть ли не генетической, возможной между людьми одной группы крови. Будучи уже немолодым, с залысинами на лбу и обрюзгшим лицом, он напишет себя за голландским столом, покрытым сукном, на который он положил очень странную круглую шляпу с широкими плоскими полями. На нем необычный костюм, на куртку нашит ряд больших пуговиц. Костюм крестьянина? Слуги? Кем он нарядился? Он смотрит на себя в зеркало. Обеими руками разворачивает над сукном оттиск гравюры Рембрандта «Лист в сто флоринов». Это может значить только одно: он гордо предъявляет редкостное сокровище, которое ревностно хранит в знак преданного почтения к учителю, возможно, одарившему его этим подарком.
Так встретились в один год на Розенграхт тот, кто словно на лобном месте казнит творчество Рембрандта в своей книге, и тот, кто в тиши своей мастерской сохранит его идеи, поклоняясь им. Кто кого переживет? Лересс с ныне поредевшим потомством теоретиков или Гельдер, чьих тайных преемников еще предстоит открыть?
Война с Англией возобновилась. Обе страны столкнулись на море. В прошлом, 1665 году герцог Йоркский потопил девятнадцать кораблей адмирала Вассенаара. Пока чума, прежде поразившая Амстердам, опустошала Лондон, адмирал Михаэль де Рейтер дал англичанам бой, продолжавшийся четыре дня, с 11 по 14 июня 1666 года. Голландские художники не могли изобразить эту схватку с неясным концом, поскольку бой пришлось возобновить. На сей раз у Дюнкерка, где поражение голландцев стало очевидным. Но флот перевооружили, и на следующий год, поднявшись вверх по Темзе, он разгромил англичан на их собственной территории. Лондон только что сгорел. Противники, обессилевшие после двух с половиной лет войны, подписали мирный договор в Бреде. Раздел зон влияния привел к тому, что голландцы потеряли города, основанные ими в Северной Америке: Новый Амстердам стал Нью-Йорком, а Брейкелаан — Бруклином; зато получили порты в Южной Америке.
Как и все, Рембрандт был осведомлен об этих сражениях. Он слышал, как соседи по улице с радостью обменивались новостями о том, что флот смёл заграждения на Темзе, а также о подписании мирного договора. Но, как известно, он был не из тех, кто устремляется на площадь выражать свой восторг.
Война так и не прекратилась. Когда больше не нужно было сражаться с Англией, испанскую часть Нидерландов захватил французский король Людовик XIV. Ян де Витт ответил на французскую угрозу альянсом со Швецией и Испанией; таким образом, Голландия оказалась союзником своих извечных врагов. Присутствие голландцев в мире становилось повсеместным; в это же самое время живопись Рембрандта обособлялась.
В жизни семьи Рембрандта произошло важное событие: помолвка Титуса с юной Магдаленой ван Лоо, его ровесницей, проживавшей на кольцевом канале — Зингеле вместе со своей матерью Анной. Титус нашел себе суженую в семейном кругу, поскольку отец Магдалены был свояком Хискье, одной из сестер Саскии. Эта помолвка напомнила Рембрандту его свадьбу во Фрисландии, в Бильдте, в доме Геррита ван Лоо. Ян ван Лоо был ювелиром в Амстердаме. Вместе с женой он давал свидетельские показания в пользу Рембрандта во время его разорения. В качестве признанного ювелира он составил опись драгоценностей, которые носила Саския и которые хранил Рембрандт, доказав тем самым, что художник не пустил на ветер наследство своей жены. Это означало, что Титус знал Магдалену уже давно. Что до семейства ван Лоо, им была известна вся история Рембрандта, и его банкротство не умалило уважения к нему с их стороны. Предполагалось, что Титус будет жить со своей супругой на Зингеле, у Анны, а Рембрандт останется один с Корнелией. Оба дома недалеко отстояли друг от друга.
Во Флоренции Медичи собирали не только картины итальянских художников. По традиции им полагалось обладать и зарубежными произведениями. Лоренцо Великолепный уже приобрел «Положение во гроб» Рогира ван дер Вейдена, а в знаменитой Трибуне совершенно естественным образом соседствовали Микеланджело, Тинторетто, Дюрер и Кранах, что подавало пример открытости мышления, отвергаемой Жераром де Лерессом. Великий герцог Козимо Медичи, известный под именем Козимо III, воспитанный в среде любителей искусства и собирателей древностей, которому посвящались первые труды в новой области науки — этрускологии, был одним из тех правителей, которые беспрестанно вели учет своим коллекциям, считая Галерею Уффици музеем, открытым для публики. В 1667-1669 годах юный наследник совершил большое турне по Европе в компании графа Магалотти, писателя и эрудита. По дороге он сделал верный выбор и приобрел для своей коллекции полотно Луки Лейденского. И неважно, что он принял его за работу Дюрера. Это была красивая картина, она ему нравилась. В Амстердаме он посетил новую ратушу и увез с собой ее изображение кисти Яна ван дер Хейдена. Питая большое пристрастие к произведениям Нетсхера, Схалкена, Метсю, Терборха, Миериса, Герарда Доу, написанным в гладкой и скрупулезной живописной манере, он увез некоторые из них к себе во Флоренцию. Именно ему обязана своим существованием коллекция автопортретов знаменитых художников, размещенная в новой галерее его дворца.
Таким был эстет и интеллектуал, посетивший Рембрандта 29 декабря 1667 года. Один из секретарей вел дневник деяний его светлости, и в записи от 29 декабря мы надеялись найти отголоски беседы между герцогом и художником, но секретарь — увы! — уделил внимание в основном погоде на дворе. Он отметил: «В нынешний четверг спозаранку погода стояла ясная и весьма холодная (посмурнело лишь к пяти часам пополудни: это свойство климата здешних мест, где под конец дня поднимается туман, не спадающий до самой ночи). Сходив к обедне, Его Светлость отправился взглянуть на картины различных мастеров — Ван дер Вельде, известного художника Рембрандта, Скамуса, пишущего морские пейзажи, и других, кои, не имея в своем дому законченных произведений, указали несколько мест, где было возможно их увидеть. Его Светлость отправился туда и был принят с наивысшими знаками почтения и любви». Больше ни слова.
Однако покупки Козимо III, сделанные им в Амстердаме, многое говорят о его вкусе. Он в самом деле приобрел типичные голландские полотна, маленькие вылизанные картины, домашние сцены, жанровые сценки, на которые можно было смотреть только в лупу. Он выбрал то, чего не делали в Италии. Купил ли он хоть одну картину Рембрандта? Заказал ли его автопортрет для своей галереи? Тут архивы погружаются в густой туман. В Галерее Уффици хранятся два автопортрета Рембрандта: один — 30-х годов (в латном нашейнике), другой — 60-х (усталое лицо, берет). Таким образом, музей обладает полотнами, принадлежащими к двум периодам и двум манерам творчества Рембрандта, однако известно, что эти картины привез не Козимо III. Но, может быть, он приобрел на Розенграхт третье полотно Рембрандта из коллекций Медичи — портрет старика, личность которого до сих пор не установлена? Картина с самой что ни на есть строгой композицией: в центре полотна — четырехугольник, боковую грань которого образует шарф, спадающий с плеч, верхнюю — лицо с длинной бородой, нижнюю — скрещенные руки. Руки со сплетенными пальцами правильной формы, отчетливо выписанными, руки как руки, но от них исходит нечто необычное. Сомнительно, что движения кисти — горизонтальные на фалангах пальцев, вертикальные на суставах, с бликами света на других участках кожи — порождают именно изображение рук. Однако они материальны: это руки старика, несущие на себе печать возраста. Сомнение длится лишь одно мгновение. Такова отличительная черта этого художника: он хочет, чтобы его картина была настолько же таинственна, насколько реальна! Он делает все необходимое, чтобы отдалить узнавание написанного предмета, чтобы можно было воспринять богатое многообразие смысла.
Итак, Козимо сделал хороший выбор. Впрочем, во Флоренции общество не было настроено против Рембрандта.
Филиппо Балдинуччи, писатель-искусствовед, специалист по флорентийскому искусству, работавший над собраниями Медичи, говорит о Рембрандте как об экстравагантном художнике, живописным мастерством которого он восхищается, хотя и считает сбившимся с пути, прославляет индивидуальность его эстампов, хотя и находит странной манеру их исполнения. Флоренция, имевшая большой опыт в живописи от Джотто до Микеланджело, принимала и даже искала одиночек.
Глава IX ОДИНОЧЕСТВО
«Еврейская невеста»
Смерть Хендрикье была лишь очередным этапом на пути Рембрандта к одиночеству. Судьба будет беспрестанно наносить удары по его близким, словно задавшись целью довести этого человека до положения старика, ведомого ребенком, как в какой-нибудь притче. Круг сужается. Круг все более малочисленной семьи становится ненадежным, хотя и все еще стойким укреплением. Рембрандт, ограничивающий глубину поля зрения в своей живописи, работающий в приближении, ведет себя как осажденный, который, запершись в своей крепости, устраивает праздники красок, изображая лица близких. Он теперь пишет только портреты и библейские сцены, сближающие противоположные возрасты: стариков с юношей, старика с ребенком, — темы, наиболее близкие человеку. Каждая картина соткана из жизни. Именно так он всегда отзывался на смерть. Раньше ему нравилось трактовать религиозные и исторические сюжеты. После смерти Саскии он выходил из дому, чтобы рисовать и писать пейзажи. Теперь он сидел дома, а когда прогуливался по своему кварталу, то делал это лишь для того, чтобы не потерять из виду дорогих ему людей. Если паче чаяния живопись может сберечь жизнь, не следует ослаблять внимания…
Итак, его творчество стало полностью интимным. Разумеется, он всегда писал близких, изображая свою мать в образе святой Анны, Саскию и Хендрикье — в образах Флоры, но ему делали заказы на одиночные или групповые портреты — и он покидал ядро своей семьи, отправляясь на поиски возможностей развить свое искусство: легенды о Самсоне, Ганимеде, Эсфири, жизнь и Страсти Христовы, похищения Прозерпины и Европы — истории, которые он рассказывал на свой лад, обновляя их содержание. Теперь же, напротив, он пишет лишь тех мужчин и женщин, которые не совершают никаких поступков; ему нравится видеть их в единственной роли: жизни. И своими красками он вводит их в Легенду — Легенду, принадлежащую ему одному.
10 февраля 1668 года Анна Хейбрехтс и ее дочь Магдалена ван Лоо, Рембрандт ван Рейн и его сын Титус ван Рейн вместе отправились в церковь. Молодые расписались в церковной книге. Титус двадцати семи лет и Магдалена двадцати семи лет объявлены соединенными священными узами брака. Как было предусмотрено, Титус поселился с Магдаленой на Зингеле, в доме Анны. Рембрандт остался в доме на Розенграхт с четырнадцатилетней дочерью Корнелией.
Как в доме вдовы ювелира ван Лоо, так и в обители художника жили скромно, считая каждый флорин. 23 июля 1668 года Рембрандт и Титус снова одолжили 600 флоринов у художника Кристиана Дюзарта — друга, который переживет их обоих и станет опекуном Корнелии.
Единственные настоящие ценности, которыми обладают близкие художника, — это его произведения, но это ценности в большей степени духовные, нежели коммерческие. 16 мая Анна Хейбрехтс отправилась к нотариусу мэтру Меерхауту, чтобы составить завещание. Она завещала дочери свой портрет работы Рембрандта — картину, которую, по всей видимости, он написал, чтобы отблагодарить ее за показания в его пользу в момент финансового краха. Дело дошло до реликвий, которые необходимо спасти. Есть определенное величие в амстердамских мещанах, когда они, живя на грани нищеты, завещают картину, которую не желают продавать; живя без денег, принимают единственные еще доступные им решения, являющиеся в равной мере проявлением душевного тепла и способом защиты самых смелых и самых неоднозначных произведений. Да, самых смелых, ибо широкими движениями своей кисти Рембрандт создавал все более богатый материал, в котором краски достигали все большей интенсивности. И самых неоднозначных, ибо эти ярчайшие краски распределялись на участки, изобилующие контурами. Рисунка больше нет, фигуры уже не очерчиваются одной линией. Они возникают в выявляющем их свете, но не в солнечном, законы распространения которого уже известны оптике. Освещение у Рембрандта подчиняется единственной логике: логике картины. Солнце — это солнце художника. Так и появляются эти произведения, неоднозначные из-за интенсивности цвета и стремления высветить одни участки, а другие поместить в полусвет или мрак. Таким образом, картина находится в нескольких промежутках времени и подвержена невиданным по своей силе контрастам — это и есть независимость по отношению к строгим законам реальности, и она не может не поражать.
Рембрандт отныне проявляет ту же независимость и в манере одевать своих персонажей. Мы помним о его пристрастии в зрелом возрасте к странным одеяниям, в которые он наряжал Саскию. Он не отказался от них. Будь то в «Аристотеле», «Юноне» или же в изображении четы с картины «Еврейская невеста», над которой он теперь работал, он всегда любил выдумывать одежды, предназначенные скорее для театральной сцены и прекрасно подходящие к пространству его картин. Костюмы из мира фантазии, костюмы для красок и живописи — ранее он приберегал их для мифологических и исторических сюжетов. Теперь же красные и золотые цвета преображают позирующих ему людей в исключительных героев, вышедших из его собственных грез, а не из общеизвестных легенд, людей, которые в быту продолжают жить в строгой размеренности черного и белого. Портреты таких людей всегда выходили у него великолепно. В тот год к нему пришли два последних заказчика. Они желали иметь парный портрет. Рембрандт увидел их в юной мощи, людьми высшего круга, богатыми, уверенными в себе, обладающими той непринужденностью поведения, которую можно обрести лишь в детстве. Чувствуется, что у дверей мастерской их поджидают слуги с экипажем. Мужчина держит только что снятые перчатки, женщина — веер из страусовых перьев. На ней мало украшений, но все они красивы: бриллиантовая брошь, драгоценный золотой браслет. Те два портрета Рембрандт довел до полного завершения, вплоть до блеска ногтей, при этом ему удалось выдержать свои модели в простых объемах: цилиндры рукавов у женщины, конус накидки из белого шелка, наброшенной ей на плечи. Черное, белое, но это роскошные черные и белые цвета в строгой композиции.
В то же время он написал картину, получившую впоследствии название «Еврейская невеста». Название странное, ведь на полотне изображена супружеская чета, причем женщина беременна. Но Рембрандт всегда обладал даром создавать произведения, которые становились знаменитыми под неожиданными названиями — «Ночной дозор», «Лист в сто флоринов», — не соответствовавшими сюжету в полной мере, несмотря на то что в изображении сбора ополченцев есть и свет и тень, а «Христос, исцеляющий больных» был оценен в сто флоринов; наверняка Рембрандта окружало гораздо больше евреев, чем других художников его времени, хотя и не один живописец создал портрет того же самого раввина Менассеха бен Израэля.
Название «Еврейская невеста» подало идею историкам, которые, порывшись в архивах, обнаружили там упоминание о двух молодых людях из еврейской общины Амстердама, Мигуэле де Барриосе и Абигаль де Пина, сочетавшихся браком в 1668 году и, возможно, заказавших свой парный портрет у Рембрандта. Другие историки сочли, что это, скорее всего, портрет Титуса и Магдалены, которых Рембрандт пожелал изобразить вместе, предварительно написав по отдельности: Титуса — с лупой в руке, а Магдалену — с гвоздикой. Все это сочетается с написанным вслед за «Еврейской невестой» «Семейным портретом», изображающим Магдалену вдовой после смерти Титуса, с выражением бесконечной грусти на лице и с новорожденным ребенком на руках, которого Титусу не довелось увидеть. Подле нее поместились Корнелия и Франсуа ван Бейлерт, крестный ее дочери, явившийся со своим юным сыном, тоже Франсуа, который позднее женится на маленькой Тиции. Таким образом, летопись будет продолжаться из картины в картину, являя глазам хрупкую семью, пытающуюся возродиться после стольких несчастий. Здесь и речи нет о пышном генеалогическом древе, о портретах настоящих семейств. Здесь мы скорее видим людей, уцелевших в бедствии и находящих поддержку в присутствии друг друга. В руках у Корнелии корзина цветов и листьев, Франсуа ван Бейлерт держит красную гвоздику, а серьги вдовы странным образом напоминают те, что были на «Еврейской невесте». Это показывает, что обе картины («Еврейская невеста» и «Семейный портрет») повествуют о двух сторонах одной истории: счастливом времени свадьбы сына и тяжелом испытании вдовства невестки. Рембрандт сделал их одного размера: из одной картины в другую он продолжает свой рассказ.
Однако некоторые историки сочли неприемлемыми обе эти гипотезы, поскольку лица на обеих картинах лишены сходства, а «Еврейская невеста» — по всей вероятности, композиция Рембрандта на библейский сюжет о любви Исаака и Ребекки или же, возможно, Иуды и Фамари.
Это не столь важно, поскольку в конце концов ничто не мешает нам думать, что все три версии накладываются друг на друга, ведь если сравнить две четы, портреты которых были написаны в той же мастерской в одно и то же время — двух богатых, но строго одетых неизвестных и сверкающую пару из «Еврейской невесты», сама собой приходит мысль о том, что последняя картина — не портрет заказчиков, позировавших в мастерской, а полотно о согласии между мужчиной и женщиной.
Тем не менее при переходе от одной гипотезы к другой получается, что смысл картины обедняется и выделяется лишь один фрагмент из ее многозначной сути. Нужно вернуться к самому произведению. На фоне неясной зелени угадывается часть большой стены и городского пейзажа. Красно-золотая чета стоит перед пилястром. Два лица и четыре руки. Мужчина наклоняется к женщине, открытой его взгляду, взор которой обращен лишь к ее собственным мыслям. Ее правая рука, держащая цветок, покоится на животе. В лице — доверчивая серьезность супруги, знающей о том, что она носит в себе дитя, а потому занятой лишь этим присутствием в себе еще одной жизни. Мужчина обнимает ее левой рукой за плечи. Правая рука лежит на платье на уровне груди, где с ней соприкасается левая рука женщины. Пальцы касаются друг друга. Легкое прикосновение. Ничто не давит. Мужчина смотрит на руку женщины, дотронувшуюся до его собственной.
Три руки — на груди и на животе — в центре картины, и высоко над ними два лица, одно склоняется к другому. Три руки, прервавшие движение, создающие мягкую вертикальную линию, которая перекликается с жесткой вертикалью колонн. Каменное основание, основание грядущего человека. Вокруг — руки и лица: золото, белый шелк, красный шелк — царство красок.
Тела под одеждами не видны. Чета облечена в краски, выделяющие ее силуэт. Это не означает, что Рембрандт побаивается наготы. Своей «Данаей», «Вирсавией», «Молодой женщиной, купающейся в ручье» он доказал, что любит писать обнаженное тело в полумраке спальни, в сумерках дворцового дворика, в свете вольного воздуха. Примирившись с плотью после того, как в начале своей карьеры он показал ее ущербность, теперь он предпочитал одевать ее в краски и вписывать в огромные объемы облекающих ее костюмов. Отныне он покрывал плоть тем, что любил писать превыше всего: модуляциями цвета на широких поверхностях. Какое воспоминание о покрытых сусальным золотом заалтарных композициях пробудилось в нем? Возможно, он вспомнил о работе Арта ван Лейдена, которой некогда обладал, — заалтарной картине, над которой трудились живописец и ювелир. А главное, вернулось его пристрастие к длинным тяжелым платьям Возрождения, одеждам, дорогим сердцу Рафаэля, Мемлинга, Кранаха, в которых шитье и самоцветы, жемчуг на обнаженном теле подчеркивали нежность кожи. Здесь Рембрандт облекает портрет в сказочный материал.
«Еврейская невеста» предоставила ему случай объединить союз Титуса и Магдалены с формами и красками, которые, по его мнению, наилучшим образом выражали его мысли о человеческой любви. Ибо хотя он часто изображал предательство Далилы, ярость Артаксеркса, разрыв супружеских пар, он не забыл о том, как рисовал Саскию серебряным карандашом на третий день после помолвки, о ее доверчивом взгляде; он помнил о страданиях женщин — Саскии, умирающей от истощения после рождения нескольких вскоре умерших детей; Хендрикье, получившей от приходских братьев клеймо проститутки. И вот теперь Магдалена в объятиях его сына. Он пишет упорство мужчин и женщин в любви, рождении детей, в этой жизни вдвоем, которая будет трудной, с опасностями и смертями. Он, переживший несчастный конец трех союзов подряд, создал картину, прославляющую такой союз.
Его ссылки на некоторые супружеские пары из Библии в порядке вещей: он знал наизусть те строки, в которых деторождение принималось как знак Божиего благоволения. Но он, никогда не лишавший себя возможности явить отличительные признаки — изобразить арфу рядом с Давидом, павлина подле Юноны, — более не чувствовал потребности объяснять то, что пишет, каким-либо предметом или костюмом. Никаких восточных тюрбанов, кривых сабель. Библия? Он увидел ее в повседневной амстердамской жизни. Так что на мужчине черная фетровая шляпа, а волосы женщины с непокрытой головой собраны в прическу. Избавив себя от всех обязанностей, которые ему еще доводилось выполнять, он поместил в эту картину одновременно тех, кого любил, и то, что любил. Однако в ней заметна его тревога. В выражении лиц четы нет ничего торжествующего. Он показал эту пару доверчивой и робкой, решительной и сознающей свою хрупкость. На обоих лицах ни тени улыбки. Только нежность в движениях. Таким образом, произведение становится неоднозначным. Ибо откуда здесь, в изображении бракосочетания 1668 года или библейской свадьбы, воспоминание о костюме с широкими рукавами, который носила Арета на своем портрете работы Тициана, или другое — о расшитом лифе, обилии украшений, блеск которых показал Ганс Гольбейн на портрете королевы Анны Киевской? Наверное, это всего лишь ссылки на дорогие ему произведения, в которых он находил формы, позволявшие ему строить собственные объемы из цветового материала: золоченый шнур, спадающий с плеча на каскад шелка, огромное щупальце, откуда появится рука мужчины и мягко ляжет на грудь женщины. Совершая едва заметные движения, пара появляется из гибкого сочленения гигантских объемов, отбрасывающих в тень неясные декорации. Блеск столь ярок, что было необходимо поместить эту невероятной мощи встречу в такое пространство, которое не подавляло бы ее спокойной вспышки.
Издали кажется, что картина построена на основе просторной красной поверхности, большого жаркого пятна, ядра произведения. Три руки соприкасаются в нем, подчеркивая его значение.
Вблизи взгляд следует снизу вверх вдоль красной стены, изрытой желобами и выступами. Гора? Нет, стена ткани, на которой выделяются складки и ровные участки. Рядом с ней возвышаются большие щиты металлического панциря темного золота. Женщина одета в красное, мужчина — в золотое. У каждого свой символ. Они облечены уже не в одежды, а в цвета, и каждый цвет выстраивается горизонтальными, вертикальными, наклонными полосами, задающими ритм этим монументальным тканям, внутри которых сокрыты люди. Две глыбы, одна золотая, другая красная, зарождаются у земли в наклонных плоскостях, затем постепенно выпрямляются кверху. Так из равнины можно наблюдать зарождение горы.
Нам знакома эта красочная масса, мазками задающая объем. В «Вирсавии» она представала большим клубком, таинственным живым существом, контрастирующим с наготой женщины. Здесь люди находятся внутри. Рембрандт поместил тех, кого любит, внутрь живописи, которую любит, — он поместил два портрета в два живописных массива.
Таким образом, «Еврейская невеста» может восприниматься в двусмысленности двойного портрета с соблюдением сходства моделей и композиции, в которой художник изложил свою концепцию человеческой любви, в слиянии двух различных жанров, ведь Рембрандт — художник всяческих смешений.
На самом деле «Еврейская невеста» отсылает нас к другому портрету супружеской четы, написанному более двух веков назад Яном ван Эйком. Художник написал там над вогнутым зеркалом восхитительной вязью из раскрашенных букв: «Johannes de Eyck fuit hie 1434» («Йоханнес ван Эйк был здесь в 1434 г.»). Перед нами супруги, изображенные стоя, в роскошных костюмах. Платье женщины струится длинным шлейфом на землю. Четыре руки, два лица. Две руки соприкасаются, ладони их раскрыты. Женщина оберегает свой живот левой рукой, а мужчина поднимает правую руку в жесте благословения. Общее для обоих произведений — тишина и серьезность на лицах. И все же, несмотря на определенное сходство, ощущаются и те изменения, которые произошли в умах за два века, разделяющие эти картины, яснее видна оригинальность Рембрандта. На картине Яна ван Эйка полно предметов: сандалии, собачка, зеркало, четки, ковер, люстра, фрукты, куртины вкруг ложа, играющие свою роль в повседневной жизни этой четы. Ван Эйк выбрал их не для простого перечисления, а ради символики: горящие средь бела дня свечи, ложе любви, яблоко подле окна и дорогая модная собачка. Он поместил супругов в замкнутом пространстве спальни, размеры которой увеличил благодаря зеркалу. Ибо эта чета живет в оптической камере, где пространство расширяется, и в то же время она помещена в центр мироздания.
Более двухсот лет спустя, в сходном творении, Рембрандт изгнал все предметы. Он отринул красивые кресла, столы, музыкальные инструменты, книги, письменные приборы, вазы с цветами, ковры, редкие безделушки, которые вечно выписывают авторы семейных портретов. Для него, столько всего купившего, продавшего, собравшего, предметы больше не имеют смысла. Живой живописный материал отныне заменяет ему обладание. Значимостью наделено лишь одно: красочная масса — его стихия. Избавившись от обязанности соблюдать перспективу, выбросив за борт весь балласт и устаревшие правила, дорогие сердцу тех, кто, подобно Лерессу, углублял «непреходящие законы своего искусства», он держит реальность на кончике кисти, в чудесном сочетании вспышек света. Мир плоский, он не толще человеческого тела. На изображение следует смотреть в фас. В единственной жемчужине из ожерелья Магдалены обнаруживается совершенство небесной механики. В этом микрокосмосе макрокосмос узнает свои законы.
Рембрандту оставалось жить всего один год. В том 1668 году он много писал: «Еврейскую невесту», портреты двух богатых неизвестных, портрет мужчины с лупой (вероятно, Титуса), портрет женщины с гвоздикой (вероятно, Магдалены) — и все это в творческом темпе, превосходящем темп двух предыдущих лет.
Вокруг своих близких и ради них он воздвиг самый дерзкий монумент (и самый озадачивающий, если вспомнить о том, что создавалось в других мастерских). «Еврейская невеста» — действительно вершина дерзости. То, чего он достиг, работая над этой картиной, более никогда не будет поставлено им под сомнение: создавать светом пространство для помещения в него объемов.
«Возвращение блудного сына»
4 сентября 1668 года.
Умирает Титус. Родился в сентябре. Умер в сентябре. Ему еще не исполнилось двадцати семи. Чем он был болен? Этого не сказано ни в одном документе. На портретах видно, как он исхудал. Болезнь легких, как та, что унесла Саскию? Передалась ли она Магдалене, которая умрет годом позже? Документы об этом молчат.
В пятницу, 7-го числа, траурный кортеж вышел из дома на Зингеле под вывеской «Золотые весы», обозначавшей ювелирную лавку Анны Хейбрехтс и ее мужа. Рембрандт шел за гробом, держа за руку Корнелию.
Портреты, написанные им с Титуса, а еще недавно с Магдалены в «Еврейской невесте», помогли сохранить лишь образ сына. А ведь в его живописи такой заряд доброты, такая мощь оберегания жизни… Решительно, искусство не защищает людей. Что сказать Магдалене, овдовевшей после семи месяцев замужества и носящей под сердцем дитя? Она шла за гробом до самой Вестеркерк, куда пять лет назад Рембрандт сопровождал гроб Хендрикье. Красивая классическая постройка, первая протестантская церковь в городе, задуманная архитектором Хендриком де Кейзером как памятник Реформации. Все остальные были ранее построены католиками. Красота священной архитектуры. Имеет ли эта красота какой-либо смысл, когда хоронишь сына?
В марте 1669 года родился ребенок Титуса и Магдалены. Девочка. Ее назвали Тицией. Крестины отпраздновали 22 марта в стариннейшей церкви «Хейлиге Стеде» — святом месте, где вспоминали о чуде у алтаря. Церковь впоследствии перешла к немецким протестантам, лютеранам, к которым принадлежали ван Лоо. Рембрандт заметил, что створки органа расписаны его другом Яном Асселином. Украшение, и больше ничего. Для чего нужно искусство?
Крестный отец, Франсуа ван Бейлерт, расписался в приходской книге, за ним — Анна Хейбрехтс, потом — Рембрандт. Пастор вписал имя ребенка — Тиция (он написал Тицие), дочь Титуса ван Рейна и Магдалены ван Лоо.
1669 год — год «Возвращения блудного сына», большой картины, 2,62 метра в высоту. Обстановка крайне проста: на переднем плане — мощенный плитами пол; в глубине — арка с увитыми виноградом шпалерами. Все это едва намечено, как в фоне «Еврейской невесты», лишь несколько линий, указывающих на четыре лица, одно из которых, в самой глубине, едва различимое, принадлежит молодой женщине. Другое, поближе, словно витающее в воздухе, — пожилой женщине, а еще ближе в полный рост изображены двое мужчин: один стоит, другой сидит. Четыре лица, более или менее яркие, подобные лицам из воспоминаний, в разной степени различимым и узнаваемым. Эти люди словно потеряны в далеком прошлом, но начинают выходить из него. Время принимает здесь качество глубины зрения: самое отдаленное прошлое теряется в темно-коричневой мгле, ближайшее прошлое выделяется отсветами более светлых коричневых оттенков. Еще ближе сидящий мужчина выделяется на общем фоне своей одеждой и лицом, ритмом ясно различимых рук и ног, насыщенным черным цветом своего берета, подчеркивающим светлый оттенок усов, любопытное, бесстрастное лицо со впалыми глазницами и темными глазами. Наконец, вот и стоящий человек, пожилой, бородатый, в изжелта-белой рубашке и красном камзоле, опершийся обеими руками на палку, столь же внимательный, но с таким же лишенным выражения лицом. Он выписан довольно точно, чтобы, выйдя из забвения, вновь обрести свое имя.
Но кто назовет его по имени? Юноша, только что вошедший во двор этого дома и вновь увидевший людей из своего прошлого. Как они постарели! Они словно пришли из другого мира. Призраки? Нет, они живы, но застыли в ожидании, словно не решаясь вновь ожить перед тем, кого считали погибшим и чей образ постепенно стерся из их памяти. Два времени разделились, а теперь соединяются вновь — два течения жизни, которые больше не образуют единого целого, как раньше. И была тишина над людьми, над гладкими плитами. И вдруг словно крик разорвал ее.
Юноша бросился на колени прямо на плиты. Мы видим его со спины: босые ноги, с которых свалились сандалии, рубище цвета засохшей грязи и пыли, — он написан в самых светлых во всей композиции коричневых оттенках. На его платье складки нескончаемых странствий, прорехи от безостановочной ходьбы. У него бритый череп. Он уткнулся головой в живот древнему старику, склонившемуся над ним, чья красная накидка словно стена убежища, а руки опустились на его плечи.
Старик едва держится на ногах. Он уже при смерти. Это видно по заострившемуся носу, бледности лица, не до конца опущенным глазам — почти как у покойника, который сам никогда уже не сможет их закрыть.
Картина: четыре взгляда, устремленных на появление покрытой грязью юности, ринувшейся в слабые объятия облеченной в красное старости, которой смерть дала последнюю отсрочку.
Каждый из этих двоих дошел до конца пути, и на картине изображена их встреча. В то же время на ней исследуются пласты памяти. Чем ближе к глубине, тем они темнее. Движение идет от четкого к неразличимому через всю гамму коричневых оттенков: сначала светло-песочного, потом докрасна раскаленного бурого. Ибо коричневый является камертоном, валёром, порождающим другие валёры. Только два посторонних оттенка включены в эту гризайль: зеленый на колпаке старика и черный на берете сидящего мужчины. Все действие построено на контрасте гладких поверхностей и шершавых объемов. Изгибы виноградной лозы на стене — его приглушенное эхо.
«Возвращение блудного сына». Библейская картина. Но у Рембрандта нет жертвенного тельца, только сила любви, уже как будто погасшей и вдруг снова вспыхнувшей между сыном, избегнувшим голода и рабства, и отцом, вне себя от радости его обретения.
Таков смысл, найденный Рембрандтом в притче. Отринув идею праздника, он идет к самой сути: соединению двух разлученных людей. Картина задает серьезный тон. Хотя она и выражает великое счастье, это счастье испытывают два человека на грани истощения, выражая его движением головы, нашедшей пристанище, рук, сжимающих плечи. Рембрандт все меньше понуждает своих героев говорить. Их жесты становятся все более скупыми: рука мужчины на груди «Еврейской невесты», руки старика на спине «Блудного сына». Чтобы понять — прикоснуться. Пальцами слепца.
Известно, как сильна причастность Рембрандта к его искусству, так что всегда хочется прочитать отзвук его собственной жизни в творчестве, бывшем порой лекарством от тоски. Вероятно, работая над «Возвращением», он думал о смерти Титуса, лишившей его всякой надежды передать сыну то, чем он дорожил.
Объятие этих двух людей было бы для него невозможным жестом. Каждая смерть что-то обрывает. Но можно догадаться, что между Титусом и Рембрандтом многое осталось недосказанным. Был ли отец тем наставником, каким должен был быть? Был ли сын счастлив в конце концов от возможности помогать тому, кого считал слишком великим, чтобы посметь брать с него пример? Во всяком случае, в своих произведениях художник говорит, что нет ничего дороже главного согласия: между мужчиной и женщиной в «Еврейской невесте», между отцом и сыном в «Возвращении блудного сына».
Возможно, гениальность этой картины проявилась еще и в атмосфере, созданной Рембрандтом. Мы видели, как накладываются друг на друга смутные образы из тайников памяти и отчетливые лица из жизни. В этом другая глубина — та, исследованием которой он пренебрег как в «Клятве батавов», так и в «Еврейской невесте», целиком поглощенный сиянием, видоизменяющим персонажей. Однако в «Блудном сыне», отнюдь не выстраивая линий перспективы, которые удовлетворяют разум в ущерб чувствам, он населил пространство лицами, все менее различимыми по мере того, как взгляд приближается к стене на заднем плане. Он создал перспективу чувств, пространство переживаний, чем снова приблизился к раннехристианским художникам и их манере располагать персонажей не по зрительной логике, а в зависимости от напряженности вынесенного на поверхность действия. Рембрандт углубляет свою картину, создает на ней более или менее четкие образы. На самом деле его интересует лишь вымышленное пространство, порожденное его воображением. Он повинуется не общепринятым понятиям, а собственной фантазии. Это делает его индивидуальность еще более яркой.
«Семейный портрет»
Какой мощный художник! Рембрандт достиг совершенства в «Синдиках цеха суконщиков». Но была и та история с «Клятвой батавов», которую сначала выставили на всеобщее обозрение, а потом втихаря спрятали. Поползли слухи. Говорили, что он заговаривается, стареет. Мнения разделились: то, что его картины являли все меньше движения, одни считали проявлением слабости, другие же полагали, что просто он начал писать спокойные композиции. Не находя более в его картинах зрительной глубины, одни думали, что он стал хуже видеть, другие — что он открыл для себя нечто новое: цвет, возвращавший его к поверхности.
На самом деле Рембрандт уже несколько лет как выбыл из борьбы. Он еще мог забавляться упражнениями в виртуозности, как с кубком на столе из «Клятвы батавов», практически вылепленным мастерком и притом чудесным образом прозрачным, но, во всяком случае, с ним уже никого не сравнивали. Обществу надлежало оценить его вне привычных качеств сходства, подлинности и выражения, на которых оно обычно основывалось в своих суждениях. Обществу надо было отказаться от привычных сравнений, принять за данность, что ему не на что ссылаться для того, чтобы почитать талант Рембрандта. Ибо отныне приходилось выбирать: либо спокойно смотреть на то, как Рембрандт уходит все дальше своей дорогой, и думать при этом, что его непохожесть на других — признак старости, либо следовать с готовностью за ним, становясь соучастником совершенно нового приключения. Поэтому те, кто последовал за ним в блеск «Еврейской невесты» и сложность «Возвращения блудного сына», со вниманием отнеслись к «Семейному портрету» — типично голландской картине с групповым изображением, в духе Рембрандта той поры, без всяких заманчивых декораций. Это композиция, созданная им не по заказу, того же размера, что и «Еврейская невеста»; она воплощает сверхзамысел: собрать вместе дорогих ему людей — дочь, невестку, внучку, крестного новорожденной и его сына. Это вымышленный портрет. Никогда все пятеро не собирались перед ним. На эту картину, которую он написал для себя самого, надлежит смотреть как на изображение мечты.
Зная, как религиозен Рембрандт, можно было предположить, что он напишет Мадонну с Младенцем, Святое семейство. Но нет, он все свел к кругу своей семьи. Его мир заключен внутри маленького дома на Розенграхт. Только это семейство он перенес в роскошный мир своей живописи. Извлек его из повседневной заурядности, одел в свои краски, вписал в свой материал — золото, меха, серебро, парчу, шелк, самоцветы, — наделил самыми прекрасными украшениями, как в «Еврейской невесте». И вот все пятеро превратились в рембрандтовских персонажей, чьи лица и руки появляются из плотных структур сшитых воедино кусков, сочленяющихся параллельными линиями и создающих движение фактуры и красок, которое задает ритм картины. Здесь также доминирует красный цвет: огромное пятно платья Магдалены, ее рукав, платьице и туфля ребенка — все это красного цвета, проходящего через все свои оттенки и подсвеченного золочено-белыми отблесками. Сидящая Магдалена с Тицией на коленях занимает половину картины. На другой половине Рембрандт решил придать медно-серебряный цвет Корнелии, сине-серебряный — мальчику.
Франсуа ван Бейлерт, крестный, не получил своего цвета. Нам видно лишь доброе круглое лицо стоящего мужчины, чья крепкая фигура сливается с общим фоном картины. Полотно не было закончено. Рембрандт прервал работу на стадии, сравнимой с состоянием «Юноны», снова предоставив нам случай приобщиться к тайне его творчества. Как и в «Юноне», намечены все валёры. Свет и тень структурировали краски. Картина словно создавалась одновременно во всех точках своей поверхности. Некоторые участки разработаны лучше других, но все краски сразу доведены до той степени насыщенности, которую они сохранят вплоть до завершения работы.
Три лица почти закончены: это лица Магдалены, Франсуа ван Бейлерта и его сына. Рембрандт завершил костюм Корнелии и корзину в ее руках, но лишь наметил объем головы, прическу и кудри, обрамляющие лицо и спадающие на плечи, подчеркивая серьезный профиль напротив улыбающегося мальчугана. Что до Тиции, то это не младенец, проживший лишь несколько месяцев. Рембрандт изобразил ее в роскошном костюме с белым воротничком, в блестящем бархатном берете, надетом поверх чепчика, веселой девочкой, держащей в одной руке погремушку, а другую положившей на грудь матери, повторяя жест своего отца в «Еврейской невесте».
Платье Магдалены — тоже всего лишь набросок, большая красная поверхность, на которой он обозначил одну складку, соответствующую другим наклонным линиям одежды, чтобы выразить идею восходящей силы и сделать всю фигуру более четкой. Он уже начал выстраивать широкий рукав. Выделил его на общем фоне, нанеся золоченые блики, отделяющие его от корсажа, затем подчеркнул форму плеча, навесив на него бахрому. Потом чередованием темных и светлых мазков отметил округлость руки, спустившись вдоль нее до самой кисти, появляющейся из десятка светлых мазков, которые образуют белый манжет. Это практически работа портного. Он писал так, будто сшивал параллельные куски ткани. Эта рука станет аналогом металлической структуры руки Титуса в «Еврейской невесте». Когда обе картины повесят рядом, с левого края будет большая золоченая форма руки Титуса, а с правого — красная мощь руки Магдалены, оба красных платья будут перекликаться сверкающим эхом, ведя беседу двух подвижных пятен в полумраке. Все в целом будет излучать невиданный доселе блеск.
Но работа над «Семейным портретом» была прервана. Тиция родилась в конце марта 1669 года. Рембрандт умер в начале октября. Когда видишь в этом незавершенном произведении, какие приготовления делает художник, чтобы добиться совершенства, глядя на костюм Корнелии, производящий впечатление настоящего сшитого из полос бархата, впечатление более естественное, чем на портретах лейденских мастеров Геррита Доу и Габриэля Метсю, прославившихся в свое время способностью создавать видимость реальности, понимаешь, что он работал все с той же невероятной быстротой и даже в упражнениях на виртуозность остался непревзойденным.
Картина не закончена, но все же подписана со стороны корзины, которую держит Корнелия. Подпись на незавершенном до такой степени произведении непривычна. В этом следует прочитать волю художника. Раз он написал свое имя на этой картине, которую не продать, считая, что сделал самое главное и остается лишь завершить отделку, имеющую не больше смысла, чем учтивая фраза в конце письма, значит, он презназначал ее для пребывания в семье. Раз он поставил подпись, это означает еще, что он хотел присутствовать в этой группе и считал произведение достойным своего имени. Свидетели, побывавшие в его доме в сентябре, сообщали, что видели лишь одну незавершенную картину, но не эту. Следовательно, «Семейный портрет» был предназначен для слишком интимного круга, коли Рембрандт не показывал его чужим.
Во всяком случае, эта подпись родственна той, которую поставил Ян ван Эйк в центре портрета супругов Арнольфини, она означала: Рембрандт был здесь. Здесь, среди своих.
Холодная сторона живописи
Если дом на Зингеле оживился с появлением маленькой Тиции, Магдалены и Анны, принимавшей клиентов в ювелирной лавке ван Лоо, то в доме Рембрандта стояла тишина. Жизнь текла размеренным чередом. Корнелия вела хозяйство. Три комнаты были заперты на ключ. Туда убрали вещи Хендрикье и те, которые не забрал с собой Титус после женитьбы. А главное, туда сложили предметы их торговли — картины, скульптуры, папки с рисунками и эстампами, диковины. Общество по продаже произведений Рембрандта не было распущено. Конечно, его деятельность не имела широкой известности, но некоторые торговцы из числа друзей, например Абрахам Франсен, посылали сюда редких клиентов за мелкими покупками.
Порой являлся какой-нибудь коллекционер, например, Дирк ван Каттенбург, с которым Рембрандт общался уже почти пятнадцать лет, — пятнадцать лет они имели общие дела со времен большого дома на Синт-Антонисбреестраат, когда Каттенбург выписал Рембрандту вексель на тысячу флоринов. В те же времена Рембрандт, еще не выплативший деньги за дом, в котором жил, захотел купить у него другой лом, за который ему надлежало уплатить 4 тысячи флоринов наличными и 3 — эстампами и картинами. Помимо переданных Каттенбургу работ Броувера и пейзажей Порцеллиса Рембрандт обязался выгравировать портрет его брата, причем в контракте оговаривалось, что эстамп должен быть выполнен так же тщательно, как портрет Яна Сикса.
Неудача в делах никак не отразилась на отношении к нему окружающих. В 1669 году Дирк ван Каттенбург снова навестил Рембрандта. Он сделал ему заказ на картину. Неизвестно, кто предложил сюжет, но отныне Рембрандт у себя в комнате работал над «Святым Симеоном», предназначенным для Каттенбурга.
По свидетельству святого Луки, Симеон был извещен Святым Духом, что не умрет, не увидев Господа. Младенец Иисус, принесенный в храм, был передан Марией в руки старца, узнавшего в нем Спасителя.
Рембрандт, выбравший для этой картины меньший по размеру холст, чем для «Еврейской невесты» — 92,5 см в высоту, — работал над ним, когда его посетили два художника. Пейзажисту Алларту ван Эвердингену, происходившему из семьи художников, было под пятьдесят. Он прожил четыре года в Швеции и Норвегии, где искал темы устрашающей природы: скалы, низвергающиеся в море, водопады, глубокие ущелья. Так он следовал примеру своего учителя Роланта Савери, привезшего из Тироля угрюмые пейзажи.
Он привел с собой сына Корнелиса. Нельзя упустить случай проникнуть в дом отечественной знаменитости, даже вышедшей из моды. Наверное, у Эвердингенов были к нему какие-то дела, возможно, они хотели что-нибудь продать или приобрести. Пейзаж Савери? Рембрандт любил этого художника. Во всяком случае, они увидели у него начатую картину — «Симеона», — доказывавшую, что Рембрандт не отступился. Он никогда не поддавался отчаянию, пока у него были силы писать. А до смерти оставалось лишь несколько дней.
Однако он был утомлен. Картина говорит нам об этом. Ему подходил сюжет о Симеоне, в котором встречаются старик и младенец — две крайности жизни. В этой встрече возрождалась нежность «Возвращения блудного сына», хотя здесь понятие о ней было более тонким. Это уже не соприкосновение двух людей, считавших друг друга умершими и вновь соединившихся, а сосуществование двух миров: с одной стороны — дряхлого старика, знающего, что он умрет, когда увидит живое доказательство будущего своей веры, с другой — Младенца, которому предначертано тридцать лет спустя изменить мир. Это связующая картина между Ветхим и Новым Заветом, но Рембрандт не трубит здесь в трубы аллегорий, не воссоздает колонны храма и его мрак, которые ему некогда так нравилось изображать, — он показывает человека в последние минуты жизни, человека, пришедшего из глубины лет, чтобы встать рядом с беззащитностью запеленутого Младенца, с маленьким круглым личиком, в коем он провидит глас Святого Духа, утверждающего сквозь тысячелетия неизбывность идеи, которая спасет мир.
Два бессилия рядом: старик принимает на руки маленькое тельце, но не прижимает его к себе. Ему нет необходимости удостоверяться, держа как можно ближе, что это существо и есть Тот, Которого он ожидал. Он и без того знает это и не испытывает нужды подтверждать это знание тесными объятиями. Картина построена на физическом отдалении, подчеркивающем изображаемое на ней духовное единство. Рембрандт, выбравший для «Семейного портрета» жар красного цвета, блеск серебра, на этот раз перешел к холодной стороне живописи — стороне смерти: сморщенная пергаментная кожа, кости без мускулов, рот, приоткрытый в последнем вздохе умирающего, невидящие глаза. Кожа, подобно бумаге, обтягивает скулы, нос, глазницы, она пожелтела, морщины прорезали лоб почти до костей. Холодные краски: коричневый, как на монашеской сутане, оттенки белого, переходящие от мертвенно-желтого к серебристому. Краски зимы. Но спокойствие столь велико, что в этой сцене нет отчаяния. Под разрушенной временем плотью совершается переход от конца к началу, от омеги к альфе, с уверенностью в том, что борьба будет бесконечной и никогда не наступит ночь, что всегда пребудет исходящий от немногих Свет.
Свет — уже не ослепительное сияние, жар солнца, который Рембрандт изображал на картинах и гравюрах. Уже нет единого источника, к которому обращаются взоры. Свет переходит от одного человека к другому. Сияние слабое, но оно вспыхивает то тут, то там. И прежде всего вокруг Младенца. А затем на третьей фигуре, выступающей из тени, — Богоматери, опустившей взгляд на свое дитя, матери, которой Симеон предсказал горе, пронзившее ее душу.
«Симеон» — картина физического разлучения, противоположная «Возвращению блудного сына», «Еврейской невесте», «Семейному портрету», столь многим другим произведениям, говорящим о сближении людей. Здесь речь идет лишь о последнем напутствии перед уходом. Без сожалений, без отчаяния, в некоем постепенном удалении, ибо разлука не имеет никакого значения для того, кто верит в воссоединение душ. В этот последний миг старец, дитя и женщина вместе. Они составляют единое целое, ободряющую форму полукруга, но уже чувствуется, что вскоре это последнее укрытие распадется в нарастающем холоде. Сюжет изнуряет живопись, как пост — тело.
Рембрандт начал картину, как прежде, с красочных поверхностей, которым придал изначальную вибрацию. Кистью, шпателем, пальцами он создал шероховатый материал, дрожь, подрагивание, контрасты вздыбленных и гладких участков. Он мягко расположил свет на пеленах ребенка, белый, серо-зеленый, темные пятна, углубления, вздутия. Материал такой же живой, как и раньше, но скованный холодом. Это соответствует теме, но, глядя на свои предшествующие картины, Рембрандт видел, что молчаливость, неподвижность персонажей, плоская перспектива постепенно подготавливают его уход. Достаточно было перейти от теплоты к холодности красок. Новшество обнаруживает усталость. Конец нагнал то, что он почитал за начало. Смерть была лишь обратной стороной творчества.
Когда чье-либо искусство отказывается от движения, можно подумать, что оно достигает высшей ясности. Но значение этого всегда многогранно. Спокойствие еще и признак спада энергии, обездвиживания суставов. Умиротворение и истощение удачно рифмуются. И эту картину Рембрандт не закончит.
Рембрандт стар, и теперь он это знает. Замедление ритма композиций, их фронтальность, растущее безразличие к глубине перспективы свидетельствуют об этом. С другой стороны, краски стали более яркими, пространство организовано по его воле, материал стал более богатым. Рембрандт создал такую насыщенную живопись, какой может быть лишь сама действительность. На одной чаше весов — признаки старения, на другой — совершенное новаторство. Конец и обновление неразрывны. Работая над «Симеоном», смешав холод на своей палитре, он понял, что скоро отойдет от живописи. Подняв ее на невиданный доселе уровень, он неожиданно обнаружил, что, не ведая того, довел ее до порога смерти, в точности как Симеона, на руки которому он положил Младенца.
В этой картине, написанной на последнем дыхании, он соединил две близкие смерти: старика и своей живописи. Исключительное совпадение темы и искусства. И еще исключительное совпадение в истории. Гойя набросает большими грубыми штрихами свою молодую «Молочницу из Бордо», Пьер Боннар рассыплет последние отсветы по весеннему цветущему дереву, и оба сделают это, жадно постигая радость будущего. Рембрандту ближе всего последняя картина Тициана — «Пьета», где почти столетний художник, уже не заботясь об отделке, внимательный лишь к сути, зажигает в нише, перед которой лежит мертвый Христос, солнечные блики на море. У Тициана мертвец окружен жизнью. У Рембрандта вся картина становится мертвенным, неудержимо слабеющим светом могилы. Его живопись смотрит на свою смерть.
А он смотрит на себя в зеркало с немым вопросом. Он не из тех, кого смерть приводит в отчаяние. Его поддерживает вера. И потом, вокруг него столько мертвецов. Он спокойно ждет часа отправления в последний путь.
В том 1669 году он написал два умиротворенных автопортрета, в которых не выставлял напоказ своей творческой мощи и которые представляли собой буквально клиническое исследование того, кем он стал, — маленького старика с большим носом и выбивающимися из-под колпака седыми волосами. На одном из портретов у него усы или то, что от них осталось; на другом он выбрит, и снова видна бородавка над верхней губой. От одного портрета к другому он не прослеживал ход своего дряхления, не старался зрелищно изобразить ступени физического упадка. Нет, и на том и на другом он изобразил себя в одинаковом состоянии.
В комнате, где он работает, есть лишь самое необходимое для жизни: кровать, полог которой он задергивает, чтобы защитить себя от холода и света, одеяло, валик, пять подушек, дубовый стол под сукном, стул, картины, над которыми он трудится. На окнах — четыре зеленые шторы, а на стене — зеркало, в которое он смотрится. Он переходит от кровати к столу, от стола к окнам, от окон к зеркалу и дальше по кругу, пока не останавливается перед мольбертом и не принимается писать. Зачем он пишет себя? От скуки? Из беспокойства? Чтобы лучше понять?
На одном из автопортретов он сначала изобразил себя со своими орудиями: кистью и муштабелем. Затем стер их и сложил себе руки, как складывает их человек, томящийся в ожидании. Но разглядел в своих глазах живость, одну из тех искорок, что сопровождают улыбку, сразу перед ней или сразу после нее. Что-то его позабавило. Он только что пошутил или собирался пошутить и уловил мимолетность этого движения, не без удовольствия показав, что живопись может схватить на лету столь тонкий оттенок всего лишь цветным пятном над верхней и под нижней губой на нескольких белых волосках. И сразу же подписал картину.
На другом автопортрете того же года он показал себя без всякого выражения. Глаз, в который он вглядывается, хорошо освещен дневным светом из окна, но он безразлично покоен. Рембрандт по-прежнему здесь, дородный, живой, но он перестал быть одержимым. Потолстел, двойной подбородок уже не спрячешь. Он, рисовавший, гравировавший, писавший себя сотню раз за сорок лет, сначала как наблюдателя драматических сцен, затем как объект изучения тех движений души, которые он мог уловить перед зеркалом, — удивленный, высокомерный, насмехающийся, нищий, вопиющий в пустыне улицы, благородный молодой человек, развратник, пьяница, инквизитор, и все это в одеяниях роскоши или в рабочем костюме, даже король, восседающий на троне среди своего семейства; он искал себя во всевозможных видах, ужимках, состояниях, которые были основной темой живописи на всех этапах его жизни и искусства; и теперь, в самый трудный момент существования, в момент приближения конца, он не мог оставить это изучение. Но потерял всякое желание драматизировать свой образ. Раз он готовит себя к уходу, нужно подготовить к этому и остальных. Тогда, в день окончательного воцарения молчания, остальные подумают, что он по-прежнему здесь, пишет.
Привел ли он в порядок свои дела? И какие дела? У него больше ничего не было. Все принадлежало Обществу Титуса и Хендрикье, но они оба умерли. Корнелия унаследует его пожитки. Картины, находящиеся в доме, перейдут к его дочери, наследнице Хендрикье, и невестке, наследнице Титуса. Нет нужды диктовать завещание.
Его знание произведений прошлого убедило его в том, что по этим произведениям, разрозненным во времени, никто не сможет восстановить этапы творческого пути. «Жизнеописания» художников, которых становится все больше, полны ошибок. Тогда для кого, кроме самого себя и живописи, пишет он этапы собственного исчезновения? Повествуя о событиях, о которых, как он полагает, никому не интересно знать, он доводит рассказ до конца. Еще ни один художник не вел с таким упорством подобной летописи. Наверное, он думал, что именно это будет его главным отличием от других. Художник как сюжет для собственной живописи — это его ответ Рубенсу и Веласкесу, портретистам императоров и королей, принцев и сильных мира сего. Рембрандт писал Рембрандта. До самого конца.
Он умер 4 октября 1669 года в маленьком доме на Розенграхт.
Корнелия сначала известила об этом Ребекку Виллемс, соседку, бывшую подругой ее матери, потом Анну и Магдалену на Зингеле. Она не хотела оставаться в доме одна с мертвым отцом.
Отныне мы услышим лишь скрип по бумаге перьев судебных исполнителей.
У нотариусов
5 октября произвели опись имущества. Тело Рембрандта еще находилось в доме. Похороны должны были состояться лишь 8-го. Торопились из опасения, что кредиторы, узнав о кончине, навострят уши и придут заявлять о своих правах. Нужно было очень быстро засвидетельствовать у нотариуса, что банкрот Рембрандт не обладал более ничем, все ценные вещи в доме принадлежали не ему, а были собственностью Общества по продаже, основанного в 1660 году Хендрикье и Титусом, чьими наследниками являлись вдова Магдалена и несовершеннолетняя Корнелия. Корнелию, согласно правилам, представлял ее опекун. Магдалена и художник Кристиан Дюзарт сопровождали нотариуса все время составления описи.
Прежде всего они потребовали опечатать двери трех комнат дома. Все, что в них находилось — картины, эстампы, древности, диковины, — принадлежало Обществу, которое, каким бы недейственным оно ни казалось, тем не менее продолжало существовать. Оставалось провести опись прихожей, кухни и двух комнат: передней и задней. Это не заняло много времени. Ибо если во время описи большого дома на Синт-Антонисбреестраат судебные исполнители внесли в журнал триста пунктов, здесь едва набралось пятьдесят. В противоположность тому, что делал Рембрандт в надежде придать большую ценность своему имуществу при первой инвентаризации, Кристиан Дюзарт и Магдалена избегали вносить уточнения. Наследство нужно было оценить как бедное. Так и было на самом деле. Бедность выступила на свет: в каждой комнате находилось лишь самое необходимое для жизни. Что касается картин, относительно них нет никаких подробностей. Например, в описи комнаты Рембрандта, где находились кровать, стол, стул, зеркало, зеленые оконные шторы и четыре незаконченные картины, не упомянут их сюжет.
С той же сухостью описано все, что находилось в прихожей: печатный пресс с приставной лесенкой, Библия, четыре испанских стула и двадцать две картины, законченные и незаконченные. А ведь именно там Рембрандт вывешивал собственные полотна! Магдалена и Кристиан не позволили нотариусу там задержаться, разве что тот сам не закрыл намеренно глаза, пометив лишь общее количество. Таким образом, осталось неизвестным, что могло подлежать продаже (то есть было закончено), а что нет (не закончено).
В кабинете был шкаф, о котором уточнялось, что он сделан из ели, то есть из дешевого дерева. Именно там хранились ценные предметы, как говорится в описи, но открывать шкаф не стали. Зато перечислили два оловянных блюда, подсвечники, шесть пивных кружек с крышками, оконные занавеси, другие подсвечники, большой фонарь, чтобы выходить ночью, медный таз, медную ступку, железное блюдо, пять плохих стульев и три дешевые маленькие картины. Нотариус так и записал: «три дешевые маленькие картины».
В задней комнате, вероятно, той, где спала Корнелия, в опись внесли две кровати, четыре одеяла, валик, диванные подушки, новые простыни, изношенные простыни, рубашки, старые и новые галстуки, манжеты, десяток колпаков, восемь носовых платков, вешалку и старое зеркало. Куда девалась былая роскошь?
В кухне было два стола: большой обеденный и маленький, четыре стула в плохом состоянии, каминные принадлежности, крюк для котла, совок для пепла, семь керамических тарелок, железный котелок, три жаровни и несколько старых предметов кухонной утвари, которые нотариус не счел нужным перечислять.
Таким образом, мэтр Меерхаут закончил осмотр дома, делая то, о чем его просили, изображая человека, никогда не слышавшего о знаменитом Рембрандте. Но лишь в одном его опись не вводит в заблужение: в этом доме денег было в обрез. Летописцы, впоследствии собравшие свидетельства современников, отметят, что художник жил очень скромно: ему достаточно было селедки и куска хлеба. Но хотя конец его жизни прошел в суровых условиях, он был к этому принужден. И только в своих полотнах он наделял своих близких и весь мир самым неподдельным богатством красок.
В Европе некоторым было знакомо направление его творчества. Для коллекции короля Людовика XIV закупили сборники, где находилось несколько сотен его эстампов. В Париже в 1655 году заплатили больше 800 ливров за первый оттиск с его портрета Яна Сикса. Но сам Рембрандт об этом не знал, а коллекционеров мало волновало, жив он или уже умер.
8 октября.
Амстердам пронизывают порывы ледяного ветра. Друзья и родственники собрались в доме покойного. Похороны будут не роскошными, но и не нищенскими. Пастор поднялся прямо в комнату. Он прочитал над телом несколько отрывков из Библии. Затем на гробе закрепили крышку и покрыли его черным сукном с эмблемой Гильдии художников города. Мертвым принято воздавать почести, наступает примирение. Все видимо приходит в порядок. Раздался звон колоколов Вестеркерк, расположенной совсем рядом. Носильщики положили гроб на носилки, кортеж выстроился позади них. Шли вдоль канала, свернули налево на Принзенграхт и тотчас очутились на площади. Впереди шла Корнелия под руку с Кристианом Дюзартом, затем Магдалена со своей матерью Анной. Были еще Луис Крейерс, бывший опекуном Титуса и сумевший отстоять для него кое-какие деньги из материнского наследства, Франсуа ван Бейлерт, Абрахам Франсен — аптекарь, торговец, коллекционер, живший в этом квартале. А еще художник Ролант Рогман, а также молодой живописец Корнелис Сейтхоф, который женится на Корнелии, несколько бывших учеников, еще не разъехавшихся по стране, — Саломон Конинк, Гербрандт ван дер Экхаут и соседки, дружившие с Хендрикье: Мейлен Кристоффельс и Ребекка Виллемс, на чьих глазах выросла Корнелия.
Пришли ли Эвердингены? А Ян Сикс? А Дирк ван Каттенбург? А Ян Ливенс, который в юности столько значил для Рембрандта? Когда-то он жил на том же канале — Розенграхт. А теперь работал в Лейдене, в Гааге. Было известно, что в прошлом году он потерял свою вторую супругу и тоже изведал серьезные денежные трудности, поскольку его имущество было опечатано. Но целый пласт жизни Рембрандта исчез из памяти. Ян Ливенс умрет через пять лет. Его похоронят в другой амстердамской церкви — Ниувекерк.
На мужчинах длинные черные плащи, которые надлежит носить на похоронах. Их неотличимые фигуры входят в церковь, выслушивают отпевание, идут за гробом до самой могильной плиты, которую только что вынули из-под одной из колонн Северного фасада. Туда опускают гроб. Люди выстраиваются гуськом, чтобы бросить на него последний взгляд. Церемония закончена.
В книге записей о погребениях Вестеркерк пастор записал: «8 октября 1669 года, Рембрандт ван Рейн, художник с Розенграхт, оставивший двух несовершеннолетних детей». И стоимость церемонии: 20 флоринов. Эти деньги пошли на оплату гроба, савана, носилок и шестнадцати носильщиков. Магдалена и Кристиан Дюзарт сказали нотариусу, что дадут деньги в счет наследства. Похороны Титуса обошлись вдвое дешевле.
Соседи на Розенграхт даже не ожидали, что дом останется открытым, согласно традиции, и что друзья, знакомые, просто обитатели квартала придут после отпевания выразить соболезнование семье и выпить за упокой души. Кто из них мог подумать, что в этом доме, среди незаконченных картин, находится портрет этой семьи и что этот холст станет бесценным для тысяч людей? Они знали только двух живых детей, оставленных покойным. Дом останется закрытым. Тишина могил. Хендрикье, Титус, Рембрандт и вскоре Магдалена — свершился приговор судьбы.
Хронисты прибыли слишком поздно. Они явились взглянуть на картины и расспросить тех, кто знал художника. Единственным из очевидцев, который напишет о нем, будет Жерар де Лересс, а мы знаем, что из этого вышло. Прочие не были столь высокомерны, но распространили мнение о своеобразии художника Рембрандта, что означало вызвать недоверие к его творчеству. Живопись развивалась в направлении, все дальше удалявшемся от Рембрандта, и при таких обстоятельствах никто не счел неприличным, что совет церкви Вестеркерк приобрел створки большого органа, роспись которых была поручена Жерару де Лерессу. Это произойдет лишь в 1686 году. Эти створки органа будут раскрываться и закрываться буквально над его могильной плитой. Через семнадцать лет после смерти Рембрандта, когда от него остались лишь белые кости.
Никто не заметит, что его золоченый автопортрет, на котором он противопоставлял свой смех серьезности бюста античного философа, рассмеется однажды громче обычного. Это продлится лишь мгновение, когда на него упадет луч странного света — от пожара, который в 1906 году уничтожил орган вместе со створками.
Снова скрип пера по бумаге. Голландская административная машина работает безукоризненно. Что бы ни случилось, происшествие обязательно будет зарегистрировано в какой-нибудь конторе. Нет ни одного события, ни одного спора, который не завершился бы там. Голландцы исправно посещают своих нотариусов. Поэтому по крайней мере в течение года на страницах реестров будет развиваться история шкафа — шкафа Хендрикье, о котором уже упоминалось во время описи дома на Синт-Антонисбреестраат в 1656 году. Шкаф теперь принадлежал Корнелии, и это нужно было заверить у нотариуса. Ребекка Виллемс явилась подтвердить, что в шкафу были деньги, предназначавшиеся Хендрикье для дочери. Можно ручаться, что речь идет как раз о том еловом шкафе, который находился в кабинете Рембрандта, — так называемом «шкафе для ценных предметов».
Наконец занялись подсчетами. Полюбовно уладили последние долги Рембрандта и Титуса Франсуа ван Бейлерту и Кристиану Дюзарту: деньги в обмен на гравюры и рисунки Луки Лейденского. А Сиротская палата занялась Тицией, которой 11 октября 1669 года назначили в опекуны Франсуа ван Бейлерта. Это был способ узаконить «Семейный портрет» — портрет, в пользу которого уже не мог свидетельствовать один человек: Магдалена ван Рейн, урожденная ван Лоо, умершая через две недели после Рембрандта и отправившаяся с очередным кортежем из дома на Зингеле, что рядом с Яблочным рынком, к Вестеркерк. Магдалене было двадцать восемь лет. Ее мужа Титуса унесли к той же церкви в сентябре предыдущего года. На этот раз расходы на церемонию составили 10 флоринов.
В самый день ее похорон, 21 октября 1669 года, мэтр Меерхаут, описывавший имущество Рембрандта, посетил ее дом. Теперь его сопровождала Анна, мать Магдалены, с Тицией на руках. Посещение нотариуса носило совсем иной характер, чем в жилище на Розенграхт. На сей раз картины описывались с массой подробностей. В описи они делились на две категории: с одной стороны, четыре жанровые сцены Адриана Броувера, портрет священника и пейзаж Яна Ливенса, марина Порцеллиса, два портрета Фердинанда Бола, с другой — три сборника редких эстампов Рембрандта и семейные портреты: Рембрандт, Саския, Титус с указанием отношения родства: свекор, свекровь, муж. В описи не упоминается имя Хендрикье, не являвшейся законной супругой, а также портрет Анны. Но, возможно, вдова забрала портрет себе. Ну вот, наконец-то в бухгалтерской отчетности полный порядок.
Отложив эту конторскую книгу в сторону, мы можем раскрыть другую — последнюю, касающуюся двух несовершеннолетних детей. Тиция выйдет замуж за сына Франсуа ван Бейлерта. Об этом было сказано в «Семейном портрете». Что до Корнелии, пока будут длиться споры по поводу бедного наследства Рембрандта, ибо Франсуа ван Бейлерт пытался поточнее подсчитать, во сколько все-таки оценивается наследство его подопечной, она начнет новую жизнь. С согласия своего опекуна Абрахама Франсена она, сирота, выйдет замуж за сироту. 3 мая 1670 года состоится обручение Корнелиса Сейтхофа, художника двадцати четырех лет, и Корнелии ван Рейн, восемнадцати лет. Под документом стоят две подписи — Корнелиса и Корнелии. 5 октября супруги придут к нотариусу, чтобы продиктовать ему свое завещание. Поскольку, по их словам, они ничем не обладали, это не заняло много времени. Их будущее имущество отойдет к их детям, когда те у них будут. Однако нотариус отметил, что они собираются отправиться в голландскую Индию, точнее, в Батавию, на корабле «Тюльпенбург». Корнелис подписался витиеватым и неуверенным почерком, Корнелия — старательно выводя толстые и тонкие линии собранной молодой женщины, что напомнило о ее волевом профиле на «Семейном портрете». Нотариусу она заявила, что покидает Голландию, ничего не взяв с собой. Она покидала сложный мир, озадачивающие красоты живописи отца и жизненные трудности. Пыталась ли она обо всем этом забыть? Пыталась ли она забыть обо всех окружавших ее мертвецах? Возможно.
И все же архивы, которым случается быть небеспристрастными, расскажут нам о верности, которую она хранила своим родителям в доказательство своей искренней к ним любви: в Батавии, на краю света, 5 декабря 1673 года, при крещении она дала своему маленькому сыну имя Рембрандт, а девочке, зарегистрированной 14 июля 1678 года, имя Хендрикье.
На сих последних поскрипываниях пера голландского нотариуса, который под пальмами Ост-Индии сделал орфографическую ошибку, выписывая имя «Рембрандт», мы и закроем этот реестр.
Поиски Рембрандта. Скелет, шкаф, каталог.
Осенью 1989 года студенты-археологи Лейденского университета получили разрешение на проведение раскопок в захоронениях Вестеркерк в Амстердаме. Они надеялись найти и опознать скелет Рембрандта. По голландскому телевидению показали, как они, чрезвычайно взволнованные, потрясали бедренной и берцовой костью, а также черепом. Был ли это череп Рембрандта? Один из студентов выронил его на каменный пол церкви, и тот разлетелся на куски.
В 1980 году в Амстердаме, на Блошином рынке, я видел очень грязный, разломанный еловый шкаф. Шкаф Хендрикье? Может быть, это был тот самый бедный шкаф, содержимого которого никто не видел и который кочевал из описи в опись целых тринадцать лет? Шкаф, хранивший в себе тайну, шкаф-тайник, в который Рембрандт положил флорины, позволившие ему выжить, под маской бедного старика, не несущего никакой ответственности и находящегося под опекой в таинственном доме на Розенграхт? Мне следовало его купить. Но предмет такого рода, свидетельство преданности Хендрикье, вряд ли может оказаться у реальных антикваров. Его судьба — быть невидимым.
В 1982 году в Гааге самые ученые знатоки, собравшись под знаком «Rembrandt Research Project» (Проект исследования творчества Рембрандта), опубликовали первый том систематического каталога живописных произведений — требования, предъявляемые к научным трудам такого рода, всегда сокращают число произведений художника. Однако то, что Рембрандта лишили «Портрета мужчины в золотом шлеме» или «Польского всадника», вызвало болезненную реакцию даже в среде эрудитов. В прессе писали, что подвергать сомнению авторство Рембрандта в картине «Мужчина в золотом шлеме» значит замахнуться на саму основу западно-европейской культуры. Изображение столько значило для нас, что мы украсили им одноразовую зажигалку.
Поиски Рембрандта.
СПИСОК РАЗБИРАЕМЫХ КАРТИН
Размеры полотен приводятся в сантиметрах.
ГЛАВА I
Автопортрет с выпью. 121x89. 1639. Дрезден. Государственная картинная галерея.
Милосердие Тита. 89,8x121. 1626. Лейден. Музей Лакенхаль.
ГЛАВА II
Избиение святого Стефана. 89.5x123,5. 1625. Лион. Музей изящных искусств.
Изгнание торгующих из храма. 43x33. Москва. Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина.
Валаамова ослица. 63x46,5. 1626. Париж. Музей Коньяк-Же.
Товит и Анна. 39,5x30. 1626. Амстердам. Рейксмюсеум.
Бегство в Египет. 26,4x24,2. 1627. Тур. Музей изящных искусств.
Притча о неразумном богаче. 32x42. 1627. Берлин. Государственная картинная галерея.
Размышление апостола Павла. 72,8x60,3. 1627. Штутгарт. Государственная картинная галерея.
Самсон и Далила. 59,5x49,5. 1626. Берлин. Государственная картинная галерея.
Художник у себя в мастерской. 25x31,5. 1628. Бостон. Музей изящных искусств.
Иуда возвращает тридцать сребреников. 80x102. 1629. Йоркшир. Частная коллекция.
Христос в Эммаусе. 39x42. Париж. Музей Жакмар-Андре.
Воскрешение Лазаря. 93.5x81. Париж. Музей Жакмар-Андре.
Распятие. 100x73. 1631. Ле Ма-д'Ажене, Ло-э-Гаронна. Приходская церковь.
Автопортрет. 23,4x12,2. Кассель. Государственная картинная галерея.
Автопортрет. 15,5x12,7. 1629. Мюнхен. Старая Пинакотека.
Автопортрет. 37,5x29. Гаага. Маурицхейс.
Автопортрет. 22x16,5. Нью-Йорк. Музей Метрополитен.
Автопортрет. 89x73,5. Бостон. Музей Изабеллы Гарднер.
ГЛАВА III
Андромеда. 34,5x25. Гаага. Маурицхейс.
Похищение Прозерпины. 83x78. Берлин. Государственная картинная галерея.
Диана и Актеон. 73,5x93,5. Реден (ФРГ). Собрание Сальм Сальм.
Похищение Европы. 60x77,5. Нью-Йорк. Собрание Клотц.
Портрет Морица Хейгенса. 31,2x24,6. 1632. Музей Гамбурга.
Портрет Якоба де Гейна III. 29,5x24,5. 1632. Лондон. Далвич Колледж.
Портрет Амалии ван Сольмс. 78,5x55,5. 1632. Париж. Музей Жакмар-Андре.
Урок анатомии доктора Тульпа. 169,5x216,6. 1632. Гаага. Маурицхейс.
Портрет девушки. 63x48. Аллентаун (Пенсильвания). Художественный музей.
Конный портрет Фредерика Рихеля. 294,5x241. 1663. Лондон. Национальная галерея.
Юнона. 127x107,3. Лос-Анджелес. Музей графства.
Лукреция. 120x101. 1664. Вашингтон. Национальная художественная галерея.
Лукреция. 105x92,5. 1666. Художественный институт Миннеаполиса.
Портрет Жерара де Лересса. 112,4x87,6. Нью-Йорк. Музей Метрополитен.
Портрет девушки. 69x53. 1632. Бостон. Художественный музей.
Портрет Саскии. Рисунок. 18,5x10,7. 1633. Берлин. Гравюрный кабинет.
Портрет Яна Втенбогарта. 132x102. 1633. Бекингемшир. Частное собрание.
Портрет супружеской четы. 131x107. 1633. Бостон. Музей Изабеллы Гарднер.
Портрет корабельщика. 114,5x169. 1633. Лондон. Бекингемский дворец.
Портрет Яна Крула. 128,5x100,5. Кассель. Государственная картинная галерея.
Портрет Джона Элисона. 173x124. 1634. Бостон. Музей изящных искусств.
Портрет Мэри Боккенхолл, в замужестве Элисон. 174,5x124. Бостон. Музей изящных искусств.
ГЛАВА IV
Возведение креста. 96,2x72,2. Мюнхен. Старая Пинакотека.
Снятие с креста. 80,4x65,2. Мюнхен. Старая Пинакотека.
Вознесение. 92,7x86,3. 1636. Мюнхен. Старая Пинакотека.
Положение во гроб. 92,5x68,9. 1639. Мюнхен. Старая Пинакотека.
Воскресение. 91,9x67. 1639. Мюнхен. Старая Пинакотека.
Поклонение пастухов. 97x71,3. 1646. Мюнхен. Старая Пинакотека.
Обрезание. Картина утеряна. Копия: Брунсвик. Музей герцога Антона-Ульриха.
Саския с жемчужным ожерельем. 66,5x49,5. 1633. Амстердам. Рейксмюсеум.
Саския смеется. 52,5x44,5. 1633. Дрезден. Картинная галерея.
Автопортрет. 55x46. 1634. Берлин. Государственный музей.
Саския в красном берете. 99,5x78,8. Кассель. Картинная галерея.
Флора (Портрет Саскии). 125x101. 1636. Санкт-Петербург. Государственный Эрмитаж.
Флора (Портрет Саскии). 123,5x97,5. Лондон. Национальная галерея.
Артемида (или Софонисба — Портрет Саскии). 142x153. 1634. Мадрид. Музей Прадо.
Минерва (Портрет Саскии). 137x116. 1635.
Аллегория о блудном сыне (Автопортрет с Саскией на коленях). 161x131. Дрезден. Картинная галерея.
Портрет матери Рембрандта. 79,5x61,7. 1639. Вена. Художественно-исторический музей.
Саския с красным цветком. 98,5x82,5. 1641. Дрезден. Картинная галерея.
Даная. 185x203. Санкт-Петербург. Государственный Эрмитаж.
ГЛАВА V
Жертвоприношение Авраама. 193x133. 1635. Санкт-Петербург. Государственный Эрмитаж.
Похищение Ганимеда. 71x130. 1635. Дрезден. Картинная галерея.
Самсон, угрожающий своему тестю. 158x129. 1635. Берлин. Государственный музей.
Ослепление Самсона филистимлянами. 236x302. 1636. Франкфурт. Штаделевский художественный институт.
Самсон, загадывающий загадки на свадьбе. 126x175. 1638. Дрезден. Картинная галерея.
Жертвоприношение Маноя. 242x263. Дрезден. Картинная галерея.
Пир Валтасара. 167,5x209. Лондон. Национальная галерея.
Ночной дозор. 359x438. 1642. Амстердам. Рейксмюсеум.
Пейзаж с добрым самаритянином. 46,5x66. Краков. Музей им. Чарторыжского.
Пейзаж с каменным мостом. 29,5x42,5. Амстердам. Рейксмюсеум.
Пейзаж с обелиском. 55x71,5. Бостон. Музей Изабеллы Гарднер.
Грозовой пейзаж. 52x72. Брунсвик. Государственный музей герцога Антона-Ульриха.
Пейзаж с экипажем. 47x67. Лондон. Собрание Уоллес. Пейзаж с замком. 44,5x70. Париж. Лувр.
Явление Христа Марии Магдалине. 61x49,5. Лондон. Бекингемский дворец.
ГЛАВА VI
Примирение Давида с Авессаломом. 73x61,5. 1642. Санкт-Петербург. Государственный Эрмитаж.
Святое семейство. 117x91. 1645. Санкт-Петербург. Государственный Эрмитаж.
Святое семейство. 46,5x68,8. 1646. Кассель. Государственная картинная галерея.
Зимний пейзаж. 17x23. 1646. Кассель. Государственная картинная галерея.
Обнаженная женщина в постели. 81x67. Эдинбург. Шотландская национальная галерея.
Христос в Эммаусе. 68x65. Париж. Лувр.
ГЛАВА VII
Пир Валтасара. 167,5x209. Лондон. Национальная галерея.
Аристотель перед бюстом Гомера. 143,5x131,5. 1653. Нью-Йорк. Музей Метрополитен.
Вирсавия с письмом Давида. 142x142. 1654. Париж. Лувр.
Молодая женщина, купающаяся в ручье. 61,8x47. 1655. Лондон. Национальная галерея.
Портрет Титуса за учением. 77x63. 1655. Роттердам. Музей Бойманс ван Бейнинген.
Портрет Титуса за чтением. 70,5x64. Вена. Художественно-исторический музей.
Польский всадник. 116,8x134,9. Нью-Йорк. Собрание Фрик.
Туша быка. 94x67. 1655. Париж. Лувр.
Урок анатомии доктора Деймана. 100x134. 1656. Амстердам. Рейксмюсеум.
Портрет доктора Толинкса. 76x61. 1656. Париж. Музей Жакмар-Андре.
Автопортрет. 53x43,5. 1657. Эдинбург. Шотландская национальная галерея.
Автопортрет. 49,2x41. 1657. Вена. Художественно-исторический музей.
Автопортрет. 133x103,8. 1658. Нью-Йорк. Собрание Фрик.
Филемон и Бавкида. 54,5x68,5. Вашингтон. Национальная художественная галерея.
ГЛАВА VIII
Заговор Юлия Цивилиса. 196x309. 1661. Стокгольм. Национальный музей.
Синдики цеха суконщиков. 191x279. 1662. Амстердам. Рейксмюсеум.
ГЛАВА IX
Еврейская невеста. 121,5x166,5. Амстердам. Рейксмюсеум.
Портрет мужчины в перчатках. 99,5x82,5. Вашингтон. Национальная художественная галерея.
Портрет женщины с веером. 99,5x83. Вашингтон. Национальная художественная галерея.
Портрет мужчины с лупой. 91,5x74.5. Нью-Йорк. Музей Метрополитен.
Портрет женщины с гвоздикой. 92x74,5. Нью-Йорк. Музей Метрополитен.
Семейный портрет. 126x167. Брунсвик. Государственный музей герцога Антона-Ульриха.
Возвращение блудного сына. 262x206. Санкт-Петербург. Государственный Эрмитаж.
Симеон и ребенок Иисус. 98x79. Стокгольм. Национальный музей.
Автопортрет. 86x70,5. 1669. Лондон. Национальная галерея.
Автопортрет. 59x51. 1669. Гаага. Маурицхейс.
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ РЕМБРАНДТА
1606, 15 июля — в Лейдене, в семье мельника Харменса ван Рейна родился Рембрандт.
1613 — 1620 — посещает латинскую школу в Лейдене.
20 мая 1620 — записан студентом в Лейденский университет.
1621 — 1624 — ученик лейденского живописца Я. И. Сваненбурха.
1624 — 1625 — в течение полугода посещает в Амстердаме мастерскую живописца П. Ластмана.
1625 — основывает в Лейдене совместно с Я. Ливенсом собственную мастерскую.
1632 — поселяется в Амстердаме, пишет «Урок анатомии доктора Тульпа».
1634 — женится на Саскии ван Эйленбюрх, дочери бургомистра города Левардена.
1641 — родился сын Рембрандта и Саскии Титус.
1642 — смерть Саскии. Рембрандт завершает картину «Ночной дозор».
1643 — 1649 — в доме Рембрандта живет Гертье Диркс, вдова корабельного трубача, которая присматривает за Титусом.
1649 — 1663 — в доме Рембрандта живет Хендрикье Стоффельс, дочь сержанта. Она становится невенчанной женой художника.
1654 — родилась Корнелия, дочь Рембрандта и Хендрикье.
1656 — банкротство Рембрандта, опись его имущества и коллекций. Он пишет «Анатомию доктора Деймана».
1657 — 1658 — продажа с молотка имущества и коллекций; продажа дома.
1660 — Рембрандт переселяется в бедный квартал на Розенграхт. Хендрикье и Титус основывают Общество торговли художественными произведениями.
1660 — 1661 — Рембрандт пишет диптих «Артаксеркс, Аман и Эсфирь» и «Давид и Урия».
1661 — 1662 — Рембрандт пишет монументальное полотно по заказу муниципалитета — «Заговор Юлия Цивилиса».
1662 — завершение группового портрета «Синдики».
1663 — смерть Хендрикье Стоффельс.
1668 — женитьба Титуса на Магдалене ван Лоо, дочери ювелира. Смерть Титуса.
1669 — родилась внучка художника Тиция, дочь Титуса и Магдалены. 4 октября — смерть Рембрандта; похоронен 8 октября в церкви Вестеркерк в Амстердаме.
Примечания
1
Справедливости ради заметим, что концепция «Блудного сына» по отношению к этому автопортрету не есть «изобретение» Декарга: она изредка встречалась и раньше; он же абсолютизировал ее.
2
См. предисловие.
3
Великий Пенсионарий — высшая административная должность в Голландии.
4
См. предисловие.
5
То есть раннехристианских художников. (Примеч. ред.)
6
То есть не ищущий цвет в натуре, а как бы домысливающий его. (Примеч. ред.)


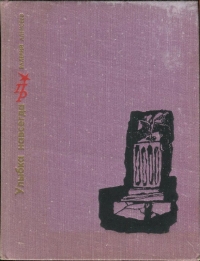
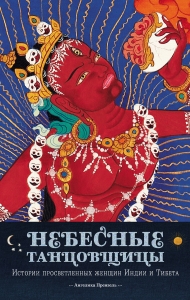
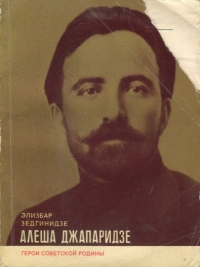

Комментарии к книге «Рембрандт», Поль Декарг
Всего 0 комментариев