Ф. М. Лурье НЕЧАЕВ: СОЗИДАТЕЛЬ РАЗРУШЕНИЯ
Автор выражает глубочайшую благодарность сотрудникам Государственного архива Российской Федерации, Российского государственного исторического архива, Рукописного отдела и Музея Института русской литературы РАН, Отдела рукописей Российской государственной библиотеки, Российского государственного военно-исторического архива, Российской национальной библиотеки. Особенно признателен автор Б. Ф. Егорову, Б В Аверину, Ю. В. Артемьевой, С. И. Вареховой, Е. К. Крандиевскои, В. С. Логиновой, И. В. Мулиной, О. Я. Новиковой, А. В. Петрову, С. В. Радванецкому, М. В. Сидоровой и всем, кто содействовал выходу этой книги.
От редакции
Предвидим, что появление в тысячетомной серии «ЖЗЛ» биографии лидера «Народной расправы», свободолюбца-фаната Сергея Нечаева с его жестким сектантским кодексом революционера и убежденностью, что сильная личность имеет право преступить закон и мораль, вызовет споры, несогласие и даже критику со стороны определенного круга наших читателей. Тем не менее издательство сознательно делает этот шаг.
Действительно, на протяжении многих лет пафос знаменитой серии биографий был связан прежде всего с положительными примерами служения героев «ЖЗЛ» своему призванию, людям, Родине. Серия воспитывала, увлекала утверждающими добро и созидание жизнеописаниями подвижников. Так было и так, безусловно, будет, ибо просветительская миссия «ЖЗЛ» остается приоритетной.
Уместно вспомнить, что в известный период серия «ЖЗЛ» пополнилась целым рядом биографий «пламенных революционеров» по определению времени. И в данном случае авторами выдвигались обычно на первый план действия по созиданию «нового общества». Очевидно, что сегодня, когда с течением времени четче просматриваются лица этих героев, авторы биографий скорее всего избрали бы иной идейный ракурс, но всему свое время, и в этом смысле биографическая серия отражает идеи, настроения, убеждения, предвидения и… заблуждения своего времени.
И все же, возразит пристрастный читатель, С. Г. Нечаев — «созидатель разрушения» и, значит, фигура с очевидным знаком минус.
Безусловно, молодой человек, проживший всего тридцать пять лет, из них почти десять проведший в одиночке Алексеевского равелина Петропавловской крепости, — отрицательный герой. Но он — знаковая фигура российской истории. Ею идеи оказали огромное влияние на умы революционно настроенной молодежи. Активно действуя за границей, связываясь с Бакуниным, Огаревым и получая материальные средства на революционную деятельность, он на какое-то время ввел в заблуждение относительно масштабов своей личности и размаха «освободительного» движения в России даже прозорливого Герцена. Общеизвестно, что материалы нечаевской истории послужили Ф. М. Достоевскому основой для романа «Бесы», в котором гениальный писатель предостерегал об огромной опасности появления людей, подобных Сергею Нечаеву. Но нет пророка в своем Отечестве…
Разгул терроризма в современном мире показывает сугубую актуальность изучения фигуры С. Г. Нечаева, и это обстоятельство сыграло немаловажную роль в решении издать биографию этой знаменитой со знаком минус личности именно в серии «ЖЗЛ».
В заключение еще раз вернемся к вопросу о названии старейшей российской книжной серии и правомерности включения в ее состав того или иного героя. Мы уже неоднократно предупреждали своих читателей: замечательность (знаменитость) наших героев вовсе не подразумевает их положительность. Отождествлять два этих понятия — откровенное заблуждение; ни основатель серии Ф. Павленков, ни ее продолжатель М. Горький не вкладывали в название биографической библиотеки подобного смысла (примеры тому: «Лойола», «Торквемада», «Лютер», «Иван Грозный», «Ротшильды», «Наполеон», «Талейран» и многие другие издания). Так что нелепо требовать этого и от современных издателей. В конце концов «ЖЗЛ» существует уже свыше 110 лет именно как светская серия, а не библиотека житийной литературы.
Надеемся на понимание и благосклонность наших читателей. До новых встреч. Со своей стороны постараемся сделать все, чтобы они были по возможности частыми и всегда непременно интересными и полезными.
Слово к читателю
Автор биографической книги о «созидателе разрушения» убедительно показал, что особенности государственной политики и социальные условия, формирующие личности, подобные Сергею Нечаеву, возникли задолго до появления в российском освободительном движении сообщества «Народная расправа», как реакция на давление абсолютизма.
Когда правительство подозрительно относится к любому проявлению самостоятельности в мыслях и поступках, когда даже мнение, не совпадающее с мнением властей, оказывается криминальным, то укрепляется и развивается полицейско-жандармская команда, а за ней — сыск, шпионство, доносительство и как высшая (или низшая?) точка нравственного падения — провокаторство, подталкивание подозрительных лиц и групп на совершение явно антиправительственных поступков. А такое не может не соприкасаться с уголовщиной, ибо в условиях секретности и всесилия легко прийти к поборам, к присвоению казенных сумм, к преследованию личных, а не государственных врагов, к целому спектру подлогов и подлостей. В России достаточно ясно понимали этот уголовный душок в деяниях жандармерии и полиции: например, для петербуржцев не было секретом, что известный деятель николаевского Министерства внутренних дел И. П. Липранди, получив значительную сумму денег на выкуп у книгопродавцев всего тиража криминального «Карманного словаря иностранных слов», составленного осужденным Петрашевским, просто конфисковал книгу, а деньги присвоил.
Чем сильнее репрессии, тем больше уголовщины в карательных органах. М. Е. Салтыков-Щедрин в «Современной идиллии» великолепно изобразил перепуганных слежкой интеллигентов, дошедших до желания совершить какое-нибудь уголовное преступление, чтобы доказать свою политическую благонадежность. Обычно это трактуется в духе сказанного в начале данного предисловия: в репрессивном мире уголовникам — снисхождение, политическим — суровая кара. Но можно истолковать замысел и в другом ракурсе: если будем уголовниками, то приблизимся к правителям, нас не сочтут чужаками…
Ф. М. Лурье, занимаясь истоками, совершенно естественно обратился ко всем этим полицейско-жандармским темам и опубликован книгу «Полицейские и провокаторы» с подзаголовком «Политический сыск в России. 1649–1917» (СПб.: Час пик, 1992; М.: «Терра», 1998). Автор относительно подробно рассмотрел историю дореволюционного сыска, а главное внимание уделил трем знаменитым провокаторам: Дегаеву, Гапону и Азефу.
От этого труда Ф. М. Лурье закономерно перешел к теме предлагаемой книги, так как больше всего в нашей истории его интересуют нравственные аспекты. Дело ведь в том, что антиправительственное, в крайнем варианте — революционное движение в условиях деспотического строя тоже базируется на тайне, на секретности. А любая закрытость активных систем способствует прямо-таки эпидемическому росту нарушений нравственных норм, выработанных человечеством, а от таких нарушений — прямой путь к уголовщине.
Человек сложен, в массе своей отнюдь не примитивно добр, как проповедовали просветители. В нем есть всякое, разные люди являют разные пропорции добра и зла, ума и чувства, общительности и автономности, самоуверенности и робости. И есть люди, у которых какие-то свойства доминируют.
Причины, создающие бунтарские характеры, могут быть очень разные: зависть ко всему и вся; комплекс неполноценности; авантюризм, желание любым способом обогатиться или каким-нибудь образом проявить себя; жажда власти… Список можно продолжать. Главное, что такие характеры весьма шатки в нравственном смысле: чем больше страсти и фанатичного стремления, тем скорее человек может переступить через моральные запреты.
Все перечисленные выше качества могут принадлежать разным лицам, а могут и объединяться в одном человеке. И среди революционеров всех стран и эпох подобные типы, то есть бунтари, составляют большинство. Впрочем, включающие в себя весь комплекс отмеченных черт довольно редки, но они особенно опасны.
В околодекабристской среде, кажется, всего два-три человека могут быть зачислены в группу безнравственных авантюристов: Дмитрий и Ипполит Завалишины и Роман Медокс (см. о них в статье Ю. М. Лотмана «О Хлестакове», перепечатанной из тартуских «Ученых записок» в книге ученого «В школе поэтического слова. Пушкин. Лермонтов. Гоголь», М., 1988, и в первом томе его «Избранных статей», Таллинн, 1992).
Вокруг Петрашевского тоже наберется два-три человека с комплексом авантюризма или зависти (см. о них в моей книге «Петрашевцы», Л., 1988). Наиболее колоритен из них В. П. Катенев, в минуту откровенности признавшийся, что подростком увидел, как на окраине Петербурга народ восторженно приветствовал императора, и поклялся, что любыми способами добьется, чтобы и его встречала ликующая толпа.
Два-три человека найдется и среди «шестидесятников», среди поколения Чернышевского и Писарева. Но, конечно, всех перещеголял, всех затмил главный объект предлагаемой книги, С. Г. Нечаев. Он даже персонажей романа Достоевского «Бесы» затмевает. А ведь, как известно, в основу сюжета «Бесов» положено нечаевское дело; да еще Достоевского много лет обвиняли в клевете на революционеров; куда там! Реальная жизнь Нечаева демонстрирует такие бездны, что теперь можно бы упрекать писателя в некотором приглаживании-приукрашивании темных сторон действительности…
Нечаев собрал в себе весь комплекс перечисленных черт, добавив к ним немало других бесовских качеств, полученных, видно, от природы, но взлелеянных и распустившихся в соответствующей благоприятной среде. Ведь не одиночкой он был, вокруг него находились живые люди, но большинство-то из них, по крайней мере — на первых порах, не оттолкнуло его, не ужаснулось. Значит, были точки соприкосновения, была солидарность. Такие люди нужны революции.
Исследования о Нечаеве стали появляться еще до Октября 17-го года. Известно несколько публикаций в эмигрантской печати, а после 1905 года стало возможно обнародование трудов и в России. П. Е. Щеголев в журнале «Былое» (1906, № 7) напечатал статью «С. Г. Нечаев в Алексеевском равелине» (за нее он чуть не сел в тюрьму!), В. Ф. Цеховский в 1907 году выпустил компилятивную книжку «С. Г. Нечаев». Но настоящий бум начался после 1917 года: одна за другой выходили статьи и книги (отметим книги Р. М. Кантора «В погоне за Нечаевым», Л., 1925 и А. Гамбарова «В спорах о Нечаеве», М; Л., 1926), в розовом цвете рисовавшие облик героя. Наивная апологетика доходила до прямого связывания Нечаева с идеями и делами партии Ленина-Сталина; например, книга А. Гамбарова заканчивалась таким пассажем: «Как отдаленного предшественника русского большевизма, история его не только реабилитирует, но она давно уже его реабилитировала». Конечно, важно, что в ряде изданий были опубликованы ценные архивные материалы: см., например, сборник, подготовленный Б. П. Козьминым, «Нечаев и нечаевцы» (М.; Л., 1931). Кстати, это последний труд тех лет о Нечаеве — дальше наступила полоса многолетнего молчания. Она была прервана книгой А. И. Володина, Ю. Ф. Карякина, Е. Г. Плимака «Чернышевский или Нечаев?» (М., 1976), слава богу, не апологетической, но она мало что добавила фактического к прежним публикациям.
И вот перед нами — первая обстоятельная документальная монография об известном деятеле революционного движения. Написана она не предвзято, спокойно; автору, наверное, хотелось подчеркнуть, что острый детективный сюжет говорит сам за себя, что черты Нечаева лучше всего раскрываются не в публицистических декларациях исследователя, а в документах и фактах. Ф. М. Лурье проштудировал и использовал всю доступную ему печатную продукцию, где только можно было найти какие-либо сведения о Нечаеве, серьезно пропахал шесть московских и питерских архивов и извлек из них громадное количество ценнейших новых документов, впервые предлагаемых читателю (Военно-исторический архив — РГВИА; бывший архив Октябрьской революции, ныне — ГАРФ, с фондом III отделения; бывшая «Ленинка», ныне — РГБ; бывшая питерская «Публичка», ныне — РНБ; Пушкинский Дом; исторический архив — РГИА).
Феликс Моисеевич Лурье (род. 1931) — сын известного историка революционного движения М. Л. Лурье, погибшего на фронте в 1941 году. Сын вначале из-за житейских обстоятельств не пошел по научным стопам отца: с четырнадцатилетнего возраста он вынужден был работать на заводах и стройках, чтобы кормить осиротевшую семью (одновременно учился в вечерней школе). В 1956 году окончил Горный институт и много лет трудился на шахтах и в различных строительных организациях. В 1977 году успешно защитил диссертацию. Но отцовское дело привлекало его все больше и больше, Ф. М. Лурье с головой ушел в исторические разыскания, начал публиковать статьи, а когда Лениздат заключил с ним договор на книгу «Хранители прошлого» (о журнале «Былое»; книга вышла в 1990 г.), он в 1987 году распрощался с прежней профессией и стал вольным историком. Ныне — член Союза писателей Санкт-Петербурга, автор одиннадцати книг, лауреат премии «Северная Пальмира».
Б. Ф. Егоров«Во Французской революции, вследствие того, что законы религии были отменены одновременно с ниспровержением гражданских законов, человеческий ум совершенно потерял под собой почву; он не знал, чего держаться и где остановиться. Появились революционеры невиданного типа, которые довели смелость до безумия, не знали сомнений и колебаний перед осуществлением какого бы то ни было намерения. И не следует думать, будто эти новые существа были единичными и мимолетными порождениями известного момента, осужденными исчезнуть вместе с ним. С тех пор они образовали целую расу, которая размножилась и распространилась по всем частям цивилизованного мира, везде сохраняя одну и ту же физиономию, один и тот же характер. Мы знали ее при ее зарождении, и до сих пор она у нас перед глазами».
Алексис Токвиль, 1856 годНЕЧАЕВЩИНА
10 декабря 1873 года Федор Михайлович Достоевский, желая дать авторский комментарий к роману «Бесы» и объяснить его общественное значение, опубликовал статью «Одна из современных фальшей». Излагая в ней свой взгляд на российское освободительное движение, он писал:
«Без сомнения, из всего этого (то есть из нетерпения голодных людей, разжигаемых теориями будущего блаженства) произошел впоследствии социализм политический, сущность которого, несмотря на все возвещаемые цели, покамест состоит лишь в желании повсеместного грабежа всех собственников классами неимущими, а затем «будь что будет». (Ибо по-настоящему ничего еще не решено, чем будущее общество заменится, а решено лишь только, чтоб настоящее провалилось, — и вот пока вся формула политического социализма.)»[1]
Теоретики «политического социализма» появились в России в первой половине XIX столетия. Недовольство абсолютизмом и умелая против него агитация быстро увеличивали число сторонников разрушения государственного устройства. Антагонизм между властью и теми, кто жаждал ее захвата, разжигаемый взаимной ненавистью, ожесточался и ширился. Так с нарастающей силой продолжалось вплоть до октябрьского переворота. В смертельное противостояние вовлекались все большие массы людей.
Обман, шантаж, мистификация проникли в политическую борьбу задолго до появления на горизонтах российского освободительного движения создателя конспиративного сообщества «Народная расправа» Сергея Геннадиевича Нечаева. Все аморальное в действиях противоправительственных объединений, накопленное предшественниками Нечаева, было старательно им впитано, сконцентрировано и внедрено в практику «Народной расправы». Нечаев не только заимствовал уже известные приемы, но и внес свой вклад во вседозволенность, усвоенную вслед за ним всеми революционными партиями. Организовав убийство отказавшегося повиноваться товарища, он первый осуществил «насилие внутри насилия» (М. Конфино). Именно Нечаев провозгласил вседозволенность главнейшим средством революционного движения. Поэтому назовем нечаевщиной вседозволенность в политической борьбе.
Кровавая драма, сопровождавшая нечаевскую историю, потрясла весь цивилизованный мир. Ф. М. Достоевский приступил к работе над романом «Бесы», еще не зная подробностей преступления. Он первый увидел в происшедшем не банальный случай из уголовной хроники, а событие политической жизни. Понимая глубину опасности нечаевщины, опережая газетные сообщения о материалах следствия, Федор Михайлович лихорадочно работал над романом, стремясь показать, к чему ведут вседозволенность и фанатизм, невежество и ложные представления о будущем России. Однако вскоре после выхода «Весов» борьба за торжество «политического социализма» еще более усилилась, и нечаевшина вышла на первый план.
Ни одно государство не истребило такого количества своих сынов, не нанесло себе такого урона. История российского освободительного движения особенно трагична: не желая учитывать опыт предшествовавших поколений, мы постоянно повторяем свои и чужие ошибки. Предупреждения Достоевского никого не остановили, мы убедились в его правоте, ощутив на себе результаты разрушительных сил, в которых главенствовала нечаевшина. Если ещё совсем недавно нам могли рисоваться некие картинки светлого будущего, которое само по себе придвигается к тем. кто низверг монархический строй, уничтожил классовых врагов и заодно тех, кто сомневался или мог сомневаться в выбранном пути, то сегодня мы наглядно убедились в том, куда привел нас этот путь, унавоженный нечаевшиной. Победа самого циничного крыла революционных сил и их господство над народом, завоевавшим для них эту победу, превратили нашу страну в руины, но даже этот результат не всех убедил в правоте Ф. М. Достоевского. Увы, наш коллективный разум не созрел для предвидения последствий преступных действий, поэтому и через сто тридцать лет после появления романа «Бесы» тема нечаевшины продолжает оставаться для нас актуальной.
Нечаевщина родилась в борьбе революционных сил с абсолютизмом, в ее появлении повинны обе противоборствующие стороны. Самодержавие столетиями разрабатывало и совершенствовало систему законов, допускавших преследование всех, кто выступал с осуждением любых действий светских и церковных властей. Политическими (государственными) преступниками объявлялись не только совершившие или замыслившие запрещенные законом деяния, но также предполагаемые и подозреваемые в возможном злоумышлении. Можно ли преследовать за субъективные различия в убеждениях, подвергать наказанию за различия во взглядах на те или иные события, законы, традиции, поступки? Одни воспринимают действия других пагубными для державы, другие — те же действия благом. В политическом процессе обвинитель и подсудимый легко могут поменяться местами. Время столь мощно влияет на наши представления, что вчерашние реакционеры видятся нам сегодня прогрессивнее левых радикалов. Правоту в политическом споре определяет время, лишь оно расставляет все по своим местам.
Трон не терпел никаких оппонентов, он обрушивал на них репрессии, загонял в подполье, вынуждал конспирировать все свои действия, толкал на ниспровержение существующего политического устройства, то есть восстанавливал против себя. Охранители императорской власти, желая истребить крамолу любой ценой, допускали при этом чудовищные беззакония. В развернувшемся во второй половине XIX века изнурительном противоборстве произвол порождал произвол. Противоборство умножало число боровшихся и не имело победителей, вернее, победители были временные.
«Во весь период 1856–1881 годов, — писал бывший вождь народовольцев Л. А. Тихомиров, — господствующим умственным направлением был либерализм. Он издавна принес к нам веру в революцию как некоторый закон развития народов. Эти остатки наивных исторических концепций Европы XVIII века особенно прививаются у нас в сороковых годах, в шестидесятых годах вера в революцию, как нечто неизбежное, доходит до фанатизма. Внизу, в среде наиболее горячих голов, она порождает решимость начинать. Силы так называемых террористов 70-х годов были ничтожны, но, слепо веря в мистическую неизбежность революции, они решились употреблять все усилия на то, чтобы, рискуя и жертвуя всем, вызвать общее движение. Еще во время Нечаевского процесса прочитана была на суде любопытная записка, в которой излагалось, что революция есть огромная потенциальная сила, которую можно вызвать приложением даже небольшой активной силы, подобно тому, как зажженная спичка, брошенная в пороховой погреб, может взорвать целую крепость».[2]
Тихомиров выразил основополагающую идею российского освободительного движения, приведшую к трагедии, разразившейся в начале XX века и не закончившейся до сего времени. Даже либеральная интеллигенция ошибочно полагала, что недовольство в России при Александре II всеобщее.[3] Реформы первых лет его царствования породили надежду, развили жажду деятельности, стремление вывести Россию на путь европейских государств. Император не обладал ни твердой волей, ни властной рукой, постоянные колебания в его действиях легко улавливались радикалами, порождали в них нетерпение, желание осуществления всего и сразу, то есть революции. Им казалось, что реформы обречены, но достаточно подтолкнуть народ, и он поднимется на бунт, а далее все само пойдет. И никто из них не подумал, что реформы требуют осмотрительности, что поспешность может привести к катастрофе.
В царствование Александра II в российском освободительном движении сложились три главнейших направления, получивших названия от фамилий их идеологов: лавризм (П. Л. Лавров), бакунизм (М. А. Бакунин) и бланкизм (Л. Бланки).
Лавристы ограничивали свою деятельность пропагандой в народе социалистических идей, с целью постепенной подготовки его к социальной революции.
Бакунисты утверждали, что народ вполне готов к революции, и вследствие этого призывали к всеобщему бунту.
Бланкисты видели свою задачу в захвате власти путем организации строжайше законспирированного заговора и установлении диктатуры революционного меньшинства. Помощи от народа они не ждали.
Российское революционное движение развивалось главным образом по второму и третьему направлениям. На своей родине, во Франции, бланкизм не получил столь уродливого развития, как в России, где ему «содействовало» самодержавие. И Нечаев, и народовольцы, создавая заговорщические сообщества, рассчитывали на всеобщее недовольство. Понимая, что на организацию всенародного восстания сил и средств у них недостаточно, они надеялись употребить свои действия в качестве запала для взрывного устройства, побудителя всенародного бунта. На разработку планов революционных преобразований уходили все силы радикальной части русского общества, эволюционный же путь развития, путь реформ имел среди них слишком мало сторонников. Идеологи революционного пути развития общества располагали весьма отдаленными знаниями о своем народе. Бакунин получил представление о крестьянине из литературы и народных былин, не глубже были познания у Нечаева, народовольцев и так далее, включая большевиков. Помещик, священник, купец, полицейский куда ближе стояли к народу и понимали народ лучше, чем профессиональные революционеры.
Бакунин, Нечаев и другие, вплоть до первых марксистов, провозглашали основной революционной силой крестьянство. А русский крестьянин мечтал о справедливом царе и добром помещике, о выкупленной у владельца земле, а не отобранной во время бунта: дармовую землю легко вернуть прежнему хозяину. Такие понятия, как конституция и народовластие, были чужды мужику. Безграмотный крестьянин лишь в 1861 году перестал быть рабом и, конечно же, к появлению в 1869 году тайного нечаевского кружка не мог созреть до понимания социальной революции; не созрел он и через пятьдесят лет, и не мог созреть, потому что ни в бунте, ни в революции он не нуждался, не от них ожидал он улучшения своего положения. Вспомним, как крестьяне выдавали полиции пропагандистов-народников,[4] как крестьян загоняли в колхоз, как пытаются сегодня их оттуда вытащить. Крестьянин консервативен, эта черта произросла и надежно закрепилась в нем. И слава богу. Но радикальная интеллигенция не желала видеть очевидного и все глубже втягивалась в борьбу с правительством за мнимые интересы крестьянства.
Консервативны не только крестьяне, консерватизм свойствен многим. Люди вообще медленно меняют убеждения. Казнить аристократа, священника или буржуа за то, что он не придерживается марксистских догм, преступно. Так же преступно насильственно понуждать крестьянина к борьбе за «лучшую жизнь», не задумываясь, нужна ли она ему, готов ли он к этой лучшей жизни. Народ даже новое, в силу все той же консервативности, принимает в старых одеждах. Вспомним Пугачева, объявившего себя Петром III. народников, рядившихся в крестьян. Поспешность в проведении несозревших изменений в социальной или политической жизни общества приводит к катастрофам.
Нас страстно убеждали, что в революцию шли самые достойные и образованные, самые самоотверженные и благородные, что для них не существовало ничего более важного, чем торжество свободы, равенства и братства, чем благо народа. Многие, очень многие, ослепленные ореолом мучеников и борцов, поклонялись этому мифу. Выросло несколько поколений, веривших, что все революционеры святые, а их лидеры — святые кормчие святых, отдавшие свои жизни во благо народа, во имя построения рая на Земле. Но в революционные партии шли не только по убеждению и с чистыми помыслами. Революция привлекала тщеславцев, жаждавших «навластвоваться всласть», корыстолюбивых, завистников… Одновременно с романтическими и высоконравственными устремлениями в российское освободительное движение было занесено наиболее отвратительное и разрушительное — нечаевшина.
Каждый вождь, готовя свою революцию, люто враждовал с соперниками из других противоправительственных объединений. Чем ближе стояли они друг к другу по исповедуемым взглядам, тем яростнее вспыхивала между ними борьба. Они беспрерывно раскалывали и терзали освободительное движение, вовсе не помышляя о едином наступлении на общего врага. Объединение чревато потерей места лидера. Вожди революционных партий, спрятавшись в эмиграции, обличали, оскорбляли и высмеивали друг друга. Когда же одни из них получили реальную власть, они сразу же позаботились об истреблении бывших соперников и даже соратников. Подобное наблюдалось в истории католической церкви эпохи Реформации, когда под знаменем борьбы за истинность и чистоту Веры разворачивались сражения, главные цели которых не имели ничего общего с религией и диктовались соперничеством. В разгар Великой французской революции вожди левых группировок состязались в уничтожении друг друга. Но в сравнении с Россией картины европейских политических и религиозных баталий выглядят совсем не масштабно. При рассмотрении процессов борьбы противоправительственных сообществ со сходными идеологиями видно, как на первый план выступает борьба за власть, за богатство, но не за благо народа.
Вожди всех революционных партий заявляли, что действуют от имени народа и в его интересах, но каждый из них имел в виду разные категории населения Российской империи. Социалисты-революционеры признавали народом главным образом крестьян, социал-демократы — только рабочих (в 1901 году рабочий класс составлял около одной сотой всего населения России). Но крестьяне, рабочие, мещане, купцы, дворяне, духовенство, люди всех сословий и национальностей, населявшие необъятные просторы империи, — этот разнородный конгломерат и есть народ. Объявлять часть народа недоброкачественной или порочной недопустимо и преступно. Но вожди революционных партий действовали даже не во благо той искусственно выделенной ими части населения, которую они называли народом, они сражались за интересы своих партий, точнее, в интересах их верхушек.
Многие философы предлагали увлекательные модели социальных и политических устройств, выгодно отличавшиеся от существующих, но никогда и никто из них никого насильственно не понуждал уверовать в правоту своих теорий и необходимость их практического воплощения. Никто из философов, даже самых гениальных, не в силах гарантировать, что именно его модель государственного устройства может быть реализована и даст обещанные результаты. Никто не вправе экспериментировать на державах и народах, степень риска любого эксперимента должна располагаться в разумных границах, а эксперимент над людьми — эксперимент особого рода.
Вожди революционных партий, эгоистичные интерпретаторы чужих философских учений, выбрасывая из них или изменяя, как им казалось, второстепенные положения, придавая теоретическим моделям практические очертания и проповедуя их со своего голоса, навязывали рядовым товарищам по партиям непроверенные, слабо аргументированные идеи и превращали их в программы действий. Увлекая за собой доверчивых, они шли напролом не оглядываясь. ничего не замечая вокруг, давя и разрушая все. что не соответствовало их теоретическим представлениям. Главные цели в борьбе отступали на задний план, о них забывали. Целям должны соответствовать средства для их достижения. иначе они приведут к другим, непоставленным целям. Средства могут обезобразить цель до неузнаваемости. Величайшее искусство политика — правильно выбрать цель и найти соответствующие ей средства. Наши политические вожди ставили утопические цели и лихорадочно метались в поисках средств для их реализации. Они бились над неразрешимой задачей, им требовалось под утопическую идею «перековать» реальных людей. Поскольку утопия построена быть не может, на то она и утопия, попытки ее воплощения приводят к насилию над народом. Чем нереальнее цель, тем к большему насилию приводит попытка ее реализации. В этом главнейшая трагедия российского освободительного движения. Наибольшую лепту в арсенал преступных средств насилия внес С. Г. Нечаев.
Можно не считаться с законами развития общества, можно их не знать или не признавать, но от этого они не перестанут действовать. Они не нуждаются в голосовании, их невозможно отменить. Поступки политических лидеров пойдут на пользу или во вред в зависимости от того, как они соотносятся с этими законами. Никому, кроме безумца, не придет в голову заняться практическим изменением орбит движения небесных тел в связи, например, с ожидаемым от этого улучшением климата на Земле. В технике, в точных науках человечество добилось выдающихся достижений, потому что ученые сначала изучают природу явления, формулируют физические законы, проверяют их справедливость, а уж затем инженеры приступают к воплощению систем, построенных на этих законах; «теория паров предшествовала железным дорогам».[5] Но до сих пор среди политиков встречаются поклонники и проповедники утопических идей, противоречащих природе абсолютного большинства разумных существ. Слишком часто действия российских политических кумиров входили в противоречие с законами развития общества и приводили к трагедиям, до сих пор потрясающим нашу страну. Все они первейшей своей задачей ставили разрушение политического строя, созданного трудами предшествовавших поколений. Они ненавидели этот строй главным образом потому, что не видели, как без его разрушения можно воздвигнуть придуманные ими утопии. «Мы считаем дело разрушения настолько громадной и трудной задачей, — писал С. Г. Нечаев летом 1869 года, — что отдадим ему все наши силы, и не хотим обманывать себя мечтой о том, что у нас хватит сил и умения на созидание.
А потому мы берем на себя исключительно разрушение существующего общественного строя; созидать не наше дело, а других, за нами следующих».[6]
Подобные мысли высказывались и до Нечаева, и после него. Они главенствовали в сознании революционеров и в их среде не вызывали никаких возражений. Потребность разрушать превратилась в революционное созидание, в основной род деятельности российского революционера. «Страсть к разрушению, — писал в начале 1840-х годов М. А. Бакунин, — и есть вместе с тем и творческая страсть!»[7] Не любители ли разрушать объединились в революционные партии? Может, в них так сказывалась генетика, они повиновались ее зову, может, им искренне казалось, что на развалинах старого само по себе взрастет светлое будущее. Победив, революционеры не обуздали в себе жажды разрушения, инерция разрушения тащила их по развалинам старого мира.
Сегодня можно окончательно подвести черту под спором между сторонниками революций и их противниками. Этот затянувшийся слабо аргументированный спор о том, что было бы, если… сегодня решен окончательно: все уже было, все реализовано, и нам хорошо известны результаты. Мы можем и обязаны сказать, что действия руководителей революционных сообществ были преступны в зародыше, в своей главной идее. Они привели именно к тому, к чему должны были привести народ и страну. Дело не только в искажении до неузнаваемости того, что было обещано, это обещанное не могло быть построено. Преступными оказались методы и средства, с помощью которых производились социальные и политические переустройства. Революция есть скачок, мгновенное изменение в социальном и политическом развитии общества. Человеку свойственны постепенные эволюционные процессы, скачки для него вредны, он не успевает к ним подготовиться. Появление революционеров свидетельствует о том, что в обществе не все благополучно и оно нуждается в реформах. Трагедия прежних и нынешних политиков заключается в том, что они не сумели этого понять. Революционеры полезны для ускорения радикальных эволюционных преобразований, но не для организации и воплощения скачков. Вожди революционных партий отвергали постепенное реформирование государственного устройства, не оставлявшее им надежд на сколько-нибудь видное положение в административно-бюрократической иерархии державы. Могли ли претендовать на серьезную карьеру недоучка Нечаев, помощник присяжного поверенного Ульянов, заурядный литератор Чернов? Они превосходно понимали, что только собственная революция в силах взнести их на вершины власти, дать все и сразу. Именно эта простая мысль питала их веру в необходимость быстрейшей революции, разжигала нетерпение и нетерпимость, именно поэтому Нечаев стремился начать всероссийский бунт 19 февраля 1870 года. Опасаясь конституции сверху, лидеры «Народной воли» торопились умертвить Александра П. Конституция из рук царя бесспорно привела бы к спаду революционного движения. В. И. Ленин накануне выборов в Учредительное собрание спешил захватить Зимний дворец. Более всего революционных лидеров путало благополучие народа, тогда они оставались ни с чем.
Многие рядовые революционеры были высоконравственными людьми и убежденными сторонниками идей, проповедуемых их лидерами. Они верили вождям, верили их теориям и, воодушевляемые утопическими идеями, слепо следовали за своими поводырями, не задумываясь, куда их ведут и каких можно ожидать последствий. Они позволили использовать себя, не осознавая, что их руками властолюбцы творят новый, еще худший произвол, не задумываясь о последствиях содеянного. Но были и такие, кто, вступив в противоправительственное сообщество и столкнувшись с применением недопустимых методов борьбы с существующим строем, ощутив сатанинское дыхание нечаевщины, разочаровывались в революционном движении и уходили из него навсегда.
Один из первых историков революционного движения в России А. Тун называл нечаевщину всего лишь эпизодом в русском освободительном движении.[8] Комментируя Туна, Л. Э. Шишко, отдавший сорок лет революционному движению, писал: «Оно (дело Нечаева. — Ф. Л.) охарактеризовано очень правильно автором. Это действительно был лишь случайный эпизод в истории нашего революционного движения, вызванный необычайною энергиею одного человека. Само по себе движение еще не было тогда достаточно подготовлено; революционные элементы только еще накоплялись среди молодежи, и форма дальнейшей революционной борьбы еще не успела выясниться для них, когда появился на сцене необычайно сильный революционный темперамент, решивший создать заговор и сплотить людей чисто искусственными мерами».[9] Один из первых биографов основателя «Народной расправы» В. Ф. Цеховский писал в 1907 году: «С Г. Нечаев является уродом в семье русских революционеров. Последние могли увлекаться, могли погрешить, но всегда шли прямым путем с открытым забралом и, даже отваживаясь на террористические выступления, признавали их печальной необходимостью, как говорили народовольцы, — там, где отсутствие представительного органа правления создает неодолимые препятствия для мирной культурно-агитационной работы».[10] Даже такой глубокий знаток революционного движения, как известный историк, публицист и революционер В. Я. Яковлев (Богучарский), утверждал, что «в истории русского освободительного движения нечаевщина была лишь эпизодом характера совершенно исключительного, и умозаключать что-либо по ней о самом движении было бы совершенно несправедливо».[11] Многие, очень многие историки освободительного движения и его участники искренне верили, что нечаевщина завершилась арестом Нечаева. Они читали «Бесов», поругивали Достоевского и не понимали, что гений писал роман слезами и кровью, своей кровью, он жаждал искупить перед людьми свою вину в появлении Нечаева и нечаевщины, он вложил в роман свой опыт, себя и не ошибся в оценках и прогнозах, он желал предупредить о губительной опасности, поставить преграду нечаевщине, остановить ее продвижение. Но они не понимали, что нечаевшина сопутствует конспирации и заговору, нечаевщина и конспирация неразделимы, они всегда вместе. Может встретиться различная степень интенсивности проявления нечаевшины, зависящая от участников заговоров, конспиративных сообществ, их моральных качеств. Но без нечаевшины нет конспирации.
Нечаева осуждали все, кто поддерживал первые его шаги; осудили, но не смогли оградить себя от его влияния.[12] Ни одной революционной партии не удалось избежать нечаевщины. Большевики отнеслись к Нечаеву с сочувствием, они реализовали многие его идеи — законспирированность, железную дисциплину, обман во благо своекорыстных интересов, вероломство. Известный историк М. Я. Геллер пишет: «М. Н. Покровский, историк-марксист, высоко пенимый Лениным, признавал, что группа Нечаева содержала в зародыше черты будущей революционной организации, которая нашла свое высшее воплощение в большевистской партии: необходимость конспирации, элементы планирования и вооруженная сила, идея восстания как форма действия. Нечаев, подчеркивает М. Н. Покровский, первым развил «идею запланированной революции… высмеиваемой потом меньшевиками, но почти буквально осуществленной 25 октября 1917 г.». Историк-марксист целиком одобряет и методы предшественника — о попытке Нечаева выдать полиции своего политического противника Покровский добродушно замечает: «Любопытный эпизод фракционной борьбы того времени»».[13] С помощью полиции Нечаев карал молодых радикалов из других «фракций», не согласных с его идеями, и как карал!
Тайного или открытого интереса к нечаевщине не избежал ни один из лидеров революционных партий. В полном собрании сочинений В. И. Ленина отсутствует даже упоминание о Нечаеве. Не упоминается его имя ни в одном из сохранившихся документов ленинского архива. Однако в воспоминаниях В. Д. Бонч-Бруевича имеются следующие строки:
«До сих пор не изучен нами Нечаев, над листовками которого Владимир Ильич часто задумывался, и когда в то время слова «нечаевщина» и «нечаевцы» даже среди эмиграции были почти бранными словами, когда этот термин хотели навязать тем, кто стремился к пропаганде захвата власти пролетариатом, к вооруженному восстанию и к непременному стремлению диктатуры пролетариата, когда Нечаевва называли — как будто это особо плохо — «русским бланкистом», Владимир Ильич нередко заявлял о том. что какой ловкий трюк проделали реакционеры с легкой руки Достоевского и его омерзительного, но гениального романа «Бесы», когда даже революционная среда стала относиться отрицательно к Нечаеву, совершенно забывая, что этот титан революции обладал такой силой воли, таким энтузиазмом, что и в Петропавловской крепости, сидя в невероятных условиях, сумел повлиять на окружающих солдат таким образом, что они всецело ему подчинились».
«Совершенно забывают, — говорил Владимир Ильич, — что Нечаев обладал особым талантом организатора, умением всюду устанавливать навыки конспиративной работы, умел свои мысли облачать в такие потрясающие формулировки, которые оставались памятными на всю жизнь. Достаточно вспомнить его ответ в одной листовке, когда на вопрос — «Кого же надо уничтожить из царствующего дома?», Нечаев дает точный ответ: «Всю большую ектению». Ведь это сформулировано так просто и ясно, что понятно для каждого человека, жившего в то время в России, когда православие господствовало, когда огромное большинство так или иначе, по тем или иным причинам, бывало в церкви, и все знали, что на великой, на большой ектений вспоминается весь царский Дом, все члены дома Романовых. Кого же уничтожить из них? — спросит себя самый простой читатель. — Да весь Дом Романовых, — должен он был дать себе ответ. Ведь это просто до гениальности!»
«Нечаев должен быть весь издан. Необходимо изучать, дознаваться, что он писал, где он писал, расшифровать все его псевдонимы, собрать воедино и все напечатать», — неоднократно говорил Владимир Ильич.
К сожалению, даже нечаевский «Колокол», который он вел после Герцена и который является действительно библиографической редкостью, до сих пор не переиздан.
И вряд ли найдется один человек из миллиона жителей СССР, который если не читал, то хотя бы видел эти очень интересные произведения, принадлежащие перу одного из самых пламенных революционеров.
Я думаю, что мы должны выполнить завет Владимира Ильича и в этой области — области переиздания классиков нелегальной литературы.[14]
Заветы вождя мирового пролетариата его последователи выполнили лишь частично — они многому научились у Нечаева и превзошли своего учителя, но его цинично откровенных сочинений никто воедино не собрал, издание их не принесло бы пользы новым хозяевам новой империи. Вскоре после октябрьского переворота началось восхваление Нечаева и нечаевшины. «Какая грандиозная фигура, — размышлял историк М. Н. Коваленский, — на пути русской революции! Грандиозная революционная энергия, громадный организационный дар, объявление беспощадной войны всему старому миру, осужденному на гибель, на исчезновение, низложение примата старой буржуазной морали и замена ее новой этикой — этикой революции, для блага народа все средства хороши».[15] Известный коммунист А. И. Гамбаров писал: «Нечаев был революционер, и революционер такого исключительного масштаба, такого пламенного размаха, аналогичного которому трудно найти в истории нашего движения. История знала немало примеров исключительного революционного героизма. Тем не менее на страницах ее нельзя найти хотя бы одного революционера, сколько-нибудь напоминающего собою Сергея Нечаева, В ту отдаленную эпоху, когда движение только что начало выходить на историческую сцену, Нечаев был единственным для своего времени примером классового борца».[16] Выдающийся историк российского освободительного движения Б. Л. Козьмин заявил в 1932 году: «Нечаев будет вполне «реабилитирован» в наших глазах, если нам удастся установить, что условия места и времени, в которых ему приходилось работать, делали неизбежным пользование теми приемами, к которым он прибегал».[17]
Козьмин работал в чрезвычайно тягостных и опасных условиях, вожди большевизма желали видеть Нечаева добрым гением революции, и историку не всегда удавалось говорить то, что он хотел. И все же исследования Козьмина не «реабилитируют» Нечаева.
Когда мы сегодня сталкиваемся с ложью политиканов, законспирированностью их замыслов и действий, шантажом, убийствами, «карательной психиатрией», мафиозностью, политической провокацией, терроризмом разного толка — помните, что это и есть бесовское дыхание нечаевщины. Именно поэтому мы возвращаемся к Нечаеву, чтобы снова рассмотреть его деяния с позиций меняющихся воззрений.
ЮНОСТЬ
В центре Европейской России, между старинными русскими городами Владимиром и Костромой, расположилось родовое владение графов Шереметевых село Иваново. «Пашенных» (земледельческих) дворов в нем почти не было. Жители от мала до велика трудились на сорока восьми фабриках. Годовой оборот ткацких мануфактур превышал десять миллионов рублей, а нищета ивановских рабочих была известна во всей империи. В 1869 году к необычному для феодальной России селу подвели железную дорогу, в начале 1870-х годов разросшееся село Иваново слилось с соседней Вознесенской слободой и превратилось в безуездный город Иваново-Вознесенск.
В метрической книге Крестовоздвиженекой церкви Иванова сохранилась запись о родившемся 20 сентября 1847 года «мужеска» пола младенце:
«Родителями названы Шуйский мещанин Геннадий Павлов Нечаев и законная его жена Прасковья Петрова, оба православного вероисповедания. Восприемниками были: Ярославской губернии. Рыбинского уезда крестьянин Федор Матвеев Лучинский и Шуйской округи деревни Данильцева вольноотпущенная от господ Лазаревых-Станишевых крестьянская дочь Ирина Петрова Тюпкина».[18] При крещении мальчика нарекли Сергеем.
Из регистрационной книги той же церкви можно узнать и об отце Сергея:
«Ковровской округи вотчины помещика Петра Семенова сына Епишкова сельца Колобова от дворовой девки Фатины Алексеевой родился сын Геннадий месяца Генваря 13 дня 1822 года, молитвован и крещен в доме господ их; при том были восприемники: того же помещика Петра Семенова сына Епишкова дети: Павел Петров и Капитолина Петрова».[19]
Епишков при рождении сына не пожелал его признать, не дал ему своей фамилии и даже отчества, а десятилетним мальчишкой продал вместе с матерью помещику Кобликову. В 1834 году Геннадия Павловича Павлова «зачислили в мещанство» как сына вольноотпущенной.[20] До 1840 года Г. П. Нечаев по документам значится то Павловым, то Нечаевым. Отчество он получил от имени крестного отца, как незаконнорожденный, фамилия Нечаев происходит от «нечей».
В свидетельстве о рождении матери Сергея записано:
«Костромской губернии Нерехтинского уезда, сельца Бахматова вотчины малолетних господ Текутьевых дворового человека Петра Ивановича Литвинова дочь девица Прасковья Петрова родилась 1826 года Июля 25».[21]
Господа Текутьевы продали Литвиновых помещикам Аладыкиным. у которых они получили вольную, произошло это до 1846 года. Перестав быть крепостными и приписавшись к мещанскому сословию, Литвиновы из села Бахметово Нерехтинского уезда Костромской губернии перебрались в Иваново.[22]
Первая биография Нечаева опубликована в 1907 году, ее автор использовал не во всем достоверные сведения.[23] После 1917 года появилось несколько крайне тенденциозных исследований, множество статей и отрывочных воспоминаний, с 1931 года о нем почти ничего не печаталось. О детстве и юности Сергея, его жизни в родном селе сохранилось всего несколько документов. Поэтому для получения дополнительных данных о Нечаеве от его рождения до первой эмиграции потребовалось изучить материалы нескольких архивохранилищ.[24] Из ворохов документов фондов частных лиц извлекались отдельные штрихи, позволяющие воссоздать портрет будущего творца «Народной расправы». Работу над первыми главами этой книги затрудняло не только недостаточное количество необходимых сведений, но и избыток лжи, порожденной самим Нечаевым.
Наибольший интерес среди документов, относящихся к детству и юности Нечаева, представляют материалы, хранящиеся в Государственном архиве Ивановской области, письма Сергея из Иванова и короткие воспоминания его родной сестры Фатины Геннадиевны Постниковой, записанные в 1922 году литературоведом Н. Ф. Бельчиковым. Приведу ту часть записи, которая относится к жизни Сергея в родном Иванове. Для удобства чтения в тексте раскрыты сокращения за исключением имен и отчеств: Нечаева — С. Г. и Василия Арсентьевича Дементьева — В. А.
«Родился С. Г. в селе Иванове, на Конной улице, ныне Балаганной, в квартире крестьянки Постниковой, сын которой потом стал моим мужем. Сергей Геннадиевич был старшим в семье; за ним шли две сестры: я и Анна. С. Г. любил меня.
Воспитывались все дети у дедушки и бабушки в Иванове, в том же доме, а отец, после смерти жены (мать умерла, когда мне было семь лет), уехал и служил буфетчиком в трактире Правоверова.
Мать была дочерью крепостных Петра Ивановича и Фелосьи Максимовны Литвиновых, которые выкупились у барина Аладыкина. Мать звали Прасковьей Петровной; она была портнихой; отдана была в ученье до замужества; отец ее еще был крепостным. После выкупа старики переехали в Иваново. Прасковья Петровна не бросила мастерства, она была хорошей портнихой и имела красивую наружность.
Дед (отец. — Ф. Л.) матери был маляром, зимой он занимался расписыванием дуг для крестьян, а летом в церквах — золотил и красил.
Дедов по отцу я не помню; помню одно, что когда я родилась, то дедушка пожелал дать мне имя «Фатины»; такое имя носила его мать. Дедушку звали Павлом.
Через некоторое время старики предложили отцу жениться второй раз. Второй женой отца была портниха Анна Афанасьевна. Отец ввиду этого переселяется в Иваново и помогает деду в малярных работах. Затем, часто в богатые дома приглашали его лакеем подавать чай, закуску. С. Г. очень не любил этого и хотел, чтобы отец этого не делал.
Детей держали в строгости.
Отец, когда ему было лет 9—10, отдал С. Г. в контору Гарелина, Якова Петровича. Служил С. Г. там неделю, и вот ему поручили снести письмо В. И. Чикрыжову, главному заведующему. Была вьюга, С. Г. потерял письмо, дорога была дальняя. Отец узнал о потере, сильно бил С. Г. Это повлияло сильно на С. Г., и он решил избавиться от службы и задумал учиться. Подвернулся учитель, приехавший из Москвы, Василий Арсентьевич [Дементьев]. Я помню его разговоры с Сергеем: «Вот сколько лет тут зря пробегаешь, да от отца побои будешь принимать, лучше учиться». На угол от нашего дома поселился этот учитель, в доме Забелина, где был постоялый двор; к нему стали ходить учиться дети Гандуриных, Борисовых, С. Г., сестра Анна и двое Красковских. Из них Анна Егоровна Красковская жива до сих пор, остальные умерли.
В. А. очень любил С. Г.; В. А. часто ходил к нам, а Сергей к нему. Когда С. Г. уезжал в Москву держать экзамен на учителя, то подарил В. А. шкатулку, которая до сих пор цела у меня: я ее берегу (неточность, вероятно, шкатулку подарили Нечаеву. — Ф. Л.).
В эти годы В. А. надоумил нас устроить театр. Ставили: «Ворону в павлиньих перьях», «Петербургские старухи» и т. д.
Сергей очень хорошо играл, выделялся между другими: мной, сестрой и Красковскими. В. А., видя его способности, опасался увлечения С. Г. театром. В. А. не хотел видеть в нем актера. Хотя Сергей и не увлекался этим делом, но тем не менее В. А. боялся этого и не стал ходить к нам на представления; театр наш прекратился. В. А. очень любил Сергея, говорил, что из него выйдет лучшее, чем артист.
В эти годы С. Г. знакомится с Ф. Д. Нефедовым.
Сергей помогал дедушке раскрашивать дуги. Отец у нас писал вывески, а дедушка не мог. Затем С. Г. играл на флейте, не очень хорошо. Из-за этого ссорился с дедушкой. Дедушке надоедала игра, и он кричал: «Сережа, да ты перестанешь ли? Перестанешь?!» Когда Сергей стал учиться, его перестали заставлять работать. Отец у нас был умный и никому ни в чем не отказывал, а когда Сергей поехал в Москву, то он снабдил его деньгами, бельем. Словом, отец не стеснял его и уважал науку. Против занятий Сергея он не был».[25]
Не все точно в воспоминаниях, записанных со слов семидесятичетырехлетней старухи, она и сама призналась, что многое позабыла.
В холостые годы отец Сергея служил половым в шуйских и ивановских трактирах; женившись, занялся малярным делом в мастерской тестя. Литвиновы и Нечаевы снимали квартиру в доме Красковских по Пятницкой улице, там же располагалась мастерская.[26] После рождения Сергея обе семьи переехали на Конную улицу в дом Постниковых, жили дружно. Помогая тестю, Г. П. Нечаев продолжал прирабатывать и прежним ремеслом. Умение Геннадия Павловича сервировать столы ценили не только в Иванове. Богатые купцы и фабриканты со всей округи приглашали его для устройства свадеб, званых обедов и прочих торжеств. Один из таких обедов описан Геннадием Павловичем в письме к сыну: «…обет был чисто в русском стиле т. е.: по-русски нараспашку на котором говорили разные спичи но потконец обеда спичи дашли до того, что произносительный мог выражаться только так. Ну Господа ну-му-и-да так-ура тем и кончались знаменитые речи одного шампанского Выпито было 80б а о прочих и говорить нечего несмотря на это что было всего 51 персона. Я брал здесь все от себя и сделал как Акционер Бусурин так и я оба очень довольный. Он мне сверх всего прибавил 70 ру. подали на чай Афициантам 30 р. и поварам 25 рублей. <…> Не претендуй на ето что я тебе написал ету дребедень».[27]
Купечество сорило деньгами, Г. П. Нечаев создавал достаток в семье,[28] но заработки эти сделали его запойным пьяницей. Пить он начал после смерти жены, когда Сергею было около восьми лет. Приведу целиком письмо Фатины Геннадиевны. Сверху рукой С. Г. Нечаева написано: «Получил 31 января 1867 года». «Милый Сережа!
Наконец, я решила писать к тебе, и писать письмо самое суровое. Об нашем скверном положении, и буду жаливат на нашего Батюшку. Читай и неудивляйся: вопервых что папаша наш совсем незанимается делом службы а они каждый день пьяны донельзя. И совсем оставили и дом наш; так что мы их совсем не видим разве придут домой на минутку и то не могут стоять на ногах и подымают страшно ругательство. И постоянно играют в карты проигрывают денег очень много так теперь задолжали очень много и каждый день ходят за долгами, и так Милый Сережа мы теперь не имеем ни день ни ночь покоя. И скоро кажетца доживем до того что не будем иметь куска хлеба хоть мы и работаем, но все-таки жить денег недостает на все; теперь нам нужно приготовить в каждый месяц на дрова: у нас в Иванове такая стоит холодная зима что даже и не припомнить такой зимы.
Теперь осталось передать тебе что мы находимся в очень затруднительном положении, прошу тебя Милый Сережа напиши папаше письмо только посерьезнее может быть он тебя и постыдятца ну а нас совершенно ничего не слушает. Прощай мой Милый будь здоров и счастлив. Мамаша тебя кланетца и тоже просит чтобы ты написал».[29]
Сергея, родившегося в семье мещан-ремесленников из захолустья, ожидала участь деда и отца. Он очень рано начал помогать старику Литвинову. Ближайший из юношеских друзей Нечаева, В. П. Смирнов, рассказывал, как Сергей вместо деда раскрашивал пунцовым цветом дуги лошадиных упряжек, а тот, «сильно любивший выпить, выгодно продавал разноцветные дуги на базаре».[30] Из маляра подросток превратился в полотера, помогла «протекция» отца, водившего знакомства с купеческой и фабричной знатью. Через отца Сергей познакомился с фабрикантом А. Ф. Зубковым, дававшим ему в 1869 году деньги на «революцию». С четырнадцати лет Геннадий Павлович брал сына на купеческие «банкеты» мальчиком-официантом, а его еще тянуло к детским развлечениям. «Любимой нашей задачей, — вспоминал В. П. Смирнов, — была игра в сражения и в деньги. Мы вырезали из картона солдат, расставляли две армии — одну против другой — русских и гурок, и С. Г. палил в турок горохом. Приходя с купеческих свадеб, С. Г. приносил множество серебряных и золотых печатей, срезанных с бутылочных головок; к этим «деньгам» мы добавляли писаные бумажки. Таким образом у каждого из нас накапливался собственный капитал».[31] Прислуживание на «банкетах» не могло пройти бесследно для самолюбивого юноши, не могло унизительное положение отца, окруженного пьяными разнузданными богачами, не повлиять на формирование характера сына, видевшего, как отец зарабатывает семье на пропитание.
Сильнейшее воздействие на Сергея оказало его знакомство с Василием Арсеньевичем Дементьевым. Автор рассказов из народного быта, сотрудник журнала «Воспитание», «домашний учитель» Дементьев поселился в Иванове в 1858 году, давал частные уроки, в 1861 году «был утвержден учителем женского училища 2 разряда в Вознесенском посаде».[32] В декабре 1860 года граф Н. Д. Шереметев ходатайствовал перед смотрителем приходских училищ Шуйского уезда об открытии в доме Первого приходского ивановского училища воскресной школы «для обучения в ней грамоте ремесленников и рабочих, а равно людей других сословий».[33] Школу открыли 12 марта 1861 года, но уже 1 июля 1862 года ее пришлось закрыть — губернское начальство завалили доносами.
Сергей брал уроки у Дементьева еще в 1858 году, в школу пришел вполне грамотным. Там он не только учился, но «допущен был к раздаче книг ученикам школы и приему книг от них».[34] После закрытия школы Дементьева вынудили покинуть Иваново: причудился обывателям неблагонадежным, к тому же неумеренно попивал. Позже Дементьев возвращался в Иваново, его вновь изгоняли. Последние годы он безвыездно жительствовал в Москве. Сохранилось одно короткое письмо учителя к ученику, оно написано вскоре после переезда Нечаева в Москву летом 1865 года.
«Милый друг Сережа!
Я здесь. Дней через пять-шесть буду в Москве, и, разумеется, прямо к тебе. Ты будешь моим руководителем и наставником в деле нравственности. Я, брат, больно опустился — свежие натуры, как твоя, мне одно спасение. Кланяйся Филе <Ф. Д. Нефедов. — Ф. Л.) Весь твой.
В. Дементьев».[35]
Грустное письмо. Оказывается, восемнадцатилетний ученик располагал некоторым влиянием на тридцатишестилетнего учителя. К ивановским ученикам Василия Арсентьевича следует отнести старшего товарища Сергея и близкого друга в его юношеские годы Филиппа Диомидовича Нефедова, этнографа, публициста, известного писателя-народника, редактора газеты «Русский курьер», секретаря Общества любителей российской словесности.[36] Под влиянием Дементьева Нефедов вопреки воле отца, желавшего «приладить» сына к «прилавку», в конце 1863 года покинул родное Иваново и поселился в Москве, через полтора года к нему присоединился Сергей.
Сохранилось четырнадцать писем Нечаева Нефедову, отправленных из Иванова в 1863–1865 годах. Приведу из них наиболее содержательные отрывки:
16 декабря 1863 года. «Вы спрашиваете меня в своем письме об моих занятиях, вот они: непременно два дня где-нибудь служба, в остальное время я читаю. С. Д. Кукушкин позволил мне выбрать книги из его библиотеки; Василий Арсентьевич писал, чтоб я занялся с Бириным, раза 2 в неделю я хожу к нему; еще я учусь играть на старой изломанной флейте, которая недавно попала ко мне в руки; вот и все мои занятия».[37]
26 января 1864 года). «В последнем письме вы говорите, чтоб я не печалился. Я и то не печалюсь. А все-таки в другой раз подумаешь… что-то гадко.
Вы мне пришлите пожалуйста поскорей программу для гимназии-то, я подумаю, как-нибудь может и уладится. Да напишите, что и как об чем я вас просил. <…> Библиотека в Иванове процветает, слишком 8 человек подписчиков. Книги хоть и не очень-то… «Ну да ведь нам, — говорит Агафон, — для приказчиков-то не Бокля выписывать, с ума спятят, заважничают. За то как в библиотеку взойдете, так уж чудо: лампы то по стенам и стулья то все решетчатые». Что говорить товар лицом, гривенник за вход. <…> Я занимаюсь, в праздники читаю, недавно прочел Грановского и Бокля.
Вот обдумаю все хорошенько да распределяю все предметы для ежедневных занятий до августа.
Трудно только мне Филипп Диомидович из алгебры одному. Ну да все-таки подвигаюсь».[38]
Книга выдающегося английского социолога Генри Томаса Бокля «История цивилизации в Англии»[39] впервые напечатана в России в 1863–1864 годах. В ней изложена история «умственного развития» человечества на примере Англии, Франции, Испании и Шотландии и предпринята попытка поиска общих законов развития человечества. Конечно же, Нечаеву слишком рано было ее читать. Для знакомства с подобной литературой требуются глубокие знания и установившиеся взгляды, иначе ее чтение способно исказить некоторые весьма важные представления. Сегодня Бокль и его книга основательно забыты, но сразу же по выходе книга пользовалась огромным успехом. Ее читали многие шестидесятники; например, ишутинец Ф. А. Борисов после чтения Бокля понял, что «никакие насильственные меры и перевороты не могут улучшить положения народа». Во все времена одно и то же люди понимали по-разному, одно и то же на разных людей действовало по-разному; иногда результаты достигались абсолютно противоположные.
Что именно из сочинений Т. Н. Грановского читал Нечаев, мы не знаем. В ивановский период его влекло к трудам этого крупнейшего историка и мыслителя, оказавшего огромное влияние на формирование либеральных и даже радикальных взглядов в русском обществе западнического направления, но бесконечно далекого от будущего Нечаева и других сторонников «политического социализма».
Не удивительно ли, что в славившемся дикими нравами захолустном селе, состоявшем из грязных бараков для рабочих, в селе, где самыми образованными людьми слыли приказчики и челядь из купеческих лавок и домов, юноша, мать которого родилась и выросла крепостной, а пьяница отец прислуживал в трактирах, все свободное время между «банкетами» употреблял на изучение Бокля и Грановского?
Продолжим чтение писем Нечаева Нефедову.
«Вы упрекаете меня за бессодержательность писем. Это вина не моя, что делать, если ивановцы сидят неподвижно в своих логовищах и не выходят на сцену. Ни одного явления ни радующего, ни возмущающего душу. Черт знает, в последнее время какая-то вдруг сделалась сдержанность у ивановиев, спячка. Просто ровно ничего нет нового. Отчего это происходит, я уж не берусь объяснять».[40]
Хороший стиль, образно написанное письмо. Ощущается сжатая пружина молодой энергии.
«Я занимаюсь усиленно, да иначе и нельзя: шишковатая дорога, по которой я иду, подталкивает и подстегивает меня так, что чудо.
Действительность очень неделикатно щупает меня своими неуклюжими лапами и заставляет делать громадные прыжки. Эх! как бы поскорее улизнуть-то отсюда.
Впрочем, это знакомство с действительностью полезно, оно не позволит мне погрузиться в апатию и созерцать прелести мира: постоянный анализ окружающего дает верное понятие о своих силах.
Что ни говорите, а по кочкам-то пойдешь все-таки шибче, а то и мозоли натрешь.
Держись только голова; натиск лют и гнев велик, раздавайся!
А окружающее-то как валится, господи! Люди, которые были для меня светилами, оказались блудящими огнями».[41]
Нечаев не сообщил и даже не намекнул, в каких именно «светилах» ему пришлось разочароваться.
6 марта 1864 года. «Мой милый Филипп Диомидович.
С постом, с постом! вас поздравляю, не знаю, как у вас в Москве, у нас в Иванове, т. е. в чертовом болоте, хотел я сказать: скука страшная, снег тает, на улицах лужи, везде течет, льет, каплет, не видно ни души человеческой, но за то царство животных наполняет теперь каждый закоулок, всякий наслаждается по-своему: свиньи валяются в лужах, куры роются в навозе, собаки бегают целыми бандами, только коровы прогуливаются со степенностью и важностью, свойственной Ивановским купцам».[42]
Выделенные в тексте слова соответствуют названию сатирического очерка Нефедова, посвященного нравам ивановских обывателей.
8 января 1865 года. «Вчера у меня ночевал Аладыкин — студент, про которого я вам говорил летом. Мы с ним много говорили, он советовал мне поступать в 6-й или 7-й класс гимназии на казенный счет, как он делал сам.
А потом, говорил он, после легкого гимназического экзамена, поступать в университет.
По его словам, экзамен для гимназии гораздо легче, а в гимназию подготовиться можно лучше.
Я долго думал об этом и нашел его совет довольно полезным для меня. Как вы думаете, мой милый Ф. Д.? посоветуйте же, пожалуйста.
Не говоря уже о более легком экзамене, гимназия выгодней для меня еще тем, что я мог быть нисколько не обремененным для домашних. В 6-Й класс я могу поступить нынче летом, это было бы очень хорошо, потому что в семействе смотрят на меня, как на трутня. А в университет приготовиться в год нет никакой возможности, стало быть, я должен буду пробыть еще год дома на попечениях моих родных, что для меня очень прискорбно. Нужно прибавить еще к этому, что в Иванове готовиться одному без руководителей очень трудно, в особенности из математики.
Пожалуйста, мой милый, подумайте об этом и во всяком случае пришлите мне программу, что нужно знать для поступления в 6-й класс. Да напишите мне о всем том, что нужно иметь для поступления в гимназию. Нужно ли выключиться из общества мещан? Пожалуйста, разузнайте все это и напишите поскорей.
Папаша хотя ничего не говорит, но я вижу, что он сильно желает, чтоб я поскорей отправился куда-нибудь. Успехи в моих занятиях следующие: Из русской истории: до Петра. Из всеобщей: древнюю и половину средней. Краткую географию Корнеля знаю отлично. Риторику и Пиитику изучил. В алгебре дошел до возвышения в степень. В геометрии — до половины. Из латинского — 1 курс и половину второго. Из французского могу переводить небольшие места.
Из немецкого еще плохо. Из словесности кончил народную литературу. Из поэзии до римского эпоса».[43]
Это последнее письмо Нечаева Нефедову, отправленное из Иванова. Студент Аладыкин, вероятно, внук костромских помещиков, у которых дед и бабка Сергея, Литвиновы, были когда-то крепостными. Вопрос о том, нужно ли «выключиться из общества мещан», связан с желанием Сергея учиться в гимназии на государственный счет. Судя по дальнейшим поступкам отца, Геннадий Павлович желал не избавиться от лишнего рта, а переживал за непонятное для него будущее восемнадцатилетнего сына. Он трогательно заботился о Сергее, верил в него и старался, чем мог, помочь сыну. Из перечисления изученных, по мнению автора письма, предметов можно представить, какими знаниями он располагал. Сохранилось 28 писем отца к сыну, приведу одно из первых его писем к Сергею, уехавшему из Иванова в Москву.
«1865 год. Сентября 6 утро Милый Сережа
Получив и второе от тебя письмо некоторого видно что ты здоров и это Слава Богу. Я весьма рад болие ничего не видно. А о посылках которых ты говорил переслать подумай об наших ивановских Свиньях может разве кто это зделать мы попросили ту фрю А. К: Куда тебе ни зачьто в таком случае я хочу к тебе побывать Сам и что нужно привезу. Поето-му я буду ожидать отебя ответу наверное при первой же почте если только свободно будет тебе написать то я готов все для тебя зделать так прошу тебя осмотреться что еще нужно бога ради не стесняйся опиши все подробно если нужны и деньги нужда ето что они везде и всегда нужны а как я приеду сам то верная оказия к тебе если переедешь на квартиру то нужен и Адрес. Мы все очень рады что ты уехал от Нефедова потому что наша бабушка ужасно подружилась с А. К, и строят порядочные сплетни. Семейство наше тебе все кланяется Фотя Аннушка и володя как клоп и мамаша знакомые тоже <…>[44]».
Отношения в семье были явно доброжелательные. Письма отца и сестер к Сергею наполнены сообщениями об отправке ему денег, белья, подушек. В Рукописном отделе Института русской литературы находятся более сорока писем родных и всего два письма Сергея. Все они поступили туда вместе с архивом журнала «Русская старина», попав в него с бумагами Нечаева, оставленными в России при отъезде в эмиграцию. Из двух сохранившихся писем к родным — одно не было отправлено, второе, судя по множеству помарок и иным небрежностям, является черновиком. Возможно, письма Сергея к родным отобраны при обыске или уничтожены отцом в 1870 году. Такое предположение имеет косвенные подтверждения.
Знания Сергея, охарактеризованные им самим в письме к Нефедову от 8 января 1865 года, явно недостаточны для поступления даже в шестой, предпоследний, класс гимназии: лишь с географией дела его обстояли удовлетворительно, все остальные предметы до конца не пройдены, изучение физики он даже не начинал. Из писем видно, сколь тяжело давалась ему учеба, какое упорство и целеустремленность проявил он при этом. Каждое письмо к Нефедову сопровождалось просьбами о присылке учебников и программ, заботой о своевременном расчете за сделанные для него покупки. Денег на приобретение книг для Сергея не жалели.[45]
Отношение Нечаева к Нефедову в этот период времени — чрезвычайно уважительное, он регулярно читал очерки и рассказы старшего товарища, радовался его успехам. Желание Сергея вырваться из Иванова, поступить в гимназию или университет неизменно росло. В каждом письме заметно взросление автора, углубление его знаний, появление новых интересов. Бросается в глаза теплота, с какой он относится к старшему товарищу, но и обращают на себя внимание два странных обстоятельства: нет ни одной просьбы о приобретении и присылке произведений русских и западных классиков (можно предположить, что Сергей брал книги в ивановской библиотеке, но в письмах нет ни строчки об их прочтении); отсутствуют хоть какие-нибудь намеки на социальное неравенство, на невыносимое положение рабочих и крестьян, на тягчайшее их существование, о котором Нечаев так любил впоследствии поговорить, а ведь адресат был, безусловно, левых взглядов, и обсуждать с ним подобные темы было вполне уместно.
Независимо от того, достаточно ли Сергей успел овладеть математикой, изучил или нет физику, его грамотность не вызывает сомнений. Читать и писать он начал не позднее одиннадцати лет. Однако, появившись в Петербурге, Нечаев доверительно сообщил новым знакомым, будто лишь в шестнадцатилетнем возрасте начал самостоятельно постигать грамоту. Ему казалось, что соратники по столичным студенческим кружкам проникнутся к недорослю особенным почтением: ничему нигде не учился — и столько знает! Тогда же он рассказывал, что родился в семье неимущего крестьянина, и поэтому ему происхождением предопределено лучше всех знать и понимать простой народ. Ложь не прибавила Сергею авторитета, но, превратившись в легенду, проникла в серьезные исследования. Так, известный историк С. С. Татищев, служивший в Министерстве внутренних дел и превосходно знавший архив III отделения, писал: «В детстве своем он (Нечаев. — Ф. Л.) не посещал никакой школы и выучился грамоте лишь на шестнадцатом году от рождения. Поступив в услужение к Порфирию Певницкому во Владимир, он был прогнан им за воровство».[46] Сведения об «услужении» Певницкому оставим на совести Татищева. В этот год письма в Москву Сергей слал из Иванова, а не из Владимира.
Сохранился еще один документ, относящийся к ивановскому периоду жизни Сергея, — показания учителя А. О. Капацинского, сделанные 29 мая 1869 года после ареста,[47] виновником которого был Нечаев. Читателю следует помнить, что текст их писался в III отделении Собственной Его Императорского Величества канцелярии.
«В 1864 г. я жил в Иванове, занимался частными уроками и в то же время приготовляясь к поступлению в Университет. Знакомые, с которыми я успел сойтись, посоветовали мне познакомиться с Сергеем Нечаевым, который, как говорили, тоже готовился идти в Университет. На первых порах нашего знакомства все шло хорошо: занимался он усердно, был всегда точен, что заставляло и меня внимательнее относиться к своему делу; знал он немного, больше молчал в общих разговорах, как будто наблюдая спорящие стороны, а в самом-то деле (как оказалось из последних наблюдений) боясь проговориться. В это время я составил о нем такое понятие: это мальчик (ему еще не исполнилось 17 лет), даровит, серьезно относится к своему делу, обладает очень сильною настойчивою волею (он работал около 12 часов каждые сутки). В это время я не предполагал, что он скрывает от меня что-либо, и что если видит что-нибудь худое во мне или других, то прямо высказывает это мне — как это обычно бывает между близкими товарищами. Осень 1864 г. и зиму 65-го я прохворал и не мог за ним угнаться, особенно в языках и в математике. Поэтому летом 1865 г. (в августе) он мог отправиться в Москву, а я считал себя еще не готовым, да и денег у меня не было».[48]
Скрытность Нечаева, как характерная его черта, уже проявлялась, например, в том, что в письмах к Нефедову о Капацинском почти не упоминается, а ведь они целый год вместе готовились к экзаменам. Нефедов хорошо знал Капацинского и был расположен к нему доброжелательно.
5 августа 1865 года в шуйскую городскую думу поступило прошение, в котором говорилось, что «с согласия родителя моего Шуйского мешанина Геннадия Павлова Нечаева Я желаю поступить для образования в какое-либо высшее учебное заведение, а потому, представляя при сем письменное уведомление родителя моего о согласии его на поступление мое в высшее учебное заведение, покорнейше прошу Городскую думу снабдить меня для сего увольнительным свидетельством <…>».[49]
В тот же день проситель получил увольнительное свидетельство.
В Москву Сергей приехал летом 1865 года. Точная дата его появления в Первопрестольной неизвестна. Судя по цитированным выше письму отца, увольнительному свидетельству и показаниям Капацинского, Нечаев оказался в Москве в первой половине августа.[50] Мы располагаем тремя документами, позволяющими в самых общих чертах восстановить этот период его жизни.
Вскоре после прибытия в Москву Сергей познакомился со студентом университета П. И. Махиным. В своих показаниях, написанных 2 июня 1869 года[51] по требованию начальника Московского губернского жандармского управления, генерала И. Л. Слезкина, Махин сообщал о Нечаеве следующее:
«С Нечаевым я встретился назад тому 2 года (Махин забыл, 4 года. — Ф. Л.), или несколько более, в Москве следующим образом. Я в то время был в Университете и часто на лекциях встречался с вольнослушателем Нефедовым, а вскоре по дешевизне номеров, где квартировал (дом Ностиц — на Дмитровке, в номерах Романникова), занял один из номеров рядом с его. У него-то в это время встретил некоего Нечаева, готовящегося держать экзамен на домашнего учителя и уроженца с. Иванова, откуда сам был родом и Нефедов. Нефедов мне говорил, что Нечаев очень беден, и общая квартира была бы для него удобною. Ради соблюдения собственного интереса и экономии я согласился занять общий номер с Нечаевым и прожил вместе месяцев 4 или 6. В это время Нечаева посещал только Дементьев, его бывший учитель в с. Иванове и бывший в то время секретарем М. П. Погодина. <…> К концу нашей 5-месячной жизни Нечаев перешел жить на месяц к Погодину в качестве секретаря. Возвратясь оттуда, мы с ним серьезно поссорились по той причине, что он вышедшего из корпуса моего брата хотел подчинить своему влиянию не в смысле политическом, а в домашних отношениях; просто обижал его. Вследствие ссоры и получа из дому деньги, — кажется 25 руб., — он уехал в Петербург, не сказав мне даже, с какой целью, и даже не рассчитавшись со мной, ибо остался должен мне 6 рублей за квартиру, которые и доселе не отдал. Во время нашей обшей жизни он хлопотал более всего о получении диплома на звание учителя, так как он был в крайности и никакими политическими затеями не занимался, а потому и со мною о них разговоров не имел. Уехал он, на меня рассердившись очень сильно, и переписки не вел, что делал в Петербурге, не знаю, а почему пишет письмо, если это только он пишет, не могу понять. Разве только с целью насолить мне и скомпрометировать меня перед правительством».[52]
Дополним рассказ Махина показаниями Капацинского: «В Москве поступил он (Нечаев. — Ф. Л.) к М. П. Погодину (по знакомству с его письмоводителем) для подготовки к сдаче экзамена на звание уездного учителя. У Погодина он кое-что переписывал и проживал за это бесплатно».[53] По утверждению студента П. И. Махина, Нечаев жил у Погодина один месяц и исполнял обязанности секретаря.[54]
Разумеется, после получения показаний Махина и Капацинского политическая полиция обратила свои взоры на профессора Погодина и его секретаря (письмоводителя). 11 июня 1869 года генерал-майор Слезкин подписал следующую справку:
«Дементьев Василий Арсентьевич, студент Духовной академии кончивший курс богословия, более 20 лет в качестве главного сотрудника у проф. Погодина во всех литературных его занятиях направления либерального и в благонадежности в политическом отношении сомнителен. Дементьев пьет запоем по несколько недель и иногда пропивает с себя всю одежду и потом уже является к Погодину».[55]
Для характеристики сложных отношений между Погодиным и его «главным сотрудником» приведу три короткие записки Дементьева:
«Сделайте милость, батюшка Михаил Петрович, пришлите мне перед обедом стакан водки побольше, работу в комнату, чернильницу и перо, и я хоть умру, а не выйду из комнаты и примусь за работу. А тяжко мне».[56]
«Я ночевал у Вас на кухне две ночи. Третий день трезвый. Господь может помочь нет ли у вас какой работы, которую хоть на кухне можно работать, конечно не кухонной, кухню я не знаю. Или скажите что-нибудь доброе. А в этом костюме в доме у Вас нельзя работать».[57]
«Не могу выразить, как вы утешили меня и подняли мой дух, добрейший Михаил Петрович! И как пришлось — ныне день моего рождения — 42 года стукнуло. Пора, пора за ум взяться. Сто раз благодарю Вас. Я пробуду еще недельку здесь. Нельзя ли исполнить, о чем я просил Ивана Михайловича? Первые номера «Русского вестника» прислать и штаны <…>. Чаю и сахару нет, но это не беда».[58]
Бывали записки чудовищно дерзкие и несправедливые, но Погодин прощал Дементьеву все. Михаил Петрович родился крепостным, дворянство получил с университетским дипломом, тяготы жизни знал.
Жандармам не было нужды в кропотливом изучении благонадежности известного историка, писателя и публициста, профессора М. П. Погодина, его верноподданническое «направление» в политическом отношении не могло вызывать сомнений. Следов показаний или допросов Погодина в архиве III отделения не обнаружено, но, безусловно, беседа с высокими полицейскими чинами у него состоялась. Ее отголоском можно считать намерение Погодина поместить в одной из московских газет очерк о Нечаеве. От замысла сохранился лишь черновой автограф наброска, не подвергавшийся редактированию и содержащий по нескольку вариантов одних и тех же мест. Он трудно читается, нуждается в литературной обработке и уточнениях. Приведу ту часть записки Погодина, которая более всего может заинтересовать читателя;
«О Нечаеве (письмо в Редакцию)
У меня в продолжение лет тридцати временами проживал некто В. А. Д. (В. А. Дементьев. — Ф. Л.), костромской семинарист, имевший звание домашнего наставника, — человек честный, благонамеренный, образованный, но подверженный несчастному пороку (пьянству. — Ф. Л.) и болезни. Несколько раз я имел случай упомянуть о нем в своих статьях. Когда он живет у меня, то исправляет должность корректора и переписывает мои статьи, так как разбирает их лучше всех, привык к моему перу и образу писания. Лет 10 или 12 назад он вздумал оставить Москву и устроить училище в селе Иваново, просил меня снабдить его нужными книгами. Я одобрил его намерение, и он отправился, устроил училище и должно быть очень хорошее, судя по его письмам. Через год он уведомил меня, что к нему попал крестьянский или мещанский мальчик с отличными способностями. «Я хочу заняться им особенно. — писал он, — и если мне удастся его приготовить, то я тоже надеюсь сослужить службу». Но по прошествии времени он написал, что мальчик не годится для учения, показывает совсем другие наклонности и что он с ним расстался. Еше прошло несколько времени, училище распалось, сам он приехал из-за своей болезни и опять ко мне. Прошло лет пять, он приходит ко мне и говорит: — Михаил Петрович, мальчик, о котором я когда-то писал к вам, приехал в Москву, и хочет приготовиться к университету. Ему теперь уже 15 или 16 лет (в 1865 году Нечаеву было 18 лет. — Ф. Л.). Нельзя ли ему жить со мною?
— Пожалуйста, — ответил я. Мальчик переехал к нам и начал приготавливаться к экзамену.
Жена моя вызвалась учить его по вечерам по-французски. Но не прошло двух или трех недель, как я увидел, что из мальчика прока не будет: он уходил со двора, не ночевал дома, отвечал резко и грубо, а жена моя заметила из разговора двух племянников, живших у меня мальчиков, что-то новое и нехорошее, приписанное ею новому лицу в доме. Я призвал его к себе и сказал:
— Так не учатся, ты видишь, что мы хотели принести тебе пользу, но и так жить нельзя, а потому тебе оставаться в моем доме больше нельзя, ты можешь отправляться, куда тебе угодно.
Прошло еще лет пять — вдруг в описании беспорядков между петербургскими студентами я встретил имя Нечаева, как главного зачинщика, и вспомнил, что вышеописанный мальчик прозван также Нечаевым, Д. был тогда здоров и жил у меня, я показал ему газетное описание и спросил его:
— Уж не тот ли это Нечаев, которого ты знал?
— Тот самый, — ответил он».[59]
Приехав в Москву летом 1865 года, Нечаев остановился у Нефедова, но через некоторое время по каким-то причинам покинул его жилище.[60] Возможно, Нефедов сам отказался от совместного проживания с Сергеем, расстались они полюбовно и в дальнейшем сохранили добрые отношения.[61] Прожив у Нефедова около месяца, Нечаев в сентябре 1865 года перебрался к Махину, от него в конце февраля 1866 года—к Погодину и в марте обратно к Махину. На конверте письма Капацинского от 1 января 1866 года имеется следующий адрес: «В Москве в Салтыковском переулке, в доме Яблокова, в номерах Романникова, Сергею Геннадиевичу Нечаеву».[62] Этот адрес почему-то отличается от приведенного в показаниях Махина, вероятно, Махин запамятовал. Переехав к Погодину, Сергей поселился в том самом доме, где за четверть века до него жил студент А. А. Фет, а в «антресольном этаже», посещая Москву, останавливался Н. В. Гоголь.[63] Но эта перемена места жительства не продвинула Нечаева в подготовке к успешной сдаче экзаменов. Пытался ли Сергей поступить в университет, мы не знаем.
В Москве что-то произошло с Нечаевым, сильнейшим образом повлияло на него, заметно изменило взгляды или обнаружило глубоко в нем таившееся. Он рвался в Москву, чтобы поступить в университет, и вдруг… перемена намерений и попытка сдачи экзамена на звание уездного учителя. Он должен был готовиться к экзаменам не разгибаясь, не поднимая головы от учебников: настал тот самый решающий момент, которого он ждал, ждал страстно. Все без единого исключения друзья и враги Нечаева главнейшими его чертами отмечали необыкновенную энергию, настойчивость, упорство и честолюбие. И вдруг такой неожиданный срыв… Что же могло произойти? Знакомство с кем-то из друзей Нефедова или Махина, кто мог ошеломляюще повлиять на юношу, возможно, встречи с новым, неизвестным ему Нефедовым. Быть может, попав в бывшую столицу империи, он вдруг впервые столкнулся с людьми, о существовании которых не подозревал, ощутил ничтожность своих познаний и понял, что никакие науки ему встать на ноги (в его понимании) не помогут. Ну университет, а дальше что?. Ни средств, ни покровителей у него нет. А что есть? Да ничего, кроме жгучего, беспокойного желания запрыгнуть куда-нибудь повыше, а куда, он и сам тогда еще не знал. Если предположить, что в своем наброске желчный Погодин существенно исказил происшедшее и многое обстояло иначе, то в главном он прав — Нечаев не подготовился к экзамену или не подготовился как следовало. Капацинскому Сергей сообщил, что «экзамен длился очень долго (от февраля, как он писал, до апреля) и вышел неудовлетворительным».[64] Обозленный, Нечаев на несколько дней появился в Иванове, оттуда в конце апреля 1866 года отправился в Петербург и в августе успешно сдал экзамен на звание городского приходского учителя. Теперь можно было приехать домой не стыдясь, а московские неудачи отнести на счет невежественных придирчивых экзаменаторов, в столице-то его оценили по заслугам… Ничего, что экзамен сдан не в университет, а на учителя, в университет можно записаться вольнослушателем, еще и лучше.
До начала занятий опьяненный победой Сергей примчался в Иваново, показал восторженной родне грамоту учителя, уговорил Капацинского ехать в Петербург держать экзамен. Осенью Нечаев вновь появился в родном доме проездом во Владимир, где ему предстояло пройти практику. После стажировки во Владимирском приходском училище Сергей направился в Петербург для определения на постоянное место службы. Юность закончилась, с ней закончилась прежняя жизнь провинциала, рвавшегося к знаниям. Выбор другого пути требовал других черт характера. Вскоре мы увидим, как в Сергее начнет проглядывать нечто иное, чуждое юному провинциалу.
Трудно, чаше невозможно уловить момент и причины, по которым одни становятся созидателями, другие — разрушителями, одни стремятся к совершенствованию знаний, другие идут в конспиративные сообщества. Трудно, чаще невозможно определить, какие причины влияют на выбор пути. В следующей главе читатель узнает, когда Нечаев сделался революционером. Многие такие же, как он, формировавшиеся в подобных условиях, прожили иначе, в их головах звучали иные марши, уведшие их в иные дали, противоположные тем, куда устремились Нечаев и ему подобные.
ПЕТЕРБУРГСКИЕ БАТАЛИИ
От петербургского периода целиком сохранилось лишь одно письмо Нечаева к родным. По каким-то причинам оно не было отправлено. Приведу его текст полностью:
«С.-Петербург
3 сентября [1866 г.]
Батюшка и матушка!
Пожелав вам от души побольше радостей, счастья и денег, я прошу вас извинить мое долгое молчание, причиной которого была прежде всего непрочность моего положения, которое ежечасно могло измениться; так, например, дней пять тому назад, я чуть было не отправился верст за 300 из Петербурга в город Гдов (глухой городок С.-Петербургской губернии), куда было меня назначили учителем. Слава Богу, я успел избавиться от такого неприятного назначения и теперь буду ожидать вакансии в Петербурге, в котором по случаю холеры все учеб[ные] заведения открылись только 1-го Сентября. Как вы поживаете, здоровы ли вы — вот о чем я давно уже хочу спросить вас. Благодарю за все то, чем вы меня снабдили перед отъездом. Обо мне больше не беспокойтесь, потому что теперь моя очередь, чтобы беспокоиться об вас.
На Государственную службу я не пойду до тех пор пока не найду место здесь в Питере. Дворянство мне не нужно, я не из тех людей, которые восхищаются им.
Я здоров, чего и вам желаю. Здесь чувствуется уже наступление зимы: погода начинается отвратительная, морские ветры и дожди портят и без того холодный и короткий день.
В августе петербуржцы были заняты осматриванием Американской эскадры, приплывшей к императору с изъявлением дружеских чувств от Америки. В газетах так много писали обо всем этом, что вы, вероятно, знаете подробности. Здесь ежедневно начиная с утра несколько пароходов, увешанных флагами, едва успевали перевозить целые тысячи народа с набережной Невы в Кронштадтский рейд, на Американские плавучие батареи, совершившие такое громадное путешествие. И простой народ, и знатные барышни, и модники, я думаю со всего Петербурга перебывали там. Уморительно было смотреть, как американские матросы, не умеющие ни слова по-русски, объяснялись с русскими посетителями, жали им руки, радушно угощая их своими заморскими бисквитами, испеченными в Нью-Йорке. Наши купцы и приказчики потчевали их со своей стороны за это горстями медных монет и дивились, что Американцы в неудовольствии отворачивались.
Посылаю поклон сестрам и бабушке с дедушкой; желаю вам и им всего хорошего. Будьте здоровы и не забывайте любящего вас.
С. Нечаев
Адрес мой пока тот же».[65]
Письмо написано очень четким красивым почерком и легко читается. Рассуждая о дворянстве, Сергей имел в виду возможность его получения одновременно с соответствующим чином, дающим на это право, или дипломом об окончании университета.
По возвращении из Владимира Нечаев получил место учителя младшего класса в двухклассном Андреевском приходском училище при соборе Святого Андрея Первозванного, где он преподавал Закон Божий.[66] Учителю полагалась казенная квартира с отоплением и освещением. Сохранилось письмо, на почтовом конверте которого отчетливо читаются адреса отправителя: «Вознесенский посад 19 апр. 1867» и получателя: «В С.-Петербурге в 7-й линии Васильевского острова в Здание Андреевского училища. В квартиру учителей учителю Милостивому государю Сергею Геннадиевичу Нечаеву».[67] Кто-то помог полуграмотным старикам Литвиновым написать красивым писарским почерком это трогательное послание:
«Христос воскрес
Милый наш внук Сергей Енадивич желаем вам быть здоровым и во всех ваших делах Скорова и щаслиага успеха и нижайши вам кланяемся и благодарим вас за вашу кнам память и расположение что вы нас Стариков не забыли в Своей памяти и мы тоже завсегда обвас думаем и болим Сердцем. Если когда о вас нет долго к нам ответу то мы думаем чего бы неслучилось бы вами храни боже вашу жизнь и мы только услышав об вашем здоровье и за вас молим бога прощай мылой Сережа хотелось написать побольше не удалось написать пришел Енадий Павлович и я неуспел написать прошай милой Сережа остаемса живы и здоровы П Ф Л».[68]
Продолжим чтение показаний Капацинского: «Осенью получил он место в Андреевском училище и в письмах советовал мне поскорее сдать экзамен, а не то, говорит, ты прокиснешь; я указывал ему на необходимость иметь в Петербурге какую-нибудь работу и просил его поискать чего-нибудь подходящего, на что он отвечал в общих выражениях: «посмотрим», да «как же найти работы — это возможно». Наконец, перед масленицей он пишет «приезжай». Полагая, что он отыскал мне работу, я отправляюсь и нахожу его очень изменившимся: в нем явилась какая-то формальность, начались отношения, какие бывают между людьми, знакомыми шапочным образом. Я приписывал это продолжительной разлуке и старался разгадать, что за перемена произошла в нем. Но он заключился в себе, занимался отдельно в кабинете, который на время отлучек запирал, ни слова не говоря, куда уходит, — да и мне-то, признаться, оставалось свободного времени очень мало (я готовился к экзамену) и поэтому ничего не узнал и не разгадал. Время тянулось, отношения наши были все натянуты и даже ухудшились; нередко я заговаривал насчет работы, а он отговаривался такими фразами: посмотрим, да погодим. Наконец, я сдал экзамен в июне, а он ни слова; наконец, однажды сообщает, что есть место уездного учителя в Петергофе, но что нужно сдать экзамен на это звание. Я опять начал готовить ся, он, видимо, тяготился мной; это меня очень бесило, но нечего было делать».[69]
Капацинский оказался на иждивении Нечаева и попал в полную от него зависимость, приходилось терпеть. Сергей сам еще недостаточно зарабатывал и существенную помощь получал из Иванова. «Папаша тебе кланялся, — писала Фа-тина, — и посылает тебе денег 35 рублей серебром он бы сам написал да никак неслободно <…>».[70] Примерно в это же время отец писал ему: «<…> посылаю тебе одеяло две простыни, почтаники и сорочку».[71] Во всех письмах чувствуется забота родных о Сергее и волнение за его будущее, а он взял Капацинского фактически на их содержание.
Служа в Андреевском училище, Нечаев поступил вольнослушателем в столичный университет и возобновил самостоятельные занятия. Сохранились некоторые записи Сергея, сделанные на клочках бумаги, среди них фрагменты лекционных конспектов, выписки из сочинений Прудона, Бланки, Гегеля на французском и немецком языках, черновые заметки, хронологические таблицы. Рукописи находятся в хаотическом беспорядке, пестрят множеством помарок и вставок, отдельные листы исписаны столь мелким почерком, что даже лупа не облегчает их прочтения. Черновые заметки представляют цитаты вперемежку с собственными мыслями. Приведу одно лишь извлечение из рукописи, вступающее в полное противоречие с последующими высказываниями и действиями автора:
«Не может быть ничего абсолютно верного и истинного, ни один взгляд, ни одно мнение не имеет решительного преимущества над другим, и какой-либо из принципов выше и справедливее другого, только для того индивидуума, которому он принадлежит или для того лица, которое разделяет его.
Всякое мнение должно быть уважаемо и хотя можно не соглашаться с ним, но нельзя оспаривать право иметь его, потому что абсолютно истинного и частного нет, а следовательно всякий прав со своей точки зрения, как бы ни были противоположны их взгляды».[72]
Через год, осенью 1867 года, Нечаева перевели из Андреевского училища в Сергиевское приходское училище,[73] что считалось как бы повышением. Ему дали большую казенную квартиру, но материальных улучшений новая служба не принесла. «Наконец, — писал Капацинский, — Нечаева перевели в Сергиевское училище, и экономические дела оказались в самом плачевном состоянии, так что я принужден был заложить свое пальто для избавления от голода или стыда быть попрошайкой. В это время Нечаев начал меня допрашивать, что я за человек, что я думаю делать с собой, для чего я приехал в Петербург, на что я сказал ему, что все это известно ему и что подобные вопросы оскорбительны для меня; я предложил ему разойтись и назначить сумму за прожитое время. Нечаев начал называть меня дрянью, говорил, что ошибся во мне, — и мы, кажется, в октябре, разошлись: я ушел к учителю Борисову в Андреевское училище, где и был до 13 января 1868 г. Раза два мы встречались после этого, но как совершенно незнакомые. С этого времени никакой переписки между нами не было, я уехал в Лифляндию».[74]
В отношениях с Капацинским, пожалуй, впервые проступают бессердечие и холодная жестокость Нечаева. Он отстраненно наблюдал бедственное состояние дел своего ивановского друга, возможно, умышленно поставив его в зависимое от себя положение. Никакой ответственности перед вытребованным в Петербург Капацинским он не чувствовал.
В Лифляндии Капацинский не выдержал и года.[75]
Отправляясь на летние каникулы, Сергей получил отпускной билет[76] и в первой половине июня 1868 года приехал в Иваново на отдых, это было его последнее легальное посещение родных мест.
Кроме преподавания в Сергиевском училище, Нечаев давал частные уроки. Даже во время отдыха Сергей не терял связи с семьями учеников; так, 25 июля он получил от матери одного из них следующее письмо:
«Милостивый Государь Сергей Геннадиевич.
Узнав из Вашего письма о затруднительных делах Ваших родственников, я крайне огорчена, что Вы может должны встретить некоторые неудовольствия при приведении в порядок Ваших дел; но вместе с тем, желая Вам благополучного окончания этих дел, я с нетерпением ожидаю Вашего возвращения в Петербург; во-первых, потому, что мне необходимо с Вами посоветоваться на счет Васи отдать его в какое именно учебное заведение, а во-вторых потому, что он в течение всего его каникулярного времени положительно обленился; главная его забота состоит только в том, чтобы играть в бабки с уличными мальчишками, с которыми он очень дружен, и дружба эта еще хуже испортила его поведение, и без того уже не похвальное. <…>».[77]
Семейные «затруднения» Нечаева выражались в пьянстве отца и деда, но, возможно, здесь речь идет о краже в малярной мастерской, про которую упоминал в одном из писем Геннадий Павлович.[78]
По окончании каникул, незадолго до отъезда из Иванова Сергей познакомился и подружился с местным учителем В. Ф. Орловым. Однокашник Орлова по Владимирской семинарии ивановский библиотекарь И. И. Флоринский снабдил Нечаева письмом для передачи в Петербурге бывшим владимирским семинаристам студенту столичного университета Ивану Аметистову и его брату Евлампию, слушателю Медико-хирургической академии. Нечаев искал новых знакомств, он все еще ощущал себя в Петербурге чужаком. Училище — частные уроки — университет — казенная квартира, и так каждый день, несколько слов на ходу с учителями, лишь иногда вечерами собирались такие же, как он, молодые коллеги и обсуждали, что следует им читать для самообразования. Его не устраивало преподавание Закона Божия, не устраивала роль учителя приходского училища, безвестность, пустота, в которой он молча метался и чувствовал, что где-то клокочет иная жизнь, энергия копилась и не растрачивалась, напряжение искало выхода. Сергей боролся с собой, чтобы не дать сложившимся обстоятельствам засосать его в трясину будничной жизни. Он понимал, что из чиновников XIV класса (самая нижняя ступенька в Табели о рангах) обычным путем он выберется очень нескоро и к старости, при хорошем стечении обстоятельств, вскарабкается в чиновники VI класса. Нужно что-то предпринять. Слишком затянулось топтание на месте, не такой жизни ожидал он, оказавшись в столице. Прошло два с лишним года, и что же? Почему он должен влачить это жалкое существование, трудиться изо всех сил, а другим дается все и сразу, почему ему приходится мучить себя на лекциях университетских белоподкладочников-академистов, глубокомысленно излагавших скучные и надуманные теории, изучать немецких и прочих схоластов, еще неизвестно, к чему это приведет, разве они помогут выбраться из учительства, а что его ждет, кроме учительства, что может он еще, может ли… Не имея хоть сколько-нибудь глубоких знаний, Нечаев возненавидел науку, ученость, интеллигентность. Он презирал все эти умствования, уважения, преклонения… Кого и за что уважать, если уважение к кому-либо отрывает какую-то частицу от тебя, роняет твой авторитет, твое достоинство. Внутренний бунт подталкивал к бунту внешнему, недовольство — к недовольным, обида — к обиженным. Его тянуло к тем, кто явственно глупее, слабее, еще менее образован, к доверчивым, с ними легче и проще. Осенью 1868 года он начал превращаться в того Нечаева, каким вошел в российскую историю.
Надобно искать недовольных, плодить недовольных, сплачивать, главенствовать и наступать, круша на своем пути все, истребляя аристократов, духовенство, царствующий Дом. С чего-то надобно начать, найти остатки разгромленных революционных кружков. Какие-то разговоры в перерывах между университетскими лекциями он слышал, но никто в свои компании его не приглашал. Слышал о петрашевцах, Каракозове, стрелявшем в императора, о подпольной организации, руководимой Ишутиным. Неужели разгромили всю организацию и никто не уцелел, а коли есть кто на свободе, то отчего бездействует, и если действует, то где… Он не знал, что в российском освободительном движении почти отсутствовала персональная преемственность, об этом усердно заботились полицейские власти. Среди петрашевцев не было декабристов, из кружка П. Г. Заичневского никто не вошел в организацию Ишутина, а та рассеялась, растворилась, почти никто из ее членов не вступил в кружки конца 1860-х годов, и так далее. Вынырнул в 1870-е годы в Орле Заичневский и исчез навсегда.[79] Обычный возраст революционера — 17–19 лет, ну 21 год, двадцати трех—двадцатипятилетних называли стариками. Лишь некоторые народники на склоне лет оказались в партии социалистов-революционеров, но это относится к первым годам XX столетия, а в 1868 году Сергею исполнился 21 год, возраст революционера со стажем, заслугами, известностью.
Из Иванова Нечаев возвратился полный решимости вступить наконец на путь революционера, который, как казалось ему, решал все его проблемы.
Продолжим знакомство с показаниями Капацинского:
«Первое впечатление, которое производит Нечаев, неприятное, но остро заманчивое; он самолюбив до болезненности, и это чувствуется при первых встречах, хотя Нечаев старается сдержать себя; он много читал (по отъезде из Иванова), и особенно книги исторического содержания, и потому знаний у него много, хотя в ссылках на разных авторов он бывает иногда весьма недобросовестен; в спорах старается какими бы то ни было уловками унизить противника, — диалектикой он обладает богатой и умеет задевать за самые чувствительные струны молодости: правда, честность, смелость и т. д. не терпит людей равных, а с людьми более сильными сурово молчалив и старается накинуть на этих людей тень подозрения. Он очень стоек в убеждениях, но по самолюбию, которому готов жертвовать всем. Таким образом главная черта его характера — деспотизм и самолюбие. Все речи его пропитаны страстностью, но очень желчны. Он возбуждает интерес к себе, а в людях повпечатлительнее и поглупее просто обожание, существование которого есть необходимое условие для дружбы с ним.
Он часто заговаривал по социальным вопросам. И ставил коммунизм как высшую идею, но вообще понимал этот коммунизм весьма смутно, а на мои возражения об естественном неравенстве сил человеческих говорил, что возможна юридическая система, которая заставила бы людей быть равными».[80]
Очень точная характеристика, полностью соответствующая поступкам этого человека, лишь начитанность и образованность сильно преувеличены.
Приведу еще одну характеристику Нечаева, относящуюся к зиме 1868/69 года. Ее автор — коллега Сергея из Спасского приходского училища, вольнослушатель Петербургского университета Ф. Ф. Пуцикович.[81] Он получил письмо от Нечаева одновременно с Капацинским, разумеется, конверт вскрыли на почтамте, ознакомились с содержимым, запечатали и отправили адресату. Руководитель политического сыска К. Ф. Филиппеус притаился в ожидании дальнейших событий. Но Пуцикович не побежал с нечаевским письмом в III отделение. I мая 1869 года он отправил нежданному корреспонденту отповедь, в которой в очень резких выражениях объяснил, что его вовсе не за того принимают. Прочитав ответ Пуциковича, Филиппеус пожелал не только поговорить с адресатом, но и получить от него письменные показания.
«Все, один или несколько раз видевшие его, — писал Пуцикович о Нечаеве, — видели в нем прежде всего человека работящего, вечно занятого, вечно о чем-то хлопочущего. Встретить его можно было не иначе как с книгой: ту он относил, ту приносил, ту читал. Суета эта с книгами происходила оттого, что он любил постоянно читать и читал по нескольку книг в одно время, перебегая от одной к другой. На столе у него лежало по нескольку раскрытых и заложенных книг. Все вышедшее и выходящее на русском и отчасти на французском языке было им тотчас прочитываемо, и, если оно казалось ему замечательным, он употреблял все усилия, чтобы приобрести это в собственность. Последнее особенно можно сказать по предмету его специальности, а специальностью: его были прежде: история и география, а потом естественные науки. Писать же, кажется, он ничего не писал. Впрочем, занятия его не ограничивались книгами; много времени он жертвовал изучению разных ремесел: портняжного, сапожного, переплетного и столярного. На вопрос, зачем он это изучает, отвечал: «пригодится в жизни». И только один раз высказал, что он не намерен быть чиновником, а, изучив эти ремесла, постарается уехать в Англию для окончательного в них усовершенствования и для изучения машинного производства и это все вместе будет служить ему средством для существования. Как товарищ он был. с одной стороны, хороший товарищ: честный, правдивый, охотно делящийся всем материальным с другими, но с другой стороны, был несносный, много спрашивающий и ничего о себе не говорящий, все толкующий в дурную сторону, чересчур жестокий в обращении с другими, пренебрегающий приличиями, способный иногда на цинические выходки. Но что всего более было в нем отталкивающего, это его крайний деспотизм относительно образа мыслей. Он не мог мириться с тем, что его знакомые имеют понятия, убеждения не такие, как он смотрит на веши, и действуют не так, как он смотрит и действует. Но он не пренебрегал этими людьми, нет, он, напротив, с непонятною настойчивостью преследовал их, навязывая им свое. Нередко при этом приходилось страдать его личности, но он. кажется, обращал мало на это внимания. И вообще личностью своею он. по-видимому, нисколько не дорожил, с нуждою очень легко мирился, никогда не заявлял неудовольствия на свое положение и часто даже говорил: «Мы и так заедаем чужой хлеб'. <…> Скрытность эта его простиралась до того, что едва ли кто из самых близких его знакомых может сказать, откуда он родом, где учился, где был прежде и как попал на то место, которое занимал. Но, наоборот, вся жизнь, вся родословная его знакомых были ему известны, — этим, отчасти, он тоже держал некоторых около себя».[82]
Пуцикович проявил благородство. Если сравнивать его ответ Нечаеву, отправленный в Женеву,[83] с приведенной выше характеристикой, то последняя весьма сдержаннее и деликатнее. Автор не стал подыгрывать заказчику из политической полиции и постарался написать объективно. Филиппеусу Пуцикович не понравился, иначе он предложил бы ему сотрудничество.
Приведу извлечения из показаний бывшего студента университета Ивана Аметистова (брата Евлампия Аметистова касающиеся его беседы с Нечаевым, происходившей осенью 1868 года. «Разговор начался с оценки одного из наших профессоров, которого я уважал, а он не любил. Как-то дело дошло до Спинозы, до взглядов на свободу, на общественную жизнь и т. п. Нечаев разгорячился и высказал такие мысли: «развития нет; книги не развивают, а завивают нас, об свободе и об общественной жизни не имеем ни малейшего представления, похожего на истину, быть может, имеют оное мужики — люди, которые сроду не брали в руки книги и не пользовались ни одной привилегией, которыми наша общественная жизнь наделяет одних в ущерб другим»; что наша задача поэтому «состоит в разрушении всего», «в отрицательной деятельности» (подчеркнутых слов я не понял тогда, не понимаю и теперь, да едва ли он их понимал), «что эту истину понял Спиноза и разъяснил ее».
<…> Еще только был у нас с ним разговор — по поводу возникшего тогда между студентами вопроса об собственной кассе и сходках. Он говорил, что не просить, а требовать надо этих прав. Я заметил, что наше требование, как ни на чем не основанное, во всяком случае не может иметь благоприятного результата, тогда как просьба может быть удовлетворена; он говорил: тем лучше, пускай и в Академии отнимаются эти права, тогда вы поймете то, чего теперь не понимаете».[84]
Осенью 1868 года Нечаев собирался покинуть Сергиевское приходское училище. Но оставить «учительство» оказалось не просто: оно давало ему казенную квартиру и основные средства к существованию. Несмотря на то, что у него даже появилось заманчивое предложение давать частные уроки «с квартирою, отоплением, освещением и пищею <…>, препятствий к университетским занятиям не будет»,[85] Нечаев училища не покинул. Быть может, потому, что на Захарьевской улице, в доме, где Сергею предоставлялась казенная квартира из трех комнат, он поселил у себя Евлампия Аметистова[86] и жизнь перестала казаться такой одинокой, появился план проникновения в студенческие кружки.
Вслед за выстрелом Каракозова в кресле министра народного просвещения оказался граф Д. А. Толстой. 13 мая 1866 года он получил рескрипт монарха, запрещавший студенческие сходки, кассы взаимопомощи, библиотеки и землячества.[87] Началось методичное наступление на прежние студенческие свободы. Правила от 26 мая 1867 года[88] подчинили студентов инспекторам даже вне зданий учебных заведений, требовали от учебного начальства и полиции взаимно уведомлять «вообще о всех действиях, навлекающих сомнение в нравственной и политической благонадежности студентов».[89] Между инспекторами учебных заведений и жандармерией устанавливалась тесная связь. Все студенты, наказанные за предосудительное поведение, тотчас становились известны полицейским властям. Студентам запрещалось устройство концертов, спектаклей, вечеров, любых публичных собраний. Толстой с присущим ему усердием взялся вытравливать из студентов желание к «стремлениям и умствованиям». Опасаясь того, что корпоративность студентов воспитает в них главенство общественных интересов над личными, правительство стремилось не допускать в учебных заведениях сходок, касс взаимопомощи и кухмистерских. Особенно нуждались в них разночинцы, наиболее бедная часть студенчества.
Министр народного просвещения не желал понимать, что его запрещение сходок не может быть реализовано: сходки переместились из аудиторий на частные квартиры.
Если начальство могло контролировать и даже направлять все происходившее на официально разрешенных собраниях, то на конспиративные сходки представители ректоратов и агенты полиции проникали далеко не всегда. Конспиративные сходки порождали конспиративные кружки, а они объединялись в революционные сообщества. В странах Западной Европы отрицательную сторону запретов поняли давно. Там с незапамятных времен в университетах были образованы «Debating clubs», в которых открыто обсуждаются любые вопросы, касающиеся политики, нравственности… И это приносит пользу. Запрещение касс взаимопомощи и кухмистерских ухудшало положение нуждавшихся студентов и укоренило мнение о том, что правительство ответственно за их бедственное положение. Так отчего же не выступить против дурных распоряжений графа Толстого?
Первые признаки студенческих волнений, застигнувших Нечаева в Петербурге, обнаружились осенью 1868 года в стенах Медико-хирургической академии. Находясь в ведении военного министра Д. А. Милютина, человека прогрессивного, академия оказалась в более сносном положении, чем другие учебные заведения, строгости николаевской казарменной дисциплины медики (так называли слушателей Медико-хирургической академии) быстро и основательно позабыли. Милютин был столь силен, что мог противостоять притязаниям Толстого на командование в стенах академии. Ее слушателям разрешалось собирать сходки и иметь кассу взаимопомощи. Но принадлежность академии к военному ведомству отражалась на взаимоотношениях преподавателей и слушателей. Так, осенью 1868 года слушатель В. М. Надуткин обнаружил себя в списке исключенных за неуспеваемость, хотя успешно сдал экзамен. Экзаменационная ведомость оказалась потерянной, но профессор вместо извинений нагрубил слушателю и добился его отчисления. 6 ноября 1868 года конференция академии по жалобе нового инспектора исключила слушателя Н. Васильевского, отказавшегося снять шляпу по требованию инспектора. Начались сходки, требования восстановления товарищей завершились обещанием начальства отменить решение конференции. Кампанией по защите Васильевского и Надуткина руководил кружок слушателей академии. В него входили: 3. К. Ралли-Арборе, Е. В. Аметистов, М. П. Коринфский. Кружки были и в других учебных заведениях столицы; во главе университетского кружка стояли С. В, Езерский и И. Л. Шраг, Лесной академии — В. И. Ковалевский. Технологического института — Г. П. Енишерлов.
С членами кружка слушателей Медико-хирургической академии Нечаева свел Евлампий Аметистов. Ралли с братьями Покровскими и Коринфским снимали три «клетушки» на Петербургской стороне вблизи домика Петра Великою. Там же во дворе жила старушка-чиновница Феоктиста Михайловна Засулич с дочерьми Верой и Екатериной.[90] На квартире Ралли собиралась «вся бурсацкая часть студенчества Академии», студенты университета, Технологического института, кадеты Морского корпуса, читали запрещенную литературу, обсуждали прочитанное. Один из участников сходок вспоминал: «Эта последняя книга («Гракх Бабеф и заговор равных» Ф. Буонарроти. — Ф. Л.) произвела на некоторых из нас потрясающее впечатление, и мы заговорили об организации политического общества в России. История декабристов, петрашевцев, воспоминания о Худякове и его рассказах о существовании какого-то тайного общества за границей были излюбленной темой разговоров на этих встречах».[91]
Узнав от Е. В. Аметистова, что в кружке медиков читают старые номера герценовского «Колокола» и другую запрещенную литературу, Нечаев «пожелал свести знакомство» с Ралли. Первая их встреча состоялась на квартире Нечаева, разговор касался избрания руководителей библиотеки и кассы взаимопомощи. Ралли рассказал о знакомстве с ишутин-цами и по просьбе Нечаева дал ему для прочтения те номера «Колокола», в которых печатались статьи о Каракозове. Там же в первую встречу на Захарьевской Сергей познакомил Ралли с Орловым, приехавшим из Иванова для поступления в университет. Наконец-то ниточка от одного студенческого кружка потянулась к Нечаеву, теперь требовалось одно — отыскать ниточки к другим кружкам, крепко взять их в свои руки и умело дергать. На первой же встрече Сергей предложил слушателям-медикам объединиться со студентами других высших учебных заведений столицы в борьбе за расширение их прав, но его не поддержали.
Неоднородное петербургское студенчество конца 1860-х годов можно условно разделить на умеренных и радикалов. Не следует забывать, что существовала еще одна, самая многочисленная группа студентов, которая постоянно выпадала из поля зрения историков-марксистов, — это молодые люди, посвятившие себя наукам и поэтому не отдавшие свои силы общественной жизни. В кружках участвовало до пятнадцати процентов студентов (в их число входят все, кто хоть один раз независимо от причины был запечатлен в документах политической полиции), большей частью провинциалы из разночинцев, жившие на квартирах коммунами. Наименее обеспеченные из них освобождались от платы за обучение, именно они бунтовали больше других. Умеренные обсуждали на сходках вопросы «студенческой академической жизни» и желали ее постепенного улучшения. Они полагали, что можно «всего добиться без криков и угроз начальству», начальство посмотрит сквозь пальцы на кассы взаимопомощи и сходки, закамуфлированные под благотворительные сборы и литературные вечера. Умеренных поддерживало большинство столичных студентов, своим лидером они называли Езерского. Поздней осенью 1868 года внутри радикального крыла, на левом его фланге, сформировалась группа единомышленников Нечаева. Студенческие проблемы рассматривались ею «лишь как ширма и прикрытие».
Слушатели Медико-хирургической академии пользовались максимальными льготами (право на сходки, касса взаимопомощи, библиотека) и составляли авангард радикального крыла петербургских студентов, среди медиков было много разночинцев. Студенты университета, куда попадало большинство дворянских детей, не имели никаких льгот, но именно из них состояло ядро умеренного крыла. Современники полагали, что умеренность университетских студентов зависела главным образом от того, что им преподавали социально-экономические дисциплины, и они, хоть отдаленно, но представляли, чем заняты революционеры и что такое революция. Принадлежность юного бунтаря к тому или иному крылу не всегда определялась учебным заведением, в котором он учится, и выявлялась на собраниях кружков и сходках.
«На этих сходках, — писал известный народник С. Л. Чудновский, — в роли вожаков (если память мне не изменяет) выступали студенты Ралли, Алчуницын, Коринфский и др., за кулисами же, по упорно державшейся молве, это течение, как и вообще все студенческое движение, направлялось народным учителем Нечаевым, лично появлявшимся лишь на менее многочисленных и более интимных собраниях».[92] О присутствии Нечаева на сходках, его поведении и роли в студенческом движении существуют разноречивые свидетельства. Пусть читателя это не смущает, одним мемуаристам он запомнился так, другим несколько иначе. Воспоминания писались через тридцать и более лет после завершения нечаевской истории.
Сторонники Нечаева вовсе не желали улучшения положения студентов. Разрешением сходок и касс взаимопомощищи, заявляли они, жизнь студентов улучшиться не может. Они стремились вывести студентов на демонстрации, возбудить в них «дух протеста против монархического образа правления». За демонстрациями непременно должны последовать исключения из учебных заведений и высылки на родину. В ответ на эту жестокость — волнения во всех учебных заведениях империи, опять исключения и высылки, еще протест, еще высылки. Толпы обиженных возбудят в провинции недовольство семинаристов, те разъедутся по селам, «сольются» с крестьянами и так далее. Все это, по замыслам единомышленников Нечаева, породит всенародный бунт.[93] Наивно? Да.
Нечаев нашел себя, он мчался из дома в дом, из кружка в кружок, от сходки к сходке, прекратил частные уроки, забросил посещение лекций в университете. Времени перестало хватать на исправление прямых служебных обязанностей, несколько раз на уроках в Сергиевском училище его подменял Е. В. Аметистов.[94]
Нечаева не устраивали мелкие претензии и требования студентов к начальству — свобода сходок, кассы взаимопомощи… Бунт нужен, а тут те, кому разрешены сходки, неохотно поддерживают своих товарищей, коим они запрещены, а те, в свою очередь, не желают вступать в открытую борьбу. Сергей студентом никогда не был, любые их требования его лично не касались. Но он столь активно отстаивал студенческие права, что многие считали его не вольнослушателем университета, а полноправным студентом. Нечаев ворвался наконец в свою стихию. Ему показалось, что он сможет взвиться к вершинам власти на штормовых волнах студенческих бурь и, уж во всяком случае, приобрести громкую известность. Не стихия вовлекла его в круговорот событий зимы 1868/69 года, нет, он сам творил эту стихию. Ничего более подходящего он для себя в ту пору не видел.
Посещение Сергеем собраний кружков и студенческих сходок началось с осени 1868 года. Первое время он сидел в уголке и сосредоточенно наблюдал за происходящим, не выступал, охотно знакомился с новыми людьми. Как-то после одного из собраний, закончившегося в первом часу ночи, Нечаев пригласил Орлова, Енишерлова и Ралли зайти к нему. «Здесь Сергей Геннадьевич. — вспоминал Ралли, — предложил собравшимся составить опять-таки комитет для руководства студенческим движением, а Орлов, рисуя схему централистической организации, как бы дополняя предложение Сергея Геннадьевича, предложил составить внестуденческую организацию из людей, выбранных среди студенческого движения».[95] Никаких выборов не состоялось, так как собравшиеся еще плохо знали друг друга. Это действие, продуманное и разыгранное Нечаевым с помощью Орлова, первая попытка Сергея создать во главе с собой руководящий орган столичного студенчества.
После встречи у Нечаева Енишерлов уговорил одного из самых известных руководителей студенческого движения, Земфирия Ралли, зайти к нему на квартиру в Измайловском полку (близ Технологического института, где Енишерлов числился вольнослушателем). Хозяин усадил ночного визитера и вручил ему записку. «Развернув бумажку, я (Ралли. — Ф. Л.) на ней прочел следующее (подлинный текст я не помню, конечно): «Когда Ралли понадобится человек, готовый стрелять в государя, он может обратиться ко мне и я (Енишерлов. — Ф. Л.) это исполню».[96] Ралли подумал, что Енишерлов — полицейский агент, заманивший его в западню. Он смял записку и срочно покинул жилище странного вольнослушателя, но по выходе арестован не был. На другой день Ралли рассказал о ночном приключении Нечаеву, и тот выразил крайнее огорчение — утраченная записка могла бы сослужить службу.[97] Уже тогда за Нечаевым замечалась склонность к собиранию любых документов, в особенности компрометирующих кого-либо.
Осенью 1868 года Сергей окончательно определил главную цель своей жизни — «социальная и политическая революция». Наиболее точным отражением его взглядов именно этого времени можно считать «Программу революционных действий». В ней Нечаев еще не очень четко сформулировал принципы построения революционного сообщества и не назвал средств, употребляемых впоследствии им самим в борьбе за достижение поставленной цели. Приведу из нее извлечение:
«Полная свобода обновленной личности лежит в социальной революции. Только радикальная перестройка нелепых и несправедливых общественных отношений может дать людям прочное и истинное счастье. Но достигнуть этого при настоящем политическом строе невозможно, потому что в интересах существующей власти — мешать этому всеми возможными способами, а, как известно, власть обладает для этого всеми средствами. Поэтому, пока будет существовать настоящий политический строй общества, экономическая реформа невозможна, единственный выход — это политическая революция, истребление гнезда существующей власти, государственная реформа. Итак, социальная революция — как конечная цель наша и политическая — как единственное средство для достижения этой цели. Для тою чтобы воспользоваться этим средством, приложить его к делу, мы имеем уже примеры, выработанные историей прежних революций; нам следует только отнестись к ним сознательно, то есть принять, что так как они составляют явление, повторяющееся в истории, то их следует признать за исторический закон и, не дожидаясь, пока этот закон проявит себя во всей своей полноте силою времени и обстоятельств — что неизбежно, так что все дело во времени. — ускорить это проявление, подготовить его. постараться подействовать на умы таким образом, чтобы это проявление не было для них неожиданностью и они могли бы действовать сознательно, по возможности спокойно, а не под влиянием страсти, с налитыми кровью глазами. Конечно, между прежними революциями и настоящим временем прошло много лет, много изменилось, следовательно, и приемы должны быть необходимо видоизменены и приспособлены к настоящему времени, но все же закон остается законом, и мы можем видоизменять приемы, привносить в них новые начала, но не игнорировать их».[98] Далее Нечаев подробно пишет о том, какой он видит революционную организацию, где на территории России и в какое время года должен находиться революционер, кого и как возбуждать к выступлению с решительными противоправительственными действиями, и предлагает начать всероссийское восстание в 1870 году.[99]
Весна 1870 года предлагалась Нечаевым не случайно. По положению об освобождении крестьян 19 февраля 1861 года, правительство установило девятилетний срок, в течение которого бывших крепостных обязывали обрабатывать закрепленную за ними «мирскую землю» и за это выплачивать в пользу помещика «установленные повинности». 19 февраля 1870 года крестьяне имели право отказаться от этой земли, возвратить ее помещику или сохранить за собой землю и продолжать нести «установленные повинности». Нечаев надеялся, что в этот день крестьянам захочется предпринять против помещиков столь враждебные выступления, что затем они перерастут во всенародный бунт. Как мы знаем, ничего подобного не произошло и произойти не могло.
«Программа революционных действий» написана под влиянием трудов Бланки и Прудона, которыми Нечаев начал увлекаться в 1867 году, а также «Коммунистического манифеста» Маркса и Энгельса. Обращает на себя внимание отсутствие в Программе хоть сколько-нибудь строгой логики в размышлениях автора о необходимости изменения существующего строя революционным путем и неизбежности именно этого процесса. Известный историк Б. П. Козьмин высказал предположение, что «Программа революционных действий» написана Нечаевым в соавторстве с Ткачевым.[100]
Они познакомились осенью 1868 года. Поклонник Макиавелли, якобинцев и Бланки, дворянин Петр Никитич Ткачев был тремя годами старше Нечаева, ко времени их первой встречи дважды сидел в Петропавловской и раз в Кронштадтской крепостях, успешно закончил Петербургский университет, имел широкую известность среди молодежи как литератор радикальных взглядов. Его статьи «читались тогда молодежью в школах и заставляли биться много молодых сердец ненавистью к тирании и эксплуататорам народа».[101] Если Нечаев в российском революционном движении был никому не ведомым желторотым новичком, то Ткачев считался признанным ветераном со стажем более семи лет, по тем временам — гигантским. Казалось бы, даже это кратчайшее перечисление разнообразных качеств, характеризующих Ткачева, должно было исключить его сближение с Нечаевым. Однако сразу же после знакомства их прочно связало идейное содружество, питаемое жаждой ниспровержения ненавидимого ими монархического строя. Ткачев решительно примкнул к левому флангу радикального крыла петербургского студенчества, где в это время начал главенствовать Нечаев, в кружках они выступали сообща. На квартире Ткачева собирались ближайшие соратники Нечаева и там разрабатывали планы совместных действий. Они стремились придать студенческим волнениям революционную направленность. Вместе с Нечаевым Ткачев входил в состав никем не избранного комитета, намеревавшегося возложить на себя руководство всем столичным студенческим движением.[102]
Роль Ткачева в событиях зимы 1868/69 года осталась как бы затушеванной, просвечивается лишь его добровольное подчинение Нечаеву.[103] Возможно, Ткачев не хотел или не мог взвалить на себя бремя вождя, возможно, желал оставаться кукловодом, искусно управлявшим Нечаевым из своего укрытия. Лиц, собиравшихся в узком кругу на квартире Ткачева, называли кружком «красных» или кружком Ткачева — Нечаева.[104] Во время следствия по делу нечаевцев Ткачев просил студента университета Л. П. Никифорова «выгородить его от участия в студенческих беспорядках».[105] Просьбу Ткачева до некоторой степени удалось исполнить, но существеннее оказалось то, что подсудимые, защита, пресса, общественное мнение были единодушны в резко отрицательном отношении к Нечаеву. Его зловещая тень заслонила и поглотила всех, все подсудимые с их деяниями померкли и уменьшились в размерах. Нечаев более других своими поступками докучал современникам, мемуаристы отвели ему несоизмеримо больше места, чем Ткачеву. Принизить значение Ткачева постарались исследователи жизни и деятельности Нечаева. Но не следует забывать, что рядом с не окрепшим еще Нечаевым зимой 1868/69 года стоял многоопытный, талантливый, образованный Ткачев. 26 марта 1869 года его арестовали, в 1871 году приговорили к тюремному заключению на один год и четыре месяца. По окончании этого срока Ткачева отправили в имение матери Сивцово, Псковской губернии, откуда в декабре 1873 года он бежал за границу.
В XIX веке Ткачев был самым крупным из русских последователей Бланки, неистовым приверженцем захвата заговорщиками власти и диктатуры меньшинства над большинством. Народовольцы называли его своим теоретиком. Бланкизм Ткачева проявлялся еще в России и, наверное, оказал влияние на Нечаева. Впрочем, влияние было взаимным. Известный историк М. Я. Геллер утверждал, что Ткачев «продолжал и развивал идеи» Нечаева.[106] По всем внешним признакам Ткачев мог влиять на Нечаева в большей степени, чем Нечаев на него.
По приезде в Париж Ткачев попытался сотрудничать в журнале П. Л. Лаврова «Вперед!», но из этого ничего не вышло. Формально Лавров отказался от услуг Ткачева не из-за увлечения вновь прибывшего эмигранта бланкизмом, а из-за статьи, которую он попытался поместить в журнале. Приведу из нее отрывок, в нем автор яркими красками изображает жизнь крестьянина, какой он ее видел после победы революции:
«И зажил бы мужик припеваючи, зажил бы жизнью развеселою. Не медными грошами, а червонцами золотыми мошна бы его была полна. Скотины всякой, да птицы домашней у него и счету не было бы. За столом у него мяса всякие, да пироги именинные, да вина сладкие от зари до зари не снимались бы. И ел бы он и пил бы он, сколько в брюхо влезет, а работал бы, сколько сам захочет. И никто бы, ни в чем бы неволить его не смел: хошь ешь, хошь на печи лежи. Распречудное житье».[107]
Такое же представление о крестьянине и результатах «социальной революции» имел и Нечаев. Бывший полковник, преподаватель математики в Артиллерийской академии, Петр Лаврович Лавров не мог разделять столь примитивных взглядов юриста Ткачева, полагавшего преступным «откладывать» революцию до того времени, когда большинство народа осознает свое положение и убедится в необходимости изменить его насильственными средствами. Для осуществления революции, по Ткачеву, требовался хорошо организованный заговор и употребление всех средств, которые заговорщики сочтут нужными. Он не верил в способность народа к общественным преобразованиям. Лавров придерживался взглядов прямо противоположных.
Свои мысли Ткачев излагал в созданном им в декабре 1875 года журнале «Набат», вокруг которого группировались французские, польские и русские бланкисты. Незадолго до появления первого номера «Набата» молодой народник С. М. Кравчинский выразил Лаврову свое опасение: «В сущности это будет одна мерзость — политическая революция, но она прикрыта, разумеется, социальной <…> у него (Ткачева. — Ф. Л.) нет ни одной капли революционного инстинкта, у него есть только революционный зуд <…>».[108] Последние слова относятся не к одному Ткачеву, «революционным зудом» грешили многие. В 1877 году единомышленники русского бланкиста образовали конспиративную организацию «Общество Народного Освобождения». Ткачев спешил произвести в России революцию. Законспирированность Общества и почти полное отсутствие о нем документальных сведений наводят на мысль о том, что мы имеем дело с сильнейшим преувеличением. И Нечаев, и Ткачев частенько прибегали к подмене действительного желаемым.
«Но Ткачев был не только бланкистом и якобинцем, — писал В. С. Варшавский- Он первый из русских политических мыслителей изучил и принял марксизм и первый стал прибегать к марксистскому анализу. Только в отличие от классических марксистов он допускал возможность для России миновать период капиталистического развития и непосредственно, одним скачком, перейти к социализму».[109] Именно поэтому Ленин с особой теплотой относился к первому русскому марксисту.
О сотрудничестве с Нечаевым Ткачев вспоминать не любил. Даже в большой статье «Больные люди», написанной в 1873 году и посвященной критике романа Ф. М. Достоевского «Бесы», он ни разу не упомянул о Нечаеве.[110] Однако в статьях, печатавшихся на страницах «Набата», в уставе «Общества Народного Освобождения»[111] Ткачев и его единомышленники развивали идеи, почерпнутые у Нечаева. В начале 1882 года у Ткачева появились признаки психического расстройства. Возвращаясь с похорон Луи Блана, 8 декабря 1882 года Петр Никитич был задержан полицией и освидетельствован врачами. Последние годы жизни ему пришлось провести на больничной койке. Он умер 25 декабря 1885 года в Париже, в приюте Святой Анны для душевнобольных.
Возвратимся в осенний Петербург 1868 года. На одной из сходок вольнослушатель-технолог Енишерлов, тогда еще ходивший в самых яростных радикалах, изложил свою программу действий и заявил, что для достижения поставленной цели допустимо применение любых средств, так как правительство в борьбе с революционерами не брезгует ничем. Выступление Енишерлова среди собравшихся сочувствия не встретило. «Только один худой, с озлобленным лицом и сжатым судорогой ртом, безбородый юноша, горячо пожав мне (Енишерлову. — Ф. Л.) руку, сказал: «С вами — навсегда, прямым путем ничего не поделать: руки свяжут… Именно иезуитчины-то нам до сих пор и недоставало; спасибо, вы додумались и сказали. Я ваш».
Это был тогда еще вовсе безвестный народный учитель Сергей Геннадиевич Нечаев».[112]
Сохранился автограф воспоминаний Г. П. Енишерлова, написанных красивым, несколько вычурным, витиеватым почерком на листах большого формата (22x35,5 см, бумага № 6 фабрики Способина и K°), сшитых в тетради нитками. Автор передал их в 1896 году на хранение в Румянцевский музей. Воспоминания чрезвычайно интересны и поучительны главным образом тем, что принадлежат перу наиболее близкого к Нечаеву человека по политическим убеждениям и своеобразному пониманию нравственности, но непримиримо враждебно к нему относившегося.
Раздосадованный Еиишерлов обрадовался поддержке нового знакомого, они быстро сошлись, вместе ходили по сходкам, вербовали сторонников. Но вскоре Енишерлов начал замечать, что Нечаев высказывает суждения все резче и резче, смелее выступает один против всех и его известность в студенческих кружках Петербурга стремительно растет и, что самое обидное для Енишерлова, — известность Нечаева основана на пропаганде его, Енишерлова, взглядов, выдаваемых Нечаевым за свои. Он почувствовал себя ограбленным и опозоренным, все забыли, а ведь он первый предлагал то, что теперь проповедует Нечаев: против произвола властей — произвол революционера, против неправды — ложь, против интриг — система иезуитских приемов, конспирирование всех действий, шантаж. Енишерлов рыдал от обиды,[113] он сам надоумил вероломного друга, он страстно желал известности и не мог так просто отдать ее первому встречному. Чтобы отомстить обидчику, Енишерлов завел дружбу с умеренными и даже перебрался в их лагерь. А Нечаев тем временем становился вождем левых — «красных» радикалов и все настойчивее призывал к организации политической демонстрации студентов. Однажды участник одного из московских кружков самообразования Ф. В. Волховский в очень мягкой форме попытался объяснить нелепость требований, выдвигавшихся Нечаевым, и предложил отказать ему в поддержке. «Тогда Нечаев скинул, наконец, свою личину, — вспоминал Енишерлов. — Он ответил ему в таких недопустимо резких выражениях, что я заметил после его речи:
— Так говорить на общих сходках, где никто не знает всех присутствующих, — значит скликать ищеек III отделения, трубить в призывный рог.
Он подошел к самому лицу моему и спросил: «А хотя бы?. Пусть видят, что мы не манная каша!».[114] Наверное, уже тогда Сергей видел себя Бонапартом революционного подполья.
Выступление Нечаева произвело удручающее впечатление. На сходке присутствовало много народа, следовательно, все происходившее на ней не могло остаться незамеченным политической полицией. Никому не хотелось из-за его призывов оказаться за решеткой. Сторонников у Нечаева сильно поубавилось. После этой сходки умеренное крыло студенчества приступило к подготовке решающего боя против Нечаева и его сторонников. Главным оратором оно выдвинуло самого красноречивого своего представителя, студента университета С. В. Езерского,[115] одноклассника Енишерлова по Харьковской гимназии. Сражение состоялось 5 января 1869 года, умеренные одержали оглушительную победу над радикалами.
«Гордись же, обездоленный, избитый и замученный русский народ! — патетически завершил свою речь Езерский. — У тебя нет ни земли, ни скотины, ни школ, ни врачей, одни лишь недоимки и становые… Но близок час: о тебе думают — в Женеве Бакунин и Нечаев в Петербурге».[116]
Енишерлов злорадствовал, от счастья он не находил себе места — авторитет его злейшего врага катастрофически падал, над ним открыто насмехались. Его ставили рядом с Бакуниным, чтобы оттенить пигмея на фоне гиганта.
Во время следствия по делу нечаевцев Езерский в своих показаниях описал происшедшее иначе. На одной из сходок, состоявшейся около 1 января, было решено 8 января устроить большое собрание в университете с приглашением студентов других учебных заведений столицы. 5 января сjстоялось предварительное обсуждение тактики поведения студентов на предстоящей сходке. Езерский, убежденный в том, что сходка за бесполезностью не нужна, выступил с требованиями ее отмены и заодно подверг критике позицию Нечаева, инициатора университетской сходки и автора обращения студентов с требованиями к начальству.[117]
Возможно, речь против Нечаева Езерский произнес не 5-го, а 7 января на собрании, состоявшемся в ломе Бенуа. В эти дни сходки следовали одна за другой, и документы не всегда позволяют установить точные даты.
И до победы Езерского Нечаев не раз терпел поражения от умеренных. Ему не всегда удавалось быстро найти возражения, остроумно парировать нападки оппонентов, убедить аудиторию в правильности своей позиции. В этих случаях он терялся, становился беспомощным и одновременно до ужаса страшным. Казалось, что еще немного, и он вцепится в чье-нибудь горло, начнет визжать, царапаться… Он избегал больших собраний, куда приходили и радикалы, и умеренные, где непременно возникали дискуссии. Он предпочитал выступать среди студентов из провинции, из разночинцев, там к нему чаще всего относились дружелюбно, там он был свой, ему верили, соглашались со всем, что бы он ни предлагал, там он главенствовал.
Известный революционер О. В. Аптекман запечатлел спор Нечаева с одним из основателей кружка чайковцев, крупным народником, впоследствии членом ЦК партии социалистов-революционеров М. А. Натансоном (тогда слушателем Медико-хирургической академии):
«В это время неожиданно является Нечаев и бросает в эту взволнованную среду искры революционной агитации; зовет молодежь на улицу, убеждает ее устроить политическую демонстрацию.
Нечаев говорит смело, убедительно, прибегает к аргументам веским, не стесняется цитировать Канта, вообще импонирует слушателям. Силою и мощью веет от него, но что-то отталкивающее и демагогическое. Натансон энергично выступает против него со всем жаром искреннего, глубокого убеждения. На стороне Натансона большинство академиков, а потом пристают и прочие студенты. Нечаев терпит поражение в высших заведеньях и переносит свою агитацию в замкнутые ячейки и кружки молодежи».[118]
Натансон не оставил воспоминаний, но некоторые фрагменты записаны людьми, слышавшими его выступления. Так, 31 декабря 1905 года на вечеринке, устроенной членами партии социалистов-революционеров. Натансон рассказывал о студенческих волнениях 1868–1869 годов и Нечаеве. Присутствовавший при этом С. П. Швецов записал услышанное и через четверть века передал для публикации историку Б. П. Козьмину:
«Мне не раз приходилось слышать от Нечаева отзывы о студенчестве и студенческих «волнениях». Нечаев расценивал их не очень высоко. Он утверждал, что студенческие движения в том виде, в каком они у нас проходят, дают очень мало. Студенчество волнуется, главным образом, на первых двух курсах, а затем втягивается в занятия, к четвертому-пятому курсу делается совсем ручным, а по выходе из университета или академии, смотришь, вчерашние бунтари превращаются в совершенно благонадежных врачей, учителей и прочих наименований чиновников, становятся отцами семейств, и глядя на иного, трудно даже верится, что это тот самый человек, который всего три-четыре года назад так пламенно говорил о страданиях народа, горел жаждой подвига и готов был, казалось, умереть за этот народ! Вместо борца революции мы видим какую-то безвольную дрянь, из которой очень скоро многие сами превращаются в прокуроров, судей, следователей и вместе с правительством начинают душить» тот самый народ, за который еще недавно они сами, как им казалось и как они говорили, готовы были положить свои головы. Нет, если вы хотите, чтобы из нашего студенчества вырабатывались действительные революционеры, старайтесь вести дело так, чтобы правительство возможно больше сажало их в тюрьмы, вышибало бы навсегда из школы, отправляло бы в ссылку, выбивало бы их из обычной колеи, не давало бы им опомниться, оглушало бы их своими преследованиями, жестокостью, несправедливостью и тупостью. Только тогда они закалятся в своей ненависти к подлому правительству, к обществу, равнодушно взирающему на все его зверства и всю его бесчестность, ко всем тем, кто вместе с правительством и народными угнетателями. Только тогда наше студенчество будет давать настоящих революционеров. К этому мы и должны стремиться, пользуясь для того естественным недовольством юного студенчества, драконовыми требованиями, какими обставляет его пребывание в высшей школе правительство. Так говорил нам Нечаев. Он твердо держался этой точки зрения и сообразно ей вел свою линию во время студенческих беспорядков в 1869 году в петербургских высших учебных заведениях».[119]
Натансон не упомянул еще об одной мысли, высказанной Нечаевым: «Ходить в школу, учиться — ерунда, ибо все развитые люди и самое достижение ими развитости есть — эксплуатация, так как развитые неизбежно эксплуатируют неразвитых».[120] Ему показалось правильнее препятствовать просвещению, а не бороться с невежеством. Наука не помощник в его деле, следовательно, ученость надобно отрицать и высмеивать, показывать ее вред народу, уравнять всех в невежестве. Как же похожи подобные мысли на тексты из шигалевских тетрадей в «Бесах», как же легко они возбуждают восторг толпы. Невежество — страшнейшая беда человечества, спасение человечества в борьбе с невежеством.
Нечаев не только говорил, но и действовал, не стесняя себя никакими рамками. Махину. Капацинскому и Пуциковичу он слал письма и прокламации, чтобы обратить на них внимание полиции и таким способом, подвергнув репрессиям, «вычеркнуть их из обычной колеи». Так поступил он с сотнями знакомых ему лиц, малознакомых и вовсе не знакомых.
После саркастического выступления Езерского авторитет Нечаева сильно потускнел, а число его приверженцев существенно поубавилось. Неудача ввергла Сергея в ярость. Каждое возражение оппонента, подхваченное аудиторией, воспринималось им как жгучая пощечина, публичная порка, плевок. В минуты поражения самообладание покидало его. Злоба выливалась в ненависть к интеллигентам, к их знаниям. Мысль его отчаянно металась в поисках выхода из положения. Надобно менять облик, менять биографию, вернее, автобиографию, так точнее, иначе здесь не пробьешься. Потекли легенды о крестьянском происхождении, тяжелом труде с малолетства, поздней грамотности. Но этого явно не хватало, и тогда он начал обдумывать нечто новое. Требуется превратиться в героя. Как? Да очень просто — совершить побег, а для этого подвергнуться аресту. Итак, арест — побег, арест — побег и так далее. Надобно только обождать, удобный случай придет. И действительно, вскоре возникла опасность ареста наяву.
Осенью 1868 года, после возвращения Сергея из Иванова, на службу в Сергиевское училище поступил И. Сливков, сменивший прежнего сторожа, с которым у Нечаева были хорошие, доверительные отношения. Семья нового сторожа с разрешения Нечаева поселилась в кухне казенной трехкомнатной учительской квартиры. Между 12 и 14 января 1869 года Сливков подал начальству жалобу на Сергея, приведу из нее извлечение:
«Во время класса он постоянно уходит давать уроки на дом, за что получает вознаграждение, а с приходящими в училище мальчиками, вместо преподавания им уроков, занимается с ними его жилец, фельдшерский воспитанник (Е. В. Аметистов. — Ф. Л.), разными глупостями, чему дети и рады.
Через это родители сих детей стали брать своих детей с вышеуказанного училища и определять в другие училища. С 8 января и по 10-е сего года не то чтобы во время класса, но даже 2 дня вовсе не являлся и домой. 9 января с[его] г[ода] смотритель застал сидящего с мальчиками вышеозначенного воспитанника, а когда бывает Нечаев дома, то постоянно бывает сборище человек 15 мужчин и также девиц, делают разные огни и выстрелы; в то же самое время он приказывает уходить в кухню; даже когда подаю самовар, принимают от меня в передней, чтобы я не видел и не слыхал бы их разговоров. 10 числа, бывши он в пьяном виде, приказывал топить печку в 12 часов ночи. Я сказал ему, что не в показанное время топить печку нельзя, через что быть пожарная команда, а он, ни слова не говоря, взял толкнул меня в дверь, а 11 числа приказал искать место. Я спрашивал, за какую причину он отказывает; тебе дела нет, а ищи себе квартиру и уезжай».[121]
Расследование доноса Сливкова произвел штатный смотритель С.-Петербургских училищ А. К. Богданов. Как выяснилось, Сливков имел жалованье сторожа 5 рублей в месяц и получал от Нечаева ежемесячно по 3 рубля за дополнительные услуги. «В объяснении, представленном Нечаевым, он отрицал существование сборищ у него на квартире, а «выстрелы и огни» объяснил химическими опытами, необходимыми ему при университетских занятиях. Директор училищ удовлетворился этим объяснением и не дал делу дальнейшего хода. Лишь спустя год, после того как открылась нечаевская история, вся эта переписка была представлена попечителем С.-Петербургского учебного округа в III отделение. В секретной записке от 29 января 1869 года сказано, что «Нечаев и прежде обращал на себя внимание». На памятной записке от 14 февраля о поручении нашим заграничным агентам проследить, не появился ли Нечаев за границей, шеф жандармов собственноручно написал: «личность эта едва ли заслуживает внимания».[122] Эти строки написаны С. С. Татищевым, служившим в Министерстве внутренних дел[123] и, быть может, единственным из историков видевшим все или почти все документы, касавшиеся Нечаева (со временем часть документов оказалась утраченной).
Богданов признал положение дел в Сергиевском училище удовлетворительным, Сливкова уволили за пьянство и плохое исполнение своих обязанностей.
Начальство относилось к Нечаеву вполне сносно. В апреле 1869 года полицейские власти потребовали от учебного округа сведения о его служебной деятельности, в ответ на это появилась «Записка о бывшем учителе Сергиевского приходского училища Сергее Нечаеве», положительно его характеризующая. В записке сообщалось:
«В службу определен Нечаев в августе 1866 г.; будучи по прошению допущен в совет с. — петербургской дирекции училищ к испытанию на звание городского приходского учителя, он выдержал это испытание с большим успехом, и так как он просил об определении его учителем, то директор училищ предназначил Нечаева к занятию учительской должности в младшем классе Андреевского двухклассного училища, но предварительно допущения к должности он был командирован в приходский класс Владимирского уездного училища под руководство опытного учителя. Посему, убедясь в усердии и успехах занятий Нечаева, директор представил г. попечителю с. — петербургского учебного округа о допущении его к исправлению должности учителя 1-го класса с. — петербургского Андреевского приходского училища, на что последовало разрешение начальства округа от 6 октября 1866 г. за № 4072. Затем в 1867 г. циркуляром по управлению с. — петербургским учебным округом, № 20 в сентябре Нечаев перемещен в Сергиевское приходское училище».[124]
Донос сторожа Сергиевского приходского училища, по мнению начальства, не содержал ничего такого, что могло бы позволить уличить учителя Закона Божия в злоумышлениях и необходимости его ареста. Дирекция училища и попечитель учебного округа не передали в III отделение сведений о взрывах и сходках на казенной квартире для учителей, но вскоре чиновники политической полиции сами обратили на Нечаева внимание.
28 января 1869 года на квартире слушателя Медико-хирургической академии Ф. Г. Любимова в доме 34 по Фурштатской улице состоялась сходка. В самом ее начале Нечаев потребовал слова и заявил, «что уже довольно фраз, что все переговорили, и тем, кто стоит за протест, кто не трусит за свою шкуру, пора отделиться от остальных; пусть поэтому, они напишут свои фамилии на листе бумаги, который оказался уже приготовленным на столе».[125]
Подписной лист, о котором шла речь, назывался: «Подпись лиц, учащихся в высших учебных заведениях, протестующих против всех тех условий, в которые они поставлены, и требующих для изменения этих условий право сходок для всех учащихся высших учебных заведений вместе. Форма протеста примется по соглашению подписавшихся».[126] На этом же листе в тексте содержалось предложение собрать «сходки и объявить начальству высших учебных заведений, чего желает студенчество, а в объяснении указать, что несмотря на его (начальства) благие желания помочь студентам, оно не способно, потому что слишком удалено от студенческой жизни».[127] Под этой нелепой бумагой Нечаеву удалось за несколько дней собрать 97 подписей.[128] Подписей могло быть и больше, но многие понимали, что затевается не борьба за расширение прав студентов, а стравливание их с начальством. Развернулись бурные прения, большинство оказалось не с Нечаевым.
Приведу отрывок из воспоминаний Л. Б. Гольденберга-Гетройтмана, присутствовавшего на этой сходке: «Нечаев явился с бумагой и прочитал что-то вроде того, что мол все мы недовольны существующим порядком вещей и что мы обязываемся собраться такого-то числа на площади перед Зимним дворцом для демонстрации. Я заявил, что не буду подписывать этой бумаги, так как не вижу смысла во всей этой затее. Многие из присутствовавших дали подписку. Вдруг кто-то сообщил, что идет полиция. Почти все бросились к выходу. В оправдание своей точки зрения я обратил внимание оставшихся на этот факт и заявил, что этот опыт показывает, что нельзя организовать демонстрацию путем подписки, данной под влиянием радикальных речей. Нечаеву нужна была эта подписка, чтобы держать опрометчивых молодых людей в кулаке, чтобы запугать их и заставить делать, что ему захочется».[129]
Позже лиц, подписавших составленное Нечаевым требование, он выдавал за своих единомышленников, входивших в некую революционную организацию. Он всеми средствами пытался создать хотя бы видимость силы, готовой выступить с революционными действиями. Из его кружка исходил миф о том, что в Европе два миллиона интернационалистов готовы восстать ради поддержки революции в России.[130] Этим история с подписным листом не закончилась. Какими-то до сих пор невыясненными путями копия его оказалась в распоряжении III отделения и хранилась там в числе особо секретных документов. Зная Нечаева, можно с уверенностью предположить, что он не мог подписной лист выпустить из своих рук случайно. Если это так, то копия подписного листа попала в политический сыск или в результате ее изготовления кем-либо с подлинника, временно выкраденного у владельца, или ее переправил в III отделение сам Нечаев с той же целью, с которой впоследствии посылал свои письма из Женевы в Россию.
На следующий день после сходки у Любимова хозяина квартиры вызвали в градоначальство «и спросили, для чего и по какому случаю у него собирались в таком количестве гости. Любимов ответил, как было условлено, что один товарищ просил уступить ему квартиру для вечеринки, желая отпраздновать свои именины или рождение».[131] Когда же у Любимова полюбопытствовали, кто сей «товарищ», он назвал Нечаева.
Утром 30 января 1869 года Сергей сказал Евлампию Аметистову, что его вызывают в полицию и, вероятно, арестуют. Он отправился на Гороховую, 2, в градоначальство, и имел там беседу с начальником Секретного отделения Канцелярии петербургского обер-полицмейстера Ф. А. Колышкиным. Нечаева пригласили в полицию вслед за Любимовым как организатора сходки 28 января 1869 года.[132] Подробности разговора, состоявшегося во владениях обер-полицмейстера, нам неизвестны. Бесспорно лишь, что Нечаева предупредили о недопустимости устройства сходок и отпустили на все четыре стороны.[133] Вечером Сергей появился на квартире Е. X. Томиловой, где часто собирались студенты-радикалы и уже более месяца жила младшая сестра Нечаева, Анна. Он сказал, что провел несколько часов у Колышкина и тот отпустил его на поручительство директора училищ.[134] «На замечание Анны или Томиловой, что ему не следует ходить на них (сходки. — Ф. Л.), он возразил, что это все равно: ему сказали, что будет он ходить или нет, арестован будет во всяком случае».[135] Странное заявление полицейских — зачем тогда отпустили? Утром в квартире Томиловой вновь появился Нечаев и попросил спрятать сверток с бумагами, а вечером на студенческую сходку прибежал Евлампий Аметистов и заявил, что Нечаев арестован. На следующий день к Томиловой пришла В. Засулич и принесла конверт с двумя записками, полученными ею по городской почте. В первой записке говорилось:
«Идя по мосту, я встретил карету, в какой возят арестованных; из нее выбросили мне клочок бумаги, и я узнала голос дорогого для меня человека: если вы честный человек доставьте; это я спешу исполнить и в свою очередь прошу вас как честных людей, сию минуту уничтожить мою записку, чтобы не узнали меня по почерку. Студент».
Вторая записка была написана рукой Нечаева на клочке серой бумаги:
«Меня везут в крепость; не теряйте энергии, друзья-товарищи, хлопочите обо мне! Даст Бог — свидимся».[136]
Несмотря на то, что записки вызывают серьезные подозрения, даже если не углубляться в анализ их содержания, все, кто их читал, нисколько не усомнились в правдивости написанного. При перевозке в карете арестант сидел между двух жандармов и напротив офицера или унтер-офицера. В такой обстановке ни написать записку, ни выбросить ее из наглухо зашторенного окна невозможно, как невозможно ничего прокричать. Кроме того, арестант никогда не знает, куда его везут. Но все поверили. Поразительная доверчивость объясняется вовсе не тупостью или необыкновенным простодушием всех, кто сталкивался с Нечаевым. Дело в том, что в студенческой среде 1860-х годов (и ранее) традиционно доверяли друг другу. Молодые люди не смели даже вообразить, что их товарищ может обмануть, подвести, украсть, предать. В студенческом братстве царило безграничное доверие. Этим не раз пользовался Нечаев, и не он один. Позже Орлов признался, что записки — их с Сергеем рук дело. Анне Нечаевой было все известно, но она помчалась по полицейским учреждениям искать брата и везде получала один и тот же ответ — Нечаев арестован не был. В архиве III отделения сохранилась справка, приведу из нее извлечение:
«Анна Нечаева знала о проделках своего брата и намерении его скрыться, что доказывается тем, что на следующий же день после исчезновения Нечаева, когда никому еще об этом не было известно, она пришла на его квартиру и забрала все оставленные им вещи, а затем, чтобы поддержать распушенный слух будто бы Нечаев заключен в крепость, она явилась к Обер-Полицмейстеру просить свидания с братом».[137]
Записка Нечаева перекочевала от Засулич и Томиловой к Орлову, и он показал ее студенту университета Л. П. Никифорову, постоянному участнику сходок. Известие об аресте Нечаева взволновало университетских студентов, и они решили потребовать от ректора заступничества за своего однокашника. Ректор университета, профессор К. Ф. Кесслер, пообещал им «расследовать все дело и хлопотать об освобождении Нечаева. Студенты разошлись по своим аудиториям, — вспоминал Никифоров. — и в скором времени получили ответ ректора, гласивший, что никакого Нечаева в числе слушателей университета не значится и не значилось, а потому ректор отказывается хлопотать об его освобождении. Такая лживая увертка страшно нас возмутила. Знавшие, где Нечаев вешал свое пальто, побежали к его вещам, чтобы узнать номер и хотя бы этим изобличить ректора во лжи, но швейцар не допустил их, а когда нас собралось побольше, то на вешалке уже красовался вновь наклеенный ярлык с новой фамилией».[138] Требования об освобождении Нечаева растворились в других событиях. В это время столичное студенческое движение достигло наивысшего подъема.
Тем временем Нечаев прятался у кого-то из друзей, вероятно у Орлова. Около 1 февраля они отправились в Москву и остановились на квартире бывшего ученика Орлова по Ивановской школе, надзирателя Титовского арестантского дома Н. Н. Николаева.[139] Орлов познакомил Нечаева с заведующим книжным магазином А. Л. Черкесова П. Г. Успенским и его женой Александрой, родной сестрой В. И. Засулич. Сергей тут же в присутствии Орлова рассказал, как ловко сбежал из Петропавловской крепости. Подробности этого фантастического подвига сохранились в пересказе присяжного поверенного Д. В. Спасовича, защищавшего Успенского на «Процессе нечаевцев»: «Его сажали в промерзший каземат Петропавловской крепости; он до того окоченевал в этих стенах, покрытых льдом, что ему ножом разжимали зубы, чтобы впустить несколько капель спирта; он ушел, надев шинель какого-то генерала и очутился в Москве».[140]
Из Москвы Орлов и Нечаев ездили в Иваново, там у фабриканта А. Ф. Зубкова им удалось получить 200 рублей. Офицер Владимирского губернского жандармского управления, капитан Тимофеев писал о нем: «…Зубков фабрикант с огромным состоянием, 25 лет, довольно посредственно образован, но вольного образа мыслей».[141] С деньгами ивановского вольнодумца и паспортом Орлова Нечаев через Москву двинулся в Одессу.[142] Там он несколько дней прожил в Ольвийской гостинице,[143] но вдруг вновь очутился в Первопрестольной. В это же время туда, с целью оформления документов на покупку печатного станка, прибыли Ткачев и его невеста Дементьева. Неутомимый Нечаев повторил новым слушателям, как бежал из Петропавловской крепости, а потом еще от нерасторопных одесских жандармов, И в Петербурге, и в Москве ему охотно верили, а ведь Ткачев сиживал в крепости и твердо знал, что сбежать оттуда невозможно. (В рукописи воспоминаний Ралли о мнимом аресте Нечаева имеются следующие строки: «Ткачев каким-то образом узнал об этой мистификации и отнесся к ней до крайности недоброжелательно, заявляя, что он не признает для себя возможным поддерживать этот слух и потому вообще будет заявлять, что Нечаев не арестован, а просто, боясь ареста, сбежал».[144] Ралли утверждал, что Нечаев с Ткачевым в Москве не встречались.) Орлов дал Сергею еще денег, а Николаев — свой заграничный паспорт. Третьего марта ловкий беглец покинул Москву и направился в сторону русской границы. Орлов тем временем вернулся в Петербург и гам рассказал о новых подвигах своего друга.[145]
В Петербурге исчезновение Нечаева умеренные восприняли с радостью. Еще в начале января Енишерлов требовал «решения вопроса с Нечаевым», который может своими высказываниями всех отправить за решетку. На одной из сходок «был поставлен вопрос об устранении Нечаева. <…> Я (Енишерлов. — Ф. Л.) высказался в пользу его смерти, но меня никто не поддержал. Было решено всеми голосами против одного моего выслать его за границу. Убедить Нечаева, что его ищут арестовать, было очень легко после той сходки, где он так несдержанно выражался…».[146] По утверждению Енишерлова, было решено поставить Нечаева в известность о том, что его неминуемо ожидает арест и избежать его можно только срочным отъездом за границу. Если его удастся вытолкать из России, полагал Енишерлов, то «он уж, разумеется, не вернется, будучи скомпрометированным и своим поведением на сходке, и самим своим самовольным выездом за границу».[147] Далее Енишерлов подробно описал «бегство» Нечаева в чужие края:
«Так и было сделано. Тут моя иезуитчина была применена с большим успехом. Нечаев был «похищен», снабжен паспортом и деньгами, посажен на английский корабль и увезен из России.
— Никогда не забуду я этой заслуги! — говорил при прощании бедняга, кидаясь мне на шею со слезами на глазах.
Я вытер свои губы и отвечал ему: «Так лишь в несчастье познаются истинные друзья!» и у меня сильно чесались руки скинуть его с борта… Чего я тогда этого не сделал? — При нем были компрометирующие письма».[148]
Подтверждений енишерловской версии «бегства» Нечаева из России не обнаружено. Но его рассказ не вступает в противоречие с другими событиями, происшедшими с Нечаевым в это же время. Любые воспоминания грешат неточностями, иногда чистым вымыслом, всегда тенденциозностью. Наш мемуарист напрасно пытался внушить, что это он выпроводил бывшего друга из России. Никем не преследуемый Нечаев бежал по собственной воле для создания автобиографии. Зачем было бы придумывать побеги от жандармов и остаться в России? Перейти на нелегальное положение и прятаться от тех, кто его еще не ловил? Желание Енишерлова совпало с планами Нечаева.
Итак, корабль покинул порт и направился к дальним берегам. На его палубе стоял худощавый молодой человек в неопрятной, поношенной одежде. Он заметно волновался, но нет, его никто не собирался преследовать, погоню за беглецом не снаряжали. Сергей Геннадиевич Нечаев нервничал совсем по другому поводу: он опасался встречи с А. И. Герценом, Н. П. Огаревым и М. А. Бакуниным. Доплыла ли молва до Швейцарии о петербургских баталиях, о его неудачах, о «побегах»? Как себя вести? Он надеялся на поддержку легендарных патриархов русской революции, жаждал часть их авторитета перетянуть на себя, желал дружбы с ними, особенно с Герценом. В голове Нечаева роились монологи, сцены встречи со стариками: нельзя промахнуться. И он решил прибыть в Женеву посланцем от Комитета тайного могущественного революционного сообщества, посланием, призванным установить связь между молодой революционной Россией и стареющими эмигрантами.
ПРЕДШЕСТВЕННИКИ
Пока Нечаев пересекает моря и дальние страны, оставим ненадолго нашего героя и обратимся к тем, кто прокладывал ему путь в революционное движение. Нечаев появился не на пустом месте — познакомимся же с его предшественниками.
Роман Ф. М. Достоевского «Бесы» увидел свет в 1871–1872 годах на страницах московского журнала «Русский вестник». Вслед за завершением журнальной публикации роман вышел отдельной книгой. Прочитав ее, наследник престола, великий князь Александр Александрович, будущий император Александр III, высказал своему наставнику К. П. Победоносцеву пожелание узнать о мотивах, вызвавших появление странного романа. Просьба была передана Достоевскому, и он поспешил в письме наследнику престола изложить причины, побудившие его взяться за перо.
«Ваше императорское высочество.
Милостивый государь,
Дозвольте мне иметь честь и счастие представить вниманию Вашему труд мой. Это — почти исторический этюд, которым я желал объяснить возможность в нашем странном обществе таких чудовищных явлений, как нечаевское преступление. Взгляд мой состоит в том, что эти явления не случайность, не единичны, а потому и в романе моем совсем нет ни списанных событий, ни списанных лиц. Эти явления — прямое последствие великой оторванности всего просвещения русского от родных и самобытных начал русской жизни. Даже самые талантливые представители нашего псевдоевропейского развития давным-давно уже пришли к убеждению о совершенной преступности для нас, русских, мечтать о своей самобытности. Всего ужаснее то, что они совершенно правы; ибо, раз с гордостию назвав себя европейцем, мы тем самым отреклись быть русскими. В смущении и страхе перед тем, что мы так далеко отстали от Европы в умственном и научном развитии, мы забыли, что сами, в глубине и задачах русского духа, заключаем в себе, как русские, способность, может быть, принести новый свет миру, при условии самобытности нашего развития. Мы забыли, в восторге от собственного унижения нашего, непреложнейший закон исторический, состоящий в том, что без подобного высокомерия о собственном мировом значении, как нации, никогда мы не можем быть великою нациею и оставить по себе хоть что-нибудь самобытное для пользы всего человечества. Мы забыли, что все великие нации тем и проявили свои великие силы, что были так «высокомерны» в своем самомнении и тем-то именно и пригодились миру, тем-то и внесли в него, кажется, хоть один луч света, что оставались сами, гордо и неуклонно, всегда и высокомерно самостоятельными.
Так думать у нас теперь и высказывать такие мысли значит обречь себя на роль пария (отверженного, бесправного. — Ф. Л.). А между тем главнейшие проповедники нашей национальной несамобытности с ужасом и первые отвернулись бы от нечаевского дела. Наши Белинские и Грановские не поверили бы, если б им сказали, что они прямые отцы Нечаева. Вот эту родственность и преемственность мысли, развившейся от отцов к детям, я и хотел выразить в произведении моем. Далеко не успел, но работал совестливо.
Мне льстит и меня возвышает духом надежда, что Вы, государь, наследник одного из высочайших и тягчайших жребиев в мире, будущий вожатый и властелин земли Русской, может быть, обратите хотя малое внимание на мою попытку, слабую — я знаю это, — но добросовестную, изобразить в художественном образе одну из самых язв нашей настоящей цивилизации, цивилизации странной, неестественной и несамобытной, но до сих пор еще остающейся во главе русской жизни.
Позвольте мне, всемилостивейший государь, пребыть с чувствами беспредельного уважения и благодарности Вашим вернейшим и преданнейшим слугою.
10 февраля 1873 г.
Федор Достоевский».[149]
Комментарий к этому очень непростому письму требует специального исследования, здесь необходимо отметить лишь следующее.
«Высокомерие — надменное, презрительное отношение к окружающим, чрезмерная гордость, чванство». «Самомнение — слишком высокое мнение о себе, о своих достоинствах, заслугах» («Словарь современного русского литературного языка»).
Мог ли великий мыслитель писать так о своем народе, мог ли глубоко верующий христианин желать своему народу чрезмерной гордыни и чванства? Под «высокомерием» и «самомнением» Достоевский понимал — самоуважение, необходимое любой нации, а эти слова употребил как более сильные, обращающие на себя особое внимание. Он полагал, что нация, обладающая такими качествами, как самоуважение, собственное достоинство, способна отторгнуть нечаевщину, оградить себя от бесовщины, вседозволенности.
Не все те, кого великий писатель относил к западникам, были действительно западниками или оставались ими всю жизнь. Сам Федор Михайлович начинал с увлечений западничеством, уж кто — кто, а он превосходно знал, как со временем абсолютно искренне изменяются на противоположные взгляды и даже убеждения. Западники потому и появились, что существовали славянофилы, и наоборот. Вину за возникновение Нечаевых надлежит искать и в тех и в других. Быть может, именно поэтому Достоевский не написал наследнику русского престола об одной из главнейших причин, заставившей его взяться за «Бесов», — своей причастности к появлению нечаевщины, в чем он не раз имел случай признаться. «Бесы» — это покаяние Достоевского. Как бывший петрашевец, как человек, сформировавшийся в 1840-е годы и «во дни молодости» придерживавшийся левых радикальных убеждений, он первый понял, что ростки нечаевщины появились на почве освободительного движения еще в кружках его современников, а возможно, и раньше. Именно в письме великому князю Александру Александровичу Достоевский впервые высказал лишь на первый взгляд парадоксальную мысль о том, что «прямые отцы» нечаевщины — «Белинские и Грановские».
Федор Михайлович вовсе не питал неприязни к «прямым отцам». Через несколько дней после смерти Белинского он сказал своему приятелю С. Д. Яновскому: «Батенька, великое горе свершилось, — умер Белинский».[150] Если о Белинском ко времени работы над «Бесами» Достоевский переменил свое мнение, то в «Дневнике писателя» за 1876 год о втором «прямом отце» он писал: «Грановский был самый чистейший из тогдашних людей; это было нечто безупречное и прекрасное».[151] Дело не в симпатиях Достоевского, а в его убеждениях. В отношении Белинского неприязнь Федора Михайловича объясняется циничным атеизмом великого критика; возможно, бывшему петрашевцу не давало покоя то обстоятельство, что его приговорили к смерти за публичное чтение письма Белинского к Гоголю.
Элементы будущей нечаевщины присутствуют среди декабристов. А. А. Бестужев и К. Ф. Рылеев преувеличивали число заговорщиков в объяснениях с членами Северного общества перед выступлением 14 декабря 1825 года. После разгрома декабристов лишь в 1830-е годы появились кружки, в которых молодые люди объединялись для совместного изучения трудов европейских философов, презираемых императором Николаем I. Как только монарх узнавал о пробуждении мысли, действия его делались решительными и молниеносными. Так, по его указанию были закрыты журналы: в 1832 году — «Европеец» И. В. Киреевского, в 1834-м — «Московский телеграф» Н. А. Полевого, в 1836 году — «Телескоп» Н. И. Надеждина. Около «Телескопа» в Москве образовался литературно-философский кружок западнического направления. В него входили М. А. Бакунин, Т. Н. Грановский, Н. И. Надеждин, В. Г. Белинский, К. С. Аксаков, М. Н. Катков, Я. М. Неверов, С. М. Строев, В. И. Красов и другие, во главе кружка стоял Н. В. Станкевич, оказавший существенное влияние на развитие общественной мысли в России. Молодые люди самостоятельно изучали ненавидимую монархом философию.
Кафедру философии в Московском университете Николай I повелел закрыть в 1826 году навсегда. Однако профессор физики, минералогии и сельского хозяйства М. Г. Павлов, отрывая часы от своих предметов, читал студентам «введение к философии».[152] Студент Станкевич квартировал в доме Павлова[153] и пользовался его особым расположением. Профессор побудил студентов к самостоятельному изучению философии, но не дал им углубленных знаний и не познакомил с новейшими учениями. «Чего не сделал Павлов, — вспоминал А. И. Герцен. — сделал один из его учеников — Станкевич. Станкевич, тоже один из праздных людей, ничего не совершивших, был первый последователь Гегеля в кругу московской молодежи. Он изучил немецкую философию глубоко и эстетически; одаренный необыкновенными способностями, он увлек большой круг друзей в свое любимое занятие. Круг этот чрезвычайно заметен: из него вышла фаланга ученых, литераторов и профессоров, в числе которых были Белинский, Бакунин, Грановский.
<…> Болезненный и тихий по характеру, поэт и мечтатель, Станкевич, естественно, должен был больше любить созерцание и отвлеченное мышление, чем вопросы жизни и чисто практические; его аристократический идеализм ему шел, это был «победный венок», выступивший на его бледном предсмертном челе юноши. Другие были слишком здоровы и слишком мало поэты, чтобы надолго остаться в спекулятивном мышлении без перехода к жизни. Исключительное умозрительное направление совершенно противоположно русскому характеру, и мы скоро увидим, как русский дух переработал Гегелевское учение, и как наша живая натура, несмотря на все пострижения в философские монахи, берет свое».[154]
Западнический кружок, из которого вышли «Белинские и Грановские», воспитал виднейших славянофилов Аксакова, Каткова и не только их. Молодые люди изучали отвлеченные философские построения великих немцев и пытались перенести их на русскую почву. До кончины Н. В. Станкевича, последовавшей в 1840 году, участники кружка, высоко чтя ум и дарования своего молодого руководителя, вели жаркие споры, но «Бакунин не доходил при Станкевиче до крайне безжизненных и бездушных выводов мысли, а Белинский еще воздерживал при нем (Станкевиче. — Ф. Л.) свои буйные хулы».[155] Кружок Станкевича не был конспиративной заговорщической группой, и поэтому элементы нечаевщины в нем не присутствовали. Достоевский во фразе о «прямых отцах» Нечаева бесспорно прав в том смысле, что в этом гнезде вырос один из главнейших идеологов грядущей нечаевшины. Бакунин первый в России начал манипулировать философскими абстракциями и экспериментировать с теориями насильственного свержения существующей власти. Станкевич и его ближайшие друзья, люди умные, талантливые и высоконравственные, не могли и предполагать, к чему приведут их увлечения философией Гегеля.
Среди «прямых отцов» Нечаева Достоевский не назвал ни Бакунина, ни других революционеров. Он пожелал обратить внимание наследника престола на то, что не только бунтари могут воспитать бунтаря. Если Бакунин «прямой отец» Нечаева, то что ж тут удивительного? Достоевский утверждал, что на почве невинных или почти невинных чисто философских построений могут взрасти Нечаевы. Но на плечах именно Бакунина Нечаев въехал в революционное движение, именно Бакунин особенно близок к Нечаеву по пристрастию к разрушению и вседозволенности, не случайно они так молниеносно сблизились в 1869–1870 годах, не случайно Бакунин более всех поддержал Нечаева, сделался его «крестным отцом».
Михаил Александрович Бакунин родился 18 мая 1814 года в имении Прямухино Новоторжковского уезда Тверской губернии в семье, принадлежавшей старинному дворянскому роду. В 1828 году Михаил поступил в столичное Артиллерийское училище, из которого в 1835 году был отчислен в армию и вскоре в чине прапорщика вышел в отставку. Поселившись в Москве, регулярно посещал квартиру Станкевича и в его отсутствие фактически руководил кружком, 4 октября 1840 года Михаил Александрович отправился в Европу для пополнения образования с целью получения в России «профессорского места». В Берлине он познакомился с молодыми немецкими философами, делавшими из учения Гегеля весьма революционные выводы. Увлекающийся Бакунин быстро поменял взгляды, да так, что опередил своих новых друзей в политическом радикализме. В октябре 1842 года он опубликовал в «Немецком еженедельнике» статью «Реакция в Германии. Заметки француза», заканчивающуюся фразой: «Дайте же нам довериться вечному духу, который только потому разрушает и уничтожает, что он есть неисчерпаемый и вечно созидательный источник всякой жизни. Страсть к разрушению есть вместе с тем и творческая страсть!»[156] Статья была подписана вымышленным именем (Жюль Элизар), но вскоре авторство Бакунина ни для кого не оставалось тайной. После столь крамольной статьи возвращаться в Россию означало тотчас оказаться в Восточной Сибири. Бакунин решил, не спрашивая разрешения русских мастей, остаться в Европе, за что в декабре 1844 года Правительствующий сенат заочно приговорил его к лишению всех прав состояния, конфискации имущества и ссылке в Сибирь в каторжные работы.
Потянулись годы скитаний, постоянных занятий философией и ожиданий «своего часа». Бакунин подкарауливал революции в России, Франции, Германии, где угодно, лишь бы революции. У него чесались руки, ему не терпелось проверить на людях свои интерпретации чужих теорий. Из опасения быть выданным русскому правительству Бакунин бежал из Швейцарии, из Франции его выставили, в 1848 году он принял участие в Славянском съезде, проходившем в Праге и вылившемся в восстание. Бакунин оказался одним из его вождей и после подавления восстания скрылся в Германии. Там он выпустил воззвание к славянам, призывая их отдаться всеславянской революции в согласии с демократическими силами государств Западной Европы. Кочуя из одной страны в другую, Бакунин вербовал ратников для организации революции в Богемии (там, ему казалось, она вот-вот вспыхнет), но его планы разрушило восстание в Дрездене, разразившееся весной 1849 года. Бакунин устремился в Саксонию, чтобы возглавить мятежников. В ночь на 10 мая его арестовали и заключили в Кенигштейнский тюремный замок. 14 января 1850 года саксонский суд приговорил русского бунтаря к смертной казни через повешение, в апреле 1850 года казнь заменили пожизненным заключением. Через полтора месяца Бакунина передали австрийским властям. 14 июля 1850 года его поместили в Пражскую крепость, 14 марта 1851 года перевели в Ольмюц и приковали цепью к стене тюремной камеры. В Австрии Бакунина вновь судили и после вынесения смертного приговора виселицу заменили пожизненным заключением. Вследствие непродолжительных хлопот русского правительства в мае 1851 года австрийские власти согласились на отправку узника в Россию. Николай I полагал с его помощью обнаружить все нити мучившего его «польского заговора». Бакунин, узнав, что вскоре окажется в руках русской полиции, дважды пытался уморить себя голодом. Он не сомневался, что в России его непременно будут пытать, а потом повесят. Опаснейшего преступника везли в Россию в австрийских кандалах с соблюдением строжайшей секретности: ожидали возможной попытки освобождения, слухи о ней действительно распространились в Австрии и царстве Польском. 11 мая 1851 года Бакунина, закованного в ручные и ножные кандалы, по распоряжению монарха доставили в Секретный дом Алексеевского равелина Петропавловской крепости в Петербурге. Великий князь Александр Николаевич, будущий император Александр II, начертал на донесении начальника Штаба Корпуса жандармов, генерала Л. В. Дубельта всего одно слово: «Наконец!»[157]
Бакунин сидел в «отдельном покое» Алексеевского равелина почти три месяца, никем не посещаемый, предоставленный полному одиночеству. В конце августа к нему явился главноуправляющий III отделением Собственной Его Императорского Величества канцелярии генерал-адъютант граф А. Ф. Орлов и передал волю монарха — писать «полную исповедь». Бакунин готовил себя к пыткам, допросам, оскорблениям, порке, казни, но не к подобному предложению. С равелином и условиями содержания в нем арестантов читателю предстоит познакомиться позже. Это была самая страшная, самая жестокая тюрьма империи — каменный саркофаг, в котором медленно угасал попавший в него узник, тишина, холод, безделье, отсутствие будущего. Замелькала смутная надежда — а вдруг удастся выкарабкаться из равелина, и Бакунин дал согласие. В письме от 8 декабря 1860 года Герцену из Иркутска он объяснил свой поступок следующим образом: «Я подумал немного и размыслил, что перед juri, при открытом судопроизводстве, я должен был бы выдержать роль до конца, но что в четырех стенах, во власти медведя, я мог бы без стыда смягчить формы, и потому потребовал месяц времени, согласился и написал в самом деле род исповеди, нечто вроде «Dichtung und Wahrhein» («Вымысел и правда». — Ф. Л.)».[158]
«Исповедь»,[159] написанную Бакуниным, нашли в архиве III отделения в 1917 году, но вскоре подлинник и писарская копия, изготовленная для Николая I, были похищены историком профессором Л. К. Ильинским. Мотивы его поступка остались невыясненными, возможно, не хотел подпустить конкурентов, желавших опередить его с публикацией «Исповеди». Документы удалось возвратить в архивохранилище лишь в результате обыска, произведенного в квартире любителя бакунинских автографов.[160]
О праве первой публикации «Исповеди» разгорелся спор между редакциями журналов «Былое» и «Голос минувшего», но свет она увидела в Государственном издательстве лишь в 1921 году. И сразу же появилась масса исследований. Одни считали «Исповедь» искренней и объясняли ее появление разочарованием Бакунина в революции, другие полагали, что автор вознамерился обмануть монарха и, получив из его рук свободу, с еще большим рвением предаться революции; одни осуждали его поступок, другие оправдывали.
«Исповедь» написана в покаянном, уничижительном тоне. Она содержит изложение критических взглядов автора на государственное устройство и революционное движение. Пытавшиеся оправдать Бакунина ссылались на его письма к родным, которые ему удалось передать сестре при свидании. Да, он писал в них, как тягостно одиночное заключение в Секретном доме, как раздражают и разлагают его безделье и бессилие изменить что-либо в своем положении. Он писал, что остался пламенным приверженцем свободы. Эти письма и последующая жизнь Бакунина свидетельствуют о том, что в «Исповеди» искренним он не был. Допустимо ли это с целью получения свободы для борьбы за торжество более справедливого государственного устройства, пусть решит читатель. В. Н. Фигнер, многолетняя узница Шлиссельбургской крепости, не нашла достаточных аргументов для оправдания Бакунина.
«Исповедь» произвела на Николая I впечатление неблагоприятное, писарская копия, по которой он читал текст, испещрена ироническими замечаниями. Однако облегчение в положении Бакунина все же наступило — ему разрешили свидания с родными и позволили обменяться с ними несколькими письмами. 5 марта 1854 года его перевели в Шлиссельбургскую крепость, шла Крымская кампания, и царь опасался нападения союзного флота на Петербург. Кончилась война, умер Николай I, престол унаследовал его сын. 14 февраля 1857 года Бакунин отправил Александру I верноподданническое письмо с мольбами об облегчении участи, приведу из него извлечения:
«ГОСУДАРЬ! Одиночное заключение есть самое ужасное наказание: без надежды оно было бы хуже смерти: это — смерть при жизни, сознательное, медленное и ежедневно ощущаемое разрушение всех телесных, нравственных и умственных сил человека; чувствуешь, как каждый день более деревенеешь, дряхлеешь, глупеешь и сто раз в день призываешь смерть как спасение. <…> ГОСУДАРЬ! Каким именем назову свою прошедшую жизнь? Растраченная в химерических и бесплодных стремлениях, она кончилась преступлением. Однако я не был ни своекорыстен, ни зол, я горячо любил добро и правду и для них был готов пожертвовать собою; но ложные начала, ложные положения и грешное самолюбие вовлекли меня в преступные заблуждения; а раз вступивши на ложный путь, я уже считал своим долгом и своею честью продолжать его донельзя. Он привел и ввергнул меня в пропасть, из которой только всесильная и спасительная длань ВАШЕГО ВЕЛИЧЕСТВА меня извлечь может. <…>
ГОСУДАРЬ! Что скажу еще? Если бы я мог сызнова начать жизнь, то повел бы ее иначе; но — увы! — прошедшего не вернешь! Если бы я мог загладить свое прошедшее дело, то умолял бы дать мне к тому возможность; дух мой не устрашился бы спасительных тягостей очищающей службы: я рад был бы отмыть потом и кровью свои преступления. Но мои физические силы далеко не соответствуют силе и свежести моих чувств и моих желаний: болезнь сделала меня никуда и ни на что не годным. <…> Перед ВАМИ, ГОСУДАРЬ, мне стыдно признаться в слабости; и я откровенно сознаюсь, что мысль умереть одиноко в темничном заключении пугает меня, пугает гораздо более, чем самая смерть; и я из глубины души и сердца молю ВАШЕ ВЕЛИЧЕСТВО избавить меня, если возможно, от этого последнего, самого тяжелого наказания.
Каков бы ни был приговор, меня ожидающий, я безропотно заранее ему покорюсь как вполне справедливому и осмеливаюсь надеяться, что в сей последний раз дозволено мне будет излить перед ВАМИ, ГОСУДАРЬ, чувство глубокой благодарности к ВАШЕМУ НЕЗАБВЕННОМУ РОДИТЕЛЮ и к ВАШЕМУ ВЕЛИЧЕСТВУ за все мне оказанные милости.
Молящийся преступник Михаил Бакунин».[161]
Если «Исповедь» может вызвать разноречивые суждения о ее авторе, то здесь все бесспорно — перед нами верноподданническое покаяние. Далеко не все приговоренные к смерти за политические преступления соглашались подписать прошения о помиловании и только поэтому шли на эшафот. От осужденных требовалось не покаяние, а лишь прошение о помиловании, то есть обращение к монарху, но этого они не желали делать и платили молодыми жизнями. Бакунин поступил иначе.
Через два дня после получения бакунинского письма Александр II решил отправить шлиссельбургского узника на поселение в Сибирь. Его перевезли в Томск, и оттуда пошел поток прошений о дозволении свободного перемещения по Сибири. Ему разрешили поступить на службу канцеляристом. На помощь пришел шурин родного брата Бакунина, генерал-губернатор Восточной Сибири граф Н. Н. Муравьев-Амурский, он добился перевода ссыльного родственника в Иркутск. Там Бакунин открытой поддержкой царской администрации восстановил против себя ссыльных петрашевцев и декабристов. 5 июня 1861 года, после тщательной подготовки, Михаил Александрович тайно покинул Иркутск и отправился в Николаев-на-Амуре, а в декабре прибыл в Лондон яростным сторонником созыва в России Земского собора и освобождения крестьян с землею, выкупаемой государством. С первыми признаками Варшавского восстания 1863 года, видя в нем начало всероссийского бунта, Бакунин двинулся на восток. Не сумев добраться до Польши, он в январе 1864 года прибыл в Италию. Сблизившись с радикальной молодежью, стареющий бунтарь написал устав Тайного революционного общества. Как ядро этой предполагаемой организации он создал Тайное интернациональное революционное братство. В 1864 году Бакунина приняли в Интернационал, в 1867 году его избрали в Центральный комитет Лиги мира и свободы. Переехав в 1868 году в Швейцарию, Бакунин вступил в Женевскую секцию Интернационала и в том же году вышел из Лиги, образовав «Международный альянс социалистической демократии» — организацию с анархической программой. В марте 1869 года Генеральный совет принял Альянс в состав Интернационала, и он формально прекратил свое существование. Но под рукой у Бакунина оставалось Тайное интернациональное революционное братство, предназначенное по замыслу создателя конспиративно руководить Альянсом и Интернационалом, а следовательно, возглавить все международное рабочее движение. Действия Бакунина имели своей целью отобрать у Маркса и его сторонников руководство образованной ими организацией. Началась длительная борьба между Марксом и Бакуниным. Позже бакунинские тайные общества, альянсы и братства современники отождествляли с нечаевской «Народной расправой».[162] Нечаеву было у кого учиться, Бакунин не стеснялся лгать, интриговать и даже шантажировать. Если бы тексты «Исповеди» и писем Александру II стали известны поклонникам Бакунина, их численность сильно бы поубавилась. Но русский монарх не пожелал предавать гласности эти постыдные творения.
Меткую зарисовку великого бунтаря оставил замечательный русский художник Н. Н. Ге. Об их случайной встрече во Флоренции он писал, что Михаил Александрович «производил впечатление большого корабля без мачт, без руля, двигавшегося по ветру, не зная куда и зачем».[163]
О жизни и деятельности Бакунина написано много,[164] не будем здесь более на нем останавливаться и встретимся с ним в главах об эмиграции Нечаева, а сейчас возвратимся к временам, когда молодой Бакунин жил в Москве и увлекался Гегелем.
После распада кружка Станкевича Белинский отошел от Гегеля и принялся за утопии Шарля Фурье. Во второй половине 1840-х годов он оставил изучение великого француза и вскоре подверг его резкой критике. Однако в России фурьеризму отдал дань не только Белинский, у социалиста-утописта нашлись и другие поклонники. Одним из них был переводчик Министерства иностранных дел М. В. Буташевич-Петрашевский. В его петербургском доме с зимы 1845 года встречались приверженцы учения Фурье. Те, кого принято называть петрашевцами, объединились по крайней мере в четыре небольших, очень разнородных по воззрениям участников кружка.[165] В марте 1848 года за молодыми утопистами было установлено наблюдение. Чиновник особых поручений Министерства внутренних дел И. П. Липранди, опередив коллег из III отделения, заслал в ряды петрашевцев тайных агентов. Чем эта история кончилась, читателю хорошо известно. В докладе Генерал-аудиториата, высшего военного ревизионного суда, составленном после завершения следствия, говорилось, что Петрашевский «обнаруживает большую наклонность к коммунизму и с дерзостью провозглашает свои правила».[166] Собрания «коммунистов» в двухэтажном деревянном доме Петрашевского на Покровской площади исправно посещал Ф. М. Достоевский. Во время следствия он писал:
«Фурьеризм — система мирная; она очаровывает душу своею изящностью, обольщает сердце тою любовию к человечеству, которая воодушевляла Фурье, когда он создавал свою систему, и удивляет ум своею стройностию. Привлекает к себе она не желчными нападками, а воодушевляя любовью к человечеству. В системе этой нет ненавистей. Реформы политической фурьеризм не полагает; его реформа — экономическая».[167]
Когда же Достоевский из лица, близкого к либералам-западникам, хотя и во многом с ними несогласного, превратился в их яростного противника? Этот процесс протекал в нем медленно и мучительно. Отбывая каторгу, Федор Михайлович, как и большинство петрашевцев, пытался разобраться, за что он понес столь жестокое наказание и кто же виновен в его бедах. Именно на каторге Достоевский понял, что «изящный фурьеризм» при определенных обстоятельствах перерастает в «практический социализм», что чистые идеи, проповедуемые благородными людьми, в натурах нестойких, не приученных к созиданию, могут пробудить страсть к расшатыванию государственных устоев. Федор Михайлович обнаружил, что сам был причастен к этой бесовщине. Следовательно, правительство право, когда борется с такими людьми, как он, но зачем так жестоко… «Я был виновен, — писал он генералу Э. И. Тотлебену 24 марта 1856 года, — я сознаю это вполне. Я был уличен в намерении (но не более) действовать против правительства. Я был осужден законно и справедливо; долгий опыт, тяжелый и мучительный, протрезвил меня и во многом переменил мои мысли. Но тогда — тогда я был слеп, верил в теории и утопии. <…> Но клянусь Вам, не было для меня мучения выше того, когда я, поняв свои заблуждения, понял в то же время, что я отрезан от общества, изгнанник и не могу уже быть полезным по мере моих сил, желаний и способностей. Я знаю, что был осужден справедливо, но я был осужден за мечты, за теории… Мысли и даже убеждения меняются, меняется и весь человек, и каково же теперь страдать за то, чего уже нет, что изменилось во мне в противоположное, страдать за прежние заблуждения, которых неосновательность я уже сам вижу, чувствовать силы и способности, чтобы сделать хоть что-нибудь для искупления бесполезности прежнего и — томиться в бездействии!»[168]
Формальная вина Достоевского заключалась в публичном чтении письма Белинского к Гоголю. Смертную казнь заменили четырьмя годами каторги с дальнейшим зачислением солдатом в один из сибирских линейных батальонов. Там, в Сибири, Федор Михайлович окончательно понял, что не утопиями заниматься, не расшатывать надобно, а, если требуется, изменять постепенно, обдуманно, спокойно, изменять и укреплять устои державы. Но отчего-то в России людей способных, со знаниями, с бескорыстными помыслами оттесняют ратники разрушения, и наступает торжество бесовщины. Быть может, уже в Сибири начал зреть в нем роман о революционерах, созидателях разрушения, отрицателях, бесах… Анализируя газетные сообщения, послужившие материалом для создания «Бесов», Достоевский утвердился в мысли, что в среде петрашевцев присутствовали элементы, свойственные нечаевской «Народной расправе».[169] Более того, в нечаевской истории как бы делается следующий шаг от давно ему известного, события прежние и новые выстраиваются в единый, общий ряд. Достоевский увидел несовершившееся будущее петрашевцев и ужаснулся. Один из самых видных посетителей собраний Петрашевского Н. А. Спешнев предполагал собрать около себя законспирированную группу лиц. связав их подпиской. Приведу извлечение из этого документа, найденного в бумагах Спешнева при обыске:
«Я, нижеподписавшийся, добровольно, по здравом размышлении и по собственному желанию, поступаю в Русское Общество и беру на себя следующие обязанности, которые в точности исполнять буду;
1. Когда Распорядительный комитет общества, сообразив силы общества, обстоятельства и представляющийся случай, решит, что настало время бунта, то я обязуюсь, не щадя себя, принять полное и открытое участие в восстании и драке, т. е. что, по извещению Комитета, обязываюсь быть в назначенный день, в назначенный час, в назначенном месте, обязываюсь явиться туда, и там, вооружившись огнестрельным или холодным оружием, или тем и другим, не щадя себя, принять участие в драке и, как только могу, способствовать успеху восстания».
Далее шли пункты, обязывающие привлекать в Общество новых членов, но не более пяти, и брать с них точно такую же подписку.[170]
Среди петрашевцев Спешнев проповедовал наиболее радикальные взгляды, многие его побаивались. В начале 1849 года приятель Достоевского, доктор Яновский, заметил, что Федор Михайлович не в меру мрачен и раздражителен. На вопрос Яновского о причине дурного настроения Достоевский ответил: «Я взял у Спешнева деньги. Теперь я с ним и его… понимаете ли, что у меня с этого времени есть свой Мефистофель».[171] Из ответа Федора Михайловича следовало, что он получением в долг некой суммы попал в кабалу, утратил самостоятельность взглядов и поступков. Быть может, Спешнев за оказанную услугу требовал подписать приведенный выше документ. Тогда-то Достоевский и ощутил на себе цепкую паутину, обволакивающую и затягивающую его в некое пространство иного мира, где господствует то, что впоследствии получило название нечаевщины. «Я сошел бы с ума, — вспоминал Федор Михайлович, — если бы не катастрофа (арест. — Ф. Л.), которая преломила мою жизнь. Явилась идея, перед которой здоровье и заботы о себе оказались пустяками».[172] Что же пришлось пережить Достоевскому, если арест и все последовавшее за ним представились ему избавлением? Подтверждение принадлежности Достоевского к конспиративному кружку Спешнева имеется в записи устных воспоминаний поэта А. Н. Майкова,[173] ближайшего друга Федора Михайловича.
Спешнев не успел образовать Русское Общество, он предполагал построить его из системы кружков, в состав каждого из которых входило бы по пять человек. Нечаев будет создавать «Народную расправу» точно по такому же принципу. Совпадение ли это? Бакунин встречался со Спешневым в Восточной Сибири, а Ткачев располагал текстом спешневской подписки. Бесспорно, они говорили с Нечаевым о петрашевцах и замыслах Спешнева. Не случайно Достоевский называл Спешнева предшественником Нечаева.
Из донесений агента Министерства внутренних дел Н. Ф. Наумова мы узнаем, что среди петрашевцев практиковались обман и запугивание. Так, со слов «злоумышленника» А. Д. Толстова, Наумов доносил Липранди: «Из нас многие отправились внутрь России и действуют на все классы народа».[174] Петрашевец Толстое, принимая Наумова за своего, пытался превратить его в пропагандиста среди крестьян. Петрашевцы никуда не «отправлялись» и ни на какие «классы народа» не «действовали». Толстов не только привирал Наумову, но и запугивал его. На вопрос полицейского агента, откуда они могут знать о предательстве, Толстов заявил: «Мы не только это узнаем, но у нас такая связь, что если бы я завтра сказал Дубельту что-то про наших, то они в тот же час узнают и я исчезну, и потому-то я, несмотря на казнь, какая бы она ни была, никогда не скажу правды и своих не выдам, лучше погибнуть одному, двум, нежели предать целое общество».[175] И так далее. Наумов настороженно слушал и обо всем доносил Липранди. Толстов действительно никого не предал. Он один из немногих петрашевцев, кто сразу же после ареста написал покаянное письмо на высочайшее имя и, избежав каторги, отбывал наказание, служа унтер-офицером на Кавказе, в 1856 году получил офицерский чин и вскоре возвратился в Петербург.
П. Н. Ткачев в статье «Жертвы дезорганизационных сил», опубликованной в 1878 году, писал о петрашевцах: «Общество существовало с 1842 г. в Петербурге, в состав его входило несколько кружков (были даже чисто женские кружки), в провинции оно имело своих доверенных лиц или агентов, как они называются в дознании. Такие агенты были в Москве, в Тамбове, в Сибири, в Ревеле, в Ростове и некоторых других местах. В состав Общества входили лица всевозможных званий и профессий. Рядом с гвардейскими офицерами и чиновниками Министерства иностранных дел, — читаем мы в липрандиевской записке, — в нем находились не кончившие курс студенты, мелкие художники, купцы, мещане и даже лавочники, торгующие табаком».[176] Далее Ткачев сообщал о многочисленных собраниях заговорщиков и их решимости выступить против трона. Он умышленно выдавал желаемое за действительное, ему так хотелось. Свои знания о петрашевцах он черпал из записки чиновника особых поручений Министерства внутренних дел И. П. Липранди. Чиновник особых поручений, доверенное лицо министра и его сыщики были заинтересованы в придании делу возможно более грандиозных размеров. В случае успеха полицейских агентов ожидали награды. Даже Следственную комиссию Липранди не удалось убедить в правдивости доставленных сведений о преступных деяниях петрашевцев. Были намерения, например у Спешнева, но до деяний не дошло. Ткачев доверял Липранди, не задумываясь о достоверности информации. Как революционеру, ему было выгодно иметь решительных предшественников, боровшихся с самодержавием, а не увлекавшихся лишь полемикой околоутопических учений и мирной пропагандой социалистических идей. Впрочем, и Липранди, и Ткачева в значительной степени ввел в заблуждение Петрашевский, таинственно намекавший своим приверженцам, что его кружок — лишь частичка разветвленной сети решительных сторонников социальных перемен. Даже петрашевцы, разочаровавшиеся в своем говорливом вожде (Спешнев, Достоевский и другие), верили этой небылице.
После разгрома петрашевцев общественная жизнь в России замерла на целое десятилетие. Ее оживление связано с поражением в Крымской войне, амнистией декабристов, подготовкой крестьянской реформы, массовым появлением в рядах русской интеллигенции разночинцев.
Попав в студенческую среду и не имея средств к существованию, разночинцы быстро превращались в радикалов. Они еще до поступления в университеты, испытав или близко столкнувшись с эксплуатацией, обнаружили в ней виновницу нужды и всеобщего зла. Разночинцы более других задумывались над бесправием трудового народа и возлагали на себя обязанность хоть чем-нибудь облегчить его положение. Либерализм просвещенных дворянских интеллигентов сменился радикализмом разночинцев. Благодаря активности шумных, вечно недовольных разночинцев правительство перенесло свои подозрения на все студенчество и учредило за ним строжайший надзор. Разумеется, в противоправительственных выступлениях участвовали не одни разночинцы, главная их роль заключалась в повышении революционной активности студенчества. Так как любое недовольство существующим порядком рассматривалось как противоправное деяние, студенческие объединения тщательно конспирировали свою деятельность.
Один из первых студенческих кружков, возникших после длительного затишья, образовался в 1859 году в Москве и назывался «Библиотека казанских студентов». В кружок входили главным образом студенты университета и занимались в нем политическим самообразованием.[177] В начале 1861 года из этого кружка выделилась группа молодых людей и образовала новый кружок, которым руководили студенты университета П. Э. Аргиропуло и П. Г. Заичневский. В задачи этого кружка входило «литографирование университетских лекций и недозволенных цензурою сочинений».[178] Для этой цели Заичневский в 1860 году купил литографский станок, но вскоре его продал, напечатав на нем лишь тексты университетских лекций.[179] В это время в Москве насчитывалось до 150 литографий, из них лишь 96 имели разрешение правительства. Студенты в одной из нелегальных типографий напечатали значительное количество запрещенных сочинений Герцена, Огарева, Фейербаха и других. 22 июля 1861 года Аргиропуло и Заичневского арестовали и отправили в Полицейский дом Тверской части города Москвы. Разбирательство тянулось пять месяцев, молодые люди держались стойко.[180] По завершении следствия дело поступило в Министерство юстиции, и лишь 5 февраля 1862 года его переправили в Первое отделение Шестого департамента Сената. Далее началось неспешное закрытое слушание, и, наконец, 2 января 1863 года объявили приговор. К этому времени Аргиропуло скончался от воспаления мозга, и его 21 декабря тайком похоронили на Миусском кладбище, а Заичневского 10 января отправили в Красноярск.
Через десять месяцев после ареста Заичневского и Аргиропуло, 14 мая 1862 года, на Московском почтамте полиция вскрыла четыре подозрительных пакета и обнаружила в них по экземпляру листовки «Молодая Россия».[181] Имя ее автора стало известно лишь в 1923 году, после появления в печати письма Заичневского. Приведу из него извлечение: «На ваш ряд вопросов не могу отвечать, как бы требовалось, по пунктам, потому что кое-что забыл, а кое-чего как-то и не представляю себе. «Мол[одую] Р[оссию]» писали я и мои товарищи по заключению. Припомнить долю участия каждого не берусь — написал аз многогрешный, прочел, выправили общими силами, прогладили и отправили для печатания через часового. Солдатик этот несколько раз потом встречался мне в Орле и только тогда я узнал его имя — Матвей Спидович Стрелков — вот имя нашего почтальона, вызвавшегося дать ход нашему произведению. Знали ли мы тогда современную европейскую социалистическую литературу? Кое-что читали, кое-что слышали, но ничего основательно усвоено не было. Одно могу сказать определенно: Марксятину еще не читали, а «Манифеста»[182] не видели до 1884 года, когда я узрел его впервые в русском переводе».[183]
По утверждению публикатора письма М. К. Лемке, он получил копию с него от одного из основателей общества «Земля и воля» А. А. Слепцова. Учитывая, что Лемке имел странную слабость к мистификациям, следовало бы усомниться в подлинности цитируемого письма: оригинал не обнаружен, автор запомнил имя, отчество и фамилию солдата — почтальона (отчество написано неверно), но не назвал никого из «товарищей по заключению», писавших текст листовки, кроме И. И. Гольц-Миллера (в Полицейском доме Тверской части Заичневский сидел один, Аргиропуло лежал в полицейской больнице, а Гольц-Миллер, дав подписку о невыезде, жил на свободе), зачем Заичневскому понадобился солдат-почтальон, если к нему «был открыт доступ для всех его знакомых».[184] Арестанту даже разрешалось в сопровождении солдата ходить в городскую баню. А. Н. Можарова, близкая к кружку Заичневского, вспоминала, как она с сестрой, идя по Тверскому бульвару, встретила арестанта, все остановились, и полился плавный неторопливый разговор. «Потом к нам стали подходить другие знакомые, студенты, дамы, какие-то старички, и мы с Лизой (сестрой. — Ф. Л.) поспешили проститься с П. Г. (Заичневским. — Ф. Л.), причем он пригласил нас непременно на следующий день к себе, т. е. в часть. <…> Маленькая низкая камера-одиночка была полна; сидели на кровати, на подоконнике, на полу и на столе; нам уступили единственную табуретку. Была больше молодежь, и среди них несколько товарищей Заичневского по университету. Шли горячие споры, а П. Г. молчал и слушал. Наконец, заговорил и он, и разбил каждого по очереди».[185] Пусть читателя не удивляют мягкость и попустительство полицейских властей в отношении политического преступника: в патриархальной Москве революционеры были в новинку, строгости начались позже.
Об авторстве Заичневского поговаривали уже в 1862 году, во всяком случае, считали, что «Молодая Россия» вышла при участии членов его кружка. Впрочем, полиция даже не предполагала или не желала предполагать, что листовку сочинили лица арестованные и находившиеся под следствием.[186] Член общества «Земля и воля» Л. Ф. Пантелеев писал, что ««Молодая Россия» была отпечатана в Рязанской губернии и вышла из очень небольшого московского кружка студентов Аргиропуло (вскоре умершего) и Заичневского».[187] Действительно, листовку отпечатали в нелегальной типографии, находившейся в рязанском имении будущего нечаевца П. И. Коробьина.[188] Исследователи склонны называть авторами «Молодой России» Заичневского и других членов его кружка,[189] состоявшего из двух-трех десятков студентов. Но подписана она никогда не существовавшим «Центральным Революционным Комитетом». Листовка сообщает читателю, что революция неизбежна и явится следствием борьбы народа с «императорской партией», требует свержения монархического способа правления, установления революционной диктатуры, способной осуществить социальную программу и образовать республиканско-федеративный строй. Приведу из нее извлечение:
«В современном общественном строе, в котором все ложно, все нелепо от религии, заставляющей верить в мечту горячего воображения, — бога, и до семьи, ячейки общества, ни одно из оснований которой не выдерживает даже поверхностной критики, от узаконения торговли, этого организованного воровства, и до признания за разумное положение работника, постоянно истощенного работою, от которой получает выгоды не он, а капиталист; женщины, лишенной всех политических прав и поставленной наравне с животными.
Выход из этого гнетущего, страшного положения, губящего современного человека и на борьбу с которым тратятся его лучшие силы, один — революция, революция кровавая и неумолимая, — революция, которая должна изменить радикально все, вес без исключения, основы современного общества и погубить сторонников нынешнего порядка.
Мы не страшимся ее, хотя и знаем, что прольется река крови, что погибнут, может быть, и невинные жертвы; мы предвидим все это, и все-таки приветствуем ее наступление, мы готовы жертвовать лично своими головами, только пришла бы поскорее она. давно желанная!»[190]
«Молодая Россия» — предтеча нечаевских прокламаций и нескончаемого потока листовок, наводнивших Россию в конце XIX и особенно в начале XX века вплоть до 1917 года. Авторы подобного рода сочинений, переписывая и перефразируя, эксплуатировали этот текст, непременно оставляя основную его суть — действительность невыносимо плоха и несправедлива, требуются перемены с неизбежным и обильным кровопролитием, вслед за которым обязательно наступит торжество справедливости, равенства и братства.
После выхода листовки Н. Г. Чернышевский отправил в Москву Слепцова для переговоров с мифическим Центральным революционным комитетом.[191] Разумеется, Слепцов не нашел лихих членов Центрального комитета, и найти не мог, разве что самозванцев. Длительное время правительство и даже некоторые революционеры верили в существование Центрального революционного комитета и приписывали ему все беспорядки, происходившие на территории империи, например петербургские пожары, начавшиеся весной 1862 года.
В то время как Заичневский отбывал в Красноярске первые месяцы каторги, из Пензы в Москву приехал недоучившийся гимназист Н. А. Ишутин. Он встретился с земляками, обосновавшимися в Первопрестольной раньше него, некоторые из них участвовали в волнениях 1862 года и были членами «Библиотеки казанских студентов»,[192] первого кружка Заичневского. Ишутин поселился у них в коммуне, жизнь в которой на случайные заработки позволяла только что не помереть с голоду.[193] Известная журналистка Е. И. Козлинина вспоминала об Ишутине: «Весь его гардероб состоял из болотных сапог, заношенных триковых брюк, двух синих рубах и нагольного тулупа. Это было все, чем снабдила его захудалая семья, отправившая его в Москву учиться в университет. А уж о своем прокормлении ему предоставлялось позаботиться самому».[194] Козлинина не знала, что Ишутин рано осиротел и жил в семье своего двоюродного брата Д. В. Каракозова. Ее воспоминания пропитаны активной неприязнью к недоучившемуся гимназисту и его друзьям. «Ишутин — более мрачный и озлобленный, — писала Козлинина, — не столько человеконенавистник, каким он хотел казаться, сколько в сущности завистник, человек в высшей степени скудно одаренный и нравственно и физически, он страстно мечтал о популярности, безразлично от того, каким бы путем она достигнута ни была».[195]
Осенью 1863 года бывшие пензенские гимназисты и присоединившиеся к ним студенты университета, приехавшие в Москву из других провинций, образовали небольшой законспирированный кружок землевольческого направления.[196] Впоследствии этот кружок называли Ишутинским, по фамилии самого активного из его основателей. На первых порах ишутинцы занимались просветительской и благотворительной деятельностью, затем постепенно перешли к «распространению в народе социалистических верований».[197] Необходимые средства для деятельности кружка предполагалось доставать в виде пожертвований от сочувствующих, если же средств не будет хватать, то допускались грабеж и воровство.[198] Ишутинец П. Д. Ермолов во время следствия заявил: «Цель наших действий была посредством революции уничтожить частную собственность, водворить вместо нее общее пользование землей».[199] Большинство ишутинцев полагало, что на российский бунт снизу рассчитывать не следует, свержение монархии возможно только силами революционной организации, способной повести за собой народ. Требуется превратить кружок в общество, для этого привлечь в него новые силы. Их ишутинцы искали среди молодых людей, участвовавших в работе ранее действовавших революционных кружков.
Весной 1864 года некоторые ишутинцы разъехались по домам с намерением вести пропаганду в провинции. П. Д. Ермолов в своем пензенском имении открыл бесплатную школу для крестьянских детей (вскоре по доносу сельского священника она была закрыта), Н. П. Петерсон учительствовал в Богородске. Ишутин же всю летнюю навигацию проплавал на пароходе. В Нижнем Новгороде ему удалось установить связь с группой бывших семинаристов, поклонников социалистических идей. Осенью 1864 года ишутинцы совместно с приехавшими нижегородцами организовали переплетную мастерскую, в которой кроме студентов трудились и рабочие, с ними велись общеобразовательные занятия и осторожная противоправительственная пропаганда, ею занимался основатель кружка. «Сам Ишутин обладал большим красноречием, — писал один из членов кружка, — когда дело касалось разговора с народом».[200] В январе 1865 года на имя П. А. Мусатовского было получено разрешение на открытие бесплатной школы для мальчиков. Руководил школой Ишутин, кроме него преподавателями были Н. П. Странден, Д. А. Юрасов и П. Д. Ермолов. В феврале ишутинцы организовали швейную артель, ученицам читали «Что делать?» Н. Г. Чернышевского. В основе всех мероприятий лежало стремление организаторов кружка к объединению возможно большего числа людей и проведению среди них противоправительственной пропаганды.
На собрания ишутинцев в Москву приезжал представитель общества «Земля и воля» В. В. Чуйко, старательно избегавший прямых ответов на конкретные вопросы, но заявивший, что в Обществе состоит около восьми тысяч человек.[201] Цифра эта преувеличена примерно в сорок раз. Связь с руководителями «Земли и воли» осуществлял Ишутин.
Осенью 1864 года в Москву переехал Каракозов и поступил на второй курс университета, а в июне 1865 года с ишутинцами познакомился петербуржец И. А. Худяков, литератор и этнограф-самоучка. Оба эти человека сыграли главную роль в драматической судьбе московских революционеров. В августе Худяков на деньги ишутинцев отправился в Европу, там ему предстояло познакомиться и установить связи с русской революционной эмиграцией. Он встречался с А. И. Герценом, Н. П. Огаревым, Н. И. Утиным, М. К. Элпидиным, Л. И. Мечниковым. Н. Я. Николадзе и другими. Мы не располагаем достоверными сведениями, виделся ли Худяков с М. А. Бакуниным, жившим в это время в Италии.[202] В конце ноября путешественник возвратился в Россию и, даже не отметив в Петербурге паспорта, умчался в Москву. Ему не терпелось рассказать Ишутину о виденном и слышанном. В Европе, по его словам, действует могучая конспиративная организация, которая руководит революционным движением во всех странах земного шара. Во главе этого «Европейского революционного комитета» стоит Бакунин, и он готов содействовать ищутинцам присылкою оружия.[203] Судя по характеру сообщенных Худяковым сведений, масштабу вымысла, можно предположить, что с Бакуниным он все же виделся и имел обстоятельные беседы, — уж очень отчетливо в рассказах Худякова слышится зычный голос Бакунина, с его любовью к преувеличениям, мистификации и элементарной лжи. Черты эти тогда не были еще столь распространены в среде заговорщиков, как четырьмя и более годами позже. Сведения, доставленные Худяковым, поразили Ишутина, он живо представил себя отчитывающимся перед «Европейским революционным комитетом», а возможно, и заседающим в нем, дающим указания руководителям кружков и обществ разных государств и народов. Пылкое воображение Ишутина рисовало простой до чрезвычайности план — убить царя и тем самым дать сигнал к всенародному восстанию во главе с его кружком. И он принялся убеждать соратников, что в ближайшее время в Москве появится представитель всемогущего Комитета, имеющего намерение помочь им совершить революцию. Необходимо только срочно реорганизовать кружок и увеличить его численность, да поторопиться — иначе другие опередят.
Каждого вождя противоправительственного сообщества не покидало опасение того, что кто-то его опередит и сделает свою революцию, первый взберется на освободившийся трон. И тогда он останется ни с чем. Это и порождало зуд нетерпения.
Воодушевленные зажигательными речами своего вождя, молодые московские революционеры по совету Худякова приступили к пополнению и реорганизации кружка. Зимой 1865/66 года они образовали «Общество взаимного вспомоществования», и все ишутинцы превратились в его членов. Официальным основателем Общества числился студент Московского университета А. Н. Колачевский, позже привлекавшийся к суду над нечаевцами. Легальная организация служила прикрытием конспиративной деятельности ишугинцев и являлась резервом для пополнения рядов революционеров. Преданных и активных членов Общества Ишутин объединил в небольшой кружок и назвал его «Организацией». Предполагалось, что она будет ветвью бакунинского Интернационального братства, осуществляюшего руководство всеми революционными кружками, находящимися на территории России. Ни программы, ни устава «Организации» принято не было. Из показаний В. И. Соболева выясняется следующее: «Всем членам предложено было разъехаться по России, чтобы составлять кружки из молодых людей всех сословий. Агент от Центральной агентуры должен составлять кружок так, чтобы его знал один или небольшое число людей из составленного кружка, сноситься должен через одного из представителей этого кружка, чтобы кружок не знал о существовании Центральной агентуры и что в случае только надобности, чтобы возбудить энергию кружка, намекать, что существует что-то такое. Положено было каждому члену иметь револьвер, который должен покупаться на общий счет. Располагать жизнью каждого из членов, в случае измены или намерения изменить».[204] Все это осталось в замыслах ишутинцев, на самом же деле «Организация» занималась сбором средств, приемом пополнения и пропагандой среди населения.
Наиболее доверенных лиц из состава «Организации» Ишутин ввел в еще строже законспирированную группу, получившую название «Ад». В ее обязанности входили наблюдение за действиями членов «Организации» и подготовка цареубийства. После удачного покушения на монарха ишутинцы намеревались истребить землевладельцев и «основать управление государством на социалистических началах».[205] Покушение на монарха могло не производиться, если правительство согласилось бы с некими условиями, поставленными ишутинцами. От лиц, входивших в состав «Ада», требовалось жить под чужими именами, порвать связи с родными и не жениться, то есть перейдя на нелегальное положение, «сосредоточить в себе ненависть и злобу ко злу и жить и наслаждаться этой стороной жизни».[206] Что ж тут комментировать?
Козлинина утверждала, что в Москве многие знали о существовании глубоко законспирированного «Ада» и относились к нему как к бесполезной затее несерьезных людей. «Помещался этот «Ад», — пишет Козлинина, — в Сытинском тупике в доме Чебышева, который и в те времена, среди незатейливых московских построек, считался трущобой, сверху донизу наполненный мелкими квартирами, в которых ютилось московское студенчество. Одна из таких квартир на 3-м этаже и была снята под мужскую переплетную коммуну, в которой работал Ишутин, она же была резиденцией «Ада».[207] Ни об одном хоть каком-нибудь действии ишутинского кружка, претенциозно названного «Адом», мы не знаем.
Ишутин не только поддался очарованию вымыслов Бакунина, он, насколько хватило фантазии, добавил и от себя. Для поддержания в сотоварищах революционного рвения недоучившийся гимназист раздувал могущество и размеры несуществующего «Европейского революционного комитета», рассказывал о бомбах, уже вмонтированных в царскую яхту и приготовленных в любой момент потопить ее вместе с пассажирами.
Следствие установило, что ни единства во мнениях, ни четкой организованности, ни серьезных дел у ишутинцев не было. Среди них не нашлось ни одного сколько-нибудь образованного или практически опытного революционера. Присяжный поверенный Д. В. Стасов, защищавший в суде Ишутина, писал: «В числе разговоров и мудрых предположений было такое: «заставить» или «просить правительство ввести социализм». На суде некоторые подсудимые говорили, что «для введения социализма они хотели перевести некоторые книжки», а один из подсудимых, когда на сходке шла о социализме речь, спросил: «что такое социализм?» Это все подлинные выписки из показаний на суде. Но были предположения, весьма крайние: в случае необходимости истребить всю царскую фамилию по очереди».[208] Об Ишутине Стасов вспоминал следующее: «Между прочим, некоторые из них (ишутинцев. — Ф. Л.), например, Странден, Загибалов, Мотков, показали об нем, что он «никогда не ставил вопроса прямо», что он просто хвастун и враль, готовый подчас и солгать, но тем не менее, как горячий говорун и высказывающий весьма симпатичные, бывшие в ходу идеи, имел большое влияние на многих из сотоварищей. <…>».[209] Воспоминаниям Стасова вполне можно доверять, его следует скорее причислить к сочувствовавшим подсудимым, нежели к властям.
Неожиданно для ишутинцев 4 апреля 1866 года на набережной Невы у решетки Летнего сада Каракозов выстрелил в Александра II. Некоторые современники утверждали, что ему помешал крестьянин О. И. Комиссаров. За убегавшим в сторону Прачечного моста террористом бросились жандармский унтер-офицер Слесарчук и полицейский унтер-офицер Заболотин. Первый, догнав Каракозова, повалил его на землю, второй выхватил пистолет. Стрелявший назвать себя отказался. Однако властям очень быстро удалось выяснить, что он останавливался в Знаменской гостинице. В номере шестьдесят пять произвели обыск и обнаружили изорванный в клочья почтовый конверт, на котором без труда удалось прочитать адрес: «В Москву. На Большой Бронной дом Полякова, № 25. Его Высокоблагородию Николаю Андреевичу Ишутину».[210]
Ишутина арестовали 9 апреля, и он тут же назвал Каракозова, а вскоре согласился склонить его дать откровенные показания.
Верховный уголовный суд при закрытых дверях заседал в Петропавловской крепости. Следователи и судьи, несомненно, видели, что Каракозов — душевнобольной. Врачи Петропавловской крепости Окель и Вильмс 27 мая писали коменданту крепости, что Каракозов проявляет «некоторую тупость умственных способностей, выражающуюся медленностию и неопределенностию ответов на предлагаемые вопросы».[211] Только очень плохое состояние арестанта могло вынудить власти подвергнуть его медицинскому освидетельствованию, а врачей, известных своей жестокостью, дать такое заключение. Тем не менее власти сочли возможным передать умалишенного в руки правосудия. Каракозова и Ишутина приговорили к смерти. Ранним утром 3 сентября 1866 года на Смоленском поле Каракозова почти в бессознательном состоянии втащили на эшафот. Рядом с помостом ожидал своей очереди Ишутин, ему дали насмотреться на казнь брата, после чего объявили о помиловании и замене казни бессрочной каторгой. В 1868 году у Ишутина обнаружились признаки душевного расстройства, он скончался в тюремном лазарете на Нижней Каре 5 января 1879 года. Худякова приговорили к ссылке на поселение в отдаленнейшие места Восточной Сибири; летом 1869 года у него также обнаружились признаки душевного расстройства, он скончался в иркутской тюремной больнице 19 сентябри 1876 года.
Вот, пожалуй, и достаточно о предшественниках Нечаева. Их было много, здесь упомянуты лишь некоторые. Фундамент нечаевщины возводился более четырех десятилетий. Каждый из предшественников вложил в него свою лепту. Получилось прочнейшее сооружение, на котором Нечаев, аккумулировав и приумножив все аморальное и преступное, что до него накопилось в российском освободительном движении, мог творить свое сатанинское дело.
В БЕГАХ
Выехав из Москвы 3 марта 1869 года, Нечаев проследовал через Бельгию и 17-го благополучно прибыл в Женеву. Где остановился Сергей, мы не знаем. 18 марта по городской почте он отправил Огареву письмо для Герцена «с просьбой напечатать послание к студентам от одного студента, только что удравшего из Петропавл[овской] крепости».[212] На Огарева «послание» произвело неблагоприятное впечатление, но он, поколебавшись, все же отнес его в типографию Л. Чернецкого. Через неделю текст нечаевской прокламации «Студентам Университета, Академии и Тех[нологического] института в Петербурге»[213] был набран, и его оттиск отправили Герцену в Ниццу.
Познакомившись с Нечаевым лично, Огарев решил «передать» его Бакунину. Встреча состоялась 25 марта. Беглец рассказал о своем участии в строжайше законспирированном сообществе, состоящем из хорошо разветвленной сети кружков, и тайном Комитете, распоряжающемся всеми революционными силами России. В Комитет входят решительные молодые люди, но не имеющие серьезного опыта политической борьбы. Все они его товарищи, и он делегирован ими в Женеву с просьбой к Бакунину, Герцену и Огареву снабдить российских заговорщиков прокламациями и принять на себя теоретическое руководство революционным движением. Требуется совсем немного, и в скором будущем империю охватит всенародный бунт.
Кто бы из эмигрантов не польстился на такие предложения? Стареющие революционеры хотели слышать от Сергея подтверждение того, что их жизни не растрачены на пустяки, что начатое ими дело не пропало, а, наоборот, в крепких и надежных руках; хотели верить, что он, Нечаев, и есть долгожданный посланец от их многочисленных почитателей и преемников на родине. Чувство покинутости никому не нужных стариков, прозябавших в забвении, холодные, порой даже враждебные отношения с молодой эмиграцией (Н. И. Утин, М. К. Элпидин, Л. И. Мечников, В. М. Озеров, А. Д. Трусов и другие), — все это начало рассеиваться и отступать под впечатлением рассказов Нечаева. И они поверили в существование несуществующего.
Видя, что его внимательно и с удовольствием слушают, Сергей доверительно сообщил, что именно он руководил студенческими выступлениями в Петербурге, вдохновенно описал свои подвиги с ночными погонями и перестрелками, чудесными вызволениями с помощью отчаянных смельчаков-единомышленников, побегами от растерявшихся жандармов, да не откуда-нибудь, а из самой Петропавловской крепости. Воодушевленные встречей, Бакунин и Огарев решили не откладывая приступить к печатанию революционной литературы и ее переправке в Россию. Так начался первый акт драмы, которую предстояло пережить старым русским революционерам из-за ворвавшегося в их жизнь Сергея Геннадиевича Нечаева.
В тот день, когда в Женеве Бакунин, Нечаев и Огарев решили «развернуть пропагандистскую кампанию», Герцен в Ницце прочитал корректуру нечаевской прокламации. Текст прокламации его возмутил. В препроводительном письме Огарев требовал от Герцена не только финансирования зародившейся в Женеве затеи, но и его подписи под этой прокламацией и теми, что выйдут вслед за ней.
«И если ты видел, — писал Герцен в ответе Огареву 9 апреля, — что воззвание необходимо, — отчего же ты его не написал сильной и благородной кистью? Ведь и Нечаева воззвание ни к черту не годится. — Я искренно и истинно не понимаю, что за ослепление и неразумье».[214] Огарев пытался убедить Герцена, что, начав с прокламаций, они возродят вот уже два года молчавшую «заграничную прессу», так много значившую для русской интеллигенции, заменившую ей отсутствовавшую в России свободу печати. Но Александр Иванович отказался от любого сотрудничества с женевским триумвиратом. Ни содержание, ни язык нечаевской прокламации его не устраивали, он разглядел в ней худший вариант бакунинского творчества с призывами к разрушению. Александр Иванович нервничал, сотрудничать с Бакуниным ни при каких обстоятельствах он не желал: на слишком уж разных позициях они стояли. Как Огарев не может этого понять? А тут еще вновь прибывший мальчишка. Судя по почерку, наверняка будет смотреть в рот Бакунину… От встречи с Нечаевым Герцен уклонился.
Ни Бакунина, ни Огарева очаровать с первого взгляда Нечаев не мог: необразован, неотесан, грызет ногти, груб, неряшлив, явно привирает. Но эти два человека, целиком посвятившие себя освободительному движению и оторванные от России тысячами верст и десятилетиями ожиданий, впервые после приезда Худякова познакомились с молодым человеком из народа, из глубин студенческой среды, создателем таинственных законспирированных кружков и членом еще более таинственного Комитета, намеревавшегося поднять народ и возглавить всероссийский бунт.
Характеризуя малочисленную русскую колонию в Женеве, 3. К. Ралли-Арборе, соратник Нечаева по петербургским баталиям, писал: «Все эмигранты жили врозь; Бакунин разошелся со всеми, кроме Огарева и Н. Жуковского; будучи совершенно один, он уже собирался покинуть Женеву и переехать куда-либо поближе к Италии, где имел искренних прозелитов (приверженцев. — Ф. Л.) среди итальянской молодежи. Нечаев увлек Бакунина своим темпераментом, непреклонностью воли и преданностью революционному делу Конечно, Бакунин сразу увидел и те крупные недостатки, и отсутствие какой-либо эрудиции в новом эмигранте, но как М. А. (Бакунин. — Ф. Л.), так и все те, которые встречались в те времена с Нечаевым, прощали ему все ради той железной воли, которой он обладал».[215] Не случайно Ралли упоминает только о Бакунине — ко времени первого появления Нечаева в Женеве Огарев уже сильно пил, опускался на глазах, его нетрудно было склонить в любую сторону. Сергей понял это сразу и приступил к обработке Бакунина, полагая, что от Огарева никаких сюрпризов ожидать не придется.
Переговорив с Нечаевым, Бакунин и Огарев решили приласкать его, приручить, а то, чего доброго, уйдет к Утину и Мечникову, негоже терять такого человека. Они не сомневались, что смогут руководить им, что Нечаев станет их послушным помощником, а они будут направлять его энергию по нужному им пути. Казалось бы, на первых порах дела пошли хорошо.
«Мой мужичок, — писал Огарев Герцену, — тебе с первого взгляда, пожалуй, не понравится; мы с ним сблизились только весьма постепенно».[216] Огарев лукавил, «сблизились» они легко, да и Бакунин сразу обнаружил, что у него с прибывшим молодым революционером нет никаких разногласий. А Нечаев ему просто подыгрывал, наполняя свои речи мыслями, почерпнутыми из разговоров с самим же Бакуниным. Он куда раньше раскусил Бакунина, чем Бакунин его. Приведу впечатление Бакунина от встречи с Нечаевым и его рассказов о петербургских студентах: «Наша молодежь — и в теории, и на практике, быть может, наиболее революционная молодежь в целом свете — волнуется в настоящую минуту до такой степени, что правительство оказалось вынужденным закрыть петербургский, московский и казанский университеты, а также академии и некоторые другие школы. Я имею в эту минуту перед собою один образчик этих молодых фанатиков (Нечаев. — Ф. Л.), которые ни в чем не сомневаются, ничего не боятся и руководятся тем убеждением, что много, много еще должно пасть от руки правительства, но что не следует успокаиваться ни на одно мгновение пока не поднимется народ. Они изумительны, эти молодые фанатики — верующие без Бога и герои без фраз!»[217]
То, что повергало в ужас и уныние одних, у других вызывало восторг. Невежество и фанатизм Нечаева, желание жертвовать чужими жизнями возмущали Герцена, а Бакунин в своем уютном женевском пристанище, погрузившись в глубокие кресла, с умилением и нежностью глядя на беглеца, восхищался его чудовищной болтовней и сотрясался в одобрительном хохоте.
В первый приезд Нечаева в Женеву ни с Бакуниным, ни с Огаревым разногласий у него не было и быть не могло. Он ставил перед собой главнейшую задачу — любой ценой, чего бы это ни стоило, внедриться в среду старых революционеров, притягательную для всех молодых русских радикалов, заручиться доверием и поддержкой хотя бы одного Бакунина, что бесспорно сделает его имя в России популярным и авторитетным. Уж до разногласий ли… Достаточно того, что произошла осечка с Герценом.
Бакунину надоели многолетние изнурительные споры с Герценом и Марксом, укоры Огарева. Стареющий Мишель вдруг обнаружил, что в прибывшем представителе русского освободительного движения он приобрел единомышленника, верного ученика и соратника, настоящего молодого друга. Оказывается, в России преобладают сторонники его, а не Герцена, у Маркса же их вовсе нет, его там не знают. Увлекающийся Бакунин, желавший практических дел в России, увидел в Нечаеве связного с нешуточными силами, увидел в нем свою молодость, себя, страстного, энергичного. Ему показалось, что исчезает астма, легче дышится, что он становится стройнее, подвижнее. Это ничего, что приезжий необразован и туповат, зато напорист и совершенно свой, а сколько интересного и приятного порассказал.
Чтобы обработать слабохарактерного, расслабленного Огарева, Бакунину с Нечаевым не потребовалось больших усилий. Огарев устал от томительного ожидания практических дел, устал от упреков и поучений Герцена. Александр Иванович видел, как опускается Огарев, как кружит над ним Бакунин, склоняет его на свою сторону, а тот, не сопротивляясь, сдается и отдаляется от него. Женева превратилась для Герцена в «раскаленную сковороду», и он сбежал в Ниццу. С 22 ноября 1868 года Александр Иванович с семьей жил на Лазурном Берегу, в Женеве он появился лишь 28 апреля 1869 года и вырвался из нее «на волю» 16 июня.[218] Но воля была относительная, она более всего напоминала пустоту. Нет Бакунина, но нет и Огарева, самого близкого человека. Их связывала почти полувековая дружба, проверенная передрягами и невзгодами, благородством поступков. Конечно же, Герцен был Огареву духовно ближе, но в последние годы он проявлял излишнюю придирчивость, перешедшую в раздражительность. К тому же Ницца далеко от Женевы. А тут настоящее дело, можно написать стихотворение в виде листовки, отправить его в Россию, и о нем, Огареве, вспомнят… И не нужны никакие умствования, излишне строгая критика.
У Бакунина, Огарева и их молодого друга установились «интимно-политические» отношения, очень быстро образовался триумвират и наладилась пропагандистская кампания, главной движущей силой в ней был Нечаев. Прокламации и другие печатные материалы, написанные Нечаевым в первой эмиграции, редактировались Бакуниным и Огаревым, моральная ответственность за эту продукцию лежит на них не менее, чем на ее творце.[219]
В первый приезд Нечаевым написано и издано три прокламации и еще четыре с его участием.[220] В их число входит большая часть прокламаций, изданных Бакуниным, Огаревым и Нечаевым во второй половине 1869 года; упомянутая выше прокламация «Студентам Университета, Академии. Тех[нологического] института в Петербурге», в конце текста: «Ваш Нечаев. 17 марта 1869» — содержит призыв к революционной части студентов идти в народ и бороться за его интересы. Эта прокламация была перепечатана в первой половине июня в той же типографии.[221]
«Начало революции» (1869, май) впервые обнаружена в России среди изданий, полученных из-за границы 5 июня. Содержит изложение программы революционной партии — разрушение общественного строя, не останавливаясь ни перед какими средствами борьбы.
«Русское дворянство!» (1869, июль, Женева; в тексте местом печатания указан Брюссель). Содержит призыв от имени мифической дворянской организации объединиться для завоевания власти, предупредив таким образом народное восстание.
Эти прокламации приписываются Нечаеву, далее идут прокламации, выпущенные членами триумвирата при его участии (кроме стихотворных, принадлежавших перу Огарева).
«Несколько слов к молодым братьям в России» (1869, март). Впервые обнаружена в России среди изданий, полученных из-за границы 8 апреля. Содержит призыв идти в народ и взять на себя организацию надвигающегося народного восстания. Эта прокламация была перепечатана в мае.
«Постановка революционного вопроса» (1869, конец апреля) впервые обнаружена в России среди изданий, полученных из-за границы 10 мая. Содержит призыв к студентам, изгоняемым правительством из университетов, отрешиться от науки, слиться с народом и сплотить постоянные, но разрозненные народные бунты — крестьянский и разбойничий — в единую народную революцию. Ее авторство приписывается Бакунину, идеи, наложенные в ней, неоднократно использовал Нечаев.
«Мужикам и всем простым людям работникам» (1869, август) упоминается в циркуляре министра внутренних дел от 14 августа. Содержит призыв к крестьянскому восстанию, поголовному истреблению всех господ и уничтожению городов. Кроме прокламаций, Нечаевым написаны две брошюры: «Народная расправа» № 1 (условно ее можно назвать журналом) и «Катехизис революционера».
Летом 1869 года в Женеве вышел первый номер журнала «Народная расправа», весь его текст написан Нечаевым и, возможно, отредактирован Бакуниным. На первой странице местом издания указана Москва, автор надеялся создать впечатление, будто на территории России действует конспиративная организация, имеющая свою подпольную типографию и печатный орган: Нечаеву очень хотелось напугать власти и подтолкнуть радикальную молодежь к объединению в кружки. В странах Западной Европы действовало значительное количество секретных агентов российского политического сыска. И тем не менее примитивная хитрость Нечаева удалась на славу — в III отделении поверили, что «Народная расправа» издана в Москве.[222] Этот ее номер практически нечитаем. Он печатался на очень тонкой бумаге, и краска проступила насквозь, почти все экземпляры оказались дефектными. В передовой статье «Народной расправы» Нечаев писал:
«Всенародное восстание замученного Русского люда неминуемо близко!.
Мы, то есть та часть народной молодежи, которой удалось так или иначе получить развитие, должны расчистить ему дорогу, то есть устранить все мешающие препятствия и приготовить все благоприятные условия.
Ввиду неминуемости и близости, мы находим необходимым соединить в одно неразрывное дело все разрозненные революционные усилия в России; вследствие чего постановили издавать от имени Революционного Центра листки, из которых каждый из наших единомышленников, разбросанных по разным углам России, всякий из работников святого дела обновления, хотя и незнаемый нами, всегда будет видеть, чего мы хотим и куда мы идем.
Цель этих листков, разумеется, не литературная и не ученая, пусть люди, у которых остается много времени от безделья, продолжают тешить себя и морочить других, праздноглагольствуя о литературе и науке, о просвещении и воспитании, о прогрессе и цивилизации! Нам некогда! По нашему мнению, нет теперь в России литературы, а есть печатная лесть и доносы. Нет науки, а есть софистика, искажаюшая прошлое и возводящая в непременный закон страдания народных масс, как неизбежную основу развития господствующего меньшинства. Нет просвещения и воспитания народного, а есть выработка шпионов и чиновников.
Нет прогресса и цивилизации, а есть громадная государственная эксплуатация народных сил для удовольствия вечно праздного и пресыщающегося барства, эксплуатация, обхватывающая со всех сторон Русский народ, сосущая его грудь, удушающая и подавляющая всякое проявление жизни в нем.
Мы хотим, чтобы наши задавленные господством отцы, братья и сестры сбросили с своих плеч праздное, тунеядствующее меньшинство; мы хотим, чтобы Русский мужик широко, свободно вздохнул мощной, вольной грудью.
Мы хотим народной, мужицкой революции.
Для нас дорога мысль только, поскольку она может служить великому делу радикального и повсюдного всеразрушения. Но ни в одной из ныне существующих книг нет такой мысли. Кто учился революционному делу по книгам, будет всегда революционным бездельником. Мысль, способная служить революции народной, вырабатывается лишь из народного революционного дела, должна быть результатом ряда политических опытов и проявлений, стремящихся всеми средствами и всегда неуклонно к одной и той же цели беспощадного разрушения. Все, что не идет по этому пути, для нас чуждо и враждебно».[223]
Агент Департамента полиции, журналист А. П. Мальшинский, назвал текст брошюры «документом звероподобного неистовства». Как же далеки друг от друга ивановский юноша и женевский «эмигрант». Один тянулся к знаниям, к науке, но ничего не достиг, другой отрицал науку и достиг того, что его разрушительные мысли подхватили и реализовали. Продолжим знакомство с главнейшими замыслами творца «Народной расправы» (отрывок из статьи «Взгляд на прежнее и нынешнее положение дела»):
«Мы имеем только один отрицательный неизменный план — беспощадного разрушения.
Мы прямо отказываемся от выработки будущих жизненных условий, как несовместной с нашей деятельностью; и потому считаем бесплодной всякую исключительно теоретическую работу ума.
Мы считаем дело разрушения настолько серьезной и трудной задачей, что отдадим ему все наши силы и не хотим обманывать себя мечтой о том, что у нас хватит сил и уменья на созидание.
А потому мы берем на себя, исключительно, разрушение существующего общественного строя; созидать не наше дело, а других за нами следующих.
Мы беремся сломать гнилое общественное здание, в котором мучается большинство обитателей для доставления нечистых радостей и грязных наслаждений небольшой горсти счастливцев. Пусть новое здание строят новые плотники, которых вышлет из своей среды народ, когда мы дадим возможность вздохнуть ему полной вольною грудью, сбросив с нее тяжкий гнет государства.
Сосредоточивая все наши силы на разрушении, мы не имеем ни сомнений, ни разочарований; мы постоянно одинаково, хладнокровно преследуем нашу единственную, жизненную цель».[224]
Ну что ж, хотя бы откровенно. Здесь Нечаев перекликается с молодым Бакуниным, призывавшим все сокрушать, а состарившийся Бакунин в своей «Постановке революционного вопроса»[225] — с молодым Нечаевым. После призывов Нечаева революционеры только и делали, что стремились к разрушению, а когда появилась возможность реализации устремлений, то вполне преуспели на этом поприще. Даже сегодня разрушительные бакунинско-нечаевские идеи не всем кажутся дикими.
«Катехизис революционера» был напечатан в нескольких экземплярах летом 1869 года в типографии Чернецкого, текст его зашифрован, он не предназначался для распространения. «Катехизис» — наставление, поучение (греч.) — главнейший памятник литературного творчества Нечаева, откровеннейший документ нечаевщины и последовавших за ней этапов российского освободительного движения. «Катехизисом» подпитывались корни всех революционных течений, включая большевизм. Его необходимо и полезно прочитать полностью, от первой до последней строчки.
«КАТЕХИЗИС РЕВОЛЮЦИОНЕРА»
«Отношение революционера к самому себе:
1. Революционер — человек обреченный. У него нет ни своих интересов, ни дел, ни чувств, ни привязанностей, ни собственности, ни даже имени. Все в нем поглощено единым исключительным интересом, единой мыслью, единой страстью — революцией.
2. Он в глубине своего существа, не на словах только, а на деле, разорвал всякую связь с гражданским порядком и со всем образованным миром, со всеми законами, приличиями, общепринятыми условностями и нравственностью этого мира. Он для него враг беспощадный, и если бы он продолжал жить в нем, то для того только, чтобы его вернее разрушить.
3. Революционер презирает всякое доктринерство и отказывается от мирской науки, предоставляя ее будущим поколениям. Он знает только одну науку — науку разрушения. Для этого и только для этого он изучает механику, физику, химию, пожалуй, медицину. Для этого изучает денно и нощно живую науку — людей, характер, положения и все условия настоящего общественного строя во всех возможных слоях. Цель же одна — наискорейшее и наивернейшее разрушение этого поганого строя.
4. Он презирает общественное мнение. Он презирает и ненавидит во всех побуждениях и проявлениях нынешнюю общественную нравственность. Нравственно для него все, что способствует торжеству революции. Безнравственно и преступно все, что помешает ему.
5. Революционер — человек обреченный, беспощаден для Государства и вообще для всякого сословно-образованного общества, он не должен ждать для себя никакой пошады. Между ним и обществом существует тайная или явная, но непрерывная и непримиримая война на жизнь или на смерть. Он должен приучить себя выдерживать пытки.
6. Суровый для себя, он должен быть суровым и для других. Все нежные, изнеживающие чувства родства, дружбы, любви, благодарности должны быть задавлены в нем единою холодной страстью революционного дела. Для него существует только одна нега, одно утешение, вознаграждение и удовлетворение — успех революции. Денно и нощно должна быть у него одна мысль, одна цель — беспощадное разрушение. Стремясь хладнокровно и неутомимо к этой цели, он должен быть готов и сам погибнуть и погубить своими руками все, что мешает ее достижению.
7. Природа настоящего революционера исключает всякий романтизм, всякую чувствительность, восторженность и увлечение; она исключает даже личную ненависть и мщение. Революционная страсть, став в нем обыденностью, ежеминутностью, должна соединяться с холодным расчетом. Всегда и везде он должен быть не то, к чему его побуждают влечения личные, а то. что предписывает ему общий интерес революции.
Отношения революционера к товарищам по революции:
8. Другом и милым человеком для революционера может быть только человек, заявивший себя на деле таким же революционным делом, как и он сам. Мера дружбы, преданности и прочих обязанностей в отношении к такому товарищу определяется единственно степенью его полезности в деле всеразрушительной практической революции.
9. О солидарности революционеров и говорить нечего; в ней вся сила революционного дела. Товарищи-революционеры, стоящие на одинаковой степени революционного понимания и страсти, должны, по возможности, обсуждать все крупные дела вместе и решать их единодушно. В исполнении, таким образом, решенного плана, каждый должен рассчитывать, по возможности, на себя. В выполнении ряда разрушительных действий каждый должен делать сам и прибегать к совету и помощи товарищей только тогда, когда это для успеха необходимо.
10. У каждого товарища должно быть под рукою несколько революционеров второго и третьего разрядов, то есть не совсем посвященных. На них он должен смотреть как на часть общего революционного капитала, отданного в его распоряжение. Он должен экономически тратить свою часть капитала, стараясь всегда извлечь из него наибольшую пользу. На себя он смотрит как на капитал, обреченный на трату для торжества революционного дела, только как на такой капитал, которым он сам и один без согласия всего товарищества вполне посвященных распоряжаться не может.
11. Когда товарищ попадает в беду, решая вопрос, спасать его или нет, революционер должен соображаться не с какими-нибудь личными чувствами, но только с пользою революционного дела. Поэтому он должен взвесить пользу, приносимую товарищем, с одной стороны, а с другой — трату революционных сил, потребных на избавление, и на которую сторону перетянет, так и должен решить.
Отношение революционера к обществу:
12. Принятие нового члена, заявившего себя не на словах, а на деле, в товарищество не может быть решено иначе, как единодушно.
13. Революционер вступает в государственный, сословный, так называемый образованный мир и живет в нем только с верою в его полнейшее скорейшее разрушение. Он не революционер, если ему чего-нибудь жаль в этом мире. Он не должен останавливаться перед истреблением положения, отношения или какого-либо человека, принадлежащего к этому миру. Все и вся должны быть ему равно ненавистны. Тем хуже для него, если у него есть в нем родственные, дружеские или любовные отношения; он не революционер, если они могут остановить его руку.
14. С целью беспощадного разрушения революционер может и даже часто должен жить в обществе, притворяясь совсем не тем, что он есть. Революционер должен проникнуть всюду, во все высшие и средние классы, в купеческую лавку, в церковь, в барский дом, в мир бюрократический, военный, в литературу, в 3 отделение и даже в императорский дворец.
15. Все это поганое общество должно быть раздроблено на несколько категорий: первая категория неотлагаемо осужденных на смерть. Да будет составлен товариществом список таких осужденных, по порядку их относительной зловредности для успеха революционного дела, так чтобы предыдущие номера убрались прежде последующих.
16. При составлении таких списков и для установления вышереченного порядка должно руководствоваться отнюдь не личным злодейством человека, ни даже ненавистью, возбуждаемой им в товариществе или в народе. Это злодейство и эта ненависть могут быть отчасти и полезными, способствуя к возбуждению народного бунта. Должно руководствоваться мерой пользы, которая должна произойти от смерти известного человека для революционного дела. Итак, прежде всего должны быть уничтожены люди, особенно вредные для революционной организации, а также внезапная и насильственная смерть которых может навести наибольший страх на правительство и, лишив его умных и энергичных людей, потрясти его силу.
17. Вторая категория должна состоять из таких людей, которым даруют только временно жизнь для того, чтобы они рядом зверских поступков довели народ до неотвратимого бунта.
18. К третьей категории принадлежит множество высокопоставленных скотов или личностей, не отличающихся ни особенным умом, ни энергией, но пользующихся по положению богатством, связями, влиянием, силой. Надо их эксплуатировать возможными путями; опутать их, сбить с толку и, по возможности, овладев их грязными тайнами, сделать их своими рабами. Их власть, влияние, связи, богатства и сила сделаются, таким образом, неистощимой сокровищницей и сильной помощью для разных предприятий.
19. Четвертая категория состоит из государственных честолюбцев и либералов с разными оттенками. С ними можно конспирировать по их программам, делая вид, что слепо следуешь за ними, а между тем прибирать их к рукам, овладев их тайнами, скомпрометировать их донельзя, так чтобы возврат для них был невозможен, и их руками мутить Государство.
20. Пятая категория — доктринеры, конспираторы, революционеры, все праздноглаголящие в кружках и на бумаге. Их надо беспрестанно толкать и тянуть вперед, в практичные, головоломные заявления, результатом которых будет бесследная гибель большинства и настоящая революционная выработка немногих.
21. Шестая и важная категория — женщины, которых должно разделить на три главные разряда: один — пустые, бессмысленные, бездушные, которыми можно пользоваться, как третьей и четвертой категориями мужчин; другие — горячие, преданные, способные, но не наши, потому что не доработались еще до настоящего бесфразного и фактического революционного понимания. Их должно употреблять, как мужчин пятой категории; наконец, женщины совсем наши, то есть вполне посвященные и признавшие всецело нашу программу. Мы должны смотреть на них как на драгоценнейшее сокровище наше, без помощи которых нам обойтись невозможно.
Отношение товарищества к народу:
22. У товарищества нет другой цели, кроме полнейшего освобождения и счастья народа, то есть чернорабочего люда. Но убежденное в том, что это освобождение и достижение этого счастья возможны только путем всесокрушающей народной революции, товарищество всеми силами и средствами будет способствовать развитию и разобщению тех бед и тех зол, которые должны вывести, наконец, народ из терпения и побудить его к поголовному восстанию.
23. Под революцией народной товарищество разумеет не регламентированное движение по западному классическому образцу — движение, которое всегда, останавливаясь перед собственностью и перед традициями общественных порядков так называемой цивилизации и нравственности, до сих пор ограничивалось везде низвержением одной политической формы для замещения ее другой и стремилось создать так называемое революционное государство. Спасительной для народа может быть только та революция, которая уничтожает в корне всякую государственность и истребит все государственные традиции порядка и классы России.
24. Товарищество поэтому не намерено навязывать народу какую бы то ни было организацию сверху. Будущая организация, без сомнения, выработается из народного движения и жизни. Но это — дело будущих поколений. Наше дело — страшное, полное, повсеместное и беспощадное разрушение.
25. Поэтому, сближаясь с народом, мы прежде всего должны соединиться с теми элементами народной жизни, которые со времени основания Московского государства не переставали протестовать не на словах, а на деле против всего, что прямо или косвенно связано с Государством; против лворянства, против чиновничества, против попов, против торгового мира и против кулака-мироеда. Мы соединимся с лихим разбойничьим миром: этим истинным и единственным революционером в России.
26. Сплотить этот мир в одну непобедимую, всесокрушающую силу — вот вся наша организация, конспирация, задача».[226]
Нечаев не собирался публиковать «Катехизис революционера», более того, он не давал его читать даже самым близким единомышленникам, тем, с кем у него никогда не возникало разногласий. «Если задаться вопросом, — говорил на суде над нечаевцами присяжный поверенный В. Д. Спасович, — почему этот Катехизис, столь старательно составленный, никому не читался, то надо прийти к заключению, что не читался он потому, что если бы читался, то произвел бы самое гадкое впечатление».[227]
Вслед за первой публикацией «Катехизиса» в «Правительственном вестнике», во время процесса над нечаевцами,[228] разгорелись споры о его авторстве. Спасович утверждал, что его писал не Нечаев, подсудимые также отвергали авторство Нечаева — это было выгодно всем участникам судебного процесса. 3. К. Ралли приписывал авторство «Катехизиса» М. А. Бакунину, но с переработкой Нечаевым «на семинарский язык».[229] Известный революционер М. П. Сажин, разбирая архив Нечаева, после его ареста швейцарскими властями, видел среди бумаг папку с надписью «Катехизис» и в ней текст, написанный рукой Бакунина.[230] Исследователи разделились во мнении между Нечаевым и Бакуниным. Никаких надежных документальных указаний на авторство текста не было до начала 1960-х годов, когда французский историк М. Конфино обнаружил в Национальной библиотеке в Париже копию письма Бакунина Нечаеву от 2–9 июня 1870 года. «Помните, как Вы сердились на меня, — писал Бакунин, — когда я называл Вас абреком, а Ваш катехизис — катехизисом абреков».[231] Конфино утверждал, что соавтором Нечаева был П. Н. Ткачев. Известный историк Н. П. Пирумова[232] убедительно доказала, что некоторые положения «Катехизиса» заимствованы Нечаевым у Г. П. Енишерлова, возненавидевшего плагиатора, бесцеремонно отобравшего у него славу автора основных идей «Катехизиса».[233] Текст «Катехизиса» написан, безусловно, Нечаевым под влиянием трудов Бакунина и Ткачева в апреле-июле 1869 года во время первой эмиграции. На Нечаева оказали существенное влияние его непосредственные предшественники — идеологи тайного общества «Организация» и кружка «Ад», а также роман Н. Г. Чернышевского «Что делать?» с его «новым человеком» Рахметовым. Ни Нечаев, ни нечаевщина не могли родиться на пустом месте, но никто из его предшественников не достиг такого уровня откровенной бесовщины, как Нечаев. Это он стер грань между революционными приемами и бытовой уголовщиной, это он подменил общечеловеческую мораль вседозволенностью, первыми набросками революционной морали.
«Катехизис» в комментариях не нуждается, его текст говорит сам за себя. Три важнейших его положения — разрушение существующего государственного устройства, уничтожение «врагов народа» и опора революционеров на «разбойный мир» — заимствованы Нечаевым у Бакунина.
Еще осенью 1848 года в «Воззвании русского патриота к славянским народам» Бакунин писал: «Необходимо все смести с лица земли, дабы очистить место для нового мира. Новый мир, братья, это — полное и действительное освобождение всех личностей, как и всех наций — это наступление политической и социальной справедливости, это — неограниченное царство свободы!»[234] Год спустя Бакунин предлагал в случае благоприятного исхода революции в Богемии «изгнать и уничтожить всех противников победившего режима, за исключением некоторых чиновников, оставленных для совета и справок».[235] После Октябрьского переворота именно так поступили большевики. Получив «советы и справки», они истребили и советчиков.
«Разбой, — писал Бакунин в прокламации «Постановка революционного вопроса», — одна из почетнейших форм русской народной жизни. Он был со времени основания Московского Государства отчаянным протестом Народа против гнусного общественного порядка, не измененного, но усовершенствованного по Западным образцам, и укрепленного еще более реформами Петра и освобождениями Благодушного Александра (Александра II. — Ф. Л.). Разбойник — это герой, защитник, мститель народный, непримиримый враг государства и всего общественного и гражданского строя, борец на жизнь и на смерть против всей чиновно-дворянской и казенно-поповской цивилизации».[236]
Все это писалось всерьез авторитетнейшим и популярнейшим теоретиком революционного движения, его читали, им восхищались, за ним шли…
Не располагая теоретическими знаниями, Нечаев подбирал чужие мысли, казавшиеся ему привлекательными, и не задумываясь вставлял в свои листовки, катехизисы, программы, лишь бы эти мысли содействовали скорейшему крушению самодержавия. Будущего вождя «Народной расправы» нисколько не волновали нравственные категории, его влекла фанатическая страсть к разрушению, к революции, во что бы то ни стало, потому что он желал уничтожить тот строй, которому он не был нужен, в котором ему не было подобающего места, того вожделенного места, что он для себя предназначал. Сергей не пропускал даже самого малозначительного случая, пользовался любым обстоятельством, лишь бы они вели к сокрушению монархии, даже если они способны создать микроскопическую трещинку в ее фундаменте. Приведу извлечение из показаний Енишерлова, записанных им во время следствия над нечаевцами, и отрывок из его воспоминаний:
«Нечаев был одним из тех людей, которые хотели эксплуатировать студенческое движение для своих целей. Я находил всегда Нечаева в озлобленном и скептическом настроении человека, которому не удалось предпринять дело, который не услышал сочувственного отклика. По его выражению, русское общество состоит из холопов, в которых не вспыхнет революционная искра, как бы ни раздували. Из этого общества студенческая среда наиболее благоприятна революционной пропаганде; но и в ней пропаганда тогда только будет иметь успех, когда скроется на первых порах под каким-нибудь лично студенческим делом. Нечаев искал сочувствия в студенческой среде и не встретил. Разочарованный, он задался намерением, с одной стороны, отомстить несочувствующим людям, а с другой стороны, выставить, за неимением революционной оппозиции, ее призрак, смутить и встревожить общество какой-нибудь шумной, безобразной выходкой».[237]
Все, что пишет о Нечаеве Енишерлов, его бывший друг и единомышленник, хорошо ложится на канву из известных фактов и не вступает с ними в противоречие. Вскоре борец за свободу и счастье «холопов» начал проявлять странности, которых никак не ожидали петербургские знакомые Нечаева, хотя и хорошо его знавшие. «От Нечаева из-за границы получены письма, — вспоминал Енишерлов, — адресованные ко многим липам, на коих косо смотрит 3-е отделение. Письма — крайне нахального содержания — по всей вероятности, прочитаны (перлюстрированы. — Ф. Л.) перед их доставлением. <…> Это было скудоумие в сочетании с низостью».[238] А удивительного ничего не происходило, никакого «скудоумия» не было — Нечаев, в соответствии со своими убеждениями, желал репрессией в отношении своих адресатов и таким простым способом плодил недовольных правительством. Он впервые в России реализовал один из главнейших принципов революционера — чем хуже, тем лучше. Сергей превосходно понимал, что делает, и восторгался простотой и беспроигрышностью своей выдумки. Перехватит полиция конверт с прокламацией и письмом — хорошо: узнают о существовании в Европе мощного революционного центра, адресаты попадут в тюрьму и увеличат число недовольных; проскочит корреспонденция мимо перлюстрата — тоже хорошо: кто-то прочтет, передаст другим, авось ряды «прозревших» возрастут. А ведь недовольные и «прозревшие» — это его, Нечаева, ратники, будущие бойцы «Народных расправ».
Первое известие от «беглеца» пришло В. Ф. Орлову, его ближайшему другу и помощнику. «Европа ждет услышать слово из России», — писал он другу.[239] Томилова получила письмо еще из Брюсселя 8 марта 1869 года. Она под поручительство Орлова отправила Нечаеву 100 рублей. 17 марта из Женевы пришла телеграмма с просьбой занять денег у Зубкова,[240] а 25 марта Томиловой вручили второе письмо.
«Милая тетенька, — писал Нечаев, — не удивляйтесь, что я в Женеве остался. Я не могу отправиться во Францию для закупок товара, пока не получу сполна всех счетов за последнее время. Поторопитесь составить из всех приходно-расходных книг за последнее полугодие хотя сжатую, но тем не менее ясную отчетность о том, сколько, где и когда было и есть товара нашего производства, полный перечень продуктов и мест где он теперь. Без таких данных можно закупить или очень много, или же очень мало.
Все эти счеты перешлите хоть с бабушкой Верой (В. И. Засулич. — Ф. Л.) что ли, потому я слышал, что она собирается за границу. Поскорей только! Милому дядюшке Владимиру Федоровичу (Орлов. — Ф. Л.) поклон! Зная его дряхлые руки, я конечно не жду от него писем; к чему ему портить зрение. Вы скажите, чтобы он тотчас же приступил к сделке с Зубатовым (Зубков. — Ф. Л.) на сумму самую большую от имени того негоцианта, что держал портерный завод в Лондоне в продолжении такого долгого времени (Герцен. — Ф. Л.). Захочет ли Зубатов сам повидать Бакурского (Бакунина. — Ф. Л.) или удовлетворится печатными отзывами о нем и дипломами, которые его контора, через своих агентов, может ему выслать для рассмотрения? Последнее, я думаю, лучше. Только скорее пожалуйста: надоело мне очень ждать; дело же теперь выгодное, торговое; в особенности здесь народ хлопочет и ропщет очень».[241]
В апреле 1869 года появились первые печатные издания — плод пропагандистской кампании триумвирата, и в Россию самым обычным образом, при помощи почты, потек ручеек ее продукции. Сергей вкладывал в конверты по нескольку экземпляров прокламаций и записки с просьбами распространить их в провинции. Далеко не все получатели нечаевской корреспонденции знали о его существовании. Многие адреса Нечаев выписывал из различных справочных книг, реклам и проспектов торговых фирм, что видно даже из доклада монарху от 9 августа 1869 года:
«Воззвания, присылаемые в империю из-за границы, размножаются и содержанием своим дошли не только до крайних пределов возмутительного, но просто до грязного… За последнее время участились случаи дохождения пакетов до назначения. Прежде пакеты были в 8-ю долю листа, и их не трудно было узнать на почте, тем более, что адреса на всех пакетах были написаны рукою Нечаева, хорошо известной почтовым чиновникам. Затем воззвания стали печататься на бумаге, близкой к почтовой, посылались в обычных конвертах, адреса на коих писались разными почерками. В видах извлечь для правительства пользу даже из столь негодного дела, как рассылка нашими беглыми агитаторами своих гадких воззваний, было принято за правило требовать от Губернских жандармских управлений сведений об образе мыслей и степени благонадежности лиц, на имя которых получались подобные посылки. Утешительно сказать, что, за немногими исключениями, полученные до сих пор отзывы благоприятны. Для ярых революционных учений почвы в России положительно нет».[242] С середины апреля по 9 августа 1869 года только на Петербургском почтамте III отделение задержало 560 пакетов, отправленных 387 адресатам.[243]
В Российском государственном историческом архиве в Петербурге хранится объемистая папка с названием: «Переписка с III отделением Собственной его императорского величества канцелярии и губернатором о волнении студентов Медико-хирургической академии. Петербургского, Московского и Харьковского университетов; о привлечении к ответственности участников волнений и о принятии мер к прекращению распространения антиправительственных воззваний».[244] В деле около семисот листов, значительный объем содержит следы нечаевской продукции, присланной из Швейцарии в Россию. В ней подшито по нескольку экземпляров всех листовок, отпечатанных в Женеве в 1869 году. По ним можно восстановить географию рассылки. Адресаты, получив от Нечаева конверт, углублялись в чтение его содержимого и передавали товарищам. Если полицейский фильтр, установленный на почтах, не фиксировал корреспонденцию, то ее получение могло пройти благополучно; если конверт попадал в «черный кабинет», его вскрывали, знакомились с содержимым и отправляли далее по пути следования. Полиция томилась в ожидании, не принесут ли крамольную корреспонденцию добровольно. Если ее не несли, устанавливалась слежка и наивных получателей ожидала неминуемая кара. Но часто конверты без понуждений отдавали в политическую полицию, отдавали, потому что Нечаев отправлял свою продукцию малознакомым и вовсе не знакомым людям, например в библиотеку Полтавского пехотного полка, расквартированного в Люблинской губернии,[245] или в Курск по адресу, ставшему ему известным из справочника. Приведу письмо курского губернатора министру внутренних дел А. Е. Тимашеву:
«7 сего Апреля в книжный магазин, содержимый в городе Курске девицами Емельяновою и Щеголевою, поступило с почты заграничное письмо, по вскрытие которого, в нем оказались печатные листы возмутительной прокламации к студентам университета, академии и технологического института в Петербурге и особая записка с просьбою передать эту прокламацию гимназистам старшего класса и семинаристам.
Письмо это в тот же день передано было девицами Емельяновою и Щеголевою Курскому Полицеймейстеру, а им передано ко мне.
Сделав распоряжение о строгом наблюдении за появлением подобных прокламаций в других местах губернии, я считаю долгом представить таковую Вашему Высокопревосходительству, вместе с запиской, при которой она была получена, и самим конвертом».[246]
Конверт, вероятно, утрачен, а прокламация и записка в деле имеются. Она написана на клочке тонкой бумаги, выцветшими коричневыми чернилами, рукой Нечаева:
«Как честных людей, в которых еше не погасло сочувствие к святому делу, прошу Вас передать прилагаемое Гимназистам старших классов и Семинаристам».[247]
Много писем послано из Женевы в Финляндию, Петербург, Москву, Киев. Направляя крамольный конверт в столицу, люблинское начальство писало, что «брошюра Нечаева одного почти содержания с Бакунинскою».[248] Полицейские власти не блистали глубиной познаний: Бакунин, Нечаев и все остальные сочинители противоправительственных воззваний виделись им на одно лицо, да и перо Бакунина не всегда отличалось от нечаевского, но по существу, принципиально, чиновники политического сыска промахивались исключительно редко.
В Государственном архиве Российской Федерации, в фонде III отделения хранится дело «О воззваниях, полученных из-за границы на имена разных лиц и о собирании по оным сведений».[249] Первые письма приходили конкретным лицам независимо от отношения к ним отправителя — друзья ли они ему или враги. Когда запас известных адресов иссяк, Нечаев принялся посылать корреспонденции в различные учреждения империи. Первые письма поступали главным образом из Женевы, позже они приходили из Берна, Кельна, Франкфурта-на-Майне, Фрейбурга, Бонна, Майнца.[250] Адреса на этих конвертах написаны разными лицами. Нечаев не заметал следы, наоборот, ему хотелось, чтобы в России сложилось впечатление, будто в Европе действует мощная организация, а не он один.
Целые губернии, удаленные от политики на почтительное расстояние, вдруг приблизились к ней вплотную, провинциальные сыскные службы оживились и закипели. Сотрудники жандармских управлений ликовали: наконец-то и на их горизонтах засветила революционная опасность, можно было действовать и ожидать чинов, наград, должностей… Они потирали руки и без устали слали письма, а столичные чиновники стонали, разбирая их донесения. Опять, но уже по III отделению, промелькнули курские девицы Емельянова и Щеголева.[251] О заграничных письмах жандармские капитаны и майоры доносили из Ковно 17 апреля, Орла 20 апреля, Одессы 25 апреля, Риги 14 мая.[252]
Не обошел Нечаев вниманием и безуездный город Иваново, первым из Женевы «французское письмо»[253] получил Зубков. Жандармское начальство перепугалось не на шутку. Ивановский учитель Н. М. Богомолов писал 1 мая 1869 года Ф. Д. Нефедову: «Два раза здесь прокурор Владимирского Окружного суда — зачем не знаю, можно думать, что все по этому пакостному Нечаевскому делу. Сколько тревоги и сколько расходов наделала эта свинья».[254] Нежданное письмо от благодетеля 2 мая 1869 года пришло Капацинскому. «Что, приятель, не пишешь, — интересовался Нечаев. — Получил ли послание? Как дела? Пришли адресов, а если есть, то денег лишних. Поскорей пиши. Адрес мой держи в секрете от должников».[255]
3 мая из Владимира в Иваново прискакал сам начальник Губернского жандармского управления де Лазари и перевернул жилище учителя вверх дном.[256] Жандармов ожидала большая удача — у Капацинского нашли фотографический снимок Нечаева, в руках у полиции впервые оказалось изображение «беглеца». 9 мая Нечаев прислал Капацинскому пакет с прокламациями, а 12 мая — письмо без подписи, в котором приглашал посетить его в Женеве. Ивановского учителя перевезли в Петербург и поместили на Фонтанке, 16, в III отделении Собственной Его Императорского Величества канцелярии. Начались допросы, дело вел сам К. Ф. Филиппеус, руководитель политического сыска империи. Этому ловкому чиновнику за полтора месяца удалось запугать тихого, застенчивого Капацинского. Полагая, что арестант готов на все, лишь бы вырваться из его цепких объятий, Филиппеус 30 июня 1869 года передал главноуправляющему III отделением, графу П. А. Шувалову, следующую служебную записку:
«Нечаев зовет Капацинского в Женеву; его (Нечаева. — Ф. Л.) приезд Капацинского не удивил бы и не вызвал бы в нем подозрений. Мне кажется, что Капацинский принял бы на себя подобное поручение. В последний раз, когда я его видел и по предъявлении ему писем Нечаева дал прочесть два-три воззвания, а затем объявил ему, в какой степени несомненная близость его с Нечаевым его компрометирует, он вошел, наконец, в ярость и объявил, что если б Нечаев был здесь, то он бы его собственноручно повесил. Капацинский страшно озлоблен против Нечаева; он хитер, как все семинаристы, ни гроша не имеет за душою, — следовательно, едва ли захочет воспользоваться поручением в Женеве, чтобы там остаться; его личность для дела представляет мало пользы, так что и потеря была бы не велика, если бы он не вернулся, что, впрочем, как сказано, в высшей степени невероятно, так как он только и способен быть учителем в русском приходском училище.
Не прикажете ли, ваше сиятельство, сделать Капацинскому предложение насчет вышеизложенного предмета».[257]
Доложив монарху, Шувалов получил высочайшее согласие на вербовку Капацинского и его отправку в Женеву. Талантливый сыщик Филиппеус, еще только начинавший службу в III отделении, в предвкушении успеха с удесятеренной энергией накинулся на несчастного ивановского учителя. Сыщик путал и злил свою жертву, еще и еще терзая чтением писем и прокламаций Нечаева. Наконец разъяренный Капацинский в порыве ненависти к бывшему другу дал согласие на поездку в Женеву с целью получения от Нечаева корреспонденции для перевозки в Россию и выявления круга лиц, входивших в колонию русских эмигрантов. Предполагаемому эмиссару предстояло попытаться заманить беглеца на родину. Началась подготовка к проведению операции. Капацинский тем временем остывал и приходил в себя. Когда же он понял, в кого Филиппеус намерен его превратить, то, неожиданно для сыщика, наотрез отказался сотрудничать с политической полицией в какой бы то ни было форме. 28 сентября 1869 года его заключили в Петропавловскую крепость. Оснований для передачи дела в суд не было, и 15 июня 1870 года в административном порядке его выслали в Харьковскую губернию под гласный надзор полиции, где он и умер 2 января 1875 года.
Поток нечаевской корреспонденции все увеличивался, его листки достигли Пскова, Твери, Смоленска, Керчи, Витебска, Симбирска, Гродно.[258] Многие конверты содержали по нескольку экземпляров воззвания «Постановка революционного вопроса», их получили в петербургских магазинах «Гамбург» и «Русская книжная торговля».[259] Анализ документов архива III отделения показывает, что уже в конце апреля 1869 года Нечаев ощутил недостаток адресов, по которым он мог бы отправлять свою корреспонденцию. Не случайно он просил их у Капацинского. В конце лета в России появилась брошюра «Народная расправа», по цвету типографской краски, которой она напечатана, в III отделении ее называли «красным воззванием».[260]
Не забывал Нечаев и петербургских друзей. 7 апреля 1869 года он отправил Томиловой очередное послание.
«Уезжая, — писал женевский беглец, — я не разорвал связи с делом по примеру других и тотчас после того, как успею устроить здесь связи, я вернусь, что бы меня ни ожидало. Вы тем более должны были знать, что я пока жив, не отступлюсь от того, за что взялся, и если это знали, то должны были извещать о малейшем изменении, о всех подробностях, если вам тоже дорого дело! <…> Что же вы там теперь руки-то опустили? Дело горячее: его как железо, надо бить, пока горячо!. Присылайте скорее (сейчас по получении письма) человека надежного, т. е. не только честного, но и умного, и ловкого вдобавок. Если кто уже поехал, тем лучше. Но если поехал тряпичный человек, то немедля пошлите другого. И до тех пор, пока посланный не воротится, не начинайте большого процесса. Всего лучше, если бы приехал Бирк (если он в провинции, то верните его и тотчас же сберите, если он болен, то пришлите Евлампия). Дело, о котором придется толковать, касается не одной нашей торговли, но и общеевропейской!. Здесь дело кипит! Варится такой суп, что всей Европе не расхлебать! Торопитесь же, друга! Торопитесь, не откладывайте до завтра, что можно сделать сию минуту».[261]
Если предыдущие корреспонденции Нечаева, шедшие на адрес горного инженера, полковника К. Н. Томилова, и могли проскочить незамеченными мимо черного кабинета Петербургского почтамта, то это письмо было перлюстрировано и доставлено по назначению именно в то время, когда на квартире супругов Томиловых производился обыск. Кроме писем Нечаева, у Томиловой обнаружили две записки Орлова;
«Все друзья по делу! Вы, которым знакомы имена Нечаева, Ралли, Аметистова и пр., доверьтесь во всем Томиловой и на кого укажет она. Ей передан весь план нашего дела и через нее вы найдете и средства, и лучших друзей для продолжения нашего дела. Орлов».
«Все друзья по делу! Вы, которым знакомы имена Ралли, Нечаева и друзей их, доверьтесь этой госпоже, как вы доверяли им и доверяете мне. Ей передан весь ход дела, и через нее вы можете узнать и пользоваться всеми нашими средствами и всеми друзьями, которых имели мы; я пишу это на случай того, что если я сойду со сцены, то чтобы вы могли встать в связь с тем, что мы слышали и кого имели».[262] Подпись — Хомутовский, под этой фамилией беспаспортный Орлов проживал с января 1869 года.[263]
После таких находок все оказавшиеся в квартире Томиловых — помощник присяжного поверенного А. Н. Колачевский, Анна Нечаева и невеста Ф. В. Волховского М. О. Антонова — были арестованы. На свободе оставили лишь хозяина квартиры К. Н. Томилова: полицейские власти знали, что он не разделял странных революционных увлечений своей жены. Вскоре всех арестованных, кроме А. Г. Нечаевой, выпустили.[264]
Раньше других, 22 марта, арестовали Езерского,[265] 26 марта — Ткачева и Дементьеву. В Петербурге 20 марта появилась печатная прокламация (рукописных зимой 1868/69 года ходило много) с требованиями студентов.[266] Двумя днями позже, клеймя власти за «либерализм», верноподданническая газета «Весть» в передовице перепечатала эту прокламацию под заглавием «К обществу!». Приведу извлечение из текста, опубликованного в газете:
«Мы, студенты Медицинской Академии, Университета, Технологического института, Земледельческой Академии, желаем:
1. Чтобы нам предоставлено было право иметь кассу, т. е. помогать нашим бедным товарищам.
2. Чтобы нам предоставлено было право совещаться об наших общих делах в зданиях наших учебных заведений.
3. Чтобы с нас снята была унизительная полицейская опека, которая с ученической скамьи налагает постыдное клеймо рабства.
Начальство на наши требования отвечает закрытием учебных заведений, противозаконными арестами и высылками. Мы апеллируем к обществу. Общество должно поддержать нас, потому, что наше дело — его дело. Относясь равнодушно к нашему протесту, оно кует цепи рабства на собственную шею. Протест наш тверд и единодушен, и мы скорее готовы задохнуться в ссылках и казематах, нежели задыхаться и нравственно уродовать себя в наших Академиях и Университетах».[267]
Полицейские власти забеспокоились: печатная прокламация свидетельствовала о том, что в России возродились подпольные типографии. Начались обыски и аресты. Вскоре по результатам исследования шрифтов выяснилось, что прокламация печаталась на недавно купленном Дементьевой станке. Ее арестовали, а заодно и ее жениха, Ткачева, по подозрению в составлении прокламации. Вскоре Дементьева призналась, пришлось признаться и кандидату права Ткачеву в авторстве прокламации от имени не уполномочивших его студентов, чему-то да научился он у Нечаева, впрочем, как и Нечаев у него.
В Москве 16 апреля арестовали Волховского и при обыске нашли «Программу революционных действий». 21 апреля приехавшая к нему Антонова оказалась в руках полиции, она дала откровенные показания, приведшие к новым арестам. В конце апреля в Управление московского обер-полицмейстера добровольно явился скрывшийся из столицы Енишерлов и выложил все, что знал.[268] Однажды он уже побывал в руках политической полиции — отец написал донос, в котором сообщалось, что сын «намерен взорвать нитроглицерином Зимний Дворец».[269] Тогда Енишерлова быстро выпустили, теперь его отправили в Петербург, допросили и выслали на родину, в Харьковскую губернию. Возможно, в III отделении решили, что Енишерлов-старший вполне добросовестно присмотрит за сыном. «В Иванове же произведен обыск у купца Алексея Зубкова, — писал С. С. Татищев, — встретившего его (обыск. — Ф. Л.) народным гимном, исполненным духовым оркестром».[270] Поводом для обыска послужила телеграмма Нечаева, обнаруженная у Томиловой. В Петербурге в апреле был арестован Евлампий Аметистов, а Коринфский и Иван Аметистов высланы, вскоре арестовали и Ралли.[271] Поводом для ареста его и Е. В. Аметистова послужила записка Орлова, найденная при обыске у Томиловой. Орлов, сбежавший из Петербурга в начале марта, метался по России, пытаясь скрыться от полиции, но в конце июня в Кубанской области поймали и его. Только Н. Н. Николаеву удалось избежать ареста, он жил под чужой фамилией в Туле.
С отъездом Сергея из Петербурга его сторонники продолжали собирать свои секретные сходки. «На них уже не тащили всех и каждого, — вспоминала В. И. Засулич, — а если приводили новых лиц, то только коротких знакомых, о которых предупреждали заранее. Ни о кассах и сходках, ни о демонстрациях речей уже не говорилось. Да общих речей с влезанием на стул и вообще уже не говорили, а рассуждали, разбившись на группы, и только если в какой-нибудь из групп разговор сильно оживлялся, остальные примолкали и окружали ее. Говорили обо всяких более или менее запрещенных вещах: о предстоящих бунтах; те, кому случалось быть очевидцами или слышать рассказы о бунтах в своей местности, рассказывали подробности, расспрашивали о каракозовщине, — мало кто знал об ней что-нибудь определенное, — пытались говорить и о социализме, и наивные же то были речи!»[272]
Сильнейший удар по студенческому движению зимы 1868/69 года нанес сам же Нечаев присылкой по почте «возмутительных» прокламаций и провокационных писем. Многочисленные аресты породили предположение — не агент ли Нечаев III отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии. Эффект подавления студенческих волнений был столь велик, что даже в Германии газета «Фольксштаат» задавала вопрос — не полицейский ли шпион Нечаев? От пропагандистской кампании женевского триумвирата более всех выиграла полиция. Известный сербский публицист С. Маркович писал в августе 1871 года: «Но самое гнусное во всем этом деле заключается в том, что русскому правительству хорошо известно значение всего заговора; оно знает, что все прокламации, расправы и статуты напечатаны в одной и той же типографии, что, следовательно, вся революция сфабрикована на бумаге, и тем не менее хватает всех подряд, разыскивая по России заговорщиков.
Если заговор Нечаева и не является делом русской полиции, то в целом это не было больше, чем простой детский шум, который не имеет никакой другой цели, кроме того, чтобы его как можно больше было слышно».[273]
Не все справедливо в этом высказывании Марковича: полиция не имела представления о силах, стоявших за Нечаевым, что подтверждается ее действиями в 1869 году и позже. Борьба политической полиции с российским освободительным движением напоминает сражение незрячих со слепцами — одни кидались, не видя куда и зачем, другие отбивались от невидимого врага. Власти раз и навсегда усвоили, что все зло исходит от Герцена и его приспешников, женевские конверты так ими и рассматривались. Если невозможно изловить тех, кто пишет, то следует изолировать получателей. А Нечаеву представлялось полезным помогать полиции плодить недовольных. Если в России сажают, значит, там неспокойно, доведенные до отчаяния люди борются; чем большее число борцов оказывается в тюрьмах, тем масштабнее сражение. Докатившиеся до Женевы слухи об арестах в Петербурге и Москве Нечаев объяснял Бакунину и Огареву развернувшимися противоправительственными выступлениями его единомышленников, подогреваемых женевскими прокламациями.
Полиция желала извлечь свою специфическую пользу из нечаевской затеи. Капацинского III отделению завербовать не удалось, зато успех явился к киевскому политическому сыску. Воспитанник Духовной академии В. А. Маврицкий, получив от Нечаева письмо с приглашением приехать в Женеву, тотчас отнес ею ректору Академии. Разумеется, письмо оттуда попало к жандармскому полковнику А. С. Павлову. С согласия киевского генерал-губернатора, князя Д. М. Дондукова-Корсакова, Павлов предложил Маврицкому написать в Женеву, что к Нечаеву явится его, Маврицкого. доверенное лицо. 18 июня 1869 года Павлов доносил в III отделение:
«Вчерашнего числа возвратилась в Киев доверенная особа, которая умышленно была посылаема в Женеву для собирания сведений о замыслах находящегося там русского революционного кружка и его главного руководителя эмигранта Бакунина. Исполнив весьма удачно означенное поручение, этот агент доставил 14 посланий, адресованных на имя разных лиц, проживающих в России, а также значительное число революционных прокламаций, предназначенных для учащейся молодежи, крестьян и других людей простого звания».[274]
Начальник Киевского жандармского управления Павлов полагал, что своей инициативой заслужит хотя бы поощрение столичного начальства. Но вместо благодарности шеф жандармов Шувалов потребовал от Дондукова-Корсакова не проявлять более инициативы и представить подробный отчет о своих действиях. Дополнительное донесение от ретивых киевлян поступило в III отделение 3 августа 1869 года. Со слов прибывшего из Женевы агента, в нем, в частности, сообщалось:
«Положение русского революционного кружка крайне стеснительное, ибо местные власти следят весьма строго и бдительно за его действиями. Число приверженцев Бакунина довольно значительное, примерно около 50 человек; они распознаются по искусственным цветам, вроде гвоздики, которые носят в петлице. Бакунин называется у них генерал-губернатором, а Нечаев — губернатором. Материальные средства их до такой степени ограничены, что агенту моему было отказано в самом ничтожном пособии по неимению денег. Бедность наших второстепенных революционеров проявляется не только в их более чем скромном образе жизни, но и в одежде, которая у них вся в лохмотьях».[275]
Киевский агент, сочинивший небылицу о знаках отличия и званиях, снабдил Бакунина и Нечаева адресами, и те принялись посылать по ним свою продукцию… Упрямец Павлов решил не отказываться от начатой игры и с разрешения Дондукова-Корсакова весной 1870 года сделал еще одну попытку связаться с Нечаевым. Новое письмо Маврицкого попало прямо в III отделение. Отправителя решили арестовать, и Дондукову- Корсакову стоило больших трудов уладить разгоравшийся скандал.[276] Желание киевлян участвовать в поимке Нечаева путало планы столичного начальства. Политический сыск не был заинтересован во вмешательстве кого бы то ни было в эту историю: пока продолжалась пропагандистская кампания, Нечаев был полезен ему на свободе.
Нечаевские прокламации побудили политическую полицию не только к арестам их получателей в России, но и засылке шпионов в губернские и уездные города империи. Во всеподданнейшем докладе главноуправляющего III отделением сообщалось:
«В начале июня [1869 года] всем начальникам Губернских жандармских управлений было дано циркулярное предписание, в коем указывалось на то, что последователи нигилизма, не довольствуясь более одним отрицанием начат нравственного и гражданского порядка, стремятся к утверждению и распространению учений вредных в общественном и политическом отношениях; на каковой конец они сближаются между собой, собираются в общество, приступают к сбору денежных средств и завязывают сношения с разными местами империи. Поэтому особенно в виду 19 февраля 1870 г., с каждым днем должны были прекратиться обязательные отношения к владельцам бывших крепостных крестьян, в среде коих злоумышленники предполагали агентировать, — чинам Корпуса жандармов было поручено иметь самое зоркое наблюдение за сношениями сомнительных лиц с простонародьем. <…> Кроме сих мер, в течение всего прошлого лета были рассылаемы агенты в местности, которые по характеру населения представляют наиболее удобную почву для агитаций, а именно: места фабричные и промышленные. Агенты, вращаясь среди различных классов населения, живя иногда подолгу в более интересных местах, знакомившись с настроением умов вообще, прислушивались к народным толкам, старались подметить малейшие признаки противузаконной агитации, изучали образ жизни, нравы и нравственность жителей в местностях, порученных их наблюдению и собирали сведения о лицах, выдающихся в этих местностях своим значением и влиянием на народ. Эта мера оказалась весьма полезною и только недостаток в средствах и надежных агентах, достаточно развитых для такой задачи, не дозволили распространить ее в одно лето на большее число местностей. Исследованы были в вышеизложенных отношениях: село Иваново, весь Шуйский уезд и вообще фабричные центры Владимирской губернии <…>».[277]
Интересная деталь — первым в списке мест, назначенных политической полицией к неусыпному наблюдению, стоит родное село Нечаева, и это не случайно. К лету 1869 года имперские власти причислили Нечаева к особо опасным государственным преступникам и предполагали обнаружить в Иванове главный источник крамолы.
Нечаев не только создавал безнравственные вредоносные творения, он инициировал пропагандистскую кампанию триумвирата, побудил «стариков» Бакунина и Огарева к аналогичному творчеству. Будущий глава «Народной расправы» все более проявлял независимость, женевские наставники и не пытались жестко руководить его действиями. Даже Николай Платонович, опасаясь отстранения от общего дела и полной изоляции, позабыл прежние убеждения и, не без влияния Бакунина, старательно подлаживался к молодому другу. Б. П. Козьмин называл Огарева инициатором печатания листовок,[278] пытавшимся втянуть в это предприятие и Герцена. Герцена, разумеется, втянуть не удалось, и не Николай Платонович положил начало потоку прокламаций. «Огарев все шалит, — писал Герцен сыну. — Закусил удила да и только — шумит, бранится, еще написал манифест. Что с ним это? Ведает Бог, да Бакунин».[279]
Отрицательное отношение к пропагандистской кампании не уберегло Герцена от упреков молодой эмиграции. Женевский журнал (газета) «Народное дело», орган русской революционной эмиграции, поместил запрос «По поводу прокламаций» с обвинениями Герцена, Бакунина и Огарева в публикации «тупоумных листков», содержащих «бред беззубого старчества рядом с бормотанием доморощенных Митрофанов (Нечаева. — Ф. Л. )».[280] «Тебе и Бакунину будет больно, — писал Герцен Огареву, — что мое имя замешано в деле, против которого я протестовал всеми силами. Оно было нелепо».[281] Молодые эмигранты совершенно справедливо возмущались деятельностью триумвирата, ничего подобного революционная журналистика еще не производила.
Одним из авторов запроса, напечатанного в «Народном деле», был Н. И. Утин. От кого-то из петербургских корреспондентов, возможно от брата, Е. И. Утина, ему стали известны подробности поведения Нечаева во время студенческих волнений, обстоятельства героических «побегов» от жандармов и странного отъезда из империи, а также истинное положение дел в столице. Утин понял, что перед ним лжец, а быть может, шпион из III отделения, такое случалось, в круг женевских эмигрантов полицейских агентов уже засылали. Утин еще в апреле 1869 года выразил крайне отрицательное отношение к Нечаеву, но на него не пожелали обратить внимание. «Старики» решили, что молодая эмиграция пытается внести раскол в триумвират. Весной 1869 года в Женеве появился М. Ф. Негрескул, зять П. Л. Лаврова, то есть свой человек в эмигрантских кругах, пользовавшийся всеобщим доверием. Он принимал деятельное участие в студенческих выступлениях 1868–1869 годов и знал о Нечаеве все. Негрескул объяснил молодой женевской эмиграции и «старикам», что их новый друг — самозванец, шарлатан и подлец, что никакие революционные кружки его не делегировали представлять их за границей, что он никогда никем не арестовывался и ниоткуда не бежал, поэтому его надлежит опасаться, избегать общения и ни одному слову не верить. Рассказал он также, что пересылка Нечаевым прокламаций в Россию по почте привела лишь к одному — наиболее активные молодые люди оказались в руках политической полиции.
Сергей Геннадиевич забеспокоился, пытался смягчить суждение Негрескула о себе, несколько раз приходил к нему с объяснениями. Один из таких визитов описала М. П. Негрескул (Лаврова):
«Вошел молодой человек, представившийся мужу (я не расслышала фамилии), издали поклонился мне и сел на стул у окна, спиной к свету. Муж присел против него, и они стали разговаривать. Молодой человек мне показался некрасивым и неинтересным — сухощавый, широкоплечий, с коротко остриженными волосами, почти круглым лицом. Я села в стороне на диван, но так как разговор они вели вполголоса, из скромности взяла книгу и перестала обращать на него внимание. Через несколько времени муж вышел зачем-то из комнаты. Я опустила книгу, подняла глаза и встретилась с глазами незнакомца. Небольшие темные глаза смотрели на меня с таким выражением холодного изучения, с такой неумолимой властностью, что я почувствовала, что бледнею, не могу опустить век, и страх, животный страх охватил меня, как железными клещами. Никогда, ни раньше, ни после в своей жизни я не испытывала ничего подобного. Должно быть, вошел мой муж, потому что он отвел глаза, и я овладела собой. Сколько времени он у нас пробыл, я не знаю. Я машинально перевертывала страницы и чувствовала себя слабой и разбитой. Когда он ушел, я спросила у мужа: кто это? — Нечаев… Ни разу я не говорила с этим необыкновенным человеком, видела всего три раза в жизни почти мельком, но и теперь, через сорок лет, я помню его глаза, я понимаю, что люди могли рабски подчиняться ему».[282]
Попытки Нечаева склонить Негрескула на свою сторону ни к чему хорошему не привели. Негрескул не пожелал «рабски подчиниться ему». Он настроил против Нечаева всю русскую колонию в Женеве. Многоопытные Бакунин и Огарев, имея о Негрескуле самые лестные отзывы, казалось бы, обязаны были к нему прислушаться, но не прислушивались и отношения своего к Нечаеву не переменили: не были они в этом заинтересованы. Несколько раз Негрескул разговаривал и с А. И. Герценом.[283]
Человек глубочайших знаний и культуры, гениальный писатель Александр Иванович Герцен обладал потрясающей интуицией. Не встречаясь с Нечаевым, прочитав лишь первую его прокламацию, он проникся к новоявленному революционеру стойкой брезгливой неприязнью. Герцен обнаружил в Нечаеве нечто худшее, чем гнуснейший шарж, гипертрофированную карикатуру на молодого и не только молодого Бакунина с ярко вырисованными наихудшими его чертами. От его писаний исходило нечто дремучее и кровавое. Рассчитанные на неопытного, малообразованного читателя, прокламации и другая нечаевская продукция состояли из искаженных компиляций трудов не лучших представителей философской мысли, скрепленных между собой демагогической болтовней.
Появление 28 апреля 1869 года в Женеве А. И. Герцена объясняется его беспокойством за Огарева. Он не желал отдавать старого друга во власть «беспардонного бунтаря» Бакунина и сомнительного молодого эмигранта. Александр Иванович знал, как легко Огарев поддается влиянию. К тому времени на свет появилось уже несколько прокламаций. Более других его потрясла бакунинская «Постановка революционного вопроса». Но была и другая причина приезда Герцена — Огарев требовал от него денег из бахметевского фонда на финансирование пропагандистской кампании триумвирата. Здесь необходимо сказать несколько слов об истории бахметевских денег.
Летом 1857 года в Лондоне Герцена посетил некто П. А. Бахметев и сообщил ему, что в Россию не вернется, а едет на «Маркизовы острова», чтобы там «завести колонию на совершенно социальных основаниях».[284] Перед отъездом в дальние края молодой человек пожелал оставить Герцену часть денег, вырученных от продажи деревни, и просил его потратить их «для русской пропаганды». Александр Иванович не сразу согласился на неожиданное предложение незнакомца. На издание «Колокола», «Полярной звезды» и других изданий он тратил свои средства и в пожертвованиях не нуждался. Герцен отказался брать на себя единоличную ответственность за чужие деньги и согласился быть сораспорядителем фонда на равных правах с Огаревым. В результате нелегких обсуждений родился следующий документ:
«Милостивый государь, Александр Иванович.
Вверяя Вам 800 фунтов стерлингов для закупки для меня канадских билетов, гарантированных британским правительством, уполномочиваю Вас:
1) продавать эти билеты и покупать другие — по Вашему усмотрению;
2) в случае смерти моей употребить весь вверенный Вашему распоряжению капитал и состоящий в настоящее время из 800 фунтов стерл. со всеми процентами, которые на оный будут причитаться, помимо всех моих наследников — так, как лично теперь между Вами, мною и г. Огаревым условлено.
С глубочайшим уважением остаюсь Вам, милостивый государь, готовый к услугам. Павел Бахметев».[285]
Так произошло рождение бахметевского фонда, а его основатель покинул Лондон навсегда.
О Павле Александровиче Бахметеве почти ничего не известно. Он родился 8 августа 1828 года в семье захудалого дворянина, губернского регистратора в небольшой деревушке Изнаир (ныне село Саратовской области), состоявшей из 84 крестьян мужеского пола, в 1851 году окончил Саратовскую гимназию, где Н. Г. Чернышевский некоторое время преподавал словесность и подписал его аттестат. По окончании гимназии Бахметев поступил в Горыгорецкий земледельческий институт, но весной 1853 года ушел со второго курса. Бахметев послужил прообразом Рахметова, героя романа Чернышевского «Что делать?». Наверное, поездку в Лондон и передачу денег Герцену Бахметев обсуждал с Чернышевским, посвященным в его планы. Известный революционер П. Ф. Николаев в своих воспоминаниях запечатлел финал одного из устных рассказов Чернышевского: «Дело кончается тем, что компания, разбитая и разочарованная в попытках общественной деятельности, решается устроить по крайней мере свое личное счастье и для этого уезжает куда-то на Маркизские острова, где и основывают свою коммуну на новых началах».[286]
Первое время о бахметевских деньгах никто не знал, но постепенно слухи о них распространились и достигли России.[287] Возможно, Нечаев, отправляясь в эмиграцию, был осведомлен о существовании солидных сумм и рассчитывал до них добраться. Легенды о размерах фонда слагались самые невероятные, разумеется, назывались цифры, многократно превосходившие реальную сумму, в сущности небольшую. На бахметевский фонд Нечаев претендовал не первый. В конце декабря 1864-го — начале января 1865 года в Женеве состоялся съезд «молодой эмиграции», на котором присутствовал Герцен. Н. И. Утин обратился к Огареву с длинным письмом, посвященным подготовке этого съезда и выносимым на него вопросам, в том числе о бахметевском фонде.[288] Л. И. Мечников вспоминал: ««Молодая эмиграция» требовала, чтобы редакция газеты зависела от целой корпорации эмигрантов, которой должен был быть передан и фонд Бахметева и еще сумма, обеспечивающая «Колокол». Герцен, основываясь, главным образом, на том, что «Колокол» есть литературное дело, а из молодых эмигрантов мало кто доказал свои способности к литературе, не соглашался выпускать редакцию «Колокола» из своих рук, хотя обещал печатать подходящие писания эмигрантов, даже платить за них гонорар и допускать постоянных сотрудников газеты в состав редакции, но не соглашался передать газету и фонды в руки корпорации, не представляющей никаких гарантий своей умелости и прочности».[289]
Щепетильный Герцен не желал сам прикасаться к бахметевским деньгам и тем более отдавать их в чужие руки до тех пор, пока не установится факт смерти основателя фонда. Деньги к «Молодой эмиграции» не попали — позицию Герцена тогда полностью поддерживал Огарев, и их победить не удалось. Теперь же, понимая, что от настойчивых требований Огарева отписками не отделаться, Александр Иванович покинул Ниццу и прибыл в Женеву. «Там на этот раз Герцена ожидали разные неприятности, — вспоминала Н. А. Тучкова-Огарева. — Бакунин и Нечаев были у Огарева и уговаривали последнего присоединиться к ним, чтобы требовать бахметевские деньги, или фонд. Эти неосновательные просьбы раздражали и тревожили Герцена. Вдобавок его огорчало, что эти господа так легко завладели волей Огарева.
Собираясь почти ежедневно у Огарева, они много толковали и не могли столковаться. Рассказывая мне об этих недоразумениях, Александр Иванович сказал мне печально: «Когда я восстаю против безумного употребления этих денег на мнимое спасение каких-то личностей в России, а мне кажется, напротив, что они послужат большей гибели личностей в России, потому что эти господа ужасно неосторожны, — ну, когда я протестую против всего этого, Огарев мне отвечает: «Но ведь деньги даны под нашу общую расписку, Александр, а я признаю полезным их употребление, как говорят Бакунин и Нечаев». Что на это сказать, ведь это правда, я сам виноват во всем, не хотел брать их один».
Размышляя обо всем вышесказанном, я напала на счастливую мысль, которую тотчас же сообщила Герцену. Он ее одобрил и поступил по моему совету; вот в чем она заключалась: следовало разделить фонд по 10 тысяч фр[анков] с Огаревым и выдавать из его части, когда он ни потребует, но другую половину употребить по мнению исключительно одного Герцена».[290]
Нечаев явился к Герцену перед самым его отъездом из Женевы, 16 июня 1869 года. Ему не терпелось получить наконец долгожданные деньги. Унизительное существование впроголодь, на подачки, кончалось, можно было продолжать издание прокламаций, кое-что оставалось на дорогу в Россию. Он извелся в ожидании этого дня, ему надоели и Бакунин, и Огарев, деньги позволяли обрести материальную независимость, хоть чуть реже видеть «стариков», Герцена Нечаев возненавидел, от одной мысли о нем его бросало в ярость. Главнейшая цель поездки — коротко сойтись с Герценом, самой авторитетной фигурой в русском революционном движении, не удалась. Старый аристократишка, чертов философ, не пожелал, видите ли, его принимать, побрезговал народным посланцем, истинным революционером. Сергей так сжился с придуманным им для себя образом, что сам поверил своим собственным вымыслам о несуществующих сообществах, комитетах, народных посланцах, истинных революционерах, в себя как единственного знатока и заступника простых людей.
«На другой день соглашения их (Герцена. — Ф. Л.) с Огаревым относительно фонда, — вспоминала Тучкова-Огарева, — Нечаев должен был прийти к Герцену за получением чека. Я была в кабинете Герцена, где он занимался, когда явился Нечаев. Это был молодой человек, среднего роста, с мелкими чертами лица, с темными короткими волосами и низким лбом. Небольшие, черные, огненные глаза были, при входе его, устремлены на Герцена. Он был очень сдержан и мало говорил. По словам Герцена, поклонившись сухо, он как-то неловко и неохотно протянул руку Александру Ивановичу. Потом я вышла, оставив их вдвоем. Редко кто-нибудь был так антипатичен Герцену, как Нечаев».[291] Это была их единственная встреча… Слухи о победе триумвиров над Герценом и начале трат бахметевских денег распространились по Женеве и достигли ушей младоэмигрантов. Н. И. Утин поспешил потребовать от Александра Ивановича объяснений. «Деньги эти, — писал Герцен из Брюсселя, — даны на полное безусловное распоряжение нас двоих — Огарева и меня. Мы обязаны в них отчетом давшему господину и своей совести. Отданы они были не ошибкой, не по незнанию, как и кому отдавать, — а propos deliber (обдуманно — фр.). Выбор не совсем был неудачен — потому что капитал, вверенный нам в 1859, к 1 июля 1869 интегрально цел. В важных случаях мы его употребляли (напр[имер], когда вы, обещая молчанием покрыть дело, брали для спасения товарища) — и тотчас дополняли. Но если б капитал был весь растрачен, то и в таком случае мы вовсе не были бы повинны отчетом какой-нибудь веме (тайное судилище в средневековой Германии, выносившее приговор в отсутствие обвиняемого. — Ф. Л.) или коморре (тайная террористическая организация в Южной Италии. — Ф. Л.), избирающей себя, — потому-то я и рассказываю вам дело. Примите это как знак уважения, — мне просто приятно заявить, что беспокоящий капитал цел — и мы всегда готовы его употребить согласно с желанием давшего — и с нашими убеждениями. С тем вместе вы понимаете, с каким отпором мы приняли бы всякое требование отчета — как это предполагалось.
Я не могу с вами согласиться с вашим мнением, очень враждебным, относительно Бакунина. Бакунин слишком крупен, чтобы с ним поступать somnariremment (бесцеремонно — фр.). У него есть небольшие недостатки — и огромные достоинства. У него есть прошедшее, и он — сила в настоящем. Не полагайтесь на то, чтобы всякое сменяющее поколение интенсивно было лучше предыдущего. Если бы это было так — то англичане при Генрихе были бы далеко выше кромвельцев — а французы Реставрации заткнули бы за пояс якобинцев. В людях, как в винах есть cru (vin de cru — вино, вкус которого зависит от почвы, климата, винограда — фр.). Я думаю, что Бакунин родился под кометой».[292] Утин напрасно упрекал Герцена и требовал отчета — не ему его упрекать. Цену Бакунину Александр Иванович знал, знал лучше и вернее других, но отдавать старого товарища на растерзание молодым эмигрантам не пожелал.
Герцен провел в Женеве более полутора месяцев не только из-за бахметевского фонда. Его беспокоил Огарев, все более отдалявшийся от него. Участие Николая Платоновича в пропагандистской кампании приводило его в бешенство. А тут еще бакунинская «Постановка революционного вопроса». Ничего более вредоносного ему читать не приходилось. Современники, читая призывы великого революционера покидать университеты, объединяться с «разбойным миром», устраивать «народную революцию, осмысленную и беспощадную»,[293] осеняли себя крестным знамением — «одна резня на уме» (выражение Герцена). Предчувствуя возможное появление подобных воззваний, Александр Иванович почти весь 1869 год работал над письмами «К старому товарищу». Первые два письма он закончил еще до выхода «Постановки революционного вопроса», остальные — после, все четыре письма впервые опубликованы Огаревым в «Сборнике посмертных статей» (Женева, 1870). Приведу из них извлечения:
«Следует ли толчками возмущать с целью ускорения начатую работу, которая очевидна? Сомнения нет, что акушер должен ускорять, облегчать, устранять препятствия, но в известных пределах — их трудно установить и страшно переступить. На это, сверх логического самоотвержения, надобен такт и вдохновенная импровизация. Сверх того, не везде одинаковая работа — и одни пределы.
Петр I, Конвент научили нас шагать семимильными сапогами, шагать из первого месяца беременностей в девятый и ломать без разбора все, что попадется на дороге. Dei zerst vende Lust ist ein schaffende Lust — и вперед за неизвестным Богом-истребителем, спотыкаясь на разбитые сокровища — вместе со всяким мусором и хламом».[294]
Это цитата из первого письма, датированного 3 января 1869 года, то есть до появления Нечаева в Женеве. Но и тогда Герцена беспокоили бакунинская торопливость и страсть к сокрушению. Этих двух человек природа соткала из разных материалов, они могли сосуществовать, но не в одной упряжке. Их связывала общая молодость, общая Родина, общие друзья и учителя. Александр Иванович, обладавший редкостным умом и рыцарским благородством, талантом глубокого и тонкого психолога, бесспорно, понимал, что изменить взгляды состарившегося Мишеля он не в силах, но не предупредить его о его заблуждениях, преступных заблуждениях, он не мог.
Возражения Бакунину, и заодно Нечаеву, Герцен сформулировал в последнем, четвертом письме:
«Наука — сила; она раскрывает отношения вещей, их законы и взаимодействия, и ей до употребления нет дела. Если наука в руках правительства и капитала — так, как в их руках войска, суд, управление, то это не ее вина. Механика равно служит для постройки железных дорог и всяких пушек и мониторов.
Нельзя же остановить ум, основываясь на том, что большинство не понимает, а меньшинство злоупотребляет пониманьем.
Дикие призывы к тому, чтобы закрыть книгу, оставить науку — и идти на какой-то бессмысленный бой разрушения, принадлежат к самой неистовой демагогии и к самой вредной. За ним так и следует разнуздание диких страстей — le dechainemt des mauvaiss passions (разгул дурных страстей — фр.). Этими страшными словами мы шутим, нисколько не считая, вредны ли они для дела и для слушающих.
Нет, великие перевороты не делаются разнуздыванием дурных страстей. Христианство проповедовалось чистыми и строгими в жизни апостолами и их последователями, аскетами и постниками, людьми, заморившими все страсти — кроме одной. Таковы были гугеноты и реформаторы. Таковы были якобинцы 93-го года. Бойцы за свободу в серьезных поднятиях оружия всегда были святы, как воины Кромвеля, — и оттого сильны.
Я не верю в серьезность людей, предпочитающих ломку и грубую силу развитию и сделкам. Проповедь нужна людям, проповедь неустанная, ежеминутная проповедь, равно обращенная к работнику и хозяину, к земледельцу и мещанину. Апостолы нам нужны прежде авангардных офицеров, прежде саперов разрушенья, — апостолы, проповедующие не только своим, но и противникам.
Проповедь к врагу — великое дело любви: они не виноваты, что живут вне современного потока, какими-то просроченными векселями прежней нравственности. Я их жалею, как больных, как поврежденных, стоящих на краю пропасти с грузом богатств, который их стянет в нее, — им надобно раскрыть глаза, а не вырвать их, — чтоб и они спаслись, если хотят».[295]
Человек с такими взглядами не мог принять нечаевшину или хотя бы пойти на компромисс; он видел ее в зародыше. Все его существо противилось любым проявлениям нечаевщины. Воспитываясь с Бакуниным на одних книгах, увлекаясь учениями одних философов, принадлежа к одной среде, они пришли к совершенно противоположным выводам, превратились в антиподов. Одни и те же марши увлекли их в разные стороны. Один желал на своем пути созидать и раскрывать глаза, другой — крушить и вырывать глаза. Сколь мудр был Герцен, мы можем окончательно оценить лишь сегодня, когда воочию убедились, к чему приводит одержимость нечаевшиной и созиданием разрушения. Продукция дружного триумвирата, рассчитанная на самых примитивных читателей, на самые низменные инстинкты, проповедовавшая правовую и политическую неразборчивость, бесила Герцена. Он понимал, что младые побеги нечаевщины требуется выполоть, выжечь, иначе катастрофа. И он метался по жаркой, раскаленной Женеве к Огареву, Бакунину в отель, обратно, по нескольку раз в день, больной, обремененный тысячами забот и обязательств. А триумвират хотел не только выпускать свои листовки, он желал оплачивать типографию из бахметевского фонда. Все это омрачило последние дни жизни Александра Ивановича. Женеву Герцен покинул навсегда, ему оставалось жить менее семи месяцев. Из Брюсселя 17 июля он отправил в Париж старшей дочери, Н. А. Герцен, полное горечи письмо: «Если же ехать — куда? В Женеве можно было бы жить. Огар[ев] в очень хорош[их] отношениях с N (Н. А. Тучковой-Огаревой. — Ф. Л.), и она с ним. Но нельзя себе представить — как удушлив Бакун[ин] и как Огар[ев] совершенно под влиянием дома — этой дурочки (М. Сатерленд. — Ф. Л.), и вне — разных юношей (Нечаева. — Ф. Л.). Это составит тяжесть неимоверную — и будет раздражать денно и нощно».[296]
А триумвиры продолжали резвиться. Они сочиняли прокламации, Чернецкий их печатал, Нечаев закладывал в конверты вместе со своими записками и отправлял в Россию.
Полицейские власти вылавливали женевские гостинцы и не понимали, чего от них хочет странный «беглец», — а он хотел, чтобы его знала вся революционная и полицейская Россия, чтобы все трепетали перед ним, героем, непримиримым борцом с самодержавием.
Енишерлов и другие недоброжелатели Нечаева, помогая ему сесть на корабль, надеялись, что «бегством» из России он осрамит себя окончательно и уж никогда в пределах империи его никто не увидит, а если и увидит, то тихого и скромного, далекого от революционных кружков. Осрамит он себя и в эмиграции — петербургские друзья позаботятся сообщить в Европу о Сергее все, что для этого потребуется, даже сочинять ничего не понадобится. Там-то уж разберутся.
«Нечаев явился за границу ничем, — размышлял Енишерлов, — он бывал на студенческих сходках и его за это «хотели», как он думал, арестовать. С таким багажом предстать перед эмиграцией было совестно. Надо было создать о себе мнение — и для эмиграции, и для святой Руси. И вот. перед лицом Бакунина предстает Нечаев — страдалец, мученик за свои убеждения, коновод великой «партии действия», арестованный русским правительством, государственный преступник, наконец — герой, бежавший с помощью своих могущественных друзей даже из крепости. Этого героя спросили: — А что же там у вас, в России, ваша партия действия ничем себя не заявляет? Сейчас представление начнется, отвечает он расшаркиваясь — и настрочил свои письма, прокламации и даже стишонки в честь самого себя; он был на вершине: или произойдет демонстрация, или последуют аресты».[297]
Конечно же, в действительности все обстояло вовсе не так, как хотелось Енишерлову. Нечаев не собирался покидать Россию навсегда, на то было несколько причин. Кроме Бакунина и Огарева, вся женевская эмиграция отнеслась к нему и его кровавым воззваниям враждебно. Теоретическая подготовка и знания эмигрантов были несравненно выше, чем у учителя приходской школы, ему нечего было делать в Западной Европе, он там тихо истлел бы. Но самая главная причина заключалась в том, что Нечаев предпринял путешествие в Европу, чтобы там подготовиться к завоеванию России. Эту свою задачу он выполнил — выпустил несколько листовок, подружился с легендарными революционерами, приобрел их доверие и полную поддержку. Огарев даже написал стихотворение, посвященное Нечаеву, вернее, он первоначально посвятил его другому лицу. Но Бакунин уговорил Николая Платоновича разрешить напечатать стихотворение в виде листовки и назвать его «Студент (Молодому другу Нечаеву)».[298] В России листовка появилась в августе 1869 года. Если ее находили при обысках, то могли возбудить судебное преследование. История с этой стихотворной листовкой имела неожиданное продолжение. Ф. М. Достоевский сочинил и поместил в «Бесах» пародию на это стихотворение Огарева. Народники использовали текст Достоевского в пропагандистских целях и, когда его списки находили при обысках, ссылались на цензурное разрешение публикации романа.[299] Полиция недоумевала…
После выхода огаревской прокламации с увековечившими Нечаева стихами ему не сиделось в тихой Женеве, он стремился к немедленному осуществлению своих планов в России — к скорейшему основанию несуществующей «Народной расправы.
Оставалось одно: придумать документ, удостоверяющий полномочия Нечаева, данные ему какой-нибудь солидной международной революционной организацией, такой документ, чтобы все, прочитав его, трепетали и повиновались беспрекословно.
Документ сочиняли сообща Огарев, Бакунин и Нечаев. Кроме Интернационала, никакой солидной революционной организации в это время не существовало. Отношения с лицами, входившими в состав Всемирного рабочего союза, у Бакунина были испорчены, а к Нечаеву они относились враждебно. Членом Славянской секции Интернационала и секретарем его Русской секции был Н. И. Утин. Просить у него хоть какой-нибудь документ было не только бесполезно, но и небезопасно, просьба эта, с соответствующими комментариями, могла тут же проникнуть на страницы европейских газет. Триумвиры решили поступить очень просто: если нет организации, ее можно придумать. Придумав организацию, составили текст мандата:
«12 мая 1869 года.
Податель сего есть один из доверенных представителей русского отдела всемирного революционного союза
Печать: 2771
Alliance revolutionnaire europpenne
Comite general
подпись: Бакунин».[300]
Печать оттиснута синей краской.
Подпись Михаила Александровича Бакунина, вождя чешского и саксонского восстаний, узника Секретного дома Алексеевекого равелина, бежавшего из Восточной Сибири в Европу через Америку, человека, состоявшего из отваги и решительности, кумира молодых радикалов, знавших о нем понаслышке, несомненно, придавала обладателю мандата весомый авторитет. Для солидности подпись великого бунтаря была скреплена печатью бакунинского Альянса, к тому времени основательно захиревшего.
Итак, мандат в кармане, можно трогаться в обратный путь, можно въезжать в революционную Россию на белом коне, для этого, как Сергею казалось, оснований у него предостаточно: «побеги» из Петропавловской крепости и от одесских жандармов, авторство потока листовок, дружба с великими революционерами, никто не может похвастать такими заслугами. Жаль, половина бахметевского фонда растаяла раньше, чем полагал Нечаев, и 22 июля пришлось отправить И. И. Флоринскому в Иваново телеграмму с просьбой выслать денег на дорогу.[301]
Сергей никогда никому никаких обид не забывал, он превосходно помнил свое поражение на петербургских сходках зимой 1868/69 года. Жгучая, непроходящая злоба возбуждала в нем ненависть к этому надменному городу. В Петербурге он не мог себя чувствовать уверенно, свидетели его провала имели о нем сложившееся представление, к тому же он знал, что столичные студенты уличили его во лжи, а пострадавшие от женевских корреспонденции будут мстить, как он мстил им за поражение. Реванш за петербургское поражение Нечаев решил брать в Москве.
Чтобы добраться до Москвы, требовалось пересечь русскую границу с надежными документами. Сергей бежал из России с паспортом Николаева, полицейские власти могли об этом знать. Показываться с таким документом на пограничном пропускном пункте было рискованно. Поиски нового паспорта ни к чему не привели: кроме Бакунина и Огарева, в Женеве ему никто не желал помогать. Обстоятельства требовали переезда из Западной Европы куда-нибудь на юго-восток, где его еще никто не знал и была надежда раздобыть документы. В конце июля представился удобный случай. В Женеву прибыла группа болгарских революционеров для переговоров с русскими эмигрантами, в начале августа один из них возвращался домой.[302] Нечаев решил ехать с ним. Бакунин снабдил Сергея рекомендательным письмом для передачи в Бухаресте писателю и публицисту Л. Каравелову, имевшему связи с болгарской эмиграцией в Румынии. Каравелов отправил Нечаева к одному из руководителей освободительного движения, поэту X. Ботеву. Около 10 августа Сергей выехал из Бухареста в Брэилу, небольшой уездный городок на Дунае, и там провел около двух недель в беседах с Ботевым. Исследователи русско-болгарских связей считают, что Нечаев оказал на Ботева существенное влияние.[303] Ботев поселил Сергея у Д. Паничкова (Паничка). водившего знакомство с секретарем турецкого консульства, «выправлявшего турецкие и сербские паспорта» для лиц, отъезжавших в Россию учиться. Секретарь согласился раздобыть в турецком посольстве в Бухаресте паспорт для «русского социалиста-нигилиста Нечаева».[304] В последних числах августа 1869 года паспорт был получен, и Сергей через Одессу двинулся завоевывать Россию.[305]
Стремление «разбудить Россию», возбудить в ней «социальную революцию», превратилось в навязчивую идею молодых радикалов. Она цепко завладевала их умами и отвращала от созидания. В 1850-е годы желание сокрушать преследовало людей образованных. На смену им пришли фанатичные невежды, не имевшие даже отдаленного представления об управлении государственными и общественными институтами, их назначении и потребностях. Наверное, Нечаев понимал, что не следует необученного юношу ставить к ткацкому станку, он не сможет на нем работать. Но ему причудилось, что он способен главенствовать в революции и управлять державой. Гениально простой текст шекспировского «Гамлета» (монолог о флейте) писался для всех. Но почему-то многие думают, что он не для них и, уж конечно, не для таких, как Сергей Геннадиевич Нечаев.
«НАРОДНАЯ РАСПРАВА»
Нечаев прибыл в Москву утром 3 сентября 1869 года. Прошло ровно полгода со дня его бегства из России; позади остались Швейцария, Румыния, юг России, Одесса, где он пытался образовать первый кружок «Народной расправы».[306] С вокзала Сергей отправился к П. Г. Успенскому,[307] где впервые побывал еще в феврале 1869 года. В Москве у Нечаева более близкого знакомого не оказалось: одних арестовали по его же вине, другие скрывались. Петр Гаврилович заведовал книжным магазином и библиотекой А. А. Черкесова. Их владелец постоянно жил в Петербурге, поэтому Успенский на службе чувствовал себя вполне самостоятельно. Подъезжая к Москве, Нечаев решил, что более удачного адреса для первого визита у него нет. Любопытная деталь: Сергей знал служебный и домашний адреса Успенского, но писем из Европы ему не посылал. Берег на всякий случай? Возможно, решение об этом визите могло созреть у Нечаева и не в вагоне поезда Одесса — Москва, а значительно раньше.
В начале сентября чиновники III отделения уже располагали сведениями о возвращении Нечаева в Россию.[308] Его искали повсюду, сообщили московским жандармам, но им обнаружить его почему-то не удалось.
Во время петербургских студенческих волнений зимы 1868/69 года Первопрестольная сохраняла относительное спокойствие, сторонников нечаевского радикализма в ней не обнаруживалось. С. С. Татищев утверждал, что в университете и Земледельческой академии все же ожидались серьезные беспорядки.[309] В университете собралось несколько сходок, но без выдвижения политических требований. 24 марта студенты подписали петицию об официальном разрешении сходок, с ними говорил ректор.[310] На сходке 26 марта обсуждалась возможность создания кассы взаимопомощи и библиотеки. Однако большинство студентов вели себя вяло, и волнения затихли сами собой.[311] В Земледельческой академии поводом для беспорядков послужил запрет начальства приводить женщин легкого поведения в казенные жилые дома. К разволновавшимся юношам вышел ректор и в грубой форме прочитал им нотацию, чем возмутил собравшихся.[312] Беспорядки в академии вызвали беспокойство попечителя учебного округа и генерал-губернатора.[313] Начальник Московского губернского жандармского управления генерал И. Л. Слезкин 28 марта отправил в III отделение донесение:
«В Петровской (так называли Земледельческую академию, по месту ее нахождения в Петровско-Разумовском. — Ф. Л.) академии в последнее время обнаружились беспорядки, ближайшим поводом к которым, как дошел до меня слух, послужило следующее: часть студентов Академии пользуется квартирами в казенном здании, особо под их помещение назначенном. Некоторые из числа живущих там студентов позволили себе приводить в занимаемые ими квартиры женщин вольного обращения, что возбудило ропот других квартирующих в том же корпусе товарищей их, посещаемых нередко их матерями и сестрами. По заявлении о том жалобы недовольных Директору Академии, г. Железнов призвал к себе тех, на кого преимущественно падало обвинение в означенном неприличии и сделал им строгое по сему случаю внушение.
В каких именно формах и выражениях сделано было Директором такое внушение, в точности указать было нельзя, по последствием его было то, что обе стороны студентов, после взаимных между собою неудовольствий, начали негодовать уже на свое Академическое Начальство и до 40 человек из них, решившись оставить заведение, подали прошения об увольнении их из Академии. Директор Железное, не будучи в состоянии уладить возникшее таким образом неприятное дело, донес о том телеграммою г. Министру Государственных имуществ, который в ответ на то немедленно предложил вновь собрать означенных студентов и постараться убедить их отказаться от заявленного ими намерения оставить Академию».[314]
И в университете, и в академии волнения быстро улеглись. Зачинщиком университетских беспорядков генерал Слезкин назвал Ф. В. Волховского.[315] В это же время по Москве распространялось анонимное рукописное воззвание «Братья-товарищи!»,[316] призывавшее поддержать петербуржцев.
Желая расширить студенческое движение, вынести его за пределы Петербурга, столичные студенты 22 марта отправили в Москву депутацию. В ее состав вошли слушатели Медико-хирургической академии 3. К. Ралли и Л. Мгебров и студент университета Л. П. Никифоров.[317]
В это время в Москве действовало несколько кружков самообразования. Молодые люди слушали лекции своих товарищей, обменивались книгами, обсуждали прочитанное. Один из таких кружков в 1868 году организовал Всеволод Лопатин, брат выдающегося революционера Г. А. Лопатина. В конце августа в кружок вошел Ф. В. Волховский и вскоре сделался его руководителем. Кружок собирался у Н. Г. Успенской, младшей сестры Петра Гавриловича Успенского. С нею жили М. О. Антонова и невеста П. Г. Успенского Александра Засулич, сестра В. И. Засулич. Кружок посещало около пятнадцати человек.[318]
«Собиравшаяся у нас молодежь, — вспоминала А. И. Успенская (Засулич), — не представляла из себя чего-нибудь определенного. Это был кружок самообразования, не задававшийся пока никакими определенными целями, стремившийся только выработать в себе определенное мировоззрение, и если что намечалось в будущем, так это работа в народе, причем одни находили, что для этого достаточно тех знаний, какие у нас были, другие же, что и нам самим следует еще поучиться да и с народом познакомиться, но где и как с ним знакомиться, никто, конечно, не знал. Все мы были еще очень юны, неопытны, до многого приходилось додумываться самим, выискивать и приобретать из книг по крупицам то, что потом стало уже общим достоянием. Читали мы, помнится, статьи из «Современника» Чернышевского, «Исторические письма» Миртова (П. Л. Лаврова. — Ф. Л.), печатавшиеся в «Неделе». Читали, конечно, с особым увлечением всякую «нелегальщину», попадавшую из-за границы или ходившую по рукам в рукописях. С полным восторгом приветствовалось появление номеров «Колокола», которые доставал откуда-то Успенский».[319]
Члены кружка, владевшие иностранными языками, изучали историю и литературу стран Западной Европы, остальные — занимались Россией. Самостоятельно подготовившись, молодые люди на собраниях кружка читали рефераты. Книжный магазин и библиотека Черкесова служили удобным местом для получения и хранения литературы, там же можно было уславливаться о встречах. Кроме Успенского, заведовавшего магазином и библиотекой, а также приказчиков П. В. Прокопенко и В. П. Скипского, с февраля 1869 года в магазине работал Волховский.
Мгебров, Никифоров и Ралли надеялись побудить московские кружки возглавить студенческое движение и направить его на поддержку нечаевской группы радикального крыла столичного студенчества. После посещения сходок, на которых выступали заезжие пропагандисты,[320] Волховский и Успенский несколько раз встречались с петербургской депутацией. В результате обсуждения доводов столичных радикалов в пользу политических выступлений москвичи заявили, что они побуждать своих товарищей к выходу за пределы «академических» требований не станут. Опасаясь, что депутация неверно изложит взгляды москвичей, Волховский отправился в Петербург и там выступил на сходке. Он посоветовал горячим головам придерживаться легальных методов борьбы за получение разрешения на устройство библиотек и касс взаимопомощи. После визита Волховского в столицу Никифоров еще раз посетил Москву. 12 апреля 1869 года Слезкин докладывал в III отделение, «что из Петербурга нарочно приезжал в Москву студент тамошнего Университета Никифоров с целью возбудить здешних студентов к беспорядкам, подобным Петербургским.
Никифоров знаком с дворянином Феликсом Волховским <…>».[321]
В конце апреля кружок Волховского был разгромлен;[322] все началось с Антоновой, случайно присутствовавшей во время обыска у Томиловой. При допросе она назвала своих московских знакомых, и ее отпустили. На другой день управляющий III отделением Н. В. Мезенцев дал в Москву телеграмму, и в ночь на 15 апреля начались обыски и аресты. Под стражей оказались все члены кружка Волховского, кроме Успенского и его жены. С. С. Татищев писал, что Успенского не взяли из-за путаницы, возникшей при составлении списков на аресты.[323] Объяснение это вызывает сомнение.
Если недоразумение произошло, отчего же его не исправить? Причин могло быть три: плохая работа политической полиции; оставили на «разводку» (полицейский термин — оставили, чтобы следить за ним и его окружением); оставшийся на свободе был полицейским агентом. Скорее всего, Успенского не арестовали по второй причине: в то время за ним постоянно следили. Жандармский генерал Слезкин 11 июня 1869 года доносил в III отделение:
«Успенский Петр Гаврилов, не служащий (в смысле государственной службы. — Ф. Л.) дворянин, около 27 лет, заведует библиотекой и книжным магазином г. Черкесова; находясь в любовной связи с белошвейкою (А. И. Засулич. — Ф. Л.), живет вместе с нею на одной квартире, никого к себе не принимает, знакомство водит с студентами, чиновниками и разного звания девицами, вовлеченными в нигилизм. Успенский направления либерального и в благонадежности в политическом отношении сомнителен».[324]
Действительно странная история — сестра Успенского, пятнадцатилетняя девочка, не избежала ареста, а ее старший брат остался на свободе. А. И. Успенская писала:
«В феврале [1869 года] в Петербурге начались студенческие волнения, отразившиеся и на Москве. Произведено было много арестов; из нашего кружка были забраны Волховский, Надя Успенская, Антонова, Всеволод Лопатин и еще некоторые. Почему не был арестован Успенский и я, было для нас загадкой, но что следили за номерами, где мы жили, и за библиотекой Черкесова, — это было вне всякого сомнения. Вероятно, Успенский был оставлен на свободе в виде приманки, как человек, у которого были связи как в Москве, так и в Петербурге, чтобы легко было следить за теми, кто имел с ним сношения. Но ареста можно было ожидать каждый день, и чтобы не разлучили нас, мы решили повенчаться».[325]
Вечером 3 сентября Нечаев зашел к Успенским, снимавшим уютную квартиру в двух этажах на 1-й Мещанской в доме Камзолкина. «Я не сразу узнала бы его, — вспоминала А. И. Успенская о визите Нечаева, — если не была предупреждена мужем. В европейском, хорошо сшитом костюме он казался худощавее и выше ростом, синие очки скрадывали выражение его глаз, смотревших несколько исподлобья; усики подросли. Все это вместе взятое очень изменило его. В тот же вечер он рассказал нам, что за границей познакомился с эмигрантами — Герценом, Бакуниным и Огаревым. Много рассказывал о заграничной жизни, расспрашивал о сестре Вере, очень сожалел, что ей приходится сидеть в тюрьме в такое время, когда предстоит много работы. Помнится, тогда же он показал мужу и мне печатный лист, в котором было сказано, что он, Нечаев, является доверенным лицом от женевского революционного Комитета, имелась подпись — Михаил Бакунин, и была приложена печать с какой-то уж не помню теперь — надписью».[326]
Показав изумленным Успенским придуманный им с Бакуниным мандат несуществующей организации, нежданный гость заявил, что прибыл в Россию с целью образовать тайное общество для подготовки всероссийского крестьянского восстания, которое должно произойти в феврале 1870 года. По замыслу Нечаева, его конспиративное сообщество будет складываться из сети кружков, каждый кружок — состоять из пяти человек, каждый член кружка, кроме его руководителя, глава другого кружка и так далее. Получается система пятерок, в которой участники сообщества знают только по восемь его членов, остальные им неизвестны. Первую, центральную, пятерку Нечаев назвал кружком первой степени, кружки образованные из него, — кружками второй степени и так далее. Ему казалось, так наилучшим образом соблюдается конспирация. Он рассказал Успенским об организации «Народная расправа», уже якобы существующей в Петербурге, Одессе и других городах империи, о Комитете, руководящем этой организацией, и о другом Комитете, находящемся в Женеве и стоящем во главе всего российского освободительного движения. Эта ложь многократно повторялась Нечаевым при вербовке молодых людей в «Народную расправу».
В. Г. Короленко, встречавшийся со многими нечаевцами, превосходно осведомленный о замыслах творца «Народной расправы», с горькой иронией писал:
«Каждый член кружка обязуется основать такой же кружок. Таким образом «революция» растет в геометрической прогрессии. В известный день приказом сверху, от центрального кружка, в России объявляется свободный строй. Приказ идет от кружка к кружку, не знающих даже друг друга, и страна вдруг узнает, что она чуть не вся революционна и свободна…»[327]
Во время первой же встречи Сергей Геннадиевич просил Успенских называть его Иваном Петровичем Павловым и под этим именем представлять его друзьям.
Кроме мандата, Нечаев привез с собой из Швейцарии «Общие правила организации», «Общие правила сети для отделения», зашифрованный текст «Катехизиса революционера», некоторое количество своих и бакунинских прокламаций, набор букв для бланков: «Русский отдел всемирного революционного союза» и печать с надписью: «Комитет народной расправы. 19 февраля 1870 года».[328] Все это Сергей оставил на сохранение у Успенских, освободивших для него в мезонине комнату, в которой он иногда оставался ночевать. Приступая к осуществлению своей мечты — созданию «Народной расправы», Нечаев разработал три перечисленных выше документа еще в Женеве. По замыслу автора, тайное общество должно было неукоснительно руководствоваться ими в своей деятельности. «Катехизис революционера» напечатан в предыдущей главе, приведу два других документа, их тексты расположены в той последовательности, в какой они опубликованы в обвинительном акте по делу нечаевцев.
«Общие правила организации
1. Строй организации основывается на доверии к личности.
2. Организатор (уже член) из среды своих знакомых намечает 5–6 лиц, с которыми переговорив одиночно и заручившись согласием каждого, собирает их вместе и закладывает основание замкнутого кружка.
3. Механизм организации скрыт от всякого праздного глаза, и поэтому вся сумма связей и весь ход деятельности кружка есть секрет для всех, исключая его членов и центрального кружка, куда организатор представляет полный отчет в определенные сроки.
4. По известному плану, основанному на знании местности или сословия, или среды, в которой ведется подготовительная работа, труды специализируются членами.
5. Член организации немедленно составляет в свою очередь каждый около себя кружок 2-й степени, к которому прежде основанный становится в значение центрального, куда все члены организации (по отношению к кружкам 2-й степени организаторов) вносят всю сумму сведений от своих кружков для доставления далее,
6. Правило не действовать непосредственно на всех тех, на которых можно действовать с наименьшим результатом посредственно, т. е. через других, должно быть выполняемо со строгой аккуратностью.
7. Общий принцип организации не убеждать, т. е. не вырабатывать, а сплачивать все те силы, которые есть уже налицо, исключать всякие прения, имеющие отношение к реальной цели.
8. Устраняются всякие вопросы от членов к организатору, имеющие целью дело кружков подчиненных.
9. Полная откровенность от членов к организатору лежит в основе успешного хода дела.
10. По образовании кружков второго разряда, прежде организованные становятся относительно их центральными, получают устав общества и определенную программу деятельности в той среде, где находятся.
Великорусский отдел. Москва».[329]Правила написаны не вполне четко, однако из них явственно проступают два главных нечаевских принципа построения организации — строжайшая конспирация и абсолютное подчинение рядовых членов главарю. Когда Нечаев писал этот документ, он, безусловно, видел именно себя руководителем «Народной расправы», и никого другого. Он создавал организацию для себя, перед ним не возникал даже вопрос: а вдруг некто окажется умнее, образованнее, талантливее, достойнее занять место руководителя? Нет, он опасался не их, его беспокоили более хитрые, строптивые, наглые, честолюбивые претенденты на роль вожака его стаи. Нечаев, пожалуй, первый и единственный из российских революционеров создал партию сам для себя.
«Общие правила сети для отделения
1) Задача отделений состоит в достижении самостоятельности и независимости в деле организации и их употребления с вящею гарантиею безопасности общего дела.
2) Начало такого отделения кладут двое или трое лиц, уполномоченных от сети с одобрения Комитета. Они группируют тех лиц из кружков на основании общих правил организации, которые, по усмотрению Комитета, окажутся удовлетворяющими требованиям. Через организаторов поддерживается связь с сетью.
3) Личности, избранные из кружков и входящие в состав отделения, на первом же собрании дают обязательство: а) действовать неразрывно, коллективно, вполне подчиняясь общему голосу, и оставить отделение только для вступления в ряды еще более интимные, по указанию Комитета; б) вместе с тем, они обязуются во всех своих отношениях ко всему миру иметь в виду только пользу общества.
4) Вступление в отделение делается постепенно, поодиночке. Когда количество дойдет до шести, тогда отделения разделяются на самостоятельные группы, по указанию Комитета.
5) Избирается сообща лицо, заведывающее письмоводством, составлением отчетов, приемкой и отправлением членов Комитета и других доверенных лиц, имеющих отношения ко всему отделению. Это же лицо хранит бумаги, веши и имеет адресы.
6) Другие члены берут на себя обязанность вести подготовительную работу в том или другом сословии или среде и избирают себе помощников из лиц, организованных по общим правилам.
7) Количество лиц, организованных по общим правилам, рассматривается и употребляется как средство или орудие для выполнения предприятий и для достижения целей общества. Потому, во всяком деле, приводимом отделением в исполнение, существенный план этого дела или предприятия должен быть известен только отделению; приводящие же его в исполнение личности отнюдь не должны знать сущность, а только тс подробности, те части дела, которые выполнить пало на их долю. Для возбуждения же энергии необходимо объяснить сущность в превратном виде.
8) О плане предприятия, задуманного членами, дается знать Комитету и только по соглашению оного приступается к выполнению.
9) План, предложенный со стороны Комитета, выполняется немедленно. Для того, чтобы со стороны Комитета не было требований, превышающих силы отделения, устанавливается самая строгая и аккуратная отчетность о состоянии отделения через посредство тех звеньев, которыми оно связывается с Комитетом.
10) Отделение посылает членов для ревизии подчиненных кружков и отправляет в свежие места для заложения новых организаций.
11) Вопрос о средствах денежных стоит на первом плане: 1-е, прямой сбор с членов, лиц сочувствующих — на бланке Комитета, с выставлением прописью количества жертвуемых денег; 2-е, косвенный сбор, под благовидным предлогом, отлип всех сословий, хотя бы и не сочувствующих; 3-е, устройство концертов, вечеров под разными номинальными целями; 4-е, разнообразные предприятия относительно частных лиц; все другие более грандиозные средства исключаются из деятельности отделения, как превышающие его силу, и только по указанию Комитета отделение должно содействовать выполнению такого плана; 5-е, из всей суммы приходов одна треть доставляется Комитету.
12) В числе необходимых условий для начала деятельности отделения есть: 1-е, образование притонов; 2-е, допущение своих ловких и практических людей в среду разносчиков, булочников и прочее; 3-е, знакомство с городскими сплетнями, публичными женщинами и другие частные собирания и распространения слухов; 4-е, знакомство с полицией и с миром старых приказных; 5-е, заведение сношений с так называемой преступной частью общества; 6-е, влияние на высокопоставленных лиц через их женщин; 7-е, интеллигенция литературы; 8-е, поддержание агитации всевозможными средствами.
Сей экземпляр не должен распространяться, а храниться в отделении».[330]Обращает на себя внимание плохой стиль, мешающий докопаться до смысла того, что желал сказать автор. Наверное. Нечаев писал эти документы в спешке и позже к ним не возвращался. Из «Общих правил сети для отделений» следует, что сообщество рассчитано на бездумное повиновение, а его члены «употребляются как средство или орудие для выполнения предприятий и для достижения целей общества».
Главенствующая роль в сообществе отведена Комитету. Лишь во время суда нечаевцы узнали, что, вернее, кто есть Комитет, хотя некоторые лица, близко стоявшие к Нечаеву. догадывались об этом почти с самого начала. Приведенные выше документы сформулированы так, что все решает Комитет. Постоянно звучит рефрен — «по указанию Комитета». Для Комитета Нечаев предусмотрел довольствие в размере одной трети бюджета «Народной расправы», не так уж плохо. Пункт 12 последнего документа может потрясти даже не очень впечатлительного читателя. Оказывается, для свершения в России революции необходимо «образование притонов», «знакомство с городскими сплетнями, публичными женщинами» и прочее.
При свиданиях с Успенскими Нечаев подробно расспрашивал хозяев об их друзьях, знакомых, родственниках, занятиях, досуге, планах на будущее, рассказывал об обширной и могучей ассоциации революционных сообществ в Швейцарии. Сергей говорил, что в России народ нищенствует и близко время, когда он восстанет и сбросит ненавистного царя и других своих мучителей, а чтобы это ускорить, необходимо объединяться. Нечаеву легко удалось умеренного Успенского сделать своим верным союзником и первым помощником. Многие удивлялись перемене его взглядов. Возможно, Нечаев вел себя в этой семье иначе, чем с другими своими соратниками. Единственные воспоминания о нем, рисующие его исключительно положительными красками, написаны Александрой Ивановной Успенской. Следователь, допрашивавший П. Г. Успенского 20 декабря 1869 года, записал: «Успенский высказал, что он потому легко поддался влиянию Нечаева, что этот последний рассказывал ему ужасы про содержание его во время студенческой истории в Петропавловской крепости, про нещадное будто бы сечение нескольких студентов и потом еще, что сестра Успенского, девочка 17 лет, была задержана в августе месяце без всякого основания, — что вместе взятое не могло не возбудить ненависти его к Правительству».[331] Следователь умышленно пятнадцатилетнюю Успенскую назвал семнадцатилетней и время ее ареста перенес с апреля на август. Ее освободили лишь 4 февраля 1870 года «за недостатком улик». Даже тюремные служители Литовского замка, где она сидела, недоумевали, что делает у них этот ребенок.[332]
Успенский познакомил Нечаева со своим приятелем, слушателем Земледельческой академии Н. С. Долговым, а тот — с ближайшими друзья ми-однокашниками И. И. Ивановым, В. И. Луниным, А. К. Кузнецовым и Ф. Ф. Рипманом, участниками кружка самообразования, далекого от политических тем, — они обучали грамоте жителей слободы, расположенной рядом с Петровско-Разумовским. После окончания академии молодые люди предполагали объединиться в земледельческую ассоциацию и одновременно заниматься народным образованием. Лунин разработал проект артели странствующих учителей, в которую собирались войти члены ассоциации в свободное от полевых работ время. Приведу отрывок из воспоминаний Лунина о его встрече с Нечаевым:
«С Нечаевым я познакомился летом 1869 г. в Петровской Сельско-хозяйственной Академии незадолго до своего выезда из нее в Петербург. Виделся я с ним, насколько помню, только один раз в квартире кого-то из слушателей Академии (как тогда назывались учащиеся в ней). В этой квартире мы вместе с ним и несколькими другими товарищами провели целый вечер в споре о возможности в то время государственного переворота в России и о действительной силе того политического общества, которое, по словам Нечаева, будто бы имело огромное разветвление по всей России и большое число членов, с помощью которого он считал вполне возможным произвести указанный переворот. До сих пор ясно представляю себе не сходившее во все время спора с лица Нечаева выражение едва сдерживаемого нетерпения и досады при высказывании ему сомнений в верности сообщаемых им доводов. Вероятно, этот спор, который главным образом вел я, а затем и скорый после того выезд мой в Петербург и был причиной того, что Нечаев никакого предложения поступить в члены Общества мне не сделал и никаких подробностей плана своих действий в моем присутствии не раскрывал. Держал он себя в то время чрезвычайно конспиративно: днем почти никуда не показывался, ни разу не ночевал в одной квартире по две ночи подряд, почти все свои посещения в целях вербования членов совершал только с наступлением темноты, питался сухоедением, избегая всяких кухмистерских».[333]
Одновременно с крестьянской реформой 1861 года в России появилась потребность в новых сельскохозяйственных учебных заведениях. В связи с этим вслед за началом действия реформы и была создана Земледельческая академия. Первые занятия в Петровско-Разумовском состоялись 21 ноября 1865 года. Новое учебное заведение открыло свои двери для всех сословий без каких бы то ни было ограничений, принимались все желающие, сдавать вступительные экзамены не требовалось, отсутствовали переходные и выпускные экзамены. Слушателям разрешалось изучать как полный курс наук, так и выбирать отдельные дисциплины «сообразно с целями и потребностями каждого». Первым директором академии был назначен выдающийся ученый и общественный деятель Николай Иванович Железное. Он окончил Горный институт и физико-математическое отделение философского факультета Петербургского университета, слушал лекции в Гогенгеймском королевском институте, Сорбонне и Парижской консерватории искусств и ремесел, путешествовал по Швейцарии, Англии, Франции, Германии и Бельгии, изучал сельское хозяйство России, участвовал в подготовке документов для освобождения крестьян. По утверждению специалистов, Железнов «поставил Петровскую академию на высоту лучших земледельческих школ в Европе».
Земледельческая академия находилась в исключительном положении, ее слушатели были намного свободнее студентов других учебных заведений. «Право сходок, — писала В. И. Засулич, — которого добивались петербуржцы, здесь не имело смысла: половина студентов жила на казенных квартирах в одном здании, остальные размещались в слободке, в нескольких шагах друг от друга; к их услугам был великолепный парк при Академии, и сходки, если бы таковые понадобились, могли продолжаться там хоть круглые сутки. У них была общая кухмистерская, обшая библиотека, которыми заведовали выборные от студентов, была и касса, считавшаяся, правда, тайной, но спокойно существовавшая целые годы, насчитывая до 150 человек».[334]
Решение о создании «Народной расправы» в Москве Нечаев принял не случайно, именно Земледельческая академия побуждала его к этому. Учиться туда шел народ попроще, в основном из разночинцев — дети сельских священников, мещан, крестьян побогаче, мастеровых. Приехав из провинции, из мелких городков и деревень, по окончании академии они намеревались возвратиться обратно. Связав себя с земледелием и лесоводством, они таким образом «сливались» с крестьянством. Нечаеву было известно, что некоторые слушатели академии участвовали в ишутинской «Организации», и он полагал кого-нибудь из них там встретить. Несколько человек, знавших ишутинцев, ему отыскать удалось, но никакой революционной организации в Москве не обнаружилось, и Сергею пришлось начинать на пустом месте.
«В Петровской Академии, — вспоминал В. И. Лунин, — Нечаев нашел крайне благоприятную почву для своей пропаганды и завлек в свою организацию прежде всего тех слушателей Академии, которые до него считались наиболее консервативными, наиболее преданными сухим занятиям по систематике ботаники, составлению гербариев, по геодезическим работам на полях Академии и т. п. и уклонявшихся от всякого участия в общих студенческих делах и тем более в той борьбе, которую тогда вело студенчество Академии с директором последней — Железновым из-за вводившихся им всякого рода полицейских мер в надзоре над слушателями. Единственным объяснением такого успеха Нечаева является, несомненно, тот душевный перелом, который происходил тогда у многих слушателей Академии — и прежде всего, по-видимому, у упомянутых наиболее консервативных из них, — перелом, заключавшийся в начинавшем проявляться у них сознании, что составлением гербариев, геодезическими работами в поле и производством анализов в химической лаборатории не избавить Россию от мучительного гнета реакции. Конечно, одного такого душевного кризиса еще было недостаточно, чтобы так быстро и так преданно стать правою рукою Нечаева, как стали некоторые из слушателей Академии, и чтобы вообще легко присоединиться к его организации, если бы у присоединившихся было больше политических знаний и опытности, большего знакомства с Россией и если бы не принятый Нечаевым метод лжи, выдававшийся им за несомненную правду, в показании числа членов организованного им политического общества, обширности разветвлений его по России, состоянии политического настроения крестьян и т. д.».[335]
Нечаев придумал замечательную систему вербовки, действовавшую на неокрепшие молодые души почти без единой осечки: «Дело, к коему мы намерены вас привлечь, предпринято исключительно на пользу народа. Неужели вы откажетесь помочь нашему несчастному крестьянству только потому, что не желаете подвергнуть себя ничтожному риску? Как мы будем действовать, какова численность наших рядов, каждому объяснять нельзя — это опасно. Не всем быть генералами, не все должны знать подробности. Разве у вас есть повод сомневаться в намерениях Герцена, Бакунина, Огарева, наших руководителей? Вождям надобно доверять. Вся Россия в наших руках. Когда час пробьет, только члены сообщества избегнут наказания. Кто с нами, тот навечно будет запечатлен в памяти благодарных потомков». Подобные демагогические монологи действовали на агитируемых неотразимо, обман и доверчивость сделали свое дело. Молодые люди не сомневались, что вливаются в могучую организацию, руководимую выдающимися личностями. И если их зовут, то следует не раздумывая бежать на этот зов.
Задачу вербовки в революционеры облегчало то обстоятельство, что велась она в среде разночинцев, людей, живших скудно, знавших тяжелый труд и нужду. Во второй половине XIX века разночинцы в России составляли своеобразный тип диссидента. Первые знакомые Нечаева из слушателей академии, кроме Лунина (он вскоре перевелся в Петербург и там организовал кружок, который некоторое время тяготел к «Народной расправе»), дали согласие на вступление в образуемую Нечаевым революционную организацию. Он сообщил им, что в России и за границей студенты давно объединились в несколько тайных противоправительственных сообществ, поддерживающих между собой постоянную связь через Комитет, пересказал содержание «Катехизиса», несколько смягчив некоторые его положения, дал читать привезенные из Швейцарии прокламации, выделяя при этом «Постановку революционного вопроса». Он рассказал Кузнецову, Долгову. Рипману и Иванову о существовании Комитета, состав которого никому не известен. Революция вот-вот грянет, надобно спешить, иначе можно остаться в стороне, ни при чем, отыщутся другие…
После знакомства с основными документами первый кружок начал работать. Главная его деятельность состояла в вербовке из слушателей академии новых людей для кружков второй степени. А. К. Кузнецов составил кружок из И. Ф. Климина, братьев В. В. и И. В. Рязанцевых, Г. Я. Гавришева и младшего брата Кузнецова — Семена. И. И. Иванов завербовал Э. В. Лау, В. К. Ланге, П. А. Енкуватова, В. К. Попова и А. А. Костырина. В кружок Н. С. Долгова вошли П. И. Коробьин, Н. И. Аврамов и жившая в слободе рядом с академией Е. И. Беляева. Слушатели Земледельческой академии, завербованные Нечаевым, желали участвовать в скромном труде близ народа, вместе с народом, во имя народа. Основатель «Народной расправы» постарался убедить их в неосуществимости этих идиллических мечтаний. Заманчивость предложений Нечаева заключалась в том, что не требовалось долго и нудно просвещать народ, дожидаясь, когда он созреет, мгновение — революция, и все становится на свои места, торжество справедливости, «излечение всех народных бедствий», быстро и понятно. Хотя на самом деле ничего не понятно, но зато созвучно с молодым темпераментом. Сергей Геннадиевич Нечаев не был ни социалистом, ни марксистом, ни фурьеристом, он перемолол в себе многие учения, известные ему поверхностно и понаслышке, в нем нет эпигонства и эклектизма, он превратил себя в нечто самобытное и цельное. Вождь «Народной расправы» сделался семенем, зародышем, черенком гигантского дерева, дававшего ядовитые плоды, отравившие окружающих противоестественной моралью. А взрасти оно могло лишь на почве абсолютизма, противоестественно запрещавшего многое, без чего не могло нормально развиваться российское общество, где карающая система невыносимо тягостно обрушивалась на любую самую безобидную критику режима или его представителя, где многим молодым людям не без основания казалось, что ни их настоящее, ни будущее не сулят им ничего хорошего.
После образования кружков второй степени первый кружок назвали Центральным. В Центральном кружке составлялись списки слушателей академии с характеристиками каждого попавшего в них предполагаемого кандидата («молчаливый, братство, народные свойства, корысть, лень»[336]), на заседаниях кружков второй степени переписывались составленные Нечаевым прокламации и через книжный магазин Черкесова рассылались в разные города империи. Разумеется, вскоре деятельность Успенского и его помощников была обнаружена полицией, но никого трогать не стали — оставили дозревать…
Кузнецов, более других разочаровавшийся в Нечаеве, после ареста сообщил следователю: «<… Нечаев устраивал вербовку в члены общества разными средствами, и тех, кто не поддавался на его желание, обставлял таким образом: окружал их незаметно для них самих такими людьми, которые все старались уговорить не желавших, давали понимать, что все должны служить общему делу, что нужно ради их же самих, ибо иначе народ, когда поднимется, истребит всех, кто не стоит в наших рядах. Старания эти вели к тому, что не желавший поддавался сначала только на пожертвование в пользу дела деньгами, а потом, связавши уже себя этим пожертвованием, вступал в дело и лично. Вообще Нечаев обладал удивительною ловкостью к тому, чтобы склонить к участию в обществе; он умел представить это дело в таких размерах, придать ему такой характер общего дела, что силою этих доводов увлекал за собою».[337]
К вступлению в «Народную расправу» Нечаеву удавалось склонить далеко не каждого, на уговоры и угрозы чаще поддавались слабовольные, несамостоятельные. Сергей рассчитывал на полное их подчинение, и ему искренне казалось, что таким путем сможет создать организацию, способную ввергнуть Россию в революцию и приобрести власть над державою. Он не понимал, что сообщество, состоящее из слабых людей, даже если во главе его стоит исключительно сильная личность, остается инертным неуправляемым стадом и чем больше численность этого сообщества, тем ниже эффективность результатов его действий, не понимал он, что Россия не созрела до «социальной революции» и, уж конечно же, не студентам державу поднимать на революцию.
Кроме писания списков возможных участников «Народной расправы» Центральный кружок занимался рассмотрением отчетов, полученных от кружков второй степени, и их оценкой, а также сбором денег и рассылкой прокламаций. В конце сентября появились кружки третьей степени (кружок Э. В. Лау: П. Ф. Ивакин и Г. А. Свечин; кружок П. А. Енкуватова: Н. А. Шестаков, Н. Н. Римский-Корсаков, братья Л. И. и Н. И. Голиковы и Д. А. Енкуватов). Ни в одном из кружков мы не находим старого приятеля Нечаева Флоринского. В это время он был слушателем академии, исполнял отдельные поручения своего земляка, но формально в «Народной расправе» не числился. Объясняется это тем, что Флоринский знал Нечаева лучше других, знал о письмах, присланных им из Швейцарии, об арестах, связанных с их получением, и действий его не одобрял.
Кроме Беляевой и Нечаева, все перечисленные лица учились в Земледельческой академии. В конце сентября 1869 года Кузнецов с разрешения Нечаева принял в «Народную расправу» приказчика книжного магазина Черкесова В. П. Скипского, инженера, князя В. А. Черкезова (в прошлом ишутинца), а тот привел своего друга Д. Е. Коведяева и его сестру Л. Е. Воронцову.
Еще в Болгарии Сергей заочно познакомился с писателем И. Г. Прыжовым, а приехав в Москву, пришел к нему 8 сентября с рекомендательным письмом от Л. Каравелова и вскоре принял Прыжова в организацию. В начале октября создатель «Народной расправы» ввел Успенского, Беляеву и Прыжова в Центральный кружок и переименовал его в Отделение. Формальное руководство Отделением Нечаев возложил на Успенского. Теперь даже названиями подразделений «Народная расправа» полностью соответствовала «Общим правилам организации». Обязанности между членами Отделения распределились следующим образом: Успенский — делопроизводство и пропаганда среди литераторов; Кузнецов — сбор средств для «Народной расправы» и пропаганда в «среднем сословии» (купечество); Иванов — пропаганда среди слушателей академии и распределение их по квартирам так, чтобы облегчалась вербовка в сообщество; Беляева — пропаганда между слушательницами Женских курсов; Прыжов — пропаганда в «низших слоях» (дворники, извозчики, булочники, почтальоны, жулики, проститутки, воры).
Прыжов составил подробнейший список посещаемых им кабаков и притонов Первопрестольной и ее окрестностей, в которых собирались беглые попы, семинаристы, карманники, цыгане и прочее «жилье». Ф. Рипман, П. Енкуватов, Н. Николаев и Д. Коведяев помогали Прыжову на этой ниве как могли. Рипману и Енкуватову очень хотелось изучить положение народа, они даже пытались устроиться рабочими на фабрику, но их не приняли «из-за студенческих костюмов». «Во время работы разговаривать некогда, — утешал Прыжов молодых людей, — а если вам и удастся поговорить с товарищами, то только в кабаке, во время отдыха; так не лучше ли прямо начать с кабака? Результат будет тот же, а времени потратите меньше».[338] Прыжов проинструктировал помощников и отправил их в кабак на Хитровом рынке. Кабаками он увлекался и отменно знал их не только в силу своих революционных убеждений. В кабаке чужаков встретили враждебно. От водки, духоты и грязи хотелось поскорее вырваться на улицу. Енкуватов выдержал лишь одно посещение; Рипман оказался упорнее, он ходил туда несколько раз. Наконец одна из проституток, которую он накормил обедом, предупредила, что его собираются ограбить. Молодые конспираторы предпочли обходить кабаки на почтительном расстоянии. Посещал их один Прыжов: некоторые теоретики продолжали утверждать, что именно там надлежит искать рекрутов для пополнения рядов революционеров. Каковы ратники, такова и революция. Даже одного этого предостаточно, чтобы понять, почему Герцен ни при каких обстоятельствах не мог бы сотрудничать с Нечаевым. Они были люди разных, бесконечно далеко отстоящих друг от друга цивилизаций. Победившие в России Нечаевы тут же принялись истреблять Герценов.
Когда Нечаев приступил к формированию «Народной расправы», его московский знакомый Н. Н. Николаев, избежав ареста весной 1869 года, продолжал скрываться в Туле. Возможно, Николаеву его сводный брат, судебный следователь из Шуи, помог добыть новые документы на имя мешанина А. В. Белкова. В Туле он пристроился работать в плотничью артель и в Москву вернулся по вызову Нечаева лишь 20 октября 1869 года. Занимался ли Николаев пропагандой среди тульских рабочих, неизвестно. От Нечаева не раз слышали, как он говорил об особом интересе к тульским рабочим, потому что у них в руках оружие. В бумагах Черкезова, найденных при обыске, имелись записи, позволившие следствию предположить, что «Нечаев не ограничился в своих действиях Москвою и Петербургом, но пропагандировал вредные идеи и в других местах России, в особенности же в Туле, между оружейниками».[339]
По требованию Нечаева Кузнецов бросил академию, переехал в Москву, поближе к купечеству, и поселил у себя Николаева. Нечаев дал указание Николаеву переписывать документы «Народной расправы» и ничего не рассказывать Кузнецову, Кузнецову же доверительно сообщил, что его жилец — «агент» Комитета, живя в Туле, «изучал народ», который так «возбужден, что Комитет вынужден его сдерживать от преждевременных противоправительственных выступлений».[340] Как только Кузнецов входил в комнату Николаева, тот, согласно инструкции Нечаева, мгновенно прятал исписанные листы. Впечатлительному Кузнецову казалось, что Николаев приставлен грозным Комитетом за ним следить, и он почти перестал бывать у себя дома.
Никаких распоряжений от своего имени Нечаев никогда никому из сообщников не давал. Все якобы исходило от Комитета, а он лишь доверенное лицо, действующее как передаточное звено, связной между авторитетнейшим Комитетом и «Народной расправой». Он такой же, как все, их товарищ, но заслуженно облечен особым расположением могущественнейшего Комитета. Сергею эта выдумка представлялась в высшей степени удачной: имеет место быть недосягаемо высокая инстанция, и споры с ней, обсуждение ее замыслов и действий — неуместны и даже опасны, ее постановления подлежат обязательному, немедленному и беспрекословному исполнению. Творец «Народной расправы» никакого Комитета создавать и не собирался. Зачем с кем-то делить власть? Он был столь уверен в себе, что не нуждался ни в чьих советах и помощи. Поэтому состав Комитета Нечаев окружил непроницаемой таинственностью. Пожалуй, это единственный случай, и не только в российской истории. Ни один диктатор не решился на такое. Быть может, перед нами самый страшный властолюбец, включая всех восточных и западных тиранов и деспотов, когда-либо существовавших.
«Кто составлял Комитет, — отвечал Рипман на вопрос следователя, — я не знаю и арестованы ли члены Комитета — тоже не знаю, так как это было тайною для всех, но я думаю, что Комитет существовал, так как вряд ли Нечаев один мог успевать заправлять всем. Несмотря на неизвестность и таинственность Комитета, между членами («Народной расправы». — Ф. Л.) была доверенность к нему, необходимая для достижения цели и согласия образа действия, так как всем распоряжаться нельзя, а нужно было подчиняться кому-нибудь одному; впрочем у многих было желание узнать более о комитете, но желание это оставалось без успеха, так как о комитете никто ничего не мог сказать. Мне самому приходилось слышать вопросы о том же от членов моего кружка и я принужден был им говорить, что и мне самому решительно ничего не известно по этому вопросу и что нужно от членов общества доверие. На этом доверии была основана вся организация: я верил в честность убеждений принявших меня в общество; другие верили мне. Впрочем власть Комитета была отчасти основана на угрозе со стороны Комитета, так как каждый член, в случае неповиновения боялся мести его».[341]
До конца октября 1869 года так думало большинство московских заговорщиков. Но со временем вера в существование Комитета среди членов сообщества начала постепенно исчезать; чем ближе к Нечаеву стоял участник «Народной расправы», тем быстрее рассеивалось его представление о реальности Комитета как некоего коллективного органа. В последних числах ноября Николаев «решился спросить его (Нечаева. — Ф. Л.) о том, действительно ли существует Комитет и не заключается ли он на самом деле в самом Нечаеве? Не отвечая утвердительно на мой (Николаева. — Ф. Л.) вопрос он говорил мне, что все средства позволительны для того, чтобы завлечь людей в дело, что правило это существует и за границей, что следует ему Бакунин, а равно и другие, и что если такие люди подчиняются этому правилу, то понятно, что и он, Нечаев, может поступать таким образом».[342] В это время уже шли аресты, и Сергею незачем было скрывать от своего ближайшего подручного действительного положения дел.
Нечаев постоянно внушал участникам «Народной расправы», что их кружки всего лишь небольшая частичка могучего механизма, приводимого в движение Комитетом, и, изощряясь в фантазии, стремился убедить их в реальности его существования. В разговорах с доверчивым Кузнецовым Сергей выражал недовольство требовательностью к нему со стороны Комитета, показывал конверты с «директивами». Однако критика Комитета не могла внушить к нему почтение и страх. Поэтому Нечаев познакомил конспираторов с «агентом» Комитета молчаливым Николаевым и ловко разыграл сцену, впоследствии рассказанную Рипманом во время суда:
«Вскоре после того как мы дали согласие, Нечаев начал запугивать нас, если можно так выразиться, властью и силою Комитета, о котором он говорил, что будто бы существует и заведует нами. Так один раз Нечаев пришел к нам и сказал, что сделалось Комитету известно, что будто кто-то из нас проговорился о существовании тайного общества. Мы не понимали каким образом могло это случиться. Он сказал: «Вы не надейтесь, что вы можете проговориться и Комитет не узнает истины: у Комитета есть полиция, которая очень зорко следит за каждым членом». При этом он прибавил, что если кто из членов как-нибудь проговорится или изменит своему слову и будет поступать вопреки распоряжениям тех, кто стоит выше нашего кружка, то Комитет будет мстить за это».[343]
Кто проговорится, кто из них агент Комитета? Недоверие друг к другу и страх перед беспощадным таинственным Комитетом истребляли желание противиться любым указаниям всемогущего Комитета, порождали полное повиновение. Нечаев постоянно заботился о беспрекословном, абсолютном повиновении заговорщиков своему вожаку.
В первых числах октября Сергей отправился в Петербург, жил он там конспиративно и где останавливался, неизвестно, один только раз переночевал у слушателя Медико-хирургической академии И. Н. Лихутина. Нечаев стремился создать в столице кружки «Народной расправы», о существовании которых успел порассказать москвичам. Однажды он сообщил своим соратникам, что в Петербурге арестовано пять «кучек» — кружков, но это пустяк — их там много.[344] Лихутин расспрашивал Сергея о цели тайного сообщества, но ответами удовлетворен не был. Нечаев говорил о необходимости тесной связи московского и петербургского студенчества, «чтобы возможно было легко получать и доставлять разные летучие листки».[345] Лихутин отвечал, что листки за бесполезностью никому не нужны, тогда Нечаев предложил ему отправиться с ним в Москву и самому убедиться, какую он создал там организацию и при ней типографию, Лихутин на поездку согласился.
В показаниях Лихутина подробно описан его вояж в Москву.[346] При их чтении не следует забывать, что перед следователем и судебными властями он стремился любой ценой выгородить себя и своих товарищей. Поэтому из показаний Лихутина и других подследственных использованы лишь бесспорные факты, достоверность которых подтверждена показаниями других лиц.
В поезде Нечаев объяснил Лихутину, что в конспиративный кружок посторонних лиц не пускают, поэтому он решил представить его московским заговорщикам агентом «женевского общества» и проинструктировал, как себя вести. В магазине Черкесова Лихутин познакомился с Успенским и Прыжовым, показал им «женевский бланк», полученный от Нечаева, и задал несколько вопросов. Из сбивчивых ответов он сразу же понял, что регулярных собраний не проводится и «работа никакая не делается», а типографии нет и в помине. Затем столичный визитер в сопровождении Флоринского отправился в Петровско-Разумовское и оставался у него на «даче» до вечера. На расспросы Лихутина хозяин «дачи» рассказал, как Нечаев «мало церемонится с людьми, не разделяющими его образа действия; он (Флоринский. — Ф. Л.) приводил мне (Лихутину. — Ф. Л.) в пример большое число людей, забранных во Владимирской губернии, которые были подведены разными письмами и прокламациями Нечаева».[347]
«Вечером зашел Нечаев, — вспоминал Лихутин, — и мы отправились в собрание главного кружка Петровской академии. Поднялись на самый верх; там сидело четыре человека; меня Нечаев представил опять-таки как члена комитета женевского; их фамилий он не называл, а называл просто нумерами: № 1, № 2, № 3, № 4. После нашего входа они принялись за свои занятия, которые казались мне крайне скучными; занятия состояли в отчетах всех по очереди собранных об какой-либо личности справок, затем читали список всех когда-либо бывших студентов Петровской академии и делались отметки, обратить или нет на него внимание. Это занятие не одному мне казалось скучным. Нечаев заснул совершенно, так что это заметили. Вскоре все окончилось, и я отправился спать к одному из четверых».[348]
На другой день, наотрез отказавшись сотрудничать с Нечаевым, Лихутин отправился в обратный путь, а московские революционеры продолжали заседать, уверенные, что за их действиями пристально наблюдают из далекой Женевы. Но отделаться от Нечаева оказалось непросто. Глава «Народной расправы» обладал необыкновенным даром втягивать в сферу своих интересов хоть раз с ним соприкоснувшихся. Природа одарила его какими-то редкостными способностями влиять на поведение окружающих. Об этом рассказывали Ф. Г. Постникова, М. П. Негрескул и другие. Нечаев согласился с отказом Лихутина сотрудничать «только под тем условием, чтобы я (Лихутин. — Ф. Л.) достал вексель от Колачевского на 6 тысяч рублей».[349]
Помощник присяжного поверенного А. Н. Колачевский, присутствовавший при обыске у Томиловой, привлекался к следствию еще в 1866 году по делу Д. В. Каракозова, пользовался известностью и хорошей репутацией среди молодежи. Придерживаясь позиций умеренного крыла студенческого движения, Колачевский еще зимой 1868/69 года докучал Нечаеву своей популярностью. Сергею не удавалось «иметь в своих руках» Колачевского, и тогда он вознамерился хотя бы нейтрализовать противника.
План действий и его реализация вполне могли бы послужить сюжетом для детектива. Вскоре по возвращении из Москвы И. Н. Лихутин пригласил к себе по неотложному делу Колачевского и отдал ему для передачи М. Ф. Негрескулу важный пакет с секретными бумагами. По выходе от Ивана Лихутина на улице Колачевского «арестовывают» два «жандарма» — младший брат Лихутина Владимир и студент-технолог В. К. Дебагорий-Мокриевич. Они сажают Колачевского в карету, везут в Знаменскую гостиницу, проводят в заранее приготовленный номер и там предлагают «арестанту» свободу в обмен на деньги — денег не оказывается. «Жандармы», поглядывая на пакет в трясущихся руках Колачевского, неохотно соглашаются на вексель. Вексель на шесть тысяч рублей подписан, «арестант» отпущен. (Все это в подробностях можно прочитать в «Правительственном вестнике», № 198 за 1871 год.) На другой день счастливый Колачевский спешит к своему другу Негрескулу и вручает ему секретный пакет, в котором обнаруживается записная книжка Нечаева.
В этой истории не все поддается объяснению. Почему, например, Лихутину понадобилось передавать Колачевскому записную книжку Нечаева, откуда она у него и, главное, почему он еще в Москве не отказался от требований Нечаева? Мальчишество? И. Н. Лихутин к тому времени был подпоручиком в отставке. Рассказ Негрескула о проделке Лихутина записала в свой дневник дочь известного архитектора, приятельница П. Л. Лаврова, Е. А. Штакеншнейдер, но там ему дано несколько иное толкование.[350] Любопытно, что один из исполнителей «ареста» Колачевского, В. К. Дебагорий-Мокриевич, в своих воспоминаниях стыдливо умолчал об этом событии.[351]
Возмутительный поступок, на который Нечаев подтолкнул Лихутина, вызвал у Негрескула приступ бешенства. Он и прежде враждебно относился к творцу «Народной расправы»; все, что можно было предпринять для его разоблачения, он сделал еще в Швейцарии. (Кстати, в Женеве в один из визитов к Негрескулу Нечаев украл у него пальто, сюртук и плед.[352]) Узнав о возвращении Нечаева из эмиграции, Негрескул написал Успенскому письмо с весьма нелестным отзывом о вожде московских заговорщиков, но переубедить Успенского ему не удалось. Это письмо было перлюстрировано на Петербургском почтамте, его копия попала в III отделение, но за этим почему-то никаких действий не последовало.[353] После авантюрной истории с векселем в Петербург приехал приказчик московского книжного магазина Черкесова В. П. Скипский, он привез Негрескулу письма от Успенского и Нечаева. Побеседовав со Скипским, Негрескул сказал ему: «Так передайте Успенскому, чтобы он остерегался этого господина (Нечаева. — Ф. Л.) сам и старался бы предостерегать от него и других, так как здесь, в Петербурге, доподлинно известно, что Нечаев подкидывает прокламации (одну из таких прокламаций показали Колачевскому в III отделении) и вообще не прочь вызвать какую-нибудь кутерьму».[354] После разговора с Негрескулом Скипский решил отойти от участия в нечаевских кружках, что, впрочем, не уберегло его от наказания.
Нам неизвестно, сколько раз осенью 1869 года Нечаев посещал Петербург, по-видимому, не менее трех. Во второй приезд он взял с собой Кузнецова. Тогда-то ему и удалась долгожданная организация столичного кружка «Народной расправы». Приведу извлечения из показаний бывшего студента Петербургского земледельческого института (Лесотехническая академия) П. А. Топоркова:
«Пришедши раз в класс, я заметил в комнате нашей молодого офицера в форме путей сообщения, но, не обратив на него внимания, сел за работу. Офицер этот был среднего роста со смуглым лицом и темнорусыми волосами, в очках из темного стекла. Он просидел у нас весь вечер и остался ночевать. На другой день утром, когда все уже ушли в классы и я остался один в комнате за работой, офицер, которого фамилия была Панин (Нечаев. — Ф. Л.), стал ходить по комнате и завязал со мной разговор. Сначала он спросил, не видел ли я прокламаций, пущенных Нечаевым из-за границы? На ответ мой, что я их не видел, он начал сожалеть об этом. Потом стал спрашивать о моих знакомых, о каждом отдельно. Затем спросил, хожу ли я в город и имею ли там знакомых; я ответил, что имею в городе брата и знаком с его товарищами, живущими с ним. Вечером в 6 часов приезжал к Панину какой-то господин в белой шляпе (А. К. Кузнецов. — Ф. Л.) и о чем-то с ним толковал. В тот же вечер господин в белой шляпе уехал, а Панин сходил куда-то ночью, пришел и лег спать. На третий день утром, когда опять все были в классах Панин обратился ко мне с новым вопросом, не знаю ли я что-нибудь о московском революционном обществе. Я ответил, что нет».[355] Далее Нечаев осторожно, с туманными намеками рассказал Топоркову о цели «Народной расправы», взял адрес брата, настойчиво потребовал явиться туда в назначенный день, вручил «образчик бумаги» и велел никому ни о чем не рассказывать. Придя к брату в условленное время, Топорков застал у него Кузнецова. «Он взял у меня образчик бумаги, — рассказывал Топорков, — данный Паниным, сличил с тем, который был у него, и загем движением головы пригласил меня следовать за собою. Смешно было смотреть на ту таинственность и важность, с которою он вел меня в какой-то, как видно, номер гостиницы на Невском. Здесь он заказал чаю, который и был немедленно подан. Незнакомец развернул записную книжку и оттуда достал лист почтовой бумаги, мелко написанный. Это были правила организации общества, прочитавши которые, он дал мне две бумажки, на которых был выбит штемпель «Русское революционное общество». Он передал мне эти бумаги с наставлением распространять их между знакомыми и продиктовал азбуку, по которой, как он говорил, у них велись книги. Затем он еще раз повторил, чтобы быть молчаливым и никому не говорить про то, что было между нами».[356]
П. А. Топоркову удалось завербовать студентов-технологов Л. А. Топоркова и А. В. Долгушина, слушателя Медико-хирургической академии П. М. Кошкина и еше несколько человек. Приведу отрывок из показаний Кошкина: «Кроме прокламаций «От сплотившихся к разрозненным», Петр Топорков приносил еше «Народную расправу», которую он, Кошкин, читал, а Долгушин почти выучил наизусть. Агитация Петра Топоркова в связи со слухами и рассказами, им же распространяемыми, о революционном настроении общества, о насильственных мерах правительства и проч. и повела к тому, что он, Кошкин, и Долгушин решились пристать к ожидаемой ими революции и составить тайное общество с целью истребления императорской партии, чтобы она не помешала народному восстанию».[357]
Этот нечаевский кружок постепенно перерос в долгушинскую группу «сибиряков-автономистов», их связь с «Народной расправой» скорее персональная, чем идейная, хотя все они привлекались по делу нечаевцев.
Сергей приезжал в Лесной к своему приятелю, студенту Земледельческого института В. И. Ковалевскому. Они часто встречались во время петербургских студенческих волнений у Ткачева. Ковалевский не состоял в «красных» радикалах, но больше тяготел к ним, нежели к умеренным. Осенью 1869 года он входил в нечаевский кружок В. И. Лунина. Связей с этим кружком Сергей почти не поддерживал, но о Топоркове с Ковалевским, безусловно, советовался и лишь после получения о нем соответствующего отзыва приступил к его вербовке. Что касается переодеваний, то Нечаев и в Москве иногда появлялся на собраниях Отделения облаченным в офицерский мундир и объяснял удивленным заговорщикам, что прибыл со сходки офицеров, куда в ином виде доступ закрыт.
Известно еще несколько попыток Нечаева организовать кружки «Народной расправы» в других городах империи. Например, осенью 1869 года он посылал приказчика московского магазина Черкесова П. В. Прокопенко в Харьков, Таганрог и Одессу,[358] но существенных результатов ни эта поездка, ни другие попытки не принесли. Во время следствия Прокопенко все отрицал.[359]
Новое пополнение «Народной расправы» произошло в октябре 1869 года. В Московском университете на медицинском факультете преподавал знаменитый терапевт Т. А. Захарьин. На его место неожиданно был назначен профессор А. И. Полунин, человек очень строгий и требовательный. Студенты решили не посещать его лекции. Ректор университета С. И. Баршев 25 октября провел в Совете университета решение об исключении из университета студентов, участвовавших в беспорядках. Неумелое вмешательство начальства привело к тому, что восемнадцать человек оказались исключенными из университета. Тогда-то Нечаев и написал воззвание «От сплотившихся к разрозненным», распространявшееся в аудиториях медицинского факультета. Следом за воззванием в университете появились Кузнецов, Рипман и Черкезов и повели агитацию за вступление в ряды «Народной расправы».[360] Студенты читали документы организации, воззвания и, возбужденные только что свершившимися событиями, оказывались членами тайного революционного сообщества. Так в него вступили Д. К. Лыткин, А. С. Бутурлин, В. Н. Смирнов, А. Л. Эльсниц, В. А. Гольштейн, С. Л. Мутафов, Н. М. Пирамидов и Д. П. Ишханов, последний организовал из своих земляков целый кружок.[361]
Отделение с 8 октября по 21 ноября собиралось всего пять раз, Успенский исправно вел протоколы заседаний. Одновременно с ним что-то записывал Николаев, он почти до конца «Народной расправы» разыгрывал роль представителя Комитета, сидел и молча писал, сказал лишь, что Комитет находится в Москве и подчинен Женевскому революционному центру.
Денежными делами «Народной расправы» ведал Кузнецов. Иногда удавалось разжалобить некоторых московских купцов на «помощь нуждающимся студентам», остальная часть средств поступала от самих членов сообщества. В октябре Нечаев отправил Прыжова в Иваново к Зубкову за получением когда-то обещанных сгоряча десяти тысяч рублей на «общее дело», но напуганный весенними обысками и арестами, фабрикант-вольнодумец принял посланца сдержанно, выдал ему сто рублей, подробно расспросил о Нечаеве и выпроводил.[362]
Приведу выписку из кассового отчета «Народной расправы», найденного у Успенского при обыске.
Приход: Кузнецов — 259 руб., Зубков — 100 руб., Прыжов — 25 руб., Черкезов — 125 руб., Беляева — 1 руб.; неизвестный — 50 руб., итого — 560 руб.
Расход: Нечаеву — 63 руб., Прыжову — 80 руб., Прокопенко — 50 руб., Рипману — 12 руб., Беляевой — 20 руб., Волохареву — 21 руб., Флоринскому — 50 руб., Гернету — 5 руб., итого — 301 руб.[363]
В Иванове Нечаев появлялся тайком, иначе его непременно отвели бы к жандармскому капитану Тимофееву: слишком многим он причинил неприятности. Поэтому к Зубкову ему пришлось посылать Прыжова. «Вернувшись из-за границы, Сергей не раз приезжал в Иваново, — рассказывала его старшая сестра Фатина, — и свидания имел с сестрой (Анной. — Ф. Л.) в лесу, на Сластихе. Перед ним приезжал всегда студент из Петербурга Н. В. Слюнин и предупреждал. Слюнин был влюблен в сестру и все делал по просьбе Сергея.
С. Г. был гримирован и жил, скрываясь, у Анны Осиповны Бабуриной; она с ним была близко знакома; Анна Осиповна была девица старая. У ней на дворе ее собственного дома был котел, под которым проводил ночи С. Г.
Отец после всех историй выкинул Сергея из головы и сестру на поруки не взял, а я взяла. Два раза приезжал студент звать отца на свидание к Сергею, но он не поехал. Сергей из-за границы слал письма, но отец, как получал их, так относил частному приставу. Все равно мы знали, если не отнесешь, то придут, чтобы забрать их. Годы были трудные, отцу много приходилось терпеть; вот у меня была и другая фамилия, так ничего, а у второй жены нашего отца детей выгнали из училища, не дали учиться. Все письма в шкатулке, которую привезла сестра, я сожгла в печке: боялась в те годы всего.
У Сергея была сильная воля; иногда он влиял на отца. Барышни, мои подруги, с первого взгляда на него переживали что-то особенное; влюблялись и уважали его. Я спрашивала его, «не носишь ли магнита?» Вот и сейчас на карточке он таков, что не хочется отрываться; он как бы разговаривает с тобой».[364]
Напомню читателю, что Анна Нечаева после обыска у Томиловой, 13 апреля 1869 года, была арестована и лишь 6 февраля 1870 года ее освободили из-под стражи, так что встречаться в Иванове с братом она не могла. Сергей прятался не только от односельчан, но и от отца. Г. П. Нечаев ожесточился против сына и, пожалуй, выдал бы его властям. Оказавшись во второй эмиграции, Сергей пытался завязать переписку с родными, но отец, не распечатывая конвертов, относил их помощнику шуйского пристава.[365]
В конце ноября Успенский написал подробный отчет о деятельности «Народной расправы», предполагалось, что Беляева и Прыжов повезут его в Женеву Бакунину. К этому времени «Народная расправа» насчитывала около сорока человек и практически ничего не предприняла сколько-нибудь серьезного, иначе нечаевское сообщество не ускользнуло бы от внимательного взгляда многоопытного Слезкина. Дело тут не в конспираторских способностях Нечаева: Слезкину и его лазутчикам не на что было обратить внимание. О чем же собирался Нечаев сообщать Бакунину? О том, что есть касса с наличностью в 259 рублей, склад маскарадной одежды с рясой, крестьянским платьем и двумя офицерскими мундирами да сорок ратников, что однажды посчастливилось взбаламутить нескольких студентов… Не об этом написал бы Нечаев, он-то уж сочинил бы. Не нам ему подсказывать.
В революционных делах Нечаев не преуспел, его «Народная расправа» ровным счетом ничего не сделала, родился маленький жалкий уродец, даже пискнуть не сумел. Замыслы были просты и грандиозны. Но для их воплощения требовались люди, способные силой заставить народ жить в чуждом ему утопическом обществе. Этому мешали установившиеся, общепризнанные нормы морали. Их можно объявить аристократическими, церковными, купеческими, то есть враждебными простому человеку, и заменить революционной моралью, но на это не так легко склонить. Тогда-то и возникает простейшая мысль — чтобы сделать людей податливыми, необходимо связать их общим преступлением, совместно пролитой кровью.
Случай представился сам собой. 19 ноября Отделение собралось в полном составе. Сергей предложил написанное им во время «полунинской истории» воззвание «От сплотившихся к разрозненным» расклеить в кухмистерской и библиотеке академии. Ему не терпелось возбудить беспорядки. Нечаев полагал, что во время беспорядков дела «Народной расправы» пойдут лучше; не мог же он не понимать, что дел пока никаких не было. Нечаев надеялся, что октябрьские волнения в университете перерастут в открытое выступление, для того и писалось воззвание, но тогда ничего не получилось. Появление воззвания на стенах кухмистерской и библиотеки, где постоянно бывает множество слушателей, неминуемо приведет туда жандармов, и они потребуют их закрытия, а виновников исключат из академии или арестуют, появится масса недовольных. Нечаеву возразил Иванов: «Люди останутся без еды и книг, возникнет недовольство, которое может перерасти в беспорядки». Иванов заявил, что воспротивится расклейке воззвания, уговоры собравшихся не спорить с Нечаевым ни к чему не привели. Серьезность конфликта усугублялась тем, что Сергей не желал допустить ослушания и в то же время опасался разрыва с упрямцем.
Иванова в академии любили, среди слушателей он пользовался уважением. «Нечаев настаивал. Спор принял очень резкий характер. «Дело пойдет на разрешение Комитета», — оборвал Нечаев. Иванов возразил, что и по решению Комитета на наклейку прокламаций не согласится. «Так вы думаете противиться Комитету?» — вскричал Нечаев. — «Комитет всегда решает точь-в-точь так, как вы желаете», — ответил Иванов».[366] Иванов открыто выразил сомнение в существовании Комитета и отказался повиноваться его нелепым указаниям. Кроме того, Иванов в запальчивости заявил, что выйдет, если захочет, из «Народной расправы» и организует свой кружок. Такого Нечаев допустить не мог. На одну организацию желающих не наскреблось, а тут конкурент, и какой. За ним пойдут, он в академии свой, его знают, он популярен. В стаде появился второй вожак, и еше неизвестно, кто победит, повеяло Петербургом, прошедшей зимой, позором поражения. Упрямца надобно устранить, так будет лучше. Наверное, с этой мыслью Нечаев покидал последнее собрание Отделения.
Приведу реплику из показаний Прыжова: «Иванов, отказываясь слушаться Нечаева, отвечал смехом на предложение представить деньги, которые он собрал, дразнил этим Нечаева, доводя его до бешенства».[367] Иванов жил на стипендию лесного ведомства и частными уроками, лишних денег у него быть не могло. В академии он несколько раз выбирался сборщиком кассы взаимопомощи, не об общественных ли деньгах идет здесь речь… с Нечаева станется. На одном из первых допросов Успенский рассказывал: «…Иванов, считавшийся сначала лучшим деятелем в обществе, впоследствии стал часто спорить с Нечаевым и вообще обнаруживать желание или создать независимое общество под своим руководством, или выдать Правительству их общество.
Вследствие этого он, Успенский, вместе с Нечаевым и Кузнецовым стали совещаться о том, как бы укротить Иванова. Нечаев прямо предложил лишить его жизни».[368]
На другой день вождь московских заговорщиков собирался ехать в столицу для инспектирования «девятого отделения» (так Нечаев называл петербургский кружок «Народной расправы»), но путешествие пришлось отложить. Рано утром к Кузнецову забежал взволнованный Прыжов и сказал, что Иванов «не желает больше слышать о Комитете, не отдает собранных им денег и устроит свою отдельную организацию».[369] С этим сообщением к Нечаеву в Петровско-Разумовское отправился Николаев, вскоре они вместе прибыли в Москву. Весь день прошел в совещаниях и переговорах парламентеров с отступником. Расходились по домам, собирались вновь, наконец Нечаев заявил Успенскому, Кузнецову и Прыжову: «Об этом передано Комитету, и Комитет поручил мне покончить это дело, так как я ошибся в выборе Иванова».[370] Все поняли, что речь идет об убийстве их товарища, и не желали соглашаться. Особенно противились Прыжов и друживший с Ивановым Кузнецов. Упоминание о мнении Комитета на этот раз никого не переубедило. Тогда Сергей решил несговорчивых припугнуть. Если, участвуя в «Народной расправе», Иванов не церемонится с её тайнами, то что от него можно ожидать, когда он выйдет из сообщества… примется все разбалтывать, вот-вот бросится доносить в III отделение, не донес ли уже, его надобно опередить, иначе конец так удачно начатому делу. Все, что мешает «революции», следует немедленно устранить. Успенский согласился раньше других, остальных пришлось уламывать. Николаев на первые обсуждения не приглашался. Сергей знал, что «агент» Комитета заранее согласен на все. Прыжов униженно умолял учесть его возраст, здоровье и слепоту. «Прыжов в то время, когда условились совершить убийство, — писал в показаниях Николаев, — просил Нечаева и всех нас избавить его от присутствия при убийстве Иванова, говоря, что он стар и слаб, но на это никто не согласился, говоря, что он должен фактически участвовать в убийстве; после же Нечаев говорил, что это было необходимо для того, чтобы Прыжов нас не выдал».[371] Поздно вечером разошлись по домам, сговорившись покончить с Ивановым завтра. Лишь Нечаев и Николаев спали этой ночью.
Утром 21 ноября 1869 года Сергей приехал из Петровско-Разумовского в Москву и отправился к Кузнецову, продолжавшему жить на одной квартире с Николаевым. В голове руководителя «Народной расправы» уже созрел план убийства. По Москве бродили слухи о типографском станке, куда-то спрятанном ишутинцами в 1866 году. Нечаев решил сказать Иванову, будто станок зарыт в гроте парка академии и его необходимо достать оттуда, чтобы наладить печатание прокламаций. Грот этот находился в глухом месте парка Земледельческой академии, поэтому вероятность встречи с гуляющими в зимний вечер была минимальной. Заманить и придушить, мигом у остальных пропадут желания возражать и создавать другие кружки, станут покладистее и проворнее, так-то.
Дальнейший ход событий подробно изложен в протоколе допроса Успенского:
«В назначенный день я пришел в квартиру Кузнецова и там уже застал Нечаева, Николаева, Прыжова и Кузнецова. Часов в 11 утра Николаев отправился в Академию за Ивановым и с целью привезти его в Москву к Кузнецову, где должен был ожидать его Прыжов и предложить ему, под вымышленным предлогом отыскивать спрятанную, тайную типографию, отправиться в парк Академии, к Гроту, куда и мы должны были отправиться. Около двух часов дня, чтобы Николаев, приехав с Ивановым, не застал нас. мы отправились в близ находящуюся гостиницу, откуда, пообедав, зашли в… (название парка, трактира или кондитерской, написано неразборчиво. — Ф. Л.), куда через несколько времени пришел Николаев и заявил, что не нашел Иванова; мы все пришли опять на квартиру Кузнецова и отсюда, полагая, что Иванов находится у своего знакомого, студента Лау, Николаев и Кузнецов ушли за Ивановым к Лау, Кузнецов оставался на улице и когда увидел Николаева, идущего с Ивановым, взял извозчика поскорее известить нас. Тотчас я, Кузнецов и Нечаев вышли из дому и, взяв извозчика, отправились в Петровскую Академию, где Кузнецов повел нас к тому месту, где находится Грот. Я и Нечаев остались у Грота, а Кузнецов отправился посмотреть Николаева, Прыжова и Иванова. В это время я нашел два камня и привязал к ним веревки, данные мне Нечаевым, с целью привязать эти камни к ногам. Наконец послышались шаги. Я задрожал и прислонился к стене Грота. Иванов и другие вошли. Начался какой-то шум. Кто-то закричал: «Не меня, не меня!!.» Оказалось после, что это кричал Николаев, на которого бросился Нечаев, приняв его за Иванова. В Гроте было совершенно темно… В это время Иванов должно быть вырвался и бросился к выходу. Кто-то, кажется, Кузнецов, удержал его, я тоже хотел помочь ему, но в эту минуту Нечаев схватился и уронил близ входа Иванова. Подошел Николаев и они что-то стали возиться с ним; кажется, душили его. Я и Прыжов стояли в стороне. Раздался выстрел, но кто выстрелил, я не видел, а потом Нечаев говорил, что вынул револьвер Николаев, у которого он был в кармане, а выстрелил он, Нечаев, кажется, в голову. Иванов был убит, и я хотел привязать веревку с камнями к ногам, но не в силах был этого сделать. Кто-то выхватил их у меня и привязал».[372]
Окровавленный, обезображенный труп поволокли к пруду. Николаев нес первый, и ему пришлось, ломая тонкий лед, почти по пояс зайти в воду, но он не ощутил ее обжигающего холода. Тело Иванова тащили он и Нечаев, остальные только мешали. Когда труп надежно (так им показалось) скрылся под водой, убийцы молча разошлись в разные стороны, сговорившись к восьми часам вечера собраться в Москве на квартире Кузнецова.
Картина убийства Иванова известна в мельчайших подробностях, все его участники, исключая Нечаева, дали исчерпывающие показания.[373] Многие детали этого злодеяния опущены умышленно.
«Здесь, в квартире Кузнецова, — со слов Прыжова записал 13 февраля 1870 года судебный следователь, — у стола стоял Павлов (Нечаев. — Ф. Л.) и снимал с себя окровавленную шапку Иванова, сюртук и сапоги; на полу были вода и кровь. Когда я вошел, то он закричал, чтоб я близко не подходил. Стоя у стола в одной рубашке, Павлов примачивал водой палец левой руки, перекушенный Ивановым; справа на стуле сидел Успенский; на столе лежал револьвер. Я подошел, чтобы из полуштофа налить водки и уехать — в это время справа раздался выстрел, сделанный Павловым; пуля пролетела около моего правого виска, оглушив меня. Я спросил: «Что это такое?» Павлов ответил: «Что же, если бы тебя убили, так на тебя бы и свалили». Я ушел домой, но с половины дороги воротился, потому что позабыл шарф. Взял я шарф и стал уходить, но Павлов остановил и поцеловал, сжав голову мне».[374] Примерно через час Успенский отвел Нечаева к себе, где он и остался ночевать.
По ходу убийства и его последствиям видно, что все делалось наспех, непродуманно, без подготовки. В гроте произошла свалка, преступники чуть не передушили друг друга. Собственно убийство совершили Нечаев и его верный подручный Николаев, помогал им Кузнецов. Драма в гроте Петровского парка высветила Нечаева с практической стороны. Оказалось, что он не только склонен к размышлениям о «насилии внутри насилия», но и способен воплотить свои теории, способен не просто к убийству, а с редкой легкостью убьет кого угодно, если это ему понадобится.
27 ноября «Московские ведомости» поместили следующее объявление: «Нам сообщают, что вчера, 25-го ноября, два крестьянина, проходя в отдаленном месте сала Петровской Академии, около входа в грот заметили валяющиеся шапку, башлык и дубину; от грота кровавые следы прямо вели к пруду, где подо льдом виднелось тело убитого, опоясанное черным ремнем и в башлыке. <…> Тут же найдены два связанные веревками кирпича и еще конец веревки».[375]
Через день та же газета сообщила: «Убитый оказался слушателем Петровской Академии, по имени Иван Иванович Иванов. <…> Деньги и часы, бывшие при покойном, найдены в целости; валявшиеся же шапка и башлык оказались чужими. Ноги покойного связаны башлыком, как говорят, взятым им у одного из слушателей Академии, М-ва (Мухартова. — Ф. Л.): шея обмотана шарфом, в край которого завернут кирпич; лоб прошибен, как должно думать, острым орудием».[376]
«25 ноября на берегу пруда. — рапортовал Слезкин III отделению, — находящегося в совершеннейшей глуши за садом Петровской Земледельческой Академии, верстах в 1/2 от самого здания Академии, найден труп студента Академии Ивана Ивановича Иванова, со всеми признаками насильственной смерти: голова разбита и кроме того, прострелена сзади пулею, вышедшей в левый глаз; шея затянута шарфом, к которому привязан кирпич, ноги в коленях и около ступней связаны бичевою, к которой также привязан кирпич. Ограбления нет».[377]
Имя Нечаева появилось в газетах лишь 20 декабря, его назвали виновником волнений московских студентов, а 25 декабря — убийцей.
Пятью годами после нечаевской истории в Земледельческой академии учился В. Г. Короленко, он пытался выяснить подробности недавних событий. «В Академии вообще мало говорили об этой истории, — писал В. Г. Короленко, — хотя в мое время еще существовали развалины 'Ивановского грота», и были люди, которые знали действующих лиц этой трагедии. По всем рассказам, которые мне пришлось слышать, Иванов, убитый нечаевцами, был прекрасный человек, и не могло быть никакого сомнения, что он не собирался донести о заговоре, как в этом уверял Нечаев. Он просто разглядел приемы Нечаева и решил уйти из организации, а Нечаев в свою очередь решил убить его, чтобы «скрепить кровью» свою первую конспиративную ячейку».[378]
В уголовном мире такой прием — самый распространенный; ничто так не связывает банду, как общее преступление. Нечаев призывал революционеров слиться с разбойным миром, так отчего же ему не применить уголовные приемы в практике «Народной расправы», отчего не переделать своих товарищей по революционному сообществу, еще и в уголовников. Отчего бы и нет… В академии действительно мало говорили о нечаевской истории. Согласно справке генерала Слезкина, из каждой сотни слушателей академии тридцать человек числилось в неблагонадежных.[379] Склонных к воспоминаниям о «Народной расправе» было еще меньше.
Просуществовав менее трех месяцев, «Народная расправа» (иногда ее называли «Обществом топора»[380]) расправилась со строптивцем, отступником, пожелавшим покинуть стаю. Пример практической деятельности Нечаева показал грядущим поколениям, что есть иная, нетрадиционная мораль, новая, пахнущая человеческой кровью, корпоративная революционная мораль, что только она может обеспечить успех социальных перемен. Действительно, те перемены, которые произошли в начале XX века, требовали новой морали, внушенной Нечаевым.
ПОПУТЧИЦА
Нечаев надеялся, что убийство сплотит его соратников, сделает их послушнее, но и решительнее, энергичнее, «Народная расправа» превратится в настоящую революционную организацию, а в его жизни наступит новый этап. Он не понимал, что молодые люди, жившие налаженной студенческой жизнью, не могли за два месяца перевоплотиться в решительных, кровожадных боевиков-конспираторов. Кроме Нечаева и отчасти Николаева, остальные участники убийства поняли, что взялись за ношу не по силам. Если они занимались подготовкой революции, то это не их революция и в ней они участвовать не желают. Основатель «Народной расправы» искал людей несамостоятельных, доверчивых, именно такие люди подходили для воплощения его идей. Он умел так «комбинировать», что создавал впечатление, будто за ним огромная сила, и его слушались. Нечаев менее всего стремился убеждать, пропагандировать, он пытался сплотить, да так, чтобы никто не вырвался из его капкана. В чем и зачем убеждать раба? Рабом следует повелевать. Ни Кузнецова, ни Успенского нельзя назвать глупцами или слабохарактерными, но Нечаев без труда поработил их, и они покорно отдали ему свои души. Случайно попался один человек, чья натура воспротивилась порабощению и взбунтовалась. Иванова умертвили, но совместно пролитая кровь вовсе не сплотила убийц, не подхлестнула их к действиям, не привела к ожидаемым результатам. Нечаев заблуждался, полагая, что, попав в определенные условия, ратники «Народной расправы» превратятся на нужное ему время в смелых и решительных. Случилось противоположное тому, чего ожидал глава «Народной расправы». Прыжов в своей конуре забился под ворох одеял, его лихорадило. Успенский не мог заставить себя выйти из дома, ему постоянно чудились шероховатые забрызганные кровью стены грота и гортанный хрип, вырывающийся из сдавленного горла Иванова. Кузнецов после убийства заболел тяжелым психическим расстройством, от которого избавился лишь через два года.
Днем 22 ноября 1869 года Нечаев как ни в чем не бывало зашел к Кузнецову и, не замечая его состояния, принялся поддразнивать, цитируя положения из «Катехизиса» и «Общих правил организации», его забавляло выражение ужаса на лице Кузнецова. Вот он, Нечаев, совсем другое дело, сильный человек, выспался, бодр, спокоен и даже весел. В этот день они ехали в Петербург с целью образования там еще одного филиала «Народной расправы». Не может же он называть себя вождем русских заговорщиков, если не вовлечет петербургскую молодежь в свое сообщество, не может же без столицы случиться в России всенародная социальная революция.
Сергей был вполне доволен собою, ему казалось, что все идет как нельзя лучше. С вокзала Кузнецов отправился в Балабинскую гостиницу, а он поспешил в Лесной, первая встреча предстояла с Ковалевским, Долгушиным и Топорковым. Нечаев остановился у Ковалевского, бегал по городу, разговаривал, уговаривал, договаривался. Так прошло несколько дней. Но вдруг среди столичных студентов распространился слух об аресте Успенского, и глава «Народной расправы», оставив Кузнецова в Петербурге, 1 декабря срочно выехал в Москву.[381]
Ближе всех к вокзалу жил Д. Е. Коведяев, у него-то Нечаев и спрятался.[382] Показываться на улице было опасно, после обыска у Успенских его уже повсюду искали, в Петровско-Разумовское ехать он не решился. Сергей сидел взаперти и бездействовал. Все рушилось, ежечасно приносились известия о новых арестах. Такого оборота дел Нечаев не предполагал. Он пал духом, не зная, что предпринять, как повлиять на события; впервые товарищи видели его в таком состоянии.
К Коведяеву постоянно забегал Черкезов, принося новые неутешительные сообщения. С каждым его приходом Нечаев терял самообладание, зашел Николаев и принялся его подбадривать, уговаривать срочно скрыться из Москвы. Надобно поторапливаться, иначе III отделение разошлет полицейским службам фотографические карточки и, что еще хуже, приметы. Любопытная деталь: даже в 1880 году политический сыск более доверял приметам, нежели фотографиям.[383]
Наверное, Николаев посоветовал ему убраться хотя бы в Тулу,[384] а уж потом в Женеву. Нечаев не мог не прислушаться — из всех близко стоявших к нему зимой 1868/69 года одному Николаеву удалось избежать ареста, затерявшись именно в Туле. Наконец Сергей согласился и выехал в Тулу, вслед за ним туда отправился Черкезов. В Туле они посетили петербургскую знакомую Черкезова В. В. Александровскую. Уговорами и, возможно, угрозами им удалось склонить ее сопровождать беглеца в Швейцарию. Нечаеву казалось, что путешествие в обществе попутчицы будет более безопасным, а появление в Женеве с «сообщницей» придаст его приезду определенную солидность. Александровская съездила в Курск, получила заграничный паспорт, вернулась в Тулу и оттуда с бывшим руководителем «Народной расправы» двинулась в Орел.
У Нечаева сохранился паспорт, который ему удалось получить в Румынии на обратном пути из Швейцарии в Россию (паспорт за номером 202, выданный 19 августа 1869 года в Бухаресте на имя серба Степана Граждановича[385]). Этот паспорт 12 декабря был зарегистрирован орловской полицией.[386] В тот же день министр внутренних дел А. Е. Тимашев получил от главноуправляющего III отделением Собственной Его Императорского Величества канцелярии графа П. А. Шувалова следующее уведомление:
«Есть основание полагать, что бежавший в марте сего года за границу важный политический преступник, бывший учитель здешнего Сергиевского приходского училища Сергей Геннадиев Нечаев, возвратившись тайно в пределы Империи, скрылся под чужим именем.
Сделав распоряжение, чтобы со стороны всех Начальников Жандармских Управлений были приняты самые энергичные меры к разысканию и задержанию названного преступника, я имею честь покорнейше просить Ваше превосходительство благоволить сделать и по вверенному Вам управлению таковые же распоряжения, с тем, чтобы в случае отыскания означенного лица он немедленно был доставлен под самым строгим караулом в III отделение Собственной Его Императорского Величества Канцелярии.
Описание примет отыскиваемого при сем прилагается.
Небольшого роста, лет около 22, лицом моложав, вместо усов еще пух, волосы каштановые, цвет лица темный, глаза карие, быстрые и бойкие, нос острый и средний. Лицо больше круглое. Костюм обыкновенный, пальто и проч., сапоги длинные, иногда надевает женское платье или инженерную форму. Голос больше тенор, манеры угловатые и порывистые».[387]
Тимашев тут же разослал циркулярное письмо всем «Начальникам губерний» с приложением примет скрывшегося заговорщика,[388] а столичный обер-полицмейстер, генерал-адъютант Ф. Ф. Трепов 18 декабря издал приказ о «разыскании и задержании» Нечаева.[389] (Лишь 16 декабря в III отделении поняли, что Нечаев еще и убийца.) Опережая появившиеся у чиновников политического сыска сведения об уголовном преступлении Нечаева, в правительстве сочли желательным, чтобы «теперь же были бы даны нашим представителям при иностранных правительствах инструкции на тот случай, чтобы немедленно по появлении Нечаева в какой-либо стране наш посланник представил местному правительству требования о задержании и выдаче этого преступника».[390]
Но несмотря на принятые полицейскими властями несколько запоздалые меры, Нечаев и его спутница 15 декабря 1869 года благополучно миновали пограничную станцию Вержболово и покатили далее через Кенигсберг в Швейцарию.
Попутчица Нечаева Варвара Владимировна Александровская, в девичестве Чирикова, дочь поручика, жена коллежского советника, чиновника Кронштадтской таможни, родилась в Калужской губернии в 1833 году, где закончила акушерские курсы. Впервые Александровскую арестовали 8 мая 1862 года по подозрению в распространении воззваний «возмутительного» содержания. Основанием для задержания послужили результаты наблюдения за ее петербургской квартирой, служившей постоянным местом встреч молодых людей, обративших на себя внимание тайной полиции, в их числе известных бунтарей А. П. Покровского и И. В. Понятовского, приезжавших к ней из Нижнего Новгорода. Обвинение Александровской в причастности к распространению противоправительственных воззваний не подтвердилось, но в ее бумагах жандармы обнаружили «возбуждающее к восстанию письмо», и после разбирательства в высочайше утвержденной Следственной комиссии ее приговорили к трехмесячному заключению в Смирительном доме с последующей высылкой в Тульскую губернию под гласный надзор полиции. Перед следователями Александровская вела себя мужественно, все отрицала и никого не выдала. Находясь же в ссылке, она затосковала по развеселой петербургской жизни и молодым людям, жившим у нее по нескольку дней. Любительница столичных развлечений не выдержала и в 1865 году заявила тульскому губернатору, что готова содействовать властям в выяснении событий, в которых она оказалась случайно замешанной весной 1862 года. Следуя совету губернатора, Александровская отправила главноуправляющему III отделением князю В. А. Долгорукову письмо с предложением сообщить в личной беседе подробности минувших событий, что позволит «открыть распространителей возмутительнейшей прокламации 1862 года под названием «Молодая Россия».[391] В ответ из столицы поступило требование итожить факты на бумаге и прислать почтой в III отделение.
«Мне известно, — писала Александровская Долгорукову К) октября 1865 года, — во-первых, что существовала когорта праздношатающейся молодежи, ходившей по России с целью нарушения существующего порядка в России».[392] Далее шел ординарный донос на бывшего студента Московского университета Н. А. Рубинского.
Для Александровской ее предательство благоприятных последствий не имело, ее не отпустили и даже никуда не перевели. Тогда вслед за покушением Каракозова доносчица, обиженная на III отделение, отправила в столицу письмо, адресовав его председателю Следственной комиссии графу М. Н. Муравьеву. На сей раз она назвала множество фамилий лиц, входивших, по ее утверждению, в преступное сообщество «Москва, Север и Восток», выдала всех, кого знала, — уж очень хотелось в Петербург.
«Целью этого общества, — писала Александровская, — было, сколь я могу понять из их полудоверчивой при мне болтовни, низвержение Царствующего Дома, хотя бы и через убийство всех членов Дома Романовых, невзирая ни на какой возраст, и затем учреждение в России республики. Насколько болтовня их имела серьезный характер и основания, я не знаю, а в то время и того менее знала, потому что все их рассуждения при мне были отрывочны и имели характер шутки. Тем не менее, в настоящее время я убеждена, что направление их или многих из них — далеко не монархическое. <…> Если бы вашему сиятельству угодно бы было без огласки вызвать меня в Петербург, <…> то я надеюсь, с помощью правительства и моей репутации еще до сих пор как политической преступницы, [могу] успеть добраться до больших подробностей деятельности этого общества. Тем более, что фамилия злодея (Д. В. Каракозова. — Ф. Л.) мне представляется знакомой, а поступок его 4-го апреля сообразным с направлением общества «Москва, Север и Восток», так что я подозреваю членов его сообщниками Каракозова, утверждать же, конечно, пока еше оснований достаточных не имею».[393]
Донос Александровской более всего напоминает труд талантливого мемуариста, так обстоятельно и красочно описаны события. Старательная Александровская снабдила донос иллюстративным материалом в виде фотографических снимков двенадцати революционеров, на некоторых из них имелись дарственные надписи изображенных лиц доносчице, например, на портрете Заичневского его рукою написано: «Варваре Владимировне Александровской от Петра Заичневского. 1862 г. Апреля 4».[394]
Никакого расследования ни по первому, ни по второму доносу Александровской не производилось, но цели своей она достигла — в 1867 году ей разрешили жительство в Петербурге. Мы не располагаем сведениями о регулярном сотрудничестве Александровской с III отделением, его могло и не быть, в те времена политический сыск еще привередничал, раскрывал свои объятия осторожно, не для всех «просившихся в шпионы».
В 1869 году Александровской шел тридцать седьмой год — возраст для революционера слишком солидный, но ее почему-то к революционерам тянуло, горький опыт прежнего общения доносчицу не остановил. Привязанность Александровской к революционерам объясняется банально — ее просто-напросто влекло к молодым людям. Как и зачем согласилась она сопровождать Нечаева за границу, мы не знаем. На суде попутчица утверждала, что Нечаев и Черкезов, уговаривая ее ехать за границу, угрожали в случае отказа «подвергнуть» участи Иванова.[395] Доверия ее слова не вызывают. Из сохранившихся показаний Александровской следует, что Нечаев по прибытии в Женеву снял для нее комнату и, заходя к ней, изводил не всегда понятными разговорами.[396] В Женеве Александровская находилась около двух недель и отбыла обратно в Россию. Сергей снабдил бывшую попутчицу письмами и прокламациями, до германской границы ее сопровождал польский эмигрант А. Д. Трусов.
Приведу извлечение из «весьма секретного» рапорта начальника Ковенского губернского жандармского управления, подполковника Бирина управляющему III отделением:
«11 января [1870 года] с утренним поездом из Пруссии прибыла Александровская, о приезде которой я был предупрежден шифрованной депешею Шефа Жандармов. По осмотре паспортов в таможне, был удержан вид Александровской капитаном фон Эксе и находился у него, чтобы не дать огласки аресту. Я просил дежурного надсмотрщика дать мне знать, когда осмотр пассажиров будет окончен и все выйдут из залы, что им было исполнено. Тогда я подошел к Александровской и спросил фамилию, просил пойти со мною в комнату, отведенную для жандармского управления, взяв с собою и вещи принадлежащие ей. Александровская, как мною было упомянуто в донесении № 5, нисколько не была сконфужена, или озабочена моим приглашением.
Затем передаю сколько помню мой разговор с нею:
Бирин: Где вы оставили свою дочь.
Александровская: В Дрездене.
Б. Отчего она не прописана была в вашем паспорте.
А. Дочь моя имела свой паспорт.
Б. Какой.
А Людмилы Прозоровской.
Б. Так как вы замужем и муж ваш жив, отчего ее фамилия другая.
А. Оттого, что она незаконнорожденная и фамилию имеет своего крестного отца.
Б. Не ехал ли с вами за границу Грайбанович (Гражданович. — Ф. Л.).
А. Нет.
Б. Не ехал ли с вами Нечаев под своею или другою фамилиею.
А. Нет.
Б. Не имеете ли вы чего-либо запрещенного или не везете ли каких-либо сочинений или прокламаций противуправительственных.
А. Нет».
Александровскую пригласили в комнату, отведенную для досмотра женщин, но она не позволила себя обыскать и предложила взятку, на что последовал отказ. Тогда Александровская попросила пригласить войти Бирина и заявила ему, что в ее одежде скрыты «противоправительственные вещи».
«Б. Откуда вы получили эти бумаги.
А. Когда я поехала из Дрездена, то за мною следили три человека мне незнакомые до самого Берлина, где я остановилась в гостинице, ко мне явились все трое, объявив: что как я состою членом их общества, то обязана доставить в Россию по адресам разные запрещенные сочинения и прокламации противуправительственные, она (будто бы) боялась их взять, что будут осматривать на таможне, тогда Трусов (которого из трех она знала) сказал, что ей опасаться нечего, у них есть один из членов таможни, который ее пропустит, а если она подаст вид, что находятся при ней запрещенные вещи или выдаст сама, то подвергнется той же участи как Иванов».
По поводу слов Александровской об «одном из членов таможни» Бирин написал характерное для жандармского служаки следующее примечание: «Это было выдумано Александровской, потому что мною произведено самое строгое дознание и оказалось, что все члены вполне преданные Правительству и своему долгу, не пропустили бы ничего противузаконного».[397]
Нечаев, отправляя Александровскую с нелегальной литературой, превосходно понимал, что в Вержболове ее может ожидать полиция. О попутчице политический сыск узнал от попавших в его руки участников «Народной расправы» еше в декабре. Первые же вопросы, заданные подследственным, касались подробностей побега Нечаева и его местонахождения. Если Бирину сообщили точную дату прибытия Александровской на границу, то, следовательно, за ней неотступно следили еще в Женеве. А коли так, то знали, где находится Нечаев. Отчего не сообщили женевской полиции?. Полицейским властям он был пока еще нужен на свободе.
Среди прокламаций женевского триумвирата жандармы обнаружили у Александровской «Манифест Коммунистической партии».[398] В обвинительном акте перечислена вся найденная при обыске литература «крайне возмутительного содержания», кроме «Манифеста». Тогда на него никто из полицейских властей не обратил внимания.
В тот же день подполковник Бирин отправил в Петербург радостную весть и тут же получил от управляющего III отделением генерала Н. В. Мезенцева следующую телеграмму:
«Немедленно доставьте сюда арестованную при жандармах со всеми вещами дав инструкцию строго наблюдать чтоб дорогою не могла ни жевать ни уничтожить бумаги».[399]
Александровскую доставили в Петербург, начались допросы и одновременно с ними аресты предполагаемых получателей нечаевской корреспонденции. Как и ожидалось, улов вышел солидный. Среди других политическая полиция задержала М. А. Натансона, впервые оказавшегося в ее руках. Приведу отрывок из его воспоминаний, записанных С. П. Швецовым: «Из Цюриха (ошибка, Женевы. — Ф. Л.) он (Нечаев. — Ф. Л.) направил с поручениями в Петербург некую Александровскую. Подол ее платья был подшит снизу широкой полосой коленкора. Нечаев прошил его в нескольких местах в поперечном направлении, вследствие чего получился в нижней части подола с внутренней его стороны как бы ряд карманов, в каждый из которых он заделал по письму, с полным на нем адресом того, кому оно предназначалось. Одно письмо было адресовано Нечаевым ко мне… Конспирация, как видите, грубейшая и очень не умная. Нечаев не мог этого, разумеется, не понимать; не мог он и не понимать и того, что на границе Александровскую могут случайно обыскать, а это повлекло бы за собою провал всех тех, кому он так тщательно адресовал свои письма. Я беру на себя смелость утверждать даже, что Нечаев, прибегая к столь грубой конспирации, на это именно и рассчитывал. Скажу даже больше: я не утверждаю, но допускаю, что Нечаев с своей стороны сделал все, чтобы так именно и случилось».[400]
На допросе 30 января 1870 года Натансон отрицал знакомство с Нечаевым (Александровскую он не знал действительно) и заявил, что слышал о нем «как о человеке, прибегающем к самым жестоким средствам и угрозам для завлечения в свою организацию, но мне не приходилось встречаться с лицами, с которыми бы это случилось, или которые бы знали об этом что-нибудь положительное… О факте, сообщенном мне судебным следователем, о пакете на мое имя, найденном у госпожи Александровской, могу только сказать, что он привел меня в крайнее удивление, как могут найтись люди до того испорченные, чтобы злодейским образом подвергнуть преследованию людей невинных и им совершенно незнакомых <…>».[401]
Объективности ради приведу еще один отрывок из воспоминаний Натансона: «Этот арест определил для меня весь дальнейший мой путь: за первым арестом последовал второй, с Академией все счеты были закончены, за арестом шла ссылка, одна сменялась другой, за ссылкой следовала эмиграция и т. д. вплоть до сегодняшнего дня. Я и сегодня здесь среди вас стою на том самом пути, на который меня бросил Нечаев… Если я имел основание быть недовольным Нечаевым за свой арест, сознательно им вызванный, то моя ему вечная признательность, что он окончательно поставил меня на революционную дорогу, разом вырвав меня из окружающей меня среды и обстановки… В этом сознании лежит источник того благодарного чувства, которое всякий раз переполняет мое сердце, когда я вспоминаю С. Г. Нечаева и его отношение ко мне».[402] Не один Натансон оправдывал творца «Народной расправы», в той или иной степени его оправдывало большинство революционеров, ничего удивительного — он был одним из них.
После завершения предварительных допросов Александровскую 1 февраля перевели из III отделения в Петропавловскую крепость, потом в Александро-Невскую часть, а оттуда 10 сентября — в Срочную тюрьму Выборгской части.[403] Началась подготовка «Процесса нечаевцев», и дело Александровской влилось в общее русло следствия. Сидение в одиночке Петропавловской крепости ее никак не устраивало, и она, вспомнив ремесло доносчицы, вновь попыталась с его помощью облегчить свое положение.
«Марта 30-го 1870 года], — писала Александровская, — когда я была вызвана к допросу, в первой комнате за ширмой сидела г. Томилова, которую я года полтора тому назад встречала на женских вечерах, но никогда с ней ни о чем не говорила серьезно, но слышала от [В. К.] Попова, сидевшего рядом со мною в Александро-Невской части, что будто бы Томилова очень дружна с Нечаевым, и больше ничего не знала о ней. Тут же она из-за ширмы стала говорить как бы обращаясь к солдату, что соскучилась тут ничего не делавши, исписала я целую тетрадь, а толку мало, потому что ничего и никого не знает, а все зовут! Я поняла, что это больше ко мне относится, а потому заявила и самой: а там это какая радость! Несколько время спустя мне вздумалось ее попытать, вызвать на более откровенную беседу, я и сказала не очень громко: Нечаев в Женеве, хорошо тому жить, кому бабушка ворожит; а я так вот 3-й месяц сижу; совсем с ума схожу! Тогда она подошла к ширме около двери и, заглянув, спросила: вы меня узнали? Я говорю, еще бы! Я уж, говорит, другой год сижу. А я говорю, да знаю, слышала; а я так два месяца, прибавила ей: Искандер[404] умер. А она мне и на то и на другое: знаю, знаю все, сказала. Я удивляюсь и говорю, как же это так! Да известие получила. Как, говорю, от кого? Письмо от одного человека. Я говорю — в Крепости? Да какими же судьбами? Она ответила, засмеявшись — да, в Крепости. Тут кто-то вошел. Потом она подошла опять и спросила, разговариваю ли я с моим соседом. Как, спросила я? Она показала рукой знаки ударов в стену. Я ответила, что он со мной не разговаривает. Это, она говорит, Волховский, я его знаю, очень хороший господин. Я сказала на это ей, что я его не знаю.[405]
Понимая, что донос от 30 марта не дает ей оснований надеяться на облегчение участи, Александровская на другой день засела за обстоятельное заявление с изложением подробного плана задержания Нечаева. Для этого предлагалось выманить его из Женевы в Дрезден и там с помощью Саксонской полиции арестовать. По замыслу попутчицы, III отделение отправит Нечаеву из Дрездена письмо, сочиненное Александровской в Петербурге. В нем арестантка сообщит о подробностях своего побега, положении дел в Петербурге и Москве, а также намекнет на весьма важные сведения, которыми она располагает, и готова обсудить их при встрече в Дрездене, где она якобы проживает у невестки. Успех придуманного ею предприятия Александровская обосновала глубокими знаниями характера Нечаева и своей хитростью. «Он (Нечаев. — Ф. Л.) смел и остроумен, — писала Александровская, — но не всегда осторожен, смел до дерзости. Деспот весьма односторонний. Хитер и подозрителен, но не глубок и односторонне легковерен. Непреклонной воли, но с неверным соображением. Деятелен до изнурения. Общечеловеческих мирных стремлений или слабостей никаких не проявляет, кроме слепой самоуверенности. Как понимание людей, так и всего окружающего у него одностороннее. Так, например, он убежден, что большая часть людей, если их ставить в безвыходное положение, то у них, невзирая на их организацию и воспитание, непременно выработается отважность в силу крайней в том потребности. Этот взгляд свой он переносит и в понятия свои о воспитании детей, даже самых маленьких. Вероятно, это понятие у него выработаюсь на основании его прошлого, которому он, надо полагать, и приписывает создание такой личности, как его. Делом своего общества, по-видимому, он весь поглощен; других интересов для него не существует. Сколько я ни следила за ним, но мне не удалось уловить его внимание в разговоре ли, в деле ли или просто в размышлениях на предметы, не относящиеся так или иначе к его делу. Дело же общества занимает его свыше физических сил; он, если и пьет, урывками, спит чуть не на ходу; засыпает в кресле, находясь не один, вопреки, конечно, своей воле, чертит рукой как бы по парте, произнося какие-то несвязные слова, но все-таки из мира своей деятельности».[406]
Следов реализации верноподданнического предложения Александровской в архивах не обнаружено, чем-то оно политический сыск не устроило, политический сыск и не собирался спешить с поимкой Нечаева. Но попутчица продолжала доносить, особенно зло писала она о Е. X. Томиловой, видимо, надежда на хоть незначительное облегчение участи с помощью мелких услуг властям не покидала ее. А следствие шло своим чередом, Александровскую причислили к третьей группе сообщников Нечаева и предали суду Особого присутствия С.-Петербургской судебной палаты по обвинению «в причастности к заговору с целью ниспровержения существующего порядка управления в России». За «злоумышленное распространение преступных сочинений» Александровскую приговорили к лишению «всех прав состояния и ссылке в Сибирь на поселение в места не столь отдаленные». За две недели до вынесения судом приговора в тюремном ведомстве и жандармерии разразился неслыханный скандал — вдруг обнаружилось, что после полуторагодичного одиночного заключения Александровская оказалась беременной. Такого еще в тюремной практике с государственными преступниками не случалось.
Губернское жандармское управление провело тщательнейшее служебное расследование и 14 августа 1871 года направило в III отделение отчет о досадном происшествии с приложением плана расположения камер Срочной тюрьмы Выборгской части.[407] Из отчета следовало, что, благодаря «неисправности окошек», выходивших во внутренний коридор, и задвижек, запиравших двери в камеры, попутчица легко проникала в соседнее помещение к нечаевцу Г. А. Свечину. Александровекую перевели в Литовский замок.[408] 17 марта 1872 года ей объявили окончательный приговор, подтверждавший вынесенный судом, и 4 апреля 1872 года отправили в Тюменский приказ, а оттуда на поселение в Ачинский округ Енисейской губернии. Доносы Александровская писала и по дороге в Сибирь.[409] В ссылке она занималась «повивальным искусством»,[410] в 1873 году вышла замуж. На рапорте начальника енисейского Губернского жандармского управления об этом значительном событии глава Третьей (секретной) экспедиции III отделения К. Ф. Филиппеус оставил нам следующую маргиналию: «Замечательная женщина; старая рожа, а всегда находит себе мужика».[411] Последний раз «замечательная женщина» промелькнула в документах III отделения в 1880 году.[412]
Сколько же бездельников, любителей поразвлечься вступало в ряды народных заступников! Многие из них даже не умели играть роли занятых серьезным делом. Как не вспомнить В. В. Розанова, говорившего, что революция имеет два измерения — длину и ширину при отсутствии глубины; она ей не нужна и даже вредна. Мыслящие, созидатели, они не способны сокрушать, для этого пригодны недоучки.
КОНЕЦ «НАРОДНОЙ РАСПРАВЫ»
Из нечаевцев первым арестовали П. Г. Успенского. В Московском жандармском управлении он числился в списке наиболее подозрительных лиц. Сыщики обнаружили, что через книжный магазин А. А. Черкесова осуществлялась рассылка листовок противоправительственного содержания. 26 ноября на квартире Успенских произвели обыск, никак не связанный с убийством в Петровско-Разумовском. Приведу извлечение из донесения, отправленного 27 ноября генералом И. Л. Слезкиным в III отделение:
«В дополнение телеграммы на имя Шефа Жандармов, Вашему Превосходительству имею честь донести, что строгий и тщательный обыск в квартире бывшего студента С.-Петербургского Университета Петра Гаврилова Успенского, заведующего книжным магазином Черкесова, был произведен по обстоятельствам представлявшим возможность к сему только вчерашнего числа.
За студентом Успенским, о коем было донесено мною 3 отделению Собственной Его Императорского Величества Канцелярии 11 июня сего года, имелось со стороны Жандармского управления особое наблюдение и хотя были получены данные для производства у него обыска, но обыск этот признавался по некоторым соображениям преждевременным.
В квартире студента Петра Успенского найдено:
1. В диване: тетрадь синей почтовой бумаги в восьмую долю листа, на каждом листе оттиснуто в виде печати: «Комитет Народной расправы 19-го февраля 1870 гола», а в середине этих слов изображен топор.
2. В другом диване: заграничный паспорт, выданный из иностранного Отделения Канцелярии Московского Генерал-губернатора 3 марта сего года за № 168 на имя мещанина Николая Николаева и книжка на иностранном языке с черным мужским галстуком, одинаковой меры с лежавшим на столе галстуком Успенского, который хотя и объяснил, что диван этот куплен им в Апреле или в Мае сего года на Сухаревском рынке, но на заграничном паспорте Николаева значится надпись явки его за границей 10 Августа сего года,
3. В мягком кресле: а) в восьмую долю листа печатная тетрадь под заглавием «Издание общества Народной расправы 1869 года № I, Москва», б) на почтовой синей бумаге с такими же печатями, как выше сказано, рукописи: в 12 пунктах, в двух экземплярах озаглавленная «Изложение общих правил сети для Отделений», другая рукопись в 10 пунктах, в трех экземплярах, озаглавленная — «Обшие Правила Организации», внизу подпись: «Великорусский Отдел Москвы». На одной из этих рукописей под № 1 записаны разные фамилии, против которых сделаны пометы с наименованием городов и местностей».[413]
В тот же день обыск произвели и у квартирантов Успенских — «купеческого сына» В. П. Скипского и «калужской мещанки, девицы» Е. И. Беляевой, но, как показалось жандармам, ничего существенного не нашли. Успенского и Скипского арестовали, у Беляевой и Успенской, «находящейся в последней стадии беременности», взяли подписки о невыезде. 28 ноября Слезкин отправил в III отделение очередное донесение, в котором писал, что владелец книжного магазина и библиотеки «Коллежский Секретарь Александр Александрович Черкесов направления либерального и в политической благонадежности сомнителен».[414] Учитывая репутацию Черкесова, Слезкин распорядился одновременно с квартирой Успенских обыскать помещение книжного магазина и библиотеки, в которых было обнаружено:
«1. 14 экземпляров революционного воззвания с оттиснутыми словами сбоку, в виде бланка: «Русский Отдел Всемирного революционного союза», в оглавлении написано: «От сплотившихся к разрозненным».
2. Множество писем, запечатанных в двух свертках, разная переписка, в числе которой некоторые бумаги имеют характер революционный.
3. Несколько номеров журналов, издаваемых: в Лондоне — «Правда», в Лейпциге — «Будущность». Объявление Лондонских книгопродавцев — «Трюбнера и Компании» (приложения к «Колоколу»).
4. Разные книги и листы журналов и газет.
5. Обращения студентов к обществу и стихотворения Н. Огарева, озаглавленные «К студентам».
6. Прошение от имени студентов Московского Университета со вложением в середине листа воззвания к студентам — «Братья студенты!». Такое же воззвание, писанное рукою Скипского. Проект устройства студенческой кассы, в двух экземплярах».[415]
Жандармы не сразу поняли, что в их руках оказался архив тайного революционного сообщества «Народная расправа».[416] При первом обыске они нашли далеко не все хранившееся у Успенского, а Нечаев прятал у него практически весь архив «Народной расправы».
Успенский на первых допросах ни в чем не признавался, и его арест некоторое время никак не связывали с убийством Иванова. Слезкин высказал предположение, что его жандармы наткнулись на руководителя кружка, распространявшего воззвание «От сплотившихся к разрозненным». Таких кружков в Москве было несколько, за этим ничего особенного не числилось. «В читальне и библиотеке бывали преимущественно студенты, — писал Слезкин 28 ноября в III отделение, — молодые люди и женщины, вовлеченные в нигилизм; Успенский и Скопский оказывали им особое расположение, старались увеличить число приходящих к ним студентов и молодых людей единственно с тою целью, чтобы расширить круг своего общения».[417]
Лишь 7 декабря жандармы установили связь между убийством Иванова и «Народной расправой». «Убийство, — писал Слезкин, — судя по следам крови, совершено в некотором расстоянии от того места, где найден труп, близ места совершения преступления найдены хорошая шапка и башлык, не принадлежавший покойному. Общий голос, — что убийство совершено студентами Академии за то, что будто он в чем-то проговорился. Отсутствие признаков ограбления и совпадение убийства со временем арестов придают этому слуху некоторую вероятность; для нас же чрезвычайно важно то обстоятельство, что Иванова в последний раз видели с Кузнецовым и Лау, фамилии которых здесь значатся в известном списке».[418]
Слезкин писал о списке членов «Народной расправы», найденном при обыске 26 ноября. Стареющий жандармский генерал почувствовал, что на него свалилась нежданная удача — раскрытие конспиративного сообщества крупного масштаба с листовками и убийствами. Опасаясь нежелательных поступков столичных коллег, имевших обыкновение отбирать у провинциалов дела, сулившие внеочередные чины и ордена, Слезкин с особым рвением принялся за расследование. «Пока мы еще занимаемся рассмотрением бумаг, взятых при обыске, — рапортовал Слезкин 7 декабря, — без чего при настоящем положении дел нет никакой возможности производить дознание и допросы, нельзя этих бумаг и в Петербург отправлять, так как действующие лица оказываются здесь».[419]
Ранее других московские жандармы поймали одного из первых членов «Народной расправы» Н. С. Долгова. Он почти месяц упирался, изворачивался, наконец 23 декабря дал подробные откровенные показания. Благодаря ему в руках полиции оказались князь В. А. Черкезов, Н. Н. Римский-Корсаков, В. К. Ланге, Г. А. Свечин, В. К. Попов, К. П. Лебедев и Е. И. Беляева.[420]
Получив из Москвы телеграмму о первых результатах обыска у Успенских,[421] III отделение тут же включилось в расследование. 30 ноября обыскали петербургский книжный магазин А. А. Черкесова. Владельца магазина отправили в Екатерининскую куртину Петропавловской крепости.[422] Не понимая, «за кем Черкесова следует числить арестованным»,[423] комендант крепости три дня не объявлял ему, за что тот сидит. После нескольких допросов и резких протестов 15 февраля 1870 года его выпустили на свободу, взяв подписку о невыезде и обязательной явке к следователю.[424] За укрывательство Нечаева 5 декабря 1869 года был арестован В. И. Ковалевский. Узнав от него, что А. К. Кузнецов 23 ноября приехал в Петербург, III отделение запросило столичное градоначальство о его местонахождении и вскоре получило телеграмму:
«Колышкин — Филиппеусу. Телеграмма № 100. 2 Декабря 1869 г. отправлена 9. 33 ч., получена 9. 36 ч. пополудни. А. Кузнецов живет Невский 75 кв. 21».[425] Кузнецова арестовали 7 декабря, до этого за ним пытались следить, но он ни с кем не встречался и почти не выходил из дома.[426] В Москве срочно произвели обыск в квартире Кузнецова и его хозяйки.[427] Первым из арестованных Слезкин отправил в Петербург Скипского[428] «Все, чего я ищу. — заявил Скипский. — это приобрести деньги своим личным трудом для окончания курса в Московском Императорском Университете»,[429] далее он рассказал все, что знал. Протокол его допроса предъявили М. О. Антоновой (Волховской), сидевшей с весны 1869 года и давшей еще тогда откровенные показания. Антонова подтвердила все рассказанное Скипским,[430] и в благодарность полицейские власти выпустили ее на свободу. После допросов Скипского в III отделении еще раз рассмотрели документы, обнаруженные при обысках у Успенских, и на их основании составили список из 62 человек, подлежащих срочному аресту.[431] М. Ф. Негрескула арестовали 5 декабря 1869 года.[432] В крепости у него развилась скоротечная чахотка, 10 мая распоряжением министра юстиции его освободили по болезни под домашний арест.[433] 12 февраля 1871 гола М. Ф. Негрескул скончался у себя дома. 9 декабря 1869 года произвели обыск у Колачевского,[434] в тот же день арестовали братьев Лихутиных. Первым заболел старший брат Иван. У него обнаружили «раздражение мозга» и «устранили от всякого рода умственных занятий».[435] Министр юстиции потребовал от коменданта крепости дать арестанту «надлежащие медицинские пособия».[436] Иван поправился, а младший брат, Владимир, скончался в крепости 3 марта 1871 года от «скоротечной чахотки».[437] 29 декабря арестовали В. И. Лунина и отправили в Полицейский дом Адмиралтейской части».[438]
Дольше других не удавалось поймать Н. Н. Николаева. Он жил в Москве по чужому паспорту,[439] 15 февраля его арестовали и посадили в секретную камеру Московского тюремного замка.[440] Зная об особой роли Николаева при Нечаеве, охрану камеры, где он содержался, организовали с особой тщательностью.
Аресты производились не только по спискам, составленным на основании документов архива «Народной расправы» и показаний ее участников. К Слезкину шел поток анонимок.[441] Весной 1870 года распространился слух, будто Нечаев скрывается в Иванове, и его бросились искать в родительском доме.[442] Московские жандармы не отставали от столичных, к 1 января 1870 года почти всех участников «Народной расправы» удалось арестовать. 11 января по распоряжению Слезкина прапорщик Соколов произвел в библиотеке Черкесова новый обыск, но почти ничего не нашел. В первых числах февраля Успенский дал откровенные показания. В связи с этим в Москву прибыл судебный следователь при С.-Петербургском окружном суде для производства следствий по особо важным делам П. К. Гераков. Во главе группы полицейских чиновников он явился 10 февраля в книжный магазин Черкесова и по указанию привезенного туда Успенского, в присутствии понятых изъял из потайных мест:
«1. Письмо на полулисте почтовой бумаги, начинающееся словами: «Любезный друг, я уже послал Вам некоторые предостережения <…>». Письмо это без означения времени и писано, по объяснению Успенского, Михаилом Негрескулом.
2. Описание на четвертушке простой бумаги мест города Москвы, где, по объяснению Успенского, собирается преступная часть общества; бумага эта писана, по словам его, Прыжовым; <…>».[443] Далее следователь извлек конверт с мандатом, привезенным Нечаевым из Женевы, ключ к шифру (не «Катехизиса»), печатку овальную медную с изображением «секиры и надписью кругом: Комитет народной расправы 19 февраля 1870 года».[444] Жандармы обнаружили печать несуществующего Комитета, и оказалась она в их руках за девять дней до провозглашенной Нечаевым даты всенародного бунта. Не очень-то крупный улов от обыска получил следователь Гераков, но нам это чрезвычайно важно: если печать Комитета хранилась у Успенского, то он наверняка знал, что Комитет состоял из одного Нечаева. Следовательно, Успенский, являясь доверенным лицом руководителя «Народной расправы», был посвящен во все мерзости, творимые Нечаевым, и ловко ему подыгрывал. Наверное, все это не представляло тайны и для А. И. Успенской. Успенские были ближе других к Нечаеву. А. И. Успенская не утратила верности вождю «Народной расправы» даже после «Процесса нечаевцев», что подтверждается на каждой странице ее уникальных воспоминаний.[445]
И. Г, Прыжова арестовали 3 декабря 1869 года, он находился в таком состоянии, что жандармы отправили его в тюремный лазарет. При обыске у Прыжова ничего найдено не было. Узнав об аресте Успенского, он успел хорошо подготовиться к визиту жандармов.[446] Но Слезкин, осведомленный о дружбе Прыжова с Успенским, о его близости к Ишутинскому кружку и кружку Волховского, счел возможным произвести этот арест.
Среди нечаевцев Прыжов — фигура весьма странная, резко выделяющаяся возрастом, — он был вдвое старше других участников «Народной расправы», ему шел сорок четвертый год. Когда после лихорадки он пришел в себя, то, в отличие от многих нечаевцев, сразу или почти сразу давших откровенные показания, Прыжов от всего отказывался и лишь постепенно, под давлением предъявляемых доказательств, делал одно признание за другим. 27 декабря 1869 года московские жандармы сообщали в Петербург: «Коллежский секретарь Прыжов, оправившись от болезни, заявил желание быть вызванным к допросу, что немедленно и было исполнено. Несмотря, однако ж, на то, что это было собственное желание его, Прыжов очень долго уклонялся от надлежащего объяснения и только тогда начал рассказ об убийстве Иванова, когда поставлен был к тому в необходимость последовательно и систематически веденным опросом его. Он сознался наконец в участии в преступлении, хотя рассказ его под влиянием видимого внутреннего влияния и не имеет определенной последовательности».[447]
Откровенные показания дали А. И. Успенская, Ф. Ф. Рипман, А. К. Кузнецов, Н. Н. Николаев. Очень упорствовал П. В. Прокопенко, он все отрицал, ругал Нечаева[448] и благодаря этому избежал не только наказания, но и суда. Оказавшись на свободе, он сразу же постарался скрыться от полиции. Всего в Москве, Петербурге и других городах полиция арестовала около двухсот человек, в разной степени причастных к нечаевской истории. Не следует забывать, что первые задержания власти произвели в конце марта 1869 года в связи со студенческими волнениями в Петербурге. Правительство не знало, что делать с арестованными, в чем их обвинять, какой процесс организовать, не удавалось установить взаимосвязь между деяниями преступников. У правительства отсутствовал опыт. Заключенные протестовали, но их голоса, раздававшиеся за толстыми стенами Петропавловской крепости, не были услышаны.[449] Когда же появилась новая группа заключенных, Министерство юстиции решило не устраивать отдельно процессы о студенческих волнениях и «Народной расправе», а объединить их в одно крупное дело — дело нечаевцев. Правительство понимало, что объединение это искусственное, но почему-то пошло на него.
В первых числах января 1870 года император Александр II назначил сенатора Я. Я. Чемадурова и прокурора А. А. Стадольского для производства расследования «по делу об обнаруженных в разных местах империи признаках злоумышления, направленного против установленного порядка правления». Материалы дознания, собранные в подразделениях Корпуса жандармов и III отделения, перешли к Чемадурову, в его ведение поступили все арестованные. Те из них, кто находился в других городах империи, были отправлены в Петербург. Нелегкий труд въедливого, добросовестного сенатора по расследованию нечаевской истории продолжался более года. По утверждению Кузнецова, в кружках состояло 400 человек, арестовали — 310.[450] Цифры эти существенно завышены. Допрошено было всего около двухсот человек, после кропотливого анализа материалов следствия Чемадуров отобрал 152 человека, которым были предъявлены обвинения разной степени тяжести. Их показания, протоколы обысков, допросов свидетелей и прочие материалы составили десять томов. Неполный реестр вещественных доказательств записан на восемнадцати листах.[451] При подготовке судебного процесса из общего числа находившихся под следствием было отобрано 87 обвиняемых. В зависимости от тяжести преступления всех их разбили на двенадцать разрядов (групп).
Ознакомившись с материалами следствия, представленными сенатором Чемадуровым в Министерство юстиции, высшие царские администраторы поняли, что судебные заседания могут быть открытыми, а процесс проходить с участием сословных представителей. Правительство решило впервые в России показать обществу открытый политический процесс. Представился удобнейший случай, когда обвиняемые — участники преступного сообщества и примыкавшие к ним лица — выглядели крайне неприглядно и не могли вызвать сочувствия даже у наиболее радикально настроенной части русского общества. Правительство пожелало «Процесс нечаевцев» превратить в образцовую пропагандистскую кампанию, направленную против революционеров.
Судебная реформа 1864 года опередила самодержавный способ управления империей. Реформа и монархия никак не соответствовали друг другу. Высочайшим указом от 24 ноября 1864 года Александр II ввел в действие Уставы уголовного и гражданского судопроизводства, в основе которых заложены отделение судебной власти от административной и обвинительной, независимость судей и невозможность их смещения, состязательный порядок судопроизводства, суд присяжных и институт присяжных, публичность и гласность процесса.
Примирить монархию с независимым судопроизводством чрезвычайно просто — достаточно оставить лазейки, позволяющие обходить прогрессивные законодательные установления. Так с помощью Особого совещания при Министерстве внутренних дел оправданных судом можно было сослать в любое место империи сроком до пяти лет с продлением, в случае необходимости, этого срока сколько угодно раз. Кроме Особою совещания у царя имелись закрытые военные и статские судебные учреждения, где ни о каких присяжных заседателях и гласности судопроизводства не могло быть и речи, а судьи назначались с согласия монарха.
Подготовка «Процесса нечаевцев» длилась около полутора лет, 26 апреля 1871 года в закрытом заседании Гражданского кассационного департамента Правительствующего сената собрались главный начальник III отделения граф П. А. Шувалов и крупнейшие сенаторы-юристы. Присутствовавшие рассмотрели дела арестованных нечаевцев и обсудили порядок их прохождения в суде, а также состав Особого присутствия С.-Петербургской судебной палаты, присяжных заседателей и защитников обвиняемых. Собравшиеся, понимая выгодность для правительства гласного суда над нечаевцами, сочли все же необходимым тщательно к нему подготовиться. Один из наиболее любопытных документов появился незадолго до начала судебных заседаний. Приведу фрагмент записи конфиденциального совещания, состоявшегося 19 июня 1871 года:
«При личных переговорах Министра Юстиции с Товарищем Шефа Жандармов, первый, признавая неудобным ввести какую-либо цензуру при напечатании в газетах прений по предстоящему судебному разбирательству дела Нечаева, полагал, что самое откровенное и полное изложение в печати фактов этого дела должно будет нанести самый большой удар партии сочувствующих обвиненным. Граф Пален опасается только, что в изложении прений некоторые газеты могут позволить себе умолчать именно о таких фактах, которые преимущественно способны возбудить общественное мнение против лиц, подвергающихся суду, и ввиду этого находит необходимым, чтобы стенографические отчеты судебных заседаний, которые будут печатаемы в «Правительственном Вестнике», служили мерилом точности и руководством для других газет.
К достижению этого представляется два средства: во-первых, допустить к присутствию на суде только стенографов «Правительственного Вестника», и больше никаких, пользуясь тем, что закон не обязывает допускать всех стенографистов, которые пожелали бы присутствовать; или же, во-вторых, обязать редакции газет печатать отчеты заседаний Судебной Палаты лишь после появления отчетов в «Правительственном Вестнике».
Первое средство менее удобно второго по той причине, что недопущением частных стенографов могли бы воспользоваться люди недоброжелательные и распространить молву, будто бы официальный отчет «Правительственного Вестника» не полон и подвергся цензуре или изменениям.
На основании сих соображений испрашивается Высочайшее разрешение применить второе средство, то есть заблаговременно обязать редакторов всех газет не печатать отчетов о судебном разбирательстве по делу Нечаева прежде, чем отчеты эти будут напечатаны в «Правительственном Вестнике». Министр Внутренних Дел совершенно разделяет мнение Министра Юстиции и Товарища Шефа Жандармов о пользе этой меры».[452]
На первой странице цитируемого документа начальственной рукой графа Шувалова начертано: «Имея в виду соглашение трех лиц, поименованных в докладе, ВЫСОЧАЙШЕ поведено исполнить согласно соображения». Записка получила одобрение монарха, но это еще не все. Министр юстиции граф К. И. Пален по просьбе главноуправляющего III отделением графа П. А. Шувалова отправил на «Процесс нечаевцев» «особого чиновника Казем-Бека для совместного с редактором «Правительственного Вестника» предварительного рассмотрения присылаемых для печатания стенографических отчетов».[453] Таким образом, расшифрованные записи стенографов «Правительственного вестника» ложились на стол «особого чиновника» Министерства юстиции, он их правил, и лишь после этой операции материалы процесса отправлялись в набор. Кое-что из трудов А. А. Казем-Бека, державшихся в строжайшей тайне, иногда замечалось. Например, защитник Успенского князь А. И. Урусов заявил на одном из судебных заседаний: «Между тем «Правительственный Вестник» не только не напечатал всего, что говорил в Суде Успенский и что занесено стенографами, но даже остальное его показание представил в искаженном виде; а потому он, Урусов, имея в виду, что неточное изложение в газетах обстоятельств дела может вредить Успенскому в общественном мнении, просил о составлении протокола Судебного заседания на основании 839 статьи Устава Уголовного судопроизводства».[454]
Ничего не сообщалось в газетах о том, что касалось недоносительства,[455] были закрытые судебные заседания, например, на одном из них зачитывался первый номер «Народной расправы». «Эта прокламация («Народная расправа». — Ф. Л.) была прочитана при закрытых дверях, — писал К. К. Арсеньев, — и не вошла в состав стенографического отчета; но общий характер ее достаточно известен из показаний подсудимых, из речей обвинителя и защитников. Скажем только, что она проповедует, в самой резкой и вместе с тем пошлой форме, разрушение и убийство, не указывая даже начал, во имя которых должно быть пролито столько крови. Она может увлечь политических кондоттьери (кондотьер — предводитель наемников. — Ф. Л.), рассчитывающих воспользоваться всеобщим смятением для устройства своих личных дел, или грубых фанатиков, одинаково чуждых гуманности и науки; кто не ослеплен невежеством или корыстным интересом, тот отвернется от нее с презрением и негодованием».[456]
Процесс начался 1 июля 1871 года и продолжался с перерывами почти три месяца, стенографический отчет печатался в «Правительственном вестнике» за 1871 год (№ 155–206) и, по подсчету историка В. Я. Богучарского, составляет объем более 500 печатных листов.[457] Подсудимых защищали упомянутый выше А. И. Урусов, присяжные поверенные Д. В. Спасович, К. К. Арсеньев, Н. М. Соколовский, А. Н. Турчанинов, К. Ф. Хартулари и Н. Ф. Депп, им помогали А. А. Ольхин и Е. И. Утин.
Монарх желал образцового суда над нечаевцами и всю тяжесть ответственности за его безупречное проведение возложил на товарища министра юстиции, управляющего министерством О. В. Эссена. Обремененный высочайшим поручением, Эссен не пропустил ни одного судебного заседания, регулярно отправлял Александру II доклады о положении дел на процессе.[458] Среди публики в зале заседаний постоянно присутствовали товарищ шефа жандармов граф Н. В. Левашев, чиновники III отделения, в их числе К. Ф. Филиппеус, министры, многие правоведы, генералы, писатели Н. С. Лесков и Ф. И. Тютчев, большинство публики состояло из студентов, среди них крутились агенты политической полиции.
Инцидентов в зале заседаний и вне его во время слушания дела нечаевцев практически не было. Вся леворадикальная часть петербургского общества была подавлена случившимся, никаких манифестаций не предпринималось, иногда в публике поднимался шум, но это была реакция на выступления адвокатов или резкие действия председательствующего на процессе сенатора А. С. Любимова. Подсудимые и защита обвиняли его в чрезмерно жестком ведении процесса, власти придерживались обратной точки зрения. «Много толков, — писал известный своей объективностью литератор А. В. Никитенко, — по поводу изъявленного высочайшею властью неудовольствия на суды за то, во-первых, что председатель вел себя слишком гуманно и любовно с подсудимыми по Нечаевской истории и что он не останавливал адвокатов там, где они слишком распространялись в общих понятиях о сущности и различии заговора и тайных обществ; во-вторых, за то, что суд оправдывает некоторых, а не всех приговаривает к каре».[459] Чуть позже, размышляя о приговорах, Никитенко заметил: «Административные порядки: молодая девушка Дементьева по Нечаевскому делу была судом приговорена к заключению в тюрьму на три или четыре месяца. Она отсидела это время в Литовском замке и была освобождена. По свидетельству тюремных надзирателей, она вела себя примерно, и вообще эта девушка прекрасная собою, прекрасно образованная, кроткая и вообще поведения порядочного. Во время суда она возбуждала всеобщее к себе сочувствие. Казалось бы, что, выдержав наложенное на нее наказание, она уже очистилась и сделалась свободною. Притом она еще до суда провела в крепости года полтора. Но едва она вышла из Литовского замка, ее подхватили и административным порядком сослали в какую-то губернию под надзор полиции».[460] Дементьева произвела крайне благоприятное впечатление на многих.[461]
Академик Никитенко родился крепостным и получил вольную в семнадцатилетнем возрасте, что не могло не отразиться на взглядах этого достойного человека, поэтому небезынтересна его дневниковая запись, сделанная через месяц после начала судебных заседаний. «Катков в № 161 «Московских ведомостей» очень умно и талантливо говорит много дельного и правдивого относительно Нечаевского дела, но он все-таки не договаривает до всей правды. Да и нельзя договориться до нее публично. Что все эти заседания и агитации юношей есть бред полуобразования и т. п. — в этом нет сомнения. Но не следует забывать и того, какую грустную и скверную школу они проходят с детства».[462]
М. Н. Каткова, товарища Бакунина по кружку Станкевича, привыкли клеймить обидным термином «реакционер»; Катков действительно был реакционером. Но ради чего он встал на этот путь? Чтобы преградить дорогу такому явлению, как нечаевщина. Никто не осмелился столь резко высказываться против нее. Это Катков сказал, что кроме политических прав существуют политические обязанности, о коих революционеры вовсе не задумывались ни тогда, ни позже. Он взял на себя политические обязанности противостоять расшатыванию государственных устоев.
Правительство готовило образцовый политический процесс и желало его идеальной реализации. Эссен и Левашев, присутствуя на всех заседаниях, пристально следили за ходом слушания дела, и как только происходило нечто не предусмотренное сценарием, тотчас на это реагировали. «Во время перерыва вчерашнего (7 июля 1871 года. — Ф. Л.) заседания Судебной Палаты, — писал Левашев председательствующему, — около 3 1/2 часов пополудни, тотчас по выходе из залы Членов Суда, произошла суматоха и подсудимые, вызванные в Палату в качестве свидетелей, смешались с присяжными поверенными и разными лицами, выбежавшими к ним из мест, занятых публикою, так что без распорядительности жандармского офицера, воспрепятствовавшего дальнейшим последствиям этого беспорядка, легко могло бы случиться, что несколько арестованных нашли бы возможность бежать. До чего упомянутая суматоха дошла, и до какой степени подсудимые смешались в зале с другими лицами, видно из того, что вместо оставшегося в зале подсудимого рядовой отвел было в комнату, предназначенную на этот предмет одному из присяжных поверенных; арестант же стоял, окруженный публично, и смеялся, но тут же был выведен из зала жандармским офицером».[463]
И политические преступники, и охрана не имели опыта, пятью годами позже солдаты не допустили бы такого. Филиппеус, докладывая Левашеву о своих впечатлениях от публики в зале Судебной палаты, заметил, что бросается в глаза отсутствие разницы между публикой и подсудимыми. «Порядочная часть общества, — продолжает Филиппеус, — с любопытством, даже жаром читает газеты, но не интересуется делом настолько, чтобы спозаранку собираться у входа в здание суда, и придя уже поздно, она находит все места уже занятыми все тою же публикою».[464]
Петербургские студенты и приезжая молодежь с ночи осаждали здание, где происходило слушание дела нечаевцев, судили их товарищей. Но после завершения процесса по первой группе обвиняемых интерес к тому, что происходило в зале заседаний, заметно упал. 15 июля суд завершил рассмотрение дел по первой группе и объявил приговор:
«1. Подсудимых Успенского, Кузнецова. Прыжова и Николаева лишить всех прав состояния и сослать в каторжные работы: Успенского — в рудниках на 15 лет, Кузнецова — в крепостях на 10 лет, Прыжова — в крепостях на 12 лет и Николаева — в крепостях на 7 лет и 4 месяца, затем поселить в Сибири навсегда.
2. Подсудимого Флоринского заключить в тюрьму на 6 месяцев, с отдачею затем под строгий надзор полиции на 5 лет.
3. Подсудимых Ткачева и Дементьеву заключить в тюрьму: первого на 1 год и 4 месяца, а Дементьеву на 4 месяца.
4. Подсудимых Коринфского, Волховского, Томилову и Орлова признать по суду оправданными».[465]
По этому приговору Эссен составил всеподданнейший доклад, а Левашев отправил Шувалову телеграмму.[466]
Агенты (II отделения доносили начальству об услышанном по поводу объявления приговора, «что судебная палата чрезвычайно снисходительно решила участь преступников и что их следовало бы для примера другим непременно казнить, а не отдавать под надзор полиции, как некоторых суд приговорил, потому что полиция вовсе не отличается дальновидностью и серьезным уменьем и что, кроме протоколов по пустякам, которые она составляет на жителей города, ничего более не умеет порядочно сделать, Другие же, напротив, говорят, что мальчишек не судить следовало, а пороть розгами до тех пор, пока вся дурь не вышла бы из головы, а потом поселить порознь и навсегда в отдаленных местах Сибири; тогда бы они помнили, что не следует какой-нибудь ничтожной мрази идти против правительства, которое и так много сделало для них и в самое короткое время».[467] Сочувствия к подсудимым как участникам «Народной расправы» никто не выражал, сочувствовали заблудшим, не ведавшим, в чем участвовали, что творили. Появилось несколько анонимных рукописных листовок с призывами заступиться за «невинно осужденных».[468] Сочинителей отыскать не удалось.
Во время процесса секретарем суда зачитывались «Катехизис революционера», «Общие правила организации» и «Общие правила сети для организаций». «Катехизис революционера» в зашифрованном виде обнаружили у Успенского, а ключ для прочтения — у Кузнецова. Чиновники Министерства иностранных дел расшифровали текст. Публикация всех трех документов в «Правительственном вестнике» произвела тягостное впечатление. Члены «Народной расправы» заявили на суде, что «Катехизиса» не читали, и это была правда: Нечаев лишь пересказывал некоторые его параграфы. «Если задаться вопросом, — заявил Спасович, защищая Кузнецова, — почему этот катехизис, столь старательно составленный, никому не читался, то надо прийти к заключению, что не читался он потому, что если бы читался, то произвел бы самое гадкое впечатление. Даже молодежь, так критически относящаяся к делу, не могла не задуматься, когда прочла одиннадцатый параграф, в котором говорится, что каждый член организации рассматривается как капитал, состоящий в распоряжении организации, и если попадется, то организация озаботится его освобождением тогда, когда на это освобождение не потребуется особенно значительных затрат, в противном случае он предоставляется на произвол судьбы».[469]
Нечаев опасался, что после знакомства с «Катехизисом» некоторые члены «Народной расправы» могут пожелать покинуть сообщество. Достоверно известен лишь один человек, которому Нечаев давал читать свой «Катехизис», — Бакунин, высказавший, быть может, не вполне искренне, отрицательное к нему отношение. Возможно, именно поэтому творец «Катехизиса» предпочел повременить с его публикацией. Но в своих действиях Нечаев руководствовался положениями «Катехизиса», в этом документе он сформулировал свои убеждения и от них не отступал.
Защитники и обвиняемые без труда убедили судей и присяжных заседателей в том, что основной виновник всего происшедшего — Нечаев, втянувший молодых людей в революционное сообщество, придумавший грозный, таинственный Комитет и от его имени навязавший им сомнительные цели и недопустимые средства борьбы с самодержавием. Но, как это ни странно, большинство оказавшихся из-за Нечаева на скамье подсудимых отзывались о нем уважительно и без злобы. Александровская, Енишерлов и еще несколько человек составляли исключение. «Читались показания Енишерлова, — заявил присяжный поверенный Спасович, — который дошел до того, что подозревал, не был ли Нечаев сыщиком. Я далек от этой мысли, но должен сказать, что если бы сыщик с известною целью задался планом как можно больше изловить людей, готовых к революции, то он действительно не мог искуснее взяться за это дело, нежели Нечаев».[470]
Суд установил, что «Народная расправа» ничего не совершила, кроме убийства Иванова, поэтому и были вынесены сравнительно мягкие приговоры. По остальным группам обвиняемых наказания оказались еще мягче, практически никого не приговорили к тюремному заключению, часть подсудимых была оправдана.[471] Когда судьи завершили рассмотрение дел последней группы обвиняемых, Александр II находился на пути из Ливадии в Петербург, поэтому доклад монарху от 28 августа 1871 года Эссен отправил фельдъегерской почтой навстречу монарху. Приведу его полностью:
«Вменяю себе в обязанность всеподданнейше донести Вашему Императорскому Величеству, что в вторник 24, в среду 25 и в пятницу 27 сего Августа С.-Петербургскою Судебного Палатою рассмотрены обвинительные акты об остальных лицах, привлеченных к делу о злоумышлениях Нечаева; из них 13 человек обвинились в знании и недонесении о существовании в С.-Петербурге тайного сообщества с политическою целью, четверо в получении по почте прокламаций возмутительного содержания и непредоставлении их начальству, и пятеро — уроженцы Сибири — в составлении особого кружка с намерением отделить Сибирь от России. Все означенные подсудимые за исключением одного Петра Кошкина, студента Медико-Хирургической Академии, признаны судом невиновными. Что же касается до Кошкина, то он признан виновным в произнесении дерзких против особы Вашего Величества выражений и приговорен к двухлетнему заключению в смирительном доме.
В заключение считаю долгом доложить Вашему Императорскому Величеству, что при разборе последнего обвинительного акта обнаружено, что некоторые свидетели давали показания совершенно несогласные с теми, кои были даны прежде, при предварительном следствии; так например, один из главных свидетелей, на словах которого преимущественно основывалось обвинение пяти последних преступников, студент Кархалев отказался почти от всех прежних своих показаний; в виду сего показание, данное Кархалевым, на суде внесено, по требованию Прокурора, в протокол с целью возбудить против него преследование за лжесвидетельство.
Настоящим приговором закончились заседания С.-Петербургской Судебной Палаты по делу о злоумышленниках Нечаева; из лиц, привлеченных к сему делу, трое скрылись за границу, двое умерли, двое сошли с ума во время производства дела; 37 признаны по суду виновными, 44 оправданы, из обвиненных четверо приговорены к лишению всех прав состояния и ссылке в каторжные работы сроком от 4-х до 15 лет; одна женщина — к лишению всех прав состояния и ссылке в Сибирь на поселение; один к лишению некоторых прав и преимуществ и ссылке на житье в Сибирь; два — к заключению в смирительном доме, из них один с лишением некоторых прав и преимуществ. 25 человек — к тюремному заключению сроком от 2-х месяцев до 1 года и четырех месяцев и с отдачею после освобождения под строгий надзор полиции в течение 5-ти лет: трое — к кратковременному аресту при тюрьме; наконец одна освобождена от наказания по законам о невменяемости преступлений».[472] В принадлежности к «Народной расправе» был обвинен 31 подсудимый,[473] из них 22 слушателя Земледельческой академии.[474]
Эссен превосходно знал, что монарх с самого начала процесса выражал неудовольствие мягкостью судей и обвинял в этом не действовавшие в империи законы, а Министерство юстиции, не повлиявшее на состав суда и настроение судей. Судьи же вовсе не выгораживали обвиняемых, а следовали духу судебной реформы и букве закона. Они и так сделали достаточно много — сформировали общественное мнение против Нечаева, на несколько лет отвратили многих молодых людей от революционной борьбы. Но императора не интересовали ни законы, ни им же утвержденные основные положения судопроизводства, он был недоволен процессом и выразил к нему свое отношение в резолюции на докладе Эссена:
«Результат, по Моему, неудовлетворительный! Такие приговоры суда нельзя считать для виновных заслуженным наказанием, — но поощрением к составлению новых заговоров.
Требую, чтобы Министр Юстиции представил Мне свои соображения о том: какие следует принять меры для предупреждения повторения подобных ни с чем не сообразимых приговоров, вызывающих негодование и опасение во всех благомыслящих людях.
Саратов 31 августа 1871 года».[475]
По прибытии в столицу Александр II имел неприятный разговор с К. И. Паленом, после которого состоялось совещание с участием Палена, Эссена и главноуправляющего II (законодательным) отделением Собственной Его Императорского Величества канцелярии, князя С. Н. Урусова по вопросу об изменении некоторых положений действовавшего законодательства.[476] В результате обсужденной монаршей резолюции во II отделении было заведено дело: «По вопросу о некоторых изменениях в правилах судопроизводства по государственным преступлениям и в постановлениях Уложения о наказаниях о заговорах и противозаконных сообществах».[477] Это дело открывается письмом Палена от 2 февраля 1872 года, адресованным главноуправляющему II отделением:
«Вследствие Высочайшего Государя Императора повеления о принятии мер к устранению на будущее время повторения неудовлетворительных приговоров, подобных состоявшемуся по делу Нечаева и участников его о злоумышлении, направленном к ниспровержению существующего в России порядка управления, составлены мною предложения о некоторых изменениях в правилах судопроизводства по государственным преступлениям и в постановлениях Уложения о Наказаниях о заговорах и противузаконных сообществах».[478]
Анализируя приговоры по делу нечаевцев, чиновники II отделения пришли к следующему заключению: «Иной характер имеют другие неудовлетворительные стороны судебного приговора по делу Нечаева и его сообщников, а именно: оправдание таких подсудимых, вина которых не может не быть признана вполне доказанной, а отчасти и избрание, без достаточных оснований для лиц, признанных виновными, слабейшего из наказаний, положенных в законе за участие в противозаконном сообществе».[479] Разработанные юристами изменения соответствующих статей Уложения о наказаниях позволили судебным властям в дальнейшем не выносить столь мягких приговоров и не вызывать высочайшее неудовольствие.
После анализа материалов «Процесса нечаевцев» по предложению Палена было образовано Особое присутствие Правительствующего сената. Правоохранительные органы изымали дела о политических преступлениях из общеуголовного судопроизводства и передавали их в это новое учреждение. Юристы называют этот поступок правительства началом контрреформ.[480]
В отношении лиц, замешанных в нечаевской истории и оправданных судом, правительство предприняло почти поголовную их высылку из Петербурга и Москвы в административном порядке. Кроме того, письмом от 15 октября 1871 года Эссен уведомил министра народного просвещения графа Д. А. Толстого о «воспрещении доступа в учебные заведения и занятие преподаванием» 87 человек, «прикосвенных к участию в преступном сообществе».[481]
На молодых людей, придерживавшихся радикальных взглядов, «Процесс нечаевцев» оказал очень сильное влияние. Известный народник, современник Нечаева О. В. Аптекман писал: «И тем более я был решительным противником Нечаева и «нечаевшины», в особенности: самозваншина, иезуитизм и маккиавелизм глубоко претили мне вообще, а применение их к товарищам по работе — считал просто преступлением».[482] Его младший современник, один из основателей и вождей партии «Народная воля» Л. А. Тихомиров вспоминал о впечатлении, произведенном нечаевским процессом:
«Насколько я мог слышать и понять, заговор Нечаева был некоторого рода насилием над молодежью. Идти так далеко никто не намеревался, а потому система Нечаева — шарлатанство, надзор, насилие, — была неизбежна. Чистым, открытым путем нельзя было навербовать приверженцев. Поэтому с разгромом нечаевцев наступила «реакция», т. е. среди молодежи не было (почти) революционно действующих людей, самая мысль о революционном действии была скомпрометирована».[483] Далее он писал, что многие считали Нечаева «просто шпионом, агентом-подстрекателем».
После процесса над нечаевцами в российском революционном движении наступило затишье. Показания подсудимых, публикация документов, подробности убийства Иванова, ложь, вскрывшаяся во время прений сторон, пошатнули популярность революционных идей и повлияли даже на западных революционеров, но не на Сергея Геннадиевича Нечаева. Он как ни в чем не бывало носился по Женеве, Цюриху, Лондону, Парижу и другим европейским городам и делал все от него зависящее, чтобы начатое им, не угасло, лишь публикация материалов процесса и откликов на него несколько обескуражили его отсутствием сочувствия со стороны русских эмигрантов.
В продолжение всей нечаевской истории и частично процесса Ф. М. Достоевский с семьей безвыездно жил в Дрездене. В Петербург он возвратился в начале суда над первой группой нечаевцев. Возможно, автор «Бесов» спешил застать «Процесс нечаевцев» в разгаре, поприсутствовать на судебных заседаниях, увидеть участников убийства в Петровском парке.
Начало работы над романом «Бесы» относится к первым числам января 1870 года,[484] подробный план романа был закончен задолго до начала суда над нечаевцами.[485] А. Г. Достоевская вспоминала:
«На возникновение новой темы повлиял приезд моего брата (Ивана Григорьевича Сниткина. — Ф. Л.). Дело в том, что Федор Михайлович, читавший разные иностранные газеты (в них печаталось многое, что не появлялось в русских), пришел к заключению, что в Петровской земледельческой академии в самом непродолжительном времени возникнут политические волнения. Опасаясь, что мой брат, по молодости и бесхарактерности, может принять в них деятельное участие, муж уговорил мою мать вызвать сына погостить у нас в Дрездене. Приездом моего брата Федор Михайлович рассчитывал утешить как меня, уже начавшую тосковать по родине, так и мою мать, которая уже два года жила за границей (то с детьми моей сестры, то выезжая к нам) и очень соскучилась по сыну. Брат мой всегда мечтал о поездке за границу; он воспользовался вакациями и приехал к нам. Федор Михайлович, всегда симпатизировавший брату, интересовался его занятиями, его знакомствами и вообще бытом и настроением студенческого мира. Брат мой подробно и с увлечением рассказывал. Тут-то и возникла у Федора Михайловича мысль в одной из своих повестей изобразить тогдашнее политическое движение и одним из глав-мыл героев взять студента Иванова (под фамилией Шатова), впоследствии убитого Нечаевым. О студенте Иванове мой брат говорил как об умном и выдающемся по своему твердому характеру человеке и коренным образом изменившем свои прежние убеждения. И как глубоко был потрясен мой брат, узнав потом из газет об убийстве студента Иванова, к которому он чувствовал привязанность! Описание парка Петровской академии и грота, где был убит Иванов, было взято Федором Михайловичем со слов моего брата».[486]
И. Г. Сниткин приехал в Дрезден в середине октября 1869 года[487] и, поселившись вблизи Достоевских, ежедневно у них бывал. Интересные подробности о И. И. Иванове и И. Г. Сниткине имеются в воспоминаниях Л. Ф. Достоевской, дочери Федора Михайловича. «У моего дяди Ивана, — писала Л. Ф. Достоевская, — был в Академии товарищ-студент по имени Иванов. Мой дядя очень любил и уважал его. Иванов, который был старше его, покровительствовал моему дяде и смотрел за ним, как за младшим братом. Когда Иванов узнал, что моя бабушка хочет видеть своего сына, он очень настаивал, чтобы мой дядя тотчас принял приглашение своих родственников. Так как Иванов знал несколько нерешительный характер своего молодого товарища, то отправился сам к директору Академии и убедил его дать моему дяде разрешение прервать занятия на два месяца, сделал все необходимое для скорейшего получения заграничного паспорта и проводил своего молодого товарища на вокзал».[488]
Таким образом, из бесед с шурином Федор Михайлович получил представление о топографии местности и некоторых участниках московских событий осени 1869 года. Как только обнаружилась связь Бакунина с Нечаевым, все солидные западные газеты принялись помещать на своих страницах материалы расследования драматической истории, происшедшей в парке Земледельческой академии, и сразу же провозгласили Бакунина виновником всего происшедшего. Так, газета «Kolnische Zeitung» 21 декабря 1869 года сообщила: «Твердо установлено, что Бакунин — зачинщик и руководитель этого заговора, который распространился на всю страну и ставит своей целью уничтожение государственной власти, отмену частной собственности и создание самостоятельного коммунистически организованного общества».[489] Ежедневно после обеда Федор Михайлович заходил в русскую читальню и там просматривал множество русских и западных газет, доставлявших автору «Бесов» некоторые подробности нечаевской истории. Но присматриваться к теме о радикалах, нигилистах, революционерах Достоевский начал задолго до убийства строптивца из «Народной расправы». Возможно, великого писателя побудило к этому покушение Д. В. Каракозова, ишутинские «Организация» и «Ад». Слухи о следствии и процессе Каракозова (он был закрытым) широко распространились по столице. Достоевский был полон личных впечатлений и переживаний от покушения на цареубийство; он жил в этой атмосфере. Поэт и переводчик П. И. Вейнберг, посетивший 4 апреля 1866 года близкого друга Достоевского, поэта А. Н. Майкова, вспоминал: «На этот раз <…> мы мирно беседовали о чисто литературных, художественных вопросах, когда в комнату опрометью вбежал Федор Михайлович Достоевский. Он был страшно бледен, на нем лица не было и он весь трясся, как в лихорадке.
— В царя стреляли! — вскричал он, не здороваясь с нами, прерывающимся от сильного волнения голосом.
Мы вскочили с мест.
— Убили? — закричал Майков каким-то — это я хорошо помню — нечеловеческим голосом.
— Нет… спасли… благополучно… Но стреляли… стреляли… стреляли…
И повторяя это слово, Достоевский повалился на диван в почти истерическом припадке…
Мы дали ему немного успокоиться, — хотя и Майков был близок чуть не к обмороку — и втроем выбежали на улицу».[490]
Размышляя об истории создания «Бесов», П. Е. Щеголев писал: «Непосредственные и глубокие переживания даны Достоевскому несомненно процессом Каракозова».[491] Не следует забывать, что Федор Михайлович входил в кружок Петрашевского, видел в Спешневе предшественника Нечаева и уже к 1856 году принципиально изменил свои взгляды. Возможно, еще на каторге Достоевский задумал писать роман о революционерах. Сообщения, поступившие в Дрезден о драме, действующими лицами которой были однокашники шурина Федора Михайловича, легли на вполне подготовленную почву. В письме к Н. Н. Страхову от 24 марта 1870 года он сам признался в этом: «На вещь, которую я теперь пишу в «Русский вестник» («Бесы». — Ф. Л.), я сильно надеюсь, но не с художественной, а с тенденциозной стороны; хочется высказать несколько мыслей, хотя бы погибла при этом моя художественность. Но меня увлекает накопившееся в уме и в сердце; пусть выйдет хоть памфлет, но я выскажусь».[492] Трудно предположить, что о четырех месяцах, прошедших со дня убийства Иванова, или. точнее, о трех месяцах с начала публикаций его подробностей, Достоевский мог писать как о времени, в течение которого могло «накопиться в уме и в сердце», — так выражаются, подразумевая более длительный процесс.
Московские события потрясли Федора Михайловича. Его мать — в девичестве Нечаева, имя свое он получил в честь деда — Федора Тимофеевича Нечаева, быть может, писатель ощутил в этом некое знамение. И все же главнейшим толчком к написанию «Бесов» следует считать то, с чем Федор Михайлович столкнулся в среде петрашевцев — с элементами нечаевщины. Он ужаснулся, обнаружив, что «Народная расправа» есть реализация замыслов Спешнева, именно такое сообщество собирался он создавать. Вот, оказывается, к чему привело бы то, что начиналось с увлечения фурьеризмом.
19 сентября 1870 года Достоевский писал Каткову:
«Милостивый государь, многоуважаемый Михаил Никифорович,
Я работал все лето из всех сил и опять, оказывается, обманул Вас, то есть не прислал до сих пор ничего. Но мне все не удавалось. У меня до 15 печатных листов было написано, но я два раза переменял план (не мысль, а план) и два раза садился за перекройку и переделку сначала. Но теперь все установилось. Для меня этот роман слишком многое составляет.
Он будет в 30 листов и в трех больших частях. Через 2 недели по получении этого письма редакция «Русского вестника» получит два первых эпизода 1-й части, то есть половину ее, а к 15 ноября и всю 1-ю часть (от 10 до 12 листов). Затем уже доставка не замедлит».[493]
Обещание свое Достоевский не сдержал и 8 октября 1870 года отправил Каткову новое письмо:
«Если Вы решите печатать мое сочинение с будущего года, то мне кажется необходимо, чтоб я известил Вас предварительно, хотя бы в двух словах, об чем собственно будет идти дело в моем романе.
Одним из числа крупнейших происшествий моего рассказа будет известное в Москве убийство Нечаевым Иванова. Спешу оговориться: ни Нечаева, ни Иванова, ни обстоятельств того убийства я не знал и совсем не знаю, кроме как из газет. Да если б и знал, то не стал бы копировать. Я только беру совершившийся факт. Моя фантазия может в высшей степени разниться с бывшей действительностью, и мой Петр Верховенский может нисколько не походить на Нечаева; но мне кажется, что в пораженном уме моем создалось воображением то лицо, тот тип, который соответствует этому злодейству. Без сомнения, небесполезно выставить такого человека; но он один не соблазнил бы меня. По-моему, эти жалкие уродства не стоят литературы. К собственному моему удивлению, это лицо наполовину выходит у меня лицом комическим. И потому, несмотря на то, что все это происшествие занимает один из первых планов романа, оно, тем не менее, — только аксессуар и обстановка действий другого лица, которое действительно могло бы назваться главным лицом романа (Ставрогин. — Ф. Л.). <…> Мне очень долго не удавалось начало романа. Я переделывал несколько раз. Правда, у меня с этим романом происходило то, чего никогда еще не было: я по неделям останавливал работу с начала и писал с конца. Но и, кроме того, боюсь, что само начало могло бы быть живее. На 5 1/2 печатных листах (которые высылаю) я еще едва завязал интригу. Впрочем, интрига, действие будет расширяться и развиваться неожиданно. За дальнейший интерес романа ручаюсь. Мне показалось, что так будет лучше, как теперь».[494]
Далее в письме содержалась просьба о высылке аванса под рукопись романа, и просил Федор Михайлович всего 500 рублей. Многие письма гения к издателям снабжены этими унизительными мольбами о деньгах, необходимых ему для скромнейшего существования семьи. Относительно «комического лица» Петра Верховенского Достоевский в процессе работы над романом изменил свою точку зрения по мере поступления сведений о деяниях Нечаева.
На другой день после отправки письма Каткову Достоевский принялся за послание А. Н. Майкову: «<…> Работа, которую я затянул, есть только начато романа в «Русский вестник», и по крайней мере полгода еще буду писать его день и ночь, так что уж он мне заранее опротивел. Есть, разумеется, в нем кое-что, что тянет меня писать его; но вообще — нет ничего в свете для меня противнее литературной работы, то есть собственно писания романов и повестей — вот до чего я дошел. Что же касается до мысли романа, то ее объяснять не стоит. Хорошо рассказать в письме никак нельзя, это во-первых, а во-вторых, довольно будет с вас наказания, если вздумаете прочитать роман, когда напечатают. <…> Я вот как-то зимою прочел в «Голосе» серьезное признание в передовой статье, что «мы, дескать, радовались в Крымскую кампанию успехам оружия союзников и поражению наших». Нет, мой либерализм не доходил до этого; я был тогда еще в каторге и не радовался успеху союзников, а вместе с прочими товарищами моими, несчастненькими и солдатиками, ощутил себя русским, желал успеха оружию русскому и — хоть и оставался еще тогда все еще с сильной закваской шелудивого русского либерализма, проповедованного говнюками вроде букашки навозной Белинского и проч. — но не считал себя нелогичным, ощущая себя русским. Правда, факт показал нам тоже, что болезнь, обуявшая цивилизованных русских, была гораздо сильнее, чем мы сами воображали, и что Белинскими, Краевскими и проч. дело не кончилось. Но тут произошло то, о чем свидетельствует евангелист Лука: бесы сидели в человеке, и имя им было легион, и просили Его: повели нам войти в свиней, и Он позволил им. Бесы вошли в стадо свиней, и бросилось все стадо с крутизны в море и все потонуло. Когда же окрестные жители сбежались смотреть совершившееся, то увидели бывшего бесноватого — уже одетого и смыслящего и сидящего у ног Иисусовых, и видевшие рассказали им, как исцелился бесновавшийся. Точь-в-точь случилось так и у нас. Бесы вышли из русского человека и вошли в стадо свиней, то есть в Нечаевых, в Серно-Соловьевичей и проч. Те потонули или потонут наверно, а исцелившийся человек, из которого вышли бесы, сидит у ног Иисусовых. Так и должно было быть. Россия выблевала вон ту пакость, которою ее скормили, и, уж конечно, в этих выблеванных мерзавцах не осталось ничего русского. И заметьте себе, дорогой друг: кто теряет свой народ и народность, тот теряет и веру отеческую и Бога. Ну, если хотите знать, — вот эта-то и есть тема моего романа. Он называется «Бесы», и это описание того, как эти бесы вошли в стадо свиней».[495]
И Краевский, и Белинский сделали Федору Михайловичу много хорошего — помогли начинающему писателю встать на ноги. Письмо Майкову написано человеком, утомленным тягостными размышлениями и изнурительным трудом. Достоевский видел яснее и глубже других, видел то, что другие не замечали, страдал от того, что других оставляло равнодушным, мозг гения независимо от его желания предугадывал развитие событий на десятилетия вперед. Федор Михайлович ощущал увеличивающийся разрыв между собой и читателями, чувствовал, что люди не понимают очевидного, не в состоянии прислушаться к его голосу, видел совершаемые ими ошибки и не мог убедить поступать иначе. Он доводил описание ситуаций до гротеска и надеялся, что уж теперь-то не заметить очевидного невозможно, что его герои разрушат заблуждения читателей.
Не следует забывать, что в фабулу «Бесов» положены события, еще более драматические, чем описанные в романе. Первая часть и две главы второй части (чуть меньше половины) «Бесов» напечатаны в журнале «Русский вестник» до начала процесса над нечаевцами. Но в романе присутствует самое главное — сходство вымышленных бесов с их реальными прототипами и гениальное предвидение грозящей опасности. Приведу две важнейшие мысли писателя. Верховенский-отец: «Эти люди (революционеры. — Ф. Л.) представляют себе природу и человеческое общество иным, чем их сотворил Бог и чем они являются в действительности».[496] Верховенский-сын: «Я (революционер. — Ф. Л.) ведь мошенник, а не социалист, ха-ха!»[497] Самое главное, что удалось Достоевскому показать и на чем он настаивал, — нечаевщина не единичный случай, но политическое явление, страшная реальность, способная роковым образом повлиять на развитие России. Федор Михайлович опасался, что нечаевщина превратится в стойкую традицию российской жизни, и она превратилась…
Приведу несколько коротких отзывов о романе «Бесы».
П. Н. Ткачев: «В «Бесах» окончательно обнаруживается творческое банкротство автора «Бедных людей»; он начинает переписывать судебную хронику, путая и перевирая факты, и наивно воображает, будто он создает художественное произведение».[498]
Г. А. Лопатин: «Внешняя сторона совершенно совпадает с известными событиями. Это убийство Иванова в Петровско-Разумовском, пруд, грот и т. д. Ну, а внутренняя, психологическая, совпадает ли с действительной психологией действующих лиц? Я знал лично Нечаева, знал многих из его кружка и могу сказать: никакого, ни малейшего сходства».[499]
П. Л. Лавров: «<…> он показывает читателю целую галерею различного рода умалишенных».[500]
И. С. Тургенев: «А мне остается сожалеть, что он употребляет свой несомненный талант на удовлетворение таких нехороших чувств; видно он мало ценит его, коли унижается до памфлета».[501]
Л. Н. Толстой: «У Достоевского нападки на революционеров нехороши: он судит о них как-то по внешности, не входя в их настроение».[502]
Отрицательные отзывы о «Бесах» диктовались разными причинами — Тургенев узнал себя в Кармазинове и старшем Верховенском, Толстой всегда недолюбливал Достоевского; лица, причастные к революционному движению, возмутились гротескным изображением героев, и лишь немногие современники поняли и оценили роман.
Сам же Федор Михайлович писал о «Бесах»:
«Я хотел поставить вопрос и, сколько возможно яснее, в форме романа дать на него ответ: каким образом в нашем переходном и удивительном современном обществе возможны — не Нечаев, а Нечаевы, и каким образом может случиться, что Нечаевы набирают себе под конец нечаевцев?»[503] Повторяю, все без исключения левые радикалы, революционеры и близкие к ним лица не признавали существования нечаевшины как явления, они пытались всю нечаевскую историю свести к единичному эпизоду с единственным виновником — Нечаевым. Достоевский же знал нечаевщину изнутри. Питая антипатию к Петрашевскому, Федор Михайлович с годами все ближе и ближе ставил его к Нечаеву; возможно, эта личная антипатия помогла великому писателю разглядеть ростки нечаевщины в петрашевцах, в самом себе. Возражая оппонентам, Достоевский писал: «И почему вы полагаете, что Нечаевы непременно должны быть фанатиками? Весьма часто это просто мошенники. «Я мошенник, а не социалист», — говорит один Нечаев, положим, у меня в романе «Бесы», но уверяю вас, что он мог бы сказать это и наяву. Это мошенники очень хитрые и изучившие именно великодушную сторону души человеческой, всего чаше юной души, чтобы уметь играть на ней как на музыкальном инструменте. Да неужели же вы вправду думаете, что прозелиты (приверженцы. — Ф. Л.), которых мог бы набрать в нас какой-нибудь Нечаев, должны быть непременно лишь одни шалопая? Не верю, не все; я сам старый «нечаевец», я тоже стоял на эшафоте, приговоренный к смертной казни, и уверяю вас, что стоял в компании людей образованных. Почти вся эта компания кончила курс в самых высших учебных заведениях. Некоторые впоследствии, когда уже все прошло, заявили себя замечательными специальными знаниями, сочинениями. Нет-с, нечаевцы не всегда бывают из одних только лентяев, совсем ничему не учившихся.
Знаю, вы, без сомнения, возразите мне, что я вовсе не из нечаевцев, а всего только из петрашевцев. Пусть из петрашевцев (хотя, по-моему, название это неправильное; ибо чрезмерно большее число в сравнении с стоявшими на эшафоте, но совершенно таких же, как мы, петрашевцев, осталось совершенно нетронутым и необеспокоенным. Правда, они никогда и не знали Петрашевского, но совсем не в Петрашевском было и дело во всей этой давно прошедшей истории, вот что я хотел лишь заметить).
Но пусть из петрашевцев. Почему же вы знаете, что петрашевцы не могли бы стать нечаевцами, то есть стать на нечаевскую дорогу, в случае если б так обернулось дело? Конечно, тогда и представить нельзя было: как бы это могло так обернуться дело? Не те совсем были времена. Но позвольте мне про себя одно сказать: Нечаевым, вероятно, я бы не мог сделаться никогда, но нечаевцем не ручаюсь, может и мог бы… во дни моей юности».[504]
Достоевского упрекали в озлобленности на прогрессивную молодежь, в жестокости к персонажам романа «Бесы». Да, но он был жесток и к себе. Он пытался разобраться в явлении, в самом себе, в заблуждениях молодости. Он приносил покаяние за свои ошибки.
«Чудовищное и отвратительное московское убийство Иванова, — писал Достоевский, — безо всякого сомнения, представлено было убийцей Нечаевым своим жертвам «нечаевцам» как дело политическое и полезное для будущего «общего и великого дела». Иначе понять нельзя, как несколько юношей (кто бы они ни были) могли согласиться на такое мрачное преступление. Опять-таки в моем романе «Бесы» я попытался изобразить те многоразличные и разнообразные мотивы, по которым даже чистейшие сердцем и простодушнейшие люди могут быть привлечены к совершению такого же чудовищного злодейства. Вот в том-то и ужас, что у нас можно сделать самый пакостный и мерзкий поступок, не будучи вовсе никогда мерзавцем!»[505]
В первых числах января 1870 года Достоевский приступил к роману на злободневную тему об убийстве студентами Земледельческой академии своего однокашника. По мере работы и углубленных размышлений о случившемся роман менялся, под влиянием изменявшихся взглядов автора менялись герои. Достоевский работал над романом и сомневался — следует (следовало) ли ему писать этот роман, не навредит ли он, не прославит ли нечаевщину.[506] Не навредил, но и не принес ощутимой пользы — российское революционное движение пошло по пути нечаевщины, но и власти, боровшиеся с противоправительственными сообществами, также пошли по пути нечаевщины. Нечаевщина заразительна.
Раскрытию прототипов героев романа «Бесы» посвящены многочисленные исследования,[507] и мы не будем здесь заниматься их пересказом. Остановимся на судьбах нечаевцев, участвовавших в убийстве Иванова.
Одной из самых колоритных личностей среди нечаевцев следует признать Ивана Гавриловича Прыжова. Писатель и книговед С. Ф, Либрович вспоминал о нем:
«Это было в 1867 году. В книжный магазин М. О. Вольфа вошел невзрачной наружности человек, лет 40–45, одетый в рубище, и, показывая толстую, исписанную крупным почерком рукопись, обратился к М. О. Вольфу с вопросом:
— Не купите ли вы у меня вот эту «штуку» для издания?
Маврикий Осипович с удивлением посмотрел на странного «продавца рукописи» и, сомневаясь, чтоб этот оборванец мог быть автором ее, спросил, кому принадлежит рукопись.
— Это мой труд, — ответил посетитель. — Он заключает в себе историю кабаков в России.
Странная тема, равно как и странная личность заинтересовали М. О. Вольфа. Он принял рукопись для просмотра, обещал дать ответ через две недели и спросил у своеобразного писателя адрес.
— Адрес? — произнес загадочно тот. — Этого я указать не в состоянии. Сегодня я в ночлежке, а завтра, быть может, выгонят оттуда».[508]
Отец Прыжова — из крестьян, сорок три года прослужил писарем в московской Мариинской больнице для бедных, там же, в правом ее флигеле, 30 октября 1821 года родился Федор Михайлович Достоевский, обе семьи жили при больнице. «Последнего (Ф. М. Достоевского. — Ф. Л.) я помню немного, — писал Прыжов, — когда мне было лет шесть-семь. Итак, из Мариинской больницы суждено идти в Сибирь двоим, Достоевскому и мне».[509]
Жизнь Прыжова складывалась из вереницы мелких невзгод и катастрофических несчастий. Исключительно способный, но слабохарактерный юноша обратил на себя внимание университетских профессоров, но на словесный факультет Московского университета принят не был, учился на медицинском факультете, не окончил, поступил в Гражданскую палату экзекутором с нищенским жалованьем, занимался самообразованием, прирабатывая писанием статеек и очень хороших книг.[510] Сохранилась колоритная зарисовка о визите профессора Н. И. Стороженко к Прыжову на его службу:
«Придя довольно рано, Н. И. [Стороженко] узнал, что Прыжова еше нет; он сел, его поджидая. Через некоторое время внизу хлопнула дверь. Сидевшие в комнате подчиненные экзекутора, как по команде, поднялись с места, выстроились в два ряда, а один из них, подняв огромный гроссбух, вышел вперед к двери. Внезапно с шумом распахиваются двери присутствия, и в них появляется сам начальник в шубе, шапке и калошах. Предводитель поднимает горе (вверх. — Ф. Л.), наподобие диакона, гроссбух и густым басом провозглашает: «Экзекуторство твое да помянет Господь Бог во Царствии Своем всегда, ныне, присно и во веки веков». — «Аминь», — отвечает приветствуемый. — «Здорово, ребята!» — «Здравия желаем, ваше экзекуторство». Театральным жестом начальник сбрасывает шубу на руки курьера, подходит к столу, где уж были приготовлены графинчик и закуска, наливает рюмку, поднимает ее вверх и с тем же приветствием, которому хором по-прежнему отвечают подчиненные, выпивает и с величавым жестом оканчивает: «угощайтесь». И такая сцена повторяется изо дня в день».[511]
Служба экзекутора продолжалась недолго, в 1867 году Гражданскую палату закрыли. С горя Прыжов пытался утопиться в Патриаршем пруду, но его вытащили. По протекции поступил в частную железнодорожную контору, но не прижился. В «Народной расправе» сорокалетний Иван Гаврилович оказался случайно — не нашел в себе сил сопротивляться натиску Нечаева. Во время следствия по просьбе защитника К. К. Арсеньева Прыжов написал «Исповедь».[512] Приведу из нее извлечение:
«Перед арестом было у меня два обыска, — один нечаянный, сделанный полицмейстером Полем, другой перед самым арестом — и в оба раза ничего не нашли… Арестовали вечером. Добрый друг, не покидавший меня целую жизнь, была моя собака Лепорелло, старая и слепая, подарок доброго приятеля Виктора Касаткина, запутанного Кельсиевым и умершего изгнанником неизвестно за что в Женеве, (Что он погиб — не беда: люди будут, но жалко, что с ним погибла его добрая библиотека по истории России.) Лепорелло спал за печкой. Частный пристав вытащил его оттуда за шиворот и со всего размаха кинул его середь комнаты. Собака болезненно завыла и ушла; вой ее с тех пор преследовал меня день и ночь, а собаку я больше не видел: она без меня умерла. Взяли меня, не сказавши, куда ведут, без халата, без белья, без чаю…
Привезли в Сретенскую часть; в канцелярии вдруг, по знаку частного пристава, бросился на меня неизвестный человек в сюртуке, вероятно писарь и, приговаривая: «мы цырульники, делаем всякия операции», разорвал у меня застегнутую шубу и начал все рвать на мне и обыскивать… Больного, в жару, и совершенно мокрого от пота, меня заперли (в конце ноября) в мерзлой и никогда не топленный номер. Я звал частного, сказали нет — дома нет. Вместо постели черная лепешка, вся покрытая вшами; керосиновая лампа без стекла душит; я попросил вынести — нельзя; адски спертый воздух совершенно отравляла параша (судно), стоявшая в углу, но я умолил на другой день вынести ее и на свои деньги купил, вместо нея, кувшин. Скинув в угол лепешку с постели, я в шубе под утро уснул; пришел частный и закричал, чтоб топили… Трое суток, день и ночь, меня рвало и несло; давали опиум, но меня снова рвало; чувствуя, что вот задохнусь от керосинового чада и умру, я кое-как вырвался из части, убедив частного, что имею сообщить Слезкину важныя вещи, но в самом деле хотел объяснить, что умираю, но к ужасу моему, придя к Слезкину, совсем забыл, зачем пришел, и нес всякий вздор. В квартире генерала Слезкина тоже меня рвало и несло. На другой день (пятый) я уже был без памяти. Частный, несмотря на то, что при части есть доктор и даже жалованье получает, говорил: «это притворство». Гораздо умнее и последовательнее был один квартальный, который еще до времени моего беспамятства говорил жандарму: «ну, уж привезли человека, трое суток не спит, не жрет ничего; все его несет, и все-таки не поколел — вот так подлец!» Затем не помню ничего, кроме того, что была жена, что жандармский офицер, увидав меня, испугался и старался снять с меня галстук с шеи и очки, по я его гнал; затем ровно ничего не помню, пока не очнулся в острожской больнице».[513]
После выздоровления и первых допросов Прыжова отправили в Петербург и 6 марта 1870 года поместили в Екатерининскую куртину Петропавловской крепости,[514] 15 июля 1871 года ему объявили приговор, оказавшийся вторым по тяжести после Успенского, — 12 лет крепости и поселение в Сибири навечно. 21 декабря Прыжова, Кузнецова и Успенского рано утром отвезли на Конную площадь для церемонии публичного объявления приговора; их взвели на эшафот, приковали к позорным столбам, торжественно произнесли известный им приговор и продержали прикованными около часа. В архиве III отделения сохранилась записка, составленная по донесениям секретных агентов:
«Церемония публичного объявления приговора Успенскому, Прыжову и Кузнецову прошла совершенно спокойно. Народа было довольно много, но большею частью местные торговцы и чернорабочие.
Для обратного следования с площади преступников посадили в тюремный фургон, и тут из толпы отделилось человек 15 нигилистов, которые сопровождали преступников до замка (Литовский замок. — Ф. Л.). В числе сопровождавших была сестра Успенского, Надежда; ее несколько времени под руку вел Черкесов.
Непонятный беспорядок был в том, что фургон с тремя преступниками, тюремным сторожем и возницею тащила одна лошаденка, до того плохая, что она раз шесть останавливалась. Около Никольского рынка навстречу привели двух лошадей. Шествие снова остановилось, и стали было перепрягать, но служитель, который привел лошадей, был пьян и начал ссору с кучером фургона. Кончилось тем, что к фургону, не выпрягая первоначальной клячи, прицепили вторую».[515]
14 января 1872 года Прыжова отправили в Виленскую каторжную тюрьму, оттуда в Иркутск, там в остроге ему пришлось с Николаевым и Кузнецовым ожидать дальнейших распоряжений властей. Из Иркутска Прыжова отвезли в Забайкальскую область на Петровский железоделательный завод, в 1881 году он вышел на поселение, жил мелкими литературными заработками и помощью брата.[516] Во всех странствиях его добровольно сопровождала самоотверженная жена О. Г. Мартос. Прыжову она была единственным верным другом и самым родным человеком, постоянной поддержкой и опорой. Ольга Григорьевна скончалась поздней осенью 1884 года, а 27 июля 1885 года умер Иван Гаврилович.
Оставшиеся после него бумаги и книги попали к соседу, дальнейшая их судьба неизвестна.[517]
Приведу заключительную часть короткого последнего слова, произнесенного Иваном Гавриловичем в тишине замершего от волнения зала судебных заседаний:
«Наконец, что касается всей моей жизни, которая и привела меня сюда на суд, то в моем прошедшем, как я сказал уже, была разрушена почти вся будущность. Виною этому не я, виною этому — самые сложные обстоятельства, раскрыть которые, милостивые государи, не нам, а нашим потомкам. <…,> Вы извините меня, почтенные судьи, если я позволю себе произнести здесь слова величайшего германского поэта Гёте, которые как будто прямо относятся к настоящему, крайне прискорбному для всех делу:
Жертвы валяются здесь Не телячьи, не бычьи, Но неслыханные жертвы — человечьи».[518]Вскоре после ареста Алексея Кирилловича Кузнецова его из III отделения перевели в Екатерининскую куртину Петропавловской крепости,[519] но затем отвезли в Москву на дознание: всех участников убийства на первой стадии допрашивали помощники генерала Слезкина. 4 марта 1870 года Кузнецова привезли обратно в Петербург.[520] После суда и объявления приговора его вместе с Прыжовым и Николаевым отправили в Виленскую крепость, оттуда они с партией уголовников двинулись в Иркутск.
В феврале 1926 года Алексей Кириллович написал автобиографию, содержащую много интересного для понимания отношения нечаевцев к Нечаеву.
«Решая вопрос о личности Нечаева в полном объеме, — вспоминал восьмидесятилетний Кузнецов, — нужно принять во внимание, что мы, вступившие в нечаевскую организацию, были шестидесятники с большим уклоном в область социалистических мечтаний, альтруистических побуждений и с беззаветной верой в честность учащейся молодежи».[521] Они очень верили и доверяли Нечаеву, они не могли вообразить, что их может обмануть свой, товарищ… «Привычно он, ночуя у нас, — вспоминал Кузнецов, — спал на голых досках, довольствовался куском хлеба и стаканом молока, отдавая работе все свое время. Такие мелочи на нас, живших в хороших условиях, производили неотразимое впечатление и вызывали удивление. Но главный секрет его огромного влияния на нас, студентов Академии, заключался в том, что почва для его проповедей была подготовлена. Академия имела при своем основании устав, отличавшийся такими свободами, какие не имело ни одно высшее учебное заведение. Мы имели кроме официальной библиотеки свою нелегальную, кроме дозволенной кассы — свою нелегальную; мы получали почти все подпольные и заграничные издания. Каждое лето, во время каникул, по уставу Академии, мы разъезжались на практику в образцовые имения разных губерний, принадлежавших богатым землевладельцам, которые еще недавно были крепостными. Здесь мы знакомились с рабочими, с их положением; знакомились с крестьянами соседних деревень. Осенью по приезде в Академию мы собирались, и каждый делал сообщение о своих наблюдениях. Всегда положение рабочих и крестьян рисовалось в самых мрачных красках, и выявлялось недовольство крестьян реформой 1861 года. Часто шли беседы, как помочь народу выйти из ужасного положения, и никогда мы не додумывались дальше фаланстеров Фурье и полумер Сен-Симона. <…> Лишь на суде я понял, что управление обществом создано было Нечаевым на лжи. Идя в партии в Сибирь на каторгу с Прыжовым, Николаевым, я из интимных разговоров о Нечаеве пришел к твердому убеждению, что для совершения террористического акта над Ивановым не было никаких серьезных оснований, что этот акт нужен был Нечаеву для того, чтоб крепче спаять нас кровно».[522]
Как же удивился Достоевский, услышав от Сниткина рассказ об увлечениях слушателей академии все тем же фурьеризмом; какие параллели с петрашевцами выстроились в голове писателя, когда появились сообщения о «Народной расправе», составившейся из спешневских пятерок. Фурьеризм перевоплотился в нечаевщину… Вот оно, нереализованное развитие кружков петрашевцев со всеми светлыми идеями, светлыми ли…
Знакомство слабообразованных молодых людей с социалистическими учениями уводило их в мир несбыточных грез, увлекало утопиями, многим тогда представлявшимися вполне реальными. Казалось, что эти учения, воплощенные в жизнь, помогут народу вырваться из рабства и нищеты. Понимание несбыточности соблазнительных философских построений у одних наступает постепенно, с приобретением знаний и жизненным опытом, другие, соприкоснувшись с реальной жизнью, при попытке ее переделать терпят поражение и, обжегшись, мгновенно трезвеют, часто делаются лютыми врагами тех идей, которые до того яростно пропагандировали. Но существует и третья категория поклонников утопий — увы, невзирая ни на какие уговоры, увещевания и строго аргументированные возражения, с завидным упорством продолжают они попытки построения того, что никогда, нигде и никем не может быть реализовано.
Из Иркутска Кузнецова и Николаева отправили на Кару.[523] До 1878 года Алексей Кириллович находился в «вольной команде» при Мужской Карийской тюрьме, затем ему разрешили переехать в Нерчинск, а в 1889 году — в Читу. В Нерчинске и Чите Кузнецов участвовал в геологических экспедициях, создавал музеи, составлял гербарии, занимался организацией сельскохозяйственных выставок и Забайкальского отделения Русского географического общества.
Бывший народоволец М. М. Чернавский записал рассказ Кузнецова о «Народной расправе» и ее вожде. В нем и негодование, и преклонение, и досада. «Нечаев беспримерною силою воли, страстной энергией, своим революционным фанатизмом покорил нас всех, можно сказать — гипнотизировал… он из нас просто веревки вил!»[524]
Знакомство с Нечаевым разрушило планы Кузнецова. Ему оставалось совсем немного до окончания Петровской академии. Он мечтал о кафедре, а пошел на каторгу. Ссыльные запомнили Алексея Кирилловича как самого старого по возрасту и самого молодого по духу из всей читинской колонии политических ссыльнопоселенцев. Он был общителен, отзывчив и неутомимо деятелен. Бывший нечаевец организовал театральный кружок, в котором взял на себя труд режиссера, гримера, администратора и актера. За зиму давалось до десяти спектаклей. Кузнецов — один из основателей «Общества попечения о начальном образовании». Одновременно с ссыльнопоселенцами из бывших народников старейший нечаевец в 1904 году вступил в партию социалистов-революционеров. После опубликования Манифеста 17 октября 1905 года он принял участие в противоправительственных выступлениях: председательствовал на митингах, произносил речи, редактировал резолюции. На подавление беспорядков в Забайкалье двинулись две карательные экспедиции, 21 января 1906 года в Читу прибыл поезд генерала П. К. Ренненкампфа, началась расправа. Одним из первых в руках карателей оказался Алексей Кириллович.
«Поселившись на далекой окраине, — писал присяжный поверенный, будущий министр юстиции Временного правительства П. Н. Переверзев, — лишенный всех прав, после долгих лет каторги, А. К. (Кузнецов) не заперся в свою скорлупу и не ограничил своей жизни интересами близких и родных ему лиц. Огромный темперамент общественного деятеля, ясный и глубокий ум и кристальная чистота прекрасной души сделали его, может быть, вначале и помимо его воли, одной из важнейших фигур Забайкалья. Занимаясь изучением края, А. К., между прочим, собрал большой интереснейший материал о жизни и деятельности в Забайкалье лекабристов и составил заметки старожила за 35 лет своего пребывания в крае. К сожалению, эти ценные материалы попали в руки ренненкампфовских офицеров и навеки исчезли для культурного мира».[525] В 1905 году Кузнецов подал в Комитет министров записку о нуждах земледелия в Забайкалье и злоупотреблениях чиновников, чем нажил себе смертельных врагов. Ренненкампфу донесли, что Кузнецов — один из организаторов беспорядков, и скорый военно-полевой суд приговорил нечаевца к смертной казни через повешение. Благодаря ходатайству Русского географического общества казнь заменили бессрочной каторгой. Каторгу Кузнецов отбывал в Акатуе, летом 1908 года его отправили на поселение в Якутскую область, лишь в конце августа 1913 года он возвратился в Читу. Предпоследний нечаевец, А. К. Кузнецов скончался в Москве 12 ноября 1928 года.
Из всех участников «Народной расправы» судьба Петра Гавриловича Успенского оказалась самой трагичной. После обыска Слезкин обнаружил, что Успенский — одна из центральных фигур случайно раскрытой им подпольной организации. Уже 15 января 1870 года он оказался в Трубецком бастионе Петропавловской крепости.[526] Гражданская казнь состоялась 21 декабря 1871 года. «Как сейчас вижу перед собой, — вспоминал народник И. Е. Деникер, — и массы народа, и приближение колесницы с тремя столбами и привязанными к ним, спинами к лошадям, «государственными преступниками», и тот момент, когда поп подавал целовать крест, к которому Успенский и Кузнецов приложились, а Прыжов махнул на него рукою и, подобравши цепи, взошел первый на эшафот. <…> С полчаса стояли они у столба и все глядели по направлению восходящего солнца, которое наконец выглянуло из-за сереньких облаков и осветило печальную картину. <…> Когда трех мучеников свели с эшафота и посадили в карету, толпа молодежи бросилась пожимать им руки и затем бежала за каретой, все кланяясь и махая шапками, пока, наконец, не были оттиснуты крупами жандармских лошадей от кареты».[527] Молодежь пришла на Конную площадь прощаться с жертвами обмана, а не поклониться убийцам, их жалели, после вынесения приговора к ним относились как к мученикам.
Через три недели, 10 января 1872 года, Успенский с этапом вышел в Оренбург, откуда 8 июля 1872 года[528] был отправлен дальше, 19 июля за ним проследовала А. И. Успенская,[529] 31 июля Петр Гаврилович прибыл в Тобольск и 22 августа — в Иркутск,[530] оттуда попал в Александровский завод Нерчинских рудников, а Александра Ивановна 23 сентября добралась до Иркутска.[531] Успенская ехала за мужем с разрешения Министерства внутренних дел, ей было позволено проживать в Восточной Сибири и там «практиковать акушерство». В Александровском заводе местные власти отказали ей во встрече с мужем.[532]
Весной 1875 года Успенского, а с ним и Ишутина перевели на Кару. Именно тогда власти решили превратить Кару в центр Нерчинской каторги. В это время там находилось около двухсот участников Варшавского восстания 1863 года. Сохранилось письмо Успенского к А. А. Черкесову, отправленное сразу же по прибытии на Кару: «Что касается до настоящего времени, теперь в каторге из русских политических только двое: я и мой сожитель Ишутин. Он уже несколько лет как расстроен психически, но его помешательство тихое. Ему вышел давно срок так называемого испытания, если не считать даже Манифестов, но его почему-то держат, может быть потому именно, что он человек больной. Теперешняя наша обстановка действует на него убийственно, и я боюсь, что он недолго выдержит эту жизнь, между тем как на свободе, я уверен, он мог бы поправиться».[533]
Соседство с Ишутиным, тяжкие бытовые условия, противозаконный запрет свидания с женой пагубно повлияли на психику Успенского. В ноябре 1875 года в III отделение поступило письмо генерал-губернатора Восточной Сибири:
«Военный Губернатор Забайкальской области от 30 минувшего октября за № 4340 доносит мне, что 21 числа того же октября, около 3 часов пополудни, содержащийся в Нижне-Карийской тюрьме, государственный преступник Петр Успенский посягнул на самоубийство, через повешение на поясном ремне; но совершившееся повешение вовремя усмотрено и Успенский вынут из петли смотрителем тюрьмы и тотчас же приведен в чувство. По осмотре Успенского врачом, прибывшим через час после происшествия, оказалось, что общее состояние здоровья его удовлетворительное и, кроме успокоительных средств, серьезных медицинских пособий не требовалось.
Причина, побудившая Успенского на самоубийство, как следует заключить из его слов, безнадежность положения относительно облегчения его участи, упадок душевных сил и тоска по семье.
При этом Генерал-Майор Пашенко присовокупил, что разрешенное мною перечисление Успенского из ряда испытуемых в разряд исправляющихся должно было произойти в день покушения его на жизнь, но не было еще объявлено ему до происшествия».[534]
Лишь 4 июля 1877 года Успенскому разрешили первое свидание с женой.[535] В 1879 году Петра Гавриловича выпустили из тюрьмы в «вольную команду». «С начальством он не Фрондировал, — вспоминал об Успенском кариец Н. А. Чарушин, — он держался от него в стороне, не желая ставить себя в ложное положение. Когда мы приехали на Кару, он жил со своей семьей (жена и сын) в собственном доме, состоявшем из нескольких комнат, и зарабатывал себе пропитание уроками, организовав в своем доме нечто вроде небольшой частной школы, где учились дети карийских служащих. <…> А. И. Успенская уже давно служила фельдшерицей в местном лазарете и благодаря своим знаниям, добросовестному отношению к своим обязанностям пользовалась любовью и уважением <…>.[536] Но их совместная жизнь продолжалась недолго. По распоряжению сердобольного министра внутренних дел, изобретателя «диктатуры сердца» графа М. Т. Лорис-Меликова 1 января 1881 года вольную команду ликвидировали.[537]
На Карийской каторге заключенные и ссыльные находились в ужаснейших условиях. В. Г. Короленко писал об этом времени: «К тяжелому режиму присоединились внутренние раздоры и дрязги среди самих заключенных. Я не знаю этого точно, но то, что рассказывали заключенные, рисует это время самыми мрачными красками. Говорили даже об убийстве в своей собственной среде».[538]
Короленко слышал от очевидцев сущую правду, и речь шла об Успенском.
По возвращении в тюрьму Успенский оказался в коммуне, состоявшей из сокамерников. Один из них, И. Ф. Волошенко, постоянно раздражал «гордого и замкнутого» Петра Гавриловича своей нарочитой нечистоплотностью. Однажды Успенский вспылил и отказался от участия в коммуне, чем вызвал неодобрение товарищей. Ссора с Волошенко переросла в подозрение, а затем и в обвинение Успенского в доносе начальству о готовившемся побеге.[539] Утром 27 декабря 1881 года его нашли повешенным. Политические заключенные А. М. Баламез, И. К. Иванов и Ф. Н. Юрковский устроили ему самосуд.[540] Подробности этой драматической истории до сих пор неизвестны — все ее участники и свидетели дали слово держать случившееся в строжайшей тайне. Именно поэтому В. Г. Короленко ничего не удалось узнать. Бывший народник, многолетний кариец С. П. Богданов писал в 1927 году:
«Обвинение Успенского в шпионстве и убийство его было диким, несуразным явлением в нашей тюремной жизни. Решительно никаких оснований не было не только для обвинения, а даже для подозрения. Это могло прийти в голову только психически больному человеку, которым и был Игнат Иванов».[541] Политические каторжане организовали товарищеский суд, после тщательного разбирательства невиновность П. Г. Успенского была установлена.[542]
Страшная смерть Петра Гавриловича мистически напоминает убийство И. И. Иванова. И тот и другой пали от рук товарищей, подозревавших их в предательстве.
Бывшие нечаевцы смогли найти в себе силы бороться против зла в себе, изгнать из себя бесов. Среди бывших членов «Народной расправы», включая участников убийства Иванова, были люди честные, добрые и трогательно доверчивые. Дальнейшая их жизнь подтверждает справедливость горестного утверждения Ф. М. Достоевского о существовании определенных условий, в которых преступления совершаются «вовсе не мерзавцами».[543]
Известный публицист, присяжный поверенный К. К. Арсеньев, защищавший И. Г. Прыжова на «Процессе нечаевцев», писал вскоре после его окончания, что «молодые умы, не охлажденные опытом жизни, не знакомые еще ни с твердостью основ, на которых держится государственное и общественное устройство, ни с важностью и многочисленностью условий, которые должны быть приняты в расчет при всяком преобразовании этого устройства, — всегда расположены к движению, к переменам. Наиболее пылкие из них верят в возможность устранить за один раз все то, что кажется им несовершенным, и создать не только новый порядок, но и новых людей, ему соответствующих. Мысль о борьбе, об опасности скорее воодушевляет, нежели устрашает юношей, в глазах которых все выходящее из серой обыденной жизни имеет романтическую прелесть. В государствах, не привыкших еще к умственной свободе, такое настроение умов кажется чем-то безусловно несовместимым с общественным спокойствием и вызывает целый ряд строгих мер, основанных на недоверии к молодежи. История показывает нам, между тем, что по мере уменьшения этого недоверия наклонность к беспорядкам не усиливается, а ослабевает».[544]
Недоверие российских властей к молодым людям породило необоснованные, вредоносные репрессии, несправедливое унизительно-подозрительное отношение ко всему студенчеству, хотя в разряд неблагонадежных попало всего около десяти процентов учащихся высших учебных заведений. Разрешению открытия библиотек и кухмистерских, касс взаимопомощи и землячеств правительство предпочло борьбу со своим будущим, с не окрепшими, но энергичными натурами, отвергло их и тем самым толкнуло в объятия Нечаевых, ткачевых, бакуниных и им подобных. Во всей нечаевской истории был один лишь бес — Сергей Геннадиевич Нечаев. Дальнейшие судьбы ее участников безусловно подтверждают это. На их беду встретился он им, втянул в свою страшную орбиту и закрутил. Когда его не стало, им без труда удалось обрести самих себя. Но как же опасен даже один бес…
ВТОРАЯ ЭМИГРАЦИЯ
От Вержболова до Женевы Александровская и Нечаев добирались около недели. Перед отъездом из России Сергей известил Огарева о скорой встрече. Николай Платонович поспешил сообщить радостную новость Бакунину в Локарно и в Париж Герцену. «То, что ты пишешь о Бое (Нечаеве. — Ф. Л.), — ответил Бакунин, — меня чрезвычайно порадовало. Теперь я начинаю верить, что он уцелел. Но как я его увижу? Впрочем, он молодец, захочет, так прийдет пешком, а у меня для него постель и стол всегда готовы».[545] Герцен продолжал негодовать по поводу пропагандистской кампании триумвирата, и своего прежнего отношения к Нечаеву не переменил.[546]
Появившись в Женеве, творец «Народной расправы» принялся допекать Огарева просьбами организовать встречу с Герценом и потребовать от него вторую половину бахметевских денег. Огарев обратился к Герцену и получил от него следующий ответ:
«1-е. Юношу (Нечаева. — Ф. Л.) видеть моту и мужеству его отдаю полную справедливость, но деятельность его и двух старцев (Огарева и Бакунина. — Ф. Л.) считаю положительно вредной и несвоевременной. Всякий день вижу русских — слушаю, вслушиваюсь и убеждаюсь больше и больше в том.
2-е. На каком основании ты думаешь отклонить от назначения фонд — не знаю? Твое «приготовь сколько хочешь» меня сконфузило; что же за мера в «сколько хочешь», а потому я буду ждать от тебя приказа в цифрах. И вышлю его для того, что ты того желаешь».[547]
Александру Ивановичу оставалось жить чуть больше недели, его терзала смертельная болезнь, сил на сопротивление домогательствам не оставалось. Ни с кем из триумвирата Герцен более не встретился и деньгами распорядиться не успел.
Сергею требовалась хотя бы видимость добрых отношений с Александром Ивановичем, бесспорным нравственным авторитетом российского и не только российского освободительного движения, паролем любого из враждующих кланов; а жить в Швейцарии и не дружить с Герценом означало бросить на самого себя тень. Что может быть хуже… Если не получить деньги, то опять зависимость от надоедливых стариков. Сидение в их лагере предопределяло полную изоляцию от молодых эмигрантов… В конце концов кто-нибудь приедет из России и все расскажет. Что тогда? Восстание, всенародный бунт, о котором он так мечтал, так опрометчиво на него рассчитывал и еще осенью 1869 года был в нем непоколебимо уверен, его «социальная революция» 19 февраля 1870 года не состоится. Можно бы назначить новый срок, да с кем ее делать, революцию?
Хотя аресты и обыски, начавшиеся с Успенского, производились Слезкиным вне связи с убийством Иванова, последствия московской драмы обернулись для руководителя «Народной расправы» катастрофой — в несколько дней развалилось конспиративное сообщество, которое он так старательно создавал. Нечаев понимал, что кто-нибудь из задержанных непременно признается в убийстве и тогда на возвращение в Россию, по крайней мере в ближайшие годы, нечего и надеяться. Что же касается планов, кроме самого Нечаева, их никто никогда не знал. О его планах приходится судить лишь по результатам действий, поэтому мы можем быть твердо уверены, что по приезде в Женеву он полагал завладеть остатком бахметевского фонда, внедриться в среду молодых эмигрантов, попытаться объединить под своим началом всю русскую эмиграцию в Европе, возобновить пропагандистскую кампанию, полностью заглохшую в его отсутствие. Сергей решил издавать не только прокламации и брошюры типа «Народной расправы», но и возобновить регулярный выпуск «Колокола», солидной общеизвестной герценовской газеты, соединить свое имя с Искандером, что могло, как ему казалось, возвысить его над всеми соперниками за главенство в революционном движении и тогда хоть как-то компенсировать несостоявшуюся дружбу.
Нечаев знал, что в России абсолютное большинство членов «Народной расправы» арестовано, многие, кому можно было отправить листовки, находились в тюрьмах. И тем не менее еще до отъезда Александровской он выпустил совместно с Бакуниным и Огаревым три прокламации, обнаруженные жандармами при обыске попутчицы в Вержболове 11 января 1870 года.
«К русскому мещанству», 1870, январь. Содержит призыв от имени мещанской организации объединиться с крестьянами для свержения самодержавия. Подпись: «Дума всех вольных мещан».
«К русскому купечеству», 1870, январь. Содержит призыв от имени купеческой организации помочь народу в борьбе за освобождение. Подпись: «Контора компании вольных русских купцов. Москва, 1870».
«Благородное русское дворянство!», 1870, январь. Содержит призыв от имени дворянской организации объединиться для завоевания власти, предупредив таким образом бунт. Подпись: «Потомки Рюрика и Партия российского независимого дворянства».[548]
Все три прокламации напечатаны в женевской типографии Л. Чернецкого. Исследователи приписывают их появление инициативе Нечаева, его соавторство бесспорно. В основе третьей прокламации лежит текст бакунинского воззвания «Русское дворянство», впервые напечатанного в 1869 году.[549] Все прокламации выпушены от имени несуществующих сообществ. В 1869 году Огарев не шел на это. На сей раз совестливого Николая Платоновича не смутило участие в явной фальсификации. Произошло окончательное его удаление от Герцена, полное разрушение духовной связи со старым другом. Более того, если в 1869 году Огарев в составе дружного триумвирата не принял на себя ведущей роли, то в январе 1870 года он занял несвойственную ему весьма активную позицию. Б. П. Козьмин утверждает, что идея обращения к различным группам русского общества от лица мифических комитетов принадлежит Николаю Платоновичу.[550] Анализ выпушенных триумвиратом прокламаций наводит на грустные размышления. Мог ли Огарев не понимать, во что он ввязался? Мог ли он не видеть, что таких взаимно исключающих воззваний выпускать нельзя? Прежний Огарев, ближайший друг Герцена, никогда не пошел бы на это. Но прежнего Огарева давно уже не было.
Одновременно с работой над прокламациями Нечаев приступил к подготовке издания второго (последнего) выпуска «Народной расправы»,[551] ему не терпелось напомнить о себе покинутой им России. Этот выпуск целиком принадлежит перу Нечаева и состоит из трех разделов.[552] Первый раздел, не имеющий заголовка, содержит исключительную, из ряда вон выходящую ложь о Нечаеве и нечаевцах, о московских событиях осени 1869 года, мотивах убийства Иванова, подробностях арестов, реальные события, растворенные в небылицах. Второй раздел «Кто не за нас, тот против нас» посвящен объяснению необходимости скорейшего разрушения монархического управления Россией. В третьем разделе «Главные основы будущего общественного строя» излагается план замены в России одной власти на другую. Приведу из него извлечения:
«В основе всего лежит Труд, и так как истинное счастье и благо каждого зависит от счастья и блага всех, довольство каждого от довольства всех, так как общее благо возможно только там. где каждый, посвящая труду все свои силы, отдает все произведения своего труда в общую сокровищницу, из которой взамен получает все, чем обусловливается его благосостояние, то все силы и произведения этих сил по справедливости должны считаться общественным достоянием и следовательно в основу будущего строя ложится также общность имущества».[553]
Нечаев заранее отыскал себе и себе подобным место распределяющего из всеобщего Всероссийского котла, содержащего «общность имущества». Пора обратить внимание на любопытную закономерность: идеи «общности имущества» и его «справедливого» распределения рождаются в головах именно тех, кто сам ничего никогда не производил и производить не умел, не хотел и не собирался.
«В течение известного числа дней, — пишет далее Нечаев, — назначенных для переворота, и неизбежно последующей за ним сумятицы, каждый индивидуум должен примкнуть к той или иной рабочей артели по собственному выбору, руководствуясь соображением со своими силами и способностями. Все оставшиеся отдельно и не примкнувшие к рабочим группам без уважительных причин не имеют права доступа ни в общественные столовые, ни в общественные спальни, ни в какие-либо другие здания, предназначенные для удовлетворения разных потребностей работников-братьев, или заключающие в себе продукты и материалы, запасы и орудия, предназначенные для всех членов установившегося рабочего общества; одним словом, не примкнувшая без уважительных причин в артели личность остается без средств к существованию.
Для нее закрыты будут все дороги, все средства сообщения, останется только один выход, или к труду, или к смерти».[554]
Задумывался ли наш теоретик, в какую артель записать Достоевского, Толстого, Тургенева, Лескова, Салтыкова-Щедрина? Вульгарные социалистические идеи требовались ему как средство для завоевания личной власти. Подвернись Нечаеву другие идеи, он принял бы их, лишь бы они взнесли его вверх, да повыше.
Пока Огарев из Женевы терзал умиравшего в Париже Герцена, требуя «без рассуждений» выслать остаток бахметевских денег, Нечаев, выпроводив Александровскую в Россию, укатил в Локарно для свидания с Бакуниным. Михаил Александрович переселился туда в октябре 1869 года. В Локарно обосновались его друзья и последователи из итальянских политических эмигрантов, жизнь там обходилась много дешевле, чем в Женеве. Постоянно нуждавшееся семейство Бакуниных сняло квартиру за 15 франков в месяц,[555] что позволило Михаилу Александровичу хоть на короткое время перевести дух.
Основатель «Народной расправы» рассказал старому революционеру о положении дел в ненавистной империи и «близости необходимого восстания».[556] По мнению Нечаева, Бакунину следовало немедленно прекратить разнообразные занятия интернациональным революционным движением и полностью посвятить себя интересам России. В Локарно Михаил Александрович погрузился в проблемы итальянского освободительного движения, борьбу между революционными группировками, лигами и братствами, созданными им же самим. Но кроме всего этого на Бакунине висело опрометчиво взятое им обязательство по переводу первого тома «Капитала» К. Маркса.
Дело в том, что М. Ф. Негрескул, побывавший весной 1869 года в Женеве, решил помочь Бакунину поправить его трудное финансовое положение. Не имея собственных средств, Негрескул обратился за помощью к студенту Гейдельбергского университета Н. Н. Любавину. Оба они в 1867 году входили в кружок Г. А. Лопатина и еще тогда обсуждали с петербургским издателем Н. П. Поляковым возможность перевода «Капитала» на русский язык. Любавин написал Полякову и получил от него поручение договориться с Бакуниным о выполнении этой работы на следующих условиях: 1200 рублей за перевод первого тома «Капитала», из них 300 рублей — аванс, выплачиваемый немедленно.
Бакунин без колебаний согласился на все условия, получил деньги, необходимые для работы книги и принялся за перевод, дававший семье год безбедного существования.[557] Но работа продвигалась мучительно, Бакунин неприязненно относился к автору и его труду. Положение, в которое он сам себя загнал, тяготило его и раздражало. Новоявленный переводчик не умел, не приучил себя методично работать. Н. И. Утин утверждал, что Бакунин «не способен ни к какой выдержанной работе, что, увлекаясь, как тщеславный старый ребенок, он бросается с одного на другое».[558] Написано зло, но, увы, справедливо: Утин изучил Бакунина в тонкостях, они превосходно знали друг-друга и многие годы люто враждовали.
Нечаев необыкновенно легко уговорил несчастного переводчика прекратить зарабатывать деньги столь непривычным трудом. Он пообещал Бакунину от имени Комитета средства для существования, которые вот-вот поступят из России, и Михаил Александрович поручил Сергею уладить надоевшее дело. Возможно, должник не подозревал, каким способом его молодой друг предполагал выполнить щекотливое поручение. 13 февраля 1870 года Нечаев отправил в Германию следующее письмо:
«БЮРО ИНОСТРАННЫХ АГЕНТОВ
РУССКОГО РЕВОЛЮЦИОННОГО ОБЩЕСТВА
«НАРОДНАЯ РАСПРАВА».
Русскому студенту Любавину, живущему в Гейдельберге.
Милостивый Государь!
По поручению Бюро я имею честь написать вам следующее:
Мы получили из России от Комитета бумагу, касающуюся, между прочим, и вас. Вот места, которые к вам относятся:
«До ведения Комитета дошло, что некоторые из живущих за границей русских баричей, либеральных дилетантов, начинают эксплуатировать силы и знания людей известного направления, пользуясь их стесненным экономическим положением. Дорогие личности, обремененные черной работой от дилетантов-кулаков, лишаются возможности работать для освобождения человечества. Между прочим, некий Любавин (Heidelberg bie Wittwe Wald Sandgasse, 16) завербовал известного Бакунина для работы над переводом книги Маркса, и как истинный кулак-буржуа, пользуясь его финансовой безвыходностью, дал ему задаток и в силу оного взял обязательство не оставлять работу до окончания. Таким образом, по милости этого барича Любавина, радеющего о русском просвещении чужими руками, Бакунин лишен возможности принять участие в настоящем горячем русском народном деле, где участие его незаменимо… Насколько такое отношение Любавина и ему подобных к делу народной свободы и его работников отвратительно, буржуазно и безнравственно, и как мало оно разнится от полицейских штук — очевидно для всякого немерзавца…»
Комитет предписывает заграничному Бюро объявить Любавину:
1) что если он и ему подобные тунеядцы считают перевод Маркса в данное время полезным для России, то пусть посвящают на оный свои собственные силенки, вместо того чтобы изучать химию и готовить себе жирное казенное профессорское место,
2) чтоб он (Любавин) немедленно уведомил Бакунина, что освобождает его от всякого нравственного обязательства продолжать переводы, вследствие требования русского революционного Комитета.
Далее идут пункты, которые сообщать вам мы считаем преждевременным, отчасти рассчитывая на вашу прозорливость и предусмотрительность,
Итак, М[илостивый] Г[осударь], вполне уверенные что вы, понимая с кем имеете дело, будете так обязательны, что избавите нас от печальной необходимости обращаться к вам вторично путем менее цивилизованным. Мы предлагаем вам:
1) Тотчас по получении сего послания, телеграфировать Б[акуни]ну о том, что вы снимаете с него нравственную обязанность продолжения перевода.
2) Тотчас же послать к нему подробное письмо с приложением сего документа и конверта, в котором он получен.
3) Тотчас послать письмо к ближайшим нашим агентам (хотя на известный вам женевский адрес), в котором известить что предложение Бюро за № таким-то вами получено и выполнено.
Строго аккуратные по отношению к другим, мы рассчитываем в который день вы получите это письмо; предлагаем в свою очередь и вам быть не менее аккуратным и не замедлить выполнением, чтобы не заставить прибегать к мерам экстренным и потому немного шероховатым.
Смеем уверить вас, м[илостивый] г[осударь], что наше внимание к вам и вашим поступкам с этого времени будет несравненно более правильным. И от вас самих зависит, чтоб дружественные отношения наши росли и крепли, а не обращались в неприязненные».[559]
Любавин не испугался угроз Комитета и отправил переводчику «Капитала» резкий протест. Вместо того чтобы разобраться в случившемся, Бакунин встал в позу невинно оскорбленного и под предлогом допущенных Любавиным грубостей отказался от продолжения работы. Тогда Любавин потребовал от него расписку в получении аванса. Бакунин написал обязательство при случае возвратить деньги, что, впрочем, не выполнил, и поручил Нечаеву отправить документ в Гейдельберг, Нечаев же оставил его у себя.[560] В скандал оказались втянутыми многие, в их числе Маркс, Утин и Лопатин, а ведь речь шла не о бульварном романе.
Московский заговорщик пробыл в Локарно не более двух недель и возвратился в Женеву. Вскоре зуда приехал сын А. И. Герцена Александр и передал Огареву вторую половину бахметевского фонда.[561] Этими деньгами Герцен имел право распоряжаться по своему усмотрению. Александр Иванович намеревался употребить их на поправление дел типографии Чернецкого, безотказно служившей вольной русской прессе. Но наследники Герцена и его ближайшие друзья, посоветовавшись, решили не сопротивляться домогательствам триумвирата. Они помнили об огорчениях, пережитых А. И. Герценом из-за бахметевских денег, абсолютно незаслуженных упреках, настойчивых и противозаконных требованиях отчетов о тратах. Таким образом, остаток фонда перешел в руки Огарева.
Почти одновременно с появлением Нечаева в Женеве в эмигрантские круги просочились слухи о стремлении русского правительства заполучить организатора убийства студента Иванова. Сам главноуправляющий III отделением Собственной Его Императорского Величества канцелярии граф П. А. Шувалов взялся за руководство поимкой Нечаева. Своей правой рукой в этом нелегком предприятии он назначил заведующего Третьей (секретной) экспедицией К. Ф. Филиппеуса, главу политического сыска империи. Резидентом в Европе Шувалов отправил своего адъютанта полковника А. Н. Никифораки. Глава III отделения обратился с просьбой к русским посланникам в европейских государствах о содействии в этой деликатной операции. Приведу письмо от 27 февраля 1870 года, отправленное Шуваловым во Францию графу Э. Г. Штакельбергу:
«Государь Император повелеть соизволил принять все меры к поимке этого преступника, который бежал из России за границы 20 декабря, по полученным мною сведениям, проживал некоторое время в Женеве, теперь же неизвестно куда скрылся.
Поручив состоящему при мне полковнику Лейб-гвардии Семеновского полка Никифораки отправиться в чужие края, чтобы руководить розысками, имею честь об этом уведомить Ваше Сиятельство, покорнейше прося Вас, Милостивый Государь, оказать Никифораки согласно воле Августейшего Монарха, все зависящее от Вас содействие, в случае, если бы возложенное на него поручение привело его на французскую территорию».[562]
Для выслеживания Нечаева в помощь гвардейскому полковнику Филиппеус порекомендовал самого квалифицированного сышика III отделения К. — А. И. Романа. Он появился в Европе еще в августе 1869 года для приобретения обманным путем опасного для русского правительства архива покойного князя-эмигранта П. В. Долгорукова и успешно справился с поставленной задачей.[563] Среди эмигрантов Романа знали как издателя Н. В. Постникова, отставного офицера, человека радикальных взглядов. Ловкому полицейскому агенту посчастливилось завоевать доверие эмигрантов. Но кроме знакомства с Бакуниным и Огаревым преуспеть в поимке Нечаева ему не удалось. Не связанный с Романом и его помощниками в Европе действовал, по крайней мере, еще один агент III отделения. 14 апреля 1870 года он доносил:
«По показанию одного из тайных агентов наших, Нечаев не будет в Константинополе, как это первоначально предполагалось, а отправился из Лондона в Галицию, будто бы под именем Шедловского».[564] Именно в это время разыскиваемый убийца открыто разгуливал по Женеве.
Не более удачливым сыщиком оказался будущий управляющий III отделением, статский советник А. Ф. Шульц. Его направили в Германию еще в декабре 1869 года, когда Нечаев прятался от полицейских властей в России. Но даже доброжелательное содействие столь могущественного покровителя, как канцлер князь Бисмарк, не помогло Шульцу продвинуться в погоне за руководителем «Народной расправы».[565] Лишь из-за слабой осведомленности русских и швейцарских сыщиков был ошибочно арестован эмигрант С. И. Серебренников,[566] бывший владелец той самой типографии, которую весной 1869 года он продал А. Д. Дементьевой.
Серебренникова продержали около двух недель в швейцарской тюрьме и выпустили после опознания, организованного русской полицией с помощью специально привезенного в Женеву унтер-офицера, ранее состоявшего сторожем Сергиевского приходского училища в Петербурге.[567]
Поиски Нечаева, предпринятые российскими властями, насторожили триумвиров, и они приняли необходимые меры предосторожности. Например, издатель Постников, живший в Женеве одновременно с Нечаевым,[568] часто встречаясь с Бакуниным, Огаревым и близкими к их кругу лицами, ни разу не наткнулся на Сергея.
«Раз поведенный разговор на эту тему, — доносил Филиппеусу Роман, — дал мне возможность обратиться к нему (Огареву. — Ф. Л.) с весьма натуральным, к случаю, вопросом сперва, что за личность Нечаев, а потом, — где он обретается? На первый вопрос Огарев, улыбаясь, ответил, что Нечаев — самая обыкновенная личность, умевшая заставить молчать доносчика, как и всякий сумел бы из чувства самосохранения. Второй вопрос мой, быть может, это так мне только показалось, Огарев как будто хотел обойти молчанием, но, тем не менее, ответил, что он и сам этого определить не может, но, во всяком случае, Нечаев вне опасности попасть в руки Гирсов и Никифоровых».[569]
Н. К. Гирс — чрезвычайный посол Российской империи при Швейцарском федеральном правительстве. Никифоров — так эмигранты называли полковника Никифораки.
Донесения Романа, касавшиеся Нечаева, малоинтересны, приведу несколько слов из его любопытной характеристики Бакунина. По мнению агента, Михаил Александрович отвергал необходимость убийства Александра II потому, «что от теперешнего царя народ более ничего не ожидает хорошего, следовательно, отчасти склонен к восстанию, а от нового государя народ станет надеяться на свое улучшение и поэтому не скоро склонится на сторону революции».[570]
Еще в начале февраля 1870 года Нечаев писал статьи в женевские газеты, поручив польским друзьям Бакунина их отправку из Лондона.[571] Объявляя себя политическим эмигрантом, и никем иным, он пытался подготовить общественное мнение против передачи организатора убийства Иванова русским властям и заодно внушить полиции, что его бесполезно ловить в Швейцарии. Чтобы надежнее убедить III отделение искать беглеца в Англии. Сергей через тех же лондонских знакомых переслал в Иваново собственноручное письмо. Он не сомневался, что конверт вскроют и доложат высшему полицейскому начальству. 10 апреля владимирский губернатор направил П. А. Шувалову пакет с нечаевским письмом. Сергей понимал, что доставил неприятности отцу и сестре. Зато сыщики думали, что он прячется в Лондоне.
Огарев и Нечаев порознь обращались в Федеральный совет Швейцарской конфедерации, подчеркивая политический характер всех без исключения действий вождя «Народной расправы», и требовали признания его политическим эмигрантом.[572] Находясь в Локарно, Нечаев уговорил Бакунина написать статью о «полицейских услугах, оказываемых иностранными правительствами русскому в деле разыскания мнимых разбойников, воров и делателей фальшивых бумажек».[573] Но все эти уловки никакого влияния на решение швейцарских властей не оказали. Поиски Нечаева продолжались, но безуспешно, не так уж старательно они велись.
Вернувшись из Локарно, Нечаев получил из рук Огарева часть денег второй половины бахметевского фонда, вернее, ими завладел как бы не Нечаев, а Комитет. Бескорыстный Сергей Геннадиевич никогда ничего для себя не брал и от своего имени не просил, для этого предназначался Комитет. Расписки Огарев сразу не потребовал, а когда потребовал, Нечаев дать ее отказался.
Деньги имеются, пора приступать к делу, а дело одно — интриговать, будоражить, расшатывать и возбуждать, чтобы главенствовать. Именно в это время А. А. Герцен обсуждал с Огаревым судьбу литературного наследия А. И. Герцена. Среди неопубликованных творческих рукописей центральное место занимали письма «К старому товарищу», критикующие идеологию разрушения и разбоя, проповедуемую Бакуниным. Николай Платонович уговорил А. А. Герцена отложить их издание на некоторое время, Но вдруг Александр Александрович и Н. А. Тучкова-Огарева получили анонимное послание, написанное на таком же бланке, как и адресованное Любавину.[574]
«№ 108 Женева 23 февраля 1870 г.
Узнав, что фамилия, когда-то бывшего русского деятеля Герцена, думает начать издание сочинений покойного выпуском тех его статей, которые писаны им незадолго до смерти, в те дни, когда, отдалившись от активного участия в деле, началу которого он более всех содействовал, покойный переживал тот внутренний разлад между мыслью и положением, что составляет неотделимую принадлежность предшествующего поколения, вышедшего из рядов, хотя и талантливого, но все же тунеядствующего меньшинства — барства, знающего соль и горечь русской жизни только из книжек.
Мы заявляем, что эти статьи столько же противоположны его прежним, несомненно, даровитым произведениям, сколько и всему современному настроению молодых умов в России, и что сам Герцен никогда бы не согласился издать эти произведения в настоящее время. Извещая об таком намерении издателей в Комитет русского дела, которому, как и нам, хорошо известно содержание этих остатков мысли сильной, но непоследовательной, мы, имея в виду единственную пользу нашего дела, обращаемся к издателям с просьбой оставить эти намерения без выполнения и начать издание рядом других статей, которые, мы глубоко убеждены, составят славу его имени.
Высказывая наше мнение гг. издателям, мы вполне уверены, что они, зная с кем имеют дело и понимая положение русского движения, не принудят нас к печальной необходимости действовать менее деликатным образом».[575]
Разумеется, автор анонимного послания был Нечаев; расчеты его не оправдались. А. А. Герцен не испугался угроз отправителя. Он тотчас известил газеты о получении письма и сообщил, что никто, кроме него, не будет распоряжаться наследием отца, а он непременно опубликует все, что написано А. И. Герценом. О письме было рассказано Огареву, наверное, Нечаев отрицал свое авторство, но как ему поверили и продолжали с ним сотрудничество, остается загадкой. А. А. Герцен заявил Огареву, что после случившегося освобождает себя от прежде принятого обязательства повременить с изданием писем «К старому товарищу».[576]
Отчего же Нечаев столь активно противился публикации «Писем»? Наверное, он действовал не по просьбе Бакунина и не для того, чтобы его защитить, а по собственной инициативе. Напомню читателю, что в письмах «К старому товарищу» А. И. Герцен протестовал против любителей тотального разрушения существующего политического и экономического устройства, против признания разбойников главной революционной силой и бездумного расшатывания чего бы то ни было. Он писал, что Россия к революции не готова, что при родах следует помогать, но не провоцировать их, иначе исход может быть трагическим, что России нужны проповедники, но не «авангардные офицеры», проповедь, обращенная к врагам, что «им надобно раскрыть глаза, а не вырвать их».[577] Александр Иванович Герцен был не просто врагом всего исходившего от Нечаева, он был его антиподом. Красивый благородный человек, огромных знаний и эрудиции, редкостных ума и наблюдательности, Александр Иванович видел революционеров людьми образованными, честными, открытыми, самоотверженными. А ему предлагали презирать науку и знания, ненавидеть думающих иначе, вербовать в революционные сообщества воров и душегубов. Революция с участием «разбойного мира» обязательно приведет к власти сторонников разбойного режима. Иначе зачем им помогать делать революцию?. С Нечаевым у Герцена могли быть одни только разногласия, да и можно ли назвать столь разные точки зрения разногласиями? И как могла Нечаеву причудиться возможность дружбы с Герценом?.
В марте Нечаев напомнил о себе новой прокламацией «Русским студентам», содержавшей сообщение о его удачном бегстве за границу и призыв к созданию могущественной тайной организации во имя освобождения России от самодержавия. Но прокламаций Нечаеву было мало, еще в первую эмиграцию он предполагал возобновить герценовский «Колокол». После отъезда Герцена из Женевы, летом 1869 года, Огарев отправил ему письмо и получил на него следующий ответ:
«Жду от тебя нравственную смету по части нового «Колокола». Не взять ли ему эпиграф Пугачева: «Rebivivus et ultor» — вот был бы рад Нечаев! Но одно не забудь — «Колокол» невозможен в направлении, которое ты и Бак[унин] приняли. Он может только издаваться в духе прежнего».[578]
В последней четверти XVIII столетия в России распространилась легенда о том, будто Емельян Пугачев отчеканил монету с изображением Петра III и надписью под портретом: «Rebivivus et ultor» (воскресший мститель. — лат). Александру Ивановичу Нечаев виделся с топором и факелом, во главе враждебной всему дикой толпы разрушителей, кровожадным, рвущимся истребить культуру, испепелить все, что поддается горению, не ведающим ни цели, ни пути к ней. А от него старые друзья требовали отдать «Колокол» в руки, тянувшиеся к его горлу. Он не думал, а знал наверняка, чем такая затея может кончиться.
Поразительно, но ни Огарев, ни Бакунин не участвовали в похоронах своего великого друга и современника. Кончина Герцена развязала руки триумвирату. Им очень хотелось эксплуатировать имя основателя «Колокола», связать его с возобновляемой газетой. Они стремились заставить его авторитет работать на себя. Бакунин и Огарев предполагали сделать содержание «Колокола» социалистическим — «красным», на этом особенно настаивал Огарев. Нечаев же требовал «издавать газету пеструю или бесцветную, так, чтобы всех озадачить, чтобы лица всех партий безразлично могли писать в ней — конечно, с тем, чтобы выражать свое недовольство или свою ненависть против русского правительства».[579] Такая странная позиция не нравилась старикам, Огарев однажды даже вспылил, но разраставшийся скандал погасил Бакунин, предложивший «попробовать, как пойдут дела, что выйдет из такого фокуса».[580]
Издание нечаевского «Колокола» тесно связано не только с Огаревым и отчасти с Бакуниным, но и со старшей дочерью А. И. Герцена. Наталья Александровна (Тата) появилась в Женеве около 20 января 1870 года в сопровождении польского эмигранта С. Тхоржевского, ближайшего помощника А. И. Герцена по его давней издательской деятельности в Лондоне. Она очень тосковала по отцу и приехала навестить его ближайшего друга Н. П. Огарева (Агу), знавшего Тату с самого рождения. Н. А. Герцен оставила нам дневниковые записи, письма и заметки для памяти. После смерти отца она приняла на себя обязанности хранителя архива Герцена-Огарева, сосредоточив у себя важнейшие документы, позволяющие в подробностях восстановить первые месяцы жизни Нечаева во второй эмиграции. Н. А. Герцен познакомилась с Волковым (конспиративная кличка Нечаева) в один из первых визитов к Огареву.
По просьбе Николая Платоновича Наталья Александровна разбирала его бумаги. «Мне ничего лучше не надо было, — писала Н. А. Герцен, — и первое время с этим только и занималась, наблюдая пока за тем, что около нас происходило. В это время я не знала еще, что Нечаев потихоньку от Огарева рылся в его бумагах».[581] Огареву казалось, что этим поручением он приобщит Тату «продолжить дело отца». Нечаев попросил ее надписывать адреса на конвертах с прокламациями, отправляемыми в Россию. Вскоре он предложил ей вступить в тайное сообщество. Приведу отрывок из дневника Н. А. Герцен:
«Я. Т. е. вы (Нечаев. — Ф. Л.) меня спрашиваете, хочу ли я принадлежать вашему обществу? На это я могу ответить, я все-таки слишком мало об этом знаю.
В[олков]. Да вы только то решите: ближе вы к буржуа, тунеядцам, которые ничего изменить не хотят, или к нам, желающим все переделать?
Я. Конечно к вам, т. е. я вашей цели сочувствую, но ваших средств одобрить не могу…
В[олков]. Вот все, что я хотел знать. Вы согласны с целью — значит вы из наших; только это надобно доказать на деле, надобно работать и нам помогать».[582] Далее Нечаев посоветовал Н. А. Герцен заняться каким-то эмигрантским центром, просил ее никому, включая Огарева, ни о чем не рассказывать, требовал переселиться в Женеву, чтобы присматривать за состарившимся Огаревым. Первое время она верила рассказам Нечаева и про таинственный Комитет, и про романтическую «Народную расправу», и про справедливый всероссийский бунт, который вот-вот разразится. После отъезда Н. А. Герцен в Париж, 28 января, Нечаев отправил ей письмо:
«После вашего отъезда он (Огарев. — Ф. Л.) закутил и вот третий день в бессознательном положении. Мне необходимо ненадолго отъехать и не на кого оставить дела. Голова идет кругом. Нынче непременно выезжаю во всяком случае. Торопитесь же ради всего святого!. Вы нам теперь необходимы и неоценимо дороги.
Жму вам руку крепко, крепко!. До свидания!»[583]
Нечаев умел втягивать в свою орбиту, умел заставить на себя работать, умел использовать человека до предела. У Сергея были особые виды на Тату: ему действительно не с кем было делать свои дела, он желал поставить ее редактором «Колокола», связав тем самым возобновляемую газету с фамилией ее основателя. Нечаев очень рассчитывал на герценовское наследство, а она была богата и к тому же ему нравилась, быть может, даже искренне. Возможно, Сергей намеревался жениться на ней, дочери А. И. Герцена, посмевшего отвергнуть его. Быть может, в этом искал он самоутверждение, компенсацию за унижения, быть может, в этом проявление глубоко скрытой ущербности… Ему действительно удалось увлечь Тату и заманить ее в Женеву. Уговаривать Нечаеву помогал нежно любимый ею Огарев.
Н. А. Герцен пользовалась репутацией исключительно правдивого и разумного человека, авторитет ее во всех эмигрантских группировках был чрезвычайно высок. Нечаев, не понимая, с кем имеет дело, пытался ей внушить свои примитивные взгляды на революцию в России, «Народную расправу» и методы борьбы с самодержавием. Приведу несколько извлечений из дневника Н. А. Герцен с высказываниями Нечаева и Бакунина.
«Да, конечно, да, иезуиты были самые умные и ловкие люди, подобного общества никогда не существовало. Надобно просто взять и все их правила с начала до конца, да по ним и действовать — переменив цель, конечно» (Нечаев).
«Когда рассуждениями и разговорами нельзя больше действовать на людей, надобно прибегнуть к другим средствам. Ну. например, всех перессорить в каком-нибудь кружке — здесь, например, всех эмигрантов, потом поодиночке на них действовать, толковать с ними» (Нечаев).
«Наши враги в 10 тысяч раз нас сильнее и никакими средствами не пренебрегают, а мы вздумаем бороться с ними, не употребляя те же средства?! Ведь это безумие — и пробовать нечего тогда, это даром людей губить! Какая цель? Переменить этот гнусный существующий порядок. Ну, первый шаг для этого — низвержение русского правительства, а для этого надобно всеми средствами пользоваться или плюнуть на все и сидеть сложа руки» (Бакунин).
«Вы спрашиваете, что вы можете делать? Да это со временем покажется, увидим, а пока… да с вами прямо и просто говорить ведь нельзя, а то бы без лишних фраз просто бы сказал: оставьте себе stricht necessare (строго необходимое. — фр.) на житье, остальное же дайте на общее дело (Нечаев)».[584]
Высказывания Нечаева и Бакунина коробили Н. А. Герцен, их поведение по отношению к ней пугало ее, требования сотрудничества доходили до угроз — «нашим придется так или иначе с вами покончить».[585] В натиске на нее Бакунин и Нечаев проявили полное единодушие. Однажды разговор зашел о деньгах, которыми располагала Н. А. Герцен, и ей показалось, что триумвиры имеют на них определенные виды. Возражая на это, Бакунин в присутствии Нечаева воскликнул: «Да сами рассудите — знаете ли, что у них в руках в России громадные капиталы, миллионы — очень нужны им ваши копейки!»[586] Потом уже, когда триумвират окончательно распался, все тот же Михаил Александрович рассказал Тате, как Сергей заявил, что ее «не выпустят, прибавляя: «Помилуйте 300000 франков!»» Сетуя на свои сердечные неудачи, Нечаев признался, что Н. А. Герцен «угодить очень трудно, но что можно подослать кого-нибудь, чтобы я (Н. А. Герцен. — Ф. Л.) полюбила одного из них».[587] Бакунин рассказал ей об этом, когда между Татой и Сергеем уже созрела открытая враждебность и никаких амурных историй возникнуть не могло. Н. А. Герцен проявляла в отношении Нечаева настороженность, недоверие и даже враждебность, а к его делам — как и ее отец, твердое отвращение. Во время одной из первых встреч Нечаев и Огарев предложили ей нарисовать для пробы картинку: крестьяне, поджигающие господский дом. Она отказалась и заявила: «Нечего учить мужиков резать и поджигать; когда народ восстанет, он слишком жесток, его надобно останавливать, а не подстрекать…»[588] Но какие-то сомнения на первых порах посещали ее душу: она поддалась на настойчивые уговоры, приехала из Парижа и долго жила в Женеве, выполняла некоторые поручения бывшего вождя московских заговорщиков, не сразу пресекла его ухаживания. Потом, когда все уже было позади, Н. А. Герцен следующим образом объяснила свое поведение: «По минутам я даже была в отчаянии, писала ему (Нечаеву. — Ф. Л.) даже, что ни во что не верю, что теории, системы и средства их мне противны, — а тем не менее ему удавалось возбуждать во мне минутное доверие к тому, что он называл «Делом», я опять путалась, и в этом туманном состоянии не могла найти силы отказать ему и Огареву в маленьких услугах, когда я получила записочки такого рода; «Мы завалены работой, помогите хоть эти дни; ведь вы знаете, что я совсем один, что со всех сторон скверные новости, — и вы именно в эту минуту нас оставляете». Огарев писал и говорил в том же роде, мои просьбы и объяснения он не принимал, то повторял, что «да ты, Тата, немножко потерпи — ты знаешь, что на днях приедет кто-то из «них», а бросить нас так, право, не хорошо». Наконец я поняла, что меня надувают, что. пока я буду уступать, меня никогда не отпустят».[589]
Постепенно она сообразила, что триумвирату и более других Нечаеву необходимо эксплуатировать ее имя и средства. Когда Нечаев потребовал от Н. А. Герцен принять на себя обязанности редактора «Колокола», она категорически отказалась. Тогда Нечаев с Огаревым дали газете следующий подзаголовок: «Орган русского освобождения, основанный А. И. Герценым (Искандером). (Под редакцией агентов русского дела)».
Этому изданию посвящена обширная литература, все исследователи практически едины в его оценке.[590] Бакунин, уговоривший Огарева попробовать возобновить «Колокол» в виде некоей всеядной эклектической газеты, первый выразил свое недоумение:
«Милостивые государи, прочитав со вниманием 1-й № возобновленного вами «Колокола», я остался в недоумении. Чего вы хотите? Ваше знамя какое? Ваши теоретические начала какие, и в чем именно состоит ваша последняя цель? Одним словом, какой организации вы желаете в будущем для России? Сколько я ни старался найти ответ на этот вопрос, в строках и между строками этого журнала, признаюсь со скорбию, что я ничего не нашел».[591]
Недоумевал не только Бакунин, недоумевали все, кто читал нечаевский «Колокол». Он неинтересен, в нем отсутствует стержень, концепция. Бакунин, ранее поддержавший Нечаева в споре с Огаревым, требовал выработки программы газеты, Огарев соглашался со старым другом, Нечаев продолжал начатую линию. Отношения их постепенно обострялись и наконец дошли до такой точки, когда потребовалось вмешательство третьего лица. В Локарно понеслись телеграммы с просьбами немедленного переезда Бакунина в Женеву для участия в редактировании газеты, но он не мог этого сделать по причинам материальным. Нечаевский Комитет обещанных денег ему не дал. К концу апреля отношения между Огаревым и Нечаевым накалились до предела. Последней каплей оказалось письмо Чернецкого. Обиженный бесцеремонными проделками Нечаева, он 20 апреля 1870 года вручил Огареву послание с изложением мотивов — категорического отказа продолжать печатание газеты. Так закончилась нечаевская затея с возобновлением герценовского «Колокола». Неразошедшиеся остатки тиража в 1872 году «для обертки товара» купил женевский бакалейщик Гюи по 15 сантимов за фунт.[592]
Всего вышло шесть номеров «Колокола», первый номер появился 21 марта, последний — 27 апреля, тираж — 1000 экземпляров, среди сотрудников газеты были В. А. Зайцев, В. И. Серебренников, С. И. Серебренников, Н. И. Жуковский, остальных авторов статей установить не удается. Большая часть материалов, опубликованных в газете, создана самим Нечаевым. В первом же номере помещены «Три письма по делу Нечаева», приведу отрывок из третьего письма, сочиненного им в Женеве:
«Бывший эмигрант, я на призыв товарищей вернулся в отечество, разумеется, тайно, чтобы снова стать в ряды работников горячего дела народной свободы, которое на Руси так близко к желанному концу. Неосторожность ли одного из наших, или непредвиденная случайность была причиной появления слухов в обществе о моем возвращении в родную землю. Экстраординарный шпион Катков счел своим долгом тотчас же напечатать этот слух в своей газете. Полиция, на основании заявления своего почтенного агента, начала усиленные розыски и напала на мой след. Я был схвачен в одном из провинциальных городов и, как обыкновенно бывает у нас с политическими виновниками, без всякого суда был немедленно отправлен на каторгу. Но одно из высших лиц III отделения не ограничилось отправлением меня в рудники, а приказало строго тайным образом отправить меня к праотцам. Истерзанный жестоким обращением, побоями и всевозможными лишениями, я был уже на половине инквизиционного приказания. Жизнь моя висела на волоске; но товарищи не дремали. Энергия и решимость их дала мне возможность спастись хотя изможденным, но живым из рук палачей, столь же зверских, сколь и корыстолюбивых, готовых за деньги не только продать, но и задушить любого из своих начальников».[593] Далее в том же духе.
Нечаевский «Колокол» был совершенно непонятен любившей потеоретизировать русской эмиграции. Многие его страницы переполнены легендами, прославлявшими главу московских заговорщиков, и никаких возвышенных революционных идей.
В «Колоколе» Бакунин почти не участвовал и потому свободно критиковал материалы, печатавшиеся в нем по указанию Нечаева. Весной 1870 года до старого революционера начали доходить слухи о насмешках и оскорбительных выражениях в его адрес, высказываемых вождем «Народной расправы». Разумеется, Бакунина это возмущало, но он, как ему казалось, для пользы дела молчал. Рассорившись с молодой женевской эмиграцией, он остался вдвоем с Огаревым и еще с несколькими русскими. Без Нечаева Бакунин обходиться не мог, оставалось одно — терпеть. Отголоски недовольства поведением молодого друга и нотки недоверия к нему звучат в критике Бакуниным содержания «Колокола» в письме к Огареву от 3 мая 1870 года.[594] В нем он Сергея называет по фамилии; «Бой», «Наш молодой друг» перестали употребляться Михаилом Александровичем, безоблачность начала покидать их отношения.
А тем временем полиция постоянно напоминала о себе, и Нечаеву частенько приходилось покидать Женеву. Так, весной 1870 года он прятался в Локле, туда приезжала к нему с поручениями от Огарева Н. А. Герцен.[595] По Женеве вождь «Народной расправы» перемещался только после заката солнца, постоянно менял квартиру. Все его действия боялись дневного света, но в исключительных случаях ему приходилось нарушать это правило.
«Каково же было мое удивление, — вспоминала Н. А. Герцен, — когда однажды утром Нечаев снова появился у нашей двери. Серьезно испуганная, я ему сказала:
— Что вы делаете? Вы знаете, как теперь вас ищет полиция?
— О, не бойтесь!
— Я не за себя боюсь, а за вас.
— Я не останусь у вас, мне довольно нескольких минут разговора с вами с глазу на глаз.
Я пригласила его войти, и он мне сказал:
— Вы знаете, что студенты и эмигранты устраивают чрезвычайное собрание, на котором будут обсуждаться наши дела. Я пришел просить Вас прийти на это собрание.
У меня не было никакой охоты, и я отказалась. Но он настаивал. И я кончила тем, что согласилась».[596]
По утверждению исследователей, «чрезвычайное собрание» эмигрантов состоялось 25 апреля 1870 года, а ошибочное задержание С. И. Серебренникова произошло двумя днями позже.[597] Но на этом самом собрании обсуждались два вопроса: как воспрепятствовать передаче в руки русских властей политического эмигранта Серебренникова и следует ли добиваться у швейцарского правительства предоставления Нечаеву политического убежища. Наверное, собрание состоялось после 27 апреля.
«В это время русские эмигранты, — вспоминала Тучкова-Огарева, — не исключая и женщин, много толковали об убийстве Иванова Нечаевым; от самого Нечаева никто ничего не слыхал, он упорно молчал. Эмигранты разделились на две партии: одни находили, что надо подать прошение Швейцарскому правительству, убеждая его не выдавать Нечаева и заявляя, что вся русская эмиграция с ним солидарна: другие, наоборот, не признавали никакой солидарности с ним и утверждали, что не слыша ничего от самого Нечаева, нельзя сделать себе верного представления об этом деле и прийти к какому-нибудь заключению, и мы с Наташей (Н. А. Герцен. — Ф. Л.) так же думали».[598]
Сочувствующих Нечаеву практически не было, но некоторые эмигранты все же решили поддержать ходатайство. Неуверенный в исходе голосования, Огарев отправил Бакунину следующую телеграмму: «Дай мне право голосовать за тебя на собрании по поводу дел моего боя (Нечаева. — Ф. Л.) и телеграфируй тотчас же. Крайняя нужда».[599] Нечаев рисковал, встречаясь с Н. А. Герцен, но делал он это не только оттого, что хотел ее видеть, ему нужен был ее авторитетный голос.
В назначенный день вся русская колония собралась в «баварии» (пивной. — Ф. Л.) Гильса, в отдельной комнате55а. «В зале находилось уже много знакомых и незнакомых соотечественников, — вспоминала Тучкова-Огарева, — две или три висячие лампы ярко освещали всю комнату и присутствующих; наконец явился Огарев и заседание началось. Председательствовал, кажется, Мечников. По лицу Огарева я сейчас заметила, что он не совсем трезвый; все сели, Огарев — возле меня, облокотился на мой стул и дремал. Он старался внимательно слушать, что говорилось, но не мог и только изредка, кстати и некстати, говорил: «Пожалейте его. господа, просите за него» (т. е. за Нечаева). Последний ходил взад и вперед по комнате, не подходя к столу и не вмешиваясь в толки эмигрантов; однако его присутствие, вероятно, очень стесняло многих из них».[600]
Собрание закончилось за полночь общим гвалтом, конкретно о Нечаеве ничего не решили. Недели через три кто-то сочинил адрес в защиту убийцы Иванова, который пустили по рукам для подписания.[601]
Вскоре после ареста С. И. Серебренникова Нечаев поздно вечером появился в пансионе, где остановились Тата и Наталья Алексеевна с дочерью. Он пришел неожиданно для Тучковой-Огаревой и в такой форме попросил у нее разрешения спрятаться на несколько дней в их комнатах, что его пришлось приютить. Вождя московских заговорщиков не смутило крайне неприязненное отношение к нему Тучковой-Огаревой, с коей у него состоялись весьма неприятные столкновения из-за Таты. Ухаживания Сергея были неуместны, хотя бы потому, что все близкие Герцена еще не сняли траурных одежд. Возмутительное анонимное письмо с оскорбительными выражениями и угрозами в адрес семьи А. И. Герцена в равной степени относилось и к Наталье Алексеевне, а она не сомневалась в авторстве Нечаева. Сергей прятался в пансионе более недели, и благодаря помощи Тучковой-Огаревой благополучно покинул пределы досягаемости полиции.[602] Он поселился в отрогах Бернских Альп у итальянских эмигрантов-революционеров в местечке Монтей (Монте). Туда к нему выпущенный из-под стражи С. И. Серебренников привозил М. П. Сажина, прибывшего в Швейцарию из Америки по просьбе Нечаева. Сажин и Серебренников были знакомы еще по Петербургу, затем некоторое время вместе жили в Америке, работали на заводах. «На первое время, — вспоминал Сажин, — он (Нечаев. — Ф. Л.) предложил мне ведать и руководить русскими революционными делами исключительно за границею, где имеется якобы несколько групп в разных городах и, главным образом, среди молодежи. Прежде всего я должен был заняться женевскими делами, с которыми в подробностях меня познакомит В. Серебренников, самый близкий и преданный человек Нечаева, которому последний немедленно сообщит о наших решениях».[603]
С. И. Серебренников, узнав Нечаева ближе и побывав вместо него в швейцарской полиции, быстро потерял интерес к бакунинско-нечаевским приемам. Огарев давно превратился в неспособного к практической работе, Бакунин в Локарно заигрывал с итальянцами и строил европейские прожекты, бланкистские замашки молодого друга ему не очень-то нравились, в их отношениях прежний энтузиазм сильно потускнел. Верным оставался один В. И. Серебренников, сын жандармского офицера, бывший слушатель Медико-хирургической академии. Что-то надо было делать, вот и потребовался Сажин, да и он недолго оставался в соратниках. Сергей искал связей с Россией, но они не налаживались.
Из Монте Нечаев отправлял Н. А. Герцен трогательные послания. Но в середине мая 1870 года увлечение Таты Сергеем окончательно рассеялось, особенно содействовал этому приезд в Женеву Г. А. Лопатина.
С Нечаевым Лопатин ранее не встречался, но слышал о нем от своих друзей Негрескула и Любавина предостаточно.[604] Герман Александрович рассказал Наталье Александровне все, что знал о деятельности «Народной расправы» в Москве и Петербурге. Приведу отрывок из их диалога, записанного Н. А. Герцен:
— Знаете ли вы, кто такой Нечаев? Знаете ли вы, какую роль он играл в деле Иванова?
— Нет, — ответила я с большим удивлением… На это он рассказал мне трагедию этого несчастного студента, трагедию, в которой Нечаев играл главную роль. Он завлек Иванова в засаду и там прикончил его после страшной борьбы.
— Знаете ли вы рубцы на его большом пальце?
— Да, я их видела и даже спросила, что это такое, что это значит?
— Он вам не мог ответить, потому что это следы укусов его несчастной жертвы».[605]
Лопатин посетил Женеву в первой половине мая с целью объясниться с Бакуниным относительно роли Нечаева в истории перевода «Капитала» и его деятельности в русском освободительном движении. Лопатин намеревался защитить своего друга Любавина основательно и поэтому подробно рассказал Бакунину, специально приезжавшему на несколько дней в Женеву, о преступных кознях его молодого друга. Первое свидание протекало без участия Нечаева. На другой день Герман Александрович в присутствии Бакунина, глядя Нечаеву в глаза, повторил все сказанное накануне. Он объявил, что россказни основателя «Народной расправы» об арестах и побегах — чистейшая ложь, что ничего подобного не было и не могло произойти, что он организовал убийство с целью устранение несогласного и сплочения единомышленников общим поступлением, что именно Нечаев отправил Любавину возмутительное письмо от имени несуществующего «Бюро иностранных агентов» с оскорблениями и угрозами.
После разговора втроем Лопатин встретился с Нечаевым, и тот принялся уговаривать его не распускать о нем «неблагоприятных слухов». Якунина Лопатину увидеть больше не удалось. Возвратившись в Париж, он отправил старому революционеру исключительно резкое письмо, в котором объяснял, сколь вреден для него Нечаев, втянувший его в недостойные интриги, распространивший вокруг него ложь и клевету. «Когда, в первый же вечер нашего знакомства, — писал Лопатин Бакунину из Парижа 14 мая 1870 года, — я провожал Вас к Нечаеву и по дороге заметил, что ни для кого из нас, конечно, не тайна, что все рассказы Нечаева есть чистая ложь, — удивление, высказанное Вами по этому поводу, показалось мне несколько натянутым и не совсем похожим на то удивление, которое высказывает человек, действительно слышащий в первый раз неожиданную и крайне неприятную для него новость. <…> Потом, когда мы были с Вами у Нечаева и когда он своим молчанием подтвердил мое мнение, высказанное ему прямо в лицо, мне опять показалось, что Вы не так поражены, как можно было бы ожидать. На другой день я с удивлением заметил, что Ваше обращение с Нечаевым, нисколько не изменилось, что Вы опять выглядите добрыми приятелями, как будто бы он не насмеялся над Вами, обманув Ваше доверие таким грубым образом!»[606]
Современники называли Германа Александровича Лопатина в числе самых правдивых и благородных людей, его рыцарские поступки порождали легенды. Жизнь Лопатина сложилась так, что он лишь на очень короткое время оказывался за границей, поэтому был далек от постоянных эмигрантских склок и соперничества группировок. Лопатин не мог не защитить Любавина, не мог не вывести на чистую воду негодяя, не объяснить, кто есть кто. Качество быть правдивым он получил от рождения и не утратил его до самой смерти. Наблюдательность Лопатина позволила ему за две встречи с Бакуниным проникнуть в то, чего не заметила Н. А. Герцен за многие годы знакомства с ним. 20 мая 1870 года Герман Александрович писал Тате о своей уверенности в полном единодушии Нечаева и Бакунина, что представления о морали старого революционера и его молодого друга одинаково уродливы.[607]
Бакунину Нечаев был ближе Лопатина, теряя Нечаева, он как бы терял связь с Россией. Но как это ни грустно, их связывало еще и родство душ. Позже Бакунин пытался доказать, что никогда не верил Нечаеву, понимал, с кем имеет дело. Но это было потом, а до двадцатых чисел мая 1870 года Бакунин не только доверял Нечаеву, но и пребывал под его влиянием. Он не желал разрыва с Нечаевым и, следовательно, его разоблачений. После первого разговора с Лопатиным Бакунин устремился к своему младшему другу не бранить его, а обсудить сложившееся положение и искать из него «достойный» выход. Достойный кого?.
Во второй половине мая 1870 года к Михаилу Александровичу все чаше поступали сведения о том, что Нечаев настойчиво заигрывает с Утиным, одним из идеологов молодой эмиграции, редактором журнала (газеты) «Народное дело», агентом Маркса, творцом отвратительных интриг против него, Бакунина. Бывший глава «Народной расправы» действительно старался наладить добрые отношения с Утиным, подпортившим ему репутацию еще в первый приезд в Женеву. Сергей понимал, что на этот раз может задержаться в эмиграции надолго, и он стремился иметь сильную группу молодой эмиграции в друзьях, а не врагах. Но у него ничего не вышло, сближения не произошло. Тогда он поступил чисто по-нечаевски — заслал во вражеский лагерь своего агента В. И. Серебренникова. Они были знакомы с петербургских студенческих волнений, в Женеву Владимир попал после удачного бегства из Риги, куда его выслали 22 мая 1869 года по распоряжению полицейских властей,[608] и превратился в верного подручного Нечаева. Н. А. Герцен писала, что «этот Серебренников уже несколько месяцев живет у кого-то из «Народного дела», что он пользуется там полным доверием, показывает им, что во всем с ними солидарен, а вместе с тем тут над ними смеется, называет их дрянью, которая ничего делать не хочет. Рассказывал, как кого-то из них поил, чтобы заставить болтать да показывать ящики, шкапы и т. д.».[609] Все это делалось для того, чтобы получить возможность шантажировать Утина и его товарищей, и если с помощью шантажа подружиться не удастся, то хотя бы при необходимости дискредитировать. Сажин, узнав о шпионских подвигах В. И. Серебренникова, счел своим долгом рассказать потрясенному Утину. что Нечаев подробно осведомлен обо всем происходящем в рядах молодой эмиграции.[610] Михаила Александровича возмутил не шпионаж, но заигрывание Сергея, желание поменять друзей-соратников, изменить ему, бесспорному главе европейского революционного движения. Разве не он вывел в люди этого неблагодарного провинциального невежду?
Бакунин понимал и до этого, что его обманывают, что с ним перестали считаться и даже прислушиваться к его мнению. Он и Огарев во второй половине мая уже знали, что Нечаев рылся в их бумагах, крал письма. Не разоблачения Лопатина подействовали на Бакунина, а слухи об интриге с Утиным, пусть неудавшейся, но интриге. Как же так, его друг — друг смертельного врага? Именно этого не могла вынести гордая натура великого бунтаря.
21 мая 1870 года обиженный моралист сел за стол, чтобы сочинить длинное нравоучительное послание, пришла нора объяснить молодому другу, в чем он заблуждается, расставить точки над «i» и предъявить ультиматум — или он принимает его, Бакунина, условия, или с позором изгоняется из их среды. Писалось послание более недели. Из Локарно Бакунин передал его в Женеву для прочтения Н. П. Огареву, Н. А. Герцен, В. М. Озерову и С. И. Серебренникову. Он просил их, чтобы перед отправкой Нечаеву они сделали копию письма. Оригинал пропал, а копия, писанная Н. А. Герцен и С. И. Серебренниковым, сохранилась и пролежала многие годы в Парижской национальной библиотеке, где ее обнаружил М. Конфино и опубликовал в 1966 году, на русском языке полный текст появился в печати лишь в 1985 году.[611] Это письмо дает ответ на несколько важнейших вопросов и многое уточняет, оно более всего характеризует автора, и характеризует не с лучшей стороны. Бакунин писал его для оправдания перед Татой и Агой, перед потомками и самим собой. Многие его строки писаны недобросовестной рукой, автор лжет, изворачивается, спорит и воюет сам с собой. Например, он пишет, что никогда не доверял Нечаеву, знал, что Комитета не существует, и в то же время несколько раз возвращался к Комитету как к реально существующеему, он готов признать себя заблуждающимся, готов верить в очевидную ложь, иначе неизбежен разрыв, а его уж очень хочется избежать.
Бакунин поставил перед Нечаевым массу условий, при их соблюдении он соглашался продолжить так славно начавшееся сотрудничество. Это еще не разрыв, скорее дружеский укор, выяснение отношений. Приведу несколько извлечений из этого удивительного документа:
«На вас я не сержусь и не делаю вам упреков, зная, что, если вы лжете или скрываете, умалчиваете правду, вы делаете это помимо всех личных целей, только потому, что вы считаете это полезным для дела. Я и мы все любим и глубоко уважаем вас именно потому, что никогда еще не встречали человека, столь отреченного от себя и так всецело преданного делу, как вы. Но ни эта любовь, ни это уважение не могут помешать мне сказать вам откровенно, что система обмана, делающаяся все более и более вашею главною, исключительною системою, вашим главным оружием и средством, гибельна для самого дела. <…> Верил ли я по слабости, по слепоте или по глупости? Вы сами знаете, что нет. Вы знаете очень хорошо, что во мне слепой веры никогда не было и что еще в прошедшем году в одиноких разговорах с вами и раз у Ога[рева] и при Огареве, я вам сказал ясно, что мы вам верить не должны, потому что для вас ничего не стоит солгать, когда вы полагаете, что ложь может быть полезна для дела, что, следовательно, мы другого залога истины ваших слов не имели, кроме вашей несомненной серьезности и безусловной преданности делу. <…>
Он (Лопатин. — Ф. Л.) торжествовал, вы перед ним пасовали. Я не могу вам выразить, мой милый друг, как мне было тяжело за вас и за самого себя. Я не мог более сомневаться в истине слов Лопатина. Значит, вы нам систематически лгали. Значит, все ваше дело проникло протухшею ложью, было основано на песке. Значит, ваш Комитет — это вы, вы, по крайней мере, на три четверти, с хвостом, состоящим из двух, 3–4 человек, вам подчиненных или действующих, по крайней мере, под вашим преобладающим влиянием. Значит, все дело, которому вы так всецело отдали свою жизнь, лопнуло, рассеялось, как дым, вследствие ложного глупого направления, вследствие вашей иезуитской системы, развратившей вас самих и еще более ваших друзей. Я вас глубоко любил и до сих пор люблю, Нечаев, я крепко, слишком крепко в вас верил, и видеть вас в таком положении, в таком унижении перед говоруном Лопатиным было для меня невыразимо горько».[612]
Осуждая Нечаева, Бакунин осуждал себя, он не мог не видеть в Сергее себя, свою молодость, свои потаенные взгляды, помыслы, действия. При сравнении этого рыхлого и непоследовательного послания с сухим логичным письмом «говоруна» Лопатина бросается в глаза нравственное преимущество последнего. К своему сочинению Бакунин приложил короткую объяснительную записку, заканчивавшуюся следующими словами: «Главное, теперь надо спасти нашего заблудшего и запутавшегося друга. Он все-таки остается человеком драгоценным, а драгоценных людей на свете немного. Итак, давайте руки, будем спасать его вместе, не дадим Лопатиным, Жуковским и Утиным окончательно втоптать его в грязь. Но надо прежде всего, чтоб он помог нам сам, — и к этому должны быть теперь направлены все наши стремления».[613]
Бакунин понимал, что для него разрыв — катастрофа; Нечаеву, наоборот, казалось, что Бакунин ему более не нужен, что он вполне без него обойдется. Сергей перестал видеть очевидное — высокий авторитет Бакунина и его обширные связи. Достаточно было им разойтись, как Нечаев оказывался в полной изоляции, ведь все, кроме Бакунина, отвергли его, и давно. Сравнительно длительное и взаимовыгодное сотрудничество Бакунина и Нечаева объясняется беспринципностью этих борцов за народное дело. Молодой бес грубо подыгрывал старому, а тот как бы ничего не замечал. Самое главное, что их объединяло, — это личная неудовлетворенность и общая ненависть к российскому самодержавию, желание истребить его любой ценой. Повторяю, любой ценой.
В конце июня 1870 года Нечаев появился в Женеве и пожаловал к Огареву, вероятно, они списались с Бакуниным, чтобы встретиться там втроем. Огарев и Бакунин готовились к этому последнему их свиданию с бывшим «молодым другом». Участником предварительных обсуждений предстоящей битвы была Н. А. Герцен. Сергей сразу же обнаружил резко изменившееся к нему отношение. Разгорелся спор, посыпались взаимные обвинения. Старики в запальчивости ссылались на высказывания Натальи Александровны. Сергей потребовал ее присутствия и отправил за ней В. И. Серебренникова с запиской.
«Вы наделали дела, — писал Нечаев, — поэтому объяснение вам необходимо. Потрудитесь пожаловать к Огареву ненадолго и не ставьте в необходимость приходить к вам.
Не задерживайтесь, я здесь проездом.
Записку возвратите подателю, написав на обороте ответ.
Конечно, о содержании записки и от кого она вы не проболтаетесь».[614]
Н. А. Герцен, не желая видеться с Нечаевым, идти к Огареву отказалась. Тогда Сергей предложил всем отправиться к ней, но визит этот не состоялся. Близкие советовали Н. А. Герцен на время скрыться из Женевы, они опасались появления Нечаева в пансионе и его грубых выходок. Но ни в этот, ни на другой день Сергей к Тате не явился.
Последняя встреча бывших триумвиров состоялась 23 июня, а 28 июня Н. А. Герцен писала в Париж П. Л. Лаврову; «Теперь Бакунин и даже Огарев убеждены в том, что их надували и прекратили все сношения с Нечаевым».[615]
Из Женевы Сергей выехал на Британские острова: слишком опасно было оставаться наедине с швейцарской и русской полицией, помощи ожидать было не от кого, не выдал бы кто из эмигрантов…
В Лондон Нечаев прибыл в сопровождении В. И. Серебренникова, имея заготовленное заранее рекомендательное письмо Бакунина к эмигранту А. Таландье. Спохватившись, Михаил Александрович решил срочно предупредить своего французского друга, 12 июля он отправил ему длинное послание с изложением нового взгляда на Нечаева. Приведу из него извлечение:
«Остается совершенно верным, что Н[ечаев] человек, наиболее преследуемый русским правительством и что последнее покрыло весь континент Европы армией шпионов, чтобы разыскать его во всех странах и что оно требовало его выдачи в Германии, как и Швейцарии. Также верно, что Н[ечаев] один из деятельнейших и энергичнейших людей, каких я когда-либо встречал. Когда надо служить тому, что он называет делом, он не колеблется и не останавливается ни перед чем и показывается также беспощадным к себе, как и ко всем другим. Вот главное качество, которое привлекло меня и долго побуждало меня искать его сообщества. Есть люди, которые уверяют, что это просто мошенник; — это неправда! Это фанатик, преданный, но в то же время фанатик очень опасный, сообщничество с которым может быть только гибельно для всех, — вот почему: Он был сначала членом тайного Комитета, который действительно существовал в России. Этот Комитет не существует более; все его члены были арестованы. Н[ечаев] остался один и один он составляет то, что он теперь называет Комитетом. Так как организация в России истреблена, то он усиливается создать новую за границею. Это все было бы вполне естественно, законно, очень полезно. — но способ действия его отвратительный. Живо пораженный катастрофой, которая разрушила тайную организацию в России, он пришел мало-помалу к убеждению, что для того, чтобы создать общество серьезное и неразрушимое, надо взять за основу политику Макиавелия и вполне усвоить систему иезуитов: — для тела одно насилие, для души — ложь.
Истина, взаимное доверие, солидарность серьезная и строгая — существует между десятком лиц, которые образуют sanctus sanctorum (святая святых. — лат.) общества. Все остальное должно служить слепым оружием и как бы материей для пользования в руках этого десятка людей, действительно солидарных. Дозволительно и даже простительно их обманывать, компрометировать и, по нужде, даже губить их; это мясо для заговоров. Например: вы приняли Н[ечаева] благодаря нашему рекомендательному письму, вы ему оказали отчасти доверие, вы его рекомендовали вашим друзьям, между прочим г-ну и г-же М… (Мрочковским. — Ф. Л.). И вот он помешен в вашем кругу, — что же он будет делать? Прежде всего он начнет вам рассказывать кучу лжи, чтобы увеличить вашу симпатию и доверие к нему, но этим не удовлетворится. Симпатии людей умеренно-теплых, которые преданы революционному делу только отчасти и которые вне этого дела имеют еще другие человеческие интересы, как любовь, дружба, семья, общественные отношения. — эти симпатии в его глазах не представляют достаточной основы, — и во имя дела он должен завладеть вашей личностью без вашего ведома. Для этого он будет вас шпионить и постарается овладеть всеми вашими секретами и для этого в вашем отсутствии, оставшись один в вашей комнате, он откроет все ваши ящики, прочитает всю вашу корреспонденцию, и когда какое письмо покажется ему интересным, т. е. компрометирующим с какой бы то ни было точки для вас или одного из ваших друзей, он его украдет и спрячет старательно, как документ против вас или вашего друга. Он это делал с О[гаревым], со мною, с Татою и с другими друзьями, — и когда, собравшись вместе, мы его уличили, он осмелился сказать нам: «Ну да! это наша система, — мы считаем [вас] как бы врагами и мы ставим себе в обязанность обманывать, компрометировать всех, кто не идет с нами вполне», — т. е. всех тех, кто не убежден в прелести этой системы и не обещал прилагать ее, как и сами эти господа. Если вы его представите вашему приятелю, первою его заботою станет посеять между вами несогласие, дрязги, интриги, — словом поссорить вас. Если ваш приятель имеет жену, дочь, — он постарается ее соблазнить, сделать ей дитя, чтоб вырвать ее из пределов официальной морали и чтобы бросить ее в вынужденный революционный протест против общества. Всякая личная связь, всякая дружба считается ими злом, которое они обязаны разрушить, потому что все это составляет силу, которая находясь вне секретной организации, уменьшает силу этой последней. Не кричите о преувеличении; это все было им мне пространно развиваемо и доказано. Увидев, что маска с него сброшена, этот бедный Н[ечаев] был столько наивен, был настолько дитя, несмотря на свою систематическую испорченность, что считал возможным обратить меня; он дошел до того, что упрашивал меня изложить эту теорию в русском журнале, который он предлагал мне основать. Он обманул доверенность всех нас, он покрал наши письма, он страшно скомпрометировал нас, — словом, вел себя как плут. Единственное ему извинение это его фанатизм! Он страшный честолюбец, сам того не зная, потому что он кончил тем, что отождествил вполне свое революционное дело с своею собственной персоной; — но это не эгоист в банальном смысле слова потому что он страшно рискует и ведет мученическую жизнь лишений и неслыханного труда. Это фанатик, а фанатизм его увлекает быть совершенным иезуитом. Большая часть его лжей шита белыми нитками. Он играет в иезуитизм, как другие играют в революцию. Несмотря на эту относительную наивность он очень опасен, так как он совершает ежедневно поступки нарушения доверия, измены, от которых тем труднее уберечься, что едва можно подозревать их возможность. Вместе с тем Н[ечаев] — сила, потому что это огромная энергия. Я с большим сожалением разошелся с ним, так как служение нашему делу требует много энергии, и редко встречаешь ее, так развитою, как у него. Но истощив все усилии [чтобы] убедиться в этом, я должен был разойтись с ним, а раз разошедшись с ним, я должен был биться с ним до крайности. Последний замысел его был ни больше, ни меньше, как образовать банду воров и разбойников в Швейцарии, натурально с целью составить революционный капитал. Я его спас, заставивши его покинуть Швейцарию, так как он непременно был бы открыт, он и его банда в продолжение нескольких недель; он бы пропал, — погубил с собою и нас. Его товарищ и сообщник [В. И.] С[еребренников] открытый мерзавец, лгун с медным лбом, без извинения, без прощения фанатизмом. Передо мною совершились многочисленные покражи бумаг и писем, которые он сделал».[616]
Нечаев все же успел воспользоваться рекомендательными письмами и посетил Таландье. После получения адресатом цитированного выше письма Сергею было отказано в поддержке, а в качестве аргументации прочитано бакунинское послание. Приведу записку Нечаева, отправленную им в Женеву вслед за последним посещением Таландье:
«Бакунин и Огарев, Отчего при расставании, целуя меня, как Иуда, вы не сказали мне, что будете писать вашим знакомым? Последнее письмо ваше к Таландье и предупреждение Гильома об опасности участвовать в деле, которого вы всегда были инициаторами в теории, — суть самые бесчестные и самые подлые поступки, вызванные мелкой злобой. Вы, наперекор всякому здравому смыслу и выгоде дела, непременно хотите упасть в грязь. Так падайте!
До свиданья».[617]
Дело, «которого инициатором в теории всегда» был Бакунин, заключалось в том, что перед отъездом в Англию Нечаев решил организовать банду из молодых людей, которая грабила бы богатых туристов «с целью составления революционного капитала». Бакунин никогда не выступал против экспроприации, наоборот, он приветствовал такой способ добывания денег на революционные нужды. Великий теоретик полагал, что заняться этим выгодным промыслом можно лишь со «знанием места, обстоятельств, людей и с чрезвычайным умом».[618] В свою банду Нечаев привлек В. И. Серебренникова и Г. Сатерленда, сына подруги Огарева.[619] Вероятно, именно Сатерленд проговорился о замысле основателя «Народной расправы», и Бакунин вынудил Нечаева немедленно покинуть Швейцарию. На сей раз Михаил Александрович перепугался не на шутку, — по его мнению, Сергей не обладал качествами, необходимыми для главаря банды, действующей в Швейцарии. Провал разбойников мог обернуться преследованием всей русской эмиграции в Европе, не поздоровилось бы никому.
Одновременно с Таландье письмо Бакунина получил польский эмигрант в Лондоне В. Мрочковский. Отправитель обратился к нему с миленькой просьбой: «Ты был бы молодец и оказал бы нашему общему святому делу огромную услугу, если б тебе удалось выкрасть у Нечаева все украденные им бумаги и все его бумаги».[620] Воистину вор у вора во имя «общего святого дела» решил бумаги украсть, но чужими руками. Видимо, предложение Бакунина возмутило Мрочковского, завязалась переписка, главным объектом которой был Нечаев. 7 августа 1870 года в Лондон из Локарно понеслось очередное письмо. «Все, что я написал вам о Нечаеве, — пытался Бакунин объяснить Мрочковскому, — не выше, а ниже действительности. Да, он изменил и постоянно изменял нам в то время, как мы ему давали все и стояли за него горою. Да, он крал наши письма еще в прошлом году. — Да, он компрометировал нас, действуя от нашего имени без нашего ведома и согласия. — Да, он всегда лгал нам бессовестно. — Во всем этом я его уличил при О[зеро]ве, при Огареве, при Тате — и приведенный к невозможности отрицать моими доказательствами, знаете что он мне ответил? — Мы очень благодарны за все, что вы для нас сделали, но так как вы никогда не хотели отдаться нам совсем, говоря что у вас есть интерна[циональные] обязательства, мы хотели заручиться против вас на всякий случай. Для этого я считал себя вправе красть ваши письма, и считал себя обязанным сеять раздор между вами, потому что для нас не выгодно, чтобы помимо нас, кроме нас существовала такая крепкая связь. — Кто ж эти они? Прежде их было достаточно. Но после разгрома остались только Нечаев да С[еребренников] да еще два других человека за границею. Неудачи в России довели Нечаева до сумасшествия. Он стал делать глупость на глупости. — Все хитрости и обманы его впрочем шиты белыми нитками и обратились против него. — Он изолгался до глупости».[621]
Но даже если бы Мрочковский принялся выполнять просьбу Бакунина, навряд ли его ожидал бы успех. При отъезде Сергея из Женевы остатки былого триумвирата обнаружили исчезновение весьма важных документов. В погоню за похитителем отправился Озеров. «В начале июля. — вспоминал Гильом, — в то время, пока Бакунин был в Женеве, я получил от Нечаева известие, что он собирается отправить ко мне принадлежащий ему чемодан и просит меня хранить его в течение нескольких дней. Чемодан прибыл и я поместил его в надежное место».[622] Вскоре к Гильому в Невшатель, сопровождаемый молодым итальянцем, прибыл Нечаев и предупредил, что за чемоданом приедет его друг. Днем позже появился В. И. Серебренников и увез чемодан, еще через день в Невшатель примчался Озеров и рассказал Гильому о случившемся. Оказалось, что местонахождение чемодана открыл молодой итальянец, сбежавший от Нечаева, который «обходился с ним, как с собакой, угрожал ему револьвером, чтобы добиться повиновения».[623] Озеров отправился по указанию Гильома в Локль, но вернулся в Женеву с пустыми руками. Следом за Озеровым Гильома «посетила молодая дама с таинственными манерами и передала записку от Бакунина. Это была мадемуазель Натали Герцен, старшая дочь основателя «Колокола». Она хотела тоже добраться до Нечаева и попытаться путем убеждения получить то, что Озеров рассчитыват получить насилием; она также потерпела неудачу: она представилась от моего имени Огюсту Шпишигеру. который проводил ее в дом, где прятался Нечаев; но разговор, происшедший у нее с последним, был безрезультатен».[624] Другими сведениями об этом разговоре мы не располагаем.
Чемодан с бумагами и их владелец оказались в Лондоне. Кроме верного В. И. Серебренникова, благодаря хлопотам Бакунина, в английской столице у Нечаева не было ни одного человека, на кого он мог бы опереться. И тем не менее без чьей бы то ни было поддержки Нечаев издал небольшой, в восемь страниц, журнал «Община». Первый номер имел подзаголовок «Орган русских социалистов, под ред. С. Нечаева и В. Серебренникова» и вышел в конце августа 1870 года. Позже был напечатан второй номер, уничтоженный Нечаевым по причинам, оставшимся неизвестными.[625] В Россию попало ничтожное количество экземпляров, сохранилось всего два. Судя по документам архива III отделения, «Общину» на родину не отправляли.
Приступая к выпуску журнала. Нечаев надеялся создать свой независимый от кого бы то ни было печатный орган, который сокрушил бы идейные позиции Бакунина и его западных сторонников, оградил бы русское революционное движение от их влияния. Он переоценил себя как теоретика и литератора, его нападки на противников не выходили за границы мелких кухонных дрязг, и замысел рассыпался… Первый номер журнала открывается обзором европейского революционного движения, включая российское. В нем особенно досталось Интернационалу и его руководителям.
«Такие вожди. — писал Нечаев, — суть не вожди, а тормозы для народного, революционного дела, и до тех пор, пока мы не увидим хотя одного работника-труженика, который бы, пройдя через стадии нашей каторжной жизни и вынеся оттуда страстную ненависть к существующему порядку, обладал бы достаточно широким мировоззрением для общего всестороннего понимания жизненных условий, до тех пор интернационал не выйдет из того пассивного выжидающего положения, в котором его держат красноречивые, сытые умники, заседающие в комитетах».[626]
Нечаев решил монополизировать право на понимание роли и задач революционного движения, знание «каторжной жизни», желаний и потребностей народа. Переходя к российским делам, он беспардонно критикует человека, игравшего главнейшую роль в русском освободительном движении.
«Поколение, к которому принадлежал Герцен, было последним, заключительным явлением либеральничающего барства. Его теоретический радикализм был тепличным цветком, пышно распустившимся в искусственной температуре обеспеченной жизни и быстро увядшим при первом соприкосновении с обыкновенным реальным воздухом практического дела.
Они критиковали, осмеивали существующий порядок с язвительной салонной ловкостью, утонченным поэтическим языком. Их занимал самый процесс этой критики. Они были довольны своими ролями».[627]
Покончив с вождями, новый идеолог и теоретик освободительного движения сформулировал свою программу действий русских революционеров. Никаких свежих мыслей он в нее не вложил. За программой следует статья «Где наша сила? Где наши средства?», в которой Сергей Геннадиевич объясняет, что сила революционеров в топоре и огне, а средства пригодны все, то есть опять ничего нового. Заканчивается текст журнала открытым письмом к Огареву и Бакунину. В обидной, уничижительной форме, но с соблюдением несвойственной ему холодной вежливости, недавний триумвир пишет своим бывшим учителям, что они давно никчемны и он надеется никогда не увидеть их «в практической деятельности», а потому отчего бы им не остаться друзьями. Слухи о их на него озлоблении он считает ложными. Письмо имело целью не только объявить миру о распаде триумвирата, его автор требовал денег. «Не предвидя скорой возможности, — писал он, — лично встретиться с вами, прошу через посредство старшей дочери Герцена, заведующей нашей кассы, доставить в редакцию Общины остаток того фонда, которого части получены мною при жизни А. Герцена и еще в недавнее время».[628]
Н. А. Герцен в августе 1870 года никакой нечаевской кассой не заведовала. Упоминание в статье о ней и ее отце объясняется стремлением автора еще раз публично связать свое имя с этими достойнейшими людьми и заодно уколоть бывших друзей.
Огарев, получив от наследников А. И. Герцена вторую половину бахметевского фонда, лишь формально передал ее в распоряжение молодого триумвира. Скрываясь от возможного преследования тайной полиции, не имея постоянного пристанища. Нечаев не мог держать у себя крупную сумму денег и тем более положить ее в банк. Оставлять деньги у Огарева было рискованно, поэтому они хранились у Н. А. Герцен и по требованию Сергея выдавались главным образом на издательские нужды Чернецкому. К моменту окончательного распада триумвирата оставалось около семисот пятидесяти франков. Огарев забрал деньги у Н. А. Герцен и положил их в банк.[629]
Но не только об этой весьма скромной сумме пекся вождь «Народной расправы», он предполагал вытряхнуть из наследников А. И. Герцена много больше. «Не знаю, — пи-сал Нечаев Бакунину еще до выхода «Общины», — насколько сознательно вы содействовали Герцену скрыть от нас настоящую цифру суммы бахметевского фонда, который был положен вместе с другими капиталами Герценом под 5 % и посему за период времени с 1857-го года более чем удвоился, достигнув слишком 50-ти тысяч по вычислению. Мы рано или поздно, а вероятно, очень скоро приступим к его требованию. Не знаю, на основании каких соображений вы впутали себя в это дело».[630]
Для Бакунина не было тайной, что Герцен по соглашению с Огаревым, пользуясь бахметевскими деньгами, неоднократно одалживал жестоко нуждавшимся эмигрантам требуемые им суммы. Спасая их от полной нищеты, Герцену приходилось прерывать вклад и тем самым терять проценты. Обвинять в плутовстве Герцена мог позволить себе только Нечаев. Реакция на его записку сохранилась в письме Бакунина к Огареву от 21 июля 1870 года:
«Вот тебе, друг Ага, и записка от «нашего Боя». Получил ее вчера вечером, посылаю ее тебе сегодня, чтобы поскорее утешить тебя, так же как и сам утешился. Нечего сказать, были мы дураками, и как бы Герцен над нами смеялся, если б был жив, и как бы он был прав, ругаясь над нами! Ну, нечего делать, проглотим горькую пилюлю и будем вперед умнее».[631]
Бакунин клокотал, негодовал, злился на себя за случившееся. Огарев же махнул на все рукой, он чаще и чаше бывал навеселе и в этом состоянии дремал в кресле или благодушно болтал с кем угодно и о чем угодно, никакие дела его не интересовали.
Лондонский период жизни и деятельности Нечаева — один из самых темных в его биографии, почти никаких документов о нем не сохранилось, да и были ли они… Уместно заметить, что наиболее полная и достоверная информация о Нечаеве во второй его эмиграции относится к тому времени, когда он находился в постоянной связи с Бакуниным и Огаревым. После распада триумвирата сведения о Нечаеве скудны, в архиве III отделения почти отсутствуют, так как Нечаев надолго исчез из поля зрения политического сыска.
Приведу извлечение из труда чиновника Департамента полиции, действительного статского советника, князя Н. Н. Голицына, созданного им на основании давно утраченных агентурных сообщений, напечатанного тиражом 50 экземпляров и предназначенного для ознакомления крупных чинов политического сыска:
«Он (Нечаев. — Ф. Л.) продолжал разыгрывать роль великого деятеля революции, при том — деятеля крайне подвижного, боявшегося ареста и выдачи. В июне 1871 г. он жил в Женеве на route de Carouge, где ему помогал денежными средствами Жеманов, в июле он переезжает в Аннэси, в августе проживает в la Drire, тоже недалеко от Женевы, в октябре находится в Вевэ, где его снабжает всем необходимым какой-то демократ, швейцарец Пэррэн. В том же месяце он едет для какого-то революционного предприятия в Голицию, где укрывается под именем Цехановского. Обстоятельства тут ему не благоприятствуют, ибо австрийская полиция деятельно его преследовала: появилась даже в русской газете телеграмма будто он задержан в Австрии». Оттуда он бежал в Лондон, а в ноябре в Цюрих. «Здесь предполагал он поселиться на некоторое время и записался даже в политехникум; здесь же получил он в январе 1872 г. 20 000 франков из фонда, основанного Герценом на русское революционное дело, а последнему переданные неким русским Б[ахметевым] в серебряных рублях. <…> Жил он в Цюрихе у Турского и на короткое время ездил в Италию. Хотел печатать какую-то брошюру, в январе 1872 г. купил шрифт <…>. В феврале месяце он уже в Париже, потом едет в марте в Гейдельберг <…>. 27 марта он опять возвращается в Цюрих; в мае же хлопочет в Женеве об основании там такого же общества как в Цюрихе, обвинив предварительно женевских коноводов в недостатке энергии. <…> Авторитет его даже немного поколебался после того, как стало известно, что он силою отнял у старшей дочери Герцена некоторые бумаги и письма ее отца, за которые после просил высокий выкуп, в чем ему было, впрочем, отказано. После сформирования собственного общества Нечаев начал уже действовать самостоятельно, не причисляя себя ни к какой партии <…>. В июне он едет опять в Париж, Вену и Мюнхен и возвращается 15 июня на совещание по поводу революционных дел в Сербии. В июле происходит у него примирение с Бакуниным. В августе переезжает он в Женеву, где хотя и носит псевдоним серба Гражданова, но ходит не стесняясь по Женеве с длинными волосами, в плисовых штанах и красной рубахе, высокой шляпе, при этом в пиджаке, который он подбирал сзади в виде фрака. Вообще в конце июня месяца он мало стеснялся, посещал собрания Интернационала, ходил по ресторанам. Его предостерегали, но он не слушался, полагая, что это коварные инсинуации, идущие от Бакунина, желавшего устранить его. Жил он в Hotel du Cygne и занимался даже иногда профессией простого вывесочного художника».[632]
В опусах Голицына много ошибок, читатель обнаружит их без комментария. Отметим лишь два обстоятельства: отчего Нечаев не был схвачен, если полиция знала каждый его шаг? Отчего так небрежно писался цитированный труд?
Нечаева не схватили, потому что политическому сыску он нужен был на свободе. В эмигрантских кругах творец «Народной расправы» сеял раздор, отправлявшейся в Россию корреспонденцией выдавал сообщников, активных радикалов, будущих конспираторов. Зачем же его арестовывать? Схватили его лишь тогда, когда он выдохся, перестал приносить пользу. Но это было потом. В агентурных донесениях было много вымысла и несуразицы (это обязательная принадлежность агентурных донесений), поэтому продолжим изложение событий, основанное на более достоверных источниках.
Вскоре после выхода «Общины» Нечаев, оставив В, И. Серебренникова в Лондоне, отправился в Париж. Русская революционная эмиграция, группировавшаяся около П. Л. Лаврова, была превосходно осведомлена о том, что представляет собой Нечаев, и ни в какие отношения с ним не вступила. Из-за разрыва с Бакуниным Сергей везде чувствовал себя неуютно, везде его сопровождала враждебность или пустота. В Париже он пережил осаду города немецкими войсками с 6 сентября 1870 года по 16 января 1871 года и, как только представилась возможность, пешком ушел из Франции обратно в Швейцарию. В Женеве пребывание Сергея сделалось невозможным, там его могли арестовать, и очень скоро: слишком многие ненавидели вождя московских заговорщиков, никто не стал бы его предупреждать об опасности, прятать от швейцарской полиции, а она бы заинтересовалась убийцей. Поэтому глава «Народной расправы» направился в Цюрих, где его никто не знал. Таким образом Сергею удалось оторваться от преследования полиции почти на полтора года. Еще 27 ноября 1870 года Роман доносил из Локарно Филиппеусу:
«Что же касается до Нечаева, то положение, которое приняло дело после разрыва его с Бакуниным и Огаревым, требует уже теперь способностей специального сышика, которыми, сам сознаюсь, я не владею в достаточной степени, да к тому же приложение мною этих способностей вне сферы Бакунина и Огарева могло бы теперь, в случае неудачных поисков, не только временно, но и навсегда испортить дело, за исключением одной поездки в Марсель, куда я поеду, а на обратном пути в Локарно. Я обещал вам при первом моем отправлении за границу тотчас написать откровенно, когда пребывание мое здесь сделается бесполезным и ненужным. Исполняю теперь мое обещание».[633]
Так закончилась погоня Романа (Постникова) за Нечаевым, ее довершили более удачливые сыщики. Столь длительная и странная охота русских полицейских агентов за вождем московских заговорщиков наводила на мысль — случайно ли это, не служил ли Нечаев в III отделении. Так думали многие,[634] но в политической полиции он не служил.
В Цюрихе Нечаев отыскал Сажина, переселившегося туда из Женевы осенью 1870 года. «В течение двух недель, — вспоминал Сажин через пятьдесят пять лет после описываемых событий, — мы по нескольку часов проводили вместе и постоянно в оживленных разговорах и спорах. Вот тут-то я и увидел, что знания Нечаева довольно ограниченны и вообще его умственный багаж далеко отставал от его других громадных качеств и достоинств. Он обладал колоссальной энергией, фантастической преданностью революционному делу, стальным характером, неутомимой трудоспособностью и деятельностью. В своей продолжительной жизни я очень много знал революционеров, но среди них не встречал ни одного, кто бы обладал этими качествами в такой же степени, как Нечаев».[635]
Сергей нуждался в дружбе Сажина не только потому, что, кроме него, почти ни с кем не был знаком. Сажин руководил кружком русских студентов, имел хорошую библиотеку, поддерживал прочные связи с Россией, Германией и Австрией, превосходно знал, что происходит в Цюрихе. Но бывший вождь «Народной расправы» не попросился войти в кружок Сажина, а предложил ему соединиться с его группой, группой, которой еще не существовало. Лишь одного цюрихского студента, И. М. Пономарева, ему удалось подчинить себе и получить от него подписку в том, «что он, Пономарев, обязуется служить и исполнять беспрекословно все распоряжения Комитета «Народной расправы» с угрозой подвергнуться жестокой каре за уклонение».[636] Вот и все, чем располагал Нечаев к весне 1871 года. Несмотря на прежний разрыв с Сергеем, Сажин не решился отказать ему в возобновлении сотрудничества. Переговоры прервались революцией во Франции, Сажин поспешил туда и участвовал в деятельности Парижской коммуны, Нечаев же остался в Цюрихе. Все современники единодушно выделяли основной его чертой фанатичную преданность революции. И вот, когда наступило время, он не ринулся в Париж на баррикады, ему там для себя нечего было отвоевать, это была не его революция. Он остался в курортном городе Цюрихе, где зарабатывал на жизнь писанием вывесок, в чем вполне преуспел.
После падения Коммуны переговоры возобновились. Кроме Сажина в них участвовали члены его кружка, студенты Цюрихского университета, В. А. Гольштейн, В. Н. Смирнов и А. Л. Эльсниц, бежавшие из России в 1871 году. Все три студента, исключенные из Московского университета после полунинской истории, вступили в «Народную расправу», но участия в ее делах принять не успели. Наслышанные о нечаевских приемах, эмигранты сторонились Сергея, а Сажин, опасаясь, что его репутацию может подорвать сотрудничество с распорядителем убийства Иванова, написал Бакунину письмо о предложении Нечаева и попросил сообщить ему свое мнение. Сажин и члены его кружка были преданными приверженцами Бакунина. Возобновившиеся переговоры прервались ожиданием ответа Михаила Александровича на письмо Сажина. Во время недельной паузы бывший глава московских заговорщиков предложил Сажину совместно издавать газету, а средства на это получить от наследников А. И. Герцена.[637] Нечаев полагал, что наследники Герцена не пожелают добровольно расставаться с деньгами и поэтому следует их шантажировать. Вождь «Народной расправы» располагал частной перепиской Бакунина, А. И. Герцена, Н. А. Герцен, Огарева, И. С. Тургенева и многих других, а также различными бумагами, по мнению нового владельца, компрометирующими известных лиц. Нечаев собирался потребовать от заинтересованных в неразглашении содержания документов воздействовать на наследников Герцена и таким способом получить требуемые деньги. Разумеется. Сажин от этой затеи пришел в ужас. В это время подоспело письмо Бакунина с ультиматумом — или он, или Нечаев. Опять Сергей остался один.
Сообщения в газетах о «Процессе нечаевцев» и резко отрицательная реакция русских эмигрантов обескуражили бывшего вождя «Народной расправы», и его сближение с ними стало еще более проблематичным, Нечаева откровенно сторонились. Бывший студент Цюрихского политехникума В. А. Данилов писал о нем:
«Нечаевское движение окончилось убийством Иванова. Этим фактом якобинство со своими принципами как бы расписалось в своей несостоятельности, в своем несоответствии с внутренним содержанием задачи нарождающейся жизни, нарождающегося общественно-политического строя. <…> Нечаев не мог воскресить якобинства, <…> Нечаев в Цюрихе и Нечаев в России две личности. Кто видел его в Цюрихе в 70–71 гг., тот может это подтвердить. Энергия его пала… Эта крупная сила с сильной волей личности чувствовала, что она изжила свой смысл, что ей нет уже места и она за бортом жизни».[638]
Возможно, Данилов несколько преувеличил состояние упадка, в котором, как ему казалось, пребывал Нечаев, но не один он заметил спад энергии и появление безразличия в действиях бывшего руководителя «Народной расправы».
Многое из жизни Нечаева после распада триумвирата остается навсегда покрытым тайной. Известно, например, что из Цюриха он ездил во Францию, и, кажется, не раз.[639] О его парижских связях ничего не известно, возможно, он предпринимал попытки сблизиться с П. Л. Лавровым. Только в минуты отчаяния у Сергея могла появиться подобная мысль. Лавров не Бакунин, в беспринципности его упрекнуть никто не рискнул бы. Зимой 1872 года в Цюрих приехал бежавший из бессарабской ссылки 3. К. Ралли-Арборе, единомышленник Нечаева по петербургским студенческим волнениям. Вскоре для встречи с ним из Парижа примчался Сергей. «Я нашел его совершенно не изменившимся, — вспоминал Ралли, — даже не возмужавшим. Это был тот же худенький, небольшого роста, нервный, вечно кусаюший свои изъеденные до крови ногти молодой человек, с горящими глазами, с резкими жестами. <…> О пребывании Нечаева у меня вскоре узнал М. Л. Бакунин, который, совместно с Сажиным и моими товарищами Эльсницем и Гольштейном, потребовал у меня разрыва с Нечаевым, предполагая, конечно, что у нас затевается что-нибудь общее. Кроме нескольких из эмигрантов с Бакуниным во главе никто не знал, однако, о пребывании Нечаева в Цюрихе, где он проживал под псевдонимом Лидерса».[640]
Сергей не переменился не только внешне. Чтобы убедить Ралли в существовании сильного конспиративного сообщества, он инсценировал присылку на его адрес шифрованных писем. Нетрудно было догадаться, что по его заданию эти письма на бланках «Народной расправы» из Лондона исправно слал В. И. Серебренников, однокашник Ралли по Медико-хирургической академии. Ралли написал о разгаданной мистификации Нечаеву, жившему летом 1872 года на юге Швейцарии в местечке Шодефон, но, как всегда, Сергей не признался в обмане, он продолжал настаивать на существовании «Народной расправы» в России и Европе. Вернувшись в Цюрих, Нечаев ультимативно потребовал от Ралли разрыва с Бакуниным. Порвали с Нечаевым. Какая же горечь заволокла его душу, когда Ралли и Сажин организовали типографию, а Сергея даже не поставили в известность.
Возвратившись в Цюрих, он поселился у своего нового друга польского эмигранта Г. -М. Турского, последнего верного ученика и соратника. Турский входил в руководство «Польского социально-демократического общества», состоявшего из польских и русских эмигрантов, осевших в Цюрихе. Секретарем Общества был агент III отделения А. Стемпковский, регулярно доносивший полицейскому начальству о настроениях в цюрихской эмиграции. Чиновники политического сыска в апреле 1872 года приступили к формированию дела «Об образовавшемся в Цюрихе революционном Славянском социально-демократическом обществе».[641] Из агентурной информации в Петербурге стало известно, что Нечаев образовал внутри Общества «русский отдел»[642] а для его пополнения записался вольнослушателем в Цюрихскую политехническую школу. Известный историк невозвращенец Б. И. Николаевский на основании бесед с Турским писал, что «русско-польский кружок был ничем иным, как тою организацией, которую стал строить Нечаев».[643]
От последней нечаевской революционной затеи сохранилась программа кружка: «Основные положения». Ее рукопись отобрали у Сергея при аресте; лишь в 1973 году ее обнаружили в Цюрихском кантональном архиве. Впервые на русском языке текст «Основных положений» опубликовала Е. Л. Рудницкая.[644] Никаких других документов об этом нечаевском кружке и лицах, входивших в его состав, обнаружить не удалось. Сведения, исходившие от полицейского агента, вызывают сомнения из-за профессиональной склонности к преувеличениям. Известно определенно — ничего практического Нечаеву и на этот раз сделать не удалось — до ареста оставалось менее четырех месяцев.
«В Цюрих понаехали агенты русского правительства, — писал Данилов. — Неумелые, нахальные, они сразу обнаружили на себе внимание опытных эмигрантов. Нечаеву предложили бежать из Цюриха в Англию. Его мало кто знал. Бакунинцы дали ему приют, они же предложили средства для переезда в Англию. Нечаев отнесся к своей участи пассивно. Эта пассивность понятна, если смотреть на Нечаева, как на человека, в коем идея и личность срослись в одно целое. Он видел, что в жизни он провалился, и ему осталось только умереть за идею. Он хотел инстинктивно пожертвовать жизнью за идею. Вызывал на бой жизнь — как делает фанатик, потерявший под ногами почву».[645]
Первые предупреждения об опасности близкого ареста передали Нечаеву от Бакунина,[646] Сергей отнесся к ним с недоверием и иронией — бакунинцы добиваются его отъезда из Цюриха, у него у самого имеются друзья в Берне, и они известили бы его о надвигающейся угрозе. Западные революционеры и русские эмигранты после разрыва с Бакуниным и «Процесса нечаевцев» относились к Сергею враждебно, и бежать ему было некуда, повсюду его ожидали бойкот, отсутствие связей.
«Незадолго до ареста Нечаева (быть может, за несколько недель или дней), — вспоминал известный народник Д. И. Рихтер, — я с одним из русских студентов (фамилии не помню) сидел в одном ресторанчике в Цюрихе. <…> Я рассказывал об убежище для эмигрантов в Нью-Йорке — «Gastelegarden».
Во время моего рассказа к нам подошел молодой человек, очевидно, сидевший в ресторане недалеко от нас, но которого я ранее не заметил, и на чистейшем русском языке начал меня подробно расспрашивать об убежище для эмигрантов в Нью-Йорке. Из его расспросов я заключил, что он предполагает сам туда ехать, о чем я его и спросил и на что он мне лаконически ответил: «да, может быть». <…> Молодой русский показался мне человеком очень несимпатичным, скажу более — с отталкивающей физиономией».[647]
Нечаев мог подойти к говорившим по-русски из любопытства, желания завязать еще одно знакомство, возможно, у него все же появилось стремление покинуть враждебную и опасную Европу. И начать сначала!
Живя более двух лет вне России, творец «Народной расправы» почти ничего не достиг, все планы рушились в самом начале их реализации, но главное — изоляция, она мучила его более всего. Возможно, он искренне не понимал, почему от него все отворачиваются. Ему не с кем было осуществлять задуманное, прекращались дела, накапливались усталость, раздражение, злость. Идти к кому-нибудь на поклон, в рядовые работники, он не мог. Даже для мнимого побега из Петропавловской крепости зимой 1869 года он придумывал генеральскую шинель, и не ниже. Постоянная боязнь попасться в руки усердно ищущей швейцарской полиции, скрываться от нее становилось все труднее и невыносимее с каждым днем. Почва давно уже стремительно ускользала из-под ног — затравили… Быть может, ему непреодолимо захотелось остановить бесконечное непрекращающееся бегство, порвать с постоянными неудачами, ссорами, интригами, склоками, доказать, всему миру доказать, что он способен на все им выдуманное о себе: тюрьма, в которой он еще ни разу не сидел, а лишь увлеченно рассказывал, как героически совершал побеги (конечно же, не идти в полицию с повинной, а попасть к ней в руки); суд, большой, громкий, публичный процесс, как над его жалкими сообщниками, все в золоте и бархате, холеная публика, французские духи, эполеты, аксельбанты, ордена, и он один, исхудалый, осунувшийся, обличает, а «Правительственный вестник» печатает каждое его слово, и весь мир затаив дыхание внемлет; бунт, и его освобождение, — многое проносилось в его необузданном воображении, в голове, склонной к фантазиям, перепутавшей ложь с правдой. Возможно, он решил, что для него в истории заготовлена единственная настоящая роль, сладостная роль мученика-обличителя, и он к ней готовился.
Нечаев не внял предупреждениям и никуда не уехал, он как бы не замечал скопления в городе полиции, свободно разгуливал по улицам, не опасаясь дневного света, ничего не предпринял, чтобы избежать ареста. Уж очень все это было на него не похоже.
«Адольф Стемпковский, — вспоминал Ралли, — был в то время секретарем интернациональной марксистской секции и, как таковой, сумел втереться в знакомство со всеми эмигрантами, проживающими в Цюрихе; был лично знаком с Бакуниным и близким человеком Грейлиха, главы цюрихских марксистов того времени. При посредстве-то этого Стемпковского русское правительство оборудовало поимку Сергея Геннадиевича».[648]
После получения доноса Стемпковского в Швейцарию выехал адъютант шефа жандармов майор Николич-Сербоградский. Выбор Николича-Сербоградского не был случайным. В секретной полиции знали, что Нечаев вынужден выдавать себя за серба, так как бежал из России с паспортом сербского гражданина. Жандармский майор был сербом и владел родным языком. В Базеле он появился 19 июля 1872 года и тут же принялся за разработку плана задержания Нечаева, для чего вызвал из Цюриха сотрудника швейцарской полиции Зега, оплачиваемого русскими властями, а затем Стемпковского. Проинструктировав Зега, обстоятельно поговорив со Стемпковским, пообещав ему беспрепятственное возвращение в Россию и вознаграждение за поимку Нечаева, жандармский майор отпустил их обратно, а 26 июля прибыл в Цюрих и сам. Ему обещали показать Нечаева, но этого не произошло. Осмотрев улицы, примыкавшие к месту, намеченному для захвата преступника, переговорив со Стемпковским и условившись о дальнейших действиях, Николич-Сербоградский вернулся в Берн. Там он встретился с русским посланником в Швейцарии князем М. А. Горчаковым и просил его обратиться к Федеральному правительству за содействием при задержании Нечаева. 29 июля утром в Базель приехал Стемпковский. Николич-Сербоградский обсудил с агентом детали предстоящего ареста и пообещал, в случае удачи, пять тысяч рублей золотом. В тот же день, сев в разные вагоны поезда, они выехали в Цюрих. Адъютант шефа жандармов явился к президенту Цюрихской кантональной полиции Пфеннингеру, предъявил ему документы и попросил помочь при аресте Нечаева.
В предместье Цюриха Геттингене находилась небольшая харчевня «Muller Caffe Haus». В ней, по утверждению Стемпковского, он назначил 2 августа в час дня Нечаеву встречу. Часом раньше в Геттинген прибыли Николич-Сербоградский, швейцарский майор и с ним восемь переодетых жандармов. Доносчик уже сидел в ресторанчике с членами Интернационала Г. Грейлихом и О. Реми и пил кофе. Пятеро жандармов заняли соседние столики, трое расположились снаружи. Как только Нечаев вошел в харчевню, Стемпковский оставил своих товарищей и уселся с Сергеем за другой столик. Через некоторое время к ним подошел старший из жандармов и попросил Нечаева выйти, так как «имеет передать ему несколько слов». Сергей вышел из ресторанчика, жандармы набросились на него и мгновенно связали. На крик выскочил Стемпковский и сделал вид, будто пытается освободить задержанного.
В тот же день Николич-Сербоградский докладывал П. А. Шувалову, что при обыске у Нечаева обнаружили «шестиствольный отличный большой револьвер (все стволы заряжены), два бумажника, в коих записано много имен высших сановников Российской империи, два письма — одно на французском, другое на русском языке (ответ на сие последнее письмо просят Нечаева дать через посредство редакции «Биржевых ведомостей»), пять экземпляров новой революционной программы на польском языке и четыре конверта с адресами… Кроме того, найдено несколько записок, между прочим, одно на имя M-lle Herzeana, Paris, и, наконец, старый кожаный кошелек, где было 1 франк 40 центов, и старый же средней величины складной ножик».[649]
На городской гауптвахте Нечаев заявил, что он серб, но, когда Николич-Сербоградский заговорил с ним по-сербски, ни на один вопрос ответить не смог. Тогда адъютант шефа жандармов объяснил ему, что русскому и швейцарскому правительствам безусловно известно, кто он.
Весть об аресте Нечаева быстро распространилась по городу. Грейлих и Реми прибежали к Д. И. Рихтеру и рассказали о случившемся, тот отправился с новостью к В, Н. Смирнову, но он случайно встретил Нечаева на улице и все понял.[650] Русские, польские, немецкие и французские эмигранты произвели расследование случившегося и решили устроить над предателем товарищеский суд. Турский, живший с Нечаевым на одной квартире, рассказал, что тот нуждался в деньгах, и Стемпковский пригласил его на свидание, обещая помочь найти работу. «Суд объявил Стемпковского шпионом и постановил исключить из всех обществ, членом которых он состоял».[651] Предатель на суд не явился, он попросил зашиты у кантональной полиции, которой оказывал эпизодические услуги.[652] Вскоре Стемпковский навсегда покинул Цюрих. Российские власти не выполнили обещания, решение вопроса о выдаче ему русского паспорта откладывалось, Шувалов колебался и не докладывал о нем царю. 4 февраля 1873 года Горчаков писал в Петербург:
«Вчера поляк Витольд Скржинский, кондитер, приехавший из Цюриха, сделал четыре револьверных выстрела в Стемпковского и его семью, в их квартире, но никого не ранил. Это месть комитета за Нечаева. Федеральные муниципальные власти города Берна в большом волнении; преступник скрылся».[653] Покушение, возможно, инсценированное пострадавшим, ускорило решение судьбы предателя. Стемпковский состоял секретным агентом III отделения с конца пятидесятых годов. Его участие в Варшавском восстании 1863 года и последующее бегство в Европу были не что иное, как выполнение заданий полицейских властей. Иногда его сильно заносило, он переигрывал настолько, что начальство выражало ему свое неудовольствие, так было в Варшаве и Цюрихе, где шпион переусердствовал в своих революционных выходках. Монарх простил ему эти прегрешения, но полицейские власти ехать в Россию Стемпковскому не позволили. Он продолжал выполнять поручения III отделения, а затем Департамента полиции. В 1883 году новый глава политического сыска империи Г. К. Семякин отчислил его из Заграничной агентуры, так как он «вполне бесполезен» и «даже вреден».[654]
Русская эмиграция в Цюрихе и Женеве выразила протест швейцарским властям, арестовавшим Нечаева. Подписавшие его Бакунин, Озеров, Ралли и другие неопровержимо доказывали, что Нечаев совершил политическое преступление и поэтому швейцарское правительство не должно передавать его в руки русских полицейских властей. П. Л. Лавров от подписания протеста уклонился.[655] Заступничества эмигрантов были оставлены без внимания.
После получения известия об аресте Нечаева III отделение приступило к действиям, имевшим целью вынудить швейцарское правительство передать опасного уголовного преступника русским властям. 18 августа 1872 года товарищ главноуправляющего III отделением граф Н. В. Левашев направил управляющему Министерством юстиции О. В. Эссену письмо следующего содержания:
«Главный виновник совершенного в Ноябре 1869 года близ Москвы убийства студента Петровской Земледельческой и Лесной Академии Иванова, бежавший за границу бывший приходской учитель Сергей Геннадиев Нечаев арестован в Цюрихе в Швейцарии.
Швейцарское правительство предварительно выдачи этого преступника, желает иметь официальное юридическое удостоверение в содеянном Нечаевым преступлении и поэтому, как Ваше Превосходительство изволите усмотреть из прилагаемой копии телеграммы нашего посланника в Берне, обратилось к Князю М. А. Горчакову с просьбою о доставлении, в засвидетельственных переводах, обвинительного акта, составленного в свое время против Нечаева, и последовавшего относительно его сообщников судебного приговора.
Швейцарскому правительству неизвестно, что наши законы не допускают заочного процесса по уголовным преступлениям, и тем объясняется вышеупомянутое требование его. С другой стороны, означенная особенность нашего законодательства была причиною тому, что, пока Нечаев находился в безвестной отлучке, обвинительный акт по совершенному им преступлению не мог быть составлен. Ныне же задержанием Нечаева эта причина устранена, тем более что все обстоятельства преступления, казалось бы, достаточно выяснены предварительным следствием и судебным процессом, коим подверглись ею сообщники.
Руководствуясь ВЫСОЧАЙШЕ утвержденными 19 мая 1872 г. правилами, по коим от соглашения Министра Юстиции с Шефом Жандармов зависит направление дел по преступлениям в тех случаях, когда общее преступление усложняется политическою деятельностью преступника, — я полагал бы не возбуждать против Нечаева обвинения в государственном преступлении, заключавшемся в составлении тайного общества с политической целью, а ограничиться преданием его суду единственно за убийство студента Иванова, ибо составление тайного политического общества не влечет за собою непременного совершения убийства, и следовательно последнее преступление является самодеятельным и может быть рассмотрено независимо от первого.
Имею честь покорнейше просить Ваше Превосходительство не изволите ли признать возможным сделать распоряжение, чтобы, ввиду означенного требования Швейцарского правительства, подлежащее судебное место в этом смысле составило обвинительный акт против Нечаева, который по изготовлении и утверждении, соблаговолите препроводить ко мне».[656]
Педантичный Эссен ответил Левашеву, что обвинительный акт без допроса написан быть не может, так как это противоречит действующим законам, но Швейцарское правительство не настаивает на его предъявлении, а «удовлетворится всяким документом, свидетельствующим о виновности Нечаева в уголовных преступлениях».[657] Эссен передал Левашеву официальные бумаги о привлечении Нечаева к делу об убийстве Иванова, сопроводив их показаниями осужденных по «Процессу нечаевцев». 27 августа Эссен представил Александру II доклад, в котором подробно изложил свои действия, направленные на передачу Нечаева русскому правительству. В конце доклада Эссен сообщил, что командировал в Швейцарию в полное распоряжение Горчакова редактора Департамента Министерства юстиции А. А. Казем-Бека, «обладающего всеми необходимыми качествами для исполнения этого поручения».[658]
III отделение, Министерства юстиции и иностранных дел, объединенные желанием монарха во что бы то ни стало пересадить Нечаева из швейцарской тюрьмы в русскую, завершили подготовку необходимых документов. 30 августа 1872 года Федеральному правительству Швейцарии была отправлена нота об убийстве Иванова. В ней сообщалось, что «оно не имеет тесной связи с остальными обвинениями и составляет самостоятельное деяние, не находящее себе ни объяснения, ни повода в политических убеждениях, высказанных при других обстоятельствах теми лицами, которые столь слепо были вовлечены в преступление, возбуждает отвращение и преследуемое во всех образцовых нациях.[659]
Пока высшие администраторы империи готовили эти документы, а Горчаков вел переговоры с швейцарскими властями, Нечаев сидел в цюрихской тюрьме. Режим содержания русского уголовника был установлен необычно строгий, его усиленно караулили; передачи, свидания и переписка ему не разрешались. Лишь в конце сентября Сергею позволили несколько свиданий с участницей сажинского кружка русской студенткой Цюрихского университета Е. Н. Южаковой, якобы его невестой. Свидания происходили в особой комнате, Южакова и Нечаев сидели по разные стороны длинного стола и разговаривали только по-немецки или по-французски, иначе свидание немедленно прекращалось. Когда в Цюрихе стало известно, что вопрос выдачи Нечаева решен, им дали последнее свидание и разрешили расцеловаться. Во время прощания Нечаеву удалось передать Южаковой записку[660] для Сажина: «Архив мой находится у мадам Клеман в том городе, из которого я писал Вам тогда, возьмите его. Я уверен, что вы поступите с ним наилучшим образом. Я погиб».[661]
«Об архиве Нечаева я много слышал, — вспоминал Сажин. — Да кроме того и сам Нечаев показывал мне описание этого архива. Надо сказать, что Нечаев вообще не доверял людям. В убеждения человека он тоже не верил. Он считал необходимым иметь у себя какие-либо документы, чтобы с их помощью держать нужного человека в своих руках. Преследуя эту цель, Нечаев оправдывал все средства. Неведомыми путями, чуть ли не путем кражи, ему удавалось добыть массу писем компрометирующего свойства от всех выдающихся русских людей. <…> Мало того, от своих сторонников Нечаев отбирал особые письменные обязательства, в которых говорилось, что «я, именуемый таким-то, предан, душой и телом Комитету «Народной расправы». «<…>. Таким образом Нечаев мог заставить любого сторонника быть верным его делу, ибо этот последний все время ощущал свою зависимость от него. Помимо этого в архиве Нечаева находилась масса адресов, различные списки лиц и т. п.».[662]
Сажин немедленно отправился в небезопасный для него Париж, именно там Нечаев оставил свой архив. Он не мог допустить, чтобы документы оказались в руках заграничных агентов русского правительства. В Париже Сажин явился к П. Л. Лаврову, и они приступили к поиску. Оказалось, что фамилия Клеман распространена во Франции, как в России — Иванов. Чертыхаясь, они выписали из адресной книги всех мадам Клеман, разделили Париж на районы, пригласили в помощь несколько русских студентов и приступили к делу. Поиск мог длиться вечность и закончиться ничем, но помог случай. Сажин набрел на книжный магазин госпожи Бриссак и вспомнил, что о ней ему рассказывал Нечаев. Мадам Бриссак указала Сажину адрес Клеман, у нее всегда в Париже останавливался Нечаев.
Получив все пожитки Сергея, Сажин решил архив отправить в Цюрих багажом, а книги, газеты и прочее оставить у Лаврова, предполагавшего вскоре переехать в Швейцарию и перевезти их со своими вещами. Почти все документы, оказавшиеся в архиве Нечаева, после просмотра Гольштейном, Ралли и Эльсницем Сажин уничтожил. Исключения составили письма Н. А. Герцен, их ей возвратили. «Помимо писем, — вспоминал Сажин, — в архиве Нечаева оказалось около 200 или 150 карточек. На одной стороне карточки стоял шифр — это были имя и фамилия лица, на другой же приводилась довольно полная характеристика этого лица, причем указывались все отличительные черты его характера; и в результате делался вывод — на какую деятельность способно это лицо».[663] Нечаев внес в свою картотеку почти всех активных участников российского революционного движения, странное для того времени предприятие. Наблюдая его действия, выявляя привязанности и увлечения, невольно обращаешь внимание на неистовую страсть Нечаева к бюрократии — девятнадцатилетним юношей начал он собирать и систематизировать личный архив, внедрил строжайшую отчетность во всех кружках «Народной расправы», странная тяга к хранению чужих расписок в получении денег, обязательств, векселей, личных документов, записочек даже совершенно незнакомых людей. Возможно, в бюрократии он видел один из главнейших атрибутов власти. Увы, интереснейший для исследователей нечаевский архив погиб в безвестном цюрихском камине, но вряд ли мы вправе осуждать за это Сажина.
Несмотря на резко отрицательное отношение к Нечаеву политических эмигрантов, проживающих в Цюрихе, отыскались желающие предпринять попытку освободить его во время следования из тюрьмы на вокзал. Группу из пяти-шести человек возглавил Турский. «Для такого дела, — писал Сажин, — нужны люди решительные, энергичные, физически сильные, находчивые и с инициативой, а таких-то среди них никого не было. Да и попытку-то следовало сделать не в Цюрихе, где было много полиции, по дороге и на вокзале, а где-нибудь на промежуточной станции. Они ожидали Нечаева на вокзале около поезда, и никто из них не бросился освобождать его; они только вошли в вагон следом за Нечаевым, потолкались у дверей, смотря на него и на охранников, которых было трое, из них двое здоровенных переодетых русских жандармов. У Нечаева на руках были наручники».[664]
Много раз наш герой талантливо описывал мнимые аресты и чудесные освобождения преданными соратниками, дерзко отбивавшими его у полчищ охранников. Ничего подобного наяву не произошло. Его арестовали один раз, и навсегда. По поводу выдачи Нечаева русским властям Бакунин писал Огареву:
«Итак, старый друг, неслыханное свершилось. Несчастного Нечаева республика выдала. Что грустнее всего, это то, что по этому случаю наше правительство без сомнения возобновит Нечаевский процесс и будут новые жертвы. Впрочем, какой-то внутренний голос мне говорит, что Нечаев, который погиб безвозвратно и без сомнения знает, что он погиб, на этот раз вызовет из глубины своего существования, запутавшегося, загрязнившегося, но далеко не пошлого, всю свою первобытную энергию и доблесть. Он погибнет героем, и на этот раз ничему и никому не изменит. Такова моя вера. Увидим скоро, прав ли я. Не знаю как тебе, а мне страшно жаль его. Никто не сделал мне, и сделал намеренно, столько зла, как он, а все-таки мне его жаль».[665]
На сей раз М. А. Бакунин оказался прав.
Закончу эту главу двумя цитатами; первая принадлежит одному из авторов книги «Сытые и голодные», вышедшей в Женеве в 1875 году:
«Нечаев мало знал историю человеческого общества. Не ведал он, что захватывали власть разные люди, но народа не облагодетельствовали. Не знал он, что если сам рабочий люд не спасет себя, то не спасут его никакие доброжелатели. Такие люди как Нечаев, сами того не замечая, постепенно делаются врагами тех, за кого хотят жизнь свою положить. Нечаев был враг вольного союза общин трудящегося народа; он не доверял здравому смыслу и воле народа; он считал народ рабочий бессмысленной толпой, которою надо командовать <…>.[666]
Вторая цитата из статьи присяжного поверенного К. К. Арсеньева, написанной сразу же после «Процесса нечаевцев»:
«Тайное общество есть отрицание закона; лучший оплот против тайных обществ — безусловное господство закона, всестороннее уважение к нему, искреннее и последовательное применение его ко всем областям общественной жизни, в особенности к больным местам, к слабым сторонам ее. Нападение на государство, как и на всякий другой живой организм, всегда вызывает с его стороны реакцию против нападающего; и с этой точки зрения крутой поворот назад, везде и всегда существующий за крупными политическими преступлениями, представляется явлением совершенно естественным, хотя и прискорбным. Но, по миновании первых тревожных минут, движение вперед, прерванное преступной попыткой, опять вступает в свои права и успокаивает умы гораздо вернее, чем продолжительное напряжение всех карательных и предупредительных сил государственной власти».[667]
Голос Арсеньева никем услышан не был, более того, министр внутренних дел А. Е. Тимашев сделал издателю журнала «Вестник Европы» строжайшее предупреждение за усмотренные в статье Арсеньева нападки на правительство.
СУД
Итак, Нечаева благополучно доставили в Россию. 19 октября 1872 года его привезли в Петербург. Монарх не решил еще, где устроить суд, и поэтому пожелал спрятать преступника в наиболее надежном месте. Арестанта поместили в Трубецкой бастион Петропавловской крепости. Комендант крепости, генерал от кавалерии Н. Д. Корсаков, получив уведомление управляющего III отделением А. Ф. Шульца, принял решение об охране камеры с опаснейшим преступником не только снаружи, но и изнутри, для чего установил в ней круглосуточное дежурство «подчаска». После убийства Иванова и суда над нечаевцами никто в России не помышлял даже о разработке плана освобождения Нечаева. Многие называли главу московских заговорщиков «шпионом, агентом-подстрекателем», ему не сочувствовали, скорее наоборот.[668] Разумеется, полицейские власти были осведомлены об этом и тем не менее усиленно охраняли заключенного.
В день появления Нечаева в крепости министр юстиции граф К. И. Пален предложил своему исполнительному заместителю О. В. Эссену приступить к подготовке судебного процесса, тревожившего своей необычностью не только правительство, но и обитателей Зимнего дворца. Александр II не мог и не желал нарушить обещание судить Нечаева как уголовного преступника. Министр юстиции понимал, что обвиняемый непременно попытается превратить уголовный процесс в политический. Поэтому Пален особенно ревностно наблюдал за действиями чиновников, занятых разработкой мероприятий, целью которых было недопущение любого изменения в заранее предусмотренном ходе судебного разбирательства. Через четыре дня после заключения Нечаева в крепость министр получил от Эссена следующий документ:
«Записка для памяти
Нечаев, как известно, выдан нашему правительству под условием суждения его как убийцы, но отнюдь не за политические убеждения и действия его. Нет, однако, никакого сомнения, что на суде Нечаев будет мотивировать преступление свое в смысле политическом; защитником своим он, конечно, постарается избрать такое лицо, на большее или меньшее сочувствие которого он может рассчитывать; да наконец защитнику и не легко будет обойти то, что поводом к убийству было разногласие в политических взглядах Нечаева и Иванова.
При этих условиях роль обвинителя будет самая тяжелая; в случае неудачи положение правительства будет щекотливое. В интересе желаемого исхода процесса необходимо, чтобы прокурор, на долю которого выпадет обвинение Нечаева, не только был хороший криминалист; нужно, чтобы он был очень близко знаком с предварительным следствием об убийстве Иванова, с процессом «нечаевского» дела и по преимуществу с той частью его, которая производилась в Москве, — где был узел всего дела и даже с самими личностями. Такими условиями обладают два лица прокурорского надзора: бывший товарищ прокурора Московской судебной палаты, а ныне товарищ обер-прокурора уголовного кассационного Департамента Правительствующего сената г. Стадольский и бывший товарищ прокурора Московского окружного суда, а ныне, кажется, прокурор Тульского окружного суда г. Колоколов; оба они участвовали в производстве дознания по «нечаевскому делу»; они же были при предварительном следствии, которое производил сенатор Чемадуров, а под наблюдением г. Колоколова производилось следствие об убийстве Иванова, до тех пор, пока оно было приобщено к делу Нечаева. Оба эти лица были назначены министром юстиции, и стоило только посмотреть как они вели дело, чтобы убедиться, что лучшего выбора быть не могло. Но г. Стадольский, по занимаемой им теперь должности, едва ли может быть обвинителем при Окружном суде и следовательно остается один г. Колоколов. Если бы он был назначен на это время в Москву, то позволительно думать, что можно затруднений избежать.
Нельзя забывать, что настоящий процесс Нечаева, по месту совершения убийства, должен производиться в Москве, г. е., так сказать, за глазами, а г. Колоколов, кроме всех достоинств его, — один из самых преданнейших лиц престолу и отечеству и, при всей скромности его, чрезвычайно серьезно относится к делу, не поддаваясь никаким посторонним влияниям.
В заключение нужно обратить внимание на то, что в Москве надежных мест заключения нет: когда производилось «политическое» дело Нечаева, такая, например, личность как (Н. И.) Николаев, содержался в особой комнате при Комиссии, — а ко всем другим, арестованным в частях, были приставлены жандармы и сверх того был назначен особый жандармский офицер, постоянно объезжавший эти места заключения. Окружной суд в Москве едва ли может принять подобные меры, а в Москве подобные предосторожности во всяком случае не лишни.
23 октября 1872 г.».[669]
Прислушавшись к мнению Эссена, процесс над Нечаевым решили устроить по месту совершения преступления. Колоколов, получивший повышение, состоял прокурором Тульского окружного суда и поэтому выступить обвинителем по делу об убийстве Иванова не мог.
Между тем Нечаева в камере посетил начальник Штаба Корпуса жандармов граф Н. В. Левашев и предложил ему для смягчения грядущего приговора дать откровенные показания, но получил отказ. 7 декабря для производства следствия в крепости появился прокурор Московской судебной палаты Н. А. Манасеин в сопровождении прокурора Московского окружного суда и судебного следователя. Разговора с обвиняемым у них не получилось. Нечаев вел себя вызывающе. Сколько было еще посещений и когда закончилось следствие, нам неизвестно. Ровно через два месяца после доставки Нечаева в крепость министр юстиции обратился к главноуправляющему III отделением графу П. А. Шувалову с просьбой распорядиться об отправке преступника в Москву и передаче судебному следователю для дальнейшего производства дела. Перевозку Нечаева в Первопрестольную политическая полиция поручила жандармскому майору Ремеру. Ему было приказано оставаться там безотлучно для надзора за охраной Нечаева во время следствия и суда над ним.
Арестанта поместили в особую камеру Сущевской полицейской части. Начальник Московского губернского жандармского управления, генерал-лейтенант И. Л. Слезкин, выделил для его охраны офицера, унтер-офицера и десять рядовых. «Нечаев здоров, — писал Слезкин, — с прокуратурой обращается весьма своеобразно; на предложение прокурора ему прочесть следственное дело об убийстве Иванова ответил, что не имеет в этом надобности, не подчиняясь законам, считает себя к ним лицом индифферентным, но если это уж необходимо, то он готов слушать то, что ему будет прочитано: таким образом, судебный следователь исчитал ему дело: в конце концов было то, что Нечаев отозвался прокурору, что не признает себя виновным в убийстве Иванова и считает себя только политическим преступником».[670]
28 декабря прокурор Окружного суда приехал в Сущевскую часть для вручения Нечаеву обвинительного акта, но тот отказался его принять и не подписал расписку в получении. Тогда обвинительный акт был оставлен в камере на столе, Сергей сбросил его на пол, но ночью все же прочел. Ни повестку о вызове в суд, ни список присяжных заседателей он в руки взять не пожелал и от защитника, разумеется, отказался.
Столичные и московские полицейские власти не покидала тревога, они опасались нападения единомышленников арестанта на конвой, поэтому, согласно предписаниям Левашева, Слезкин распорядился организовать тайную доставку Нечаева в здание Окружного суда в ночь на 8 января 1873 года и его возвращение в Сущевскую полицейскую часть ночью же после суда. Конвой с трудом поспевал за черной арестантской каретой, мчавшейся по чуть покрытой мокрым талым снегом булыжной мостовой. Скакавший рядом Ремер с опаской поглядывал на заляпанные грязью колеса, едва удерживавшиеся на осях. Он превосходно помнил, сколько волнений доставила ему неисправность арестантского фургона, доставившего нечаевцев на гражданскую казнь и обратно в Литовский замок. Наверное, его поэтому и отправили с Нечаевым в Москву. Сергея трясло и бросало в разные стороны, он не мог сосредоточиться и оттого злился. Возникло предчувствие — все пойдет иначе, чем хотелось, коли так везут — таков и суд будет; в карете на обратном пути пережил он разочарование ходом слушания дела. Если бы не так везли, не довели бы обвиняемого до такой степени бешенства, то и процесс, возможно, прошел бы иначе, чуть иначе…
Незадолго до начала судебного разбирательства, 5 января 1873 года, Александр II повелел, чтобы «повременные издания ограничились перепечатками стенографического отчета «Правительственного вестника», как то исполнялось в 1871 г.».[671] Тогда, во время «Процесса нечаевцев» министр юстиции откомандировал «особого чиновника» А. А. Казем-Бека для редактирования стенографического отчета. По распоряжению монарха Пален и в этот раз предложил Казем-Беку выехать в Москву для «присутствия» на слушании дела и выполнения деликатной работы со стенографами. Стенографический отчет суда над Нечаевым появился 12 января 1873 года в «Правительственном вестнике» (№ 10). В 1903 и 1906 годах его дважды перепечатал В. Я. Яковлев (Богучарский, Базилевский).[672] В феврале 1904 года в лондонском историческом сборнике «Былое» его в весьма сокращенном виде опубликовал В. Л. Бурцев.[673]
Судебное заседание открылось 8 января 1873 года в 12 часов дня и продолжалось до пяти часов вечера. Оно окончилось бы и раньше, если бы не инциденты, связанные с дерзким поведением Нечаева. Поздно вечером на имя министра юстиции Палена был отправлен следующий отчет о происшедшем в стенах подведомственного ему учреждения:
«Краткий отчет о судебном заседании по делу мешанина Сергея Нечаева.
Введенный в зал заседаний, Нечаев на первый вопрос Председателя об его имени, отчестве и т. п. ответил: «Прежде чем ответить на предлагаемые мне вопросы, считаю нужным объяснить, что я не признаю за русским судом права судить меня: я эмигрант и перестал быть подданным Российской Империи».
В публике раздался общий крик: «вон!» и одновременно с этим Председатель приказывает вывести подсудимого, а затем объявляет публике, что она обязана воздерживаться от всякого рода заявлений, иначе он поставлен будет в необходимость удалить ее из зала заседания, так как закон требует суда не от публики, а от особо избранных для сего органов судебной власти.
После того Прокурор на вопрос Председателя заявил, что ввиду находящихся в деле документов, подписанных самим подсудимым и не отвергнутых им, он не видит повода сомневаться в личности обвиняемого.
Перед составлением списка присяжных заседателей Нечаев вновь был введен в зал заседания и на вопрос Председателя: не желает ли он воспользоваться правом отвода присяжных? ответил: «Я уже заявил, что не признаю формальностей русского суда; я уже давно перестал быть рабом вашего деспота!»
По распоряжению Председателя его снова увели и слова его, по требованию Прокурора, заносят в протокол.
Состав присяжных: 5 купцов, 1 потомственный почетный гражданин, 2 цеховых, 2 мешанина, 1 крестьянин, 1 чиновник VIII класса, 1 доктор медицины Мартинберг, 1 провизор Гофман, который и избран старшиной.
Объясняя присяжным их права и обязанности, Председатель между прочим упомянул, что суд должен быть спокоен и беспристрастен, что по сему они должны отрешиться от того тяжкого впечатления, которое произвели на всех безумные выходки подсудимого, внимательно слушать все то, что будет происходить на суде, и постановить приговор по внутреннему убеждению, основанному на обстоятельствах дела, и тем самим лишить подсудимого возможности говорить, что приговор над ним произведен под влиянием минутного впечатления.
По прочтении обвинительного акта Нечаев на вопрос Председателя: признает ли он себя виновным в том преступлении, в котором его обвиняют — ответил: «факт убийства Иванова есть факт чисто политического характера» и другого ответа не дал.
Из числа вызванных обвинительной властью свидетелей явился один студент Петровской Академии Мухартов (остальные сосланы в каторжные работы или же не разысканы), который удостоверил, что Иванов за четыре дня перед тем, как найден был убитым, ушел с квартиры, взяв принадлежащий Мухартову башлык, которым и связаны были ноги Иванова.
На вопрос Председателя; не имеет ли подсудимый возразить что-либо против показания свидетеля? Нечаев ответил, что он не признает себя подсудимым. По поводу показаний не явившихся свидетелей и других прочитанных в суде документов Нечаев никаких возражений не сделал.
Прокурор в краткой, но сильной речи объяснил тяжесть преступления как предумышленного, совершенного в засаде и сопровождавшегося присвоением вещей убитого; выяснил силу и значение свидетельских показаний, вполне согласных между собой и подтвержденных другими обстоятельствами дела, а также и то, что убийство Иванова было совершено не из политических видов, а из личной ненависти к нему Нечаева, вследствие несогласия в их образе мыслей, и затем, перечислив увеличивающие вину подсудимого обстоятельства, выразил убеждение, что Нечаев должен быть признан зачинщиком убийства.
На речь Прокурора Нечаев ответил: «я считаю унизительным защищаться против клеветы, я повторяю слова, сказанные мною в крепости Графу Левашеву: правительство может отнять у меня жизнь, но не честь!» (Рисуясь, ударяет себя в грудь. В публике слышен смех!)
Председатель начал свою речь с того, что в настоящее время не может быть речи о неподсудности дела как русскому суду вообще, так и в частности Московскому Окружному Суду, потому что, во-первых, Нечаев предан суду установленным порядком за простое убийство, по факту совершения преступления, во-вторых, что дело это не имеет никакой связи с каким-либо политическим делом, в чем положительно убедилось и Швейцарское правительство, выдавшее Нечаева, и в-третьих, что всякое самостоятельное государство имеет право судить даже иностранных подданных за преступления, совершенные в его пределах. По сим соображениям заявления Нечаева должны быть признаны неосновательными. Затем, определив силу и значение находящихся в деле доказательств виновности Нечаева, как зачинщика в убийстве Иванова, и указав на обстоятельства, увеличивающие вину его, Председатель сказал присяжным, что в Высочайшем Манифесте, изданном пред введением в России судебной реформы, выражено желание законодателя, чтобы в «судах царствовала милость», что милостью действительно проникнуты судебные уставы, предоставляющие подсудимому все средства к оправданию, дозволяющие суду смягчить определенные в законе наказания, а в известных случаях и ходатайствовать за подсудимого перед Императорским Величеством, что в этих только пределах милость и мыслима как законная, что вне этих пределов милость будет уже не справедливая, не удовлетворяющая другому требованию законодателя «да царствует в судах правда» и что таким образом присяжные должны признать и могут признать подсудимого заслуживающим снисхождения лишь в том исключительном случае, когда выведут из обстоятельства дела полное и глубокое в том убеждение; в противном случае снисхождение, как незаслуженное подсудимым, должно лечь тяжестью на совести присяжных.
Присяжные через несколько минут совещания вынесли обвинительный вердикт, по объявлении которого Нечаев с дерзостью закричал: «это Шемякин суд!», вследствие чего и был удален из зала заседания.
Введенный затем вновь, Нечаев, по объявлении резолюции и приговора суда (в окончательной форме), которым он, согласно заключения Прокурора, приговорен к лишению всех прав состояния и ссылке в каторжные работы в рудниках на двадцать лет, воскликнул: «Да здравствует Земский собор! Долой деспотию!»
Вообще подсудимый в продолжении заседания обнаруживал дерзость и неуважение к суду.
Товарищ Прокурора Московской Судебной Палаты В. Петров».[674]
Заседание суда проходило под председательством сенатора П. А. Дрейера при членах П. Д. Орлове, Б. В. Завьялове и прокуроре К. Н. Жукове. Вынужденное заявление прокурора о «присвоенных» вещах убитого усиливало доказательство участия Нечаева в обычном уголовном преступлении. Летом 1871 года требовалось убедить присяжных заседателей в том, что подсудимые совершили политическое преступление. Поэтому в обвинительном акте по делу нечаевцев сказано, что хищения вещей не обнаружено.[675] Мы располагаем свидетельствами Слезкина, Ремера, корреспонденциями различных публицистов и стенограммой процесса. Все они дополняют приведенный выше краткий отчет Петрова, подтверждают его достоверность и объективность изложения.
Ф. М. Достоевский внимательно следил за всем, что касалось Нечаева; прочитав в газете отчет о процессе, он писал:
«Так в последнее время удивил меня процесс Нечаева. Ведь, уж кажется, следил за делом, даже писал о нем и вдруг — удивился: никогда я не мог предположить себе, чтобы это было так несложно, так однолинейно глупо. Нет, признаюсь, я до самого последнего момента думал, что все-таки есть что-нибудь между строчками, и вдруг — какая казенщина! Ничего не мог я себе представить неожиданнее. Какие восклицания, какой маленький-маленький гимназистик. «Да здравствует Земский собор, долой деспотизм!» Да неужели же он ничего не мог умнее придумать в своем положении!»[676]
Первое известие об окончании судебного заседания в Московском окружном суде поступило монарху.
«Императорский Телеграф в Зимнем дворце
Телеграмма № 1471
«38» слов
Подано в Москве 1873 г. в 6 ч. м. по пд. (пополудни. — Ф. Л.).
8 января
Получено в Петербурге
1873 г. 6 ч. 25 м. по пд.
Его Императорскому Величеству
8 января в 5 часов пополудни, Московский Окружной Суд приговорил бывшего мещанина Нечаева к каторжной работе в рудниках сроком на 20 лет согласно решению присяжных. В Москве все состоялось благополучно
Генерал-Адъютант Князь Долгоруков».[677]
Аналогичные телеграммы своим начальникам отправили Слезкин, Ремер и Жуков.
Нечаева оставили в Москве на двухнедельный апелляционный срок и для производства гражданской казни. Утром 10 января осужденный попросил у караульных перо и бумагу, но написал не прошение о смягчении наказания, а обличительный меморандум.
«Граф! — писал Нечаев Левашеву. — Когда я сидел в крепости, Вы желали получить от меня объяснения существенной стороны нашего дела для «смягчения моей участи». Именно поэтому я и отказался дать это объяснение. Теперь, когда участь моя уже решена, я счел бы возможным отчасти удовлетворить Ваше желание и восстановить факты в их настоящем виде, опровергнув искажения и ошибки, которыми наполнено следствие г. Чемадурова и обвинительный акт г. Половцева. Слова человека, приговоренного к 20-летней каторге, могут иметь надлежащий вес, и никто не вправе сомневаться, что в них скрывается что-либо, кроме желания восстановить истину. Но в настоящем письме я ограничиваюсь тем, что прошу вас обратить внимание на факт, который вряд ли может соответствовать административной системе даже самой нецивилизованной страны. Факт этот следующий: когда в зале суда раздались рукоплескания публики и председатель решил меня удалить, — меня вытащили сперва в коридор, а потом в пустую залу; здесь жандармский караульный офицер начат бить меня сперва руками в спину, а потом ногой… Это дикое поведение г. офицера было тем возмутительней, что я никогда не оказывал ни малейшего сопротивления жандармам и был всегда хладнокровен и вежлив со всеми. Как ни был я раздражен подобным поступком, тем не менее я не заявил об этом безобразии на суде, когда снова был введен в залу заседания. Говоря, откровенно, меня удержало от этого заявления единственное нежелание бросить слишком невыгодную тень на жандармских офицеров вообще, потому что другие обращались со мной довольно деликатно. Я спросил фамилию палача, он не сказал. Узнать ее, конечно, нетрудно, так как этот самый офицер находился в карауле, в Сущевской части, в день моего приезда в Москву и уже тогда обращался со мной в высшей степени грубо, безобразно, хотя тогда он еще не позволял себе прибегать к кулакам.
Я не думаю, чтобы какое-либо правительство, как бы то ни было абсолютно, могло гордиться тем, что имеет своими офицерами рыцарей кулачного права. Я знаю хорошо, что факты вроде приведенного мною не составляли исключения лет 5–6 тому назад, при Вашем предшественнике г. Мезенцеве, но я полагал, что реформы, произведенные за последние три года, как бы они ни были поверхностны, во всяком случае сделали невозможным кулачное самоуправство. Неужели я ошибся?
Граф, если политические соображения заставили правительство прибегнуть к тому, чтобы взвести на меня, преступника исключительно политического, обвинение в преступлении уголовном, если Ваш предшественник г. Мезенцев видел единственную возможность помешать моей деятельности этим ложным обвинением и потому приказал произвести следствие об убиении Иванова отдельно от следствия о заговоре, чтобы иметь возможность требовать моей экстрадиции (передача лица, совершившего уголовное преступление, одним государством другому. — Ф. Л.) от иностранных держав, — во всем этом видна, по крайней мере, цель, желание устранить меня, как «беспокойную личность». Можно удивляться политическому легкомыслию г. Чемадурова, производившего следствие в продолжение двух лет и не сумевшего отличить существенное от внешнего, — можно удивляться бестактности г. Половцова, который в своем обвинении представил нелепый катехизис как образчик убеждений заговорщиков, не обращая внимания на то, что никто из этих заговорщиков не только не был знаком с содержанием катехизиса, но и не мог читать шифр, которым он был напечатан. При этом неоспоримо, что если гг. следователи и г. прокурор не отличались политической дальновидностью, то руководились искренним желанием нанести удар так называемой «революционной гидре», загрязнивши, оклеветавши и уронивши для этого в общественном мнении молодых людей, вздумавших заниматься общественными интересами. Если эта последняя цель не была достигнута, если русское общество не поверило обвинению, а напротив, с большим уважением отнеслось к жертвам политики не соответствующей духу времени, то причиной этому уже, конечно, не недостаток усердия гг. обвинителей. Итак, как ни предосудительны были приемы, употребленные против меня и моих товарищей, как ни мало они достигли цели, все-таки эта цель у правительства была — это желание парализовать деятельность оппозиционных элементов. Но теперь я уже в ваших руках, лишен возможности продолжать мое дело, осужден за преступление, которого не совершил, приговорен к 20-летней каторге, к высшей мере наказания, возможной по условию с Швейцарией. К чему же еще бить меня? Зачем это зверское обращение?.
Я пишу к Вам, граф, и позволяю себе думать, что поведение жандармского офицера не получит Вашего одобрения. Я надеюсь, что мне не предстоит в будущем подвергаться ряду подобных оскорблений, которые столь же бесцельны, сколь позорны для самих оскорбителей. Я позволю себе по поводу этого факта высказать Вам, граф, несколько общих соображений. Участь моя решена или почти решена, — я иду в Сибирь, в словах моих не может быть ничего, кроме правды, которую вам, вероятно, приходится слышать не часто в Вашем высоком положении. Государственный пост, который вы занимаете, дает Вам возможность видеть состояние современных дел. Оставляя в стороне мечтателей и приверженцев утопий, нельзя все-таки не сознаться, что Россия теперь — накануне политического переворота. Всегда и всюду в обществе были сторонники известных передовых стремлений более или менее радикального разрушительного характера, всегда были мелкие конспирации, ничтожные заговоры, но все это прежде было лишь результатом брожения немногих умов, а потому могло быть подавлено репрессивными мерами до поры до времени. Теперь дело стоит иначе: в России уже образовались стремления, присущие целому обществу, — стремления гораздо более определенные, более настоятельные и потому более возможные для осуществления. Подобные стремления составляют неизбежную принадлежность известной степени общественного развития. Как у ребенка, пришедшего в возраст, неизбежно прорезаются зубы, так и у общества, достигшего известной степени образованности, неизбежно является потребность политических прав. Правительство, хотя бы оно состояло из гениев, может только немного задержать, затормозить осуществление этих стремлений (и то рискуя при этом быть извергнуту и самому), но уничтожить политические идеи, пустившие корни в обществе, оно не в силах. Словом, Россия находится накануне конституционного переворота. Это ясно для всякого развитого человека, который дает себе труд хотя немного, но внимательно последить за состоянием умов.
Я не буду здесь предрешать вопрос о том, как свершится эта государственная перестройка — путем ли исключительно революционным или по инициативе самого правительства, которое решится отказаться от абсолютизма? Может быть, что тут же, кто заявил по поводу крестьянского вопроса, что «освобождение сверху предшествует освобождению снизу», — возьмет на себя инициативу переделки государственного устройства, если вовремя успеет убедиться, что против силы возрастающего общественного мнения идти нельзя. Насколько удобоисполнима правительственная инициатива, это здесь разбирать неуместно. Несомненно только то, что как бы это ни свершилось, это не обойдется без общественных потрясений. Я сын народа! Самая первая и главная цель моя — счастье, благосостояние масс. Зная по опыту жизнь простого класса как в России, так и за границей, я знаю также, что всякое общественное потрясение, какой бы оно исход ни имело, не только вредит интересам высших классов общества, но вместе с тем вначале ложится тяжелым бременем на народ. Если, с одной стороны, Разин и Пугачев отправляли на виселицу дворян в России, а во Франции их отправляли на гильотину, то с другой стороны, как там, так и здесь массы народа валились под картечью, сжигались селения и пр.; разрушение и истребление — спутник всякого переворота, по крайней мере из тех, который нам указывает история, — они с одинаковой силой поражали как высший класс общества, так и толпу. Задача всякого честного правительства состоит в наш бурный век в том, чтобы, при неизбежности общественных волнений, по крайней мере, предотвратить повторение ужасов подобных тем, которыми сопровождались кровопролитные восстания Разина и Пугачева. А эти ужасы непременно воспоследствуют, если не будет положен конец дикому самоуправству и зверским мерам в администрации. Правительство, допуская подобные меры, тем самым кладет семена будущего революционного террора, оно вострит лезвие на свою голову. Когда политические идеи встречают отголоски в самых отдаленных закоулках русской земли, тогда рыцари кулачного права могут оказывать своим усердием самую дурную услугу правительству, — они только усиливают озлобление в среде недовольных и возбуждают и без того весьма разгоряченные страсти.
Пусть правительство льстит себя надеждой, что еще далеко до бурных дней. Пусть оно изобретает поверхностные реформы и надеется ими усыпить общественное внимание. Общество уже пробудилось и скоро потребует ответа. В России могут быть такие наивные государственные люди, для которых всякое общественное движение представляется результатом конспирации двух или трех десятков агитаторов; могут быть и такие, которые надеются заглушить новые идеи репрессивными методами, вместо того, чтобы встать под знамя этих идей, руководить обществом по пути прогресса и получать благословение вместо проклятий. Несомненно, что много еще лиц, в числе заведывающих судьбами великого русского народа, придерживается поговорки Людовика XV: «Apres nous le deluge» (после нас хоть потоп — фр.). Но для всех без исключения должно быть ясно, что всякая репрессия вызывает ожесточение, порождает новых врагов, поэтому бесцельное варварство вредно, бессмысленно.
Эмигрант Сергей Нечаев, превращенный г. Мезенцевым из политического в уголовного преступника.
Р. 5. Иду в Сибирь с твердой уверенностью, что скоро миллионы голосов повторят этот крик: «Да здравствует Земский собор!»[678]
Нечаев солгал и на сей раз, никто не решился бы бить его в здании Окружного суда. Возможно, с ним грубо обращались, применяя силу, его вызывающее поведение побуждало к ответным действиям. Как же не поведать хоть кому-нибудь, что его били. Он столько раз писал о зверствах жандармов. Его жалобы могли навредить офицеру, а ему так хотелось отомстить за выкручивание рук. Писало его раздраженное самолюбие, необузданная фантазия, жажда запутать всех и каждого, отомстить обидчику. Обида клокотала и искала выхода. Произошло самое огорчительное из того, что могло случиться, — ожидаемый Нечаевым многодневный шумный политический процесс с овациями и истериками власти сумели превратить в банальное судебное заседание с шикающей враждебно настроенной публикой, которой вовсе не было дела до него, стремившегося осчастливить народ. Досада и разочарование терзали честолюбивую душу, самообладание покинуло его, он растерялся.
Дело не только в том, что у Нечаева почти не было сторонников и на суд пришли люди, относившиеся к нему недоброжелательно, его поведение во время слушания дела провоцировало враждебное к нему отношение публики. Доктор Д. П. Маковицкий записал рассказ М. С. Сухотина, мужа старшей дочери Л. Н. Толстого: «Михаил Сергеевич читал описание суда над ним (Нечаевым. — Ф. Л.) в «Былом».[679] Михаил Сергеевич студентом был на этом суде и говорил, что Нечаев, когда утверждает, что ему не дали говорить, лжет. И Михаил Сергеевич представлял Нечаева, как он ругал судей и царя, и плевал на его портрет тут, в суде. Его много раз выводили и приводили; Нечаев все повторял то же».[680]
Для вступления приговора в законную силу требовалось отвезти Нечаева на Конную площадь, приковать к позорному столбу, прочитать перед собравшейся толпой решение суда, после чего десять минут продержать преступника на месте гражданской (торговой) казни. Полицейские власти продолжали опасаться, что во время этой процедуры возможные сторонники главы «Народной расправы» решатся предпринять действия, не желательные для правительства, не исключали дерзких поступков самого преступника или озлобления свидетелей процедуры против него. Слезкин доложил Шувалову о своих волнениях, и из III отделения на имя московского генерал-губернатора князя В. А. Долгорукова пришло строжайшее предписание, согласованное с монархом:
«Относительно исполнения приговора Московского окружного суда над Сергеем Нечаевым и дальнейшего поступления с этим преступником предполагается следующее:
I. Исполнение приговора, или Торговая казнь Приговор суда обратить к исполнению в один из ближайших дней по восшествию оного в законную силу. Ввиду большого расстояния от Сущевского Съезжего дома, где содержится Нечаев, до места исполнения приговора — Конной площади, перевести его вечером, накануне дня казни, в ближайший к означенному месту Серпуховский Съезжий дом, где учредить жандармский караул.
На рассвете, в восьмом часу утра, вывезти Нечаева, установленным в законе порядком, на площадь, до которой переезд может продолжаться около четверти часа. При конвое, который будет сопровождать дороги, находиться трем барабанщикам и бить поход до приезда дрог с преступником на середину площади, где, вокруг эшафота, расставить заблаговременно обширное каре, оцепленное конвоем и усиленным нарядом от Городской полиции и Жандармского дивизиона.
Вышеизложенные наружные меры совершенно согласны с общепринятыми в подобных случаях. Во внутреннем же дворе здания Серпуховской части находиться полуэскадрону жандармов. Опубликование в газетах о времени совершения казни последует в то же утро.
II. Дальнейшие распоряжения
После обряда казни повезти Нечаева обратно в Сущевский Съезжий дом не городом, а вдоль Камер-Коллежского Вала, в закрытой четырехместной карете, в которой с ним находиться одному офицеру и двум жандармам.
Дабы не подать повода к толкам о неточном исполнении приговора и ввиду того, что в настоящее время каторжники отправляются вообще в три пункта, а именно: в Илецкую Защиту, Харьков и Вильну, где существуют каторжные тюрьмы, то отправлять Нечаева под жандармским конвоем из Москвы по направлению к Вильне, в арестантском вагоне при курьерском поезде до Динабурга, где вагон этот отцепить и ему ожидать курьерского поезда из-за границы. Этот последний поезд захватит упомянутый вагон и доставит его в Царское Село, а оттуда Нечаев в приготовленном заранее экипаже будет переведен в С.-Петербургскую крепость».[681]
23 января 1873 года к Нечаеву в сопровождении частного пристава явился священник тюремного замка для приготовления к исповеди и причастию, но бывший учитель Закона Божия отказался от услуг священника. На другой день Сергея перевезли в Серпуховский съезжий дом, туда же перебрался майор Ремер. Исполнение торговой казни над Нечаевым изложено в письме московского генерал-губернатора главноуправляющему III отделением. Приведу из него извлечения:
«Сегодня же, 25 января, в 8 часов утра, по прибытии в Серпуховский Съезжий дом конвоя и всех лиц, назначенных для публичного приговора преступнику Нечаеву, он был выведен из камеры во двор съезжего дома в арестантской одежде и, взойдя очень бодро на стоящую у дверей позорную колесницу, сел на скамейку, подпершись в бок руками, и начал осматриваться кругом с таким же нахальством, как делал это на суде. Когда же палач приступил к привязыванию рук его к колеснице, то он закричал, обращаясь к присутствовавшим: «Когда вас повезут на гильотину, то и вас будут вязать ремнями. Я иду в Сибирь и твердо уверен, что миллионы людей сочувствуют мне. Долой царя, долой деспотизм! Да здравствует свобода! Меня, политического преступника, сделали простым убийцею! Позор новому русскому суду, это не суд, а шулерство!» Дальнейшие слова его были заглушены барабанным боем, при котором колесница двинулась на улицу. Во всю дорогу Нечаев кричал изо всех сил, говоря о деспотизме и о свободе русского народа и присовокупляя: «Долой царя, он пьет нашу кровь!» Но слова его были слышны не все, так как во всю дорогу продолжался барабанный бой.
По прибытии на Конную площадь Нечаев отказался выслушать напутствие священника и при выходе на эшафот закричал: «Тут будет скоро гильотина, тут сложат головы те, которые привезли меня сюда! Небось сердца бьются; подождите два-три года, все попадете сюда!» Когда же он был привязан к позорному столбу, то все время кричал из всех сил, оборачиваясь в стороны: «Долой царя! Да здравствует свобода! Да здравствует вольный русский народ!»
По окончании обряда казни Нечаев молча сошел с эшафота, но садясь в приготовленную для него карету, закричал кучеру: «Пошел!» Затем в сопровождении севших с ним жандармских офицеров, тотчас же отправлен в Сущевский Съезжий дом».
Далее Долгоруков писал, что выполнены все меры предосторожности, он сам наблюдал в отдалении за происходившим, и продолжал: «Я твердо был уверен, что Нечаев не возбудит в народе никакого к себе сочувствия, напротив, мог опасаться, чтобы общее негодование против него не послужило поводом к каким-либо беспорядкам, в которых могло бы выразиться это негодование, но порядок никогда не был нарушен, хотя дерзкие выходки Нечаева возбудили в присутствовавшем народе общее негодование к преступнику, причем многие высказывали сожаление, что ему не предстояло более строгого наказания».[682]
Опередив письмо князя В. А. Долгорукова, 26 января в Петербург пришла телеграмма генерала И. Л. Слезкина с подробным описанием гражданской казни бывшего вождя московских заговорщиков. Прочитав ее, монарх начертал следующую резолюцию: «После этого мы имеем полное право предать его вновь уголовному суду, как политического преступника, но полагаю, что пользы от этого было бы мало и возбудило бы только страсти, и потому осторожнее заключить его навсегда в крепость».[683] Что же тут комментировать? Один призывает к насильственному свержению существующего политического устройства, другой, получив решение суда, действовавшего в соответствии с утвержденными монархом законами, перечеркивает судебное решение и отправляет осужденного «навсегда в крепость» (это слово подчеркнуто Александром II), — состязание произвола с произволом.
А власти продолжали опасаться Нечаева и его воображаемых сторонников. Никто из политических преступников не охранялся столь строго и не перевозился с такой секретностью. Майор Ремер получил инструкцию от самого Шувалова. В ней, в частности, говорилось, что в случае, если Нечаев будет сопротивляться или выкрикивать свои лозунги, его разрешается связать. На другой день после чтения приговора у позорного столба осужденного вывезли из Москвы в отдельном вагоне, ночью того же дня Ремер телеграфировал в столицу о прибытии в Смоленск с двухчасовым опозданием. 27 января он телеграфировал уже из Витебска, а днем позже — из Динабурга. Вечером 28 января вагон с Нечаевым остановился на тупиковых путях близ Царскосельского вокзала. По такому маршруту из Москвы в Петербург везли только Нечаева.
Еще 27 января 1873 года К. Ф. Филиппеус отправил коменданту Петропавловской крепости Н. Д. Корсакову следующее письмо: «Милостивый государь Николай Дмитриевич. Ввиду существующего, кажется, общего распоряжения, что после девяти часов вечера ворота крепости запираются, долгом считаю покорнейше просить Ваше Высокопревосходительство отдать приказание чтобы завтра вечером меня впустили в крепость через Невские ворота. Я приеду около 10 часов и несколько минут после моего приезда через те же ворота доставят известного арестанта».[684] Вечером 28 января 1873 года Нечаева привезли в Петропавловскую крепость и поместили в камере номер пять Секретного дома, расположенного за стенами Алексеевского равелина. Железная дверь захлопнулась и мелко задребезжала, издавая при этом пронзительный жалящий визг, лязгнул засов, еще секунда, другая, и на узника навалилась тягостная тишина, уши казались плотно заткнутыми, но в них просто-напросто не попадали звуки, их не было. Изредка, всегда неожиданно и тревожно, тишина разрушалась цокающими шагами стражников.
Итак, за Нечаевым захлопнулась дверь его нового жилища. Одиночное заключение ломало многих, особенно одиночка Секретного дома Алексеевского равелина. Здесь покаянные объяснения писали декабристы, петрашевцы, нечаевцы, Бакунин сочинял свою «Исповедь», здесь сходили с ума, пытались покончить с собой. Здесь вселяло ужас не только одиночество, но и нецелесообразность ожидания, ожидать было нечего, кроме смерти как избавления от непрерывных страданий и бессилия, невозможности изменить что-либо в своей судьбе. Здесь отсутствовали надежды и будущее.
В стенах Секретного дома Алексеевского равелина Сергею предстояло провести почти десять долгих лет. Здесь над его головой, минуя его, пронеслись крупнейшие события российского освободительного движения — образование «Земли и воли», революционной организации народничества 1870-х годов, формирование армии пропагандистов социалистических идей среди крестьян, покушения на крупнейших царских администраторов и самого монарха, зачатки массовых противоправительственных выступлений. Воронежский и Липецкий съезды, положившие конец «Земли и воли», образование из нее партий «Народная воля» и «Черный передел», взлет и разгром «Народной воли», крупные политические процессы, проникновение нечаевщины в революционную среду. За стенами равелина вырастали новые поколения, а он сидел в безмолвном каменном склепе, и лишь отголоски бурь могли иногда долетать до его камеры. Прежде чем приступить к описанию последнего периода жизни нашего героя, познакомимся с историей Секретного дома, его несчастными обитателями и порядками, установленными в нем властями до появления в его «отдельных покоях» Сергея Геннадиевича Нечаева.
ЗАТОЧЕНИЕ
В центре Петербурга вдоль Большой Невы вытянулся Заячий остров. Вся его территория заполнена многочисленными строениями Петропавловской крепости, среди них в начале 1730-х годов находилась Канцелярия тайных розыскных дел — главное учреждение империи, занимавшееся производством политического сыска.[685] Поблизости от нее вскоре после завершения строительства Алексеевского равелина, внутри его могучих стен, соорудили деревянный Секретный дом[686] для содержания в нем подозреваемых в совершении государственных преступлений.
Словосочетание «Алексеевский равелин» вызывало у современников Нечаева жутковатый трепет. Отсутствие сведений порождало леденящие кровь легенды. Лишь в 1906 году в печати появились первые воспоминания бывших узников равелина — народовольцев, после Февральской революции открылся доступ к архиву главной «государевой тюрьмы». Сегодня исследователи располагают возможностью познакомиться с обширным собранием документов Алексеевского равелина, хранящимся в Российском государственном историческом архиве в Петербурге.
В 1769 году деревянное здание Секретного дома капитально отремонтировали. В 1796 году император Павел I предписал: «для содержащихся под стражею по делам, до Тайной экспедиции относящихся, изготовить Дом с удобностью для содержания в крепости».[687] Смета на каменное строение и «Опись вещам нового казенного дома в Алексеевском равелине» свидетельствуют о том, что речь идет о Секретном доме, просуществовавшем в качестве тюрьмы до 1884 года и разобранном за ветхостью в 1896 году.
Одноэтажное каменное строение имело в плане равносторонний треугольник, внутри которого располагался «сад» для прогулок арестантов. Здание занимало почти весь участок, ограниченный стенами равелина и каналом, отделявшим его от Васильевской куртины Петропавловской крепости. Кроме двадцати нумерованных «отдельных покоев» и четырех ненумерованных камер в Секретном доме находились еще административные и хозяйственные помещения. В каждом «покое» имелись изразцовая печь и окно с двумя решетками, выходившее в узкий внешний двор равелина. По предписанию Павла I, проект тюрьмы осуществлялся под наблюдением фактического главы Тайной экспедиции А. С. Макарова, воспитанника легендарного «кнутобойца» С. И. Шешковского.
«Отдельные покои» Секретного дома резко отличались друг от друга. «В камере № 1 было два окна без решеток, еще одно окно — заложенное кирпичом, при ней — прихожая комната с изразцовой печью. Камера № 2 отличалась от первой лишь тем, что в окнах были решетки. Обстановку этих камер составляли кровати с полупуховыми перинами, с двумя полупуховыми подушками, со стегаными ситцевыми одеялами, два кресла, мягкий стул, ломберный стол, стенное зеркало в золоченой раме, кушетка (канапе) в 1-й камере, два крашеных стола, на которых располагались хрустальная чернильница в жестяном ящике, медные подсвечники, столовая посуда — миски, тарелки, серебряные ложки, вилки, ножи, стаканы, рюмки, графины, чайные приборы. Несомненно, эти помещения предназначались для размещения тюремного начальства. Менее роскошными были камеры 3–5, еще менее — 6-12. Камеры 13–20 имели простые стол и стул, на кровати — тюфяк (в трех камерах — волосяной, в пяти — из оленьей шерсти), суповую миску, глиняную кружку и бутылку, деревянные ложки. Наконец, в четырех камерах тюфяки были из мочалы. Также резко различалось и меню, составленное на каждый день недели для различных категорий камер».[688]
Первая сохранившаяся инструкция, «стоявшему в равелине С.-Петербургской крепости на секретном карауле Сенатского батальона поручику Иглицу»,[689] датирована 18 октября 1797 года. Инструкция требовала круглосуточного пребывания в камере сменного караульного солдата — «подчаска». Заключенный ни на минуту не оставался один, три раза в сутки начальник караула обходил все занятые камеры. Эта инструкция неукоснительно соблюдалась в отношении важнейших государственных преступников. Взойдя на престол, император Александр I упразднил Тайную экспедицию, выпустил значительное число заключенных, а Секретный дом передал в ведение петербургского военного губернатора. Режим содержания в нем был существенно смягчен.
Охрану равелина постоянной командой, подчиненной коменданту крепости, заменили на солдат столичного гарнизона, попадавших туда по разнарядке без отбора и контроля.
Всякое послабление тюремного режима влечет за собой беспорядки; в 1808 году А. С. Макаров, член Комитета для рассмотрения дел по преступлениям, клонящимся к нарушению общественного спокойствия, произведя расследование, докладывал Александру I: «По высочайшему вашего императорского величества повелению, учрежденным Комитетом произведено было в июне месяце нынешнего года следствие об открытой содержащимися в крепости арестантами с городом переписке, по которому оказалось, что та переписка учинена оными и допущено даже свидание с ними, сколько по небрежности имевших тогда надзор над теми арестантами начальников, столькож и от переменных посуточно караульных солдат, которые по чаянию, что они, может быть, на сей пост командированы не будут, отважились тайно и за малую корысть делать арестантам услуги ношением их и к ним записок, харчей и вещей».[690]
Макаров предлагал образовать постоянную воинскую команду по охране равелина, «из людей, положенные лета в поле выслуживших, или из инвалидов» в составе обер-офицера, двух унтер-офицеров и тридцати четырех рядовых, с подчинением ее коменданту крепости, а также возобновить постоянное пребывание караульных солдат в камерах заключенных. По предложенным Макаровым правилам, заболевшего арестанта осматривал комендант крепости, а уж затем врач; прогулки во внутреннем дворике равелина разрешались по усмотрению офицера; «для умаления у содержащихся с их положением скуки» разрешать узникам по их избранию чтение русских, французских и немецких книг, для чего образовать библиотеку «из остатков отпускаемых на содержание равелина сумм». В заключение доклада Макаров напоминал, что Секретный дом надлежит использовать как место содержания подследственных арестантов и осужденных по особо важным делам. Военному губернатору столицы вменялось в обязанность еженедельно «свидетельствовать» каждого арестанта и доносить об этом монарху. Доклад Макарова был конфирмирован 1 декабря 1808 гола, предлагаемые в нем мероприятия действовали почти четыре года.
Следующий этап усовершенствований внутреннего распорядка жизни узников в Алексеевском равелине был предпринят по инициативе министра полиции и петербургского военного губернатора, генерал-адъютанта А. Д. Балашова. Докладывая Александру I весной 1812 года, он предлагал:
«1. Учредить Смотрителя над Алексеевским равелином, которому и состоять под непосредственным начальством С.-Петербургского Военного Губернатора.
2. Оставя по-прежнему наружный караул у равелина в ведении Коменданта Санкт-Петербургской крепости, внутренний надзор и хозяйственную часть поручить совершенно Смотрителю.
3. Команде Алексеевского равелина состоять в ведении Смотрителя.
4. Внутреннее благоустройство, как-то: чистота, порядок, довольствование арестантов всем дозволенным и т. д. и осмотрение за внутренним караулом поставить в обязанность и ответственность Смотрителя.
5. Напротив того оставить на ответственности Коменданта наблюдение за наружным караулом, так что если сверх чаяния арестант, решившись бежать, скрылся от внутреннего присмотра, то бдительностью наружного караула мог бы еще быть схвачен и недопушен до произведения в действо намерения своего.
6. Суммы, потребные на содержание здания и арестантов и на жалованье Смотрителю, команде и прочие издержки, отпускать из Государственного Казначейства по требованию С.-Петербургского Военного Губернатора».[691]
Одновременно с конфирмацией доклада император 2 марта 1812 года утвердил «Инструкцию Смотрителю над Алексеевским Равелином», подписанную Балашовым и содержавшую подробное развитие основных положений его доклада, и «Инструкцию офицеру при команде Алексеевского равелина»,[692] составленную графом С. К. Вязмитиновым, помощником Балашова. Приведу из нее лишь один пункт:
«3. В каждую комнату, где к содержанию помешен будет арестант, поставлять следует караульного солдата без оружия, которого обязанность будет смотреть бдительно, чтобы содержащийся никуда не выходил и не делал себе вреда, и быть тут со сменою неотлучно день и ночь, наблюдая все его поступки; долг его по сему случаю будет доносить о поведении арестанта вам, а вы рапортуете об оном смотрителю каждое утро и вечер. Сим караульным между прочим особенно внушать должно, чтобы они не пересказывали содержащимся никаких вестей и вообще не разговаривали с ними ни о чем, кроме касающейся до них потребности, и никаких записок ни просьб от них не принимали, а дабы не могло вкрасться и тут злоупотребление, то в случае дозволения отлучиться солдату за надобностью из равелина, о чем однако же каждый раз докладывать смотрителю, должно вам его смотреть, не имеет ли чего от арестанта и строжайше подтверждать, чтобы по словесным иногда просьбам содержащихся не исполнять ничего, а для лучшей тут осторожности, при возвращении, к тому же арестанту не допускать, а наряжать другому».[693]
Кроме инструкций к докладу Балашова был приложен «Штат чиновникам и команде при Алексеевском Равелине в С.-Петербургской крепости состоящим [с указанием годового содержания]:
На содержание, лечение и прочее арестантов назначать будет суммы С.-Петербургский Военный Губернатор по своему усмотрению.
Из остатков отпускаемых ежегодно сумм покупаться будут книги для чтения арестантам.
Подлинный подписал: Министр Полиции А. Балашов».[694]
Многое из заведенного Балашовым в 1812 году действовало при Нечаеве и сохранило силу до последних дней существования Секретного дома как тюрьмы.
Новый шаг к ужесточению содержания заключенных в Алексеевском равелине был сделан вслед за разгромом восстания декабристов. Комендант крепости генерал-адъютант А. Я. Сукин 31 декабря 1825 года утвердил новую инструкцию для обер-офицера,[695] более жесткую в сравнении с предыдущей, и уведомил первого смотрителя равелина Лилиенанкера об «утверждении особого наставления караулу».[696] Инструкция предписывала одевать подследственных в арестантское белье и обувь. Без письменного распоряжения смотрителя узники не имели права пользоваться принадлежавшим им имуществом. Если погода и число заключенных позволяли, подследственных выводили на прогулку во внутренний сад Секретного дома. При посещении раз в неделю бани, расположенной на территории равелина, каждого арестанта неотлучно сопровождал унтер-офицер с двумя солдатами. Нахождение охранника в камере с заключенным было заменено круглосуточным наблюдением за узниками через маленькие застекленные окошки в дверях камер. Караул посещал арестантов только в присутствии унтер-офицеров. Без свидетелей к ним входил лишь комендант крепости или кто-либо с его позволения.
И все же, несмотря на увеличение строгостей к заключенным, декабристам удавалось наладить переписку.[697] Записки были слишком опасны — они вовлекали в преступление стражу, кроме того, всегда недоставало бумаги, и тогда декабрист М. А. Бестужев изобрел перестукивание,[698] давно известное в Западной Европе средство общения между заключенными. Помог случай. Михаил постучал в стену, чтобы узнать, есть ли у него сосед и не брат ли находится рядом. Убедившись, что ему отвечает Николай, Михаил решил каждой букве придать то количество ударов, которое соответствует ее номеру по алфавиту. Но его не понимали, как ему казалось, из-за монотонности стука и большого количества ударов. Например, буква «я» соответствовала 32 ударам. Михаил попробовал расположить весь алфавит в таблицу, имеющую вертикальные и горизонтальные ряды, и каждую букву обозначил двумя цифрами, соответствовавшими ее месту в таблице по горизонтали и вертикали. Количество ударов резко уменьшилось, а монотонность пропала, гак как частые удары обозначали вертикальные ряды, а редкие — горизонтальные. Но и тогда Николай не понял Михаила. И снова помог случай: братья получили письма от матери. «В эту минуту у меня блеснула счастливая мысль, — вспоминал М. А. Бестужев. — Попытаюсь в последний раз дать знать моему брату, что я хочу объясниться с ним через стенку, как наша мать объясняется с нами через бумагу. Я подошел к стенке и начал шаркать письмом и услышал то же от брата. Тогда я начал стучать в стену азбуку и уже не пальцами, а болтом моих браслетов (наручных кандалов. — Ф. Л.). Слышу, брат отодвигает свою кровать от стены и что-то чертит по ней; я повторил азбуку пальцами. Слышу, брат записывает на стене. Слава Богу! — он понял в чем дело».[699]
Бестужевская таблица совершенствовалась следующими поколениями узников. Вся революционная Россия знала технику перестукивания, народники обучались ей еще на свободе. Вскоре тюремщики поняли, что означают удары в стену. Именно поэтому заключенных по возможности размешали так, чтобы со всех сторон соседние камеры пустовали.
В связи с реорганизацией Николаем I политической полиции и образованием III отделения в 1826 году Секретный дом поступил в ведение Второй экспедиции этого нового учреждения. Первый смотритель равелина семидесятивосьмилетний Лилиенанкер ушел в отставку, на его место временно назначили плац-адъютанта крепости, штабс-капитана Трусова, которого 28 марта 1828 года сменил С. И. Яблонский, занимавший эту должность более 22 лет. Петрашевец И. Л. Ястржембовский писал о нем:
«Не могу здесь не вспомнить, что этот Яблонский, полковник по армии, произвел на меня неимоверно удручающее впечатление. Высокий ростом, кривой на один глаз, седой как лунь, в то время, как я привык видеть самых старых генералов черноволосыми (как известно, тогда красить свои куафюры военным было обязательно), он единственным своим глазом всматривался в меня так пристально, что мне казалось, он так и хотел сказать: «знаю я тебя, голубчик… лучше сознайся».
Не могу допустить, что это впечатление явилось у меня вследствие того, что он был тюремный смотритель. Ведь был же там и другой офицер, инвалидный поручик, но он на меня ни мало не производил отталкивающего впечатления. То был обычный служака, который исполнял свою должность бессознательно, не сознавая решительно всей ее неприглядности. Напротив, Яблонский, видимо, знал, что делает, он сознавал всю подлость своей обязанности и все-таки ради разных выгод исполнял ее con amore (с любовью. — ит.). В единственном взгляде ясно отражались кровожадность кошки и хитрость лисицы!».[700]
Смотрителями равелина подбирались люди, беспредельно преданные престолу, ограниченные, жестокие, слепо исполнявшие инструкции, от которых не отступали ни при каких обстоятельствах.
В феврале 1838 года встал вопрос о необходимости капитального ремонта Секретного дома, быстро разрушавшегося после наводнения 1824 года. «В арестантских комнатах и занимаемых жительством чиновников полы пришли в ветхость и опустились со своих гнезд, отчего в покоях делается великий холод».[701] Стены покрылись трещинами, зимой в углах многих камер выступал иней, крыша постоянно протекала. В том же году здание тюрьмы было капитально отремонтировано, но в «отдельных покоях» продолжал свирепствовать холод.
При Яблонском в Алексеевском равелине с 24 апреля по 24 декабря 1849 года находился Ф. М. Достоевский. Сначала он сидел в 9-й камере, затем в 7-й. Во время пребывания Федора Михайловича в Секретном доме была напечатана «Неточка Незванова».[702] Редактору-издателю журнала «Отечественные записки» А. А. Краевскому не без труда удалось выхлопотать разрешение шефа жандармов князя А. Ф. Орлова на публикацию повести, написанной политическим преступником.
21 октября 1850 года место Яблонского занял капитан Богданов,[703] а его в 1860 году сменил майор Удом. При нем с 7 июля 1862 года по 20 мая 1864 года в равелине содержался Н. Г. Чернышевский. Узников в Секретном доме почти не было, поэтому режим для подследственных установили сравнительно мягкий.
Чернышевский беспрепятственно пользовался письменными принадлежностями. Меньше чем за два года ему удалось написать столько, сколько не всякий опытный писарь в состоянии переписать за этот же срок, — 205 печатных листов, включая беллетристику, переводы, научные статьи и письма.[704] Такую гигантскую работу мог проделать человек, обладающий крепкими нервами и имеющий сносные условия содержания. Действительно, тюремщики Чернышевскому не докучали, кормили прилично; цингой узник не болел.
Когда Чернышевского привезли в Алексеевский равелин. там уже почти десять месяцев томился будущий многолетний сосед С. Г. Нечаева — Михаил Степанович Бейдеман.[705] Ни Чернышевский, ни другие заключенные Секретного дома, кроме Н. В. Шелгунова, С. Г. Нечаева, Л. Ф. Мирского и С. Г. Ширяева, даже не догадывались о существовании в равелине еще одного узника.
Он родился в дворянской семье в Бессарабии, учился в Петербурге в Ларинской гимназии, затем в Кишиневской гимназии, по ее окончании, в 1856 году, был два года экстерном в Киевском кадетском корпусе. По выходе из Константиновского военного училища поручик Бейдеман летом 1860 года выхлопотал отпуск, чтобы навестить престарелых родителей, и, не явившись к месту службы, тайком от всех эмигрировал в Западную Европу. Вне России он пробыл четырнадцать месяцев. Его задержали на границе при возвращении на родину и 29 августа 1861 года заключили в Петропавловскую крепость. При досмотре личных вещей нового арестанта ретивые служаки обнаружили «манифест» от имени Константина Первого, разорванный на мелкие кусочки и хранившийся на дне коробки с папиросами. Из текста «манифеста» явствовало, что Александр II царствует незаконно и что если ему, Константину, удастся вступить на престол: «народ русский будет управлять сам собою, чиновники и всякая канцелярская челядь изгонится».[706]
С какой целью писал Бейдеман «манифест» — не известно: хотел ли себя провозгласить монархом, или устроить анонимно мистификацию, или, быть может, наивно полагал образовать сообщество и возглавить его. Успей он вовремя выбросить забытые клочки бумаги, жизнь его прошла бы совершенно иначе. Возможно, причина страшной трагедии, постигшей Бейдемана, всего лишь мальчишество.
Узнав о содержании находки, монарх распорядился поместить Бейдемана в Алексеевский равелин «без суда» и содержать там «впредь до особого распоряжения». Во все последующие годы царствования Александра II «особого распоряжения» не последовало. Он желал жестоко наказать осмелившегося объявить его права на престол незаконными. Именно за это Бейдеману предстояло провести в стенах Секретного дома двадцать лет. Самое мучительное страдание ему причиняло неведение, он ожидал суда и наказания, определенности, какой угодно, но определенности, а дни тянулись, не принося никаких известий о дальнейшей судьбе. От него требовали объяснений, он их писал, вызывал к себе главноуправляющего III отделением, рассказывал о жизни в Швейцарии, Норвегии, ожидании беспорядков в России, желании возбудить бунт путем опубликования «Манифеста», но не раскаивался, Бейдеман делал пространные записи, в которых давал правительству советы, а чиновники из III отделения методично подшивали их к делу. Узник не просил о помиловании, он излагал свои взгляды, а власти ждали от него полного признания, объявления фамилий соучастников — а их не было.
Управляющий III отделением генерал А. Л. Потапов, неоднократно посещавший Бейдемана и вовсе ему не сочувствовавший, II июля 1864 года докладывал Александру II: «<…> Почти юноша, ему теперь еще 23 года, он в заточении совершенно потерял все волосы на голове, наружный вид его безжизненный».[707] Далее Потапов писал, что Бейдеман даже не просит о помиловании, хотя взгляды его переменились в сторону «благонамеренных», в искренности чего он вполне уверен. Глава политического сыска империи понимал, что положение Бейдемана невыносимо и его необходимо изменить, как бы ни была велика вина узника перед престолом. «Впрочем, — осторожно продолжает Потапов, — что бы ни ожидало Бейдемана по суду, казалось бы, что закон и справедливость были бы более удовлетворены, если бы заслуженное им наказание, хотя и смертная казнь, совершено было бы над ним в силу закона, а не исполнилось бы над ним от внешних причин заточения, оказывающих разрушительное влияние на его организм».[708] Даже управляющий III отделением взмолился о прекращении беззакония в отношении узника. Но и на эту мольбу монарх ответил молчанием.
Чудом узнику удалось дать о себе знать родственникам. В конпе 1864 года их просьба о разрешении свидания попала в III отделение, на что сестре Бейдемана был «дан ответ неимением возможности сказать ей что-либо о брате». Более семи лет проведя в одиночке, 18 октября 1868 года Бейдеман отправил на высочайшее имя прошение с мольбой о помиловании. Ответа не последовало. 8 июля 1869 года новый крик о пощаде достиг царских покоев — опять молчание. С 15 октября 1866 года в Секретном доме Алексеевского равелина содержался лишь один заключенный — Бейдеман. То были самые страшные и тягостные годы его пребывания в заточении, исчезла редчайшая возможность услышать шорох за стенкой, постучать соседу, а иногда, если уж очень везло, установить связь через перестукивание.[709]
Полное одиночество Бейдемана длилось более шести лет, лишь вечером 28 января 1873 года он ощутил нечто необычное в размеренной жизни Секретного дома, вторжение чего-то инородного. Из малого коридора до его пятнадцатой камеры донеслись почти неразличимые посторонние звуки — там происходило вселение нового заключенного, Сергея Геннадиевича Нечаева.[710] Волею судьбы Нечаев оказался в той самой камере, в которой за два десятилетия до него М. А. Бакунин сочинил свою «Исповедь».
На другой день смотритель равелина майор Корпуса жандармов И. М. Пруссак получил от коменданта крепости Н. Д. Корсакова особую дополнительную инструкцию:
«Заключенного вчера по Высочайшему повелению в Алексеевский равелин, лишенного всех прав состояния, бывшего мещанина города Шуи Сергея Нечаева, предписываю содержать в отдельном каземате пол № 5, под самым бдительным надзором и строжайшей тайною, отнюдь не называя его по фамилии: а просто нумером каземата, в котором он содержится, и расходовать на продовольствие по 50 копеек в день.
Причем в дополнение к имеющимся у вас правилам относительно наблюдения за заключенными в равелине (инструкция 1812 года и дополнение к ней 1871 года. — Ф. Л.) считаю долгом подтвердить к точному и неупустительному исполнению:
1. Ключи от нумеров арестованных хранить лично при себе.
2. Вход к арестованным утром для уборки, подачи чая, обеда, ужина и во всех других случаях производить не иначе, как в своем личном присутствии.
3. Посещая арестованных, каждый раз обращать особое внимание на окна, железные решетки, полы и печи и на прочность замка у дверей.
4. При каждом нумере, в котором содержатся арестованные, иметь отдельные посты и, кроме того, к окну последнего доставленного преступника ставить с наружной стороны на ночь часового.
5. Заключенного вчера преступника ни в сад, ни в баню без личного моего приказания не выводить.
6. Стрижку, в случае надобности, волос производить также с личного моего разрешения в вашем присутствии и непременно одним из людей равелинной команды.
7. Обратить строгое внимание на нравственность и увольнение со двора нижних чинов, отпуская не иначе, как с соблюдением указанного в инструкции порядка.
Что же касается лично вас, то я убежден, что, сознавая всю важность занимаемого места и то особенное к вам доверие, вы, конечно, не позволите себе не только выхода без разрешения моего из крепости, но и отлучек из самого равелина, исключая служебных случаев».[711]
Инструкция требовала «особой осмотрительности» и донесения о всех «замеченных в дурном поведении» нижних чинов. Дополнительные строгости, введенные Корсаковым в режим Секретного дома, объясняются появлением в нем государственного преступника такого высокого ранга, какой правительство присвоило Нечаеву. Главноуправляющий III отделением сделал небывалое распоряжение, он потребовал, чтобы Пруссак еженедельно докладывал ему о поведении нового узника. Позже Шувалов приказал заменить их письменными бюллетенями коменданта крепости. Большая часть бюллетеней не сохранилась.
По получении особой инструкции Пруссак отобрал у Нечаева личные вещи и переодел в казенный тюремный костюм. С этого времени началось его настоящее заточение в равелине. Первые дни тюремщики замечали затравленность в его поведении, но уже к исходу недели она почти полностью исчезла. Сергей попросил разрешить ему чтение и литературные занятия. Шувалов распорядился удовлетворить просьбу заключенного. В числе первых книг, затребованных Нечаевым, оказались «История России» С. М. Соловьева и «История цивилизации в Англии» Г. Т. Бокля, эту книгу, знакомую ему по Иванову, он решил перечитать. Арестант написал список книг, его рассмотрели в III отделении, и Шувалов разрешил все, кроме «Истории французской революции» Л. Блана и «Истории революции 1870-71» Ж. Кларети.
Секретный дом имел свою библиотеку, насчитывающую в 1873 году около ста названий.[712] В архиве Алексеевского равелина имеется множество документов, относящихся к этой библиотеке, в их числе несколько «каталогов» (точнее, это инвентарные ведомости, по которым не всегда удается установить, о какой книге идет речь, например, «Отечественная война 1812—13 гг.», «сочинения Достоевского 2 книги» и т. д.). Сохранилась переписка по поводу просьб Нечаева о предоставлении ему книг для чтения. Благодаря его настойчивости библиотека равелина существенно пополнилась, так как Шувалов 29 февраля 1873 года распорядился покупать для Нечаева нужные ему книги.
Сергей писал списки названий книг, изданных на русском, немецком и французском языках, и передавал их смотрителю равелина. Те из них, что имелись в библиотеке равелина, выдавались ему тут же. III отделение также располагало библиотекой, ее книгами пользовались заключенные, сидевшие в Петропавловской крепости.[713] Покупку книг поручалось производить одному из чиновников Третьей (секретной) экспедиции. В 1879–1880 годах эта обязанность лежала на известном народовольце Н. В. Клеточникове, служившем в III отделении.[714] Для чтения книг из этой библиотеки каждый раз требовалось особое распоряжение главноуправляющего или в крайнем случае управляющего III отделением. Коменданты Петропавловской крепости, понимая, что чтение может предотвратить беспорядки, радели о регулярном пополнении библиотеки для заключенных Секретного дома и без особых причин в книгах не отказывали. Приведу одно из многочисленных писем коменданта крепости к товарищу главноуправляющего III отделением:
«Вследствие личного объяснения с Вашим Превосходительством о неудовлетворительном состоянии библиотеки Алексеевского равелина и о возможности ввиду сего улучшить оную приобретением на суммы III отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии, имею честь препроводить при сем каталог книгами, которые, если не все, то хотя некоторые из них. было бы полезно иметь при Алексеевском равелине для чтения арестантов».[715]
К этому письму был приложен список книг, на приобретение которых «испрашивалось разрешение», среди них «Бесы» Ф. М. Достоевского.[716] Это письмо и список находятся в деле, которое называется: «О выписке из III отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии книг для чтения известного арестанта».[717] Именно так в официальной переписке называли бывшего главу «Народной расправы». Обычно списки запрашиваемых книг по каталогам книжных магазинов составлял Нечаев. В другом архивном деле имеется запись о покупке «Бесов» Ф. М. Достоевского и их поступлении в библиотеку Алексеевского равелина.[718] Из писем комендантов крепости известно, что Сергей перечитал все книга равелинной библиотеки, кроме некоторых книг духовного содержания. Нечаев, безусловно, читал «Бесов», он мог читать журнальный вариант романа еще в эмиграции, его отзыва о «Бесах» мы никогда не узнаем. Не следует думать, что получение книг давалось Нечаеву легко, это не так. За право чтения приходилось бороться. На протяжении почти десятилетнего заточения он многократно обращался к комендантам крепости с просьбами, требованиями, иногда и с угрозами голодовки, чтобы ему давали желаемые книги. В III отделении превосходно понимали, что значит чтение для обреченного на вынужденное безделье в условиях одиночного заключения. Поэтому полицейское начальство превратило отказы выдачи Нечаеву книг в форму наказания за дурное поведение. Лишение прогулок, письменных принадлежностей не действовало на него так, как лишение чтения. Поражает количество прочитанных книг. Последний документ, отразивший состав библиотеки Алексеевского равелина в бытность там Нечаева, датирован 22 января 1882 года. Это список из 346 названий на русском, 39 — на немецком и 176 — на французском языках,[719] но фактически книг было много больше, примерно около двух тысяч томов, так как под одним номером значились собрания сочинений и многотомные издания. В библиотеке были представлены практически все произведения русской классической литературы.
Кроме библиотеки Алексеевского равелина в крепости имелась библиотека Трубецкого бастиона, но получение из нее книг для Нечаева осложнялось опасением властей раскрытия тайн Секретного дома, и опасением не напрасным. Нечаев не только читал книги, он стремился через них сообщить о себе на волю, и это иногда удавалось. П. А. Кропоткин, сидевший в 1873–1874 годах в Трубецком бастионе, писал: «Одно только имя раз попалось мне, совершенно ясно очерченное ногтем, буква за буквой: «Нечаев».[720] О. А. Натансон также обнаружила надпись и поняла, что Нечаев сидит в Петропавловской крепости.[721] Народница Н. А. Головина-Юнгерсон, содержащаяся в Трубецком бастионе весной 1875 года и вторично с осени 1876 года по весну 1877 года, вспоминала: «В крепости была библиотека, можно было давать о себе знать, подчеркивая буквы; в одной из книг я прочла: «Я, Нечаев, сижу в Алексеевском равелине, просил о пересмотре дела, но мне отказали».[722] Народник С. С. Синегуб, сидевший в Петропавловской крепости с декабря 1873 года по декабрь 1875 года, вспоминал: «По надписям в некоторых книгах, которые приносились мне из крепостной библиотеки, я узнал, что в крепости сидел мой знакомый студент-технолог — А. С. Чиков, арестованный по Долгушинскому делу. Попадалась фамилия Нечаева, который впрочем сидел не в нашем здании. Надписи были сделаны им, лучше сказать, выдавлены спичкой».[723] Подобные книги держал в руках и С. Л. Чудновский.[724]
Первые месяцы заточения в равелине Сергей делил время, свободное от сна, между чтением, литературным трудом и прогулками, когда их разрешали. Из-за книг трения с начальством никогда не прекращались, он настаивал, чтобы ему предоставлялись все требуемые книги, а среди них были такие, которые полицейские чиновники относили к нежелательным. Охранники не всегда могли удовлетворить просьбы узника, даже когда стремились к этому. Постоянные стычки возникали из-за отказа Нечаева читать книги духовного содержания. Сергей называл себя атеистом. Он требовал, чтобы к нему относились как к человеку, не признававшему религии. Приведу рапорт смотрителя равелина Пруссака коменданту крепости Корсакову:
«Арестованный в доме Алексеевского равелина под № 5 (Нечаев. — Ф. Л.) с 16 по 23 число сего февраля [1873 года] вел себя покойно, читал «Военный вестник» за 1871 год, все благополучно: кроме 19 числа в первый день Поста, когда был подан ему обед постный, на каковой, взглянув, подобно хищному зверю, отозвался дерзким и возвышенным голосом, с презрительной улыбкой: «Что это меня хотят приучить к постам, и, пожалуй, говеть? Я не признаю никакого Божества, ни постов, — у меня своя религия; я прошу вас, лайте мне тарелку супу, кусочек мяса, и я буду доволен», — почему в ту же минуту был остановлен и сделано строжайшее предупреждение с тем, если на будущее время позволит себе такой наглый разговор, будет возвышать голос и выражаться дерзко, то к укрощению подобного зачерствелого невежества будут приняты меры. «Что же касается мяса и супу, ты получишь! Но помни, это последняя снисходительность», — после чего совершенно молчалив, держит себя воздержаннее и вежлив».[725]
Корсаков, посылая в III отделение еженедельные бюллетени, писавшиеся на основании рапортов смотрителей, иногда несколько сглаживал описание поведения Нечаева. Суровый Пруссак умер 18 апреля 1873 года, и смотрителем равелина стал его помощник майор Бобков, прослуживший в равелине почти три года.[726] С более мягким Бобковым у «арестанта под № 5» отношения не сложились: новый смотритель почему-то раздражал узника, и при его появлении в камере он особенно нервничал, становился агрессивным.
«Содержащийся в Алексеевском равелине известный преступник, — писал Корсаков в одном из бюллетеней, — с некоторого времени находится в крайне раздражительном состоянии: он с 1 апреля упорно лишает себя пищи под предлогом недоброкачественности и выражает неудовольствие на смотрителя майора Бобкова, обращаясь к нему с бранью и упреками, что его посадили в заточение с исключительной целью уморить голодом, но что в этом ошибутся, так как он скорее сам покончит с собою. Причем он 1 апреля при входе смотрителя в номер бросил в него супом, но жандармский унтер-офицер успел устранить полет оного. Кроме того, пользуясь дозволением заниматься в нумере литературными занятиями, написал записку, наполненную претензиями и преступными выражениями.
При посещении 4 апреля с доктором Окелем означенного преступника я нашел его в утомленном состоянии и с полною претензиею на грубое обращение с ним смотрителя.
Доведя о сем до сведения Вашего Сиятельства, имею честь доложить, что претензии преступника на неудовлетворительность пищи не заслуживают никакого внимания, так как таковая готовится из самых свежих продуктов в числе 3 разнообразных блюд, так равно нельзя допустить вероятия и в грубом обращении с ним смотрителя, который по характеру своему скорее может быть снисходителен, чем строг».[727]
«Уморить» Нечаева не собирались. Претензии узника к еде выглядят несколько странновато. Судите сами, перед вами «Расписание обеда для Алексеевского равелина» 1880 года. В это время в Секретном доме пребывало четверо узников, кормили их из расчета 70 копеек в день.
«Воскресенье:
Суп со свежей капустой:
31/2 ф. говядины по 15 к. 53 к.
Капуста, коренья и картофель 20 к.
73 к.
Жаркое:
31/2 ф. телятины по 18 к. 63 к.
1/4 ф. масла 9 к.
4 шт. огурцов 5 к.
77 к.
Пирожное:
11/2 ф. муки 15 к.
1/4 ф. масла 9 к.
яйца и дрожжи 8 к.
1/2 ф. варенья 10 к.
Соль 2 к.
44 к.
Понедельник:
Суп перловый:
31/2 ф. говядины по 15 к. 53 к.
1/2 ф. перловых круп 6 к.
Картофель, коренья и сливки 15 к.
74 к.
Сразы с капустой:
3 ф. говядины по 18 к. 54 к.
2 ф. капусты 9 к.
1/4 ф. масла 10 к.
83 к.
Оладьи с сиропом:
11/2 ф. муки и дрожжи 17 к.
1/4 ф. масла 9 к.
1/2 ф. варенья 10 к.
Соль 2 к.
38 к.»[728]
Разумеется, можно предположить, что между меню и обедами могла быть разница. Меню, относящееся к более раннему периоду заточения Нечаева в Секретном доме, найти не удалось. Итак, бывший вождь московских заговорщиков читал, писал, гулял в треугольном «саду» Секретного дома и, судя по сохранившимся документам, вел себя относительно спокойно. Вспышки грубости и неповиновения в первые два года пребывания узника в равелине случались не часто. Нетерпимость Сергея ко всему мешавшему удовлетворению его желаний нам хорошо известна.
В конце 1875 года Корсаков передал Нечаеву просьбу правительства изложить свои политические взгляды. Что ответил Сергей на это предложение, мы не знаем, во всяком случае никаких эксцессов в документах Алексеевского равелина не зафиксировано. Сергей относился к старику Корсакову с почтением, возможно, молча стерпел. После «Процесса нечаевцев» к нему магнетически притягивались взоры высших администраторов империи, не могли не притягиваться. Попав за решетку, он оказался доступным для удовлетворения любопытства. Здесь, в центре столицы, в крепости содержался опаснейший враг монархии. Никто из руководителей политического сыска не обошел вниманием бывшего главу «Народной расправы». Это и неудивительно: до марта 1881 года он считался самым крупным государственным преступником во всей России.
Однажды Нечаева посетил главноуправляющий III отделением, генерал-адъютант А. Л. Потапов, сменивший в 1874 году Шувалова на всех его постах. Румяный, сытый и очень довольный собой, начищенный и ухоженный, сопровождаемый пестрой свитой военных и статских чиновников, он вплыл в мрачное жилище Нечаева. Генерал пожелал узнать то, о чем Сергея еще до суда спрашивал Левашев. (Левашев от имени правительства предлагал Нечаеву рассказать о состоянии революционного движения в России и получил отказ.) «На этот раз, — писал Л. А. Тихомиров, узнавший о случившемся из записок Нечаева, — ответом было выражение презрения к правительству в более резкой форме, а когда Потапов стал грозить Нечаеву телесным наказанием, как каторжнику, тогда он в ответ на эти угрозы заклеймил Потапова пощечиной в присутствии коменданта генерала Корсакова, офицеров, жандармов и рядовых; от плюхи по липу Потапова потекла кровь из носу и изо рта».[729]
Никаких официальных документов о пощечине не обнаружено, да и вряд ли могли быть такие документы. Но то, что Нечаев еше в 1873 году пытался ударить смотрителя, документально подтверждается. 17 февраля 1904 года военный министр А. Н. Куропаткин записал рассказ министра внутренних дел В. К. Плеве, служившего во второй половине 1870-х годов прокурором Петербургской судебной палаты, человека вполне осведомленного: «Наконец, Плеве рассказал, что в это время Потапов начал уже быть не в своем уме. Он однажды вошел к Нечаеву в камеру и получил от него пощечину. Что же он сделал? Упал на колени перед Нечаевым и благодарил за науку… Такой факт приподнял Нечаева на огромную высоту».[730] Когда через год Потапова отправляли в отставку, сослуживцы находили у него «чуть не размягчение ума».[731] Тихомиров писал, что позорная история с пощечиной очень скоро перестала быть тайною в правительственных и полицейских кругах.[732] Подтверждением случившегося служит прошение Нечаева на высочайшее имя. Приведу из него извлечение: «Он (Потапов. — Ф. Л.) оскорбил меня на словах, я за это заклеймил его пощечиной. Он имел право меня ненавидеть, но и он мне не мстил».[733] Нечаев ошибался: Потапов затаил злобу и поджидал удобного случая.
Тем временем подступило трехлетие заточения, минул так называемый испытательный период, после которого традиционно пересматривалась мера наказания осужденного. Сергей понимал, что его деяния и наказания за них лежат вне традиций, что обычным путем он из равелина не выйдет, царь не сократит ему срока и не отправит в Сибирь не только на поселение, но даже в рудники. И тем не менее Сергей принялся за сочинение прошения на высочайшее имя. Обычно узники в подчеркнуто уважительной форме умоляли монарха о помиловании или облегчении участи. (Вспомните бакунинское сидение в равелине.) Ничего подобного от бывшего вождя «Народной расправы» исходить не могло. В свойственной Нечаеву манере подробно описаны арест в Швейцарии, история незаконной передачи русским властям, следствие и «Шемякин суд». Как и в письме Левашеву, Сергей сообщил Александру II об овациях в зале суда, сопровождавших его обличительные реплики. В конце прошения Нечаев требовал пересмотра дела: ему все еще грезился скандальный политический процесс. Прошение это более всего напоминает послание умалишенного, страдающего манией величия, но нам хорошо известно, что Нечаев психическим расстройством не страдал.
30 января 1876 года Нечаев вручил коменданту крепости несколько листов, исписанных столь аккуратно, что не потребовалось даже изготавливать писарской копии. Листы были вложены в аляповатый переплет, изготовленный узником. Старый служака, педантичный Корсаков передал прошение в III отделение, Потапов отнес его с очередным докладом в Зимний дворец. Мстительный главноуправляющий мог не давать хода этой бумаге, но уж очень все складывалось кстати. Оскорбленный жандармский генерал, прочитав творение узника, возликовал — он понял, что по тону, содержанию и даже внешнему виду прошение, в котором не просят, а требуют и поучают, непременно должно вывести государя из себя и отмщение за пощечину обрушится на узника с высоты трона. Быть может, Нечаева спровоцировал кто-нибудь из равелинных, он должен был понимать, что пользы такое прошение ему не принесет. Быть может, так выразил он свое отчаяние.
Вероятнее всего, монарх нечаевского сочинения в руках не держал, его пересказал или зачитал Потапов. Обычно свое мнение Александр II писал на прошении карандашом мелким разборчивым почерком (карандашные маргиналии монархов покрывались лаком, они хорошо сохранились и легко читаются). На сей раз воля раздраженного императора написана рукою Потапова. На обложке, изготовленной Сергеем, главноуправляющий III отделением со злорадством начертал: «Государь Император Высочайше повелеть соизволили прошение оставить без последствий и воспретить преступнику Нечаеву писать и написанное им до сего времени от него отобрать и рассмотреть, заниматься же чтением книг не возбраняется».[734]
Прошение очень длинное и по содержанию никакого интереса не представляет. Все в нем изложенное уже известно, но не в искаженном изображении Нечаева. Впервые прошение опубликовано П. Е. Щеголевым и неоднократно перепечатывалось.[735] Его текст еще раз доказывает, что трехлетнее заточение не изменило нашего героя. Если бы Александр II не был императором, его все равно возмутило бы нечаевское прошение: от формы и содержания этого самобытного сочинения отдавало ложью и нарочитою наглостью, раздражал недопустимый тон. Ничего подобного монарху слышать не приходилось. Он превосходно знал, что в зале суда ни оваций, ни восторгов не было, наоборот, выкрики публики: «Вон его! вон! вон!»[736] Не рукоплещущая, а негодующая публика явилась смотреть на убийцу, уголовного преступника; сочувствия никакого ни от кого не исходило. И вот вместо прошения он, монарх, получил одни требования. Как же тут не возмутиться и не лишить узника письменных принадлежностей, хотя бы для того, чтобы впредь не допустить сочинения подобных прошений и наказать за дерзость.
Позволение Нечаеву заниматься литературным трудом — писать все, что придет в голову, — было дано отнюдь не из человеколюбия, ему вовсе не собирались облегчать тягость одиночного заключения. Полицейские власти полагали, что смогут извлечь из писаний узника полезные для себя сведения о состоянии революционного движения в России. Они в них крайне нуждались — в тюрьмах сидели сотни молодых людей, занимавшихся противоправительственной «пропагандой в империи», а правоохранительная система никак не могла попять, откуда и для чего берутся радикально настроенные молодые люди, отказывающиеся от благ ради счастья народа… Во время прогулок Нечаева в его камере рылись и, просматривая записи, давно убедились в их бесполезности для властей — иначе зачем бы начальству III отделения требовать от узника откровенных показаний?!
Управляющий III отделением А. Ф. Шульц передал Корсакову содержание высочайшей резолюции, и стража приступила к ее исполнению.
«9 февраля, — писал в очередном бюллетене комендант крепости, — у содержащегося в Алексеевском равелине известного преступника во время прогулки в саду отобраны все письменные принадлежности и исписанные им бумаги. При объяснении ему о том по вводе в номер он с внутренним волнением подчинился такому распоряжению, сказав только с ожесточением: «Хорошо!» Затем ночью, около 4 часов, начал кричать и ругаться, причем находящеюся у него оловянного кружкою с водою выбил из окна 12 стекол; тогда на него тотчас надели смирительную рубашку и, переведя в другую камеру, привязали к кровати».[737] На другой день Нечаева отвязали от кровати, но 20 февраля утром заковали в ручные и ножные кандалы. Что послужило непосредственным поводом для такой жесточайшей меры наказания, мы не знаем, произошел какой-то очень серьезный инцидент. Лишение письменных принадлежностей, и в особенности изъятие рукописей, было для Сергея ни с чем не сравнимой трагедией, у него отобрали запечатленные мысли, замыслы, переживания. Трудно было придумать более страшное наказание. Кандалы обуздали строптивца, он притих, почти не передвигался по камере, на прогулки его не выводили.
Тем временем литературные труды Нечаева поступили в III отделение. Огромное количество рукописей легло на стол безвестного чиновника, и он разбирал их около двух месяцев. Среди бумаг находились черновики прошений монарху, публицистические статьи, беллетристические произведения, разрозненные записи, выписки, конспекты прочитанного, наброски, фрагменты, среди них очерки «Впечатления тюремной жизни», «Письма из Лондона», «Политические думы», «О задачах современной демократии», «О характере движения молодежи 60-х годов» и др. Чиновник, изучавший нечаевские бумаги, написал обзор прочитанного, сопроводив его краткой и поразительно точной характеристикой автора. Приведу из нее извлечения: «Всюду сквозит крайняя недостаточность его первоначального образования, но видна изумительная настойчивость и сила воли в той массе сведений, которые он приобрел впоследствии. Эти сведения, это напряжение сил развили в нем в высшей степени все достоинства самоучки: энергию, привычку рассчитывать на себя, полное обладание всем тем, что знает, обаятельное действие на тех, кто с той же точки отправления не мог столько сделать. Но в то же время развились в нем все недостатки самоучки: презрение ко всему, чего он не знает, отсутствие критики своих сведений, зависть и самая беспощадная ненависть ко всем, кому легко далось то, что им взято с бою, отсутствие чувства меры, неумение отличать софизм от верного вывода, намеренное игнорирование того, что не подходит к желаемым теориям, подозрительность, презрение, ненависть и вражда ко всему, что выше по состоянию, общественному положению, даже по образованности. <…> Какое-то самоуслаждение в созерцании силы своей ненависти ко всем достаточным людям, намеренное развитие в себе непроверенных в своей основательности и законности инстинктов, ставящих его во вражду с существующим порядком, почти слепую, — все эти черты революционера не по убеждениям, а скорее по темпераменту, каким автор сознает себя не без некоторого самодовольства».[738]
Эта записка была подана Александру II. 24 апреля 1876 года он повелел уничтожить все нечаевские бумаги, что и было исполнено под наблюдением Шульца. О содержании рукописей Нечаева мы можем только догадываться, читая их обзор, сделанный в недрах III отделения.
Шел 1876 год. В апреле заболел старик Корсаков, он скончался 1 мая. Вместо него комендантом Петропавловской крепости император назначил генерал-адъютанта барона Е. И. Майделя, оказавшегося самым мягким и доброжелательным из всех комендантов крепости в период заточения Нечаева. 21 мая узника освободили от ножных кандалов и разрешили прогулки во дворе равелина. Ручные кандалы сняли лишь 14 декабря 1877 года; его руки под «браслетами» покрылись незаживавшими кровоточившими язвами, не помогали даже кожаные прокладки. Самыми тягостными из прошедших лет заключения были 1876–1877 годы: оковы причиняли нестерпимую жгучую боль при каждом движении, запрет занятий литературным трудом, недостаточное количество книг для чтения и, главное, отсутствие надежды хоть на какое-нибудь облегчение. Избыток свободного времени проходил в тоскливом бездействии, изводил узника, разрушал нервную систему. Тяжесть положения усугублялась соседством с Бейдеманом, лишившимся рассудка.[739] В записках, посылаемых из равелина (об этом читатель узнает позже), Нечаев называл Бейдемана Шевичем. Почти наверняка он знал настоящую фамилию второго узника от распропагандированной им стражи. Комендант Петропавловской крепости докладывал новому главноуправляющему III отделением А. Р. Дрентельну о сумасшествии Бейдемана: в 1880 году Нечаев сообщил на волю о «безумных воплях» Бейдемана. Л. А. Тихомиров, на основании сведений, доставленных из России в Женеву, писал:
«Несчастный узник, томящийся в одиночном заключении более двадцати лет и утративший рассудок, бегает по холодному каземату из угла в угол, как зверь в своей клетке, и оглашает равелин безумными воплями. Проходя мимо ворот равелина в темную морозную ночь, обитатели крепости слышат эти вопли. Этот безумный узник — бывший офицер-академик Шевич — доведенный тюрьмой до потери рассудка, не опасен для правительства; мучить его также не было смысла; почему же держат несчастного в заключении? На этот вопрос политика царя дает объяснение, ужасающее своим бесчеловечием: безумного Шевича держат в тюрьме потому, что его пример, его вопли и припадки бешенства производят потрясающее действие на других арестантов молодых, мыслящих, еще не доведенных до отчаяния. Праздное одиночество в сыром склепе, грязное непромытое белье, паразиты, негодная пища, адский холод, оскорбления и поругания, побои, веревки, колодки, цепи, кандалы — всего этого достаточно, чтобы искалечить человека, чтобы разрушить физические силы, но сила нравственная не всегда может быть раздавлена этим гнетом, и палачи ищут для этого других средств».[740] Очень достоверна догадка о причине содержания безумного Бейдемана в равелине, дикая по своей жестокости, почти невероятная, но, увы, правдоподобная. Когда Бейдеман лишился рассудка, его пересадили в камеру по соседству с Нечаевым.[741]
Преподаватель уездного училища В. С. Шевич действительно сидел в Секретном доме Алексеевского равелина, но с 12 сентября по 31 декабря 1862 года за участие в кружке с «исключительно малорусским направлением».[742] Бывший вождь «Народной расправы» не удержался и сочинил ему иную биографию:
«Шевич, как сообщил Нечаев в других письмах, — вспоминал введенный в заблуждение Тихомиров, — сидит по чисто личной ссоре с царем Александром II. Этот прославленный освободитель и мученик ухаживал за сестрой Шевича и наконец ее изнасиловал. Тогда Шевич, на ближайшем наряде, вышел из строя и, обратясь к царю, публично в самых резких словах выразил свое негодование и презрение к коронованному башибузуку… За это Шевич и был похоронен навеки в казематах, без всякого суда, по именному высочайшему повелению».[743]
Оставим путаницу фамилий на совести Нечаева. После двадцатилетнего одиночного заключения жизнь реального Бейдемана переменилась — 4 июля 1881 года его отправили в Окружную лечебницу Всех Скорбящих в Казани, где он тихо скончался 5 декабря 1887 года.
С появлением в крепости Майделя жизнь Нечаева начала постепенно улучшаться. Новый комендант активно содействовал доставлению в равелин новой литературы. Годы, проведенные в Секретном доме, сделали Нечаева еще более подозрительным. Любая задержка книг вызывала в нем прилив ярости и опасение, что пришел очередной запрет чтения. Он вдруг начинал рыдать, отказываться от пищи…
Смотрителя Алексеевского равелина майора Бобкова 28 февраля 1876 года ненадолго сменил капитан Золотарев. В декабре 1877 года смотрителем равелина был назначен подполковник П. М. Филимонов.[744] 14 апреля 1880 года, войдя в камеру Нечаева, Филимонов обнаружил, что узник с помощью серебряной чайной ложки (это не описка, в 1880 году узники Секретного дома пользовались столовыми приборами из серебра, оставшимися со времен декабристов; оловянными их заменили позже) нацарапал на окрашенной охрой стене прошение на высочайшее имя. Во время прогулки заключенного смотритель переписал текст прошения и представил его коменданту:
«Его Императорскому Величеству Государю Императору Александру Николаевичу
Государь.
В конце восьмого года одиночного заключения III отделение, без всякого с моей стороны повода, лишило меня последнего единственного занятия — чтения новых книг и журналов. Этого занятия не лишал меня даже генерал Мезенцев, мой личный враг, когда он два года терзал меня в цепях. Таким образом, III отделение обрекает меня на расслабляющую праздность, на убийственное для рассудка бездействие. Пользуясь упадком моих сил после многолетних тюремных страданий, оно прямо толкает меня на страшную дорогу к самоубийству.
Не желая подвергнуться ужасной участи моего несчастного соседа по заключению, безумные вопли которого не дают мне спать по ночам, я уведомляю Вас. Государь, что III отделение Канцелярии Вашего Величества может лишить меня рассудка только вместе с жизнью, а не иначе».[745]
По поводу этого прошения распространилась легенда, будто Нечаев написал его кровью. Авторами легенды следует считать Нечаева, Тихомирова и Щеголева, почему-то и он поддержал вымысел, хотя, судя по документам, ничего подобного не было и быть не могло. Написать на штукатурке столько текста и остаться живым… Требование новых книг узник подкрепил объявлением голодовки, и она подействовала.
Нервы у Сергея были напряжены не только от семилетнего одиночного заключения, двухлетнего сидения в кандалах, запрета писать, перебоев с книгами и многого другого, была и еще одна очень важная причина.
Никто из стражи, кроме смотрителя равелина, не имел права вступать в разговоры с узниками Секретного дома и даже отвечать на их вопросы. Заключенных называли по номерам отведенных им камер, упоминание фамилий арестантов где бы то ни было категорически воспрещалось. Когда Сергею удалось распропагандировать стражу равелина, не установлено до сих пор. Наверное, первые попытки заговорить с нижними чинами караула он предпринял сразу же при поступлении в равелин, то есть в начале 1873 года, первые ощутимые результаты его общения со стражей П. Е. Щеголев относит к 1877 году.[746] Это предположение вызывает сомнение, так как из группы наиболее активных помощников Нечаева лишь один стражник служил в равелине с 1877 года, а следующий за ним поступил в охрану Секретного дома 29 марта 1878 года.[747] Вероятнее всего, стража была распропагандирована в конце 1878 года. Следователи, разбиравшие дело о беспорядках в равелине, не смогли определить, когда впервые охранники согласились выполнять просьбы узника.[748]
Тихомиров в 1883 году опубликовал в Женеве статью «Арест и тюремная жизнь Нечаева». В примечании к ней он писал, что получил из России «часть переписки, веденной Нечаевым из равелина», и на ее основании «составил заметку».[749]
«В равелине служащие не сменяются несколько лет, — писал Тихомиров. — Нечаев имел возможность присмотреться к каждому и, пользуясь этим, наметить много лиц, пригодных для его планов. Еще сидя на цепи, он умел легко повлиять на многих из своих сторожей. Он заговаривал со многими из них. Случалось, что согласно приказу, тюремщик ничего не отвечал, но Нечаев не смущался. Со всей страстностью мученика он продолжал говорить о своих страданиях, о всей несправедливости судьбы и людей.
«Молчишь?. Тебе запрещено говорить? Да ты знаешь ли, друг, за что я сижу… Вот судьба, рассуждал он сам с собой, вот и будь честным человеком: за них же, за его же отцов и братьев погубишь свою жизнь, а заберут тебя, да на цепь посадят, и этого же дурака к тебе приставят. И стережет он тебя лучше собаки. Уж действительно не люди вы, а скоты несмышленые» <…> Случалось, что солдат, задетый за живое, не выдерживал и бормотал что-то о долге, о присяге. Но Нечаев только этого и ждал. Он начинал говорить о царе, о народе, о том, что такое долг; он цитировал Священное Писание, основательно изученное им в равелине, и солдат уходил смущенный, растроганный и наполовину убежденный. Иногда Нечаев употреблял и другой прием. Он вообще расспрашивал всех и обо всем и между прочим узнавал самые интимные случаи жизни даже о сторожах, его самого почти не знавших. Пользуясь этим, он иногда поражал их своею якобы прозорливостью, казавшейся им сверхъестественной. Пользуясь исключительностью своего положения, наводившею солдат на мысль, что перед ними находится какой-то очень важный человек, Нечаев намекал на своих товарищей. на свои связи, говорил о царе, о дворе, намекал на то, что наследник за него… Когда с него сняли цепи, Нечаев умел это представить в виде результата хлопот высокопоставленных покровителей, начинающих брать силу при дворе. То же самое повторилось при истории с книгами и задним числом распространилось на потаповскую оплеуху. Конечно, Нечаев не говорил прямо, но тем сильнее работало воображение солдат, ловко настроенное его таинственными намеками».[750]
Узник использовал любое событие в свою пользу, например, покушение А. К. Соловьева на жизнь монарха узник объяснил страже стремлением партии сторонников наследника престола «согнать» Александра II с трона. Он заранее предупреждал солдат о готовившемся цареубийстве, доверительно сообщал каждому из своих сторожей, что у него давно налажены сношения с волей, будто почти весь караул перешел на сторону наследника престола и верно служит ему и Нечаеву. Тихомиров ошибся относительно Священного Писания, которое он якобы «основательно изучил» в равелине. Однако знание Закона Божия сослужило ему хорошую службу: оно помогло склонить солдат на выполнение некоторых его просьб.
В неопубликованных воспоминаниях народник В. А. Данилов запечатлел встречи с одним из бывших охранников равелина (его фамилию мемуарист скрыл криптонимом — Ф. И. Т., среди стражников Секретного дома, осужденных за сношения с Нечаевым, человека с такими инициалами нет).
«Обособленный от мира и жизни, — писал Данилов, — сам с собой, Нечаев наблюдал жизнь через стеклянное окно в дверях [камеры]. Перед ним были солдаты, простые крестьяне. Опытный глаз Нечаева заметил впечатление, какое производит на солдат его вызов — борьба с администрацией. <…> «Он (Нечаев. — Ф. Л.) заметил, что стоя у дверей его каземата, я читаю Евангелие. Нечаев стал говорить мне о борьбе за правду, о Иисусе Христе, пострадавшем за угнетенных», — так передавал мне Ф. И. Т. о Нечаеве. Слова его сильно действовали на чистые души солдат. «Выходило так, что Нечаев в нашем представлении был не ниже Иисуса Христа. Я потом говорил товарищам-солдатам, что Ваш Иисус Христос, вот в камере № 5 сидит человек, он нам добра хочет. Он то же, что Иисус Христос».
Нечаев воспользовался своим положением и мало-помалу создал целую организацию. Центром была его идеализированная личность, целью — его освобождение».[751]
После обнаружения сговора бывшего главы «Народной расправы» с охранявшими тюрьму солдатами жандармский майор Головин составил «Записку из дознания о беспорядках, бывших в Алексеевском равелине». Опираясь на протоколы допросов, он писал, что «озлобленный преступник камеры № 5 зорко высматривал, кого бы из солдат можно эксплуатировать в свою пользу, для задуманных им преступных целей. Сначала приступает к стоящему у двери камеры часовому с обычными вопросами: «который час», «которое число», требует дежурного жандарма за каким-нибудь делом, и если видит, что солдат податлив, то дело слаживается скоро. Арестант начинает выставлять себя страдальцем, мучеником за простой народ, т. е. их и их отцов; представляет будущее в заманчивом для крестьянина свете, уверяет, что такое время наступит скоро: будет полное равенство и общее благосостояние. Солдат слушает через форточку в дверях камеры хитрые речи, и времени для этого у него достаточно. Камера № 5 помещается в большом коридоре; дежурная комната пуста, жандарм от скуки ушел в караулку; смотритель равелина — далеко, в другом коридоре».[752]
Комендант крепости барон Майдель. будучи человеком мягким и доверчивым, полагался на смотрителя равелина. Происходя из солдатских детей, Филимонов после окончания школы кантонистов прошел от рядового до подполковника. Имея на иждивении 11 детей, смотритель делами службы почти не занимался, перепоручив свои обязанности поручику Н. А. Андрееву, человеку молодому и неопытному.
Распропагандировать стражу, заставить солдат выполнять некоторые мелкие поручения было лишь частью задуманного Нечаевым дела. В его планы входили освобождение из крепости и продолжение борьбы с угнетателями трудового народа. Он жаждал реализовать то, о чем так много рассказывал изумленным соратникам и ранее писал в своих прокламациях; ему нужен был побег из Петропавловской крепости, настоящий побег, наяву. Возможно, бывшему главе «Народной расправы» удалось бы вырваться из крепости более легким и реальным путем — разыграть смирение, писать плаксивые прошения, верноподданнические покаяния. Они привели бы его в Сибирь, а оттуда можно было бежать в Европу или остаться в России на нелегальном положении и постараться попасть в руководители революционного движения. Но после процесса нечаевцев репутация бывшего вождя московских заговорщиков была сильно подмочена, а в Сибири он мог встретить прежних соратников. Нужно было восстанавливать авторитет. Нечаев выбрал иной способ добывания свободы, почти нереальный, требовавший сговора с революционными силами, действовавшими на воле. В том, что они в Петербурге есть, он не сомневался, но сведениями о членах противоправительственного сообщества узник не располагал. Нечаев находился вне России с декабря 1869 года, и ему требовалась информация. Получить ее узник мог только от другого узника, на Бейдемана рассчитывать не приходилось. Оставалось одно — ждать, когда через Васильевские ворота в Секретный дом Алексеевского равелина привезут нового арестанта. И он дождался.
Необыкновенная подозрительность и виртуозная фантазия не спасли Нечаева, не подсказали ему, какого иуду судьба даровала ему в стенах Секретного дома. Он не сумел предугадать, что новый арестант — главное действующее лицо последней, самой страшной драмы, которую предстояло пережить бывшему вождю «Народной расправы».
КРАСАВЧИК МИРСКИЙ
Все перемещения арестантов в Секретный дом Алексеевского равелина и из него производились по воле монарха и сопровождались обязательными донесениями на высочайшее имя. Поэтому комендант Петропавловской крепости генерал-адъютант, барон Е. И. Майдель 28 ноября 1879 года отправил в Зимний дворец рапорт следующего содержания: «Согласно распоряжения Главного начальника III Отделения Собственной Вашего Императорскою Величества Канцелярии приговоренный к бессрочной каторжной работе государственный преступник Леон Мирский, сего числа в 3 часа по полуночи переведен из здания Трубецкого бастиона в Алексеевский равелин С.-Петербургской крепости, в который и заключен в отдельный покой».[753]
С 28 января 1873 года, в течение шести лет и десяти месяцев, в Алексеевский равелин не поступило ни одного нового заключенного. Все эти годы в нем содержались только двое — Нечаев и обезумевший Бейдеман. Как же трепетно ждал Сергей нового узника! Томление ожидания вот уже несколько лет терзало его нервы, тут-то и подступили припадки и истерики. Сколько фантазий пронеслось в голове творца «Народной расправы», особенно после того, как ему удалось склонить стражников к повиновению. Какие надежды возлагал он на нового заключенного, как долго и тщательно готовился он к его появлению, какие фантастические планы построил он с его предполагаемым участием… Трудно проникнуть в замыслы патологически скрытного человека, сидящего в одиночной камере Секретного дома Алексеевского равелина.
Леон Мирский ничем не отличался от большинства умственно несозревших молодых радикалов 1870-х годов и сделал не столь много, чтобы заслужить пристальное к себе внимание, если бы не его последний подвиг на ниве российского освободительного движения — донос коменданту Петропавловской крепости о распропагандированной Нечаевым страже и его планах побега из Секретного дома с помощью «развращенных» им охранников.
Леон (он желал, чтобы его называли именно так), по документам — Лев Филиппович Мирский, родился в 1859 году в селе Рубанов-Мост Уманского уезда Киевской губернии[754] в семье обнищавшего польского дворянина, в 1877 году окончил гимназию и отправился в Петербург, где поступил в Медико-хирургическую академию. Как и во времена Нечаева, многие ее слушатели были тесно связаны с революционными кружками, именно это учебное заведение более других пополняло ряды землевольцев. Мало кому из поступавших в академию удавалось избежать влияния радикальных настроений, царивших в ней. О жизни Мирского в Петербурге почти ничего не известно. В столице он пробыл совсем недолго, но успел близко сойтись с землевольцами, о чем свидетельствуют его дальнейшие действия, литература и бумаги, найденные у него при обыске. Приведу два документа, рассказывающие о том, что произошло с Мирским в 1877–1878 годах. Первый написан 20 ноября 1878 года исправляющим должность киевского губернского прокурора Добровольским по требованию министра юстиции графа К. И. фон дер Палена.
«Заключение по делам о бывшем студенте Медико-Хирургической Академии дворянине Леоне Филиппове Мирском 20-ти лет, обвиняемом в распространении книг преступного содержания.
I
Пристав 2 стана Звенигородского уезда Киевской Губернии, рапортом от 28 Января сего [1878] года донес местному Товарищу Прокурора, что им получены сведения о том, что студент Медико-Хирургической Академии Леон Мирский во время пребывания своего с 23 Декабря по 3 Января у отца в С[еле] Рубановом-Мосту, Уманского уезда (В тексте Рубаный-мост, Рубалый-Мост. Однако отец Мирскою. «местный эконом», называет село Рубанов-Мост.[755]), имел много книг преступного содержания, которые раздавал тамошним крестьянам и вел среди крестьян устную пропаганду. Означенные сведения, как видно из рапорта того же Пристава от 30 Января, получены им от землевладельца М[естечка] Рымановки Андрея Тышковского и Карла Варшавского.
На дознании Андрей Тышковский и Карл Варшавский объяснили: первый — что слышал, но от кого именно не помнит, что Леон Мирский года два уже «распространяет социалистические идеи», а второй — что по слухам Мирский, во время рождественских праздников, привозил запрещенные книги, которые раздавал крестьянам, среди коих вел устную пропаганду, от кого именно слышал — не помнит.
При производстве дознания были спрошены также священник Приходский в с. Рубановом-Мосте Александр Козловский, староста того же села Иван Юрчак, сотский Филипп Мельник и крестьяне Остап и Семен Костенко, Иван Белошкурский, Сидор Король, сиделец местного кабака Волька Дробицкий и другие лица, но все они показали, что о распространении Мирским книг преступного содержания им ничего не известно и за ним ничего дурного не замечали.
II
В Марте месяце сего года в управлении С.-Петербургского Градоначальника были получены сведения о том, что в квартире студентов Медико-Хирургической Академии Леона Мирского и Алексея Шиманского, занимаемой ими в Петербурге по набережной Большой Невки в доме № 18, что-то работается, имеются разные инструменты, куски железа, олова, из которых приготовляются кистени, а также связки запрещенных книг и брошюр. Вследствие этого в означенной квартире, в ночь на 14 Марта был произведен обыск, причем у студента Мирского отобраны явно возмутительного содержания воззвания, «Золотая грамота» в одном экземпляре, «Убийство шпиона» в трех и брошюра «Покушение на жизнь Трепова» тоже в трех экземплярах, а также брошюра «Заседания Особого Присутствия Правительствующего Сената» и несколько листов, свидетельствующих о том, что Мирский вел переписку с политическими арестантами, содержащимися в Киевском Тюремном Замке. Будучи спрошен на дознании студент Медико-Хирургической Академии дворянин Леон Филиппов Мирский, 20-ти лет, показал, что найденные у него воззвания и брошюры получены им от неизвестной личности, с которой он познакомился случайно и которая называлась «Испанцем», тот же Испанец передал ему. Мирскому, на сохранение и письма.
Письма, о которых идет речь, приобщены к производящемуся в Киевском Губернском Жандармском Управлении дознанию о побеге политических арестантов Стефановича. Дейча и Бохановского (герои чигиринской истории. — Ф. Л.), к коему Мирский. как видно из сообщения Начальника Жандармского Управления от 7 Ноября за № 848, в качестве обвиняемого не привлечен.
Обвиняемый Леон Мирский состоит под следствием у Судебного Следователя Старокиевского участка г. Киева по двум делам, а именно: а, об оскорблении им военного караула и б, об оскорблении смотрителя Киевского Тюремного Замка.
Рассмотрев вышеизложенное, я нахожу: 1, что дознанием, произведенным по Киевской Губернии, факт распространения дворянином Леоном Мирским книг преступного содержания среди крестьян С. Рубанов-Мост не подтверждается и 2, что Мирский найденным у него при обыске, произведенном в С.-Петербурге, уличается в имении книг преступного содержания, т. е. в деянии, предусмотренном 3 ч[астью] 252 ст[атьи] Улож[ения] о Нак[азаниях], а потому я полагал бы произведенное по Киевской Губернии дознание о Мирском дальнейшим производством прекратить, а дело по обвинению того же Мирского в имении у себя запрещенных книг обратить к судебному производству по месту совершения им преступления в С.-Петербурге».[756]
После второго рапорта, направленного 22 января 1878 года приставом второго стана Звенигородского уезда прокурору Добровольскому, за Мирским установили наблюдение. Он попал в поле зрения политического сыска, и почти все его действия тотчас становились известны Секретной экспедиции III отделения.
Второй документ — прошение Мирского, поданное им 24 октября 1878 года министру юстиции, удачно дополняет заключение киевского губернского прокурора.
«Его Высокопревосходительству
Господину Министру Юстиции
Арестованного по государственному делу и содержащегося в Петропавловской Крепости, студента Льва Филиппова Мирского
Прошение
В начале Марта сего года в мою квартиру явились жандармы с полицией и, сделав обыск, объявили, что арестуют меня по распоряжению Киевского Губернского Жандармского Управления. Не сознавая за собой ничего плохого, что бы могло подать повод к подобному распоряжению, я объяснил себе случившееся недоразумением, которое позже или раньше будет разъяснено и меня освободят. К сожалению, и разъяснения пришлось ждать дольше чем я думал, а об освобождении приходится забыть. В Июне месяце, когда я уже был переведен в Киев, мне объявили, что «существует указание» будто бы я занимался революционной агитацией в одной деревне Киевской губернии, куда я приезжал к родителям на рождественские праздники. Мне незачем было уверять допрашивавших меня лиц, что этот донос — ложь; они мне сами сказали, что они в этом убеждены, так как все розыски, допросы и расспросы, производившиеся систематически с Января месяца чуть ли не в десяти окрестных селах, обнаружили лишь новое отсутствие всякой пропаганды и, стало быть, мою совершенную невиновность. Киевский губернский прокурор объявил мне, что дело это будет прекращено, а я «через несколько дней» буду отправлен в С.-Петербург на усмотрение местного Жандармского управления, которое меня обвиняло — и совершенно справедливо — в имении у себя нескольких листков запрещенных изданий, нетенденциозного характера (отчеты о заседаниях Особого присутствия Правительствующего Сената и проч.) и одного экземпляра тенденциозной «грамоты» на малорусском языке. Ровно через 4 месяца после того как прокурор обещал выслать меня, я наконец очутился в Петербурге, но… в Трубецком бастионе Петропавловской крепости! Никаких усмотрений и распоряжений со стороны жандармского управления не последовало, и, по-видимому, оно меньше всего заботится обо мне и о моем деле.
При таких обстоятельствах в моем уме родились мучительные, неотвязные вопросы: неужели закон и справедливость допускают держать восемь месяцев под предварительным арестом человека, виновного лишь в том, что приближаясь к гражданскому совершеннолетию (мне 20 1/2 лет) он пожелал ознакомиться с известным общественным движением для того, чтобы только в будущем составить свой критический взгляд на жизнь и общество? Наконец, если это так, то неужели согласно с чувством справедливости и человечности подвергать лицо заведомо страдающее истерикой, таким испытаниям, которые постепенно расстраивая нервную систему, в конце концов неминуемо доводят до высшей степени формы расстройства — до умопомешательства?
Не знаю, ошибаюсь ли я или нет, но мне кажется, что все это делается не в силу требований закона, а по другим причинам. Дело в том, что в Киеве в последнее время (с Августа месяца) при расправах с политическими арестантами кулак и насилие в равных формах получили самое широкое приложение. Пошли протесты со стороны жертв этого нового направления, появились «дела об оскорблениях и сопротивлениях». Я лично всеми силами стремился избежать столкновения с начальством и не раз, подавляя в себе чувство негодования по поводу какого-нибудь оскорбления моего человеческого достоинства или нравственного унижения, я падал в страшнейшем припадке истерики. Но однажды без всякого почти повода (по крайней мере, без законного основания) мне задали весьма солидную потасовку за волосы, а в другой раз — нечто вроде маленького накожного внушения… Я не вытерпел и выругался. Лица «потерпевшие» (Киевский Полицмейстер и Жандармский Полковник) старались создать из этого — Бог знает, какое дело. Но Судебный Следователь, расспросив меня и свидетелей, подвел не помню, какую статью, по которой я должен быть подвергнут аресту от 2–4 месяцев. Как меру «обеспечения и пресечения» он постановил учредить надо мной надзор. Таким образом ни постановление Судебного Следователя, ни мое политическое преступление не дают права держать меня в тюрьме. И сколько раз и я, и мой несчастный старик-отец просили не об освобождении, а лишь об отдании меня на поруки под залог денежной суммы! Все наши просьбы были напрасны, хотя нам категорически не отказывали — это было невозможно, — но отвечали уклончиво, стараясь сбыть с рук. А между тем Киевские власти, считающие себя оскорбленными мною, изыскали ужасное средство для удовлетворения своей мести: зная свойства моего болезненного невроза и знакомые с обстановкой и условиями содержания в Петропавловской крепости, они заключили, что от соединения этих двух данных результат получится полный. Действительность же, надо полагать, превзошла все ожидания! За несколько недель пребывания в крепости я до того расстроился, что бой часов каждый раз производит у меня сердцебиение; убивающее однообразие и глубочайшая тишина дают такой простор болезненной игре расстроенного воображения, что я почти не могу думать о вещах обыкновенных, действительно существующих, а лишь о каких-то фантастических событиях и образах, всегда чудовищных, иногда же ужасающих и приводящих в трепет самого меня. Кроме того, постоянные галлюцинации и потеря сна… Неужели же можно мстить так жестоко, даже если я виноват в чем-либо? Я не могу ответить на этот вопрос — да! Но, быть может, я пристрастен под влиянием чувства самосохранения?. Пожалуй, что и действительно инстинкт жизни проснулся во мне с удивительной силой, но все-таки мне кажется эта кара слишком тяжелой и недостойной гуманного правосудия. На этом основании, единственно из желания жить, я всепокорнейше прошу Ваше Высокопревосходительство об отдаче меня на поруки впредь до суда; а пока это устроится, убедительнейше прошу Вас, Ваше Высокопревосходительство, сделать распоряжение о переводе меня в Дом предварительного заключения, ибо здесь я долго не выдержу. Весь интерес пребывания в Доме предварительного заключения состоит в том, что там нет этих убийственных часов, больше разнообразия в одежде и обстановке и, наконец, быть может, мне разрешат посещать устроенную там мастерскую, как это было прежде до моего отъезда в Киев.
Студент медико-хирургической академии
Лев Мирский.
Р. S. Благоволите, Ваше Высокопревосходительство, прислать мне ответ на настоящее прошение.
С.-Петербург Октября 24 дня 1878 года».[757]
Прошение написано хорошим разборчивым почерком, грамотно. Получив эту бумагу, Пален запросил мнение главноуправляющего III отделением Собственной Его Императорского Величества канцелярии, шефа жандармов генерал-адъютанта А. Р. Дрентельна о возможности освобождения Мирского. Дрентельн потребовал освидетельствования состояния его здоровья. 20 ноября 1878 года врач Петропавловской крепости Г. И. Вильмс, известный своим бессердечием, подписал акт о медицинском осмотре: «в камере № 72 Трубецкого бастиона содержащегося в этой камере секретно арестованного студента Льва Мирского, причем оказалось следующее: Лев Мирский 20 лет жалуется на нервные припадки, выражающиеся усиленным сердцебиением и истерическими припадками <…> общее же состояние здоровья Льва Мирского таково, что какого-либо вредного влияния на оное тюремное заключение нанесть не может».[758] Далее Вильмс писал, что для подтверждения истерических припадков требуется длительное наблюдение за арестантом. Дрентельн, получив акт медицинского осмотра, сообщил Палену, что не встречает «препятствия, в виду болезненного состояния Мирского, к освобождению его из-под стражи на благонадежное поручительство».[759] 27 декабря 1878 года Пален сообщил прокурору Петербургской судебной палаты В. К. Плеве, что разрешает освобождение Мирского на «благонадежное поручительство».[760]
Еще 7 июня 1878 года Филипп Филиппович Мирский, отец Льва, отправил министру юстиции прошение, в заключительной части которого писал: «Будучи так крайне обижен Судьбой и не имея никаких решительных средств, как только прибегнуть под покровительство и защиту правосудия Вашего Сиятельства, покорнейше прошу разрешения на отдачу сына моего Льва Мирского на поручительство Присяжного Поверенного г. Утина, который на случай надобности может представить за него денежный залог, что предоставит Ему возможность продолжить науки, которые как для него, так и для меня весьма интересны; я же с моей стороны обязуюсь иметь бдительный надзор за ним и постараюсь пресечь Ему всякую возможность скрыться от преследования Правосудия».[761] После препирательств между Е. И. Утиным и чиновниками из Министерства юстиции, 10 января 1879 года Мирского отпустили на поруки «с денежною за него ответственностью последнего (Е. И. Утина — Ф. Л.) в размере трех тысяч рублей серебром».[762]
Так закончилась первая часть революционной деятельности Мирского. Судя по приведенным выше документам, она выглядит следующим образом. Проживая осенью 1877 года в Петербурге, только что испеченный слушатель Медико-хирургической академии познакомился с членами партии «Земля и воля». Подпав под их влияние, он получил для прочтения и распространения кое-какую нелегальную литературу. С 23 декабря 1877 года по 3 января 1878 года, находясь у отца в селе Рубанов-Мост, Мирский вел какие-то противоправительственные беседы с крестьянами, о чем донос полицейским властям поступил незамедлительно. Однако надежное подтверждение распространения столичным студентом нелегальных изданий жандармам получить не удалось. 14 марта 1878 года Петербургская политическая полиция произвела на квартире Мирского обыск. Среди трофеев оказалась брошюра о чигиринской истории и ее героях Я. В. Стефановиче, Л. Г. Дейче и И. В. Бохановском. На этом основании Мирскому пытались приписать связь с ними и участие в подготовке их побега из Киевского тюремного замка. Побег состоялся 27 мая 1878 года в то время, как Мирский уже более двух месяцев находился под арестом. Сначала его поместили в Дом предварительного заключения в Петербурге, затем перевели в Киев, где у заносчивого и тщеславного арестанта имели место инциденты с тюремной администрацией и стражей. Осенью 1878 года Мирского вернули в столицу и заключили в Трубецкой бастион Петропавловской крепости, из коего выпустили на «благонадежное поручительство» Е. И. Утина, защищавшего на процессе нечаевцев Е. И. Беляеву[763] и имевшего стойкую репутацию человека неблагонадежного, многие годы состоявшего под гласным надзором полиции, старшего брата политического эмигранта Н. И. Утина. Странно? Да.
Из документов, имеющихся в нашем распоряжении, следует, что Мирский во время пребывания под арестом проявил себя человеком неуравновешенным, но держался стойко, никого не предал, откровенных показаний не дал. Далеко не всем революционерам была свойственна твердость, своих товарищей выдавали многие. Через несколько дней после освобождения Мирского вызвали к Дрентельну.[764] Шеф жандармов сделал предупреждение бывшему студенту и отклонил его просьбу «о дозволении продолжать курс в Медико-Хирургической Академии».[765]
В начале февраля 1879 года Мирский встретился с одним из руководителей Основного кружка партии «Земля и воля» А. Д. Михайловым и показался ему убежденным республиканцем, человеком смелым и решительным, умным и обаятельным. Молодой революционер сообщил опытному землевольцу, что намерен убить Дрентельна чрезвычайно простым способом: установив время и маршруты передвижения шефа жандармов, неожиданно приблизиться на хорошей лошади к его карете, выстрелить с кратчайшего расстояния и скрыться. Дерзкий план будущего террориста одобрило большинство членов Основного кружка.[766] Легкость, с которой выносились землевольцами и их последователями решения о жизни и смерти людей, поразительна. Александр Романович Дрентельн был не лучше, но и не хуже подобных ему царских администраторов. Он окончил Первый кадетский корпус, командовал лейб-гвардии Измайловским полком, Первой гвардейской дивизией, отличился в Балканскую кампанию. В сентябре 1878 года его назначали главноуправляющим III отделением и шефом жандармов, в феврале 1880 года — членом Государственного совета и Верховной распорядительной комиссии. После упразднения III отделения Дрентельн был одесским генерал-губернатором и командующим войсками Одесского военного округа, затем те же должности занимал в Киеве, где проявил себя крайне жестоким, реакционным администратором, но это было потом, не убивать же за совершенные впоследствии поступки…
Подготовкой покушения занялись А. Д. Михайлов и известный революционер Н. А. Морозов. Первый снимал квартиру на Кирочной улице, второй жил у литератора В. Р. Зотова на углу Пантелеймоновской улицы и Литейного проспекта. III отделение, Штаб Отдельного корпуса жандармов и казенная квартира их шефа находились на набережной Фонтанки, 16, рядом с Пантелеймоновской улицей. Слежка за главноуправляющим III отделением осуществлялась постоянным наблюдательным постом, устроенным на другой стороне реки Фонтанки в тени стен Инженерного замка. Морозов и Михайлов, сменяя друг друга, за несколько дней установили время выездов Дрентельна, пути следования и состав охраны.[767]
У Морозова сложилось крайне благоприятное впечатление от встречи с Мирским. Зайдя как-то к Михайлову, он «застал у него стройного красивого молодого человека с изящными аристократическими манерами».[768] Мирский показался ему исключительно смелым, решительным и идейным.
Чтобы не вызвать подозрение, Мирский записался в манеж и приобрел там лучшую лошадь. Он регулярно гарцевал на ней по центральным улицам столицы, чтобы приучить ее к городским условиям, а полицейских к себе. Сохранилось свидетельство Н. А. Морозова об одной из прогулок Мирского:
«Один раз, проходя по Морской улице, в те часы, когда толпится фешенебельное общество, я видел его проезжавшим под видом молодого денди на стройной, нервной английской кобыле. Он был очень эффектен в таком виде, и все светские и полусветские дамы, медленно проезжавшие в эти часы в своих открытых колясках, заглядывались на него в свои лорнеты».[769]
В период подготовки к покушению, опасаясь высылки из столицы в административном порядке, Мирский постоянно менял место жительства. Иногда он по нескольку дней оставался лишь в квартире Г. Г. Левинсона и его воспитанницы Елены Андреевны Кестельман, девятнадцатилетней стройной хорошенькой киевской мешанки, невесты Мирского, с которой он познакомился еще в гимназические годы. Морозов описал свой с Михайловым визит к Кестельман, изнеженной холеной барышне, расслабленной и томной, с французским романом в руках, голубой будуар, залы с золочеными рамами картин и хрустальными люстрами, кофейные сервизы XVIII столетия.
«— Значит, вы нам сочувствуете? — спросил Михайлов.
— Да, очень! — ответила она.[770]
Юная особа, делившая досуг между туалетным столиком и пустой болтовней, имела склонность к романтическим фантазиям. Ее героем нежданно-негаданно оказался Сергей Кравчинский, зарезавший среди белого дня в центре столицы шефа жандармов, главноуправляющего III отделением Н. В. Мезенцева, предшественника Дрентедьна. Кравчинскому удалось благополучно скрыться с места преступления и эмигрировать в Европу. Дерзкое хладнокровное убийство Мезенцева было выполнено столь артистично, что Кравчинский в один день превратился в кумира землевольцев. Этот кумир поселился в воображении невесты Мирского, и она желала видеть своего жениха таким же смелым и решительным, дерзким и мужественным. Вслед за Н. А. Морозовым и А. Д. Михайловым известный историк освободительного движения П. Е. Щеголев утверждал, что желание Мирского застрелить А. Р. Дрентедьна родилось под влиянием «романтическою восторга» Кестельман перед Кравчинским.[771] Сам же Мирский во время следствия о мотивах покушения заявил следующее:
«Выйдя из крепости, я был возмущен как всем тем, что предпринималось против членов этой партии и вообще против учащейся молодежи. Высылки целыми массами в Сибирь молодых людей, студенческая история здесь в Петербурге в конце, прошлого года, когда студентов Казаки били нагайками и кроме того слишком стеснительное содержание заключенных в тюрьмах лиц, принадлежащих к социально-революционной партии, все это возмутило меня как против подобного порядка вещей вообще, так и против личности Шефа Жандармов, которого я считал главным виновником этих явлений. Лично же против Генерала-Адъютанта Дрентельна я не имел ничего, хотя на просьбу о дозволении продолжить курс в Медико-Хирургической Академии, я получил от Генерала-Адъютанта Дрентельна отказ. Отказ этот не был для меня особенно важен, так как я не рассчитывал окончить курс собственно потому, что предполагал возможность высылки в Сибирь по тому делу, по которому содержался в крепости, но желал пользоваться званием и видом студента. Вследствие же высказанного у меня зародилась мысль так или иначе выразить свой протест какой-нибудь террористической мерой, с этой целью я и стрелял в Генерал-Адъютанта Дрентельна 13 марта сего года. Я не желал непременно убивать его. а хотел показать, что всякий Шеф Жандармов, поступающий таким образом как поступал Генерал-Адъютант Дрентельн, подвергает свою жизнь опасности. Мне как человеку, не как революционеру, было бы больно, если бы я причинил хоть малейший вред Г. Дрентельну, так как и он человек: я способен был только как революционер сделать выстрел в Шефа Жандармов, как очень задевшем интересы моей партии».[772]
В необъятном фонде Министерства юстиции, хранящемся в Российском государственном историческом архиве в Петербурге, находится оригинал собственноручной записки еще молодого, но уже подававшего большие надежды прокурора С.-Петербургской судебной палаты В. К. Плеве, представленной Александру II 20 августа 1879 года. Приведу из нее извлечения:
«13 марта 1879 г., около часа дня, в то время, когда Шеф жандармов Генерал-Адъютант Дрентельн, отправляясь в заседание Комитета Министров, проезжал в карете вдоль Лебяжьего канала по направлению к Дворцовой набережной, какой-то молодой человек, скакавший в карьер на темно-гнедой лошади, обогнал его карету, выстрелил из револьвера в окно кареты и, опередив ее, сажень на 6, остановился круто, на всем скаку повернул лошадь навстречу кареты и выстрелил вновь, после чего опять поскакал вперед к Дворцовой набережной. Желая догнать всадника, кучер кареты погнал лошадей, но вскоре потерял его из виду и продолжал погоню на удачу. Проехав по набережной, Самборскому переулку, Шпалерной улице и Воскресенскому проспекту до угла этого последнего и Захарьевской улицы, преследовавшие всадника Генерал-Адъютант Дрентельн и его кучер узнали, что лошадь стрелявшего упала вместе с ним и была взята городовым Мухаметовым, всадник же с места падения уехал на извозчике. Розысками полиции было затем обнаружено, что преступник, сев в извозчичьи сани, поехал по Воскресенскому проспекту, а затем повернул на Захарьевскую, приказал остановиться у дома № 3 и, расплатившись с извозчиком, вошел в помещавшуюся в этом доме табачную лавочку Терентьева, купил пачку папирос и, выйдя из лавки, направился по Захарьевской к Таврическому саду в виду швейцара дома № 3, который однако же не заметил как далеко неизвестный прошел по принятому им направлению».
Далее В. К. Плеве подробно описал, как следователям удалось установить кличку кобылы Мирского, затем место ее приобретения и содержания — манеж Морица Страсса на Моховой улице и уж тогда с помощью посетителей и прислуги манежа собрать приметы стрелявшего в Дрентельна наездника.
«Ввиду упомянутых примет, — продолжал Плеве, — возникло предположение о том, что человек, стрелявший в Шефа жандармов, есть бывший студент Императорской Медико-Хирургической Академии, дворянин Леон Филиппов Мирский, незадолго перед тем освобожденный на поруки из С.-Петербургской крепости, где он содержался по обвинению в государственном преступлении. Предположение это не замедлило прийти в уверенность и тождество Мирского с лицом, совершившим покушение 13 марта, было установлено самым положительным образом, так как ряд свидетелей в предъявленных им портретах Мирского признали личность, покушавшуюся на жизнь Генерал-Адъютанта Дрентельна, а сестра казненного по приговору Верховного Уголовного Суда, государственного преступника Александра Соловьева, Елена Соловьева, со слов брата, сообщила о том, что преступника зовут Мирским и что перед покушением он виделся с Соловьевым, ездил верхом на Елагин остров пробовать револьверы, а после покушения скрывался, между прочим, и при содействии Александра Константинова Соловьева.
С 13 Марта и до конца июня сего года производившиеся повсеместно розыски Мирского были безуспешны. Между тем разыскиваемый, пробыв до конца марта в Петербурге, отправился около этого времени с подложным паспортом на имя потомственного почетного гражданина Федотова, в имение Тугановичи, Валдайского уезда, имение Судебного пристава С.-Петербургского Окружного Суда Вячеслава Андреева Семенского, где и поселился в качестве домашнего учителя восьмилетнего сына Семенского. В конце Апреля, однако, он внезапно уехал из Тугановичей. Внезапный отъезд его из Тугановичей спас его от задержания в этой местности, так как на его следах были уже агенты сыскной полиции, принимавшие его, впрочем, за иную также разыскиваемую личность».[773]
Почему-то Плеве чрезмерно много места уделил идентификации личности покушавшегося с Мирским. Дрентельн разговаривал с ним и запомнил его, он сразу же узнал стрелявшего,[774] поэтому идентификация требовалась лишь для подтверждения слов шефа жандармов, а не для облегчения поиска преступника. Но прервали мы повествование Плеве о покушении на Дрентельна и последовавших за ним событиях потому, что в нем имеются пропуски, по-видимому, Мирский не все рассказал на следствии.
Около трех часов дня молодой террорист пробрался к Михайлову. (В направлении дома, где вождь землевольцев снимал квартиру, он и ускакал с места преступления.) Когда вскоре к Михайлову явился Морозов, Мирский полулежал на диване, одетый в костюм для верховой езды, и поигрывал хлыстом. У Морозова сложилось впечатление, что Мирский «замечательно хорошо владеет собой».[775] Выполняя настойчивое требование стрелявшего, Михайлов отправился к Кестельман для организации ее свидания с женихом. «Можешь себе вообразить, — рассказал Михайлов Морозову по возвращении от невесты террориста, — Кестельман, для прекрасных глаз которой, по твоему прежнему мнению, пошел на такую смертельную опасность Мирский, до того перепугалась, что с ней сделался припадок истерии, и родные уложили ее в постель. Нечего было и думать теперь об устройстве их свидания».[776]
Побег Мирского из Петербурга в имение Семенских помогали осуществить известные землевольцы Л. А. Тихомиров[777] и Г. В. Плеханов.[778] Оттуда Мирский отправился не в Таганрог, как предполагали судебные власти, а на хутор вблизи Ростова-на-Дону и лишь оттуда в Таганрог. «Недалеко от Ростова, — вспоминал известный народник М. Р. Попов, — в Земле Войска Донского были хутора, владельцы которых были моими знакомыми с детства. Пользуясь их опытностью, мы завели хутор, владельцем которого был Гостинцев, мой товарищ по академии и тоже принадлежал к организации «Земля и Воля». Хутор этот был местом, где можно было укрыться и людям нашей организации на время усиленного розыска их и всего другого, что в то время носило характер нелегальный. Здесь одно время скрывался и Мирский после покушения на Дрентельна».[779]
Пока Мирский прятался в имении Семенских и на хуторе, в Петербурге шли аресты. По городу метались агенты тайной полиции.[780] Землеволец Н. В. Клеточников, служивший в III отделении, сообщал все, что ему удавалось узнать, А. Д. Михайлову. Часть донесений сохранилась, приведу из них извлечения, касающиеся Мирского:
18 марта. «Любовница Мирского Кестельман: Новая улица, 9, 39, знакомые ее: Абациев, Шиманский, Бачинский, Златогорская, Фрессер, Попов, Рубинский, Трахман и Сидьванский. Прошлую ночь и сегодня они арестованы; в квартирах их западни. Сидьванский, говорят, уже выпущен. За этими 7 лицами и для Мирского назначены шпионы: Скабитский и Холодский. Следят за прис[яжным] пов[ерен-ным] Утиным (площ[адь] Б[ольшого] Театра, 10) и вчера провожали его на Варшавскую ж[елезную] д[орогу], а сегодня провожали в Гатчино».[781]
25 марта. «Приготовляют портреты Мирского и Таксиса для раздачи агентам».[782]
3—5 июля. «Ольховский (агент III отделения. — Ф. Л.) отправился сперва к Шехтеру в контору и узнал, что Ваньяса — это Кестельман, любовница Мирского, жившая на Новой улице, в д. № 9, Сан-Гали».[783] «Явившись к Кестельман, он (Ольховский. — Ф. Л.) рекомендовался купцом или комиссионером, приплывшим на купеческой барже; что в Пудоже он познакомился с Улановской, которая просила его узнать, получил ли Шехтер ее письмо и передал ли его Веньясе, т. е. Кестельман, что он скоро вернется в Пудож и готов исполнить поручение. Кестельман дала ему записочку к Улановской и письмо ее матери (на польском языке) и большую корзинку с разными вещами, которая и лежит в III отд[елении].[784]
16—19 июля. «На Бассейной улице, д. 29, кв. 18, живет непрописанною Кестельман, любовница Мирского. Агенту Ритво приказано иметь за нею самое тщательное наблюдение и каждый день представлять донесения. Почти верно, что Мирский — это Плетнев, взятый в Таганроге, и что за ним следили и выдал некто Щетинников, живущий в Таганроге. Швейцар дома, где живут Семенские, признал в карточке Мирского одного из посетителей Семенских».[785]
Вернемся к записке В. К. Плеве: «Вслед за сим Мирский появился в Таганроге, под именем дворянина Плетнева и там обратил на себя внимание власти поведением, которое давало основание заключить о принадлежности его к социально-революционной партии, почему он и был арестован, успев при этом оказать сопротивление задерживавшим его должностным лицам. Непосредственно за его арестом, совокупностью многих данных, а между прочим, и собственным его сознанием, было обнаружено, что он — Леон Филиппов
Мирский, совершивший 13 марта сего года покушение на убийство Шефа Жандармов Дрентельна. Личность, направление, образ жизни и действий Мирского, а также подготовление, обстановка совершенного им покушения и последующие его действия выяснились с надлежащей точностью и полнотой. <…> Со времени покушения на жизнь Шефа Жандармов, Мирский в июне поселился, как уже было сказано выше, под именем Екатеринославского помещика Александра Николаевича Плетнева в Таганроге. Здесь он познакомился и скоро близко сошелся с прапорщиком 5 батареи 5-й резервной артиллерийской бригады Тарховым, через него вошел в сношения с некоторыми его таганрогскими сослуживцами и, между прочим, с бомбардиром Щетинниковым. который вынес из этого знакомства убеждение в принадлежности именовавшего себя Плетневым к преступному сообществу, донес о нем до сведения власти. В течение нескольких дней, проведенных им в Таганроге, Мирский при посредстве Тархова и Щетинникова, действовавшего с намерением довести обо всем происходившем по начальству, приискивал средства к тайному отъезду морем за границу, составлял подложные документы на имя Плетнева, имевшего сношения с примчавшими к нему из Ростова единомышленниками, а между прочим в разговорах посвящал Щетинникова и Тархова в задачи и ближайшие планы социально-революционной партии.
6 Июля сего года, вследствие сведений о Плетневе-Мирском, доставленных Щетинниковым местному помощнику Начальника Губернского Жандармского Управления Капитану Карташевскому, Мирский был арестован близ своей квартиры, в доме доктора Ромбро, причем он сделал в задержавших его должностных лиц три неудачных выстрела из револьвера. По обыску у него, кроме нескольких подложных и чужих документов, было, между прочим, найдено собственноручное письмо его к отцу на польском языке, как бы из Швейцарии, в котором он заявлял о том, что немедленно по выходе из заключения снова принялся «за общественное дело», за труд в пользу революции и 13 марта стрелял в Шефа Жандармов, уведомляет отца о том, что он находится в безопасности в Швейцарии и просит прислать ему 500 р.
Ввиду содержания оказавшегося у него письма, а также признания, его личности местным Начальником Губернского Жандармского Управления. Мирский 13 июня открыл свое настоящее звание, имя и фамилию, сознавшись, вместе с тем. и в покушении на жизнь Шефа Жандармов.
По доставлении Мирского в Петербург, он дал обширное показание, в котором изложил с большой подробностью все обстоятельства, относящиеся до него самого, не сделав однако никаких указаний на своих соучастников и вообще не представил никаких объяснений, которые могли бы стать основанием для действительного расследования за исключением нескольких объяснений, о действительном значении которых в смысле обвинения укрывавших его лиц он вероятно сам не отдавал себе отчета, показания его вовсе не представляют материала для изобличения его соучастников и весьма мало дают этого последнего по отношению к укрывателям. Сам же Мирский подробно и в общем согласно с обстоятельствами дела сознался во всех возводимых на него преступлениях».[786]
Тем временем Клеточников сообщил Михайлову:
16—19 июля. «Мирский, говорят, упал духом и сознался в покушении 13 марта на жизнь шефа, просит пощады и делает разные признания. Так он сознался, что укрывался у Семенских, сперва в городской квартире, а потом в имении Семенской. Оказывается, что агенты (Янов и Полеводин), ездившие туда, приняли Мирского за И. В. Узембло (разыскиваемый народник. — Ф. Л.) и, не признав его, выпустили из рук. Ездили же они вследствие сообщения Рачковского. Теперь значит Семенским, укрывшим Мирского, Верещагину, ездившему для предупреждения его об опасности, и соседям Семенской по имению Сухову, Певцову, Любовицкому и Широбокову, принимавшим Мирского и посещавшим его, будет очень плохо».[787]
25 августа в камеру к Мирскому посадили солдат, они не давали ему перестукиваться с соседями.[788] 10 сентября земле-волка А. Н. Малиновская писала из Петропавловской крепости:
«Кстати Мир[ский] признал себя членом Испол[нительного] Комит[ета] и сказал, что их всех членов около 200 и друг другу они известны лишь по номерам. Мир[ский] был № 216, по фамилии знал одного Соловьева (к тому времени казненного. — Ф. Л.). Вообще он наплел много небылиц, — вот охота!»[789] Через десять дней она же писала: «При всех его (Мирского. — Ф. Л.) достоинствах он страшно болтлив».[790]
Важнейшие улики против Мирского основаны на его же показаниях. Главных своих сообщников А. Д. Михайлова и Н. А. Морозова он не выдал, но на сей раз кое-кого все же назвал. Так, 14 июля 1879 года из Таганрога пришла шифровка, где сообщалось, что задержанный «оказался Леоном Мирским»,[791] а уже 26 июля арестовали В. А. Семенского,[792] за этим арестом последовали другие.
Следствие подходило к концу, судебные власти приступили к подготовке процесса, готовился к нему и Мирский. Он попросил у Левинсона денег и потребовал сшить себе фрак. Во всей истории революционного движения этот случай единственный. Никому из обвиняемых не приходило в голову заказать хорошему портному фрак специально для появления в нем на скамье подсудимых. Мирский, безусловно, понимал, что ему грозит смертная казнь, и тем не менее мысли его были поглощены прежде всего собственным внешним видом.
При проведении крупных судебных процессов, разумеется, если они были открытыми, в главной газете империи — «Правительственном вестнике» — полагалось публиковать стенографические отчеты о всех заседаниях. Процесс Леона Мирского не являлся исключением, к тому же он был выгоден для властей — мальчишка ни с того ни с сего стрелял в заслуженного боевого генерала, что же тут скрывать… Перепечатывать стенограмму процесса нецелесообразно: она заняла бы много места, весьма ординарна и скучна. Поэтому приведем несколько извлечений из колоритного описания судебных заседаний, опубликованного в столичной газете «Молва»:
«ДЕЛО МИРСКОГО
В настоящей заметке мы передаем только внешние подробности происходившего вчера на суде, не касаясь самого судебного процесса, который будет нами заимствован из «Правительственного вестника».
Заранее было известно, что по делу Мирского и обвиняемых вместе с ним 7 лиц, предназначенному к слушанию в С.-Петербургском военно-окружном суде, доступ посторонних лиц последует лишь по именным билетам. Этим объясняется, что вчера, 15-го ноября, перед зданием обших судебных установлений, на Литейной, куда на этот раз перенес свое заседание военный суд, никакого наплыва публики не замечалось. <…> Билеты для входа в залу суда были двоякие: белые — для высших сановников и лиц судебного персонала, а равно вызванных в суд по повесткам, и красные для всех остальных. Первые имели вход со Шпалерной улицы, а последние — с Литейного проспекта. По предъявлении билета офицер отмечал в списке фамилию проходившего лица. Внутри заседания суда. т. е. на площадке перед залою, и в самой зале суда порядок охранял плац-адъютант, по непосредственному распоряжению второго коменданта свиты Его Величества генерал-майора Адельсона. На площадке второго этажа, у того места, где кончается главная лестница, был установлен барьер. Здесь происходило вторичное предъявление билета, отрывание плац-адъютантом купона и новая отметка в списке. <…> По распоряжению председателя суда было установлено следующее распределение мест: за креслами судей — для высших сановников и лиц военного судебного персонала; кресла присяжных заседателей для генерал-адъютантов и лиц, занимающих высокое положение в административной иерархии. Места для публики внизу — исключительно были предоставлены генералам, а на хорах — штаб- и обер-офицерам и другим лицам, получившим билеты. <…> Перед креслами присяжных, за небольшим столиком, поместились два стенографа от «Правительственного Вестника», а между этим столиком и аналоем установлен стол с вещественными доказательствами. Издали видны только большие связки бумаг. В 10 часов 10 минут утра вошел суд в следующем составе: председатель генерал-лейтенант Дебоа, при двух постоянных членах и шести временных, именно 6 штаб-офицеров от войск петербургского округа. Объявив заседание открытым, председатель сделал прежде всего распоряжение о приводе к присяге одного неприсягавшего еще временного члена судебного присутствия. Затем генерал Дебоа объявил содержание дела, подлежащего рассмотрению военного суда, и приказал жандармскому офицеру сделать распоряжение о вводе подсудимых. Наступила пауза, во время которой 7 жандармов, обнажив сабли, расположились двое с каждой стороны скамьи подсудимых, а трое сзади скамьи, в равном друг от друга расстоянии. Предшествуемые жандармским офицером и отделяемые друг от друга конвойными, подсудимые вступили на скамью подсудимых в таком порядке: дворянин Леон Мирский, отставной прапорщик артиллерии Тархов, мещанин Евгений Беклемишев, присяжный поверенный Александр Ольхин, Ипполит Головин, Николай Верещагин, дворянка Семенская и почетный гражданин Григорий Левинсон. Все подсудимые одеты в черные сюртуки, а Мирский — во фрак. <…> По окончании председателем обычного опроса подсудимых, секретарь прочел список вызванных в суд свидетелей. Оказывается, что со стороны обвинения вызвано 60 с небольшим свидетелей, а со стороны защиты около 40. Некоторые свидетели не явились и их неявка за дальностью расстояния была признана законною. Председатель сделал распоряжение о вводе свидетелей по группам не более 20 человек в каждой. Произведена поверка, которая заключалась в том, что председатель выкликал фамилию свидетеля, а последний заявлял о своем присутствии словом «здесь».
Появление второй группы свидетелей было отмечено неожиданным эпизодом. Один из подсудимых, именно Головин, закрыв лицо руками, зарыдал, как бы в истерическом припадке. В числе вошедших восьми свидетельниц была и его жена — О. М. Головина. Председатель пригласил Головина успокоиться и предложил в случае надобности заявить о медицинской помоши. Подсудимый встал и поклонился, <…>
В вечернем заседании 15-го ноября судебное следствие было открыто допросом свидетельницы Кестельман. Это молодая девушка, состоявшая на правах невесты, в близких, интимных отношениях к подсудимому Мирскому. С ней сделалось дурно, но она скоро пришла в себя. Точно так же и с подсудимым Мирским произошел припадок. По распоряжению председателя он был выведен на некоторое время из залы суда до окончательного приведения в чувство. Весь интерес вечернего заседания сосредоточился на показаниях и перекрестном допросе свидетеля бомбардира Щетинникова. Его пространное показание было выслушано с напряженным вниманием. Мирский в одном месте показания Щетинникова разразился бранным восклицанием, относившемся к свидетелю. Остановленный немедленно председателем, подсудимый просил простить ему «эту невольную вспышку». <…> Продолжая отмечать внешние подробности судебного заседания, приходится отметить следующий ряд случайностей. Во время допроса свидетельницы Головиной с мужем случился припадок. Голосом, исполненным безнадежного отчаяния, он закричал: «Мирский, зачем вы погубили меня!» Мирский в свою очередь встал и заявил председателю, что Головина никогда не видел.
В 5 час. 20 минут пополудни 17 ноября суд удалился в совещательную комнату. Публика не расходилась. Только в 10 часов 10 минут вечера суд окончил свои совещания, и все хлынули в залу. Подсудимые, заняв свои места, в ожидании появления суда оглядывались на публику. Мирский казался озабоченным и усиленно рукою расправлял свои волосы. Ровно в 10 час. 20 минут вечера вошел суд. Все встали. Воцарилась тишина. Председатель громким голосом прочел резолюцию, которою признаны виновными:
1) Мирский — в принадлежности к социалистско-революционному сообществу, имеющему целью путем насильственных мер ниспровергнуть государственный общественный строй, в покушении на жизнь шефа жандармов, в интересах той же партии, в вооруженном сопротивлении должностным лицам и в составлении подложного вида на жительство.
2) Тархов — в участии по составлении означенного подложного вида, с заведомою целью дать возможность Мирскому укрыться от преследования правительства, зная притом, что он, Мирский, покушался на жизнь шефа жандармов. По обвинению же в принадлежности к революционному сообществу считать Тархова оправданным по суду.
За означенные преступления суд постановил обоих подсудимых лишить всех прав состояния и первого из них, Мирского, подвергнуть смертной казни, а второго, Тархова, сослать в рудники на 13 лет и 4 месяца.
Что касается остальных подсудимых — Беклемишева, Ольхина, Семенской, Верещагина, Левинсона и Головина, обвинявшихся также в принадлежности к революционному сообществу и в укрывательстве Мирского, то суд, за недоказанностью обвинения, постановил всех поименованных лиц считать по суду оправданными.
Приговор в окончательной форме будет объявлен в воскресенье, 18-го ноября, в 7 часов вечера.
Едва председатель произнес резолюцию суда по отношению к Мирскому, как с бывшею в зале суда невестою подсудимого Кестельман случился истерический припадок. Ее вынесли на руках, но в продолжение нескольких секунд пронзительные крики ее доносились из коридора. Сам Мирский встретил приговор видимо спокойно. Окончив чтение резолюции, генерал Дебоа объявил заседание закрытым. Но вслед за тем и Мирский, и Тархов заявили о своем желании воспользоваться правом подачи кассационной жалобы, причем первый добавил, что он уполномочивает для этого г. Любимова. Председатель сказал, что обоим будет завтра вручена копия с приговора и что они имеют 24 часа времени на подачу кассационных жалоб, считая начало этого срока с момента вручения означенной копии. Оба осужденные поклонились председателю. Остальные подсудимые, казалось, не ожидали оправдательного приговора.
Мирский, поблагодаривший суд за оправдание своих бывших товарищей по скамье подсудимых, бросился к ним и стал со всеми целоваться и выражать свою радость. Со словами; «Доктор, помогите моей жене», Мирский вышел из зала суда».[793]
Итак, суд закончен. Мы не знаем подробностей дальнейшей жизни всех обвиняемых. Второй осужденный по процессу Георгий (Юрий) Александрович Тархов окончил Нижегородскую гимназию и Константиновское военное училище в Петербурге, в мае 1878 года был произведен в прапорщики и отправлен на службу в Таганрог. Весной 1880 года Тархов прибыл на Кару, в 1883 году отпущен на поселение, находился под надзором полиции в Сибири, а с 1898 года в Европейской России, восстановлен в правах лишь в 1902 году,[794] в 1905 году принимал участие в организации Всероссийского крестьянского союза, за что в 1907 году был сослан в административном порядке в Тобольскую губернию, по окончании ссылки жил в Нижегородской губернии. Александр Александрович Ольхин, присяжный поверенный, известный радикал, открыто сочувствовал революционерам, в 1871 году на «Процессе нечаевцев» выступал в качестве защитника. После оправдания судом Ольхина в административном порядке отправили в ссылку, лишь в 1895 году он получил разрешение вернуться в столицу. Николай Александрович Верещагин, студент Медико-хирургической академии, после оправдания судом выслан в административном порядке в Новгородскую губернию под надзор полиции. Вячеслав Андреевич Семенский, судебный пристав, оказывал денежную помощь революционерам, хранил нелегальную литературу, арестован в июле 1879 года, во время следствия заболел психической болезнью и к суду не привлекался. Его жена, Александра Константиновна, укрывала известного народника А. К. Преснякова. После оправдания судом в административном порядке выслана в Новгородскую губернию под надзор полиции. Еще один персонаж процесса — свидетель Елена Андреевна Кестельман, в замужестве Бек, с февраля 1878 года невеста Л. Ф. Мирского, была арестована 20 марта 1879 года, но вскоре выпущена, 18 сентября вновь арестована, в октябре освобождена под залог, в 1887 году выслана в Семипалатинскую область на три года под надзор полиции.
Решение Военно-окружного суда требовало конфирмации столичным временным генерал-губернатором И. В. Гурко. Оно последовало 19 ноября, приведу полный текст:
«Рассмотрев приговор С.-Петербургского Военного Окружного Суда о дворянине Леоне Мирском и отставном прапорщике Юрии Тархове, принимая во внимание несовершеннолетие обоих преступников и их полное раскаяние в поданных ими прошениях, первым из них о помиловании, а вторым о смягчении наказания, я определяю: дворянина Леона Мирского по лишении всех прав состояния сослать в каторжные работы в рудниках без срока, а отставного прапорщика Юрия Тархова лишить всех прав состояния и сослать в каторжные работы в крепостях на десять лет.
Генерал-адъютант Гурко».[795]
Известный журналист, начальник Главного управления по делам печати Е. М. Феоктистов, человек хорошо осведомленный, вспоминал: «Смягчен был Иосифом Владимировичем (Гурко. — Ф. Л.) приговор и для Мирского, что вызвало, разумеется, разнообразные толки в обществе. По мнению его недоброжелателей, он обнаружил будто бы милосердие из жажды популярности: как это было похоже на него!. Я видел Гурко поздно вечером того дня, когда состоялось решение, и знаю в точности, какие мотивы руководили им. Он не мог не обратить внимание на то, что Мирский едва достиг совершеннолетия и был не столько закоренелым злодеем, сколько сбитый с толку революционною пропагандой мальчишка <…>.[796]
Управляющий III отделением Н. К. Шмидт 20 ноября телеграфировал Дрентельну о «состоявшейся конфирмации» и на другой день получил ответ, содержавший требование «повременить» с отправлением Мирского из Петербурга.[797]
«Государь возвращался тогда из Крыма в сопровождении Дрентельна, — писал Феоктистов, — Гурко выехал ему навстречу; тотчас же начался разговор о Мирском. «Мы с Александром Романовичем не ожидали ничего подобного, — сказал Государь, — мы не сомневались, что Мирский будет повешен; по моему мнению, ты совершенно неуместно оказал ему милосердие».[798]
Раздраженный монарх начертал на помиловании Мирского следующую колоритную резолюцию: «Действовал под влиянием баб и литераторов».[799]
По распоряжению монарха, строжайше соблюдая тайну, создавая для этого фальшивые документы, руководители III отделения поместили помилованного Мирского в камеру № 1 Секретного дома Алексеевскою равелина Петропавловской крепости, где совсем рядом в «отдельном покое» № 5 седьмой год томился Сергей Геннадиевич Нечаев.
БЕСПОРЯДКИ В АЛЕКСЕЕВСКОМ РАВЕЛИНЕ
В Алексеевский равелин Мирский поступил 28 ноября 1879 года в два часа тридцать минут ночи из Трубецкого бастиона, расположенного в нескольких десятках метрах от Секретного дома. Одновременно с заключенным комендант крепости Е. И. Майдель направил смотрителю равелина П. М. Филимонову следующее предписание:
«Препровождаемого при сем по Высочайшему повелению, приговоренного к бессрочным каторжным работам, государственного преступника Леона Мирского предписываю принять и заключить в отдельный покой и содержать наравне с прочими заключенными в полнейшей тайне и под бдительным надзором, отнюдь не называя его по фамилии <…>. Причем предписываю поместить его в одну из комнат переднего фасада, так чтобы ни он, ни другие арестанты, при выходе на прогулку в сад, не могли и догадаться о су-шествовании друг друга, и без личного моего разрешения не выдавать ему никаких письменных принадлежностей, ограничиваясь выдачей только книг для чтения из имеющейся в равелине библиотеки».[800]
Фрак с остальным имуществом, находившимся при Мирском во время ареста в Таганроге, оказался в кладовой Секретного дома. Опись вешей занимает два листа и содержит предметы, характеризующие их владельца как франта.[801] Никто из поступавших в равелин народников не располагал столь обширным и изысканным гардеробом.
Команда, несшая караульную службу в равелине, ко времени появления в нем Мирского была окончательно «развращена» Нечаевым и выполняла почти все его распоряжения. Между ним и новым узником вскоре установилась связь.
Недоверчивому создателю «Народной расправы» понадобилось некоторое время для выяснения, не подсадной ли уткой служит вновь прибывший арестант. Убедившись в том, что Мирский есть тот самый террорист, стрелявший в Дрентельна, а не полицейский агент, Нечаев попытался отнестись к нему как к партнеру и просил его помочь связаться с волей. До поздней осени 1880 года, пока в равелине находились Нечаев, Мирский и Бейдеман, известна всего одна попытка узников установить сношения с народовольцами. На следствии о беспорядках в Алексеевском равелине рядовой Местной команды К. Вызов показал, что сначала Мирский, а за ним и Нечаев просили его «снести записку на Охту, в мелочную лавку около Порохового завода, где разузнать квартиру его (Мирского. — Ф. Л.) товарищей оберфейерверкеров Филиппова и Емельянова и передать записку, за что получить от них 20 руб., но он эту просьбу не исполнил <…>.[802] Адреса других лиц, с которыми следовало связаться в первую очередь, например, А. Д. Михайлова и Н. А. Морозова, Мирский почему-то Нечаеву не дал.
Сергей мучительно долго ждал счастливого момента, когда в равелине появится человек, способный связать его с руководителями революционного движения. Он с необыкновенной скрупулезностью, подобно терпеливому исследователю, изучал молодого террориста. Тюремное заключение в толстых стенах, отгораживающих от внешнего мира, приучило Сергея с обостренным вниманием наблюдать за тем немногим, что проникало в равелин и касалось его лично. За долгие годы сидения он привык обдумывать и взвешивать каждый свой, даже самый незначительный, поступок, каждое действие. На этот раз он особенно тщательно, казалось бы, все проанализировал. Ему так хотелось доверять новому узнику, но что-то настораживало. Он не знал революционеров-семидесятников, в его время таких не было. Террорист с повадками аристократишки; почерк, слог совсем для него чуждые; вот бы взглянуть на него, хоть на секунду, все стало бы яснее. И что это за революционер такой? Не знает адресов соратников, назвал каких-то фейерверкеров. Неужто партия состоит из одних фейерверкеров? Фейерверкеры понадобятся потом, после победы, но с ними одними революции не сотворишь. Да, не такого революционера поджидал он, этот ему не нужен.
Не сумевшему установить через Мирского связь с волей, Нечаеву оставалось одно — снова ждать.
Но все могло обстоять иначе. Зная о предписании Майделя, некоторые подробности о безумном поручике Бейдемане и лишенном всех прав состояния государственном преступнике Нечаеве, Мирский понял, что его ждет погребение в равелине навечно. Нечаев организовал убийство одного непослушного студента — это все, что сделала его «Народная расправа»; Бейдеман восемнадцать лет просидел за «подложный манифест», найденный у него при обыске, а он, Мирский, стрелял в шефа жандармов, и, конечно же, его из крепости живым не выпустят, именно для этого и приспособлен Секретный дом. Надобно как-то выбираться, не для того писал прошение о помиловании, не для того его получил. Еще находясь в Трубецком бастионе, Мирский, узнав о конфирмации приговора, в тот же день поспешил написать коменданту крепости Майделю:
«Мне дарована жизнь, но жизнь, которая должна служить наказанием. Что меня ждет впереди — я определенно не знаю. Но безнадежность, безысходность моего горя лежат в самой сущности назначенного мне наказания («…без срока»).
Молодость, обилие жизненных сил, жажда и любовь к жизни — все это вещи, которые на каждом шагу будут заявлять свои законные требования, как бы я ни старался подавить их голос, как бы ни желал переносить все терпеливо, безропотно, спокойно. Противопоставить этим позывам и влечениям у меня решительно нечего. Всякая реальная идея не может служить поддержкой там, где для нее нет почвы, нет применения».[803]
Далее он писал, что хочет найти поддержку в религии, и просил прислать к нему «умного, образованного и искреннего» православного священника. А ведь польский дворянин Мирский был римско-католического вероисповедания! Хотел намекнуть, что готов переменить веру? В письме узника коменданту не трудно отыскать ключ к дальнейшему поведению Мирского в равелине. Но сначала он решил присмотреться. Быть может, поэтому молодой террорист не сообщил Нечаеву адреса руководителей народовольцев. В случае провала всей нечаевской затеи Мирский мог заявить на следствии, что умышленно послал «почтальона» не туда.
Так или иначе попытка Нечаева связаться через Мирского с народовольцами не удалась. Прошел год в бесполезных хлопотах и разочарованиях. Оба узника затаились, каждый со своей надеждой: один — не повредить своей репутации и как-то выкарабкаться из стен равелина, другой — не потерять понапрасну так трудно установленный контакт со стражей, дождаться нового заключенного, установить связь с волей и устроить побег, какого не знало российское освободительное движение. Наконец произошло то, чего упорно дожидался бывший глава московских заговорщиков — в угло-вой камере большого коридора Секретного дома 10 ноября 1880 года появился еще один заключенный, Степан Григорьевич Ширяев (№ 13).
Ширяев родился в 1856 году[804] в крестьянской семье, учась в Саратовской гимназии, вошел в кружок, объединявший радикально настроенную молодежь, по окончании гимназии поступил в Харьковский ветеринарный институт, в 1876–1878 годах работал на заводах во Франции, Германии и Англии, познакомился с П. Л. Лавровым и другими эмигрантами. По возвращении в Россию участвовал в деятельности столичных революционных кружков, считался одним из организаторов «Народной воли», был членом ее Исполнительного комитета, изготавливал бомбы в динамитной мастерской, организовывал покушение на Александра II в Москве и под Александровском. Его арестовали 4 декабря 1879 года и по «процессу 16-ти» приговорили к смертной казни, замененной бессрочной каторгой.
Нечаев ликовал: именно в таком человеке он нуждался — не аристократ, а из крестьян, свой. Бывший глава «Народной расправы», поразмыслив, решил поделиться своими замыслами с Ширяевым. Узники пятой и тринадцатой камер вступили в интенсивный обмен записками. «План же у него (Нечаева. — Ф. Л.), — писал Тихомиров, — был очень широкий. Бегство из крепости казалось ему уже слишком недостаточным. Изучив тщательно крепость (он знал ее изумительно, и все через перекрестные допросы «своих» людей, и через их разведки), состав ее войск, личности начальствующих и т. д. и рассчитывая, что с течением времени ему удастся спропагандировать достаточное число преданных людей, он задумал такой план: в какой-то день года, когда вся царская фамилия должна присутствовать в Петропавловском соборе, Нечаев должен был овладеть крепостью и собором, заключить в тюрьму царя и провозгласить царем наследника. Этого фантастического плана не мог одобрить Ширяев, несмотря на то, что был очарован силой и энергией Нечаева. Но он нашел со своей стороны способ вступить в сношения с Исполнительным комитетом».[805]
Тихомиров ничего не придумал, он очень точно изложил содержание записок Нечаева из равелина, тому есть подтверждение мемуаристов.[806] Пристрастие к фантазиям не покинуло Сергея даже после стольких лет одиночного заключения. Мирский, до появления нового узника, во всем соглашался с Нечаевым. Возможно, его прельщала перспектива вырваться из крепости столь романтическим способом, возможно, ждал подходящего случая, чтобы выдать и опять-таки вырваться из крепости. Ширяев оказался практичнее сотоварищей, он отверг план творца «Народной расправы», но дал адрес своего земляка и однокашника по гимназии, слушателя Медико-хирургической академии Е. А. Дубровина, снимавшего комнату недалеко от крепости на Вульфовой улице, в доме № 2.[807] Записку отнес рядовой «равелинной команды» А. Орехов, произошло это в декабре 1880 года.[808] Нечаев попросил Орехова отнести записку и передать ее только Дубровину, «а если его нет, то никому не отдавать, причем велел назваться «Пахомом», а при встрече сказать Дубровину: сапожник велел просить денег за сапоги. Он (Орехов. — Ф. Л.) нашел Дубровина и получил от него ответ и рубль денег. После того через три дня снова отнес записку Дубровину. Затем Дубровин, познакомив его с невысокого роста брюнетом (Антоном Ивановичем), прекратил на время с ним сношения. Этому черненькому передал он записку арестанта № 5 (Нечаева. — Ф. Л.) и получил от него 20 р[ублей], которые по приказанию арестанта роздал солдатам. С тех пор он встречался с чернявеньким у Таврического сада и, по приказанию арестанта, познакомил с ним Терентьева. Чернявенький лично ему, Орехову, дал 20 р[ублей] сер[ебром]. В марте 1881 г. он, по просьбе арестанта № 5, помогал Петрову найти Дубровина, которого они нашли живущим на Нижегородской улице; причем Петров передал Дубровину записку от арестанта № 5. С Петровым же он во второй раз ходил к Дубровину, который познакомил их тогда с рыжеватым человеком, имеющим большое сходство с предъявленною ему карточкой госуд[арственного] преступника Исаева».[809]
Соблюдая строжайшую конспирацию, Нечаев, в зависимости от выполняемых поручений, присвоил каждому из своих добровольных помощников по одной, две или даже три клички — одна употреблялась внутри равелина, другая — при сношениях с волей, третья — запасная. Например, Орехова в Секретном доме называли «Каленые орехи», а народовольцам он был известен как «Пахом». Когда записки Нечаева попали в руки полиции, чиновники запугались в их текстах и не сумели обнаружить писавшего.
Дубровин, после раскола «Земли и воли», вошел в «Черный передел» и в революционном движении заметной роли не играл, поэтому записки из равелина он передал члену Исполнительного комитета «Народной воли» Г. П. Исаеву.
«В один из вечеров января [1881 года], — вспоминала В. Н. Фигнер, — в трескучий мороз, часов в 10, Исаев пришел домой, весь покрытый инеем. Сбросив пальто и шапку, он подошел к столу, у которого сидели я и человека два из Комитета, и, положив перед нами маленький свиток бумажек, сказал спокойно, как будто в этом не было ничего чрезвычайного: от Нечаева! Из равелина!»[810]
Далее автор пишет, что народовольцам не было известно о заточении создателя «Народной расправы» в Алексеевской равелине. Странно, народоволец Клеточников служил в III отделении, затем в Департаменте полиции и не мог не знать о дальнейшей судьбе Нечаева, тем более что он подбирал для узника книги и ведал перепиской коменданта крепости с полицейскими властями… Кроме Исаева с нечаевскими почтальонами познакомились народовольцы А. П. Буланов и С. С. Златопольский.[811]
«Письмо носило строго деловой характер, — продолжает Фигнер, — в нем не было никаких излияний, ни малейшей сентиментальности, ни слова о том, что было в прошлом и что переживаюсь Нечаевым в настоящем. Просто и прямо Нечаев ставил вопрос о своем освобождении. С тех пор как в 1869 он скрылся за границу, революционное движение совершенно изменило свой лик: оно расширилось неизмеримо и прошло несколько фаз — утопическое настроение хождения в народ, более реалистическую фазу «Земли и воли» и последовавший затем поворот к политике, к борьбе с правительством, борьбе не словом, а действием. А он? Он писал, как революционер, только что выбывший из строя, пишет к товарищам, еще оставшимся на свободе.
Удивительное впечатление произвело это письмо: исчезло все, темным пятном лежавшее на личности Нечаева: пролитая кровь невинного, денежные вымогательства, добывание компрометирующих документов с целью шантажа — все, что развертывалось под девизом «цель оправдывает средства», вся та ложь, которая окутывала революционный образ Нечаева. Остался разум, не померкший в долголетнем одиночестве застенка; осталась воля, не согнутая всей тяжестью обрушившейся кары; энергия, не разбитая всеми неудачами жизни. Когда на собрании Комитета было прочтено обращение Нечаева, с необыкновенным душевным подъемом все мы сказали: «Надо освобождать!»[812]
Очень уж легко члены Исполнительного комитета «Народной воли», все как один, запамятовали, что Нечаев — убийца, виновник арестов и высылок десятков молодых людей, идеолог топора, огня и самосуда, апостол иезуитчины и вседозволенности, призывавший к союзу с «разбойным миром». Совсем недавно в среде народовольцев считалась постыдной терпимость в отношении этого человека, совершившего тяжкое уголовное преступление. Но чем ближе революционеры подходили к цареубийству, чем глубже они конспирировали свои действия, тем их мысли и методы походили на нечаевские, тем меньше они отличались от него, неосознанно он становился близким им человеком, ибо Нечаев и нечаевщина есть принадлежность заговорщической организации, ее свойство. В закрытых конспиративных сообществах рано или поздно корпоративная мораль вытесняет традиционную, и тогда они становятся особенно опасными. Это в равной степени относится к революционерам и к тем, кто с ними борется.
Тихомиров первый распространил легенду о вояжах Желябова на Заячий остров, осмотре равелина и даже чуть ли не разговоре с Нечаевым.[813] Васильевские ворота снаружи охранялись командой, никак не связанной со стражей равелина, а чтобы попасть туда через стену, требовалось распропагандировать всех, включая смотрителя и коменданта крепости. В. Н. Фигнер, А. В. Якимова, другие известные народовольцы категорически опровергают рассказанную Тихомировым историю.[814] Главные усилия столичных народовольцев зимой 1881 года были направлены на подготовку цареубийства. Разработка плана действий и руководство его реализацией лежали на А, И. Желябове и С. Л. Перовской. В случае неудачи с миной на Малой Садовой и бомбами на Екатерининском канале Желябов должен был довершить дело ударом кинжала. Возможный арест Желябова при посещении Заячьего острова ставил под угрозу срыва очередную попытку убийства Александра II. Поэтому Желябов старался вести себя необычно для него осторожно. Но легенда о прогулках главы столичных народовольцев на Заячий остров к бывшему главе московских заговорщиков прочно вошла в воспоминания, романы и даже исследования.[815]
Исполнительный комитет, обсуждая детали плана освобождения узников, пришел к заключению, что осуществить его удобнее, когда на Неве сойдет лед и появится возможность добраться до острова на лодке. Реализацию побега поручили военной организации «Народной воли». Ее представитель в Исполнительном комитете «Народной воли» лейтенант флота Н. Е. Суханов доложил на заседании военной организации о решении Исполнительного комитета и, по утверждению народовольца Э. А. Серебрякова, получил единодушное одобрение присутствующих. Руководство операцией поручили лейтенанту флота А. А. Гласко.[816] Другой участник этого же собрания, Ф. И. Завалишин, писал: «Кружок наш был не прочь пойти на такое предприятие, если бы оно было действительно возможным, но шансы на успех были так малы, что мы не захотели рисковать».[817] История переговоров внутри «Народной воли» об организации этого побега очень запутана. Кто, кому и что поручал? Только ли военной организации предлагалось осуществить побег? Одной ли группой? Как распределялись роли? Имеются, например, глухие сведения, что руководителем побега предполагалось назначить Серебрякова.[818]
Мемуарная литература и статья Тихомирова в «Вестнике «Народной воли»» описывают три варианта освобождения Нечаева: захват крепости и арест царской семьи, уход узника из крепости в сопровождении верных ему стражников и бегство через водосточную трубу. Первый вариант был отвергнут народовольцами сразу, второй вариант обсуждался. Приведу описание третьего варианта побега Нечаева в изложении члена Исполнительного комитета А. П. Прибылевой-Корбы: «Первый был основан на том, что в садике, где гулял Нечаев, находилась чугунная крышка водосточной трубы. В отверстие этой трубы Нечаев предполагал опуститься внезапно во время прогулки под наблюдением преданных ему жандармов и часового. Выход трубы находился на берегу Невы, невысоко над водою. Желябов отправился осматривать местность и выходное отверстие. Ввиду длины канала и возможности задохнуться для беглеца при его прохождении, этот план был отвергнут. Другая версия состояла в том, чтобы приверженцы Нечаева в крепости, т. е. солдаты и жандармы, преданные ему, дали бы ему возможность переодеться и вывели бы его за ворота. Помощь Комитета в этом случае состояла бы в снабжении заговорщиков всем необходимым для побега, включая денежные средства, увозе Нечаева в момент появления его за воротами крепости, обеспечении ему пристанища и прочего».[819]
Бывший член Исполнительного комитета партии «Народная воля» Л. П. Прибылева-Корба написала эти строки в письме П. Е. Щеголеву по его просьбе, но почему-то ни словом не упомянула остальных узников. Их решили не освобождать? Возможно. Нечаев сидел долго, и если освобождать одного, то он на это имел прав больше других, В письме Корбы есть явная несуразица. Выход канализационной трубы по техническим соображениям (иначе зимой жидкость в ней замерзнет, и она перестанет действовать) располагался ниже уровня воды в Неве, и, следовательно, труба хотя бы частично по длине была затоплена невской водой. Достаточно побывать на Заячьем острове, чтобы удостовериться в невозможности расположения «невысоко над водой» трубы такого диаметра, чтобы в ней мог проползти человек. Необъяснимо, зачем от равелина к Неве прокладывать трубу большого диаметра? Чтобы через нее устраивать побеги? Есть и еще одно обстоятельство: труба, идущая из равелина к Неве, должна или пройти сквозь многометровую толщу каменной стены, или миновать ее, нырнув под фундаментом. Тогда уж из равелина по трубе никто никогда проползти не сможет. Многовато недодуманного в плане освобождения Нечаева через канализацию, изложенном Корбой. Желябов теоретически мог подкрасться ночью по льду к стенам Алексеевскою равелина, но никакой трубы он там не обнаружил бы. Прибылева-Корба признавалась В. Н. Фигнер, что Желябов Заячьего острова не посещал.[820] Такого же мнения придерживались и другие народовольцы. Почему же противоречит себе Корба? Наверное, она согласилась подтвердить романтическую легенду Тихомирова, понравившуюся Щеголеву.
Никаких реальных попыток к осуществлению плана освобождения узников равелина не делалось, никаких следов обсуждения побега с распропагандированным караулом ни в следственных делах, ни в обвинительных актах не имеется.[821] Вряд ли Нечаев говорил о побеге с солдатами. Неизвестно, согласились бы они участвовать в осуществлении побега. Одно дело носить записки, другое — совершить серьезнейшее противоправительственное действие. Приведу единственный документ, в котором имеется намек на сговор бывшего главы «Народной расправы» с караулом равелина относительно побега.
«Тут же Плеве рассказал об огромной популярности Нечаева, сидевшего в Петропавловской крепости. Все было подготовлено, чтобы освободить его. Подкупленные жандармы и сторожа были готовы доставить Нечаева, куда указали бы революционеры. Хотели подъехать на лодке самым смелым образом».[822] Вероятнее всего, что-то для красного словца исказил Плеве, или автор дневника военный министр А. Н. Куропаткин неточно записал его рассказ.
Между народовольцами и узниками обсуждение деталей освобождения шло постоянно. В том же письме к П. Е. Щеголеву А. П. Прибылева-Корба сообщала: «Пока шли эти переговоры началась подготовка к 1 марта. По мере их развития силы партии напрягались в высшей степени, и для Исполнительного комитета становилось ясным, что побег Нечаева в предполагавшееся время не мог состояться. С другой стороны, у членов Комитета явилось опасение, что отсрочка побега может быть роковою и поведет к крушению всего этого плана. Эта мысль очень тревожила Комитет. Он горячо желал освобождения Нечаева, но убеждался более и более, что одно предприятие повредит другому, а может быть, погубит его. Вследствие столкновения интересов этих двух предприятий Комитет решил предоставить Нечаеву самому выбрать одно из двух и привести в исполнение одно из них, на котором остановится его выбор. Это постановление вытекало из сознания, что даже отсрочка побега в сущности равняется смертному приговору Нечаева, а произвести его Комитет не хотел и не мог. Ответ Нечаева можно было предвидеть. Он отказывался даже от мысли о равноценности обоих предприятий и писал: «Обо мне забудьте на время и занимайтесь своим делом, за которым я буду следить издали и с величайшим интересом».[823]
За день до убийства Александра II политическая полиция арестовала Желябова. При обыске у него обнаружили зашифрованную записку Нечаева, но полицейские не идентифицировали ее автора с узником равелина. В данном случае сработала поразительная халатность чиновников политического сыска. Судите сами, перед вами извлечение из доклада министра юстиции, утвержденного монархом 16 декабря 1881 года:
«При задержании ныне казненного государственного преступника Андрея Желябова, у последнего отобрана была записка крайне загадочного содержания, в которой, между прочим, упоминается о некоем Орлове как об одном «из лучших и способнейших помощников Трепова» (государственного преступника Нечаева), и как о человеке, доставлявшем десять лет тому назад средства для революционной пропаганды и могущем ныне «собрать очень солидную сумму середи молодых купцов, — либералов, земляков Трепова». Далее в записке этой говорится, что «из Иваново-Вознесенска можно будет выкачивать большие суммы денег постоянно, если только суметь устроить хороший насос, и что может быть также весьма полезным некто Нефедов, Филипп Диомидович, маленький литератор, обличитель Ивановской грязи» и затем предлагается собрать о Нефедове сведения «через высших агентов».[824] Министр доложил императору о возбуждении против Ф. Д. Нефедова и В. Ф. Орлова уголовного дела еще в апреле 1881 года. Жандармы произвели обыски, но ничего не нашли.[825]
Ни Орлов, ни Нефедов ведать не ведали о причинах их задержания. Наконец следователи поняли, что, кроме «загадочной» записки, улик против арестованных нет и не будет. На простейшее сопоставление фамилий допрошенных с Нечаевым у них сообразительности не хватило. Не помогло даже упоминание о Иваново-Вознесенске — родине узника Секретного дома. Наверное, мы все же излишне строги в оценке умственных способностей следователей: возможно, они не знали о пребывании Нечаева в Алексеевском равелине, возможно, предположение о распропагандированной и превращенной в почтальонов узника страже исключалось из рассмотрения как невероятное.
Содержание нечаевской записки убеждает нас, что длительное одиночное заключение не изменило характер бывшего вождя «Народной расправы» — солгал про «большие суммы денег», дал обидную оценку Нефедову, преувеличил возможности Орлова, присвоил себе псевдоним — Трепов (фамилия известного генерала, градоначальника Петербурга), возложил на себя роль мэтра-консультанта.
«Дьякон всех умнее, молодец, — писал Нечаев, — всех преданнее и скромнее (секрет хранит свято); Пила — парень ловкий, но задорный и больше других любит выпить. При том Пила был часто на замечании, его заподозрили и удалили из равелина ранее других в роту за частые отлучки по ночам.
Молоток и Пила порядочные сапожники; следовательно, если вы намерены нанять для них квартиру, то они могут для вида заниматься починками сапогов для рабочих где-нибудь на краю Питера, близ заводов и фабрик. В их квартире могут проживать под видом рабочих и другие лица, к ним же могут ходить и здешние ерши из роты.
Дьякона можно сделать целовальником в небольшом кабачке, который слыл бы притоном революционеров в рабочем квартале на окраине Питера. Дьякон был бы очень способен на такую роль, но необходимо, чтобы ими руководил человек с сильным характером, который мог бы при случае за несправность сильно распечь вообще умел бы держать в страхе. <…> Главное, не оставляйте их без дела, в праздности: они непременно запьют. Обременяйте их поручениями, поддерживайте в них сознание, что они приносят пользу великому делу. Платите исправно скромное жалованье, никак не более двадцати рублей и делайте подарки за ловкость, но требуйте исправность и удачность».[826]
Этот текст приведен в изложении полицейских чиновников после расшифровки, выполненной в 1882 году во время дознания о беспорядках в Алексеевском равелине. Нечаев бесспорно равелина в своей записке не упоминал, это сделали следователи, когда уже все открылось. Использование кличек и придуманная автором форма изложения не позволили полицейским понять, что в записке шла речь о равелинной команде.
10 марта 1881 года политическому сыску удалось задержать Перовскую, и у нее также оказалась записка Нечаева. Она была столь просто составлена, что на расшифровку потребовалось всего два дня — и автор, и адресаты утратили чувство опасности. Узнав фамилии стражников и адреса, «посещаемые жандармами равелина»,[827] полиция ничего не предприняла для выяснения происхождения таинственных записок. В это время директором Департамента полиции был сам В. К. Плеве, именно он, руководя расследованием цареубийства, не придал находкам никакого значения и не заметил, что обе странные записки писаны одной, знакомой ему рукой.
После взрыва бомбы Гриневицкого политическая полиция ревностно выискивала соучастников убийства Александра II. Исаева арестовали 1 апреля, и сразу же прервалась переписка равелина с волей. Нечаевские почтальоны забегали по городу, разыскивая Дубровина, но он был арестован еще 25 марта по доносу Н. И. Рысакова. Дубровина освободили 27 мая.[828] В начале июня связным узника удалось вручить ему письмо, и он свел их с членом Исполнительного комитета «Народной воли» С. С. Златопольским, регулярные сношения с равелином возобновились. Видимо, тогда народоволец М. Ф. Грачевский совместно с Златопольским решил вновь предпринять попытку освобождения узников Секретного дома. Кроме беглого упоминания в неопубликованных мемуарах известного народника В. А. Данилова, никаких сведений не сохранилось. «Такой сильный человек, как Нечаев, — писал Данилов, — был вреден для жизни в 80-х годах, поэтому я лично отказал в помощи Грачевскому по освобождению Нечаева, когда он, Грачевский, за этой помощью обратился ко мне в июле 1881 года. Борьба за интерес трудового строя должна быть на почве правды и личного самоотвержения, а не на почве якобинских принципов, «цель оправдывает средства» и «чем хуже, тем лучше» — на почве профессиональной лжи…»[829]
Данилов был честным русским интеллигентом, стремившимся к облегчению жизни своего народа, а не к политиканству и компромиссам с собственной совестью. Участие в освобождении Нечаева было для него равносильно солидарности с деятельностью «Народной расправы», с признанием нечаевщины. В отличие от членов Исполнительного комитета «Народной воли» он не мог простить Нечаеву его вредоносных деяний и не желал тратить силы на освобождение уголовного преступника. Наверное, Грачевскому не удалось собрать группу, и опять никаких попыток освобождения узников равелина не было предпринято. После убийства Александра II народовольцам, оставшимся на свободе, было не до Нечаева. Одни покинули Петербург, другие притаились, третьи отошли от революционного движения, когда увидели, что ему угрожает полный разгром, и об освобождении Нечаева некому было позаботиться.
Более других узников равелина в уныние впал Мирский. Он был «революционером по склонности к романтическим эффектам»,[830] революционером подъема, а не заката освободительного движения, он любил гарцевать на красивой породистой лошади, любил роскошь, любил вызывать восхищение и восторг. Эти черты его характера безмерно отягощали пребывание в абсолютном одиночестве равелинного заключения, делали жизнь невыносимой. Но что-то в нем все же сопротивлялось подлости — выдержать ему удалось около двух лет.
Приведу хронологию событий, происходивших в Алексеевском равелине и вне его стен, но прямо касавшихся судеб Мирского и Нечаева.
28 ноября 1879 года — Мирский из Трубецкого бастиона переведен в Алексеевский равелин.
10 ноября 1880 года — в Алексеевском равелине появился член Исполнительного комитета партии «Народная воля» С. Г. Ширяев. Вскоре с его помощью Нечаеву удалось наладить связь с волей.
27 февраля 1881 года — у А. И. Желябова при аресте найдено зашифрованное письмо Нечаева из равелина. Началось выяснение, но прямых подозрений на стражу не пало.
1 марта 1881 года — убийство Александра II, предательство Н. И. Рысакова, начало массовых арестов народовольцев.
10 марта 1881 года — при аресте С. Л. Перовской обнаружено письмо Нечаева с подлинными фамилиями «развращенных» им солдат из стражи Секретного дома. Никаких последствий эта находка не имела.
20 марта 1881 года — умер барон Е. И. Майдель, наиболее человечный из комендантов Петропавловской крепости.
25 мая 1881 года — назначен новый комендант крепости И. С. Ганецкий. Он сразу же приступил к ужесточению режима содержания заключенных в Секретном доме.
4 июля 1881 года — в Казанскую тюремную больницу для умалишенных отправлен М. С. Бейдеман.
18 августа 1881 года — умер С. Г. Ширяев. В Секретном доме остались два узника — Нечаев и Мирский.
16 ноября 1881 года — в исходящих от Ганецкого распоряжениях начало ощущаться беспокойство о состоянии стражи внутри Алексеевского равелина. В этот день он получил донос от Мирского.
Мирского нельзя назвать негодяем типа С. П. Дегаева, готового с легкостью предать кого угодно и за что угодно. Он никого не предал в первый свой арест, во время следствия о покушении на Дрентельна Мирский выдал Семенских, прятавших его в своей петербургской квартире и валдайском имении, выдан Верещагина, ездившего в это имение предупредить беглеца об опасности, но никого из активных землевольцев он не назвал, предательство давалось ему нелегко. Но вот Мирский оказался в Секретном доме Алексеевского равелина. Первый год прошел в надеждах, обсуждениях планов, в интенсивной переписке с Нечаевым, вероятно, волевой опытный сосед чем-то его обнадежил. Но появился Ширяев, и Мирский отодвинулся на задний план. Умер Майдель, новый комендант не оставлял надежд на смягчение режима, наоборот, усилились строгости в отношении стражи, что сразу же почувствовали узники.[831] Смерть Ширяева ввергла Нечаева и Мирского в уныние, неутешительные вести доносились из-за стен равелина — партия «Народная воля» потеряла около двух третьих своего состава, и Мирский понял, что от нечаевских планов все более веет фантастикой, мечтания лопнули. Надеяться оставалось не на что, и он предал.
Может возникнуть предположение — Мирский достаточно подробно знал о Нечаеве и искренне полагал, что выпускать его из крепости ни в коем случае не следует, так как, находясь на свободе, он нанесет революционному движению еще больший вред, чем в 1869 году. Следовательно, донос Мирского — как бы не предательство. Однако Мирскому было 10–12 лет, когда произошла нечаевская история. Вскоре о Нечаеве забыли, вряд ли Мирский о нем что-либо слышал в своем Рубановом-Мосту. Но даже если слышал, то очень немного. Маловероятно, что он донес, руководствуясь подобным мотивом: во-первых, для этого незачем было ждать два года, во-вторых, он все же предпринимал попытку связать Нечаева с волей и, в-третьих, донос поступил начальству именно тогда, когда планы освобождения Нечаева перестали походить на реальные.
«Несколько лет спустя, — писал Феоктистов, — комендант этой крепости Ганецкий рассказал Иосифу Владимировичу (Гурко. — Ф. Л.) под большим секретом следующее: однажды, осматривая камеры заключенных, зашел он и к Мирскому, который улучил минуту, чтобы сунуть ему в руку бумажку; это была записка, извещающая его, что политические арестанты составили план бежать, что им удалось склонить на свою сторону многих солдат крепостной стражи, что все уже готово к побегу, что они предлагали Мирскому присоединиться к ним, но он предпочел довести о всем этом до сведения коменданта».[832]
Получив записку Мирского, комендант крепости И. С. Ганецкий, боевой генерал, прославившийся при осаде Плевны, в тот же день распорядился усилить охрану подступов к Секретному дому.[833] За Васильевскими воротами, через которые попадали в Алексеевский равелин, был поставлен усиленный наряд часовых Трубецкого бастиона. Тремя днями позже Ганецкий перевел 29 нижних чинов в Местную команду;[834] временно заменив их солдатами, несшими караульную службу в других частях Петропавловской крепости. На следующий день комендант приказал «увольнение со двора Равелина нижних чинов, в том числе и жандармских унтер-офицеров производить в строжайшем порядке»,[835] и просил министра внутренних дел графа Н. П. Игнатьева ускорить присылку для прохождения постоянной караульной службы в равелине «испытанного поведения людей».[836] Новая «испытанного поведения» стража начала прибывать 23 ноября.[837]
В течение нескольких недель, последовавших за 16 ноября, комендант Петропавловской крепости почти ежедневно направлял министру внутренних дел рапорты, прошения, донесения с разного рода предложениями об усилении охраны тайной тюрьмы, писал новые инструкции и распоряжения смотрителю равелина П. М. Филимонову, требовал немедленного их исполнения. В первых распоряжениях Ганецкого легко улавливается судорожная поспешность в принятии мер предосторожности. Видимо, не вполне доверяя доносу Мирского, лишь 17 декабря комендант крепости просил министра внутренних дел Игнатьева распорядиться произвести дознание «о беспорядках в Алексеевской равелине».[838] Ганецкому понадобился месяц, чтобы убедиться в правдивости сведений, поступивших от Мирского. Рассмотрев рапорт коменданта крепости, Игнатьев поручил начальнику Губернского жандармского управления, полковнику В. И. Оноприенко, приступить к дознанию о «беспорядках в Алексеевском равелине», наблюдение за ходом дела принял на себя начальник Штаба Отдельного корпуса жандармов, генерал-майор А. Н. Никифораки, ездивший в Европу ловить Нечаева. Постепенно картина происшедшего в Секретном доме начала вырисовываться в деталях. 18 декабря Ганецкий рапортовал Игнатьеву о «неудобстве оставлять Смотрителя Филимонова при равелине и необходимости его замены Соколовым с тем, чтобы офицер этот вступил в настоящую должность одновременно с новыми людьми».[839] Несколько дней спустя последовало распоряжение о назначении М. Е. Соколова «для временного исполнения должности Смотрителя».[840]
Соколов числился по Корпусу жандармов и отличался необыкновенной исполнительностью, суровостью, рвением к службе и другими качествами, сделавшими его выдающейся персоной в бесконечном ряду надзирателей российских тюрем. Это его Г. А. Лопатин прозвал Иродом, это он уморил многих народовольцев, отбывавших наказание в Петропавловской, а затем в Шлиссельбургской крепостях. Первой его жертвой на посту тюремщика оказался Нечаев, на нем шлифовал он свое ремесло. Молчаливый, постоянно мрачный «исполняющий должность» абсолютно пунктуально следовал букве инструкции. Ганецкий штурмовал начальство требованиями срочного утверждения штабс-капитана Соколова смотрителем равелина. После обнаружения дурного исполнения Филимоновым своих обязанностей власти не спешили. Лишь 25 февраля 1882 года «Министр Внутренних Дел не встретил препятствий к испрошению при назначении смотрителем Алексеевского равелина С.-Петербургской крепости, числящегося по Отдельному Корпусу Жандармов капитана Соколова».[841]
Ганецкий выхлопотал капитану Соколову необычно большое жалованье: за чин — 339 рублей, дополнительных — 100 рублей, столовых — 980 рублей 70 копеек, на прислугу — 90 рублей, итого — 2409 рублей 70 копеек в год.[842] Примерно столько же зарабатывало десять крестьянских семей, достаток которых считался выше среднего. Дополнительно на переезд в крепость и устройство квартиры Департамент полиции выдал новому смотрителю 300 рублей.[843] До утверждения Соколова в должности он с присушим только ему рвением помогал Ганецкому наводить в равелине должный порядок.
В декабре 1881 года в распоряжение Соколова поступили четыре жандармских унтер-офицера «дополнительного штата», один унтер-офицер и 27 рядовых из С.-Петербургского и Московского жандармских дивизионов.[844] В последних числах декабря отчисленные из равелинной команды четыре унтер-офицера и 36 рядовых были заключены в Трубецкой бастион Петропавловской крепости,[845] с 19 ноября большая их часть находилась под стражей при Управлении столичной полиции. Вместо них в крепости появились новые стражи — пятьдесят один нижний чин.[846] Филимонов окончательно расстался с делами смотрителя 22 января 1882 года,[847] четырьмя днями позже он выехал с семьей из крепости и поселился на Гороховой в доме Жеребцова. Там он дожидался своей участи.
Оноприенко, проводивший дознание и следствие, анализировал схемы перемещений заключенных Секретного дома из камеры в камеру, графики дежурств стражи, журнал их увольнения из крепости, протоколы допросов солдат и унтер-офицеров. В конце января в Трубецком бастионе находились 59 арестантов (в их числе давно уволенные со службы), подозреваемые в качестве участников равелинных беспорядков,[848] некоторых из них в феврале освободили из заключения за отсутствием состава преступления.[849] В первых числах февраля полиции удалось арестовать слушателя Медико-хирургической академии Е. А. Дубровина.[850] В то время как Оноприенко трудился над дознанием, Соколов продолжал обнаружение упущений Филимонова. В начале марта новый смотритель Алексеевского равелина представил Ганецкому листок «Народной воли» от 23 октября 1881 года за № 6, оказавшийся в тюфяке, принадлежавшем одному из нижних чинов Петербургской Местной команды. Листок этот имел надпись карандашом, сделанную рукой Нечаева. Ганецкий распорядился обыскать все камеры Секретного дома, допросить поручика Андреева и бывших охранников.[851]
Документы Алексеевского равелина не позволяют установить, чем завершилась история с находкой листка «Народной воли».
Оноприенко вчерне закончил дознание еще в начале марта. Опираясь на полученные сведения, майор Головин написал для императора особую записку, в которой изложил существо происшедшего. Игнатьев 10 марта сделал доклад монарху и оставил ему головинскую записку, на которой Александр III после прочтения начертал; «Более постыдного дела военной команды и ее начальства, я думаю, не было до сих пор».[852] Получив высочайшую резолюцию, Игнатьев 14 марта отправил Ганецкому следующее письмо:
«Господину Коменданту С.-Петербургской крепости.
Рассмотрев произведенное согласно статей 253, 319 и 398 книги XXIV Свода Военных постановлений, изданного 1879 г. Отдельного Корпуса Жандармов Полковником Оноприенко дознание о сношениях арестантов, содержащихся в Алексеевской равелине С.-Петербургской крепости, между собой и посторонними лицами, я нахожу, что нижние чины команды равелина могут быть обвиняемы в нарушении особых обязанностей караульной службы, преступлении, предусмотренном ст. 154 кн. XXII Свода Военных постановлений, а некоторые из них и в более тяжелых преступлениях, почему и на основании ст. 618 и 637 кн. XXIV того же Свода, подлежат преданию суду С.-Петербургского Военно-Окружного Суда. По мнению моему Подполковник Филимонов и поручик Андреев, которым было вверено наблюдение за арестантами, обнаружили при исполнении столь важной, по свойству совершенных арестантами преступлений, обязанности, чрезвычайное бездействие власти, и если бы преступная деятельность нижних чинов не была совершенно открыта, то небрежное отношение названных офицеров к службе, в данном случае, могло иметь весьма серьезные последствия. В действительности подполковник Филимонов, поступив в должность Смотрителя равелина в декабре 1877 года, не замечая, что нижние чины, охранявшие арестантов, предаются пьянству и с конца 1879 года не входил даже в рассмотрение документов о неисправности солдат, предоставляя разрешение этих вопросов поручику Андрееву, между тем как арестанты были вверены не Андрееву, а ему и лишь полная служебная благонадежность нижних чинов обеспечивала правильное содержание арестантов. Поручик же Андреев, с своей стороны, не считая себя в качестве заведующего командой, обязанным наблюдать за равелином, редко даже посещал казармы и фактически передал надзор за солдатами старшему унтер-офицеру. Таким образом, нельзя не прийти к заключению, что главными виновниками происшедших беспорядков в содержании арестантов, нарушении воинской дисциплины и совершенного непонимания солдатами строгости караульной службы представляются гг. Филимонов и Андреев, которые, казалось бы, должны подлежать за допущенное им бездействие власти, наказанию, предусмотренному ст. 145 кн. XXIV Свода Военных Постановлений.
Препровождая подлинное дознание с приложением на зависящее расположением Вашего Высокопревосходительства, имею честь покорнейше просить о последующем не оставлять меня уведомлением».[853]
У Ганецкого не возникло никаких возражений по результатам дознания, и он вернул министру документы без замечаний. Официально закончив дознание 3 апреля, Оноприенко оставил под арестом 38 бывших охранников равелина.[854] Тремя днями позже большую часть заключенных Трубецкого бастиона по распоряжению Плеве пересадили по двое — камеры требовались для пойманных народовольцев. Часть солдат перевели в Дом предварительного заключения.[855] Поразительная деталь — из 38 участников беспорядков в Алексеевском равелине не нашлось ни одного, кто предал бы Нечаева. Трудно предположить, чем завершился бы сговор узника со стражниками, если бы не донос Мирского.
Оноприенко счел возможным разделить обвиняемых на две группы. К первой группе он отнес тех, кто нарушил особые обязанности караульной службы в Алексеевском равелине. В нее вошли все четыре жандармских унтер-офицера и девятнадцать рядовых, в их числе ранее служившие в карауле. К этой же группе присоединили Филимонова и его помощника Андреева. Вторая группа состояла из лиц, коих сочли виновными в совершении государственного преступления, то есть в сношении с членами партии «Народная воля». В эту группу включили девятнадцать человек во главе с Дубровиным. Таким образом, суду были преданы сорок четыре человека.
Слушание дела по первой группе обвиняемых состоялось 24–25 мая 1882 года в Петербургском военно-окружном суде «при закрытых дверях».[856] Приведу выписку из приговора:
«<…> состоя в числе нижних чинов, которые в период времени от 1877 года до конца 1881 года, наряжались в караул к отдельным камерам находившимся в Алексеевском равелине С.-Петербургской крепости, в коих содержались государственные преступники, они равновременно принимали участие в преступных сношениях с заключенными, сношения эти состояли в том, что они вели с арестантом камеры № 5 разговоры преступного содержания, передавали записки из данной камеры в другую, принимали письма для передачи другим товарищам и отсылали их в город, доставляли арестантам периодические издания, ответные письма приносимые из города и особые выписки из караульного наряда о часовых, назначенных к камерам, получая за все таковые преступные деяния деньги от одного из арестантов или непосредственно, или же через других товарищей <…>.[857]
По этой группе обвиняемых суд вынес сравнительно мягкий приговор. Жандармские унтер-офицеры, кроме одного оправданного, и рядовые Местной команды были зачислены в Воронежский дисциплинарный батальон сроком от двух до трех лет с последующим переводом в разряд штрафников.[858] Приговор вошел в силу 4 июля 1882 года, а 23 июня осужденных посадили в арестантский вагон и отправили из столицы. Приговор офицерам в окончательной форме был вынесен 14 августа.[859] Им, по лишении чинов, всех особых прав и преимуществ, предстояла ссылка в Архангельскую губернию на два года,[860] но Андрееву еще ранее ссылку заменили шестимесячным тюремным заключением, и его 4 июня 1882 года поместили в особый каземат Екатерининской куртины Петропавловской крепости.[861]
Ганецкий предпринял попытку вступиться за нерадивого Филимонова. Он обратился к командующему гвардией и войсками Петербургского военного округа с ходатайством о смягчении бывшему смотрителю наказания «по несметливости и нерасторопности» и в связи с предстоящей коронацией Александра III,[862] но просьба коменданта последствий не имела.
Второй процесс о государственном преступлении «развращенной» стражи слушался 3 декабря 1882 года в столичном Военно-окружном суде. Обвиняемым инкриминировалось участие в осуществлении связи узников Секретного дома с членами преступного сообщества, находившимися на свободе. Приведу извлечение из приговора:
«В последних числах Ноября прошлого 1881 года в Алексеевском равелине С.-Петербургской Петропавловской крепости были обнаружены беспорядки, заключавшиеся главным образом в сношениях с содержавшимися там государственными преступниками, через посредство нижних чинов, состоящей при равелине команды, как между собою так и с их единомышленниками, находящимися на свободе, о чем тогда же по распоряжению Министра Внутренних Дел, Начальником С. Петербургского Жандармского Управления было произведено особое дознание, на котором выяснилось следующее:
Помянутые государственные преступники в числе 4-х человек, содержались в отдельных камерах особого здания, расположенного в Алексеевском равелине, при чем до Ноября 1879 г. в равелине содержались два арестанта, в камерах № 5 (Нечаев. — Ф. Л.) и 6 (Бейдеман. — Ф. Л.); в Ноябре же в равелин прибыл третий арестант и помещен в камеру № 1 (Мирский. — Ф. Л.). 10 ноября 1880 года — четвертый, помешенный в камеру № 13 (Ширяев. — Ф. Л.). Для содержания караула при означенных камерах в распоряжении смотрителя равелина находилась особая команда в составе одного или двух унтер-офицеров и определенного числа рядовых, назначаемых на посты часовых при каждой арестантской камере и кроме того 5 жандармов, на обязанности которых лежало наблюдение за самым строгим соблюдением нижними чинами караульной службы и предупреждения всяких сношений с арестантами.
Однако, несмотря на означенные меры, в марте 1881 г. из писем, найденных при обыске казненных государственных преступников Желябова и Софьи Перовской, обнаружилось, что содержавшиеся в Алексеевском равелине государственные преступники вели деятельную переписку с членами преступного сообщества, проживавшими в Петербурге, при посредстве некоторых нижних чинов равелинной команды, находившихся в сношении с теми же арестантами. Сношения эти, как установлено дознанием заключались: 1) в разговорах преступного содержания, которые вели нижние чины с арестантом, содержавшимся в камере № 5; 2) в передаче ими записок между камерами №№ 1, 5 и 13; 3) в доставлении арестантам различных периодических изданий; 4) в передаче от арестантов писем лицам, живущим в городе и получением от этих последних ответных писем к арестантам, а также и в доставлении денег.
Когда возникли означенные сношения и кто положил им начало, вполне выяснить не представилось возможным, так как арестант камеры № 5, склоняя каждого, вновь поступившего в равелин, нижнего чина, вступая с ним в разговоры, выражался, что с ним все и всегда говорили со времени его заключения. Передача же записок из камеры в камеру началась по-видимому в конце 1879 г., когда в равелине был заключен новый арестант камеры № 1, что судя по показаниям нижних чинов, записки между камерами 5 и 6 никогда не передавались, а таковы были передаваемы как выше объяснено, только между камерами под №№ 1, 5 и 13. С прибытием же в равелин четвертого арестанта, заключенного в камеру № 13, начались сношения преступников с городом, причем начало таковых следует отнести к Декабрю 1880 года, когда, находившийся в равелинной команде, рядовой Орехов отнес, по поручению арестанта, записку к студенту Военно-Медицинской Академии Евгению Дубровину, арестованному 2-го Февраля сего года.
С тех пор и до возникновения первоначального дознания по настоящему делу сношения с городом не прерывались. Лица, принимавшие от нижних чинов записки, были известны под именами Антона Ивановича, Алексея Александровича и др. Своих же фамилий и мест жительства эти лица не говорили, при этом встречались всегда с нижними чинами на улицах в разных местах столицы, по их личному назначению или же по указанию арестанта камеры № 5. Так как не все нижние чины равелинной команды участвовали в означенных преступных сношениях и многие о них даже не знали, то для избежания разных случайностей и открытия этих сношений, арестантам и обвиняемым были приняты следующие моры предосторожности: 1) ходившие в караул за старших, ефрейтор Колодкин и рядовой Тонышев выписывали с вечера из наряда фамилии тех часовых, которые должны были стоять на другой день при камере № 5 и эти выписки передавали арестанту через часовых; 2) фамилии нижних чинов при сношениях заменялись особыми прозвищами, которые давал тот же арестант, причем в большинстве случаев те из нижних чинов, кои сами носили записки в город имели по два и даже по три прозвища, а которые участвовали лишь в передачах записок из камеры в камеру, по одному; 3) при исполнении каких-либо поручений арестанта нижние чины употребляли особые условные знаки и выражения.
За все означенные услуги нижние чины получали деньги, как от арестанта, так и от лиц, которым они передавали записки. Сам арестант получал деньги в записках, приносимых ему нижними чинами из города, но давал их не всегда лично, а во многих случаях передавал деньги кому-либо из нижних чинов, а те их раздавали тем из людей, которые приносили от арестанта особые билетики с обозначением суммы, надлежащей выдаче. Но, кроме денежной платы за услуги, арестант № 5 стремился склонить нижних чинов к преступному сношению с ним и путем убеждений, ведя с ними в бытность их на часах, продолжительные разговоры, содержание которых по показаниям подсудимых Юшманова, Тонышева, Борисова, Дементьева, Губкина, Вызова, Архипова, Колодкина, Орехова и других были такими:
Преступник говорил, что они, т. е. нижние чины, темные люди, ничего не знают. Но что теперь близко то время, когда все узнают, за что страдает он и его сообщники. Он страдает безвинно, за правду, за них, мужиков, и за их отцов. Солдат и мужиков теперь обижают, но скоро настанет другое время. Такие же люди, как и он, произведут переворот, бунт, убьют царя, перебьют начальство. Тогда царь не будет управлять так, как теперь. Цари будут выбранные от народа, как в других государствах, например, во Франции: будут на отчет, а не самодержавцы, и если царь будет хорошо распоряжаться, то и будет царствовать, если нет, то выберут другого. Кроме того, он и его сообщники отберут землю от помещиков и раздадут ее поровну между крестьянами, фабрики же и заводы станут принадлежать рабочим. После покушения взорвать Императорский поезд на Московско-Курской железной дороге преступник высказывал сожаление, что не удалось убить Государя, и говорил, что скоро взорвут дворец, и когда не удался взрыв Зимнего дворца, то уверял что товарищи его все равно, где-нибудь изловят Государя и непременно убьют его. После же 1-го Марта говорил: «вот видите, Царя убили, я вперед говорил вам это, а когда кончится год и если ныне царствующий Император ничего не сделает для мужиков, то и его убьют». Далее старался убедить нижних чинов, что он страдает за них, преступник говорил, «что и они должны стараться за него, должны держаться его и его товарищей».
Ввиду изложенных выше обстоятельств, указывающих на неодинаковую виновность нижних чинов команды, по окончании упомянутого дознания, те из них, которые оказались виновными, лишь в нарушении обязанностей караульной службы, были преданы вместе с жандармскими унтер-офицерами Петербургскому Военно-Окружному Суду и о них уже состоялся приговор суда, остальные же обвиняемые, <…> как лица, находившиеся в близких отношениях к преступному сообществу и деятельно содействовавшие тайным сношениям его членов с государственными преступниками содержащимися в Алексеевском равелине были выделены и о них, а равно и задержанных по их указанию студентов Военно-Медицинской Академии Евгении Дубровине и запасных оберфейерверкера Александре Филиппове и Алексее Иванове, по распоряжению Министра Внутренних дел, С. Петербургским Жандармским Управлением было произведено особое дознание по обвинению их в государственном преступлении, предусмотренном 250 статьей Уложения о Наказаниях».[863]
Часть солдат сослали «в места Сибири отдаленные», часть — «в места Сибири не столь отдаленные», Дубровина, «по лишении всех прав состояния, определить в каторжную работу на заводах на четыре года».[864]
Из Дома предварительного заключения Дубровина отправили на Кару, где он находился до 4 августа 1885 года, оттуда вышел на поселение в Баргузинский округ Читинской области. Через 12 лет ему разрешили переехать в Европейскую Россию без права проживания в столицах и столичных губерниях, в 1897 году Дубровину позволили сдать в Казанском университете экзамен «на врача».[865]
Солдат разбросали по Западной и Восточной Сибири. Известный исследователь жизни и деятельности Бакунина Ю. М. Стеклов писал о встрече в якутской ссылке с бывшими стражниками Нечаева:
«Вспоминаю из них Кира Вызова и Ивана Тонышева. Несмотря на злоключения ссыльной жизни, несмотря на то, что некоторые из них не обладали достаточной политической устойчивостью, впоследствии несколько опустились, все же они сохранили революционное настроение и, в особенности, горячую преданность Нечаеву. Какого бы мнения ни быть о приемах, которые пускал в ход во время своей революционной деятельности Нечаев, как бы ни относиться даже к его личности, но его жизнь в крепости и, в частности, то обстоятельство, что он, будучи бесправным, лишенным всех прав узником, сумел приобрести такое поразительное влияние на солдат, показывает, что он был незаурядным человеком и чрезвычайно крупной революционной силой».[866]
Стеклов был социал-демократом и поклонником Бакунина, его взгляд на бывшего участника женевского триумвирата не свободен от субъективной оценки, он мог что-то приукрасить. Но и другой мемуарист чернопеределка О. К. Буланова, урожденная Трубникова, не сочувствовавшая Нечаеву, писала: «Там же, в Тюмени, догнали нас солдаты петропавловского гарнизона, так называемые нечаевцы, осужденные на поселение за сношения, которые через них вел Нечаев с народовольцами. Помню двоих из них: средних лет, добродушные, они с удивительной любовью говорили о Нечаеве. Он точно околдовал их, так беззаветно преданы были они ему. Ни один из них не горевал о своей участи, напротив, они говорили, что и сейчас готовы за него идти в огонь и воду».[867]
Приведу извлечения из статьи Л. А. Тихомирова, составленной на основании многочисленных сведений, стекавшихся к нему в Женеву: «Его (Нечаева. — Ф. Л.) действительно не только считали важной особой, не только уважали и боялись, но нередко трогательно любили; некоторые из солдат, например, старались доставить ему удовольствие, покупая ему газеты или что-нибудь из пищи на собственный счет; особенно привязанные прозвали его «орлом»: «Наш орел», так они называли его между собою».[868]
Таким запомнился Нечаев стражникам Алексеевского равелина, пострадавшим из-за него. Странно, но это так, они вспоминали о нем с любовью, как-то сумел он подобрать к ним ключи, вызвать в них к себе глубокое уважение и симпатию.
Просматривая в архивохранилищах тысячи документов, запечатлевших жизнь и деятельность Нечаева, бережно перелистывая ветхие пожелтевшие страницы, читая о страданиях сотен людей, действия которых сегодня не вызывают одобрения, я часто ловил себя на сочувствии и даже симпатии к ним. Сколько же их погибло в тюрьмах, на каторге, в далекой тундре необозримых северных просторов Восточной Сибири, кануло в небытие, молодых, красивых, умных, благородных, сколько их, не доживших до тридцати, мечтавших разбудить Россию, вовлеченных в безнадежный эксперимент. Протоколы допросов и обысков, стопки изъятых книг и тупоумных листовок, наподобие нечаевских, доносы полицейских агентов, анонимки, рапорты чиновников, собственноручные показания, прошения о помиловании. Документы поразительно красноречивы, характеры выступают из них выпукло и отчетливо. Порой кажется, что знаешь их лица, слышишь голоса, видишь, как некто лукаво подталкивает и направляет их в пропасть, заблудших и одураченных. Многие из них искренне верили поводырям; белое и черное, подвиг и преступление, добро и зло перепутались в их незрелом, ограниченном понимании. Невольно возникает мучительный вопрос — неужели их жизни искалечены понапрасну, неужели они ничего положительного не дали своему Отечеству, неужели один вред исходил от их поступков?. Горько и тоскливо осознавать, что они преподали нам урок отрицательного опыта, показали путь, по которому не следует идти, ибо он ведет в преисподнюю. А мы никак не поймем этого и идем, идем…
НА ПУТИ В ПРЕИСПОДНЮЮ
Тем временем комендант Петропавловской крепости И. С. Ганецкий продолжал наводить порядок в Секретном доме Алексеевского равелина. После завершения суда над бывшими охранниками он мог наконец перевести дух и вздохнуть с облегчением — «разврат» стражи произошел при покойном Майделе, и лично он ни за что случившееся не ответствен, обнаружение же скандальной истории принадлежит ему. Стали наконец понятными найденные при арестах первомартовцев Желябова и Перовской, как оказалось, собственноручные записки Нечаева. В самом начале разбирательства Ганецкий подал ходатайство о полном прощении Мирского, но получил отказ.[869] Узнику ничего не оставалось, как терпеливо ждать изменения своего положения. Но в отношении его ничего не изменилось, кроме выражения личного доверия и мелких подачек со стороны коменданта крепости. Промучившись почти два месяца, Мирский 7 января 1882 года обратился к Ганецкому со следующим письмом:
«Ваше Высокопревосходительство!
Считаю своим приятным долгом от всего сердца поблагодарить Вас, многоуважаемый Г. Комендант, за сделанные Вами распоряжения, весьма благоприятно отозвавшиеся на внешних условиях моей жизни. Ваше великодушное желание облегчить сколько-нибудь мою тяжелую участь, рядом с любезною готовностью Г-на Смотрителя выполнить Ваше распоряжение в точности — сделали мое положение вполне сносным. Ободренный Вашей добротой и вниманием, беру на себя смелость обратиться к Вашему Высокопревосходительству еще с некоторыми просьбами. — I) В прошлом году до составления нынешнего расписания кушаньев, бывший Смотритель, Г. Филимонов, расходуя деньги по своему усмотрению, каким-то образом достигал того, что к воскресенью сберегалось несколько медных копеек, на которые, в прибавление к обыкновенному обеду; покупался еще десерт в виде пары апельсин, или кисти винограда, или же каких-нибудь ягод. Давался также стакан кофе, от которого, впрочем, я отказался, ввиду возбуждающих свойств этого напитка, но десертом я дорожил в высшей степени. При подавляющем однообразии тюремной жизни, при неумолимо неизменной последовательности и размеренности всего тюремного обихода — этот десерт — сюрприз имел значение даже нравственное, нарушая обычное течение жизни. Все это было отменено покойным комендантом под влиянием неосновательных жалоб известного вам «капризного» человека (Нечаева. — Ф. Л.), который добился составления нынешнего расписания, не справляясь, конечно, со вкусом других. Если в настоящее время Ваше Высокопревосходительство найдете возможным, так или иначе, доставить мне прежнее, недорогое лакомство, то этим заставите меня лишний раз сказать Вам искреннее спасибо. 2) Получаемый мною табак — рублевый. При нынешних ценах на этот товар за рубль дают нечто среднее между махоркой и так называемым турецким табаком. Хотя за два года я попривык к своему табаку, но тем не менее, его вредное влияние на грудь не подлежит сомнению, а для устранения этого неудобства требуется расход в шестьдесят копеек ежемесячно, — не более… 3) Я, Ваше Высокопревосходительство, как Вам, вероятно, известно, пользовался четырьмя ежемесячными журналами, выписываемыми Вашей канцелярией. С настоящего, января месяца, доставка этих журналов, по неизвестным мне причинам, прекратилась. Если в канцелярии Вашего Высокопревосходительства имеются какие-нибудь периодические издания за прошлый 1881 год, то, я надеюсь, Вы дозволите мне воспользоваться ими. Это тем более необходимо, что «Отеч[ественные] Зап[иски]» я уже дочитываю, а в здешней библиотеке мало найдется книг, мною не прочитанных. По этому делу (т. е. насчет книг вообще) мне, вероятно, придется обратиться к Господину Министру; но я сделаю это уже при личном свидании, которого ожидаю со дня на день, согласно прежним намерениям Его Сиятельства. С чувством искренней преданности и глубочайшего уважения имею честь быть Вашего Высокопревосходительства
Покорный слуга Л. М.»[870]
Впервые это письмо опубликовал П. Е. Щеголев;[871] оно столь красноречиво, столь беспощадно характеризует его автора, что не поместить его здесь невозможно. Письмо написано мягким карандашом, красивым разборчивым почерком, хорошо продумано и скомпоновано, интересна последовательность просьб арестанта — десерт, табак, чтение… При всей неприязни к Нечаеву, сравнивая его с Мирским, невольно проникаешься к нему уважением: он требовал бумагу, карандаш, книги, прогулок и ничего другого.
В документах равелина, разумеется, не отразилось появление или отсутствие дополнительного десерта и настоящего турецкого табака для Мирского, без которых он так страдал; наверное, сразу же по получении письма ему просимое дали, так как подобные мелкие льготы целиком зависели от воли коменданта крепости, а он к Мирскому благоволил.[872]
Приведу письмо Ганецкого на имя товарища министра внутренних дел П. В. Оржевского:
«№ 434
Милостивый Государь,
«21» Сентября 1882 г.
Петр Васильевич!
Заключенный в Алексеевском равелине государственный преступник Леон Мирский просит о выдаче ему для чтения журналов: «Вестник Европы», «Русский вестник» и «Русскую старину» за вторую половину 1881 года начиная от августа, «Отечественные записки» и «Дело» за 1882 год.
Так как названный преступник по распоряжению бывшего Министра Внутренних Дел, Генерал Адъютанта Графа Игнатьева, содержится на исключительных условиях от других арестантов, т. е. получает улучшенную пищу и пользуется правом чтения книг, то о такой просьбе его имею честь уведомить Ваше Превосходительство, прося, в том случае если не встретится препятствий к дозволению ему, по прежнему чтению книг и журналов, зависящего распоряжения о высылке означенных журналов из Департамента Государственной Полиции.
Справка: На основании существующих в крепости общих правил, государственные преступники пользуются правом чтения периодических журналов только за прошедшие годы».[873]
Ганецкий получил для Мирского все, что просил.[874] Еще бы не предоставить Мирскому такие пустяки, как десерт, табак и книги, — узник, находившийся в «исключительных условиях», продолжал оказывать коменданту солидные услуги. 27 марта 1882 года в Секретный дом Алексеевского равелина привезли народовольцев, причастных к убийству Александра II и осужденных по «процессу 20-ти». В их числе оказались А. Д. Михайлов и Н. А. Морозов. Рядом с камерой Мирского (№ 13) по распоряжению директора Департамента полиции В. К. Плеве посадили Г. П. Исаева (№ 12), посредника в сношениях Нечаева с волей, и А. И. Баранникова (№ 14).[875] От Мирского требовалось вступить с вновь прибывшими народовольцами в контакт через перестукивание. Посредником между Мирским и Департаментом полиции назначили восходящую звезду на полицейском небосклоне, начальника секретного отделения столичного обер-полицмейстера Отдельного корпуса жандармов майора Г. П. Судейкина.[876] Какие дары посыпались на заключенного за эту услугу и что он получал на десерт — мы не знаем, но своим положением Мирский удовлетворен не был, уж слишком легковесными оказались тридцать сребреников. Ему грезилось уж если не полное освобождение, то, по крайней мере, вызволение из стен Секретного дома. Спустя год после предательства, 10 ноября 1882 года, Мирский написал длинное письмо Ганецкому. Оно также впервые целиком опубликовано П. Е. Щеголевым.[877] Приведу из него извлечение: «Прежде, когда я был преступнейший из преступных, нераскаянный и дерзкий, я был, так сказать, подавлен и пристыжен величием царского милосердия и снисходительностью правительства. Кто знает, быть может, это великодушное обращение со мною и произвело во мне решительный перелом… Познав Бога, я всей измученной душою возлюбил Царя! Горькие слезы раскаяния и угрызения совести побудили меня хоть чем-нибудь ознаменовать свое нравственное преображение. Я решил оказать великодушному Правительству посильную услугу и сделал в этом отношении все, что только мог».[878]
И вот наконец новый министр внутренних дел граф Д. А. Толстой 23 июня 1883 года представил доклад об отправке Мирского на каторгу в Восточную Сибирь.[879] Что послужило поводом к облегчению участи переставшего надеяться узника, неизвестно, причин могло быть несколько: полиция перестала нуждаться в его услугах тюремного осведомителя, возможно, повлияло решение Александра III ликвидировать тюрьму в Алексеевском равелине или просто желание правительства отблагодарить наконец своего «помощника». Неожиданно 26 июня 1883 года распоряжением Плеве Мирского перевели в Трубецкой бастион. Как полагалось в подобных случаях, узника ни о чем не известили, и он в тот же день передал И. С. Ганецкому письмо, последнее, написанное им в крепости. Вот оно: «Мне, к сожалению, не сказали, надолго ли я переведен из Равелина. Если мое пребывание в Бастионе продлится более или менее долго, то я прошу Ваше Высокопревосходительство приказать выдать мне новый халат, новое одеяло, а то я боюсь заразиться, так как полученная мною одежда имеет вид крайне подозрительный. Сверх того, у меня нечего читать. Из равелина принесли журнал «Дело», но я уже прочитал все эти книги и могу их возвратить. Будьте добры, прикажите или выдать мне книги из библиотеки Бастиона, или — еше лучше — пришлите мне «Отечественные Записки» за вторую половину 1882 г., о чем я имел честь просить ваше Высокопревосходительство в половине текущего месяца. Еще есть у меня убедительнейшая и покорнейшая просьба к Вашему Высокопревосходительству, и надеюсь. Вы не отвергнете ее, потому что дело идет о сохранении моего здоровья и жизни. Прикажите ради Бога устроить надлежащую вентиляцию в моем номере, в Равелине. В последнее время у меня стала побаливать грудь, и вообще обнаружилось некоторое повреждение легких от недостатка воздуха. Кроме того, цинга до сих пор не прошла. Поэтому я умоляю Вас, мой Благодетель, прикажите вставить один вентилятор в левом углу окна, так чтобы единовременно действовали два вентилятора в окне и один в стене, Притом я бы просил, чтобы в новом вентиляторе дырочки были хоть сколько-нибудь побольше. Я твердо надеюсь, что Ваше Высокопревосходительство не забудете об этой важной просьбе.
Вашего Высокопревосходительства покорн[ый] слуга Мирский».[880]
14 июля 1883 года Ганецкий получил от директора Департамента полиции следующее распоряжение:
«Имею честь покорнейше просить Ваше Высокопревосходительство не отказать в распоряжении о выдаче Отдельного корпуса жандармов Капитану Мацкевичу содержащегося в вверенной Вам Крепости арестанта Леона Мирского, для доставления его в Дом предварительного заключения».[881]
В Дом предварительного заключения Мирский поступил 15 июля. За сорок дней до этого знаменательного события подполковник Г. П. Судейкин произвел в Петербурге небывалую по масштабам облаву на народовольцев. Революционеров, попавших в руки полиции, разбили на две группы — одну наказали в административном порядке, другая, состоявшая из 17 обвиняемых, предстала перед Особым присутствием Правительствующего сената. Часть из осужденных по «процессу 17-ти» оказалась в Алексеевском равелине, другую часть отправили на каторгу в Восточную Сибирь. В эту группу народовольцев 26 июля 1883 года тюремщики включили Мирского. Известный революционер А. В. Прибылев вспоминал:
«Но больше всего потешил нас Мирский. Было известно, что перед своим процессом он настойчиво требовал, чтоб к первому дню его суда, ему была доставлена фрачная пара. Хотелось человеку этим импонировать неведомо кому: суду или почти отсутствующей на суде публике. Разные фантазии приходят людям! Как бы то ни было, этот пресловутый фрак пролежал у Мирского целые годы, проведенные им в равелине, а сейчас оказался в его чемодане, и в него он теперь имел возможность нарядиться и в нем пощеголять, хотя этот Фрак мало подходил к его кандалам, бродням и далеко не Фрачным брюкам. Получалось комическое впечатление какого-нибудь негра или папуаса во фраке и цилиндре на совершенно голом теле».[882]
Автор воспоминаний не рассказал, сколь мучителен был этап на самый край света и каково идти в кандалах.
«Леон Филиппович Мирский, — писал Прибылен, — просидевший несколько лет в равелине, был неисчерпаемым источником рассказов как из жизни этой крайне суровой и изолированной тюрьмы, так и из последующего периода его жизни на воле. <…> несмотря на отрицательные и неприемлемые для окружающих черты своего характера, все-таки признавался ими полноправным товарищем».[883]
Этап направлялся в Нерчинский край, на Кару, самое страшное место заключения политических преступников после Секретного дома Алексеевского равелина. В то время как Мирский сидел в мужской тюрьме, разыгралась знаменитая карийская трагедия. Из-за жестокого наказания политической заключенной Н. К. Сигиды шесть каторжан в знак протеста покончили с собой и шесть человек покушались на самоубийство, но остались живы.[884] Несколько дней мужскую и женскую тюрьмы лихорадило, трагические события наползали друг на друга, но ни в одном выступлении каторжан наш герой не участвовал, он смиренно отсиживался в своей камере. В сентябре 1890 года его за примерное поведение перевели в вольную команду, а через четыре года разрешили выйти на поселение в Селенгинск Забайкальской области.[885] Позже Мирский переехал в Верхнеудинск. Осенью 1905 года в Забайкалье начались беспорядки. Слабая, нерешительная администрация допустила столь бурную реакцию населения на события, происходившие в Европейской России, что упустила контроль над краем и попросила у высших властей помощь. На Забайкалье двинулись две группы войск, составлявшие карательную экспедицию: с востока шел генерал П. К. Ренненкампф, с запада — А. Н. Меллер-Закомельский. 21 января 1906 года в Читу «для водворения порядка» прибыл поезд Ренненкампфа. К этому времени рабочие прекратили бастовать, речи социал-демократов не вызывали прежнего сочувствия и местное начальство вполне справлялось со своими прямыми обязанностями без посторонней помощи. Вот тогда-то и последовали жесточайшие репрессии со стороны бравых боевых генералов, приступивших к усмирению притихших рабочих. Без расследования и соблюдения самих основополагающих процессуальных положений на забайкальских жителей посыпались смертные приговоры. Среди других судом Ренненкампфа 26 февраля 1906 года был вынесен смертный приговор Мирскому, инспектору народных училищ, коллежскому советнику И. К. Окунцову и врачу И. А. Шинкману. Приведу извлечение из обвинительного акта:
«Крестьянин Забайкальской области, Верхнеудинского уезда, из ссыльных, Лев Филиппович Мирский [обвиняется] в том, что, принадлежа к боевой революционной партии, он путем печатания статей, призывал население к низвержению царствующего императора с престола и к насильственному посягательству на изменение существующего в России государственного строя. Сотрудничал в революционной газете «Верхнеудинский Листок», организовал противоправительственные манифестации и на митингах произносил публично речи, призывая насильственно лишить монарха его власти верховной».[886] (Приговором суда в 1879 году Мирский был лишен дворянства.)
Присяжный поверенный П. Н. Переверзев, исследовавший действия в Забайкалье Ренненкампфа и его окружения, писал:
«Не думайте, читатель, чтобы в описательной части обвинительного акта по делу Шинкмана, Окунцова и Мирского вменяемые им в вину деяния, начиная с состояния в какой-то боевой революционной партии и кончая организацией милиции, долженствующей превратиться, по счастливому выражению прокурора, в вооруженное восстание всего народа, — не думайте, чтобы все эти факты были очевидны с той определенностью и полнотой, которые давали бы обвинителю право делать свои заключительные выводы. Нет. Кроме статей, напечатанных в «Верхнеудинском Листке» большей частью анонимными авторами, и фактов зачастую молчаливого присутствия на весьма безобидных, по тому времени, митингах и демонстрациях — ничего не было собрано обвинителем в виде неопровержимых улик против подсудимых. Следственный материал по этому делу представляет яркую коллекцию показаний, недопустимых, по нашим законам на суде, показаний, даваемых на основании слухов, неизвестно от кого исходящих; показаний, где свидетельство о фактах, не имеющих ровно никакого значения, растворяется в многоречивых заключениях о характере деятельности подсудимых, заключениях, даваемых экспертами от добровольного и официального сыска».[887]
Относительно Мирского свидетельские показания Переверзев считал «поразительно ничтожными». Даже помощник начальника Иркутского жандармского управления, ротмистр Плешаков, командированный в помощь карателям, устыдившись собранных против подсудимых улик, писал Ренненкампфу 12 февраля, то есть за две недели до вынесения судом смертного приговора: «Что касается Льва Мирского, то он, как старый ветеран, только сочувствовал революционному движению, не проявляя себя, если не считать статьи его в газете, и что он, в сравнении с Шинкманом и Окунцовым — нуль, если не меньше. Так мне его охарактеризовали в городе лица, знающие его хорошо».[888]
Следовательно, после выхода на поселение наш герой ни в какой революционной деятельности замешан не был. Но несмотря на столь поразительное признание жандармского офицера, основанное на агентурной информации лиц, никак не склонных смягчить виновность бывшего террориста, военно-полевым судом Мирского все же приговорили к смертной казни, замененной каторжными работами без срока.[889] После окончания слушания дела всех приговоренных к смерти собрали в «смертный вагон».[890] Так назывался последний вагон в поезде генерала Ренненкампфа, в который сажали приговоренных к смерти. В нем Мирскому предстояло провести несколько дней в компании нечаевца А. К. Кузнецова. Вспоминали ли они общего знакомого, о чем говорили? Ни Кузнецов, ни оказавшийся в этом же вагоне социалист-революционер П. И, Кларк ничего об этом не пишут.
«Революционная волна, — вспоминал Кларк, — конечно, захватила и старика Мирского, и вот, за статью в местной газете, он опять приговорен к смерти, и кровожадный Ренненкампф возит его, Окунцова, Шинкмана и других, как заложников, заставляя их быть невольными свидетелями своих ужасных расправ и казней в Верхнеудинске и Хилке. Этих ужасных страданий как будто уж слишком много для одного человека. Ввиду этого немудрено, что встретившись с Мирским в вагоне Ренненкампфа после всего лишь трехмесячной разлуки, я нашел в нем сильную перемену: он страшно поседел, состарился и как-то осунулся. Но это так понятно, когда вспоминаешь, что Мирский уже второй раз приговорен к смерти, что он много провел в Петропавловской крепости на каторжном положении, отбыл долголетнюю каторгу на Каре и теперь после всего пережитого ежеминутно ждет, что вот придут палачи и поведут его с товарищами на казнь. Впрочем, все трое мужественно переносили свою участь и спокойно ждали конфирмацию приговора».[891]
Воспоминания Кларка написаны до опубликования П. Е. Щеголевым доказательств предательства Мирского. Манифест 17 октября 1905 года взбудоражил бывшего террориста, и ему захотелось напомнить о себе, вновь вынырнуть на поверхность. Мирский принялся за сочинение крамольных статей, приведших его в «смертный вагон» Ренненкампфа. «Совершенно больной, измученный и разбитый тяжкою жизнью человек, выглядевший гораздо старше своих лет»,[892] отбывал наказание в Акатуе и, выйдя на поселение, вернулся в Верхнеудинск. Там его застала Февральская революция. Уже в начале марта 1917 года Особая комиссия по обследованию деятельности Департамента полиции и подведомственных ему учреждений приступила к разбору архивов с документами, касавшимися государственных преступлений, председателем комиссии был П. Е. Щеголев — один из первых историков российского политического сыска. Понимая, что вскоре могут последовать разоблачения, Мирский написал от третьего лица воспоминания и отправил их в 1917 году в журнал «Былое» его редактору П. Е. Щеголеву. Приведу из них отрывок:
«Но фактически Нечаев был выдающимся революционером, и русское правительство решило уничтожить его во что бы то ни стало. Он обладал каким-то почти магическим даром влиять на окружающих и подчинять своей воле нужных ему лиц. Говорят, что даже Карл Маркс поддался его мистификации и поверил, что Нечаев располагал миллионами революционеров, готовых восстать в нужную минуту. Он не стеснялся в средствах и приемах для достижения своих целей, и за это его даже собирались судить в эмигрантских кругах. Но он попал в равелин и там использовал свои таланты: четырех жандармов он приучил и заставил смотреть на вещи своими глазами, а через жандармов действовать и на караульных солдат, составляя для них популярные брошюры известного направления. Одним словом, Нечаев стал авторитетом в тюрьмах: смотритель его боялся, жандармы и солдаты обожали его и готовы были сделать для него все, чего бы он ни потребовал. Только сношения с внешним миром были невозможны. Нечаев долго жил за границей, затем его выдали, судили и законопатили в секретную тюрьму. За это время все переменилось, прежние связи порвались, а через солдат и жандармов их нельзя было восстановить.
Но когда в 1879 году привезли Мирского, изъятого из вольной жизни только несколько месяцев тому назад, то настала новая эпоха для равелинских узников, которых было три, да и то один больной, впавший в тихое помешательство.
Завязалась оживленная переписка с «волей», получались газеты, делились впечатлениями и, между прочим, подумывали о побеге. Нечаев составил такой план: в крепость каким-то образом проникнут 20–25 вооруженных людей с воли. Навстречу им выйдут заключенные, солдаты и жандармы. Эти соединенные армии должны были каким-то образом прорваться через многочисленные посты и иные препятствия. Пишущему эти строки (Мирскому. — Ф. Л.) известно, что Мирский отнесся отрицательно к этому плану, и был оставлен, так как пришлось считаться с реальным фактом, имевшим важные последствия. На воле при обыске нашли шифрованное письмо: долго бились над дешифровкой этого письма жандармы, и был слух, что только в Министерстве внутренних дел отчасти его дешифровали и тогда узнали, что письмо из Алексеевского равелина. Это произвело переполох! Как! Письмо из равелина! Из этой наисекретнейшей тюрьмы! Чтобы узнать, кто приносит письма, комендант крепости издал приказ, чтобы отпускать в город не более четырех солдат одновременно из равелинного караула. За каждым солдатом следовала тень в виде сыщика, но предупрежденные об этом солдаты старались отделаться от сыщика, а если это не удавалось, то солдатик возвращался, не исполнив поручения! Так как все солдаты, по мнению сыщиков, лавировали, чтобы скрыться от них, то начальство пришло к заключению, что вся равелинная стража неблагонадежна. И вот в один прекрасный день Алексеевский равелин был окружен войсками. Смотритель тюрьмы, 4 жандарма и 30 солдат были арестованы и препровождены в военную тюрьму. Смотрителем тюрьмы назначили офицера Соколова, грубого, жестокого бурбона. Заключенных перевели на каторжный режим: утром 2 1/2 ф[унта] черного хлеба, в обед баланда с 32 золотниками[893] мяса; вечером жидкая кашица. В среду и пятницу еще более скудная постная пища. От такой пищи у Мирского появилась цинга в сильнейшей степени. Его перевели в Дом предварительного заключения для излечения, а в июле 1883 года отправили на Кару вместе с прочими каторжанами».[894]
Судя по воспоминаниям Мирского, их автор не был наделен от рождения большим умом и фантазией. П. Е. Щеголев, знаток равелина, царской тюрьмы и охранки, прочитав этот текст, непременно должен был усомниться в искренности автора — уж не комендант ли крепости делился с ним своими сомнениями и разрабатывал планы действий в камере Мирского, иначе откуда ему знать все, что он так подробно изложил… Но и это еще не все. Мирский отправил опытнейшему архивисту собственноручный автограф воспоминаний. К этому времени Щеголев уже прочитал его письма к Ганецкому и прошение о помиловании. Идентифицировать почерки автора писем и анонимного мемуариста не представляло труда. Воспоминания Мирского настолько неинтересны, что Щеголев решил их не публиковать, так они и остались лежать в редакционном портфеле журнала «Былое». Лживые воспоминания — последний известный нам факт из биографии Мирского. Он умер в Верхнеудинске в 1919 или 1920 году.[895]
В последний раз перенесемся назад, в Петропавловскую крепость, где продолжали оставаться два узника — Нечаев и Мирский.
Вскоре после начала дознания о беспорядках в Алексеевском равелине 28 декабря 1881 года Нечаева перевели в камеру № 1 малого коридора. Она располагалась в углу Секретного дома и примыкала к жилищу смотрителя. Там инициатор равелинских беспорядков находился под постоянным наблюдением дежурного жандармского унтер-офицера, занимавшего соседнюю камеру. Таким образом, Нечаев оказался между смотрителем и не спускавшими с его камеры глаз жандармами. Сидевшие в «отдельных покоях» большого коридора даже не догадывались о существовании узника в угловой камере малого коридора. «В этот коридор вела лверь из-под ворот равелина, — писал известный революционер Н. С. Тютчев, — и там находилось всего три камеры — № 1,2, 3; кроме уже упомянутого выхода в подворотню, из этого глухого коридора еще одна дверь вела в кабинет смотрителя Соколова; кабинет этот с большим коридором сообщался совершенно особым ходом».[896] Таким образом, Нечаева поселили буквально в жандармское логово.
В ночь с 26 на 27 марта 1882 года почти все камеры Секретного дома заполнились новыми арестантами, то были народовольцы, осужденные по «процессу 20-ти» за участие в подготовке к совершению цареубийства. Ближайшим соседом Нечаева оказался А. Д. Михайлов, занимавший камеру № З.[897] Никто из народовольцев, попавших в Секретный дом, старейшего узника не видел. После предательства Мирского и прихода в равелин смотрителя Соколова в Секретном доме установился распорядок, невыносимый для узников, резко ухудшилось питание. Из десяти народовольцев, поступивших в равелин в марте 1882 года, половина рассталась там с жизнью, не выдержав и двух лет режима, еще два человека умерли в Шлиссельбурге, куда их перевели в 1884 году, и лишь трое вышли на свободу, проведя более двадцати лет в «государевых» тюрьмах.
Нечаев, отсидевший в Секретном доме почти десять лет, измученный и обессилевший, не мог долго выдержать ужесточенного режима. Его перестали выводить на прогулки, лишили чтения. Старый служака генерал Ганецкий мстил за попавших в беду солдатиков. Комендант крепости обратился к начальству с просьбой разрешить ему уменьшить затраты на питание узника с 70 до 24 копеек в сутки, обрить ему голову и переодеть в худшую одежду. Завязать сношения с новой равелинной командой было немыслимо, да и вряд ли Нечаев делал попытки к этому. В конце июня 1882 года бывший глава «Народной расправы» обратился к Ганецкому с просьбой о приглашении к нему священника для «духовных бесед», объяснив это желанием обратиться к вере.[898] Просьба узника, утверждавшего ранее, что он атеист, удовлетворена не была. В конце лета здоровье Сергея заметно ухудшилось. Вместо священника в камере № 1 с осени 1882 года начал появляться доктор Вильмс. Даже этот прославившийся бессердечием человек обратил внимание коменданта крепости на необходимость улучшения питания Нечаева, с 8 ноября ему начали давать по кружке молока в день, но никакое улучшение питания помочь уже не могло, он угасал, все резервы организма были исчерпаны.
Нечаев провел в Секретном доме девять лет, десять месяцев и 23 дня. 21 ноября 1882 года, ровно через тринадцать лет после убийства Иванова, Ганецкий передал директору Департамента полиции В. К. Плеве следующий рапорт:
«Содержавшийся с 28 Января 1873 года в Алексеевском равелине ссыльнокаторжный преступник Сергей Нечаев, пользовавшийся более месяца врачебною помощью от цинги, осложненной последнее время общей водянкой, сего 21-го Ноября во 2-м часу дня, умер от общей водянки, осложненной цинготной болезнию.
Уведомляя о сем Ваше Превосходительство, имею честь просить зависящего распоряжения о принятии тела умершего Нечаева из крепости для предания земле на одном из кладбищ, присовокупляя, что для устранения огласки о существовании в Алексеевском равелине преступников, я приказал тело умершего перенести сего числа ночью, при совершенной тайне, в один из арестантских казематов Екатерининской куртины, откуда оно может быть принято командированным за ним лицом. Причем прошу уведомить меня о том, кому именно должно быть сдано тело умершего, так равно и о том, следует ли ввиду той тайны, при которой был заключен названный преступник пояснять фамилию умершего при сдаче тела».[899]
В тот же день комендант крепости отправил донесения о случившемся Александру III и новому министру внутренних дел, графу Д. А. Толстому.
В час ночи 22 ноября пристав Преображенской части Панкратьев приехал в крепость получить труп для захоронения. В углу камеры на койке лежало маленькое тельце со впалой грудью и раздутыми ногами, реденькие волосы, провалившиеся глаза. Пришедших поразило сморщенное мышино-серого цвета лицо старичка. Вильмс, Соколов, Панкратьев и солдаты стояли в ногах покойного, фонарь отбрасывал на стены большие прыгающие тени. Пристав подошел к столику, подписал расписку, солдаты завернули окоченевшее тело в солдатское одеяло. Из крепости выехала полицейская карета с фургоном и двинулась в направлении станции Преображенская Николаевской железной дороги.[900] Никаких следов о месте погребения Нечаева не обнаружено.
На Ганецком лежала последняя обязанность — разобраться с личными вещами бывшего творца «Народной расправы», хранившимися в крепости. 13 декабря 1882 года Ганецкий писал Плеве:
«После умершего 21 минувшего Ноября, в Алексеевском равелине, известного преступника, содержащегося в камере № 1, остались вещи, поименованные в прилагаемой у сего описи. Предположив означенные вещи, как не представляющие особой ценности и пришедшие от времени в негодность, по бывших при подобных случаях примерах, уничтожить сожжением, я предварительно окончательного сему распоряжения, имею честь просить Ваше Превосходительство уведомить меня о Вашем по означенному предмету заключении».[901]
Возвращая опись, директор Департамента полиции сообщил коменданту Петропавловской крепости, что вещи, оставшиеся после Нечаева, подлежат сожжению. 27 декабря Соколов передал Ганецкому акт об уничтожении «армяка серого — 1, штанов — 1, шапки — 1, полушубка дубленого — 1, пальто летнего драпового — 1, пиджака летнего — 1, рубашки теплой фланелевой — 1, подштанников — 1, галстуха статского — 1, шляпы-котелка — 1, рукавиц замшевых теплых — 1, шерстяных чулок — 1 пара, полусапожек — 1 пара и платка — 1».[902]
Отчего мы вынуждены обращать свои взгляды на Нечаева, сталкиваться с Нечаевыми прежними и нынешними? На этих людей ничтожных знаний и заурядных умственных способностей, чуждых морали и твердых убеждений, чья самая развитая черта — честолюбие? Как случилось, что они заметны на наших горизонтах? Как смогли вынудить нас попасть в зависимость от них?
Чрезмерные стеснения естественных свобод человека приводят к порождению недовольства главным образом среди молодых людей, к стремлению изменить существующее положение. Недовольные идут туда, где можно найти сочувствие и поддержку. Если власти запрещают любые способы выражения несогласия с их действиями, то тем самым побуждают к возникновению конспиративных противоправительственных сообществ. Тут-то и появляются Нечаевы, чей успех зиждется на эксплуатации невежества, политической незрелости. Молодые люди верят примитивным речам циничных демагогов и слепо следуют за ними.
Необходимо просвещение, необходимо на смену увлечениям, двигающим молодыми людьми, дать возможность через знания взрасти убеждениям, способным противостоять желаниям разрушать, и тогда Нечаевых сильно поубавится.
Эпиграфом к роману «Бесы» Достоевский взял евангельскую притчу о бесах, покинувших человека и вселившихся в свиней.[903] «Точь-в-точь случилось так и у нас, — писал Ф. М. Достоевский А. Н. Майкову. — Бесы вышли из русского человека и вошли в стадо свиней, то есть в Нечаевых, в Серно-Соловьевичей и проч. Те потонули или потонут наверно, а исцелившийся человек, из которого вышли бесы, сидит у ног Иисусовых. Так и должно было быть».[904] Но этого не случилось.
Нечаев умер, сожгли его вещи, где-то похоронили труп, а дьявольская энергия созидателя разрушения не ушла в преисподнюю, она переселилась в других…
Один из героев «Бесов» говорит: «Россия есть игра природы, но не ума».[905] Неужели он прав?..
ПРИМЕЧАНИЯ
Примечания преобразованы в [СНОСКИ].
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
ГА РФ — Государственный архив Российской Федерации (бывший ЦГАОР СССР — Центральный государственный архив Октябрьской революции, высших органов государственной власти и органов государственного управления СССР).
ИРЛИ — Рукописный отдел Института русской литературы АН России.
ОР РГБ — Отдел рукописей Российской государственной библиотеки (бывшая ГБЛ — Государственная библиотека им. В. И. Ленина).
РГВИА — Российский государственный военно-исторический архив.
РГИА — Российский государственный исторический архив в Петербурге.
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С. Г. НЕЧАЕВА
1847, 20 сентября — в селе Иваново Шуйского уезда Владимирской губернии в семье побочного сына мелкопоместного дворянина, трактирного официанта Геннадия Павловича Нечаева и его жены крестьянки Прасковьи Петровны, в девичестве Литвиновой, родился сын, при крещении его назвали Сергеем.
1856 или 1857 — поступление С. Г. Нечаева на работу в контору фабриканта Гарелина.
1858 — частные уроки грамматики у В. А. Дементьева.
1859–1865 — самостоятельные занятия по гимназическому курсу.
1865 — поездка в Москву, проживание в пансионе М. П. Погодина, неудачная сдача экзаменов на звание учителя приходской школы.
1866 — поездка в Петербург, сдача экзаменов на звание городского приходского учителя.
1866–1869 — житье в Петербурге, служба в Андреевском и Сергиевском приходских училищах, преподавание Закона Божьего.
1868–1869 — участие в студенческих волнениях, знакомство с И. Засулич, П. Н. Ткачевым и др.
1869, 16 марта — конец августа — пребывание С. Г. Нечаева в странах Западной Европы, проживание главным образом в Женеве, знакомство с Н. П. Огаревым и М. А. Бакуниным и другими русскими эмигрантами, встреча с А. И. Герценом, получение денег из Бахметевского фонда, пропагандистская кампания, вызвавшая аресты в России.
1869, 3 сентября — приезд С. Г. Нечаева в Москву, образование подпольного революционного сообщества «Народная расправа».
1869, 21 ноября — убийство студента Земледельческой академии И. И. Иванова, организованное С. Г. Нечаевым.
1869, 26 ноября — конец декабря — аресты участников «Народной расправы», бегство С. Г. Нечаева в Швейцарию.
1869, конец декабря — 1872, октябрь — пребывание С. Г. Нечаева в странах Западной Европы, попытка продолжить пропагандистскую кампанию, возобновление журнала «Колокол», шантаж членов семьи А. И. Герцена, поездки в Англию и Францию, неудачи с организацией революционного сообщества из русских студентов в Цюрихе, слежка за С. Г. Нечаевым агентов русской секретной полиции.
1872, 2 августа — арест Нечаева в Цюрихе.
1872, 19 октября — конвоируемый русскими жандармами С. Г. Нечаев прибыл в Петербург.
1873, 8 января — суд над С. Г. Нечаевым в Москве, приговор — двадцать лет каторжных работ в руднике.
1873, 28 января — С. Г. Нечаев — узник Секретного дома Алексеевско-го равелина Петропавловской крепости в С.-Петербурге.
1878 — удачная попытка С. Г. Нечаева распропагандировать стражу Секретного дома.
1879, 28 ноября — перевод Л. Ф. Мирского в Секретный дом Алексеевского равелина.
1880, 10 ноября — заключение С. Г. Ширяева в Секретном доме Алексеевского равелина, получение при его посредничестве писем С. Г. Нечаева народовольцами, находящимися на свободе.
1881, 16 ноября — донос Л. Ф. Мирского о распропагандировании С. Г. Нечаевым стражи.
1882, 21 ноября — смерть С. Г. Нечаева.
ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
При составлении указателя использованы следующие материалы:
Деятели революционного движения в России: Биобиблиографический словарь. Т. 1–2. М.; Л., 1927–1932; Нечаев и нечаевцы: Сборник материалов. М.; Л., 1932; архивные документы и другие источники.
Особое внимание уделялось лицам, наиболее близко связанным с С. Г. Нечаевым, сведения о которых не содержатся в общедоступной справочной литературе. В указатель не включены лица, сведения о которых ничего нового не добавляют к изложенным в основном тексте книги.
АБРАМОВ Николай Иванович (род. ок. 1846), из дворян, слушатель Петровской академии, арестован 5 декабря 1869 г., в мае 1871 г. следствие прекращено за недостатком улик 150
АЗЕФ Евно Фишелевич (1869–1918), из мещан, член ЦК партии социалистов-революционеров, руководитель Боевой организации, с 1893 г. состоял на службе в Департаменте полиции 8
АКСАКОВ Константин Сергеевич (1817–1860), писатель, филолог, критик 75
АЛЕКСАНДР I (1777–1825), русский император с 1801 г. 285-286
АЛЕКСАНДР II (1818–1881), русский император с 1855 г. 14, 15, 19, 78, 80–82, 95, ПО, 116, 187, 190, 193–196, 227, 263, 267, 270, 273–275, 282, 291, 292, 301, 302, 304–306, 308, 321, 332, 335, 339, 341, 343-345
АЛЕКСАНДР III (1845–1894), русский император с 1881 г. 72, 349, 351, 360, 368
АЛЕКСАНДРОВСКАЯ Варвара Владимировна (ок. 1833 — после 1880), урожденная Чирикова, дочь поручика, жена чиновника Кронштадтской таможни, арестована 8 мая 1862 г. по подозрению в распространении революционных воззваний и пропаганде в воскресных школах, в административном порядке сослана в Тульскую губ. В 1867 г. получила разрешение проживать в Петербурге. Вместе с Нечаевым ездила за границу, на обратном пути арестована 11 января 1870 г., 23 августа 1871 г. приговорена к лишению всех прав состояния и ссылке в Сибирь, жила в Ачинском округе 171–180, 194, 219, 221
АЛЧУНИЦЫН, слушатель Медико-хирургической академии, участник студенческих волнений в Петербурге в 1868–1869 гг. 53
АМЕТИСТОВ Евлампий Васильевич (1850 — после 1882), из священников, окончил Владимирскую духовную семинарию, учился в Медико-хирургической академии, в конце апреля 1869 г. арестован в Славянске, в мае 1871 г. за недостатком улик следствие прекращено, жил в Изюме под надзором полиции 45, 49, 50–52, 54, 64, 68, 118, 119
АМЕТИСТОВ Иван Васильевич (род. в 1845), брат Е. В. Аметистова, окончил Владимирскую семинарию, учился в Петербургском университете, 28 марта 1869 г. выслан из Петербурга, в конце апреля арестован в Славянске, за недостатком улик следствие прекращено, жил в Изюме под надзором полиции 45, 49, 119
АНДРЕЕВ Николай Андреевич (род. в 1851), поручик, помощник смотрителя Алексеевского равелина (1878–1881) 310, 349—351
АНТОНОВА Мария Осиповна (ок. 1848–1877), по мужу Волховская, московская мещанка, в конце апреля 1869 г. арестована, 12 января 1870 г. освобождена, дала откровенные показания. Следствие прекращено за недостатком улик, жила в Одессе, принимала участие в кружке чайковцев, в 1874 г. эмигрировала 118, 119, 138–140, 184
АПТЕКМАН Осип Васильевич (1849–1926), из купцов, учился в Харьковском университете, затем в Медико-хирургической академии, уехал в Псковскую губернию, вел пропаганду среди крестьян, вступил в общество «Земля и воля», затем в «Черный передел», в январе 1880 г. арестован и выслан в Якутскую обл., в 1885 г. эмигрировал, в 1889 г. вернулся, в 1906 г. уехал во вторую эмиграцию, где пробыл до 1917 г. 62, 197
АРГИРОПУЛО Перикл Эммануилович (1839–1862), из дворян, учился в Московском университете и преподавал в воскресной школе, принимал участие в организации студенческих кружков 87—89
АРСЕНЬЕВ Константин Константинович (1837–1919), юрист, публицист, критик, выступал в качестве защитника на «Процессе нечаевцев» 190, 208, 217, 266, 267
АРХИПОВ, рядовой Местной команды, в охране равелина с декабря 1880 г., носил записки Нечаева народовольцам 354
БАБЕФ Гракх (Франсуа Ноэль) (1760–1797), вождь коммунистического «заговора равных» в эпоху термидорианской реакции во Франции (1795–1796) 52
БАЗИЛЕВСКИЙ В., см. Яковлев В. Я.
БАКУНИН Михаил Александрович (1814–1876), выдающийся революционер 5, 14, 61, 72, 75–82, 85, 92, 94, 97-102, 104, 109, ПО, 112, 115, 121–123, 125, 128–135, 140, 141, 149, 162, 163, 191, 199, 218, 219, 221–230, 232–236, 238–244, 247–258, 262, 266, 293, 301, 355
БАЛАМЕЗ Андрей Михайлович (1860–1903), из купцов, окончил Кишиневское уездное училище, участвовал в одесской террористической группе, арестован 4 августа 1878 г., дал откровенные показания, приговорен к 20 годам каторжных работ, 8 марта 1880 г. прибыл на Кару, 1 мая 1881 г. бежал, но через десять дней был пойман, участвовал в убийстве П. Г. Успенского, в 1889 г. подал прошение о смягчении участи, 24 января 1890 г. разрешено проживание в Кишиневе, в марте 1894 г. бежал в Болгарию 216
БАЛАШОВ Александр Дмитриевич (1770–1837), петербургский обер-полицмейстер, военный губернатор, с 1810 г. министр полиции 286, 288
БАРАННИКОВ Александр Иванович (1858–1883), член Исполнительного комитета «Народной воли», по «процессу 20-ти» приговорен к бессрочной каторге 359
БАРШЕВ Сергей Иванович (1808–1882), профессор, криминалист, ректор Московского университета (1863–1870) 161
БАХМЕТЕВ Павел Александрович (1828 — после 1857), из дворян, окончил Саратовскую гимназию, учился в Горыгорецком сельскохозяйственном институте, летом 1857 г. уехал в Лондон, оттуда на Маркизские острова 126, 127, 252
БЕЙДЕМАН Михаил Степанович (ок. 1840–1887), из дворян, окончил Константиновское училище, поручик драгунского полка, в 1860–1861 гг. находился в эмиграции, по возвращении арестован и без суда заключен в Секретный дом Алексеевского равелина, 3 июля 1881 г. переведен в казанскую больницу для умалишенных 291–293, 304–306, 310, 311, 333, 334, 345, 352
БЕКЛЕМИШЕВ Евгений Александрович (род. ок. 1857), из мещан, родственник А. А. Ольхина, вольнослушатель Петербургского университета, вел пропаганду среди крестьян Псковской губ., 15 сентября 1879 г. арестован по обвинению в укрывательстве Л. Ф. Мирского, судом оправдан, выслан в Рязанскую губ. 328, 330
БЕЛИНСКИЙ Виссарион Григорьевич (1811–1848), литературный критик 72–76, 82, 84, 203
БЕЛЬЧИКОВ Николай Федорович (1890–1978), член-корреспондент АН СССР, литературовед 25
БЕЛЯЕВА Елизавета Ивановна (род. ок. 1843), из мещан, состояла членом «Народной расправы», арестована 24 декабря 1869 г., 6 августа 1871 г. приговорена к двум месяцам тюрьмы и пяти годам строгого надзора, жила в Москве, Орле, Судаке, Харькове, где получила разрешение поступить в акушерскую клинику 150–152, 161, 162, 181, 183, 318
БЕСТУЖЕВ Александр Александрович (1797–1837), штабс-капитан лейб-гвардии драгунского полка, декабрист 75
БЕСТУЖЕВ Михаил Александрович (1800–1871), брат предыдущего, штабс-капитан лейб-гвардии Московского полка, декабрист 289
БЕСТУЖЕВ Николай Александрович (1791–1855), брат предыдущих, капитан-лейтенант Восьмого флотского экипажа, декабрист 389
БИРИН, подполковник, начальник Ковенского губернского жандармского управления 175, 176
БИРК Рейнгольд Андреевич (род. ок. 1847), из мещан, учился в Технологическом институте, арестован 27 декабря 1869 г. по подозрению в знакомстве с Нечаевым, 26 мая 1870 г. освобожден за недостатком улик, жил в Твери, редактировал «Тверские ведомости» 118
БИСМАРК фон Шенгаузен Отто-Эдуард-Леопольд (1815–1898), князь, государственный канцлер Германии (1871–1890) 226
БЛАН Луи (1811–1882), французский социалист, деятель революции 1848 г. 59, 295
БЛАНКИ Луи Огюст (1805–1881), французский революционер, утопист-коммунист, придерживаясь заговорщической тактики революционной борьбы, стремился к созданию тайных, строго иерархических организаций с задачами свержения существующего государственного устройства путем внезапного вооруженного восстания 14, 44, 57, 58
БОБКОВ Николай Иванович, майор, смотритель Алексеевского равелина (1873–1876) 298, 306
БОГДАНОВ Александр Карпович, штатный смотритель С.-Петербургских училищ 65
БОГДАНОВ Александр Федорович (1799–1860), капитан, смотритель Алексеевского равелина (1850–1860) 291
БОГДАНОВ Степан Петрович (1851–1928), народник, с 27 сентября 1877 г. по конец октября 1883 г. находился на Каре 216
БОГОМОЛОВ Николай Михайлович (1841–1888), публицист, городской учитель, житель села Иваново 115
БОГУЧАРСКИЙ В. Я., см. Яковлев В. Я.
БОКЛЬ Генри Томас (1821–1862), английский социолог 30, 31, 295
БОРИСОВ Феофан Алексеевич (ок. 1845 — после 1873), из крестьян, арестован 25 апреля 1866 г. по каракозовскому делу, 24 декабря 1866 г. освобожден, в 1869 г. привлекался по делу Нечаева, 10 мая 1870 г. его дело было закрыто за отсутствием состава преступления 30
БОРИСОВ, рядовой Местной команды, в охране равелина с 24 марта 1881 г., носил записки Нечаева народовольцам 354
БОТЕВ Христе (1847–1876), болгарский поэт, один из руководителей национально-освободительного движения 135
БОХАНОВСКИЙ Иван Васильевич (1848–1917), из дворян, учился на юридическом факультете Киевского университета, в 1875 г. привлекался по делу о пропаганде в империи («процесс 193-х»), в 1877 г. участвовал в чигиринской истории, арестован 30 августа 1877 г., бежал 27 мая 1878 г. из Киевского тюремного замка и выехал в Западную Европу 313, 318
БУЛАНОВ Анатолий Петрович (1857–1918), окончил Морское училище, мичман Восьмого флотского экипажа, вел пропаганду среди офицеров, нижних чинов и рабочих, после распада «Черного передела» вступил в «Народную волю», арестован 2 февраля 1882 г., отправлен в Минусинск Енисейской губ., в 1888-м вернулся в Европейскую Россию 337
БУЛАНОВА Ольга Константиновна (1858 — после 1925), урожденная Трубникова, жена А. П. Буланова, вольнослушательница Бестужевских курсов, в 1879 г. примкнула к петербургской группе «Черного передела», арестована 2 февраля 1882 г., освобождена под залог, последовала за мужем в Восточную Сибирь, в 1888 г. вернулась в Европейскую Россию 355
БУОНАРРОТИ Филипп (1761–1837), участник «заговора равных» 52
БУРЦЕВ Владимир Львович (1862–1942), революционер, публицист, историк 271
БУТАШЕВИЧ-ПЕТРАШЕВСКИЙ М. В., см. Петрашевский М. В.
БУТУРЛИН Александр Сергеевич (1845–1916), из дворян, учился в Московском университете, исключен за участие в полунинской истории и выслан в Ярославскую губ., арестован в 1870 г. по нечаевскому делу, в 1871 г. оправдан, уехал за границу, был близок к П. Л. Лаврову, после возвращения в Россию арестован в 1879 г. по делу о взрыве на Московско- Курской железной дороге, отправлен в Западную Сибирь на пять лет, по окончании ссылки жил в Москве 161
ВЫЗОВ Кирилл Михайлович (1858–1910), рядовой Местной команды, в охране равелина с марта 1878 г. по весну 1881 г., участвовал в беспорядках в Алексеевском равелине 354, 356, 357
ВАСИЛЬЕВСКИЙ Николай (род. ок. 1847), слушатель Медико-хирургической академии, исключен 6 ноября 1868 г. из-за столкновения с инспектором академии, арестован 15 марта 1869 г., 28 марта выслан в Иркутскую губ., в июне 1870 г. вернулся в Петербург 51
ВЕЙНБЕРГ Петр Исаевич (1831–1908), поэт, переводчик, историк литературы 200
ВЕРЕЩАГИН Николай Александрович (1852 — после 1890), слушатель Медико-хирургической академии, арестован 18 августа 1879 г. за укрывательство Л. Ф. Мирского, после оправдания судом выслан из Петербурга 326, 328, 330, 331, 345
ВИЛЬМС Гавриил Иванович (1822–1891), закончил с золотой медалью Медико-хирургическую академию, врач Петропавловской крепости 96, 317, 368, 369
ВОЛОШЕНКО Иннокентий Федорович (1848–1908), из дворян, учился в Новороссийском университете, землеволец, арестован 24 января 1879 г., приговорен к десяти годам каторги, 8 февраля 1880 г. бежал по дороге на Кару, пойман, прибыл на Кару в ноябре 1880 г., летом 1882 г. увезен в Петербург, в 1884 г. возвращен на Кару, с 1906 г. проживал в Европейской России 216
ВОЛХОВСКИЙ Феликс Владимирович (1844–1914), из дворян, учился в Московском университете, в 1866 г. привлекался к дознанию по делу «Малороссийской общины», арестован в феврале, в 1868 г. по делу о «Рублевом обществе», 17 августа отдан на поруки, арестован 16 апреля 1869 г. за участие в кружке самообразования, 15 июля 1871 г. судом оправдан и с женой М. О. Антоновой выехал в Ростов-на-Дону, жил в Одессе, где организовал отделение кружка чайковцев, привлекался к суду о пропаганде в империи, в 1878 г. приговорен к ссылке, в 1890 г. бежал из Сибири за границу, организатор «Фонда вольной русской прессы» 61, 118, 119, 138–140, 186, 193
ВОЛЬФ Маврикий Осипович (1825–1883), издатель, книгопродавец, типограф 207
ВОРОНЦОВА Любовь Егоровна (род. ок. 1850), урожденная Коведяева, из дворян, окончила Повивальный институт, арестована 19 февраля 1870 г. в Петербурге за участие в «Народной расправе», 22 августа 1871 г. судом оправдана, работала акушеркой в Новгородской губ., арестована в 1879 г. по подозрению в хранении типографского шрифта, освобождена с учреждением над ней полицейского надзора 152
ВЯЗМИТИНОВ Сергей Кузьмич (1749–1819), граф, генерал от инфантерии, министр военно-сухопутных сил (1802–1812), управляющий Министерством полиции, петербургский генерал-губернатор 287
ГАВРИШЕВ Георгий Яковлевич (род. ок. 1846), из купцов, слушатель Петровской академии, состоял в «Народной расправе», арестован 5 декабря 1869 г., в 1871 г. приговорен к четырем месяцам тюремного заключения и отдаче под надзор полиции на пять лет, по выходе из тюрьмы находился в ссылке в Александровске, освобожден от надзора в 1876 г. 150
ГАНЕЦКИЙ Иван Степанович (1810–1887), генерал от инфантерии, командир Гренадерского корпуса, с 25 мая 1881 г. комендант Петропавловской крепости 345–350, 357, 359–361, 366, 368, 369
ГАПОН Георгий Аполлонович (1870–1906), священник Петербургской пересыльной тюрьмы, основатель Собрания русских фабрично-заводских рабочих, 9 января 1905 г. возглавлял шествие к Зимнему дворцу 8
ГАРЕЛИН Яков Петрович (1820–1890), ивановский фабрикант, краевед 26
ГЕ Николай Николаевич (1831–1894), русский художник 82
ГЕГЕЛЬ Георг Вильгельм Фридрих (1770–1831), немецкий философ 44, 76, 77, 82
ГЕРАКОВ Павел Константинович, следователь С.-Петербургского окружного суда 185
ГЕРЦЕН Александр Александрович (1839–1906), старший сын А. И. Герцена, профессор-физиолог 123, 224, 228
ГЕРЦЕН Александр Иванович (1812–1870), писатель, публицист, деятель русского освободительного движения 6, 22, 52, 72, 75, 79, 88, 92, 96-100, 112, 121, 123–132, 140, 149, 153, 178, 218, 220, 221, 224, 225, 227–230, 233, 237, 250–252, 255
ГЕРЦЕН Наталья Александровна (1844–1936), старшая дочь А. И. Герцена 132, 230–233, 236–238, 240, 241, 243–245, 248, 250–252, 255
ГИЛЬОМ Джемс (1844–1917), швейцарский политический деятель, сторонник М. А. Бакунина, член Интернационала, писатель 247, 248
ГИРС Николай Карпович (1820–1886), министр иностранных дел. посол в Швейцарии 226
ГЛАСКО Август Антонович, из дворян, лейтенант Балтийского флота, член военной организации «Народной воли», арестован 30 апреля 1881 г., содержался в Николаевском госпитале, в июне 1882 г. переведен в Каспийскую флотилию 339
ГОГОЛЬ Николай Васильевич (1809–1852), писатель 39, 75, 84
ГОЛИКОВ Леонид Иванович (1850 — после 1885), из дворян, окончил Николаевскую гимназию, слушатель Петровской академии, участник «Народной расправы», арестован 1 декабря 1869 г., 6 августа 1871 г. оправдан, жил в Николаеве под надзором полиции, участвовал в одесском кружке Ф. В. Волховского, вел занятия с рабочими, арестован в январе 1875 г. и привлечен к дознанию по делу о пропаганде в империи; по «процессу 193-х» 23 января 1878 г. оправдан, проживал в Николаеве под надзором полиции, арестован в 1883 г. по делу о военной организации «Народной воли», 30 июля 1884 г. выслан в Семипалатинск 151
ГОЛИКОВ Николай Иванович (род. ок. 1848), брат Л. И. Голикова, слушатель Петровской академии, участник «Народной расправы», арестован 2 декабря 1869 г., 6 августа 1871 г. судом оправдан, жил в Николаеве под негласным надзором 151
ГОЛОВИН Ипполит Алексеевич (род. в 1850), из дворян, учился в Технологическом институте, с июня 1873 г. находился под негласным надзором полиции, арестован в Калужской губ. осенью 1874 г., освобожден после допроса в Москве, привлекался к дознанию по делу о пропаганде в империи, освобожден 19 февраля 1876 г., за недостатком улик, арестован 7 сентября 1879 г. по обвинению в укрывательстве Л. Ф. Мирского, 17 ноября оправдан, сослан в Чернигов под надзор полиции 328–330, 349
ГОЛОВИНА-ЮРГЕНСОН Надежда Александровна (1855 — после 1933), из чиновников, окончила Царскосельскую женскую гимназию, арестована 24 июля 1874 г. и привлечена к дознанию по делу о пропаганде в империи, с 20 февраля по 2 мая 1875 г. и с 5 октября 1876 г. по 9 октября 1877 г. содержалась в Трубецком бастионе Петропавловской крепости 297
ГОЛЬДЕНБЕРГ-ГЕТРОЙТМАН Лазарь Борисович (1847–1916), из купцов, студент Технологического института, арестован 16 марта 1869 г., выслан в Тамбовскую губ., оттуда в Петрозаводск, 22 июля 1872 г. бежал за границу 67
ГОЛЬЦ-МИЛЛЕР Иван Иванович (1842–1871), из чиновников, состоял в кружке П. Г. Заичневского, арестован 26 августа 1861 г., 17 июля 1863 г. выслан в Корсунь 88
ГОЛЬШТЕЙН Владимир Августович (1847–1917), из дворян, студент Московского университета, в 1869 г. участвовал в полунинской истории, исключен из университета и выслан в Гродненскую губ., арестован в феврале 1871 г. по нечаевскому делу, вскоре освобожден на поруки, в середине июля 1871 г. бежал за границу 161, 255, 256, 265
ГОРЧАКОВ Михаил Александрович (1839–1897), светлейший князь, русский посланник в Берне и Испании 260—264
ГРАНОВСКИЙ Тимофей Николаевич (1813–1855), историк, профессор Московского университета 30, 31, 73—76
ГРАЧЕВСКИЙ Михаил Федорович (1849–1887), из священников, учился в Саратовской духовной семинарии, вел пропаганду среди рабочих, осужден по «процессу 193-х», бежал из ссылки, член Исполнительного комитета «Народной воли», по «процессу 17-ти» приговорен к смертной казни, замененной бессрочной каторгой 344
ГРЕЙЛИХ Герман (1842–1925), один из вождей швейцарских социал-демократов 259—261
ГРИНЕВИЦКИЙ Игнатий Иоахимович (1856–1881), член «Народной воли», 1 марта 1891 г. убил Александра II 343
ГУБКИН Иван, рядовой Местной команды, в охране равелина с 15 сентября 1879 г. по 5 октября 1881 г., носил записки Нечаева народовольцам, скончался до суда 29 января 1882 г. 354
ГУРКО Иосиф Владимирович (1828–1901), генерал-адъютант, генерал-фельдмаршал, член Государственного совета, петербургский генерал-губернатор 331, 332, 346
ДАНИЛОВ Виктор Александрович (1851–1916), из дворян, учился в Земледельческом институте, затем в Цюрихском политехникуме, в феврале 1874 г. вернулся в Россию, 23 января 1878 г. по «процессу 193-х» приговорен к ссылке в Сибирь, скрылся и жил в Харькове, входил в народнические кружки, арестован 19 декабря 1879 г., судом оправдан, находился под надзором полиции, в 1881 г. при обыске была обнаружена нелегальная литература, 31 января 1882 г. приговорен к каторжным работам на четыре года, каторгу отбывал на Каре, по окончании срока отправлен в Якутскую обл., участвовал в протестах политических заключенных, неоднократно судим 255, 257, 308, 309, 344
ДЕБАГОРИЙ-МОКРИЕВИЧ Владимир Карпович (1848–1926), из дворян, окончил Каменец-Подольскую гимназию, учился в Киевском университете, в 1868–1869 гг. жил в Петербурге, в 1873–1875 гг. дважды побывал в Швейцарии, арестован в 1879 г. и приговорен к 15 годам каторги, бежал из тюрьмы, эмигрировал 157, 158
ДЕБОА Александр Алексеевич (1824–1880), генерал-лейтенант, председательствующий в Санкт-Петербургском военно-окружном суде 328, 330
ДЕГАЕВ Сергей Петрович (1857–1920), из дворян, член «Народной воли», завербован тайной полицией, выдал многих революционеров 345
ДЕЙЧ Лев Григорьевич (1855–1941), народник, марксист, меньшевик, участник чигиринской истории 313, 318
ДЕМЕНТЬЕВ Василий Арсентьевич (ок. 1825–1871), окончил Галич-ское духовное училище, учился в Духовной академии, сдал экзамены на домашнего учителя, писал очерки, рассказы, много лет работал у М. П. Погодина переписчиком 25, 26, 28, 29, 36—39
ДЕМЕНТЬЕВ Иван, рядовой Местной команды в охране равелина с марта 1880 г., носил записки Нечаева народовольцам 354
ДЕМЕНТЬЕВА Александра Дмитриевна (1850–1922), из мещан, окончила Мариинскую гимназию в Петербурге, участвовала в студенческих волнениях зимой 1868/69 г., приобрела типографию С. И. Серебренникова и отпечатала прокламацию Ткачева «К обществу», арестована 26 марта 1869 г., приговорена 15 июля 1871 г. к четырем месяцам тюремного заключения, в январе 1872 г. выслана в Новгород, в 1873 г. переехала в Великие Луки, где вышла замуж за П. Н. Ткачева, в апреле 1874 г., при условии отказа от возвращения в Россию, выехала за границу, куда ранее бежал Ткачев, в 1888 г. получила звание врача, практиковала во Франции, в 1904 г. вернулась в Россию, участвовала в Русско-японской войне, работала на холерной эпидемии 70, 118, 119, 191, 193, 226
ДЕНИКЕР Иосиф Егорович (1852–1920), из купцов, окончил Астраханскую гимназию и Технологический институт в Петербурге, в 1874 г. привлекался к делу «о пропаганде в империи» 214
ДЕПП Николай Филиппович (ок. 1835–1880), присяжный поверенный, товарищ обер-прокурора общего собрания Кассационного департамента Сената 190
ДОЛГОВ Николай Степанович (ок. 1844 — после 1906), из чиновников, окончил Самарскую гимназию, учился в Казанском и Петербургском университетах, Петровской академии, участвовал в «Народной расправе», арестован 6 декабря 1869 г., 6 августа 1871 г. приговорен к одному году тюремного заключения и строгому полицейскому надзору на пять лет, выслан в Мезень Архангельской губ., неоднократно арестовывался по подозрению в связи с революционерами 146, 149, 150, 183
ДОЛГОРУКОВ Василий Андреевич (1804–1868), князь, обер-камергер, генерал-адъютант, военный министр (1852–1856), главноуправляющий III отделением Собственной Его Императорского Величества канцелярией (1856–1866) 173
ДОЛГОРУКОВ Владимир Андреевич (1810–1891), князь, генерал-адъютант, московский генерал-губернатор (1865–1891) 275, 280—282
ДОЛГОРУКОВ Петр Владимирович (1816–1868), князь, публицист, писатель, историк, в 1859 г. эмигрировал 225
ДОЛГУШИН Александр Васильевич (1848–1885), из дворян, гимназию не окончил, вольнослушатель Технологического института, примыкал к «Народной расправе», организовал кружок «сибиряков-автономистов», арестован 4 января 1870 г. по нечаевскому делу, 27 августа 1871 г. оправдан, осенью 1872 г. в Петербурге образовал кружок долгушинпев, арестован 16 сентября 1873 г. и предан суду по обвинению в составлении, печатании и распространении преступных воззваний, приговорен к каторжным работам на десять лет в крепостях 160, 170, 297
ДОНДУКОВ-КОРСАКОВ Александр Михайлович (1820–1893), князь, генерал-адъютант, киевский, подольский и волынский генерал-губернатор, главноначальствующий гражданской частью на Кавказе и командующий войсками военного округа (1882–1890) 112, 121, 122
ДОСТОЕВСКАЯ Анна Григорьевна (1846–1918), урожденная Сниткина, жена Ф. М. Достоевского 198
ДОСТОЕВСКАЯ Любовь Федоровна (1869–1926), дочь Ф. М. Достоевского, с 1913 г. жила за границей 199
ДОСТОЕВСКАЯ Мария Федоровна (1800–1837), урожденная Нечаева, мать Ф. М. Достоевского 201
ДОСТОЕВСКИЙ Федор Михайлович (1821–1881), писатель 11, 12, 22, 59, 72–76, 83–85, 87, 133, 134, 198–207, 212, 217, 220, 274, 290, 296, 370
ДРЕНТЕЛЬН Александр Романович (1820–1888), генерал-адъютант, генерал от инфантерии, командующий войсками Киевского военного округа (1872–1877), начальник тыловых войск и военных сообщений действующей армии в Европе, шеф жандармов и главноуправляющий III отделением (1878–1880), член Государственного совета, одесский, затем киевский генерал-губернатор и командующий войсками округа 305, 316, 318–325, 332, 333, 345
ДУБЕЛЬТ Леонтий Васильевич (1792–1862), начальник Штаба Корпуса жандармов и управляющий III отделением (1839–1856) 78, 86
ДУБРОВИН Евгений Александрович (1856–1920), из мещан, окончил Саратовскую гимназию одновременно с С. Г. Ширяевым, учился в Медико-хирургической академии, примкнул к «Черному переделу», вел пропаганду среди рабочих, помог народовольцам установить связь с узниками Алексеевского равелина, на основании показаний Н. И. Рысакова 25 марта 1881 г. арестован, освобожден 27 мая 1881 г. и подвергнут надзору полиции, арестован 2 февраля 1882 г. по делу о беспорядках в Алексеевском равелине, приговорен 3 декабря 1882 г. к каторжным работам на заводах на четыре года, отправлен на Кару, в 1885 г. поселен в Баргузинском округе, в 1894 г. работал врачом на золотых приисках, жил в Чите, Тюмени, 30 мая 1897 г. разрешен въезд в Европейскую Россию, в октябре 1897 г. сдал экзамены в Казанском университете на звание врача, работал на эпидемии чумы в Самарканде и Бухаре, полное помилование даровано 10 мая 1900 г. 336, 337, 343, 348, 350, 353, 354
ЕЗЕРСКИЙ Степан Венедиктович (род. в 1846), из дворян, учился в Петербургском университете, участвовал в студенческих волнениях 1868–1869 гг., арестован в марте 1869 г., 22 марта 1869 г. выслан на родину в Могилевскую губ., арестован 12 октября 1869 г., освобожден из-под стражи в июне 1870 г., вновь выслан на родину 51, 53, 61, 62, 64, 118
ЕМЕЛЬЯНОВ, отставной обер-фейерверкер Обуховского порохового завода 333
ЕНИШЕРЛОВ Георгий Петрович (1850–1913), из дворян, учился в Технологическом институте, участник студенческих волнений 1868–1869 гг., 24 апреля 1869 г. добровольно явился к московскому обер-полицмейстеру и был арестован, выслан на родину в Харьковскую губ., привлекался по нечаевскому делу, судебное преследование прекращено за недостатком улик, в марте 1871 г. вновь выслан на родину, в 1872 г. самовольно приехал в столицу, выслан в Астраханскую губ., в августе 1873 г. бежал за границу, в ноябре добровольно вернулся, выслан в Уфу под надзор полиции 51, 54, 55, 60, 61, 71, 109, 111, 119, 133, 194
ЕНКУВАТОВ Дометий Александрович (род. в 1847), из дворян, студент Московского университета, участвовал в «Народной расправе», арестован 7 декабря 1869 г., 6 августа 1871 г. приговорен к восьми месяцам тюрьмы и пяти годам надзора полиции, выслан в Торопец, оттуда в Бахмут, в мае 1877 г. — в Одессу 151
ЕНКУВАТОВ Пимен Александрович (1848–1877), брат Д. А. Енкуватова, слушатель Петровской академии, участвовал в «Народной расправе», арестован 5 декабря 1869 г., 6 августа 1871 г. приговорен к одному году тюрьмы и полицейскому надзору на пять лет, выслан в Кунгур, оттуда в Бахмут, в 1874 г. — в Одессу, в начале 1876 г. бежал за границу, 22 апреля 1877 г. вернулся в Россию, добровольно явился в Одесское жандармское управление 150—152
ЕРМОЛОВ Петр Дмитриевич (1845 — после 1884), из дворян, учился в Пензенском дворянском институте, готовился в Москве к поступлению в университет, играл видную роль в ишутинской Организации, снабжал ее деньгами, укрывал в своей квартире участника польского восстания Я. Домбровского, арестован в апреле 1866 г., 24 сентября 1866 г. приговорен к смертной казни, замененной десятью годами каторги, отправлен в Александровский завод Нерчинской каторги, в мае 1872 г. выпущен на поселение в Якутской губ., в 1884 г. помилован 91, 92
ЖЕЛЕЗНОВ Николай Иванович (1816–1876), окончил Горный институт, затем Петербургский университет, слушал лекции в Гоненгеймском королевском институте, Сорбонне и Парижской консерватории искусств. Летом 1846 г. путешествовал по России с целью изучения сельского хозяйства, осенью 1847 г. назначен экстраординарным профессором Московского университета, в 1858–1861 гг. участвовал в комиссиях по освобождению крестьян. В 1861 г. назначен первым директором Петровской академии. Железное превратил ее в одно из лучших учебных заведений Европы, в 1869 г. переехал в Петербург 137, 147, 148
ЖЕЛЯБОВ Андрей Иванович (1850–1881), революционер-народник, один из создателей «Народной воли», организатор покушений на Александра II 339–342, 345, 352, 357
ЖЕМАНОВ Семен Яковлевич (1836–1903), из мещан, учился в Казанском университете, арестован 29 апреля 1863 г. по делу о Казанском заговоре, приговорен к 12 годам каторги, в ноябре 1865 г. бежал в Швейцарию 252
ЖУКОВСКИЙ Николай Иванович (1833–1895), из дворян, окончил Московский университет, служил в архиве Министерства иностранных дел, в 1862 г. привлекался по делу о «карманной типографии», бежал за границу, заочно приговорен к изгнанию из России навсегда, распространял герценовские издания, издавал журнал «Народное дело», в 1870 г. сотрудничал в нечаевском «Колоколе», участвовал в Альянсе, Интернационале 98, 234
ЗАВАЛИШИН Федор Иванович (1853 — после 1914), из дворян, окончил Петербургское морское училище, лейтенант флота, входил в боевую организацию «Народной воли», вел пропаганду в учебных командах флотских экипажей Кронштадта, арестован 10 августа 1883 г., 30 июля 1884 г. выслан в Семипалатинскую обл. 339
ЗАГИБАЛОВ Максимилиан Николаевич (1843–1920), из дворян, окончил Пензенскую гимназию, где учился с Н. А. Ишутиным и Д. В. Каракозовым, учился в Московском университете, участвовал в ишутинской Организации, арестован 8 апреля 1866 г., приговорен к четырем годам каторжных работ, выслан в Александровский завод Нерчинских рудников, в 1872 г. отправлен на поселение в Якутскую обл., 15 мая 1884 г. разрешено жительство в Казани, в 1893 г. вернулся в Сибирь, в 1905 г. приговорен к ссылке за участие в революционных выступлениях, бежал и после долгих хлопот получил разрешение поселиться в Томске 95
ЗАИЧНЕВСКИЙ Петр Григорьевич (1842–1896), из дворян, окончил Олонецкую гимназию, учился в Московском университете, с П. Э. Аргиропуло организовал кружок студентов, арестован 22 июля 1861 г., приговорен к одному году каторжных работ, отправлен в Иркутскую губ., в 1868 г. возвращен из Сибири в Пензенскую губ., в 1872 г. взят на поруки отцом с обязательством жить в имении матери в Орловской губ., в августе 1877 г. за вредное влияние на молодежь выслан в Олонецкую губ., лишь в 1885 г. вернулся в Орел, арестован в начале апреля 1889 г., выслан в Восточную Сибирь, в конце 1895 г. вернулся в Европейскую Россию 47, 87–90, 174
ЗАЙЦЕВ Варфоломей Александрович (1842–1882), из дворян, учился в Петербургском и Московском университетах, сотрудничал в журналах, арестован в апреле 1866 г., в августе освобожден, в марте 1869 г. легально выехал в Женеву, член Интернационала 234
ЗАСУЛИЧ А. И., см. Успенская А. И.
ЗАСУЛИЧ Вера Ивановна (1849–1919), из дворян, арестована 1 мая 1869 г., в марте 1871 г. выслана в Новгородскую губ. под надзор полиции, в мае переведена в Тверь, через год — в Солигалич, в декабре 1873 г. — в Харьков для окончания акушерских курсов, 24 января 1878 г. стреляла в петербургского обер-полицмейстера Ф. Ф. Трепова, 31 марта 1878 г. оправдана Петербургским окружным судом, эмигрировала 52, 68–70, 112, 120, 138, 140, 147
ЗАСУЛИЧ Е. И., см. Никифорова Е. И.
ЗАСУЛИЧ Феоктиста Михайловна, мать В. И., Е. И. и А. И. Засулич 52
ЗАХАРЬИН Григорий Антонович (1829–1897), врач-терапевт, профессор Московского университета 160
ЗЛАТОГОРСКАЯ Наталия Ивановна (род. в 1853), в замужестве Латышева, слушательница Женских медицинских курсов в Петербурге, арестована 29 марта 1879 г. как знакомая Е. А. Кестельман, 8 августа освобождена 324
ЗЛАТОПОЛЬСКИЙ Савелий Соломонович (1855–1885), участник южнорусских народнических кружков, член Исполнительного комитета «Народной воли», арестован в 1882 г. по «процессу 17-ти», приговорен к смертной казни, замененной бессрочной каторгой 337, 344
ЗОЛОТАРЕВ Александр Алексеевич, капитан, смотритель Алексеевского равелина (1876–1877) 306
ЗОТОВ Владимир Рафаилович (1821–1896), журналист, писатель, историк 319
ЗУБКОВ Алексей Федорович (род. в 1844), иваново-вознесенский купец 1-й гильдии, фабрикант, оказывал С. Г. Нечаеву материальную помощь 28, 70, 112, 115, 119, 161, 162
ИВАКИН Петр Федорович (род. ок. 1844), из чиновников, учился в Петровской академии, участвовал в «Народной расправе», арестован 5 декабря 1869 г., 6 августа 1871 г. приговорен к двум месяцам тюрьмы и пяти годам полицейского надзора, ссылку отбывал в Торопце 151
ИВАНОВ Алексей, обер-фейерверкер в запасе Охтинского порохового завода, содействовал в установлении связи между узниками равелина и народовольцами 355
ИВАНОВ Иван Иванович (ок. 1846–1869), с сентября 1864 г. по ноябрь 1865 г. учился в Петербургском университете и Петровской академии, участник «Народной расправы» 146, 149, 150, 152, 163–169, 174, 182, 183, 199, 201, 202, 204, 206, 212, 217, 219, 220, 227, 236, 238, 255, 256, 262, 263, 267–269, 272, 368
ИВАНОВ Игнатий Кириллович (1859–1886), из дворян, учился в Киевском университете, примыкал к кружкам «Черного передела», арестован 26 февраля 1880 г., осужден на бессрочную каторгу, отправлен на Кару, участвовал в убийстве П. Г. Успенского, увезен в Петербург, в Алексеевский равелин, оттуда 6 июля 1883 г. — в тюремную лечебницу в Казани для душевнобольных, в октябре 1884 г. — в Шлиссельбургскую крепость 216
ИГНАТЬЕВ Николай Павлович (1832–1908), граф, генерал-адъютант, министр внутренних дел (4 мая 1881 — 30 мая 1882) 346, 349, 359
ИЛЬИНСКИЙ Леонид Константинович (1878–1934), историк, библиограф 79
ИСАЕВ Григорий Прокофьевич (1857–1886), учился в Медико-хирургической академии, член Исполнительного комитета «Народной воли», участник покушения на Александра II, осужден по «процессу 20-ти» к смертной казни, замененной бессрочной каторгой 337, 343, 359
ИШУТИН Николай Андреевич (1840–1879), из купцов, двоюродный брат Д. В. Каракозова, учился в Пензенской гимназии, но не окончил, вольнослушатель Московского университета, находился в связи с «Землей и волей», образовал общество «Организация» и законспирированный кружок «Ад», арестован 8 апреля 1866 г., приговорен к смертной казни, замененной бессрочной каторгой, заключен в тюрьму Шлиссельбургской крепости, где у него обнаружились признаки психического расстройства, в 1868 г. отправлен в Алгачи, оттуда в Александровский завод Нерчинских рудников, в 1875 г. переведен на Кару, где помещен в тюремный лазарет 46, 47, 90–96, 186, 214, 215
ИШХАНОВ Джавад Петрович (род. ок. 1847), из чиновников, учился в Московском университете, исключен за участие в полунинской истории, вступил в «Народную расправу», арестован 11 января 1870 г., 6 августа 1871 г. приговорен к четырем месяцам тюрьмы и пяти годам полицейского надзора, выслан в Вятскую губ., в июле 1875 г. бежал, вскоре пойман, в октябре 1875 г. отправлен на родину в Шушу 161
КАЗЕМ-БЕК Александр Александрович (1844–1894), сенатор, чиновник Министерства юстиции, цензор стенографических отчетов «Процессов нечаевцев» и С. Г. Нечаева, участник переговоров с швейцарским правительством о выдаче Нечаева 189, 263, 271
КАПАЦИНСКИЙ Алексей Осипович (1846–1875), учитель в Иванове, знакомый С. Г. Нечаева, арестован в мае 1869 г. в связи с получением от Нечаева писем, 15 июня 1870 г. выслан в Змиев Харьковской губ. 35, 37, 40, 44, 47, 48, 64, 115–117, 121
КАРАВЕЛОВ Любен (1837–1879), болгарский писатель, публицист, революционер, издавал газеты «Свобода», «Независимость» 135, 152
КАРАКОЗОВ Дмитрий Владимирович (1840–1866), из дворян, окончил Пензенскую гимназию, учился в Казанском университете, исключен за участие в студенческих беспорядках, в 1863 г. принят обратно в университет, 8 октября 1864 г. перевелся в Московский университет, откуда отчислен за неуплату, вошел в ишутинские кружки, весной 1866 г. выехал в Петербург, по своей инициативе 4 апреля 1866 г. стрелял в Александра II 46, 50, 52, 92, 95, 96, 157, 173, 200
КАТЕНЕВ Василий Петрович (1830–1856), из купцов, был вольнослушателем Петербургского университета, арестован 23 апреля 1849 г. по делу Петрашевского, в августе отправлен в больницу для душевнобольных 9
КАТКОВ Михаил Никифорович (1818–1887), публицист, политический деятель, профессор Московского университета, редактор газеты «Московские ведомости», с 1856 г. издатель журнала «Русский вестник» 75, 191, 192, 201, 235
КЕЛЬСИЕВ Василий Иванович (1835–1872), окончил Петербургское коммерческое училище, учился в Петербургском университете, в 1858 г. уехал на Аляску, оттуда — в Лондон, сблизился с А. И. Герценом, 2 марта 1862 г. выехал в Россию, 15 июля возвратился в Лондон, на требование русского правительства вернуться ответил отказом, заочно приговорен к изгнанию из России навсегда, 20 мая 1867 г. добровольно сдался русским властям; находясь под арестом, написал покаянную исповедь и получил полное прощение 208
КЕССЛЕР Карл Федорович (1815–1881), профессор, ректор Петербургского университета 69
КЕСТЕЛЬМАН Елена Андреевна (род. в 1860), в замужестве Бек, киевская мещанка, с февраля 1878 г. невеста Л. Ф. Мирского, арестована 20 марта 1879 г., вскоре выпущена, вновь арестована 18 сентября, освобождена под залог в октябре, в 1887 г. выслана на три года под надзор полиции в Семипалатинскую обл. 220, 223, 224, 229, 330, 331
КИРЕЕВСКИЙ Иван Васильевич (1806–1856), философ-славянофил, публицист, литературный критик 75
КЛАРК Павел Иванович (1864–1941), служащий Забайкальской железной дороги, член партии социалистов-революционеров, впоследствии коммунист 364
КЛЕТОЧНИКОВ Николай Васильевич (1847–1883), в конце 1878 г. приехал в Петербург с целью совершить террористический акт, А. Д. Михайлов убедил его поступить на службу в III отделение в интересах революции, арестован 28 января 1881 г. по «процессу 20-ти», приговорен к смертной казни, замененной бессрочной каторгой 295, 323, 326, 337
КЛИМИН Иннокентий Федорович (род. в 1847), из купцов, окончил Московское коммерческое училище, учился в Петровской академии, состоял членом «Народной расправы», арестован 8 декабря 1869 г., 6 августа 1871 г. приговорен к одному году тюрьмы и полицейскому надзору на пять лет, выслан в Архангельскую губ., в 1872 г. переведен в Тюмень, в 1876 г. освобожден от полицейского надзора 150
КОВАЛЕВСКИЙ Владимир Иванович (1848–1934), из дворян, воспитывался в Полтавской военной гимназии и Константиновском военном училище, служил в Дербентском пехотном полку; выйдя в отставку, поступил в Земледельческий институт, участвовал в студенческих волнениях 1868–1869 гг., был близок с С. Г. Нечаевым, арестован 5 января
1870 г., 22 августа 1871 г. оправдан, в 1879 г. получил разрешение поступить на государственную службу, товарищ министра финансов (1900–1902), председатель Русского технического общества, председатель правления общества вагоностроительных заводов «Братья Бром-лей» 51, 160, 170, 184
КОВЕДЯЕВ Дмитрий Егорович (род. ок. 1850), из дворян, состоял членом «Народной расправы», арестован 12 января 1870 г., 6 августа
1871 г. приговорен к двум месяцам тюрьмы и пяти годам надзора полиции, от надзора освобожден в 1876 г. 152, 170
КОЗЛИНИНА Екатерина Ивановна, журналистка, переписчица деловых бумаг 91, 94
КОЗЬМИН Борис Павлович (1883–1958), историк 10, 23, 57, 63, 123, 220
КОЛАЧЕВСКИЙ Андрей Николаевич (1848–1888), из дворян, учился в Московском университете, арестован в 1866 г. за участие в Обществе взаимного вспомоществования, отдан под надзор полиции, в конце 1867 г. переехал в Петербург и поступил в университет, помощник присяжного поверенного, арестован 13 апреля 1869 г., вскоре отпущен, вновь арестован 5 декабря 1869 г., 25 августа 1871 г. признан судом невиновным 93, 118, 157, 158, 184
КОЛОДКИН, ефрейтор Местной команды, в охране равелина с 1 декабря 1879 г. по декабрь 1881 г., участвовал в беспорядках в Алексеевской равелине 353, 354
КОЛОКОЛОВ Александр Клементьевич, товарищ прокурора Московского окружного суда, прокурор Тульского окружного суда 268, 269
КОЛЫШКИН Федор Архипович (1820–1880), действительный статский советник, заведующий секретным отделением Канцелярии петербургского обер-полицмейстера 68, 184
КОМИССАРОВ Осип Иванович (1838–1892), из крестьян, помешал Д. В. Каракозову, стрелявшему в Александра II 95
КОРИНФСКИЙ Михаил Петрович (род. ок. 1844), из священников, воспитывался в Нижегородской духовной семинарии, учился в Медико-хирургической академии, участвовал в студенческих беспорядках 1868–1869 гг., скрылся, арестован 9 мая 1870 г., 15 июля 1871 г. судом оправдан, жил в Нижнем Новгороде и Рязани 51–53, 119, 193
КОРОБЬИН Порфирий Иванович (род. ок. 1842), помещик Зарайского уезда Рязанской губ., имел типографию, в которой напечатал прокламацию «Молодая Россия», учился в Петровской академии, состоял членом «Народной расправы», арестован 5 декабря 1869 г., 6 августа 1871 г. приговорен к двум месяцам тюрьмы и пяти годам полицейского надзора, выслан в село Козилино Зарайского уезда 89, 150
КОРОЛЕНКО Владимир Галактионович (1853–1921), писатель 141, 168, 216
КОСТЫРИН Алексей Антонович (ок. 1840–1901), учился в Петровской академии, входил в «Народную расправу», арестован 5 декабря 1869 г., 6 августа 1871 г. судом оправдан, жил в Москве под негласным надзором полиции 150
КОШКИН Петр Михайлович (род. ок. 1850), из дворян, учился в Медико-хирургической академии, входил в кружок Долгушина, арестован 4 января 1870 г., 27 августа 1871 г. приговорен к двум месяцам заключения в смирительном доме, выслан в Самару под надзор полиции 160, 195
КРАВЧИНСКИЙ Сергей Михайлович (1851–1895), из дворян, окончил Михайловское артиллерийское училище, учился в Петербургском лесном институте, деятельный участник общества «Земля и воля», 4 августа 1878 г. убил главноуправляющего III отделением, шефа жандармов Н. В. Мезенцева, бежал за границу 59, 320
КРАЕВСКИЙ Андрей Александрович (1810–1889), литератор, редактор, издатель 203, 291
КРАСОВ Василий Иванович (1810–1854), окончил Московский университет, поэт, переводчик, входил в кружок Н. В. Станкевича 75
КРОМВЕЛЬ Оливер (1599–1658), протектор Соединенной Республики Англии, Шотландии и Ирландии 131
КРОПОТКИН Петр Алексеевич (1842–1921), князь, революционер, философ, идеолог анархизма 296, 300
КУЗНЕЦОВ Алексей Кириллович (1845–1928), из купцов, окончил Московское коммерческое училище, учился в Петровской академии, состоял членом «Народной расправы», арестован 3 декабря 1869 г., 15 июля 1871 г. приговорен к десяти годам каторжных работ в крепостях и поселению в Сибири, отправлен на Кару, в 1878 г. поселился в Нерчинске, затем в Чите, в 1906 г. арестован, военным судом приговорен к десяти годам каторжных работ, которые отбывал в Акатуе 146, 149, 150, 152, 155, 158, 159, 161, 164–167, 169, 170, 183, 184, 186, 187, 192, 193, 209, 214, 364
КУЗНЕЦОВ Семен Кириллович (род. ок. 1847), брат А. К. Кузнецова, учился в Петровской академии, принял участие в «Народной расправе», арестован в декабре 1869 г. в Сызрани, 6 августа 1871 г. судом оправдан, жил в Херсоне 150
КУРОПАТКИН Алексей Николаевич (1848–1925), генерал от инфантерии, военный министр (1898–1904), главнокомандующий сухопутными войсками во время Русско-японской войны 300, 341
ЛАВРОВ Петр Лаврович (1823–1900), из дворян, полковник, окончил Михайловское артиллерийское училище, преподавал математику в Константиновском училище и Артиллерийской академии, принимал активное участие в литературной и общественной жизни, арестован 25 апреля 1866 г., 16 февраля 1867 г. отправлен в ссылку в Тотьму Вологодской губ., 15 февраля 1870 г. бежал во Францию, участвовал в Парижской коммуне, публиковался в народовольческих изданиях, редактировал газету «Вперед», один из идеологов народничества 14, 58, 59, 124, 138, 204, 244, 253, 256, 262, 264, 265, 335
ЛАНГЕ Валентин Карпович (род. ок. 1848), из чиновников, учился в Петровской академии, участвовал в «Народной расправе», арестован 7 декабря 1869 г., 6 августа 1871 г. приговорен к двум месяцам тюрьмы и пяти годам полицейского надзора, выслан в Воронежскую губ., в 1876 г. освобожден от надзора 150, 183
ЛАУ Эдуард Вильгельмович (род. ок. 1843), из чиновников, учился в Петербургском университете, арестован и исключен из университета, после освобождения поступил в Петровскую академию, участвовал в «Народной расправе», арестован 7 декабря 1869 г., 6 августа 1871 г. приговорен к четырем месяцам тюрьмы и пяти годам надзора полиции, отправлен в Симбирск, в 1877 г. освобожден под полицейский надзор 150, 151, 166, 183
ЛЕБЕДЕВ Константин Петрович (ок. 1837–1870), из купцов, арестован 22 января 1870 г. по нечаевскому делу, покончил с собой 183
ЛЕВАШЕВ Николай Васильевич (1828–1888), граф, генерал-адъютант, товарищ шефа жандармов и управляющий III отделением 190, 192, 193, 262, 263, 269, 273, 275, 300
ЛЕВИНСОН Григорий Григорьевич (род. ок. 1852), киевский мещанин, опекун Е. А. Кестельман, арестован 20 марта 1878 г., судом оправдан 320, 327, 328, 330
ЛЕНИН Владимир Ильич (1870–1924), вождь российских коммунистов, председатель Совета народных комиссаров 19, 21, 22, 59
ЛИЛИЕНАНКЕР (1747 — после 1826), первый смотритель Алексеевского равелина 288
ЛИПРАНДИ Иван Петрович (1790–1880), полковник, участник Отечественной войны, начальник контрразведки оккупационного корпуса во Франции, чиновник особых поручений Министерства внутренних дел, руководил слежкой за петрашевцами 8, 82, 85—87
ЛИХУТИН Владимир Никитич (ок. 1850–1871), из дворян, окончил Первую московскую военную гимназию, учился в Медико-хирургической академии, участник студенческих волнений 1868–1869 гг., арестован 9 декабря 1869 г. по нечаевскому делу, скончался до суда 157, 184
ЛИХУТИН Иван Никитич (род. ок. 1848), брат В. Н. Лихутина, окончил артиллерийское училище, служил в армии, выйдя в отставку, учился в Медико-хирургической академии, участвовал в студенческих волнениях 1868–1869 гг., арестован 9 декабря 1869 г., 22 августа 1871 г. приговорен к заключению в смирительном доме на один год и четыре месяца, по отбытии наказания выслан в Нижегородскую губ. 156–158, 184
ЛОПАТИН Всеволод Александрович (1848–1917), из дворян, учился в Московском университете, участвовал в кружке Ф. В. Волховского, арестован 16 апреля 1869 г., в начале мая выслан в Ставропольскую губ. под надзор полиции, 5 ноября 1871 г. освобожден от надзора полиции, в 1874 г. арестован в Москве при попытке освободить Волховского, 23 января 1878 г. судом учтено предварительное заключение, выслан на поселение в Вятскую губ. 138, 140
ЛОПАТИН Герман Александрович (1845–1918), брат В. А. Лопатина, революционер, многократно арестовывался, 18 лет провел в одиночной камере Шлиссельбургской крепости 138, 204, 224, 238–243, 347
ЛОРИС-МЕЛИКОВ Михаил Тариелович (1825–1888), граф, генерал-адъютант, начальник Верховной распорядительной комиссии и министр внутренних дел (1880–1881) 216
ЛУНИН Виктор Игнатьевич (1843–1913), из дворян, учился в Петербургском университете, уволен за участие в студенческих волнениях, переехал в Москву и поступил в Петровскую академию, осенью 1869 г. вернулся в Петербург, арестован 28 декабря 1869 г., 28 августа 1871 г. судом оправдан, осенью 1871 г. выехал в Крым, проживал в Харькове, Владикавказе, после октября 1905 г. выехал за границу, в 1906 г. избран в 1-ю Государственную Думу 146, 148, 149, 160, 184
ЛЫТКИН Дмитрий Константинович (род. ок. 1846), из чиновников, учился в Московском университете, исключен за участие в полунинской истории, выслан во Владимирскую губ., арестован в феврале 1870 г., по недостатку улик дело прекращено, выслан во Владимирскую губ., в 1876 г. получил разрешение поступить в Медико-хирургическую академию 161
ЛЮБАВИН Николай Николаевич (1845–1918), окончил Гейдельбергский университет, химик, профессор Московского университета 222–224, 228, 238-240
ЛЮБИМОВ Александр Семенович (1832–1883), тайный советник, сенатор, крупный деятель судебной реформы, старший председатель Петербургской судебной палаты, председательствовал на «Процессе нечаевцев» 191
ЛЮБИМОВ Федор Гаврилович, учился в Медико-хирургической академии, участвовал в студенческих волнениях 1868–1869 гг., выслан в Новгород, арестован в 1888 г. за участие в Красном Кресте «Народной воли», подчинен полицейскому надзору на два года 66, 68
ЛЮДОВИК XV (1710–1774), король Франции 279
МАВРИЦКИЙ Василий Абрамович (род. ок. 1847), из священников, окончил Владимирскую духовную семинарию, учился в Киевской духовной академии, в 1869 г. привлечен по нечаевскому делу, за недостатком улик следствие прекращено 212
МАЙДЕЛЬ Егор Иванович (1817–1881), барон, генерал от инфантерии, генерал-адъютант, комендант Петропавловской крепости (1876–1881) 304, 306, 309, 310, 332, 334, 345, 357
МАЙКОВ Аполлон Николаевич (1821–1897), поэт 84, 198, 200–201, 376
МАКИАВЕЛЛИ Николо (1469–1527), итальянский писатель, проповедовал политику, не стесненную рамками морали 57, 245
МАЛИНОВСКАЯ Александра Николаевна (ок. 1849–1891), из дворян, окончила Мариинскую гимназию в Петербурге, арестована в 1874 г., 19 февраля 1876 г. освобождена за недостатком улик, вновь арестована 12 октября 1878 г., 14 мая 1880 г. приговорена к ссылке, отправлена в казанскую тюремную больницу, 2 августа 1886 г. отдана на попечение сестры 325
МАЛЬШИНСКИЙ Аркадий Павлович (1841–1899), агент Департамента полиции, журналист 103
МАНАСЕИН Николай Арсентьевич (1835–1895), прокурор Московской судебной палаты, министр юстиции (1885–1894) 269
МАРКОВИЧ Светозар (1846–1875), сербский литературный критик, публицист, общественный деятель 120
МАРКС Карл (1818–1883), философ, экономист 56, 82, 100, 222–224, 240, 365
МГЕБРОВ Леонид (род. ок. 1846), учился в Медико-хирургической академии, участник студенческих волнений 1868–1869 гг., арестован 14 марта 1869 г., 29 марта выслан в Тифлис 138, 139
МЕЗЕНЦЕВ Николай Владимирович (1827–1878), генерал-адъютант, начальник Штаба Корпуса жандармов (1864–1876), шеф жандармов и главноуправляющий III отделением (1876–1878), убит С. М. Кравчинским 139, 176, 320
МЕЛЛЕР-ЗАКОМЕЛЬСКИЙ Александр Николаевич (1844 — после 1926), барон, генерал от инфантерии по гвардейской пехоте, член Государственного совета в 1905–1909 гг. Прибалтийский генерал-губернатор 362
МЕЧНИКОВ Лев Ильич (1838–1888), учился в Училище правоведения и Харьковском университете, служил переводчиком в дипломатической миссии на Востоке, уволен за неповиновение начальству, жил в Италии, в Швейцарии 92, 97, 99, 127, 237
МИЛЮТИН Дмитрий Алексеевич (1816–1912), фельдмаршал, генерал-адъютант, военный министр (1861–1881) 51—53
МИНИХ, фон Е. Н., сестра А. Н. Можаровой 87
МИРСКИЙ Леон Филиппович (1859–1920), родился в селе Рубанов-Мост Уманского уезда Киевской губ. в семье обнищавшего польского дворянина, закончил гимназию, учился в Медико-хирургической академии в Петербурге. Революционер-террорист, провокатор. Покушался на жизнь шефа жандармов Дрентельна, за что был приговорен к смертной казни. Помилован и 28 ноября 1879 г. поступил в камеру № 1 Секретного дома Алексеевского равелина Петропавловской крепости. Сотрудничал с охранкой, писал рапорты на заключенных народовольцев. В 1883 г. отправлен на каторгу в Восточную Сибирь. Снова приговорен к смертной казни, замененной каторжными работами в Акатуе. Умер в Верхнеудинске в 1919 или 1920 г. 291, 311–334, 344–341, 345–347, 350, 352, 357-367
МИХАЙЛОВ Александр Дмитриевич (1855–1884), один из организаторов «Земли и воли», член Исполнительного комитета «Народной воли», участвовал в подготовке покушения на Александра II, приговорен по «процессу 20-ти» к смертной казни, замененной бессрочной каторгой 318–320, 323, 324, 326, 333, 359, 367
МОЖАРОВА Александра Николаевна (1847–1920), урожденная фон Миних, вела революционную пропаганду среди крестьян 89
МОРОЗОВ Николай Александрович (1854–1946), член «Земли и воли» и Исполнительного комитета «Народной воли», приговорен по «процессу 20-ти» к бессрочной каторге, до 1905 г. содержался в Шлиссельбургской крепости 319, 320, 323, 326, 333, 359
МОТКОВ Осип Антонович (1846–1867), учился в Вятской и Орловской гимназиях, не окончил, принадлежал к кружку Н. А. Ишутина, арестован в середине апреля 1866 г., приговорен к четырем годам работ в крепостях 95
МРОЧКОВСКИЙ Валериан (1840–1889), польский эмигрант, участник Варшавского восстания 1863 г., активный деятель бакунинского Альянса 245, 247, 248
МУРАВЬЕВ Михаил Николаевич (1796–1866), граф, генерал от инфантерии, председатель Следственной комиссии по делу Д. В. Каракозова 173
МУРАВЬЕВ-АМУРСКИЙ Николай Николаевич (1809–1881), граф, генерал-адъютант, генерал-губернатор Восточной Сибири (1847–1861) 81
МУСАТОВСКИЙ Павел Акимович (1836–1878), из дворян, окончил Московский университет, арестован в апреле 1866 г. по каракозовско-му делу, выслан из Москвы и подчинен негласному надзору полиции 92
МУТАФОВ Степан Лазаревич (ок. 1845–1872), учился в Московском университете, отчислен из университета за участие в полунинской истории, вступил в «Народную расправу», арестован 11 января 1870 г., 6 августа 1871 г. приговорен к двум месяцам тюрьмы и пяти годам надзора полиции 161
МУХАРТОВ, студент Петровской академии, арестован 19 декабря 1869 г. в связи с убийством И. И. Иванова, следствие прекращено за отсутствием улик, выступал свидетелем на процессе С. Г. Нечаева 272
НАДЕЖДИН Николай Иванович (1804–1856), литературный критик, редактор и издатель журнала «Телескоп» 75
НАДУТКИН Василий Матвеевич (ок. 1847 — после 1900), слушатель Медико-хирургической академии, исключен в конце октября 1868 г., арестован 13 марта 1869 г., выслан в Смоленск под надзор полиции 51
НАТАНСОН Марк Андреевич (1849–1919), из купцов, учился в Медико-хирургической академии, арестован 16 марта 1869 г., вскоре выпущен, как противовес нечаевскому радикализму организовал кружок чайковцев, 21 января 1870 г. вновь арестован, 4 февраля отпущен, в 1871 г. выслан из Петербурга за распространение запрещенной литературы, в 1876 г. организовал северную группу народников, превратившуюся в костяк «Земли и воли», в 1877 г. арестован и выслан в Сибирь, вернулся в Петербург в 1891 г., в 1893 г. организовал партию «Народное право», в 1894 г. арестован и выслан в Сибирь, в 1904 г. приехал в Швейцарию, в 1905 г. вступил в партию социалистов-революционеров, вошел в Центральный комитет этой партии 62, 63, 176, 177
НАТАНСОН Ольга Александровна (1850–1881), урожденная Шлейс-нер, из дворян, жена М. А. Натансона, входила в кружок чайковцев, член общества «Земля и воля», арестована в Петербурге 13 октября 1878 г. и на другой день заключена в Петропавловскую крепость, из которой 4 мая 1880 г. переведена в Дом предварительного заключения, судом приговорена к ссылке 297
НЕГРЕСКУЛ Мария Петровна (1851–1919), дочь П. Л. Лаврова жена М. Ф. Негрескула 124, 157
НЕГРЕСКУЛ Михаил Федорович (1849–1871), из дворян, участвовал в студенческих волнениях 1868–1869 гг., арестован 4 декабря 1869 г скончался до суда 124, 125, 157, 158, 184, 185, 222, 238
НЕФЕДОВ Филипп Диомидович (1838–1902), из купцов, этнограф, публицист, писатель-народник, секретарь Общества любителей русской словесности 26, 29–36, 40, 115, 342
НЕЧАЕВ Владимир Геннадиевич (ок. 1863 — после 1909), сводный брат С. Г. Нечаева 31, 160
НЕЧАЕВ Геннадий Павлович (род. в 1822), отец С. Г. Нечаева 24 27 33, 36, 45, 162
НЕЧАЕВ Федор Тимофеевич (1769–1832), дед Ф. М. Достоевского по материнской линии, купец 3-й гильдии 201
НЕЧАЕВА Анна Афанасьевна, вторая жена Г. П. Нечаева 26, 28, 33, 42
НЕЧАЕВА Анна Геннадиевна (род. в 1851), младшая сестра С. Г. Нечаева, арестована 13 апреля 1869 г., 6 февраля 1870 г. освобождена, в 1873 г. переехала в Туркестан, вышла замуж за поручика Сомова 25 26, 33, 68, 69, 118, 161
НЕЧАЕВА М. Ф., см. Достоевская М. Ф.
НЕЧАЕВА Прасковья Петровна (1826–1855), урожденная Литвинова, мать С. Г. Нечаева 24
НЕЧАЕВА Фатина Геннадиевна (1849 — после 1925), в замужестве Постникова, старшая из сестер С. Г. Нечаева 25, 33, 157, 162
НИКИТЕНКО Александр Васильевич (1805–1877), крепостной графов Шереметевых, вольную получил в 1822 г., окончил Петербургский университет, доктор философии, академик 191
НИКИФОРАКИ Антон Николаевич (1832–1890), полковник, адъютант шефа жандармов, участвовал в слежке за С. Г. Нечаевым во время его второй эмиграции, генерал-майор, начальник Штаба Отдельного корпуса жандармов (1871–1882) 225, 226, 347
НИКИФОРОВ Лев Павлович (1848–1917), из дворян, учился в Петербургском университете, участвовал в студенческих волнениях 1868–1869 гг., арестован в апреле 1869 г., в июле 1870 г. выслан в Тверь, в 1873 г. переведен в Харьковскую губ., в 1895 г. получил разрешение переселиться в Москву 57, 69, 138, 139
НИКИФОРОВА Екатерина Ивановна (ок. 1850 — после 1917), сестра В. И. Засулич, жена Л. П. Никифорова, работала в швейной артели, организованной ишутинцами, выслана в Гжатск Смоленской губ., в 1868 г. возвратилась в Москву, арестована 29 апреля 1869 г., освобождена на поруки в июле 1870 г. 52
НИКОЛАДЗЕ Ника (Николай) Яковлевич (1843–1928), публицист, доктор права Цюрихского университета, в 1864 г. покинул Россию, в 1873 г. возвратился в Россию, в 1880 г. выслан из Тифлиса, в 1881 г. переселился в Петербург 92
НИКОЛАЕВ Николай Николаевич (1846 — не установлен), московский мещанин, незаконнорожденный, служил в одной из фабричных контор села Иваново, письмоводитель в Шуе, надзиратель в Титовском арестантском доме в Москве, после бегства Нечаева в Швейцарию жил в Туле по паспорту А. В. Беляева, 20 октября 1869 г. возвратился в Москву, участвовал в «Народной расправе», арестован 31 декабря 1869 г., 15 июля 1871 г. приговорен к каторжным работам на семь лет и четыре месяца, каторгу отбывал на Каре, в 1877 г. отправлен на поселение в Верхоянск Якутской обл., в 1880-х гг. переехал в Амурскую обл. 70, 120, 152–154, 164–167, 169–171, 181, 184, 186, 192, 193, 210–212, 269
НИКОЛАЕВ Петр Федорович (1844–1910), социолог, публицист, переводчик, деятельный член ишутинской «Организации», арестован 2 мая 1866 г., 24 сентября приговорен к 12 годам каторжных работ, отправлен на Александровский завод Нерчинских рудников 125, 384
НИКОЛАЙ I (1795–1855), русский император с 1825 г. 75, 78–80, 290
НИКОЛИЧ-СЕРБОГРАДСКИЙ, майор, адъютант шефа жандармов 259-261
ОГАРЕВ Николай Платонович (1813–1877), деятель российского освободительного движения, поэт 72, 88, 92, 96—102, 123–135, 140, 149, 218–221, 224–238, 241–245, 247, 248, 250, 251, 253–255, 266
ОЗЕРОВ Владимир Михайлович (1838–1915), ротмистр Волынского уланского полка, в 1863 г. вышел в отставку, причастен к ишутинскому кружку, бежал за границу; член Женевской секции Интернационала 97, 241, 248, 262
ОКЕЛЬ Федор Петрович (1814–1879), врач Петропавловской крепости 96, 298
ОКУНЦОВ Иван Кузьмич (1874–1939), коллежский советник, директор Верхнеудинского реального училища 363, 364
ОЛЬХИН Александр Александрович (1839–1897), из дворян, окончил Александровский лицей, участковый мировой судья в Петербурге, выступал защитником на политических процессах, в том числе нечаевцев, близок к народникам, оказывал услуги революционерам, арестован 8 апреля 1879 г., 31 июля 1879 г. выслан в Вологодскую губ., по процессу Л. Ф. Мирского оправдан, 20 ноября 1879 г. отправлен в ссылку, в 1887 г. после снятия гласного надзора полиции переехал в Нижний Новгород, жил в Пскове, Петербурге 190, 328, 330, 331
ОНОПРИЕНКО Виктор Иванович (1834–1905), полковник, начальник Петербургского губернского жандармского управления, проводил дознание по делу о беспорядках в Алексеевском равелине, впоследствии генерал-майор 347, 348, 350
ОРЕХОВ Алексей, рядовой Местной команды, в охране равелина с 10 декабря 1878 г. по 24 марта 1881 г., носил записки Нечаева к народовольцам 336, 354
ОРЖЕВСКИЙ Петр Васильевич (1839–1897), генерал-лейтенант, товарищ министра внутренних дел и командир Отдельного корпуса жандармов, генерал-губернатор Виленской, Ковенской и Гродненской губерний 359
ОРЛОВ Алексей Федорович (1786–1861), князь, шеф жандармов и главноуправляющий III отделением (1844–1856), председатель Государственного совета и Комитета министров 78, 291
ОРЛОВ Владимир Федорович (1843–1899), из священников, окончил Владимирскую духовную семинарию, учительствовал в селе Иваново, в конце 1868 г. переехал в Петербург, участвовал в студенческих волнениях 1868–1869 гг., арестован 27 июня 1869 г., 15 июля 1871 г. судом оправдан, выслан во Владимирскую губ., в 1875 г. привлекался по делу о пропаганде в империи, в апреле 1881 г. арестован в связи с цареубийством 1 марта, но вскоре отпущен 45, 52, 54, 55, 69–71, 112, 118, 119, 193, 342
ПАВЕЛ I (1754–1801), русский император с 1796 г. 284, 285
ПАВЛОВ Александр Спиридонович, полковник, начальник Киевского губернского жандармского управления 121, 122
ПАВЛОВ Михаил Григорьевич (1793–1840), с 1820 г. профессор Московского университета 75
ПАЛЕН Константин Иванович (1833–1912), граф, министр юстиции (1867–1878) 188, 189, 196, 197, 267, 268, 271, 312, 314, 316
ПАНИЧКОВ Хаджи Димитр (1810–1904), болгарский революционер 135
ПАНТЕЛЕЕВ Логин Федорович (1840–1919), один из первых народников, член первого общества «Земля и воля», публицист, мемуарист 89
ПЕРЕВЕРЗЕВ Павел Николаевич, присяжный поверенный, министр юстиции Временного правительства 213, 363
ПЕРОВСКАЯ Софья Львовна (1853–1881), член Исполнительного комитета «Народной воли», участница убийства Александра II 339, 345, 352, 357
ПЕТЕРСОН Николай Павлович (1844–1919), из чиновников, окончил Пензенский дворянский институт, в 1862 г. учительствовал в Ясной Поляне у Л. Н. Толстого, входил в ишутинскую «Организацию», арестован 22 мая 1866 г., 24 сентября приговорен к шестимесячному заключению, по отбытии наказания служил в учреждениях юстиции 91
ПЕТР I (1672–1725), русский император, единолично царствовал с 1689 г. 32, 53, ПО, 131
ПЕТР III (1728–1762), русский император с 1761 г. 15, 229
ПЕТРАШЕВСКИЙ Михаил Васильевич (1821–1866), утопист-социалист, организатор и руководитель кружка радикальной молодежи 8, 9, 82–87, 200, 205, 206
ПЕТРОВ Григорий, рядовой Местной команды, в охране равелина с марта 1879 г., носил записки Нечаева народовольцам 274, 337
ПИРАМИДОВ Николай Михайлович (1847 — после 1900), из дворян, исключен из Московского университета за участие в полунинской истории, вошел в «Народную расправу», 6 августа 1871 г. приговорен к двум месяцам тюрьмы и пяти годам надзора полиции, выслан в Мелитополь, в 1879 г. получил звание лекаря, служил земским врачом 161
ПИСАРЕВ Дмитрий Иванович (1840–1868), литературный критик 8
ПЛЕВЕ Вячеслав Константинович (1846–1904), директор Департамента полиции (1881–1884), товарищ министра внутренних дел (1885–1894), государственный секретарь (1894–1904), министр внутренних дел (1902–1904) 300, 317, 321–324, 341, 343, 350, 359, 368, 369
ПЛЕХАНОВ Георгий Валентинович (1856–1918), деятель русского и международного революционного движения, теоретик народничества, один из первых марксистов в России 323
ПОБЕДОНОСЦЕВ Константин Петрович (1827–1907), обер-прокурор Синода (1880–1905) 72
ПОГОДИН Михаил Петрович (1800–1875), историк, писатель, журналист, издатель, профессор Московского университета, академик, видный деятель правого крыла славянофильства 36—40
ПОКРОВСКИЙ Александр Палладиевич (род. в 1837), из священников, учился в Московском университете, арестован в 1862 г. по делу о распространении «возмутительных воззваний», 14 октября 1862 г. приговорен к заключению на три месяца в смирительном доме, выслан в Архангельскую губ., в 1869 г. освобожден от надзора полиции и выехал в Москву 172
ПОКРОВСКИЙ Михаил Николаевич (1868–1932), историк-марксист, академик 21
ПОЛЕВОЙ Николай Александрович (1796–1846), писатель, историк, журналист, дед С. П. Дегаева 75
ПОЛОВЦО(Е)В Валериан Александрович (1834–1907), обвинитель на процессе Нечаева, прокурор С.-Петербургской судебной палаты, сенатор 275, 276
ПОЛУНИН Алексей Иванович (1820–1888), профессор, декан медицинского факультета Московского университета (1863–1878), неоднократно избирался ректором 161
ПОЛЬ Иван Петрович (1827–1888), московский полицмейстер 208
ПОЛЯКОВ Николай Петрович (1843–1905), издатель, первый в России издал «Капитал» Маркса 222
ПОНОМАРЕВ Иван Михайлович (1848–1905), окончил Цюрихский университет, химик, профессор Харьковского технологического института 254
ПОНЯТОВСКИЙ Иван Васильевич, учился в Московском университете, участник кружка П. Г. Заичневского, арестован в 1861 г. по делу о распространении запрещенных сочинений, судом «освобожден от взыскания», вторично арестован в 1862 г. по подозрению в революционной пропаганде, выслан в Новгородскую губ. 172
ПОПОВ Владимир Константинович (род. ок. 1846), из чиновников, учился в Петровской академии, участвовал в «Народной расправе», арестован 5 декабря 1869 г., 22 августа 1871 г. судом оправдан, в 1872 г. самовольно уехал в Америку, окончил Нью-Йоркский университет, занимался врачебной практикой во Флориде, в 1880 г. возвратился в Россию 150, 178, 183
ПОПОВ Михаил Родионович (1851–1909), член «Земли и воли», «Черного передела», в 1880 г. приговорен к бессрочной каторге, которую отбывал на Каре и в Шлиссельбургской крепости 323
ПОТАПОВ Александр Львович (1818–1886), генерал-адъютант, начальник Штаба Корпуса жандармов (1861–1864), шеф жандармов и главноуправляющий III отделением (1874–1876) 292, 300—302
ПРЕСНЯКОВ Андрей Корнеевич (1856–1880), агент Исполнительного комитета «Народной воли», по «процессу 16-ти» приговорен к смертной казни 331
ПРИБЫЛЕВ Александр Васильевич (1857–1936), народоволец, по «процессу 17-ти» приговорен к бессрочной каторге, которую отбывал на Каре, в 1900-е годы вступил в партию социалистов-революционеров 361, 362
ПРИБЫЛЕВА-КОРБА Анна Павловна (1849–1939), урожденная Мейнгард, член Исполнительного комитета «Народной воли», осуждена по «процессу 17-ти» на бессрочную каторгу, которую отбывала на Каре 339-341
ПРОКОПЕНКО Павел Васильевич (род. ок. 1845), из купцов, окончил Таганрогское уездное училище, служил приказчиком в книжном магазине А. А. Черкесова в Москве, привлекался по нечаевскому делу, в мае 1871 г. за недостатком улик следствие прекращено, по освобождении 10 мая 1871 г. скрылся 139, 160, 161, 186
ПРУДОН Пьер Жозеф (1809–1865), французский социалист, один из основателей анархизма 44, 57
ПРУССАК Игнатий Михайлович (1816–1873), майор Корпуса жандармов, смотритель Алексеевского равелина (1870–1873) 293, 294, 297, 298
ПРЫЖОВ Гаврил Захарович, отец И. Г. Прыжова, из крестьян, писарь Мариинской больницы в Москве, получил потомственное дворянство 207
ПРЫЖОВ Иван Гаврилович (1827–1885), из дворян, писатель, этнограф, учился в Московском университете, экзекутор Московской гражданской палаты, входил в «Народную расправу», арестован 3 декабря 1869 г., 15 июля 1871 г. приговорен к 12 годам каторги и на поселение в Сибири навсегда, каторгу отбывал в Виленской тюрьме и на Петровском железоделательном заводе, вышел на поселение в 1881 г. 152, 153, 156, 161, 162, 164–167, 169, 185, 186, 207–212, 217
ПРЫЖОВ Михаил Гаврилович (род. в 1834), брат И. Г. Прыжова, архитектор 210
ПУГАЧЕВ Емельян Иванович (1742–1775), вождь крестьянского восстания 15, 217, 229
ПУЦИКОВИЧ Ф. Ф., учитель Спасского приходского училища в Петербурге, окончил Литовскую семинарию, студент Петербургского университета 48, 49, 64
РАЗИН Степан Тимофеевич, вождь крестьянского восстания второй половины XVII в. 278
РАЛЛИ-АРБОРЕ Земфирий Константинович (1849–1933), из дворян, учился в Медико-хирургической академии, участвовал в студенческих волнениях 1868–1869 гг., в марте 1869 г. выслан на родину в Бессарабию, арестован в апреле, 8 марта 1870 г. освобожден на поруки, в августе 1871 г. бежал за границу 51–55, 70, 98, 109, 138, 139, 256, 257, 259, 262, 265
РАЧКОВСКИЙ Петр Иванович (1853–1911), деятель российского политического сыска, заведующий Заграничной агентурой (1885–1902), вице-директор Департамента полиции (1905–1906) 326
РЕННЕНКАМПФ Павел Карлович, фон (1854–1919), генерал-адъютант, генерал от кавалерии, в 1905 г. командовал карательной экспедицией в Сибири 213, 362, 364
РИМСКИЙ-КОРСАКОВ Николай Николаевич (род. ок. 1843), из дворян, учился в Петровской академии, участвовал в «Народной расправе», арестован 13 декабря 1869 г., 6 августа 1871 г. судом оправдан, выехал в Курскую губ., где проживал под негласным надзором полиции
РИПМАН Федор Федорович (род. ок. 1842), из дворян, учился в Петровской академии, участвовал в «Народной расправе», арестован 28 декабря 1869 г., 6 августа 1871 г. приговорен к одному году тюрьмы и надзору полиции на пять лет, по отбытии наказания выслан в Саратовскую губ., в 1876 г. освобожден от надзора полиции 146, 149, 154, 155, 161, 186
РИХТЕР Дмитрий Иванович (1848–1919), принимал участие в работе народнических кружков 258, 261
РОМАН Карл-Арвид Иоганович (1829–1872), из дворян, окончил Одесский ришельевский лицей, служил в Олонецком полку, участвовал в Крымской кампании, 28 мая 1862 г. перешел на службу в III отделение, занимался поиском С. Г. Нечаева во время его второй эмиграции 225–227, 253, 254
РЫЛЕЕВ Кондратий Федорович (1895–1926), поэт, декабрист 75
РЫСАКОВ Николай Иванович (1861–1881), народоволец, 1 марта 1881 г. бросил бомбу в Александра II, после ареста выдал всех, о ком знал хоть что-нибудь 343
РЯЗАНЦЕВ Владимир Владимирович (род. в 1845), из купцов, окончил Московское коммерческое училише, учился в Петровской академии, участник «Народной расправы», арестован 7 декабря 1869 г., 6 августа 1871 г. приговорен к двум месяцам тюрьмы и пяти годам надзора полиции, выслан в Вятку 150
РЯЗАНЦЕВ Иван Владимирович (род. в 1847), двоюродный брат В. В. Рязанцева, окончил Московское коммерческое училище, учился в Петровской академии, участник «Народной расправы», арестован 7 декабря 1869 г., 6 августа 1871 г. приговорен к двум месяцам тюрьмы и пяти годам надзора полиции, выслан в Вятку 150
САЖИН Михаил Петрович (1845–1934), из мешан, учился в Технологическом институте, в 1866 г. скрылся из Петербурга, разыскивался полицией по каракозовскому делу, в 1867 г. восстановился в институте, годом позже выслан из Петербурга в Вологодскую губ., 17 июня 1869 г. бежал в Америку, работал на заводах, в мае 1870 г. по вызову С. Г. Нечаева прибыл в Швейцарию, в конце лета 1870 г. переехал из Женевы в Цюрих, принимал участие в Парижской коммуне и Лионском восстании, 24 апреля 1876 г. арестован при переходе русской границы, 28 января 1878 г. приговорен к каторжным работам на пять лет, в 1900 г. переехал в Европейскую Россию, участвовал в революции 1905 г., с 1906 г. жил в Петербурге ПО, 237, 238, 241, 254–257, 264, 265
САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН Михаил Евграфович (1826–1889), писатель 8, 221
САТЕРЛЕНД Генри, сын подруги Н. П. Огарева, М. Сатерленд 247
САТЕРЛЕНД Мэри, англичанка, подруга Н. П. Огарева 132
СВЕЧИН Григорий Агеевич (род. ок. 1846), учился в Петровской академии, участвовал в «Народной расправе», арестован 7 декабря 1869 г., 6 августа 1871 г. приговорен к двум месяцам тюрьмы и пяти годам надзора полиции, отправлен в Екатеринбург, в 1876 г. освобожден от надзора 151, 180, 183
СЕМЕНСКАЯ Александра Константиновна (род. в 1844), урожденная Беляева, из дворян, оказывала услуги революционерам, скрывала А. К. Преснякова, зимой 1878 г. на ее квартире жили А. Д. Михайлов и Л. Ф. Мирский, в ее имении Тугановичи Валдайского уезда Новгородской губ. скрывался Мирский, арестована в июле 1879 г., 18 ноября 1879 г. оправдана, 21 ноября выехала в Тугановичи 323, 326, 328, 330, 331, 345
СЕМЕНСКИЙ Вячеслав Андреевич (1840 — нач. 1880-х), из дворян, муж А. К. Семенской, судебный пристав Петербургского окружного суда, оказывал услуги революционерам, арестован 26 марта 1879 г., заболел «расстройством нервной системы», 12 октября освобожден из-под стражи под поручительство и денежный залог, отправлен в Тугановичи 322, 323, 326, 327, 331, 345
СЕМЯКИН Георгий Константинович, руководитель политического сыска, вице-директор Департамента полиции 262
СЕРЕБРЕННИКОВ Владимир Иванович (род. ок. 1850), из дворян, учился в Медико-хирургической академии, участвовал в студенческих волнениях 1868–1869 гг., арестован 16 мая 1869 г., 28 марта 1870 г. выслан в Ригу, в ноябре 1870 г. бежал за границу, в мае 1873 г. задержан в Сувалкской губ. и доставлен в Петербург 234, 238, 240, 241, 244, 246–249, 256
СЕРЕБРЕННИКОВ Семен Иванович, в 1869 г. эмигрировал из России, жил в Женеве, принадлежал к кругу М. А. Бакунина, в 1874 г. задержан в Пруссии и выдан русскому правительству 226, 234, 236–238, 241, 253
СЕРЕБРЯКОВ Эспер Александрович (ок. 1850–1921), член военной организации «Народной воли» 339
СЕРНО-СОЛОВЬЕВИЧ Александр Александрович (1838–1869), из дворян, окончил Александровский лицей, участвовал в распространении прокламации «К молодому поколению», весной 1862 г. выехал за границу 203, 370
СЕРНО-СОЛОВЬЕВИЧ Николай Александрович (1834–1866), брат А. А. Серно-Соловьевича, окончил Александровский лицей, арестован 7 июля 1862 г. по делу о сношениях с «лондонскими пропагандистами», 10 декабря 1864 г. приговорен к 12 годам каторжных работ, замененных ссылкой в Сибирь навсегда, 27 июля 1865 г. отправлен в Тобольск 203, 370
СИГИДА Надежда Константиновна (1863–1889), народница, 9 декабря 1887 г. приговорена к восьми годам каторги, участница Карийской трагедии, покончила с собой 362
СИНЕГУБ Сергей Силович (1851–1907), народник, участник кружка чайковцев, многократно арестовывался, кариец 297
СКИПСКИЙ Виктор Павлович (род. ок. 1847), из купцов, учился в Московском университете, член кружка Ф. В. Волховского, приказчик московского книжного магазина А. А. Черкесова, участник «Народной расправы», арестован 26 ноября 1869 г., приговорен к двум месяцам тюрьмы и пяти годам надзора полиции 139, 152, 158, 181, 182, 184
СЛЕЗКИН Иван Львович (1818–1882), генерал-лейтенант, начальник Московского губернского жандармского управления 36, 137–140, 163, 168, 180, 182–185, 209, 211, 214, 219, 270, 275, 282
СЛЕПЦОВ Александр Александрович (1835–1906), из дворян, окончил Александровский лицей, один из организаторов общества «Земля и воля» 88, 90
СМИРНОВ Валериан Николаевич (1848–1900), из чиновников, студент Московского университета, исключен за участие в полунинской истории, вступил в «Народную расправу», арестован в феврале 1870 г., в июне освобожден на поруки, в июне 1871 г. бежал за границу, окончил Цюрихский университет, сотрудничал с П. Л. Лавровым 161, 255, 261
СНИТКИН Иван Григорьевич (1849–1887), брат А. Г. Достоевской, окончил Петровскую академию 198, 199, 212
СНИТКИНА Анна Николаевна (1812–1893), урожденная Мильтопе-ус, мать А. Г. Достоевской 198, 199
СОБОЛЕВ Василий Иванович (род. в 1844), из духовенства, окончил Нижегородскую духовную семинарию, учился в Петровской академии, участвовал в ишутинской «Организации», арестован в июле 1866 г., 24 сентября 1869 г. приговорен к восьми месяцам крепости 93
СОКОЛОВ Матвей Ефимович (1834 — после 1888), капитан, смотритель Алексеевского равелина, затем Шлиссельбургской крепости 347, 348, 367, 369
СОКОЛОВСКИЙ Николай Михайлович (1835 — после 1907), присяжный поверенный 190
СОЛОВЬЕВ Александр Константинович (1846–1879), народник, 2 апреля 1879 г. стрелял в Александра II 294, 308, 322, 326
СПАСОВИЧ Владимир Данилович (1829–1906), присяжный поверенный 70, 109, 190, 193
СПЕШНЕВ Николай Александрович (1821–1882), из дворян, окончил Александровский лицей, участник собраний у М. В. Петрашевского. арестован 23 апреля 1849 г., 22 декабря 1849 г. приговорен к смертной казни, замененной десятью годами каторги, 26 августа 1856 г. освобожден, служил в Сибири, с 1861 г. занимал должность мирового судьи в Псковской губ. 84–87, 200, 201
СПИНОЗА Бенедикт (1632–1677), философ 49
СТАДОЛЬСКИЙ А. А., товарищ прокурора Московской судебной палаты, товарищ обер-прокурора уголовного Кассационного департамента Правительствующего сената 187, 268
СТАНКЕВИЧ Николай Владимирович (1813–1840), писатель, философ, глава литературно-философского кружка 75–77, 81, 191
СТАСОВ Дмитрий Васильевич (1828–1918), юрист, председатель Совета присяжных поверенных 95
СТЕМПКОВСКИЙ Адольф, агент III отделения, выдавший С. Г. Нечаева 257, 259-261
СТЕФАНОВИЧ Яков Васильевич (1853–1915), народник, один из инициаторов чигиринской истории, приговорен к восьми годам каторги, отбывал на Каре, до 1905 г. жил в Сибири 313, 318
СТОРОЖЕНКО Николай Ильич (1836–1906), историк западноевропейской литературы, профессор Московского университета, председатель «Общества любителей российской словесности», главный библиотекарь Румянцевского музея 207
СТРАНДЕН Николай Павлович (род. в 1844), из дворян, окончил Пензенский дворянский институт, отправился в Москву для поступления в университет, входил в ишутинскую «Организацию», арестован 14 апреля 1866 г., по окончательному решению суда приговорен к 20 годам каторги, отправлен на Александровский завод Нерчинских рудников, в мае 1871 г. переведен на поселение в Якутской обл., в 1884 г. получил помилование, жил в Пензе 90, 95
СТРАХОВ Николай Николаевич (1828–1896), писатель, публицист, редактор, издатель, был в дружеских отношениях с Ф. М. Достоевским 201
СТРЕЛКОВ Матвей Степанович, солдат, карауливший П. Г. Заичнев-ского 88
СТРОЕВ Сергей Михайлович (1815–1840), историк 75
СУДЕЙКИН Георгий Порфирьевич (ок. 1840–1883), подполковник, инспектор Петербургского отделения по охранению общественной безопасности и порядка 359, 361
СУКИН Александр Яковлевич (1764–1837), генерал от инфантерии, генерал-адъютант, член Государственного совета, комендант Петропавловской крепости (1814–1837) 288
СУХАНОВ Николай Евгеньевич (1851–1882), член военной организации «Народной воли», осужден по «процессу 20-ти», казнен 339
СУХОТИН Михаил Сергеевич (1850–1914), помещик, депутат 1-й Государственной Думы, муж старшей дочери Л. Н. Толстого 279
ТАКСИС Антон Феликсович (род. ок. 1852), из дворян, учился в Технологическом институте, в 1873–1875 гг. вел пропаганду среди крестьян и петербургских рабочих, в конце 1875 г. эмигрировал, сотрудничал с П. Л. Лавровым, в 1883 г. возвратился в Россию, жил в Оренбурге, Самаре 324
ТАЛАНДЬЕ Адольф, литератор, французский эмигрант 244, 246, 247
ТАРХОВ Георгий Александрович (1859–1922), из дворян, окончил в Петербурге Константиновское училище, в мае 1878 г. произведен в прапорщики, зачислен в 5-ю батарею 5-й резервной Артиллерийской бригады в Таганроге, преподавал в солдатской школе, сдружился со своим помощником бомбардиром Щетинниковым, в июне 1879 г. познакомился с Мирским и вел с ним пропаганду среди солдат, арестован 13 июля 1879 г., по окончательному решению приговорен к десяти годам каторжных работ в крепостях, отправлен на Кару, 17 ноября 1884 г. вышел на поселение в Забайкальскую обл., в 1898 г. выехал в Европейскую Россию, восстановлен в правах в 1902 г. 325, 328, 330, 331
ТАТИЩЕВ Сергей Степанович (1846–1908), историк, окончил Александровский лицей, служил в русских консульствах и посольствах, воевал в Русско-турецкую войну, служил в министерствах внутренних дел и финансов 35, 65, 119, 137, 139
ТИМАШЕВ Александр Егорович (1818–1893), генерал-адъютант, начальник Штаба Корпуса жандармов и управляющий III отделением (1856–1861), министр внутренних дел (1868–1878) 114, 171, 267
ТИХОМИРОВ Лев Александрович (1850–1922), землеволец, член Исполнительного комитета «Народной воли», ее идеолог и один из вождей, в 1887 г., находясь в эмиграции, написал покаянное письмо Александру III, получил разрешение возвратиться в Россию, служил в газете «Московские ведомости» 13, 197, 300, 301, 305, 307, 308, 323, 336, 338–340, 356
ТКАЧЕВ Петр Никитич (1844–1886), из дворян, окончил Петербургский университет, арестован в 1862 г. за участие в студенческих волнениях, вскоре выпущен, в 1864 г. приговорен к заключению в крепости на три месяца, арестован в 1866 г. в связи с покушением Д. В. Каракозова, участвовал в студенческих волнениях 1868–1869 гг., арестован 26 марта 1869 г., 15 июля 1871 г. приговорен к одному году и четырем месяцам тюрьмы и полицейскому надзору на пять лет, по отбытии наказания выслан в Великие Луки, в декабре 1873 г. бежал за границу, издавал журнал «Набат» 57–60, 70, 85, 109, ПО, 118, 119, 160, 193, 204
ТОКВИЛЬ Алексис (1805–1859), французский историк и социолог 11
ТОЛСТОВ Алексей Дмитриевич, из купцов, участвовал в собраниях у М. В. Петрашевского, во время следствия дал откровенные показания, 30 июля 1849 г. отправлен унтер-офицером в отдельный Кавказский корпус, в 1857 г. вернулся в Петербург 85—87
ТОЛСТОЙ Дмитрий Андреевич (1823–1889), граф, обер-прокурор Синода, министр просвещения (1866–1880), министр внутренних дел (1882–1889), президент Академии наук с 1882 г. 50, 51, 197, 360, 368
ТОЛСТОЙ Лев Николаевич (1828–1910), писатель 205, 221, 279
ТОМИЛОВ Константин Николаевич, полковник, муж Е. X. Томиловой 118
ТОМИЛОВА Елизавета Христофоровна (ок. 1839—1890-е), урожденная Дриттенпрейс, арестована 13 апреля 1869 г. по нечаевскому делу, 15 июля 1871 г. судом оправдана, уехала в Саратов, затем в Пензу, в начале 1880-х годов участвовала в народовольческих кружках 68, 69, 112, 118, 119, 139, 162, 178, 179, 193
ТОНЫШЕВ Иван, ефрейтор Местной команды, в охране равелина с декабря 1880 г., носил записки Нечаева народовольцам 353—355
ТОПОРКОВ Лев Александрович (род. ок. 1847), из дворян, учился в Технологическом институте, арестован 4 января 1870 г., 27 августа 1871 г. судом оправдан, в 1873 г. привлекался по делу о кружке А. В. Долгушина 160, 170
ТОПОРКОВ Петр Александрович (род. ок. 1849), брат Л. А. Топоркова, учился в Земледельческом институте, арестован 29 декабря 1869 г.,
27 августа 1871 г. судом оправдан, в 1873 г. привлекался по делу о кружке А. В. Долгушина, в 1874 г. — по делу о пропаганде в империи 159, 160
ТОТЛЕБЕН Эдуард Иванович (1818–1884), генерал-адъютант, граф, герой обороны Севастополя 83
ТРЕПОВ Федор Федорович (1812–1889), генерал-адъютант, петербургский градоначальник 172, 313
ТРУСОВ Антон Данилович, участвовал в польском восстании 1863 г., эмигрировал, жил с 1869 г. в Женеве, был близок с М. А. Бакуниным и С. Г. Нечаевым, затем отошел от них и примкнул к молодой эмиграции, в 1884 г. возвратился в Россию 97, 174
ТРУСОВ, штабс-капитан, плац-адъютант Петропавловской крепости, второй смотритель Алексеевского равелина (1826–1828) 290
ТРЮБНЕР Николай (1817–1884), английский издатель, библиограф и книгопродавец, содействовал А. И. Герцену в распространении его изданий 182
ТУН Альфонс (1853–1885), историк 20
ТУРГЕНЕВ Иван Сергеевич (1818–1883), писатель 204, 205, 221, 255
ТУРСКИЙ Гаспар-Михаил (1847–1926), из дворян, окончил одесский пансион Кнери, учился в Харьковском университете, из-за неблагонадежности подчинен в 1866 г. полицейскому надзору, в 1867 г. отправлен в Архангельскую губ., откуда в 1869 г. бежал в Швейцарию. Сражался в отряде Гарибальди, участвовал в Парижской коммуне, в мае 1871 г. поселился в Цюрихе, сошелся с Нечаевым, участвовал в создании русско-польских революционных кружков. В 1873 г. переехал в Париж, принимал участие в редактировании журнала «Набат», вместе с Ткачевым входил в Комитет Общества народного освобождения 252, 257, 261, 265
ТУРЧАНИНОВ Александр Николаевич (1838 — после 1905), присяжный поверенный 190
ТУЧКОВА-ОГАРЕВА Наталья Алексеевна (1929–1913), жена Н. П. Огарева, мать детей А. И. Герцена 128, 129, 132, 228, 236, 237
ТХОРЖЕВСКИЙ Станислав, польский эмигрант, один из ближайших помощников А. И. Герцена по изданиям Вольной русской типографии в Лондоне 230
ТЮТЧЕВ Николай Сергеевич (1856–1924), землеволец, вел пропаганду среди рабочих, участвовал в террористических актах, в начале 1900-х годов вступил в партию социалистов-революционеров 190, 367
УДОМ Александр Петрович (ум. 1870), майор, смотритель Алексеев-ского равелина (1860–1870) 291
УЛАНОВСКАЯ Эвелина Людвиговна (1859–1915), в замужестве Кранихфельд, 25 февраля 1879 г. арестована случайно на студенческой вечеринке, выслана в Пудож Олонецкой губ., прототип героини рассказа В. Г. Короленко «Чудная» 324
УЛЬЯНОВ В. И., см. Ленин В. И.
УРУСОВ Александр Иванович (1843–1900), князь, присяжный поверенный, защищал П. Г. Успенского, крупный судебный деятель, в 1872 г. выслан за нелегальные сношения с нечаевцами 189, 190
УРУСОВ Сергей Николаевич (1816–1883), князь, главноуправляющий II отделением Собственной Его Императорского Величества канцелярии (1867–1881) 196
УСПЕНСКАЯ Александра Ивановна (1847–1924), урожденная Засулич, арестована в январе 1870 г., 25 августа 1871 г. судом оправдана, добровольно последовала за мужем П. Г. Успенским в Восточную Сибирь к месту отбывания им наказания, после смерти мужа жила в Москве, высылалась в Тверь за хранение нелегальной литературы 70, 138, 140, 141, 145, 146, 181, 184–186, 214, 216
УСПЕНСКАЯ Надежда Гавриловна (род. в 1854), в замужестве Бобина, сестра П. Г. Успенского, арестована 14 апреля 1869 г. за участие в кружке Ф. В. Волховского, освобождена от ареста 4 февраля 1870 г., в 1871 г. выехала в Нижний Новгород 138, 140, 146, 210
УСПЕНСКИЙ Виктор Петрович (1870 — после 1911), сын П. Г. Успенского, врач, член 2-й Государственной Думы 215
УСПЕНСКИЙ Петр Гаврилович (1848–1881), из дворян, окончил Нижегородский дворянский институт, учился в Московском университете, заведовал московским книжным магазином и библиотекой А. А. Черкесова, состоял в близких отношениях с участниками ишутинской «Организации», входил в кружок Ф. В. Волховского, один из учредителей «Народной расправы», арестован 26 ноября 1869 г., 15 июля
1871 г. приговорен к 15 годам каторжных работ в рудниках, 10 января
1872 г. отправлен на каторгу 70, 136, 138–142, 145, 146, 150, 152, 156, 158, 162, 164, 165, 167, 169, 180–182, 184–186, 189, 192, 193, 209, 214–216, 219
УТИН Евгений Исаакович (1843–1894), сын банкира, учился в Петербургском университете, арестован 5 октября 1861 г. за участие в студенческих волнениях, освобожден 7 декабря 1861 г. под поручительство, участвовал в качестве защитника в политических процессах 124, 190, 317, 318, 324
УТИН Николай Исаакович (1845–1883), брат Е. И. Утина, учился в Петербургском университете, арестован 26 сентября 1861 г. за участие в студенческих волнениях, выпущен на поруки 7 декабря 1861 г., 6 октября 1862 г. окончил Университет со степенью кандидата, член общества «Земля и воля», в начале мая 1863 г. бежал за границу, отказался вернуться, заочно 27 ноября 1865 г. приговорен к смертной казни, член Интернационала, основатель Славянской секции в Цюрихе и секретарь Русской секции в Женеве, один из вождей молодой эмиграции, по прошению о помиловании 9 декабря 1877 г. получил разрешение вернуться на родину, в феврале 1880 г. приехал в Россию 92, 97, 99, 124, 127, 129, 130, 134, 222, 224, 240, 241, 243, 318
ФЕЙЕРБАХ Людвиг (1804–1872), немецкий философ-материалист 88
ФЕОКТИСТОВ Евгений Михайлович (1828–1898), статский советник, журналист, мемуарист, начальник Главного управления по делам печати (1883–1896) 332, 346
ФЕТ Афанасий Афанасьевич (1820–1892), поэт 39
ФИГНЕР Вера Николаевна (1852–1942), землеволка, член Исполнительного комитета «Народной воли», 28 сентября 1884 г. приговорена к бессрочной каторге, которую отбывала в одиночном заключении в Шлиссельбургской крепости 80, 337, 338, 340
ФИЛИМОНОВ Петр Матвеевич (род. в 1817), подполковник, смотритель Алексеевского равелина (1877–1881) 306, 309, 332, 348–351, 357
ФИЛИППЕУС Константин Федорович (1838–1898), из дворян, учился в Горыгорецком земледельческом институте, в 1854 г. окончил Петербургский университет, чиновник Министерства иностранных дел, преподавал немецкий язык в Гельсингфорсе, в 1863 г. участвовал в усмирении восстания в Польше, в апреле 1869 г. поступил в III отделение, руководил 3-й экспедицией (политический сыск), в июне 1874 г. вышел в отставку 48, 49, 116, 180, 184, 190, 192, 283
ФИЛИППОВ Александр Александрович (1857 — после 1934), обер-фейерверкер в запасе Охтинского порохового завода, содействовал сношениям стражников Алексеевского равелина с народовольцами 333, 347, 355
ФЛОРИНСКИЙ Иван Иванович (род. ок. 1845), окончил Владимирскую духовную семинарию, в сентябре 1869 г. поступил в Петровскую академию, исполнял отдельные поручения С. Г. Нечаева, арестован 2 марта 1870 г., 15 июля 1871 г. приговорен к шестимесячному тюремному заключению и пяти годам полицейского надзора, выслан в Костромскую губ., затем во Владимирскую 45, 135, 151, 156, 161, 193
ФУРЬЕ Шарль (1772–1837), французский социалист-утопист 82, 83, 211
ХАРТУЛАРИ Константин Федорович (1841–1897), присяжный поверенный, один из ведущих защитников по уголовным делам 190
ХУДЯКОВ Иван Александрович (1842–1876), из мещан, учился в Казанском и Московском университетах, исключён из университета вследствие несдачи экзаменов, в 1862 г. переехал в Петербург, занимался издательской деятельностью, летом 1865 г. ездил за границу, арестован 7 апреля 1866 г., 24 сентября приговорен к ссылке в отдаленнейшие места Сибири, отправлен в Верхоянск 52, 92, 93, 98
ЧАРУШИН Николай Аполлонович (1851–1937), из дворян, народник 215
ЧЕМАДУРОВ Яков Яковлевич (1823–1888), сенатор, вел следствие по делу нечаевцев 187, 268, 275, 276
ЧЕРКЕЗОВ (Черкезешвили) Варлаам Джон Асланович (ок. 1844–1925), князь, учился в Петровской академии, в 1866 г. приговорен к восьми месяцам тюрьмы за участие в ишутинском кружке, член «Народной расправы», арестован 28 декабря 1869 г., 6 августа приговорен к ссылке в Сибирь, 26 января 1876 г. бежал за границу, последователь М. А. Бакунина и П. А. Кропоткина, деятель международного анархического движения 152, 153, 161, 170, 171, 174, 183
ЧЕРКЕСОВ Александр Александрович (1839–1908), из дворян, окончил Александровский лицей, служил в правительственных учреждениях, в 1860 г. вышел в отставку, в 1862 г. привлекался к дознанию по делу о «сношениях с лондонскими пропагандистами», оказавшись за границей, до 1865 г. отказывался возвратиться домой, арестован при переезде границы, вскоре отдан на поруки, в 1867 г. открыл в Петербурге книжный магазин и библиотеку, затем в Москве, в апреле 1869 г. избран мировым судьей, в конце ноября 1869 г. арестован, 10 февраля освобожден. Выступал защитником на политических процессах 136, 139, 140, 150, 156, 158, 160, 180–183, 185, 214
ЧЕРНАВСКИЙ Михаил Михайлович (1855 — после 1931), народоволец, затем социалист-революционер 212
ЧЕРНЕЦКИЙ Людвиг (1828–1872), польский эмигрант, заведовал Вольной русской типографией в Лондоне, владелец типографии в Женеве 96, 132, 220, 234, 251
ЧЕРНОВ Виктор Михайлович (1873–1952), публицист, один из лидеров партии социалистов-революционеров 19
ЧЕРНЫШЕВСКИЙ Николай Гаврилович (1828–1889), литературный критик, переводчик, редактор, общественный деятель 9, 90, 92, ПО, 126, 127, 138, 291
ЧИКОВ Александр Сергеевич (ок. 1848–1875), из дворян, учился в Технологическом институте, с осени 1872 г. член основного кружка долгушинцев, арестован 26 сентября 1873 г., 15 июля 1874 г. приговорен к двум месяцам тюрьмы и двум годам полицейского надзора 297
ЧУДНОВСКИЙ Соломон Лазаревич (1849–1912), из купцов, учился в Новочеркасском университете, перевелся в Медико-хирургическую академию, участвовал в студенческих волнениях 1868–1869 гг., выслан в Херсон, переехал в Одессу, участвовал в кружке Ф. В. Волховского, в декабре 1872 г. выехал в Вену, в конце июля 1873 г. вернулся в Россию, неоднократно судился и ссылался в Сибирь 53, 297
ЧУЙ КО Владимир Викторович (1839–1899), из дворян, был близок к обществу «Земля и воля», арестован 31 июля 1866 г. в связи с покушением Д. В. Каракозова, отпущен с подчинением надзору полиции 92
ШВЕЦОВ Сергей Порфирович (1858–1930), народник, затем член партии социалистов-революционеров 63, 176
ШЕВИЧ Василий Степанович (род. ок. 1830), учитель уездного училища в Луднах, арестован в начале сентября 1862 г. за участие в кружке с «исключительным малороссийским направлением», содержался в Секретном доме с 12 сентября по 31 декабря 1862 г., выслан в Уфу 305, 306
ШЕЛГУНОВ Николай Васильевич (1824–1891), писатель, мемуарист, с 15 апреля 1863 г. по 24 ноября 1864 г. находился в Секретном доме Алексеевского равелина 291
ШЕСТАКОВ Николай Александрович (род. ок. 1844), из купцов, учился в Петровской академии, входил в «Народную расправу», арестован в декабре 1869 г., 6 августа 1871 г. приговорен к восьми месяцам тюремного заключения и пяти годам надзора полиции, выслан в Смоленскую губ. 151
ШЕШКОВСКИЙ Степан Иванович (1827–1893), с 1867 г. фактический глава Тайной экспедиции 285
ШИМАНСКИЙ Алексей, учился в Медико-хирургической академии, арестован 20 марта 1879 г. в связи с делом о покушении на А. Р. Дрен-тельна 312
ШИНКМАН И. А., врач, осужден вместе с Л. Ф. Мирским военно-полевым судом в Чите 362, 364
ШИРЯЕВ Степан Григорьевич (1856–1881), землеволец, член Исполнительного комитета «Народной воли», по «процессу 16-ти» приговорен к смертной казни, замененной бессрочной каторгой 291, 335, 336, 345, 352
ШИШКО Леонид Эммануилович (1852–1910), из дворян, отставной поручик, историк освободительного движения, судился по «процессу 193-х», приговорен к девяти годам каторги, наказание отбывал на Каре 20
ШМИДТ Николай Кондратьевич, управляющий III отделением (1878–1880) 332
ШРАГ Илья Людвигович (род. ок. 1849), учился в Петербургском университете, участвовал в студенческих беспорядках 1868–1869 гг., выслан из столицы, впоследствии известный адвокат 51
ШТАКЕЛЬБЕРГ Эрнест-Густав (1814–1870), граф, генерал-лейтенант, посол в Париже (1868–1870) 225
ШТАКЕНШНЕЙДЕР Елена Андреевна (1836–1897), дочь известного архитектора, общественная деятельница 158
ШУВАЛОВ Петр Андреевич (1827–1889), граф, генерал-майор свиты, обер-полицмейстер Петербурга (1857–1860), начальник Штаба Корпуса жандармов и управляющий III отделением (1861–1864), шеф жандармов и главноуправляющий III отделением (1866–1874) 116, 121, 171, 188, 189, 193, 225, 227, 261, 269, 282, 294, 295
ШУЛЬЦ Анександр Францевич (1824–1878), управляющий III отделением (1871–1878) 226, 267, 303, 304
ЩЕГОЛЕВ Павел Елисеевич (1877–1931), историк литературы и освободительного движения в России 9, 200, 302, 307, 320, 340, 341, 358, 360, 364-367
ЭЛЬСНИЦ Александр Леонтьевич (1849–1907), из дворян, учился в Московском университете, исключен за участие в полунинской истории, вошел в «Народную расправу», выслан в Ярославскую губ., арестован в феврале 1870 г. в связи с нечаевской историей. В мае освобожден, в июне 1871 г. бежал за границу, окончил Цюрихский университет, отошел от революционного движения, занимался врачебной практикой во Франции 161, 255, 256, 265
ЭНГЕЛЬС Фридрих (1820–1898), философ, экономист 56
ЭССЕН Отто Васильевич (1827–1876), товарищ министра юстиции, управляющий делами Министерства юстиции 190, 192, 193, 195–197, 262, 263, 267-269
ЮЖАКОВА Елизавета Николаевна (1851–1883), из дворян, училась в Цюрихском университете, последовательница П. Н. Ткачева, участвовала в попытке освобождения Нечаева, в 1875 г. возвратилась в Россию, сблизилась с народниками, в 1877–1878 гг. жила в Швейцарии, арестована 24 июля 1879 г. в Одессе, дважды судилась, приговорена к ссылке в отдаленные места Сибири, бежала, вновь арестована 29 мая 1881 г., отправлена в Якутскую обл., задушена сопроцессником 264
ЮРАСОВ Дмитрий Алексеевич (1842 — после 1896), из дворян, окончил Пензенскую гимназию, учился в Московском университете, в 1862 г. ушел из университета, входил в ближайшее руководство ишутинских кружков, арестован 15 апреля 1866 г., приговорен к десяти годам каторжных работ, отправлен на Александровский завод Нерчинских рудников, 17 мая 1871 г. поселен в Якутской области, в 1885 г. выехал в Европейскую Россию, жил в Вологде и Пензе 92
ЮРКОВСКИЙ Федор Николаевич (1851–1896), из дворян, учился в Николаевской гимназии, Морском училище в Петербурге, Технологическом институте, Медико-хирургической академии, арестован 30 сентября 1874 г., освобожден под поручительство, арестован 1 мая 1879 г. в Одессе, отпущен, арестован 7 марта 1880 г., приговорен к 20 годам каторги, отправлен на Кару, участвовал в убийстве П. Г. Успенского, бежал, пойман и отправлен в Петербург, заключен в Шлиссельбургскую крепость 216
ЯБЛОНСКИЙ Савелий Игнатьевич (1775–1856), смотритель Алексеевского равелина (1828–1850) 290, 291
ЯКИМОВА Анна Васильевна (1856–1942), в замужестве Диковская, землеволка, член Исполнительного комитета «Народной воли», по «процессу 20-ти» приговорена к смертной казни, замененной бессрочной каторгой 338
ЯКОВЛЕВ Василий Яковлевич (1860–1915), публицист, редактор, историк освободительного движения 20, 190, 271
ЯНОВСКИЙ Степан Дмитриевич (1817–1897), врач, лечивший Ф. М. Достоевского 74, 85
ЯСТРЖЕМБОВСКИЙ Иван-Фердинанд Львович (1814-1880-е), входил в кружок М. В. Петрашевского, арестован 23 апреля 1849 г., приговорен к шести годам каторжных работ, в 1857 г. возвратился в Европейскую Россию 290
ФОТОГРАФИИ
СОДЕРЖАНИЕ
От редакции … 5.
Б. Ф. Егоров. Слово к читателю … 7.
Нечаевщина … 11.
Юность … 23.
Петербургские баталии … 41.
Предшественники … 72.
В бегах … 96.
«Народная расправа» … 136.
Попутчица … 169.
Конец «Народной расправы» … 180.
Вторая эмиграция … 218.
Суд … 267.
Заточение … 284.
Красавчик Мирский … 310.
Беспорядки в Алексеевской равелине … 332.
На пути в преисподнюю … 357.
Примечания … 371.
Основные даты жизни и деятельности С. Г. Нечаева … 396.
Именной указатель … 397.
Примечания
1
1 Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч. Т. 21. Л., 1980. С. 130.
(обратно)2
2 Тихомиров Л. А. Конституционалисты в эпоху 1881 года. М., 1895. С. 25–26.
(обратно)3
3 См.: Тун А. История революционного движения в России. Пг., 1917. С. 47.
(обратно)4
4 См.: Вестник «Народной воли»: революционное социально-политическое обозрение. Женева. 1883. № 1. С. 143–148 (вторая пагинация).
(обратно)5
5 Герцен А. И. К старому товарищу. Письмо первое // Литературное наследство. Т. 61. М., 1953. С. 160.
(обратно)6
6 Народная расправа. 1869. № 1. С. 13.
(обратно)7
7 Бакунин М. А. Собр. соч. и писем. 1828–1876. Т. 3. М., 1935. С. 148.
(обратно)8
8 См.: Тун А. Указ. соч. С. 47.
(обратно)9
9 Там же. С. 67.
(обратно)10
10 Цеховский В. Ф. С. Г. Нечаев. СПб., 1907. С. 643.
(обратно)11
11 Богучарский В. Я. Активное народничество семидесятых годов. М., 1912. С. 151.
(обратно)12
12 Вестник «Народной воли»: революционное социально-политическое обозрение. 1883. № 1. С. 144 (вторая пагинация).
(обратно)13
13 Геллер М. Я. Первое марта // Смена. 1991. № 3. С. 150.
(обратно)14
14 Бонч-Бруевич В. Д. В. И. Ленин о художественной литературе // Тридцать дней. 1934. № 1. С. 18.
(обратно)15
15 Коваленский М. Н. Русская революция в судебных процессах и мемуарах. Кн. 1. М., 1923. С. 13.
(обратно)16
16 Гамбаров А. И. В спорах о Нечаеве. М.; Л., 1926. С. 6–7.
(обратно)17
17 Козьмин Б. П. С. Г. Нечаев и его противники в 1868–1869 гг. // Революционное движение 1860 годов. М., 1932. С. 169.
(обратно)18
1 Экземплярский П. М. Село Иваново в жизни Сергея Геннадиевича Нечаева // Труды Иваново-Вознесенского государственного научного общества краеведения. Вып. 4. Иваново-Вознесенск, 1926. С. 9. Статья написана на основании материалов, хранившихся в архивах Иваново-Вознесенска и Шуи.
(обратно)19
2 Там же. С. 7–8.
(обратно)20
3 См.: там же. С. 8.
(обратно)21
4 Там же. С. 8.
(обратно)22
5 См.: Былое. 1912. № 14. С. 70; Рабочий край. 1992. 4 февр. С. 3.
(обратно)23
6 См.: Цеховский В. Ф. С. Г. Нечаев. СПб., 1907.
(обратно)24
7 ИРЛИ, ф. 197 и 208; ГА РФ, ф. 109; РГИА ф. 14 и 848; ОР РГБ, ф. 100 и 231; ОР РГБ, ф. 352, 804 и 1000 и многие другие.
(обратно)25
8 Бельчиков Н. Ф. С. Г. Нечаев в с. Иванове в 60-е годы // Каторга и ссылка. 1925. Кн. 14. С. 153–154.
(обратно)26
9 См.: Экземплярский П. М. Указ. соч. С. 8–9.
(обратно)27
10 ИРЛИ, ф. 197, оп. 1, д. 5, л. 25 об. Ориентировочная дата письма — 6 августа 1868 года.
(обратно)28
11 См.: Былое. 1912. № 14. С. 70.
(обратно)29
12 ИРЛИ, ф. 197, оп. 1, д. 7, л. 14.
(обратно)30
13 Былое. 1912. № 14. С. 70.
(обратно)31
14 См.: там же. С. 72.
(обратно)32
15 Экземплярский П. М. Указ. соч. С. 13.
(обратно)33
16 Там же. С. 19.
(обратно)34
17 Там же. С. 21.
(обратно)35
18 ИРЛИ, ф. 197, оп. 1, д. 10, л. 1.
(обратно)36
19 См.: Васюков С. И. Воспоминания о Филиппе Диомидовиче Нефедове // Исторический вестник. 1902. № 5. С. 584–592.
(обратно)37
20 Каторга и ссылка. 1925. Кн. 14. С. 139–140.
(обратно)38
21 Там же. С. 141–142.
(обратно)39
22 См.: Бокль Г. Т. История цивилизации в Англии. Т. 1. Ч. 1. СПб., 1863.
(обратно)40
23 Каторга и ссылка. 1925. Кн. 14. С. 142.
(обратно)41
24 Там же. С. 144.
(обратно)42
25 Там же. С. 145.
(обратно)43
26 Там же. С. 151–152.
(обратно)44
27 ИРЛИ, ф. 197, оп. 1, д. 5, л. 1. А. К. — вероятно, мать Ф. Д. Нефедова.
(обратно)45
28 См.: там же, д. 6, л. 1, д. 5, л. 5.
(обратно)46
29 РГИА, ф. 878, оп. 1, д. 82, л. 94.
(обратно)47
30 Cм.: ГА РФ, ф. 109, 3 эксп., 1869, д. ПО, ч. 1, л. 192.
(обратно)48
31 Красный архив. 1926. Т. 1 (14). С. 151.
(обратно)49
32 Экземплярский П. М. Указ. соч. С. 32.
(обратно)50
33 См.: ИРЛИ, ф. 197, оп. 1, д. 5, л. 1.
(обратно)51
34 См.: ГА РФ, ф. 109, 3 эксп., 1869, д. ПО, ч. 1, л. 116.
(обратно)52
35 Красный архив. 1926. Т. 2 (15). С. 159–160.
(обратно)53
36 Красный архив. 1926. Т. 1 (14). С. 151.
(обратно)54
37 См.: там же. С. 151.
(обратно)55
38 Красный архив. 1926. Т. 2 (15). С. 159–160.
(обратно)56
39 РГИА, ф. 1108, оп. I, д. 192, л. 6.
(обратно)57
40 Там же, л. 7.
(обратно)58
41 Там же, л. 8.
(обратно)59
42 ОР РГБ, ф. 231, папка 23, д. 58, л. 1–2 об. В текст чернового автографа Погодина при публикации внесены некоторые незначительные редакционные изменения, не искажающие его смысл.
(обратно)60
43 См.: ИРЛИ, ф. 197, оп. 1, д. 5, л. 1.
(обратно)61
44 См.: там же, д. 10, л. 1.
(обратно)62
45 См.: там же, д. 13, л. 13 об.
(обратно)63
46 См.: Фет А. А. Воспоминания // Московский университет в воспоминаниях современников. М., 1989. С. 234.
(обратно)64
47 Красный архив. 1926. Т. 1 (14). С. 151.
(обратно)65
1 ИРЛИ, ф. 197, оп. 1, д. 1, л. 1–2 об.
(обратно)66
2 РГИА, ф. 872, оп. 1, д. 82, л. 94 об.
(обратно)67
3 ИРЛИ, ф. 197, оп. 1, д. 8, л. 1.
(обратно)68
4 Там же, л. 2.
(обратно)69
5 Красный архив. 1926. Т. 1 (14). С. 151–152.
(обратно)70
6 ИРЛИ, ф. 197, оп. 1, д. 7, л. 1.
(обратно)71
7 Там же. д. 5, л. 30.
(обратно)72
8 Там же, д. 3, л. 7.
(обратно)73
9 См.: Красный архив. 1926. Т. 2 (15). С. 161–162.
(обратно)74
10 Красный архив. 1926. Т. 1 (14). С. 152.
(обратно)75
11 Труды Владимирской ученой архивной комиссии. Кн. 17. Владимир, 1917. С. 59 (вторая пагинация).
(обратно)76
12 ИРЛИ, ф. 197, оп. 1, д. 4, л. 1.
(обратно)77
13 Там же, д. 11, л. 1.
(обратно)78
14 См.: там же, д. 5, л. 5.
(обратно)79
15 См.: Козъмин Б. П. П. Г. Заичневский в Орле // Каторга и ссылка. 1931. № К). С. 102–123.
(обратно)80
16 Красный архив. 1926. Т. 1 (14). С. 152.
(обратно)81
17 См.: ГА РФ, ф. 109, 3 эксп., 1869, д. ПО, ч. 1, л. 140а.
(обратно)82
18 Там же, л. 123–123 об.
(обратно)83
19 См.: Красный архив. 1926. Т. 2(15). С. 157.
(обратно)84
20 Нечаев и нечаевцы. М.; Л., 1931. С. 57–58.
(обратно)85
21 ИРЛИ, ф. 197, оп. 1, д. 9, л. 1–3.
(обратно)86
22 См.: Нечаев и нечаевцы. С. 60.
(обратно)87
23 См.: Спасович Д. В. Сочинения. Т. 5. СПб., 1893. С. 21.
(обратно)88
24 См.: Георгиевский А. И. Краткий исторический очерк правительственных мер и предначертаний против студенческих беспорядков. СПб., 1890. С. 5–6. На обложке приклеена этикетка с надписью: «Совершенно конфиденциально».
(обратно)89
25 Сборник постановлений по Министерству народного просвещения. Т. 4. Правила о надзоре за студентами вне стен университетов. СПб., 1884. С. 478.
(обратно)90
26 См.: Ралли 3. К. Сергей Геннадиевич Нечаев // Былое. 1906. № 7. С. 137.
(обратно)91
27 Кункль А. А. Нечаев. М., 1929. С. 6.
(обратно)92
28 Былое. 1907. № 9. С. 284.
(обратно)93
29 См.: Группа «Освобождение труда». Сб. № 2. М., 1924. С. 31.
(обратно)94
30 Cм.: Сватиков С. Г Студенческое движение 1869 года (Бакунин и Нечаев) // Наша страна. 1907. № 1. С. 187.
(обратно)95
31 Ралли 3. К. Указ. соч. С. 140.
(обратно)96
32 Там же. С. 140.
(обратно)97
33 См.: там же. С. 141.
(обратно)98
34 Историко-революционная хрестоматия. Т. 1. М., 1923. С. 82.
(обратно)99
35 Там же. С. 82–85.
(обратно)100
36 См.: Козьмин Б. П. П. Н. Ткачев // Из истории революционной мысли в России. М, 1961. С. 357.
(обратно)101
37 Былое. 1907. № 8. С. 158.
(обратно)102
38 См.: Сватиков С. Г. Указ. соч. С. 192.
(обратно)103
39 См.: Козьмин Б. П. П. Н. Ткачев и революционное движение 1860-х годов. М., 1922. С. 137.
(обратно)104
40 Cм.: Цетлин А. Г. «Новь» // Литературное наследство. Т. 76. М., 1967. С. ПО.
(обратно)105
41 Никифоров Л. П. Мои тюрьмы // Голос минувшего. 1924. № 5 С. 187.
(обратно)106
42 См.: Смена. 1991. № 3. С. 150.
(обратно)107
43 Цит. по: Козьмин Б. П. Из истории революционной мысли в России. М., 1961. С. 362.
(обратно)108
44 На чужой стороне // Прага. 1925. № 10. С. 211.
(обратно)109
45 Варшавский В. С. Родословная большевизма. Париж, 1982. С. 21.
(обратно)110
46 См.: Ткачев П. Н. Избранные сочинения на социально-политические темы: В 4 т. М., 1933. Т. 3. С. 5—48.
(обратно)111
47 См.: Козьмин Б. П. Из истории революционной мысли в России. М., 1961. С. 369.
(обратно)112
48 ОР РГБ, ф. 100 (Енишерлов), картон 2, ед. хр. 4, л. 134. Подробное описание этой сходки см.: Пирумова Н. М. Бакунин или Нечаев? // Прометей. Т. 5. М., 1968. С. 168–181.
(обратно)113
49 Там же, л. 142 об.
(обратно)114
50 Там же, л. 147 об.
(обратно)115
51 См.: там же, л. 148; Засулич В. И. Нечаевское дело // Группа «Освобождение труда». Сб. № 2. М., 1924. С. 30.
(обратно)116
52 ОР РГБ, ф. 100, картон 2, ед. хр. 4, л. 148 об.
(обратно)117
53 См.: Нечаев и нечаевцы. С. 84–91.
(обратно)118
54 Аптекман О. В. Общество «Земля и воля» 70-х гг. Пг., 1924. С. 67–68.
(обратно)119
55 Козьмин Б. П. С. Г. Нечаев и его противники в 1868–1869 гг. // Революционное движение 1860-х годов. М., 1932. С. 180–181.
(обратно)120
56 Правительственный вестник. 1871. № 159 (показания Орлова).
(обратно)121
57 ГА РФ, ф. 109, 3 эксп., 1869, д. 112, ч. 1, л. 8–9.
(обратно)122
58 РГИА, ф. 878, оп. 1, д. 82, л. 98–98 об.
(обратно)123
59 См.: Цамутали А. Н. Борьба направлений в русской историографии в период империализма. Л., 1986. С. 44.
(обратно)124
60 Красный архив. 1926. Т. 2 (15). С. 161–162.
(обратно)125
61 Засулич В. И. Воспоминания. М., 1931. С. 24.
(обратно)126
62 Нечаев и нечаевцы. С. 189.
(обратно)127
63 Сватиков С. Г. Указ. соч. С. 190.
(обратно)128
64 См.: РГИА, ф. 878, оп. 1, д. 82, л. 98.
(обратно)129
65 Каторга и ссылка. 1924. Кн. 10. С. 102.
(обратно)130
66 См.: Наша страна. 1907. № 1. С. 217.
(обратно)131
67 Голос минувшего. 1914. № 5. С. 171.
(обратно)132
68 См.: Засулич В. И. Воспоминания. М., 1931. С. 119.
(обратно)133
69 Активный участник студенческих волнений Л. П. Никифоров описывает этот эпизод несколько иначе, см.: Голос минувшего. 1914. № 5. С. 171.
(обратно)134
70 Cм.: РГИА, ф. 878, оп. 1, д. 82, л. 98 об.
(обратно)135
71 Засулич В. И. Воспоминания. М., 1931. С. 63.
(обратно)136
72 Нечаев и нечаевцы. С. 190.
(обратно)137
73 ГА РФ, ф. 109, 3 эксп., 1869, д. 112, ч. 4, л. 94.
(обратно)138
74 Никифоров Л. П. Указ. соч. С. 172.
(обратно)139
75 См.: РГИА, ф. 878, оп. 1, д. 82, л. 99.
(обратно)140
76 Спасович Д. В. Указ. соч. С. 142.
(обратно)141
77 ГА РФ, ф. 109, 3 эксп., 1869, д. 112, ч. 4, л. 117.
(обратно)142
78 См.: РГИА, ф. 878, оп. 1, д. 82, л. 99.
(обратно)143
79 ГА РФ, ф. 124, оп. 1, д. 9, л. ПО.
(обратно)144
80 ГА РФ, ф. 2076, д. 1, л. 51. Цит. по: Рудницкая Е. Л. Русский бланкизм: Петр Ткачев. М., 1992. С. 81.
(обратно)145
81 См.: РГИА, ф. 878, оп. 1, д. 82, л. 99 об. — 100.
(обратно)146
82 ОР РГБ, ф. 100, картон 2, ед. хр. 4, л. 149 об.
(обратно)147
83 Там же, л. 150.
(обратно)148
84 Там же, л. 150.
(обратно)149
1 Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч. Т. 29. Кн. 1. Л., 1986. С. 260–261.
(обратно)150
2 Гроссман Л. П. Жизнь и труды Ф. М. Достоевского: биография в датах и документах. М.; Л., 1935. С. 52.
(обратно)151
3 Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч. Т. 12. Л., 1975. С. 171.
(обратно)152
4 Герцен А. И. Былое и думы // Поли. собр. соч. и писем. Т. 13. Пг., 1916. С. 10.
(обратно)153
5 См.: Прозоров П. И. Белинский в Московском университете // Московский университет в воспоминаниях современников. М., 1989. С. 113.
(обратно)154
6 Герцен А. И. Указ. соч. С. 10–11.
(обратно)155
7 Аксаков К. С. Воспоминания студенчества 1832–1835 гг. // Московский университет в воспоминаниях современников. М., 1989. С. 189. Слова о «хуле» Белинского относятся к более поздним, весьма отрицательным высказываниям Белинского о российской действительности николаевского царствования.
(обратно)156
8 Бакунин М. А. Собр. соч. и писем. Т. 3. М., 1935. С. 148.
(обратно)157
9 Щеголев П. Е. М. А. Бакунин в Алексеевском равелине // Алексе — евский равелин. Т. 1. Л., 1990. С. 193.
(обратно)158
10 Бакунин М. А. Собр. соч. и писем. Т. 4. М., 1935. С. 366.
(обратно)159
11 «Исповедь» М. А. Бакунина вполне доступна, она опубликована, например, в кн.: Алексеевский равелин. Т. 1. Л., 1990. С. 250–356.
(обратно)160
12 См.: Максаков В. В. Архив революции и внешней политики XIX–XX вв. // Архивное дело. Вып. 13. М., 1927. С. 37–38.
(обратно)161
13 Алексеевский равелин. Т. 1. Л., 1990. С. 238–240.
(обратно)162
14 См.: Ткачев П. Н. Избранные сочинения на социально-политические темы: В 4 т. М., 1933. Т. 3. С. 356, 475–476.
(обратно)163
15 Северный сборник. 1894. № 4. С. 236.
(обратно)164
16 См.: Корнилов А. А. Молодые годы Михаила Бакунина. М., 1915; Корнилов А. А. Годы странствий Михаила Бакунина. Л., 1925; Стек-лов Ю. М. Михаил Александрович Бакунин. Т. 1–4. М.; Л., 1926–1927; Пирумова Н. М. Социальная доктрина М. А. Бакунина. М., 1990, в этой книге помещена обширная библиография; Карпачев М. Д. Истоки российской революции. М., 1991. Автор дал обзор западных исследований.
(обратно)165
17 См.: Егоров Б. Ф. Петрашевцы. Л., 1988. С. 3.
(обратно)166
18 Петрашевцы: Сборник материалов. Т. 3. М.; Л., 1928. С. 3.
(обратно)167
19 Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч. Т. 18. Л., 1978. С. 133.
(обратно)168
20 Там же. Т. 28. Кн. 1. Л., 1985. С. 224–225.
(обратно)169
21 Там же. Т. 24. С. 129.
(обратно)170
22 Егоров Б. Ф. Возникновение социалистической мысли в России // Первые русские социалисты. Л., 1984. С. 22.
(обратно)171
23 Русский вестник. 1895. Кн. 4. С. 217; Петрашевцы в воспоминаниях современников. М.; Л., 1926. С. 79–80.
(обратно)172
24 Звенья: сборник материалов и документов по истории литературы, искусства и общественной мысли. Т. 6. М.; Л., 1936. С. 533.
(обратно)173
25 Петрашевцы в воспоминаниях современников. С. 22.
(обратно)174
26 Егоров Б. Ф. Петрашевцы. С. 142.
(обратно)175
27 Там же. С. 144.
(обратно)176
38 Ткачев П. Н. Избранные сочинения на социально-политические темы. Т. 3. М., 1933. С. 400.
(обратно)177
29 См.: Козьмин Б. П. П. Г. Заичневский и «Молодая Россия» // Из истории революционной мысли в России. М., 1961. С. 128.
(обратно)178
30 Материалы для истории русского революционного движения в России в 60-х гг. СПб., (1906) — С. 83.
(обратно)179
31 См.: Лемке М. К. Политические процессы в России 1860-х гг. по архивным документам. М.; Пг., 1923. С. 39.
(обратно)180
32 См.: Политические процессы шестидесятых годов. Т. 1. М.; Пг., 1923. С. 137–269.
(обратно)181
33 См.: Козьмин Б. П. Указ. соч. С. 222–223.
(обратно)182
34 Маркс К, Энгельс Ф. Коммунистический манифест.
(обратно)183
35 Лемке М. К. Указ. соч. С. 520.
(обратно)184
36 Козьмин Б. П. Указ. соч. С. 228.
(обратно)185
37 (Можарова А. Н.) Воспоминания о П. Г. Заичневском // О минувшем. СПб., 1909. С. 180. — подп.: А. М.
(обратно)186
38 См.: О минувшем. СПб., 1909. С. 122.
(обратно)187
39 Пантелеев Л. Ф. Воспоминания. М., 1958. С. 280.
(обратно)188
40 Cм.: Сводный каталог русской нелегальной и запрещенной печати XIX века: Листовки. Т. 1. М., 1977. С. 18.
(обратно)189
41 См.: там же. С. 18.
(обратно)190
42 Прокламации шестидесятых годов. М.; Л., 1926. С. 61.
(обратно)191
43 См.: Кульчицкий Л. С. История русского революционного движения. СПб., 1908. С. 305-
(обратно)192
44 См.: Зильберман Е. Г., Холявин В. К. Выстрел. Казань, 1968. С. 105–107.
(обратно)193
45 См.: Козлинина Е. И. За полвека 1862–1912 (Пятьдесят лет в стенах суда). М., 1913. С. 53.
(обратно)194
46 Там же. С. 48–49.
(обратно)195
47 Там же. С. 47.
(обратно)196
48 См.: Красный архив. 1926. Т. 4 (17). С. 115.
(обратно)197
49 РГИА, ф. 878, оп. 1, д. 82, л. 6 об.
(обратно)198
50 Там же, л. 6 об. — 7.
(обратно)199
51 Красный архив. 1926. Т. 4 (17). С. 115.
(обратно)200
52 Худяков А. И. Записки каракозовца. М.; Л., 1930. С. 103.
(обратно)201
53 См.: Зильберман Е. Г., Холявин В. К. Указ. соч. С. 110.
(обратно)202
54 С. С. Татищев пишет, что Худяков с Бакуниным встречался. См.: РГИА, ф. 878, оп. 1, д. 82, л. 7 об.
(обратно)203
55 См.: РГИА, ф. 878, оп. 1, д. 82, л. 7 об.
(обратно)204
56 Виленская Э. С. Революционное подполье в России (60-е годы 19 в.). М., 1965. С. 403.
(обратно)205
57 РГИА, ф. 878, оп. 1, д. 82, л. 8.
(обратно)206
58 Красный архив. 1926. Т. 4 (17). С. 120.
(обратно)207
59 Козлинина Е. И. Указ. соч. С. 63.
(обратно)208
60 Былое. 1906. № 4. С. 284 (примеч.).
(обратно)209
61 Там же. С. 279–280 (примеч.).
(обратно)210
62 РГИА, ф. 878, оп. 1, д. 82, л. 4.
(обратно)211
63 Алексеевский равелин. Кн. 2. Л., 1990. С. 24.
(обратно)212
1 Литературное наследство. Т. 96. М., 1985. С. 418. Цитируется письмо Огарева Герцену от 21 марта (1 апреля) 1869 года, где он пишет: «Вчера пришло на твое имя письмо <…>». Здесь мы должны перейти от датировки, действовавшей в странах Западной Европы, к принятой в России, и будем придерживаться только ее.
(обратно)213
2 См.: Сводный каталог русской нелегальной и запрещенной печати XIX века: Листовки. Т. 1. М., 1977. С. 30.
(обратно)214
3 Герцен А. И. Поли. собр. соч. Т. 30. Кн. 1. М., 1964. С. 91.
(обратно)215
4 Минувшие годы. 1908. № 10. С. 153, 158.
(обратно)216
5 Литературное наследство. Т. 96. М., 1985. С. 419.
(обратно)217
6 Бернштейн Э. Карл Маркс и русские революционеры // Минувшие годы. 1908. № 10. С. 20–21.
(обратно)218
7 См.: Летопись жизни и творчества А. И. Герцена. 1868–1870. М., 1990. С. 151, 217, 233.
(обратно)219
8 См.: Пирумова Н. М. Социальная доктрина М. А. Бакунина. М., 1990. С. 181.
(обратно)220
9 См.: Сводный каталог русской нелегальной и запрещенной печати XIX века: Листовки. Т. 1–3. М., 1977; Издательская деятельность С. Г. Нечаева // Книга в России. 1861–1881. Т. 1. М., 1988. С. 157–165.
(обратно)221
10 Все прокламации печатались в типографии Л. Чернецкого в Женеве.
(обратно)222
11 С. С. Татищев полагает, что «Народная расправа» № 1 была отпечатана в июне 1869 года, см.: РГИА, ф. 878, оп. 1, д. 82, л. 118 об. См.: Мальшинский А. П. Обзор социально-революционного движения в России. СПб., 1880. С. 116 / Б. п.
(обратно)223
12 Народная расправа. 1869. № 1. С. 1.
(обратно)224
13 Там же. С. 13.
(обратно)225
14 См.: Бакунин М. А. Письма М. А. Бакунина к А. И. Герцену и Н. П. Огареву. Женева, 1896. С. 469–474.
(обратно)226
15 Публикуется по: Лурье Ф. М. Нечаевщина: Катехизис революционера // Новый журнал. 1992. № 1–2. С. 50–54.
(обратно)227
16 Спасович В. Д. Сочинения. Т. 5. СПб., 1893. С. 148.
(обратно)228
17 См.: Правительственный вестник. 1871. № 163; затем его напечатали в Германии, см.: Tageblatt 1880. 83. 12 марта; Бакунин М. А. Письма М. А. Бакунина к А. И. Герцену и Н. П. Огареву. Женева, 1896. С. 493–498; Государственные преступления в России в XIX веке. СПб 1906. С. 183–186.
(обратно)229
18 См.: Былое. 1906. № 7. С. 137.
(обратно)230
19 См.: Сажин М. П. Воспоминания. М., 1925. С. 72.
(обратно)231
20 Литературное наследство. Т. 96. С. 501.
(обратно)232
21 См.: Пирумова Н. М. Бакунин или Нечаев? // Прометей. Т 5 М 1968. С. 168–181.
(обратно)233
22 См.: ОР РГБ, ф. 100, картон 2, ед. хр. 4, л. 140 об.
(обратно)234
23 Бакунин М. А. Собр. соч. и писем. 1828–1876. Т. 3. М 1935 С. 336.
(обратно)235
24 Пирумова N. М. Социальная доктрина М. А. Бакунина. С. 53.
(обратно)236
25 Бакунин М. А. Постановка революционного вопроса. Женева 1869; см.: РГИА, ф. 1282, оп. 1, д. 286, л. 265.
(обратно)237
26 Правительственный вестник. 1871. № 162.
(обратно)238
27 ОР РГБ, ф. 100, картон 2, ед. хр. 4, л. 158.
(обратно)239
28 Там же, л. 154.
(обратно)240
29 См.: РГИА, ф. 878, оп. I, д. 82, л. 100 об. — 101.
(обратно)241
30 Там же, л. 101–101 об.
(обратно)242
31 Красный архив. 1926. Т. 2 (15). С. 150.
(обратно)243
32 См.: Книга в России. 1861–1881. Т. 1. М, 1988. С 161
(обратно)244
33 См.: РГИА, ф. 1282, оп. 1, д. 282.
(обратно)245
34 См.: там же, л. 315.
(обратно)246
35 Там же, л. 86–86 об.
(обратно)247
36 Там же, л. 87.
(обратно)248
37 Там же, л. 315.
(обратно)249
38 См.: ГА РФ, ф. 109, 3 эксп., 1869, д. ПО, ч. 1–3.
(обратно)250
39 См.: там же, д. ПО, ч. 1, л. 61, 70, 146.
(обратно)251
40 Cм.: там же, л. 49.
(обратно)252
41 См.: там же, л. 77, 85, 131, 164.
(обратно)253
42 См.: там же, д. 112, ч. 4, л. 114.
(обратно)254
43 Труды Владимирской ученой архивной комиссии. Кн. 17. Владимир, 1917. С. 73 (вторая пагинация).
(обратно)255
44 Красный архив. 1926. Т. 1 (14). С. 149.
(обратно)256
45 См.: ГА РФ, ф. 109, 3 эксп., 1869, д. ПО, ч. 1, л. 192.
(обратно)257
46 Красный архив. 1926. Т. 1 (14). С. 156.
(обратно)258
47 См.: ГА РФ, ф. 109, 3 эксп., 1869, д. ПО, ч. 2, л. 65, 73а, 75, 78, 98, 108, 231.
(обратно)259
48 См.: там же, л. 32.
(обратно)260
49 Там же, д. ПО, ч. 3, л. 230.
(обратно)261
50 Правительственный вестник. 1871. № 162.
(обратно)262
51 Наша страна. 1907. № 1. С. 211.
(обратно)263
52 См.: Цеховский В. Ф. Сергей Геннадиевич Нечаев. СПб., 1907 С. 665.
(обратно)264
53 См.: РГИА, ф. 878, оп. 1, д. 82, л. 102–103.
(обратно)265
54 См.: ГА РФ, ф. 109, 3 эксп., 1869, д. 44, ч. 1, л. 33.
(обратно)266
55 См.: там же, л. 168–168 об.
(обратно)267
56 Весть. 1869. 22 марта.
(обратно)268
57 См.: РГИА, ф. 1282, оп. 1, д. 286, л. 171 об.
(обратно)269
58 См.: там же, ф. 878, оп. 1, д. 82, л. 104 об., там же, л. 88.
(обратно)270
59 См.: там же, л. 103 об.
(обратно)271
60 Cм.: там же, ф. 1282, оп. 1, д. 286, л. 106.
(обратно)272
61 Группа «Освобождение труда». Сб. 2. М., 1924. С. 35.
(обратно)273
62 Карасев В. Г. Статья Светозара Марковича «Русские революционеры и Нечаев» // Общественно-политические и культурные связи народов СССР и Югославии. М., 1957. С. 330.
(обратно)274
63 Красный архив. 1926. Т. 2 (15). С. 151.
(обратно)275
64 Там же. С. 152.
(обратно)276
65 См.: там же. С. 152–154.
(обратно)277
66 Каторга и ссылка. 1924. Кн. 10. С. 111.
(обратно)278
67 См.: Казьмин Б. П. Герцен, Огарев и «молодая эмиграция» // Из истории революционной мысли в России. М., 1961. С. 557.
(обратно)279
68 Герцен А. И. Поли. собр. соч. Т. 21. С. 372.
(обратно)280
69 Народное дело. 1869. № 7-10. С. 137.
(обратно)281
70 Герцен А. И. Поли. собр. соч. Т. 21. С. 534.
(обратно)282
71 Революционное движение 1860-х годов. М., 1932. С. 206.
(обратно)283
72 См.: Козьмин Б. П. Из истории революционной мысли в России. М., 1961. С. 559.
(обратно)284
73 Герцен А. И. Поли. собр. соч. Т. П. С. 345.
(обратно)285
74 Литературное наследство. Т. 41–42. М., 1941. С. 526.
(обратно)286
75 Николаев П. Ф. Личные воспоминания о пребывании Н. Г. Чернышевского в каторге. М., 1906. С. 47.
(обратно)287
76 Подробнее о П. А. Бахметеве см.: Рейсер С. А. «Особенный человек» П. А. Бахметев // Русская литература. 1963. № 1. С. 173–177; Эйдельман Н. Я. Павел Александрович Бахметев // Революционная ситуация в России в 1859–1861 гг. М., 1965. С. 387–398.
(обратно)288
77 См.: Литературное наследство. Т. 62. М., 1955. С. 678.
(обратно)289
78 Козьмин Б. П. Из истории революционной мысли в России. М., 1961. С. 532. Газета — «Колокол».
(обратно)290
79 Тучкова-Огарева Н. А. Воспоминания. М., 1959. С. 242–243. 10 000 франков соответствовали 400 фунтам стерлингов.
(обратно)291
80 Там же. С. 243–244.
(обратно)292
81 Герцен А. И. Поли. собр. соч. Т. 30. Кн. 1. С. 158.
(обратно)293
82 РГИА, ф. 1282, оп. 1, д. 286, л. 265.
(обратно)294
83 Литературное наследство. Т. 61. М., 1953. С. 159. Перевод: Страсть разрушения есть творческая страсть. Эти слова принадлежат Бакунину.
(обратно)295
84 Там же. С. 171–172.
(обратно)296
85 Герцен А. И. Поли. собр. соч. Т. 30. Кн. 1. С. 153.
(обратно)297
86 ОР РГБ, ф. 100, картон 2, ед. хр. 4, л. 159 об.
(обратно)298
87 См.: Сводный каталог русской нелегальной и запрещенной печати XIX века: Листовки. Т. 1. М., 1977. С. 33.
(обратно)299
88 См.: Оксман Ю. Г. Судьба одной пародии Достоевского // Красный архив. 1923. Т. 3. С. 301, 303.
(обратно)300
89 ГА РФ, ф. 124, оп. 1, д. 9, л. 247. Мандат написан рукой Бакунина, см.: Спасович В. Д. Сочинения. Т. 5. СПб., 1893. С. 145.
(обратно)301
90 В самом конце июля Нечаев еще из Женевы отправлял письма в Россию; см.: РГИА, ф. 1282, оп. 1, д. 286, л. 315; там же, ф. 878, оп. 1, д. 82, л. 119 об. — 120.
(обратно)302
91 См.: Гросул В. Я. Русские революционеры в Юго-Восточной Европе. Кишинев, 1973. С. 366.
(обратно)303
92 См.: Волков Е. 3. Христо Ботев (На заре болгарского революционного коммунизма). М., Пг., 1923.
(обратно)304
93 Там же. С. 98–99.
(обратно)305
94 См.: ГА РФ, ф. 109, 3 эксп., 1869, д. 115. ч. 3, л. 28.
(обратно)306
1 См.: Гросул В. Я. Русские революционеры в Юго-Восточной Европе. Кишинев, 1973. С. 371.
(обратно)307
2 См.: ГА РФ, ф. 124, оп. 1, д. 9, л. 244.
(обратно)308
3 См.: ГА РФ, ф. 109, 2 эксп., 1869, д. 172, л. 117–125 об.
(обратно)309
4 См.: РГИА, ф. 878, оп. 1, д. 82, л. 89.
(обратно)310
5 См.: ГА РФ, ф. 109, 3 эксп., 1869, д. 44, ч. 1, л. 66–67.
(обратно)311
6 См.: там же, л. 83–83 об., 106.
(обратно)312
7 См.: там же, л. 76–76 об.
(обратно)313
8 См.: там же, л. 122.
(обратно)314
9 Там же, л. 77–77 об.
(обратно)315
10 Cм.: там же, л. 156.
(обратно)316
11 См.: там же, л. 124–126.
(обратно)317
12 См.: Никифоров Л. П. Мои тюрьмы // Голос минувшего. 1914. № 5. С. 172–173; Ралли-Арборе 3. К. Сергей Геннадиевич Нечаев // Былое. 1906. № 7. С. 139–140. Упоминание о Мгеброве имеется в кн.: Революционное движение 1860-х годов. М., 1932. С. 193.
(обратно)318
13 См.: Революционное движение 1860-х годов. М., 1932. С. 192; РГИА, ф. 878, оп. 1, д. 82, л. 96 об.
(обратно)319
14 Былое. 1922. № 18. С. 27–28.
(обратно)320
15 См.: ГА РФ, ф. 109, 3 эксп., 1869, д. 44, ч. 1, л. 66–67.
(обратно)321
16 Там же, л. 185.
(обратно)322
17 См.: там же, л. 224.
(обратно)323
18 См.: РГИА, ф. 878, оп. 1, д. 82, л. 103 об.
(обратно)324
19 ГА РФ, ф. 109, 3 эксп., 1869. д. 110, ч. 1, л. 229.
(обратно)325
20 Былое. 1922. № 18. С. 28.
(обратно)326
21 Там же. С. 32.
(обратно)327
22 Короленко В. Г. История моего современника. Т. 2. М; Л., 1930. С. 209.
(обратно)328
23 См.: РГИА, ф. 878, оп. 1, д. 82, л. 125 об.
(обратно)329
24 Государственные преступления в России в XIX веке. Т. 1. СПб., 1906. С. 182.
(обратно)330
25 Там же. С. 183.
(обратно)331
26 ГА РФ, ф. 109, 3 эксп., 1869, д. 44, ч. 1, л. 95 об. — 96.
(обратно)332
27 См.: там же, л. 97; РГИА, ф. 878, оп. 1, д. 82, л. 128 об.
(обратно)333
28 РГИА, ф. 1093, оп. 1, д. 127, л. 2.
(обратно)334
29 Группа «Освобождение труда». Сб. 2. М., 1924. С. 40.
(обратно)335
30 РГИА, ф. 1093, оп. 1, д. 127, л. 3–4.
(обратно)336
31 Там же, ф. 878, оп. 1, д. 82, л. 127.
(обратно)337
32 ГА РФ, ф. 124, оп. 1, д. 10, л. 108.
(обратно)338
33 Группа «Освобождение труда». Сб. 2. М., 1924. С. 58.
(обратно)339
34 Красный архив. 1930. Т. 3 (40). С. 186.
(обратно)340
35 РГИА, ф. 878, оп. 1, д. 82, л. 129 об.
(обратно)341
36 ГА РФ, ф. 124, оп. 1, д. 10, л. 197 об. — 198.
(обратно)342
37 Правительственный вестник. 1871. № 157.
(обратно)343
38 Там же. № 172.
(обратно)344
39 См.: РГИА, ф. 878, оп. 1, д. 82, л. 127 об.
(обратно)345
40 Нечаев и нечаевцы. М.; Л., 1931. С. 122.
(обратно)346
41 См.: там же. С. 122–129.
(обратно)347
42 Там же. С. 124.
(обратно)348
43 Там же. С. 124.
(обратно)349
44 Там же. С. 131.
(обратно)350
45 См.: Голос минувшего. 1916. № 4. С. 68–69.
(обратно)351
46 См.: Дебагорий-Мокриевич В. К. Воспоминания. СПб., 1906.
(обратно)352
47 См.: Козьмин Б. П. С. Г. Нечаев и его противники в 1868–1869 гг. // Революционное движение 1860-х годов. М., 1932. С. 208–209, 212.
(обратно)353
47а См.: ГА РФ, ф. 109, 2 эксп., 1869, д. 172, л. 117–125 об.
(обратно)354
48 Правительственный вестник. 1871. № 199.
(обратно)355
49 Кункль А. А. Долгушинцы. М., 1932. С. 45–46.
(обратно)356
50 Там же. С. 47.
(обратно)357
51 Там же. С. 50.
(обратно)358
52 См.: РГИА, ф. 878, оп. 1, д. 82, л. 129 об.
(обратно)359
53 См.: ГА РФ, ф. 124, оп. 1, д. 10, л. 216-2;19.
(обратно)360
54 См.: там же, д. 198–199. Подробнее о полунинской истории см.: Ткаченко П. С. Учащаяся молодежь в революционном движении 60— 70-х гг. М., 1978. С. 135–137.
(обратно)361
55 См.: РГИА, ф. 878, оп. 1, д. 82, л. 128 об. -129.
(обратно)362
56 См.: ГА РФ, ф. 124, оп. 1, д. 10, л. 106.
(обратно)363
57 См.: РГИА, ф. 878, оп. 1, д. 82, л. 129.
(обратно)364
58 Каторга и ссылка. 1925. Кн. 14. С. 155.
(обратно)365
59 См.: РГИА, ф. 1108, оп. 1, д. 192, л. 1.
(обратно)366
60 Группа «Освобождение труда». Сб. 2. М., 1924. С. 62.
(обратно)367
61 Нечаев и нечаевцы. М.; Л., 1931. С. 103.
(обратно)368
62 ГА РФ, ф. 109, 3 эксп., 1869, д. 115, ч. 2, л. 98 об. — 100.
(обратно)369
63 Группа «Освобождение труда». Сб. 2. М., 1924. С. 62.
(обратно)370
64 РГИА, ф. 878, оп. 1, д. 82, л. 131.
(обратно)371
65 ГА РФ, ф. 124, оп. 1, д. 10, л. 19.
(обратно)372
66 ГА РФ, ф. 124, оп. 1, д. 10, л. 11 об. — 12.
(обратно)373
67 См.: Правительственный вестник. 1871. № 156–161; Государственные преступления в России в XIX веке. Т. 1. СПб., 1906. С. 159–226, 229–251; Засулич В. И. Нечаевское дело // Группа «Освобождение труда». Сб. 2. М., 1924. С. 62–66; Нечаев и нечаевцы: Сборник материалов. М.; Л., 1931; ГА РФ, ф. 109, 3 эксп., 1869.
(обратно)374
68 Государственные преступления в России в XIX веке. Т. 1. СПб., 1906. С. 241.
(обратно)375
69 Цит. по: Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч. Т. 12. Л., 1975. С. 198–199.
(обратно)376
70 Там же. С. 199.
(обратно)377
71 ГА РФ, ф. 109, 3 эксп., 1869, д. 115, ч. 1, л. 163–163 об.
(обратно)378
72 Короленко В. Г. Указ. соч. С. 208.
(обратно)379
73 Ткаченко П. С. Учащаяся молодежь в революционном движении 60-70-х гг. М., 1978. С. 178.
(обратно)380
74 См.: Козьмин Б. П. П. Н. Ткачев и революционное движение 1860-х годов. М., 1922. С. 139.
(обратно)381
1 См.: Кункль А. А. Долгушинцы. М., 1932. С. 52.
(обратно)382
2 См.: РГИА, ф. 878, оп. 1, д. 82, л. 141 об — 142.
(обратно)383
3 См.: ГА РФ, ф. 109, 3 эксп., 1869, д. 115, ч. 16, л. 67. Фотографии рассылали лишь при отсутствии примет.
(обратно)384
4 См.: там же, ф. 109, 3 эксп., 1869, д. 115, ч. 7, л. 225.
(обратно)385
5 РГИА, ф. 878, оп. 1, д. 82, л. 142.
(обратно)386
6 См.: там же, л. 142.
(обратно)387
7 Там же, ф. 1282, оп. 1, д. 292, л. 1 об. — 2; ГА РФ, ф. 109, 3 эксп., 1869, д. 115, ч. 1, л. 207–208.
(обратно)388
8 См.: там же, л. 5.
(обратно)389
9 См.: ГА РФ, ф. 109, 3 эксп., 1869, д. 115, ч. 2, л. 78–78 об.
(обратно)390
10 Там же, л. 108.
(обратно)391
11 Козьмин Б. П. Из истории революционной мысли в России. М., 1961. С. 232.
(обратно)392
12 Там же. С. 232.
(обратно)393
13 Там же. С. 234–236.
(обратно)394
14 Там же. С. 236.
(обратно)395
15 См.: Правительственный вестник. 1871. № 198.
(обратно)396
16 См.: Нечаев и нечаевцы. М; Л., 1931. С. 137–139.
(обратно)397
17 ГА РФ, ф. 109, 3 эксп., 1869, д. 115, ч. 6, л. 284–289 об. На следствии Александровская утверждала, что сама подошла к жандармскому офицеру.
(обратно)398
18 См.: Минувшие годы. 1908. № 11. С. 3.
(обратно)399
19 ГА РФ, ф. 109, 3 эксп., 1869, д. 115, ч. 4, л. 33.
(обратно)400
20 Революционное движение в 1860-х годах. М., 1932. С. 187–188.
(обратно)401
21 Там же. С. 189.
(обратно)402
22 Там же. С. 188.
(обратно)403
23 См.: ГА РФ, ф. 109, 3 эксп., 1869, д. 115, ч. 6, л. 321–327.
(обратно)404
24 А. И. Герцен умер 9 января 1870 года.
(обратно)405
25 ГА РФ, ф. 124, оп. 1, д. 12, л. 1–2.
(обратно)406
26 Там же, л. 3 об. — 4 об.
(обратно)407
27 См.: там же, ф. 109, 3 эксп., 1869, д. 115, ч. 13, л. 162–164.
(обратно)408
28 См.: там же, д. 115, ч. 21, л. 5–6.
(обратно)409
29 См.: там же, л. 11.
(обратно)410
30 Там же, ф. 109, 3 эксп., 1869, д. 115, ч. 21, л. 16.
(обратно)411
31 Козьмин Б. П. Из истории революционной мысли в России. М., 1961. С. 237.
(обратно)412
32 См.: ГА РФ, ф. 109, 3 эксп., 1869, д. 115, ч. 21, л. 23а.
(обратно)413
1 ГА РФ, ф. 109, 3 эксп., 1869, д. 115, ч. 1, л. 47–48.
(обратно)414
2 Там же, л. 57.
(обратно)415
3 Там же, ф. 109, 3 эксп., 1869, д. 115, ч. 1, л. 58–58 об.
(обратно)416
4 См.: там же, л. 29.
(обратно)417
5 См.: там же, л. 57–59 об.
(обратно)418
6 Там же, л. 164–164 об.
(обратно)419
7 Там же, л. 165–165 об.
(обратно)420
8 Там же, д. 112, ч. 4, л. 19.
(обратно)421
9 См.: ГА РФ, ф. 109, 3 эксп., 1869, д. 115, ч. 1, л. 3.
(обратно)422
10 Cм.: там же, л. 25.
(обратно)423
11 Там же, л. 102.
(обратно)424
12 См.: ГА РФ, ф. 124, оп. 1, д. 9, л. 293–293 об.
(обратно)425
13 ГА РФ, ф. 109, 3 эксп., 1869, д. 115, ч. 1, л. 55.
(обратно)426
14 См.: там же, л. 200.
(обратно)427
15 См.: там же, д. 115, ч. 2, л. 185–188.
(обратно)428
16 См.: там же, д. 115, ч. 1, л. 116.
(обратно)429
17 Там же, л. 135.
(обратно)430
18 См.: там же, л. 184.
(обратно)431
19 См.: там же, л. 124–124 об.
(обратно)432
20 Cм.: там же, л. 105.
(обратно)433
21 См.: ГА РФ, ф. 124, оп. 1,д. 11, л. 363; ф. 109, 3 эксп., 1869, д. 115, ч. 12, л. 49.
(обратно)434
22 См.: ГА РФ, ф. 109, 3 эксп., 1869, д. 115, ч. 1, л. 192.
(обратно)435
23 См.: ГА РФ, ф. 124, оп. 1, д. 10, л. 246–246 об.
(обратно)436
24 См.: там же, л. 248.
(обратно)437
25 См.: там же, д. 13, л. 245.
(обратно)438
26 См.: ГА РФ, ф. 109, 3 эксп., 1869, д. 115, ч. 2, л. 197.
(обратно)439
27 См.: там же, д. 115, ч. 2, л. 71.
(обратно)440
28 См.: ГА РФ, ф. 124, оп. 1, д. 8, л. 143.
(обратно)441
29 См.: ГА РФ, ф. 109, 3 эксп., 1869, д. 115, ч. 6, л. 227.
(обратно)442
30 Cм.: ГА РФ, ф. 109, 3 эксп., 1869, д. 115, ч. 2, л. 36.
(обратно)443
31 ГА РФ, ф. 124, оп. 1, д. 9, л. 244 об. — 245.
(обратно)444
32 См.: там же, л. 244–246.
(обратно)445
33 Успенская А. И. Воспоминания шестидесятницы // Былое. 1922. № 18. С. 19–45.
(обратно)446
34 См.: Альтман М. С. Иван Гаврилович Прыжов // Каторга и ссылка. 1932. № 6 (91). С. 86.
(обратно)447
35 ГА РФ, ф. 109, 3 эксп., 1869, д. 115, ч. 2, л. 217.
(обратно)448
36 См.: ГА РФ, ф. 124, оп. 1, д. 10, л. 214–220 об.
(обратно)449
37 ГА РФ, ф. 109, 3 эксп., 1869, д. 112, ч. 4, л. 19.
(обратно)450
38 См.: Автобиографии революционных деятелей русского социалистического движения 70—80-х годов. (1927). Ст. 226.
(обратно)451
39 См.: ГА РФ, ф. 124, оп. 1, д. 1, л. 10–31.
(обратно)452
40 ГА РФ, ф. 109, 3 эксп., 1869, д. 115, ч. 13, л. 34–35 об.
(обратно)453
41 ГА РФ, ф. 124, оп. 1, д. 3, л. 41 об.
(обратно)454
42 ГА РФ, ф. 109, 3 эксп., 1869, д. 115, ч. 13, л. 71–71 об.
(обратно)455
43 См.: Арсеньев К. К. За четверть века (1871–1894). Пг., 1915. С. 11.
(обратно)456
44 Арсеньев К. К. Указ. соч. С. 43.
(обратно)457
45 См.: Государственные преступления в России в XIX веке. Т. 1. СПб., 1906. С. 159–229.
(обратно)458
46 См.: ГА РФ, ф. 124, оп. 1, д. 1, л. 46–60.
(обратно)459
47 Никитенко А. В. Дневник. Т. 3. Л., 1956. С. 212.
(обратно)460
48 Там же. С. 231.
(обратно)461
49 См.: ГА РФ, ф. 109, 3 эксп., 1869, д. 115, ч. 13, л. 134.
(обратно)462
50 Никитенко А. В. Указ. соч. С. 211.
(обратно)463
51 ГА РФ, ф. 109, 3 эксп., 1869, д. 115, ч. 13, л. 54–54 об.
(обратно)464
52 Там же, л. 58.
(обратно)465
53 См.: Государственные преступления в России в XIX веке. СПб., 1906. С. 188.
(обратно)466
54 См.: ГА РФ, ф. 109, 3 эксп., 1869, д. 115, ч. 13, л. 98.
(обратно)467
55 Там же, л. 119.
(обратно)468
56 См.: там же, д. 115, ч. 7, л. 185.
(обратно)469
57 Спасович В. Д. Сочинения. Т. 5. СПб., 1893. С. 148.
(обратно)470
58 Там же. С. 144.
(обратно)471
59 См.: Государственные преступления в России в XIX веке. СПб., 1906. С. 159–226. Подробнее о «Процессе нечаевцев» см.: Троицкий Н. А. Дело нечаевиев // Освободительное движение в России: Межвузовский научный сборник. Вып. 4. Саратов. 1975. С. 79–92.
(обратно)472
60 РГИА, ф. 1016, оп. 1, д. 193, л. 26–27; ГА РФ, ф. 124, оп. 1, д. 1, л. 78–79 об.
(обратно)473
61 См.: Арсеньев К. К. Указ. соч. С. 37.
(обратно)474
62 См.: ГА РФ, ф. 109, 3 эксп., 1874, д. 156, ч. 1, л. 57–58.
(обратно)475
63 ГА РФ, ф. 124, оп. 1, д. 1, л. 78.
(обратно)476
64 РГИА, ф. 1016, оп. 1, д. 126, л. 7–8.
(обратно)477
65 См.: РГИА, ф. 1261, оп. 34, д. 30а.
(обратно)478
66 Там же, л. 1–1 об.
(обратно)479
67 Там же, л. 4.
(обратно)480
68 Виленский Б. А. Судебная реформа и контрреформа в России. Саратов, 1969. С. 317–321.
(обратно)481
69 См.: РГИА, ф. 733, оп. 193, д. 512, л. 14–21.
(обратно)482
70 Аптекман О. В. Общество «Земля и воля» 70-х годов. Пг., 1924. С. 60.
(обратно)483
71 Тихомиров Л. А. Воспоминания. М.; Л., 1927. С. 46.
(обратно)484
72 Л. П. Гроссман считает, что Достоевский начал «Бесов» 22 декабря 1869 года; см.: Каторга и ссылка. 1925. Кн. 16. С. 75; Гроссман Л. П. Жизнь и труды Ф. М. Достоевского. М.; Л., 1935. С. 184–185; В. Л. Ко-марович относит начало «Бесов» к 23 января 1870 года; Былое. 1924. № 27–28. С. 38.
(обратно)485
73 В катковском журнале «Русский вестник» роман «Бесы» опубликован: 1871 год. № 1, 2, 4, 7, 9-11; 1872 год. № 11, 12.
(обратно)486
74 Достоевская А. Г. Воспоминания. М., 1981. С. 199–200.
(обратно)487
75 См.: Гроссман Л. П. Жизнь и труды Ф. М. Достоевского. М.; Л., 1935. С. 184.
(обратно)488
76 Достоевская Л. Ф. Достоевский в изображении его дочери. М.; Пг., 1922. С. 68.
(обратно)489
77 Цит. по: Творчество Ф. М. Достоевского. М., 1959. С. 220.
(обратно)490
78 Былое. 1906. № 4. С. 299–300.
(обратно)491
79 Алексеевский равелин. Кн. 2. Л., 1990. С. 19.
(обратно)492
80 Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч. Т. 29. Кн. 1. Л., 1986. С. 111–112.
(обратно)493
81 Там же. С. 139–140.
(обратно)494
82 Там же. С. 141–142.
(обратно)495
83 Там же. С. 144–145.
(обратно)496
84 Достоевский Ф. М. Бесы. Петрозаводск, 1990. С. 123 (перевод).
(обратно)497
85 Там же. С. 386.
(обратно)498
86 Дело. 1873. № 3. С. 157.
(обратно)499
87 Цит. по: Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч. Т. 12. Л., 1975. С. 267.
(обратно)500
88 Литературное наследство. Т. 76. М., 1967. С. 198.
(обратно)501
89 Тургенев И. С. Письма. Т. 10. М., 1967. С. 39.
(обратно)502
90 Булгаков В. Ф. Л. Н. Толстой в последний год жизни. М., 1960. С. 158.
(обратно)503
91 Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч. Т. 21. Л., 1980. С. 125.
(обратно)504
92 Там же. С. 129.
(обратно)505
93 Там же. С. 131.
(обратно)506
94 См.: там же. С. 253.
(обратно)507
95 См.: Альтман М. С. Достоевский по вехам имен. Саратов, 1975 (в конце книги имеется обширная библиография); Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч. Т. 12. Л., 1975. С. 157–237; Борщевский С. С. Щедрин и Достоевский: История их идейной борьбы. М., 1956; Долин А. С. Достоевский среди петрашевцев // Звенья. Т. 6. М., 1936. С. 512–544; Бенин Ф. И. Ром. «Бесы» // Творчество Ф. М. Достоевского. М., 1959. С. 215–264; Достоевский Ф. М. Письма. Т. 1–4. 1928–1959 / Под ред. А. С. Долинина и др.
(обратно)508
96 Цит. по: Альтман М. С. И. Г. Прыжов // Каторга и ссылка. 1932. № 6 (91). С. 65.
(обратно)509
97 Прыжов И. Г. Исповедь // Минувшие годы. 1908. № 2. С. 52.
(обратно)510
98 Юродивые и кликуши; Очерки по истории нищенства; Очерки по истории кабачества; Быт русского народа; Смутное время и воры в Московском университете // Прыжов И. Г. Очерки, статьи, письма. М.; Л., 1934.
(обратно)511
99 Козьмин Б. П. Нечаевец И. Г. Прыжов в его письмах (Из архива Р. М. Хин) // Каторга и ссылка. 1927. № 4 (33). С. 170.
(обратно)512
100 Cм.: Минувшие годы. 1908. № 2. С. 51–71.
(обратно)513
101 Прыжов И. Г. Указ. соч. С. 67–68.
(обратно)514
102 См.: ГА РФ, ф. 109, 3 эксп., 1869, д. 115, ч. 7, л. 68.
(обратно)515
103 Там же, д. 115, ч. 20, л. 9. Впервые опубликованы: Нечаев и нечаевцы. М.; Л., 1931. С. 184.
(обратно)516
104 См.: Деятели революционного движения в России: Биобиблиографический словарь. Т. 1. М., 1928. Ст. 340–341.
(обратно)517
105 Каторга и ссылка. 1927. № 4 (33). С. 176–177.
(обратно)518
106 Прыжов И. Г. Очерки, статьи, письма. М.; Л., 1934. С. 419, 420.
(обратно)519
107 См.: ГА РФ, ф. 109, 3 эксп., 1869, д. 115, ч. 4, л. 66.
(обратно)520
108 Там же, д. 115, ч. 11, л. 35.
(обратно)521
109 Кузнецов А. К. Автобиография // Автобиографии революционных деятелей русского социалистического движения 70—80-х годов. (1927). Ст. 230.
(обратно)522
110 Кузнецов А. К. Указ. соч. Ст. 228, 230.
(обратно)523
111 См.: Осмоловский Г. Ф. Карийцы (Материалы для статистики русского революционного движения) // Минувшие годы. 1908. № 7. С. 137.
(обратно)524
112 Каторга и ссылка. 1929. № 2 (51). С. 145.
(обратно)525
113 Былое. 1917. № 5–6. С. 191.
(обратно)526
114 См.: ГА РФ, ф. 109, 3 эксп., 1869, д. 115, ч. 4, л. 197.
(обратно)527
115 Каторга и ссылка. 1924. № 4 (И). С. 33.
(обратно)528
116 См.: ГА РФ, ф. 109, 3 эксп., 1869, д. 115, ч. 20, л. 19.
(обратно)529
117 См.: там же, л. 20.
(обратно)530
118 См.: там же, л. 23, 29.
(обратно)531
119 См.: там же, л. 73.
(обратно)532
120 Cм.: там же, л. 93–94.
(обратно)533
121 Каторга и ссылка. 1929. № 1 (50). С. 138. Письмо ошибочно датировано 1 марта 1874 года.
(обратно)534
122 ГА РФ, ф. 109, 3 эксп., 1869, д. 115, ч. 20, л. 113–114.
(обратно)535
123 См.: там же, л. 154.
(обратно)536
124 Чарушин Н. А. О далеком прошлом на Каре. М., 1929. С. 27.
(обратно)537
125 См.: Осмоловский Г. Ф. Указ. соч. С. 146.
(обратно)538
126 Короленко В. Г. История моего современника. Т. 3. М.; Л., 1931. С. 407.
(обратно)539
127 См.: Чарушин Н. А. Указ. соч. С. 84–85.
(обратно)540
128 См.: Деятели революционного движения в России: Биобиблиографический словарь. Т. 1. М., 1928. С. 418.
(обратно)541
129 Богданов С. П. Смерть П. Г. Успенского // Кара и другие тюрьмы нерчинской каторги. М., 1927. С. 104.
(обратно)542
130 Cм.: Ковалик С. Ф. Автобиография // Автобиографии революционных деятелей русского социалистического движения. М., (1927). С. 181–182.
(обратно)543
131 См.: Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч. Т. 21. С. 131.
(обратно)544
132 Арсеньев К. К Указ. соч. С. 19.
(обратно)545
1 Бакунин М. А. Письма М. А. Бакунина к А. Герцену и Н. П. Огареву. Женева, 1896. С. 254.
(обратно)546
2 См.: Литературное наследство. Т. 61. М., 1953. С. 448.
(обратно)547
3 Там же. С. 454; Герцен А. И. Поли. собр. соч. Т. 30. Кн. 1. С. 299.
(обратно)548
4 См.: Сводный каталог русской нелегальной и запрещенной печати XIX века: Листовки. Т. 1. М., 1977. С. 34–35.
(обратно)549
5 См.: там же. С. 35.
(обратно)550
6 См.: Козьмин Б. П. Из истории революционной мысли в России. М., 1961. С. 563.
(обратно)551
7 См.: Серебренников С. И. Записки // Каторга и ссылка. 1934. № 3 (112). С. 36.
(обратно)552
8 Текст «Народной расправы» № 2 опубликован в «Новом журнале» № 1 за 1993 год. С. 140–154.
(обратно)553
9 Народная расправа. 1870. № 2. С. И.
(обратно)554
10 Там же. С. 12.
(обратно)555
11 См.: Минувшие годы. 1908. № 4. С. 70.
(обратно)556
12 Литературное наследство. Т. 96. С. 499.
(обратно)557
13 См.: Минувшие годы. 1908. № 11. С. 6.
(обратно)558
14 Цит. по: Герцен А. И. Поли. собр. соч. Т. 30. Кн. 1. С. 399.
(обратно)559
15 Литературное наследство. Т. 41–42. М., 1941. С. 155–156.
(обратно)560
16 Там же. Т. 96. С. 527.
(обратно)561
17 См.: Литературное наследство. Т. 96. С. 421.
(обратно)562
18 ГА РФ, ф. 109, 3 эксп., 1869, д. 115, ч. 7, л. 7–7 об.
(обратно)563
19 См.: Кантор Р. М. В погоне за Нечаевым. Л., 1925. С. 3—72.
(обратно)564
20 ГА РФ, ф. 109, 3 эксп., 1869, д. 115, ч. 7, л. 224.
(обратно)565
21 См.: Кантор Р. М. Указ. соч. С. 12.
(обратно)566
22 См.: Серебренников С. И. Арест Семена Серебренникова в Женеве // Народное дело. 1870. № 4, 5.
(обратно)567
23 См.: Кантор Р. М. Указ. соч. С. 13.
(обратно)568
24 См.: там же. С. 60.
(обратно)569
25 Там же. С. 76.
(обратно)570
26 Там же. С. 83.
(обратно)571
27 См.: Литературное наследство. Т. 96. С. 470.
(обратно)572
28 См.: там же. С. 476–478.
(обратно)573
29 Бакунин М. А. Указ. соч. С. 257.
(обратно)574
30 По просьбе Нечаева письмо кто-то отправил из Германии, см.: Гучкова-Огарева Н. А. Воспоминания. М., 1959. С. 260.
(обратно)575
31 Литературное наследство. Т. 41–42. С. 163.
(обратно)576
32 См.: Архив Огаревых. М.; Л., 1930. С. 81.
(обратно)577
33 Литературное наследство. Т. 61. М., 1953. С. 172.
(обратно)578
34 Герцен А. И. Поли. собр. соч. Т. 30. Кн. 1. М., 1964. С. 143–144.
(обратно)579
35 Герцен Н. А. Дневник // Литературное наследство. Т. 96. С. 456.
(обратно)580
36 Там же. С. 456.
(обратно)581
37 Литературное наследство. Т. 63. М., 1956. С. 488.
(обратно)582
38 Литературное наследство. Т. 96. С. 444.
(обратно)583
39 Там же. С. 464.
(обратно)584
40 Там же. С. 443, 452, 453, 454.
(обратно)585
41 Там же. С. 454.
(обратно)586
42 Там же. С. 455.
(обратно)587
43 Там же. С. 459.
(обратно)588
44 Там же. С. 442.
(обратно)589
45 Там же. С. 459.
(обратно)590
46 См.: Черняк Я. 3. К истории «нечаевского» «Колокола» // Литературное наследство. Т. 61. С. 550–601; Рудницкая Е. Л. Из истории возобновленного «Колокола» 1870 г. // Литературное наследство. Т. 63. С. 701–712; Невский В. И. Предисловие // Колокол. М., 1933. С. 5–6; Козьмин Б. П. Герцен и Огарев в нечаевской эпопее // Литературное наследство. Т. 41–42. М., 1941. С. 32–48 и др.
(обратно)591
47 Колокол. 1870. № 2, 9 апр. С. 4.
(обратно)592
48 См.: Литературное наследство. Т. 63. С. 711–712; Голицын Н. Н. История социал-революционного движения в России. СПб., 1887. С. 3–4.
(обратно)593
49 Колокол. 1870. № 1, 2 апр. С. 5–6.
(обратно)594
50 Cм.: Бакунин М. А. Письма Бакунина к А. И. Герцену и Н. П. Огареву. Женева, 1896. С. 271–272.
(обратно)595
51 Описание этой поездки см.: Литературное наследство. Т. 63. С. 490–494; Литературное наследство. Т. 96. С. 488–491.
(обратно)596
52 Литературное наследство. Т. 63. С. 496.
(обратно)597
53 См.: Литературное наследство. Т. 96. С. 423, 478. Даты, как и по всей книге, приведены по старому стилю.
(обратно)598
54 Тучкова-Огарева Н. А. Указ. соч. С. 263.
(обратно)599
55 Литературное наследство. Т. 96. С. 477. 55а Голицын Н. Н. Указ. соч. С. 7.
(обратно)600
56 Тучкова-Огарева Н. А. Указ. соч. С. 264.
(обратно)601
57 См.: Литературное наследство. Т. 96. С. 478.
(обратно)602
58 Описание этого эпизода см.: Литературное наследство. Т. 63. С. 494–496; Тучкова-Огарева Н. А. Указ. соч. С. 267–271.
(обратно)603
59 Сажин М. П. Воспоминания 1860—1880-х гг. М., 1925. С. 63.
(обратно)604
60 Cм.: Герман Александрович Лопатин (1845–1918). Пг., 1922. С. 10.
(обратно)605
61 Литературное наследство. Т. 63. С. 497.
(обратно)606
62 Литературное наследство. Т. 96. С. 482–483.
(обратно)607
63 См.: там же. С. 494–496.
(обратно)608
64 См.: ГА РФ, ф. 109, 3 эксп., 1869, д. 44, ч. 1, л. 173; РГИА, ф. 1282, оп. 1, д. 286, л. 175.
(обратно)609
65 Литературное наследство. Т. 96. С. 458.
(обратно)610
66 См.: Сажин М. П. Указ. соч. С. 64.
(обратно)611
67 См.: Литературное наследство. Т. 96. С. 499–522.
(обратно)612
68 Там же. С. 499–500, 519.
(обратно)613
69 Там же. С. 525.
(обратно)614
70 Там же. С. 539.
(обратно)615
71 Литературное наследство. Т. 63. М., 1965. С. 500.
(обратно)616
72 Бакунин М. А. Указ. соч. С. 291–293.
(обратно)617
73 Литературное наследство. Т. 96. С. 543.
(обратно)618
74 См.: Бакунин М. А. Указ. соч. С. 303.
(обратно)619
75 См.: Козьмин Б. П. Из истории революционной мысли в России. М., 1961. С. 571; Минувшие годы. 1908. № 10. С. 160; Каторга и ссылка. 1934. № 3. С. 45.
(обратно)620
76 Бакунин М. А. Указ. соч. С. 285.
(обратно)621
77 Там же. С. 301–302.
(обратно)622
78 Цит. по: Житомирская С. В., Пирумова Н. М. Огарев, Бакунин и Н. А. Герцен-дочь в «нечаевской» истории. 1870 // Литературное наследство. Т. 96. С. 433.
(обратно)623
79 Былое. 1907. № 3. С. 312.
(обратно)624
80 Житомирская С. В., Пирумова Н. М. Указ. соч. С. 433.
(обратно)625
81 См.: Сводный каталог русской нелегальной и запрещенной печати XIX века: Книги и периодические издания. Т. 2. М., 1982. С. 217.
(обратно)626
82 Община. 1870. № 1. С. 2.
(обратно)627
83 Там же. С. 3.
(обратно)628
84 Там же. С. 8.
(обратно)629
85 См.: Литературное наследство. Т. 96. С. 460.
(обратно)630
86 Цит. по: Серебренников С. И. Записка о Нечаеве // Каторга и ссылка. 1934. № 3 (112). С. 46. Автограф не сохранился.
(обратно)631
87 Бакунин М. А. Указ. соч. С. 229.
(обратно)632
88 Голицын Н. Н. Указ. соч. С. 37–40.
(обратно)633
89 Кантор Р. М. Указ. соч. С. 115.
(обратно)634
90 Cм.: Серебренников С. И. Записка о Нечаеве // Каторга и ссылка. 1934. № 3 (112). С. 30.
(обратно)635
91 Сажин М. П. Указ. соч. С. 65.
(обратно)636
92 Там же. С. 67.
(обратно)637
93 Там же. С. 72.
(обратно)638
94 ОР РГБ, ф. 369, картон 383, д. 8, л. 70–72.
(обратно)639
95 См.: Былое. 1906. № 7. С. 143.
(обратно)640
96 Там же. С. 144.
(обратно)641
97 См.: ГА РФ, ф. 109, 3 эксп., 1872, д. 80.
(обратно)642
98 См.: там же, л. 18.
(обратно)643
99 Николаевский Б. И. Памяти последнего «якобинца» семидесятника: (Гаспар-Михаил Турский) // Каторга и ссылка. 1926. № 2 (23). С. 221.
(обратно)644
100 Cм.: Рудницкая Е. Л. Русский бланкизм: Петр Ткачев. М., 1992. С. 246–248.
(обратно)645
101 ОР РГБ, ф. 369, картон 383, д. 8, л. 72.
(обратно)646
102 Бакунин М. А. Указ. соч. С. 341.
(обратно)647
103 ОР РГБ, ф. 218, картон 1071, д. 31, л. 2.
(обратно)648
104 Былое. 1906. № 7. С. 145.
(обратно)649
105 Кантор Р. М. Указ. соч. С. 134.
(обратно)650
106 См.: (Рихтер Д. И.) Арест С. Г. Нечаева в Цюрихе // Былое. 1906. № 7. С. 147. Подп.: Д-ъ.
(обратно)651
107 Там же. С. 149.
(обратно)652
108 См.: Кантор Р. М. Указ. соч. С. 132.
(обратно)653
109 Там же. С. 150.
(обратно)654
110 Cм.: там же. С. 151.
(обратно)655
111 Итенберг Б. С. П. Л. Лавров в русском революционном движении. М., 1988. С. 114–115.
(обратно)656
112 ГА РФ, ф. 124, оп. 1, д. 3, л. 2–2 об.
(обратно)657
113 Там же, л. 7.
(обратно)658
114 См.: там же, д. 10б об. — Юг об.
(обратно)659
115 Там же, л. 23.
(обратно)660
116 См.: Сажин М. П. Русские в Цюрихе //Каторга и ссылка. 1932. № 10. С. 73.
(обратно)661
117 Сажин М. Л. Воспоминания. С. 72. Текст записки приведен автором воспоминаний по памяти.
(обратно)662
118 Голос минувшего. 1915. № 10. С. 126—127
(обратно)663
119 Там же. С. 128–129. I
(обратно)664
120 Каторга и ссылка. 1932. № 10. С. 73–74.
(обратно)665
121 Бакунин М. А. Указ. соч. С. 340–341.
(обратно)666
122 Цит. по: Лавров П. Л. Народники-пропагандисты 1873–1878 гг. Л., 1925. С. 158.
(обратно)667
123 Арсеньев К. К. За четверть века (1871–1894) Пг., 1915. С. 50.
(обратно)668
1 См.: Тихомиров Л. А. Воспоминания. М., 1927. С. 46–47.
(обратно)669
2 РГИА, ф. 1016, оп. 1, д. 193, л. 4–5.
(обратно)670
3 Алексеевский равелин. Т. 2. Л., 1990. С. 129
(обратно)671
4 ГА РФ, ф. 124, оп. 1, д. 3, л. 41.
(обратно)672
5 См.: Государственные преступления в России в XIX веке: Сборник официальных изданий правительственных сообщений/ Под ред. В. Базилевского. Т. 1 (1825–1876). Штутгарт, ЮЗ; то же: СПб., 1906.
(обратно)673
6 См.: Былое. 1905. № 6. С. 27–32.
(обратно)674
7 РГИА, ф. 1016, оп. 1, д. 193, л. 17–20.
(обратно)675
8 См.: Государственные преступления в России в XIX веке. СПб., 1906. С. 163.
(обратно)676
9 Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч. Т. 21, Л., 1980. С. 312.
(обратно)677
10 РГИА, ф. 1016, оп. 1, д. 193, л. 9. Почему-то эта подлинная телеграмма, подписанная генерал-губернатором Москвы В. А. Долгоруковым, оказалась в архиве министра юстиции.
(обратно)678
11 РГИА, ф. 1016, оп. 1, д. 193, л. 11–16.
(обратно)679
12 См.: Былое. 1906. № 7. С. 151–177.
(обратно)680
13 Литературное наследство. Т. 90. Кн. 3. М. #979. С. 379. Вероятнее всего, Сухотин М. С. читал не журнал «Былое», а «Сборник Русской исторической библиотеки», в котором перепечатаны лондонские номера «Былого», см.: Дело Сергея Геннадиевича Нечаева // Русская историческая библиотека. Вып. 5. Ростов-на-Дону, 1906 С. 141–148.
(обратно)681
14 Алексеевский равелин. Т. 2. С. 144–145. I
(обратно)682
15 Красный архив. 1922. № 1. С. 280–281.
(обратно)683
16 Алексеевский равелин. Т. 2. С. 147.
(обратно)684
17 Там же. С. 148.
(обратно)685
1 См.: Лурье Ф. М. Полицейские и провокаторы: политический сыск в России. 1649–1917. СПб., 1992. С. 28–32.
(обратно)686
2 Основные сведения по истории Секретного дома Алексеевского равелина почерпнуты из статьи А. А. Матышева «Алексеевский равелин в XVIII–XIX веках», любезно предоставившего рукопись в мое распоряжение.
(обратно)687
3 Гернет М. Н. История царской тюрьмы. Т. 1. 1762–1825. М., 1951. С. 125.
(обратно)688
4 Матышев А. А. Указ. соч. С. 11–12. Подробнее см.: Гернет М. Н. Указ. соч. С. 128.
(обратно)689
5 Гернет М. Н. Указ. соч. С. 167.
(обратно)690
6 ИРЛИ, ф. 627, оп. 3, д. 41, л. 16–17. Цит. по: Матышев А. А. Указ. соч. С. 11–12.
(обратно)691
7 Щеголев П. Е. Алексеевский равелин. М., 1929. С. 377–378.
(обратно)692
8 Обе инструкции опубликованы П. Е. Щеголевым в кн.: Алексеевский равелин. М., 1929. С. 378–381.
(обратно)693
9 Там же. С. 380.
(обратно)694
10 Там же. С. 381.
(обратно)695
11 См.: ИРЛИ, ф. 627, оп. 3, д. 41, л. 6-11.
(обратно)696
12 См.: Гернет М. Н. История царской тюрьмы. Т. 2. М., 1946. С. 118.
(обратно)697
13 См.: Оболенский Е. П. Воспоминания о Рылееве // Писатели-декабристы в воспоминаниях современников. М., 1980. С. 106–108.
(обратно)698
14 См.: Воспоминания братьев Бестужевых. М.; Л., 1951. С. 111–120.
(обратно)699
15 Воспоминания братьев Бестужевых. С. 119.
(обратно)700
16 Минувшие годы. 1908. № 1. С. 22–23.
(обратно)701
17 Гернет М. Н. История царской тюрьмы. Т. 2. М., 1946. С. 86–87.
(обратно)702
18 См.: Отечественные записки. 1849. № 5.
(обратно)703
19 См.: РГИА, ф. 1280, оп. 2, д. 665.
(обратно)704
20 Cм.: Алексеевский равелин. Т. 1. Л., 1990. С. 387. Один печатный лист равен современному авторскому листу — 40 000 знаков, что соответствует 22–23 страницам машинописного текста. Таким образом, Чернышевский писал ежедневно около девяти страниц машинописного текста.
(обратно)705
21 О нем подробно см.: Алексеевский равелин. Т. 2. С. 42—127.
(обратно)706
22 Алексеевский равелин. Т. 2. С. 48–49.
(обратно)707
23 Там же. С. 90–91.
(обратно)708
24 Там же. С. 92.
(обратно)709
25 См.: Шелгунов Н. В. Воспоминания // Шелгунов Н. В., Шелгунова Л. П., Михайлов М. Л. Воспоминания. Т. 1. М., 1967. С. 98–99.
(обратно)710
26 Подробнее о пребывании Нечаева в Секретном доме см.: Щеголев П. Е. С. Г. Нечаев в равелине // Алексеевский равелин. Т. 2. С. 128–304.
(обратно)711
27 См.: РГИА, ф. 1280, оп. 2, д. 1572, л. 7.
(обратно)712
28 См.: там же, оп. 5, д. 178, л. 33–36.
(обратно)713
29 См.: Архив «Земли и воли» и «Народной воли». М., 1932. С. 28.
(обратно)714
30 Cм.: там же. С. 28.
(обратно)715
31 РГИА, ф. 1280, оп. 5, д. 207, л. 17.
(обратно)716
32 См.: там же, л. 20.
(обратно)717
33 См.: РГИА, ф. 1280, оп. 5, д. 207.
(обратно)718
34 См.: там же, д. 213, л. 7 об.
(обратно)719
35 См.: РГИА, ф. 1280, оп. 5, д. 219, л. 160–167 об.
(обратно)720
36 Кропоткин П. А. Записки революционера. М., 1966. С. 304.
(обратно)721
37 См.: Алексеевский равелин. Т. 2. Л., 1990. С. 179.
(обратно)722
38 Каторга и ссылка. 1923. № 6. С. 37.
(обратно)723
39 Былое. 1906. № 9. С. 126.
(обратно)724
40 Cм.: Минувшие годы. 1908. № 4. С. 244–245.
(обратно)725
41 Алексеевский равелин. Т. 2. С. 158.
(обратно)726
42 См.: РГИА, ф. 1280, оп. 5, д. 227, л. 52.
(обратно)727
43 Алексеевский равелин. Т. 2. С. 160–161.
(обратно)728
44 РГИА, ф. 1280, оп. 5, д. 332, л. 1–1 об. 1 фунт (ф.)=409,5 грамма; к. — копейка.
(обратно)729
45 Вестник «Народной воли»: революционное социально-политическое обозрение. 1883. № 1. С. 140–141.
(обратно)730
46 Дневник А. Н. Куропаткина // Красный архив. 1922. Т. 2. С. 32.
(обратно)731
47 Перетц Е. А. Дневник. М., 1927. С. 135.
(обратно)732
48 См.: Вестник «Народной воли». 1883. № 1. С. 146.
(обратно)733
49 Алексеевский равелин. Т. 2. С. 165.
(обратно)734
50 Там же. Т. 2. С. 172.
(обратно)735
51 См.: там же. С. 166–171.
(обратно)736
52 Государственные преступления в России в XIX веке. СПб., 1906. С. 229. Все публикации в этом сборнике подготовлены В. Я. Яковлевым (Богучарским), известным революционером, историком освободительного движения, человеком, сочувствовавшим всем, кто выступал против монархического строя в России.
(обратно)737
53 Алексеевский равелин. Т. 2. С. 172.
(обратно)738
54 Там же. С. 176–177.
(обратно)739
55 См.: там же. С. 178.
(обратно)740
56 Вестник «Народной воли». 1883. № 1. С. 143.
(обратно)741
57 См.: там же. С. 183 (вторая пагинация).
(обратно)742
58 См.: Деятели революционного движения в России: Биобиблиографический словарь. Т. 1. М., 1928. Ст. 465.
(обратно)743
59 Вестник «Народной воли». 1883. № 1. С. 143.
(обратно)744
60 Cм.: РГИА, ф. 1280, оп. 5, д. 227, л. 52.
(обратно)745
61 Алексеевский равелин. Т. 2. С. 182–183.
(обратно)746
62 См.: там же. С. 191.
(обратно)747
63 См.: Вестник «Народной воли». 1883. № 1. С. 191–199 (вторая пагинация).
(обратно)748
64 См.: РГВИА, ф. 1351, оп. 1, д. 4964, л. 6.
(обратно)749
65 Вестник «Народной воли». 1883. № 1. С. 139 (примеч.).
(обратно)750
66 Там же. С. 147.
(обратно)751
67 ОР РГБ, ф. 369, картон 383, д. 8, л. 73–74.
(обратно)752
68 Алексеевский равелин. Т. 2. С. 193.
(обратно)753
1 РГИА, ф. 1280, оп. 5, д. 202, л. 2.
(обратно)754
2 Этот адрес нам известен из документов, подписанных отцом Мирского.
(обратно)755
3 См.: РГИА, ф. 1405, оп. 76, д. 7244, л. 8, так же названо это село в другом официальном документе, подписанном Добровольским, см.: там же, л. 1.
(обратно)756
4 РГИА, ф. 1405, оп. 76, д. 7244, с. 20–22 об.
(обратно)757
5 Там же, л. 28–29 об.
(обратно)758
6 Там же, л. 30.
(обратно)759
7 Там же, л. 27.
(обратно)760
8 Там же, л. 31.
(обратно)761
9 Там же, л. 8–8 об.
(обратно)762
10 Там же, л. 3 об.
(обратно)763
11 ГА РФ, ф. 109, 3 эксп., 1869, д. 115, ч. 13, л. 146.
(обратно)764
12 См.: Морозов Н. А. Повести моей жизни. Т. 2. М., 1947. С. 448.
(обратно)765
13 РГИА, ф. 1405, оп. 77, д. 7793, л. 45.
(обратно)766
14 См.: «Народная воля» и «Черный передел». Л., 1989. С. 341.
(обратно)767
15 См.: Морозов Н. А. Указ соч. С. 448–451.
(обратно)768
16 Там же. С. 447.
(обратно)769
17 Там же. С. 455.
(обратно)770
18 Там же. С. 449.
(обратно)771
19 См.: Щеголев П. Е. С. Г. Нечаев в Алексеевской равелине // Алексеевский равелин. Кн. 2. Л., 1990. С. 197.
(обратно)772
20 РГИА, ф. 1405, оп. 77, д. 7793, л. 45–46.
(обратно)773
21 Там же, л. 35–38 об.
(обратно)774
22 См.: Морозов Н. А. Указ. соч. С. 448.
(обратно)775
23 Там же. С. 459.
(обратно)776
24 Там же. С. 459.
(обратно)777
25 См.: Тихомиров Л. А. Воспоминания. М.; Л., 1927. С. 241.
(обратно)778
26 См.: Архив «Земли и воли» и «Народной воли». С. 27.
(обратно)779
27 Попов М. Р. Из моего революционного прошлого // Былое. 1907. № 5. С. 295.
(обратно)780
28 См.: «Народная воля» и «Черный передел». Л., 1989. С. 76.
(обратно)781
29 Архив «Земли и воли» и «Народной воли». С. 170.
(обратно)782
30 Там же. С. 175.
(обратно)783
31 Там же. С. 197.
(обратно)784
32 Там же.
(обратно)785
33 Там же. С. 123.
(обратно)786
34 РГИА, ф. 1405, оп. 77, д. 7793, л. 38 об. — 43.
(обратно)787
35 Архив «Земли и воли» и «Народной воли». С. 217.
(обратно)788
36 См.: там же. С. 277.
(обратно)789
37 Там же. С. 279.
(обратно)790
38 Там же. С. 280.
(обратно)791
39 См.: РГИА, ф. 1405, оп. 77, д. 7793, л. 24.
(обратно)792
40 Cм.: там же, л. 96.
(обратно)793
41 Молва. 1879. № 315, 316, 317 (от 16, 17 и 18 ноября).
(обратно)794
42 См.: РГИА, ф. 1405, оп. 77, д. 7793, л. 127, 135, 144 об.
(обратно)795
43 Там же, л. 5.
(обратно)796
44 Феоктистов Е. М. За кулисами политики и литературы. 1848–1896. Л., 1929. С. 391.
(обратно)797
45 См.: Алексеевский равелин. Т. 2. С. 198.
(обратно)798
46 Феоктистов Е. М. Указ. соч. С. 392.
(обратно)799
47 Волк С. С. «Народная воля». 1879–1882. М.; Л., 1966. С. 60.
(обратно)800
1 РГИА, ф. 1280, оп. 5, д. 202, л. 3.
(обратно)801
2 См.: там же, л. 6–6 об.
(обратно)802
3 Вестник «Народной воли»: революционное социально-политическое обозрение № 1. Женева, 1883. С. 196 (вторая пагинация).
(обратно)803
4 Алексеевский равелин. Т. 2. Л., 1990. С. 198–199.
(обратно)804
5 Подробно о Ширяеве см.: Автобиографическая записка // Красный архив. 1924. Т. 7. С. 70–107.
(обратно)805
6 Вестник «Народной воли»: революционное социально-политическое обозрение. 1883. № 1. С. 148.
(обратно)806
7 См.: Фигнер В. Н. Запечатленный труд. Т. 1. М., 1964. С. 253–254.
(обратно)807
8 В Петербурге было две Вульфовых улицы — Большая и Малая, обе на Петербургской стороне.
(обратно)808
9 См.: РГВИА, ф. 1351, оп. 1, д. 4964, л. 6 об.
(обратно)809
10 Вестник «Народной воли». 1883. № 1. С. 191 (вторая пагинация).
(обратно)810
11 Фигнер В. Н. Указ. соч. С. 249.
(обратно)811
12 См.: Деятели революционного движения в России: Биобиблиографический словарь. Т. 3. Вып. 2. М., 1934. Ст. 1260.
(обратно)812
13 Фигнер В. Н. Указ. соч. С. 252.
(обратно)813
14 См.: Вестник «Народной воли». 1883. № 1. С. 149.
(обратно)814
15 См.: Фигнер В. Н. Указ. соч. С. 254–255.
(обратно)815
16 См.: Каторга и ссылка. 1924. Кн. 10. С. 231; Каторга и ссылка. 1925. Кн. 18. С. 219–220; Тун А. Н. История революционного движения в России. Пг., 1917. С. 62.
(обратно)816
17 См.: Серебряков Э. А. Революционеры во флоте // «Народная воля» и «Черный передел». Л., 1989. С. 207. Былое. 1907. № 4. С. 116.
(обратно)817
18 Каторга и ссылка. 1925. Кн. 18. С. 220.
(обратно)818
19 См.: «Народная воля» и «Черный передел». Л., 1989. С. 369.
(обратно)819
20 Алексеевский равелин. Т. 2. С. 207–208.
(обратно)820
21 См.: Фигнер В. Н. Указ. соч. С. 255.
(обратно)821
22 РГВИА, ф. 1351, оп. 1, д. 4964, Вестник «Народной воли». 1883. № 1. С. 187–203 (вторая пагинация).
(обратно)822
23 Красный архив. 1922. Т. 2. С. 32.
(обратно)823
24 Алексеевский равелин. Т. 2. С. 209–210.
(обратно)824
25 РГИА, ф. 1405, оп. 521, д. 407, л. 298–299.
(обратно)825
26 Орлов А. И. Из литературной жизни 70—80-х годов XIX века (по материалам архива Ф. Д. Нефедова) // Ученые записки Шуйского государственного педагогического института. Вып. 7. Шуя, 1958. С. 160–161.
(обратно)826
27 Алексеевский равелин. Т. 2. С. 212–213.
(обратно)827
28 См.: Фигнер В. Н. Указ. соч. С. 256.
(обратно)828
29 См.: Деятели революционного движения в России: Биобиблиографический словарь. Т. 3. М., 1934. Ст. 1260.
(обратно)829
30 ОР РГБ, ф. 369, картон 383, д. 8, л. 74 об.
(обратно)830
31 См.: Алексеевский равелин. Т. 2. С. 198.
(обратно)831
32 См.: Вестник «Народной воли». 1883. № 1. С. 147.
(обратно)832
33 Феоктистов Е. М. Указ. соч. С. 392.
(обратно)833
34 См.: РГИА, ф. 1280, оп. 5, д. 219, л. 1.
(обратно)834
35 См.: там же, л. 8–8 об.
(обратно)835
36 Там же, л. 10.
(обратно)836
37 См.: там же, л. 12.
(обратно)837
38 См.: там же, д. 224, л. 84.
(обратно)838
39 См.: там же, д. 219, л. 12.
(обратно)839
40 Там же, л. 13.
(обратно)840
41 Там же, л. 23.
(обратно)841
42 Там же, д. 226, л. 4.
(обратно)842
43 См.: там же, л. 20.
(обратно)843
44 См.: там же, л. 21.
(обратно)844
45 См.: там же, д. 219, л. 14–14 об.
(обратно)845
46 См.: там же, л. 36.
(обратно)846
47 См.: там же, л. 112.
(обратно)847
48 См.: там же, л. 154.
(обратно)848
49 См.: там же, л. 191.
(обратно)849
50 Cм.: там же, л. 215.
(обратно)850
51 См.: Деятели революционного движения в России: Биобиблиографический словарь. Т. 3. Вып. 2. Ст. 1260.
(обратно)851
52 См.: РГИА, ф. 1280, оп. 5, д. 219, л. 413–414.
(обратно)852
53 Алексеевский равелин. Т. 2. Л., 1990. С. 240–241.
(обратно)853
54 РГИА, ф. 1280, оп. 5, д. 228, л. 1–2 об.
(обратно)854
55 См.: там же, д. 219, л. 401.
(обратно)855
56 См.: там же, л. 450.
(обратно)856
57 Обвинительный акт см.: Вестник «Народной воли»: революционное социально-политическое обозрение. 1883. № 1. С. 187–203 (вторая пагинация).
(обратно)857
58 РГИА, ф. 1280, оп. 5, д. 228, л. 117.
(обратно)858
59 См.: там же, л. 129, 140.
(обратно)859
60 Cм.: там же, д. 219, л. 450.
(обратно)860
61 См.: там же, д. 228, л. 119 об.
(обратно)861
62 См.: там же, л. 151.
(обратно)862
63 См.: там же, л. 168–168 об.
(обратно)863
64 РГВИА, ф. 1351, оп. 1, д. 4964, л. 5-10 об.
(обратно)864
65 См.: там же, л. 147.
(обратно)865
66 См.: Деятели революционного движения в России: Биобиблиографический словарь. Т. 3. Вып. 2. М., 1934. Ст. 1260–1261.
(обратно)866
67 Каторга и ссылка. 1923. Кн. 6. С. 86.
(обратно)867
68 Былое. 1924. № 24. С. 82.
(обратно)868
69 Вестник «Народной воли». 1883. № 1. С. 148–149.
(обратно)869
1 См.: РГИА, ф. 1280, оп. 5, д. 219, л. 392.
(обратно)870
2 Там же, д. 202, л. 7–7 об.
(обратно)871
3 См.: Щеголев П. Е. С. Г. Нечаев в Алексеевской равелине // Красный архив. 1924. Т. 5. С. 205–206.
(обратно)872
4 В книге А. В. Прибылева «Записки народовольца» (М., 1930. С. 109) без ссылок на источники сообщается, что Мирскому на содержание в день отпускали 75 коп. вместо 10 коп., как всем остальным заключенным.
(обратно)873
5 РГИА, ф. 1280, оп. 5, д. 202, л. 8–8 об.
(обратно)874
6 См.: там же, л. 9.
(обратно)875
7 См.: там же, д. 225, л. 3 об.
(обратно)876
8 См.: Алексеевский равелин. Т. 2. С. 247.
(обратно)877
9 См.: Щеголев П. Е. Алексеевский равелин. М., 1929. С. 304–307.
(обратно)878
10 РГИА, ф. 1280, оп. 5, д. 202, л. 10 об. — 10 (в деле перепутана нумерация листов). Полный текст с незначительными опечатками см.: Алексеевский равелин. Т. 2. С. 234–236.
(обратно)879
11 См.: РГИА, ф. 1280, оп. 5, д. 202, л. 16.
(обратно)880
12 Там же, л. 17–17 об.
(обратно)881
13 Там же, л. 19.
(обратно)882
14 Прибылев А. В. Записки народовольца. М., 1930. С. 125.
(обратно)883
15 Там же. С. 108–109.
(обратно)884
16 См.: Осмоловский Г. Ф. Карийская трагедия // Былое. 1906. № 6. С. 59–80; Патронова А. Г. Карийская трагедия 1889 года // Ссыльные революционеры в Сибири. Вып. 10. Иркутск, 1985. С. 81—103.
(обратно)885
17 См.: там же. С. 255.
(обратно)886
18 Былое. 1917. № 5–6. С. 188.
(обратно)887
19 Переверзев П. Н. Карательная экспедиция генерал-лейтенанта П. К. Ренненкампфа в Забайкальской области // Былое. 1917. № 5–6. С. 188–189.
(обратно)888
20 Былое. 1917. № 5–6. С. 190.
(обратно)889
21 См.: Окунцов И. К. Из воспоминаний // Былое. 1908. № 7. С. 82.
(обратно)890
22 См.: Каторга и ссылка. 1926. Кн. 16. С. 57.
(обратно)891
23 Там же. С. 58.
(обратно)892
24 См.: Былое. 1917. № 5–6. С. 190.
(обратно)893
25 1 фунт = 96 золотникам = 409 г; таким образом, узник равелина получал утром более 1 кг хлеба, а на обед — почти 140 г мяса.
(обратно)894
26 РГИА, ф. 1093, оп. 1, д. 135, л. 74–76.
(обратно)895
27 См.: Прибылев А. В. От Петербурга до Кары. М., 1923. С. 33; Деятели революционного движения в России: Биобиблиографический словарь. Т. 2. Вып. 3. М., 1931. Ст. 934–935.
(обратно)896
28 Тютчев Н. С. В ссылке и другие воспоминания. М., 1925. С. 142.
(обратно)897
29 См.: РГИА, ф. 1280, оп. 5, д. 223, л. 86.
(обратно)898
30 Cм.: Алексеевский равелин. Т. 2. С. 292.
(обратно)899
31 РГИА, ф. 1280, оп. 5, д. 338, л. 1–1 об.
(обратно)900
32 Алексеевский равелин. Т. 2. С. 294.
(обратно)901
33 РГИА, ф. 1280, оп. 5, д. 158, л. 86.
(обратно)902
34 Алексеевский равелин. Т. 2. С. 295.
(обратно)903
35 См.: Евангелие от Луки. Гл. 8, ст. 32–37.
(обратно)904
36 Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч. Т. 29. Кн. 1. Л., 1986. С. 145.
(обратно)905
37 Достоевский Ф. М. Бесы. Петрозаводск, 1990. С. 250.
(обратно)


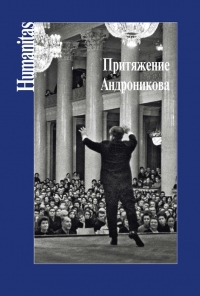

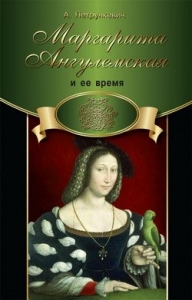


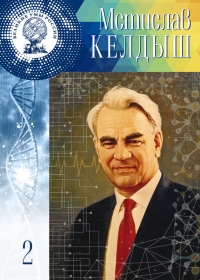
Комментарии к книге «Нечаев: Созидатель разрушения», Феликс Моисеевич Лурье
Всего 0 комментариев